Жан-Филипп Жаккар
Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
ОТ АВТОРА
Книга, предлагаемая вниманию читателя, состоит из статей и эссе, написанных в разное время в течение последних пятнадцати лет. Некоторые из них публикуются впервые, другие — впервые на русском языке, а какие-то уже были опубликованы на русском языке в журналах и коллективных сборниках. По причинам, которые станут понятными читателю, работы расположены в книге не по хронологии их написания, а по логике общей концепции книги, целью которой является продемонстрировать: в любом литературном произведении присутствует определенный «дискурс о себе», что позволяет ему стать автономным («самовитым») миром. Эта идея стала очевидной в эпоху модернизма, и связанной с нею тематике посвящены «Введение» и статьи первой части «Уроки модернизма». Во второй части («Поэтическая революция в опасности») рассматривается сущность эстетического перелома, который произошел в начале XX века, и препятствия, с которыми авангард сталкивался в течение всей своей краткой жизни и которые превращали его утопические мечты первых лет существования в трагическое чувство абсурдности мира в 1930-е годы. Именно литературе «абсурда» посвящена третья часть — «Философия и эстетика абсурда (Хармсиада)», в которой собраны статьи о творчестве Д. И. Хармса, написанные после публикации в 1991 году по-французски нашей книги «Даниил Хармс и конец русского авангарда» (по-русски: СПб., 1995) и являющиеся в некотором роде ее продолжением. Но крушение авангарда и его превращение в «абсурд» не уничтожило процесса осознания формы и автореференциального характера любого произведения, и это укорененное наследство эпохи модернизма позволяет по-новому посмотреть на классиков. Именно такое их перечитывание и предлагается в четвертой части («Перечитывая классику»). Последняя же часть — «Освобожденное слово, свободное слово» — является попыткой показать, что автореференциальность и автономность художественного мира дали русской литературе (именно литературе, а не писателям) возможность сопротивляться в самые страшные годы истории страны и сохранить «свободное слово».
Статьи здесь воспроизводятся почти без изменений — так, как они публиковались в свое время, что объясняет в самых давних из них некоторое старение содержания и научного аппарата. Только в отдельных случаях для удобства читателя даны ссылки на более актуальные и доступные источники. Это было особенно необходимо в наших давних работах о Хармсе, тексты которого, не изданные в то время, цитировались по рукописям. Поскольку эти работы были написаны для разной публики и в разное время, то неизбежно в них найдутся иногда повторы идей или показательных примеров. В самых ранних из них могут встречаться и размышления, вошедшие в нашу уже упомянутую книгу о Хармсе, так как они были написаны до ее публикации на русском языке. С другой стороны, необходимо оговориться, что некоторые исследования, написанные по-французски (например, послесловие к новому переводу «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя), изначально предназначались для широкой франкоязычной публики, которой иногда необходимы сведения и уточнения, абсолютно лишние для русского читателя. По этим причинам краткая справка о времени написания статьи и о публике, на которую она изначально рассчитывалась, дается в первом примечании к каждой статье, полная же библиографическая справка первых публикаций дается в конце книги.
«Хотелось бы всех поименно назвать», да список получился бы слишком длинный: решение «автора» издать книгу, причем не на своем родном языке, — настоящая беда для окружающих его людей: без тщательной работы переводчиков, без помощи петербургских, московских и женевских друзей и коллег и, главным образом, без постоянной поддержки и огромной редакторской работы В. Н. Сажина эта затея была бы обречена на неудачу. Выражаем им искреннюю признательность и благодарность.
ВВЕДЕНИЕ
Литература напоказ: от модернизма к классикам[*]
С этой историей случилась история.
Скажем сразу: литература в первую очередь говорит о себе самой.
Всякое произведение, как бы увлекательно и добротно ни было его повествовательное содержание, говорит о себе самом, выставляет себя напоказ, проявляя при этом большее или меньшее целомудрие или, наоборот, кокетство, играя со своими многочисленными зеркалами, без конца вкладывая текст в текст.
Эта игра отражений менее различима в периоды «реализма» и более заметна в другие эпохи — естественно, во времена авангарда, но также и в эпоху барокко, а на самом деле она ведется всегда, потому что без нее литературы бы просто не было. Однако в XX веке намеренное обнажение приема становится по-настоящему демонстративным, и можно утверждать, что именно модернизм заставил (в первую очередь критиков, а вслед за ними — и читателей) осознать эту обязательную и неотъемлемую составляющую художественного текста. Это изменение взглядов представляется нам одним из главных уроков эпохи модерна[2], уроком, который позволяет не только постичь эстетику модерна, а за ней и современную, но еще и по-новому взглянуть на прошлое. По этой причине наши исследования ведутся в порядке обратной хронологии — от анализа эстетической революции, отметившей начало XX века, и ее последствий, — назад, чтобы уже потом заново перечитать некоторые канонические тексты классики.
Итак, автореференциальная составляющая, органически присущая литературе, — главная тема нашей книги; мы хотим показать, что именно присутствие в произведении разговора о нем самом определяет, во-первых, степень новизны текста, во-вторых — степень его автономности. Как мы увидим, именно эта автономность помогает литературе выжить, несмотря на попытки извне подчинить ее каким-то требованиям, неважно, — политического или эстетического толка.
* * *
Для начала зададимся вопросом: о чем говорит литература? Действительно ли она рассказывает о внешнем мире, о мире реальном, как утверждает реализм? Конечно же нет: ведь мы прекрасно знаем, что ни госпожа Бовари, ни Базаров не существовали как люди из плоти и крови. Мы просто притворяемся, что верим в эту «миметическую иллюзию» (illusion mimétique), эту маленькую эстетическую «ложь», которую развенчали люди эпохи модерна, утверждавшие, что единственная действительно реальная вещь в произведении искусства — само произведение.
Именно в конце XIX века, когда начинается борьба с так называемым «реализмом», эта идея начинает овладевать умами: О. Уайльд в «Упадке искусства лжи» («The Decay of Lying», 1889) без всяких экивоков говорит, что искусство никогда не выражает ничего, кроме самого себя, а в «De profundis» (1897) — что «Искусство начинается лишь там, где кончается Подражание»[3]. Тут есть одна хитрость, даже обман, который, однако, всегда присущ литературе; то, что Уайльд называет «ложью», — в конечном счете просто осознание факта: литература ориентирована не на внешний мир, а на саму себя, на возможность «себя показать» и тем самым сделаться автономной реальностью.
Эти идеи попадают в центр раздумий критиков XX века.
Ж. Барбедет в работе «Приглашение к обману»[4] детально изучил явление, которое он назвал «ирреалистической традицией», наглядно показав тот замкнутый мир, который представляет собой литература в процессе многовекового развития. Барбедет ведет счет от «Дон-Кихота», первого романа, принадлежащего модерну, и дальше — до Уайльда, Г. Флобера, М. Пруста, В. В. Набокова, не забыв знаменитого стерновского «Тристрама Шенди», этого образчика автореференциальности, зачаровавшего, по совершенно очевидным причинам, русских формалистов и авангардистов.
Ж. Блен в исследовании о Стендале тоже относит Л. Стерна к предшественникам романа модерна и говорит о субъективном реализме — реализме, который ставит под вопрос идею «правдивости» и заставляет читателя заключить «пакт неискренности» (pacte de mauvaise foi)[5].
Проблема правды и лжи неизменно подводит нас к задаче автореференции (которая не отменяет требования говорить по существу) — и эта задача стоит перед каждым произведением, ведь текст никогда не пытается запутать сам себя, только иногда читателя. В «Искусстве романа» М. Кундера утверждает, что «творчество всякого романиста неявно включает в себя взгляд на историю романа и на то, что такое роман»[6]. Обобщив эту мысль, скажем: всякое литературное произведение «неявно включает» в себя авторский взгляд на собственный текст, во всяком произведении затрачено, как минимум, столько же усилий на то, чтобы выразить этот взгляд, сколько и на то, чтобы рассказать историю (и неважно, явно это делается или неявно). Эта автореференциальность становится очевидной в поэзии модерна. Так, например, Д. Джексон в начале книги «Поэзия и ее Другой» анализирует «структуру неопределенности в поэзии модерна» и утверждает, что в этих текстах больше говорится об их собственной сути и о языке, чем об окружающем мире[7].
Как видим, критика регулярно обращается к этой теме, по крайней мере в XX веке. Но было бы неверно считать, что авторе-ференциальны только те произведения, которые причисляются к модерну, или, наоборот, что только автореференциальные произведения являются модернистскими. Если упростить и схематизировать до предела, можно сказать, что история любой литературы развивается под влиянием двух тенденций, которые задаются типом отношений между понятиями «формы» и «содержания» (используя терминологию, несостоятельность которой мы еще постараемся доказать). Первая тенденция состоит в том, чтобы сделать произведение отражением реальности, или, иначе говоря, установить приоритет «содержания» (неважно, какого именно: рассказываемой истории, описываемой реальности или передаваемого сообщения), пренебрегая при этом «формой»; вторая тенденция, наоборот, отдает предпочтение «форме», переводит так называемое «содержание» в разряд необязательного, доходя в некоторых радикальных экспериментах XX века до полного его вытеснения. Примером может служить, скажем, фонетическая поэзия. Этот переход к абстракции стал ключевым моментом в истории литературы (конечно, он сыграл еще большую роль в истории изобразительного искусства), потому что именно тогда стало очевидным, что форма является составной частью так называемого «содержания» до такой степени, что может полностью заключать его в себе.
Ощущение новизны в литературе — результат развития второй из двух тенденций. Почему? Потому, что именно в случаях, когда форма специально показана, мы чувствуем и осознаем ее в максимальной степени. Но дальше мы увидим, что литература не дожидалась появления авангарда, чтобы заговорить о себе и показать себя.
Надо еще уточнить, что автореференциальный дискурс существует в разных проявлениях, которые, как правило, дополняют друг друга. Бывает автореференциальность внутренняя по отношению к произведению (говорящая структура, в том числе и зеркальная, игра со всем набором тропов и стилистических фигур), а бывает и внешняя по отношению к произведению, но внутренняя относительно литературы, — когда задействуется весь набор связей, образующихся вокруг текста в рамках литературного процесса (интертекстуальные связи, пародийные, дебаты между школами и т. д.). Самый наглядный случай автореференциальности — это, конечно, «зеркальная» структура некоторых произведений, в которых к каждому элементу добавляется дополнительный смысл — задаваемый их местом в этой структуре. Мы это продемонстрируем в статьях, посвященных «Дьяволиаде» М. А. Булгакова, «Реквиему» А. А. Ахматовой, «Старухе» Хармса, петербургским повестям Гоголя, «Капитанской дочке» А. С. Пушкина и «Отчаянию» Набокова. Однако интертекстуальный диалог с другими литературными произведениями, какую бы он ни принимал форму, нужно также рассматривать как зеркальное отражение, вследствие чего и он относится к нашей теме. Потому что именно в диалоге произведения с самим собой и с другими текстами литература и формируется, постоянно самообновляясь.
Таким образом и происходит развитие литературы — она колеблется, словно диафрагма, между периодами, когда она описывает внешний мир (хоть и выдуманный, но дающий ощущение реальности), и периодами, когда она увлекается особенностями формы и сосредоточивается на принципах собственного построения, то есть на себе самой. В конце XIX века стычки между этими двумя тенденциями обострились в процессе утверждения идей модерна, которые будут играть все более важную роль в следующие десятилетия, ожесточенно обрушиваясь на противоположные взгляды, самым знаменитым носителем которых в своих работах об искусстве (и, к счастью, только в них) оказался Л. H. Толстой.
В этом процессе авангард предложил нечто радикально новое. По сути, прежде чем заняться конструированием новых художественных миров, авангард пустился в грандиозное предприятие по деконструкции миров старых (а их ярые противники видели в этой деконструкции просто деструкцию, разрушение). Переход к абстракции станет окончанием этой работы, финальной точкой в деконструкции, после которой уже пора было конструировать. Но как в первой фазе этого процесса (деконструкция), так и во второй (конструирование) в центре внимания остаются формальные приемы, или, иначе говоря, фактура произведения. В. Б. Шкловский очень точно уловил задачи этого «воскрешения слова» в форме, освобожденной от языковых условностей, причем он писал об этом в самом начале своего осмысления футуризма, в 1913 году, и именно из этого его наблюдения родился формализм.
Конечно, в этом проекте, целью которого было создать совершенно новый предмет литературы, ориентированный только на самое себя, как на виртуальное пространство, в котором он сам себя выстраивал, была немалая доля утопизма. И это отчасти объясняет те трудности, с которыми очень быстро столкнулся авангард.
В живописи перспективы выглядели весьма многообещающими (искусство XX века покажет, что так оно потом и оказалось): принципы супрематизма, предложенные К. С. Малевичем, которые захватывают одновременно высшую фазу процесса деконструкции и начало процесса реконструкции, а также «аналитические» эксперименты П. Н. Филонова — ограничимся только этими двумя примерами — дали грандиозный импульс таким формам искусства, в которых можно было экспериментировать вне связи с какими бы то ни было проявлениями нарративности.
В словесности ситуация оказалась сложнее: заумь, которую А. Е. Крученых в предисловии к своей книге 1916 года «Вселенская война» называет поэтическим аналогом супрематизма в живописи, очень быстро продемонстрировала, что ее возможности ограничены. Зачатки этих трудностей сказывались, например, в сведении поэмы к одному звуку, которое предлагал В. Гнедов уже в 1913 году в своей «Поэме конца». Литература должна была как-то реагировать: авангард уже объявил о смерти романа, и теперь декларировалось, что поэзия может быть только фонической (или, как сегодня говорят, звуковой). То, что А. В. Туфанов в 1920-е годы объявляет себя прямым последователем В. В. Хлебникова и пытается вернуть на повестку дня заумную поэзию в самой радикальной ее форме, весьма красноречиво иллюстрирует эту ситуацию.
Заумный язык, которым пишет Туфанов в это время, основан на понятии текучести, и его следует рассматривать как один из возможных вариантов развития абстракции, в том виде, как ее представлял себе исторический авангард. Мы покажем, что понятие текучести, связанное, с одной стороны, с философией А. Бергсона, а с другой — с наследием Гераклита Эфесского, которое в то время популяризирует М. О. Гершензон, будет оставаться в центре внимания на протяжении всего Серебряного века. Это коснулось всех: символистов, потом поздних заумников, таких как Туфанов и его ученики (будущие обэриуты), и многих других. Идея текущей воды, которая может находиться одновременно всюду, оставаясь однородной, совпадала с самой сутью философских и эстетических взглядов поколения: охватить сразу всю полноту мира, в вечности его нескончаемого обновления, а затем вложить эту полноту или эту «прекрасную мгновенность» (по выражению Туфанова) в художественную форму, которая бы отразила ее в точности. История показала: эта идея была своего рода «оптическим обманом», что стало понятным в 1930-е годы.
Причины разочарования в этой идее были многочисленны, и ясно, что идеологическая позиция власти сыграла здесь важную роль. Но все-таки назвать эту причину единственной было бы слишком просто. Хотя многих деятелей авангарда репрессировали, а власть на долгие годы навязала искусству нелепую эстетическую систему (нелепую уже потому, что была навязана), не следует считать это единственной причиной начавшегося в конце 1920-х годов ухода авангарда со сцены. Социалистический реализм был попыткой, хоть и раздутой, но, в конце концов, довольно логичной, вернуть в центр внимания то, что раньше называли «содержанием», со всей «нарративностью» (в широком смысле), которая с ним связана. С этой точки зрения просто продолжалось колебательное движение литературы, которая после десятилетий формальных экспериментов должна была, вероятно, возвратиться к более традиционным способам выражения. Гораздо большая ошибка идеологов соцреализма — введение контроля за содержанием. Но литература умеет себя защитить, и ее история в Советском Союзе доказала, что навязать литературному процессу единственный путь развития невозможно. Фигура Хармса, которому посвящены многие статьи в этой книге, и особенно его показательный уход из поэзии в прозу могут служить неопровержимым доказательством этого. В книге «Даниил Хармс и конец русского авангарда» (1995) мы уже имели случай показать, что творчество этого писателя в тридцатые годы органически вписывалось в литературные процессы позднего европейского авангарда, в то, что делали предшественники экзистенциализма. Для них, — например, для Р. Домаля — «абсурд» стал «очевидностью» (ср. эссе этого французского писателя, сгруппированные под заголовком «Абсурдная очевидность»[8]).
В этой перспективе исследование метафоры текучести, о которой мы говорили выше, очень наглядно с точки зрения демонстрации процессов, важных для всего поколения позднего Серебряного века. Тем более что она встречается не только у Туфанова или в первых литературных опытах Хармса, но и у многих их современников, которые видели в образе текущей воды не только метафору бесконечно обновляемого времени, в точности соответствующую определенному утопическому видению, характерному для авангарда, но еще и метафору вселенского языка, способного выразить «все» разом. В тридцатые годы вода застыла, она стала «твердой, как камень» (по словам Л. С. Липавского в его «Исследовании ужаса»). Этот яркий образ можно связать со словами «не течет великая река» в начале «Реквиема» Ахматовой: застывшая река — емкая метафора для судьбы, постигшей в тридцатые годы поэтическое слово и самих поэтов. Это также точная метафора крушения надежд авангарда, который верил, что им обретено текучее слово, способное выразить мир во всей его полноте. Этот образ прекрасно отражает и положение человека абсурда в мире, в котором отказ от времени приводит не к долгожданному бессмертию, а к одной-единственной вечности — к Смерти.
В конце «Реквиема» есть какой-то проблеск надежды, если не экзистенциальной, то во всяком случае на уровне поэтики. В «Старухе» Хармса, написанной практически в то же время, что и поэма Ахматовой, надежды нет: в конце повести человек преклоняет колена перед гусеницей, безысходность царит в этом мире, где пульсирует пугающая тишина отсутствия Бога. Это отсылает нас к литературным процессам, происходившим не только в России. Вечные вопросы человека, брошенного в мире, которого он не понимает, мы обнаруживаем в литературе разных стран, и особенно там, где утопическая мысль проявлялась в наиболее радикальных формальных экспериментах: «Старуха» была написана незадолго до первых экзистенциалистских текстов и незадолго до появления в Европе «литературы абсурда». Конечно, эти вопросы волновали человека модерна постоянно, и мы просто оказываемся свидетелями смены периодов оптимизма и пессимизма в тех ответах, которые он на них получает. Это отчасти объясняет параллели, которые можно провести между Хармсом и Ф. М. Достоевским, а также — Гоголем.
«Чувство абсурдности» мира (А. Камю), которое не покидало Хармса и многих его современников, связано с трагическим осознанием того, что индивид и окружающий его мир разделены огромным пустым пространством. Проза Хармса тридцатых годов страница за страницей рассказывает об этой пустоте, которая разрушает идиллическую текучесть мира, а также о жестокости отношений, которые порождает такая раздробленность реальности. С Хармсом могла произойти настоящая эстетическая катастрофа, ведь его возвращение (пусть частичное) к повествовательности грозило подвести его к полной пустоте, следствием которой могло бы стать абсолютное молчание: «Уж лучше мы о нем не будем больше говорить», — как сказано о рыжем человеке, о котором нам обещали рассказать и которого на самом деле не было. Но именно в тот момент, когда могла разразиться агония литературы, происходит чудо — чудо, опять же, связанное с автореференциальной составляющей литературы, которая лежит в основе всякого произведения. Когда текст оказывается лишен содержания, которое могло бы стать объектом повествования, когда о пустоте уже нечего сказать, кроме того, что в ней ничего нет, от текста остается только сам текст. И становится ясно, что творчество Хармса в тридцатые годы говорит тоже — о себе самом, несмотря на то, что его главной задачей было показать трагизм существования. Получается, что и здесь мы сталкиваемся с тем же зеркальным эффектом, который до того замечали в структуре ряда произведений: как выясняется, ни один текст не свободен от этого приема.
Абсурд в литературе, в той его форме, которая сложилась в конце тридцатых годов, был выходом безнадежности, а она следовала из тех обстоятельств, что окружали закат авангарда в России. Но очевидно, были и другие формы. Набоков, находившийся в относительно более спокойных условиях эмиграции, представляет собой, может быть, лучший пример совершенного равновесия между некоторой вновь обретенной «нарративностью» и открыто выраженной осознанной метанарративностью. С этой точки зрения можно сказать, что Набоков проложил путь постмодернизму, а точнее, тому направлению в постмодерне, которое возведет узаконенный «обман» в число своих основных принципов, присоединившись к мнению героя «Отчаяния»: «всякое произведение искусства обман».
Может показаться, что описанные свойства характерны только для литературы эпохи модерна. Действительно, автореференциальная составляющая литературы в XX веке обретает такую важность или, по крайней мере, становится настолько заметной, как никогда не была до того. Но мы хотим показать, что эта составляющая сопутствует литературе постоянно, а задача читателя — найти ее признаки. Такое приглашение читателя к активному участию в выстраивании смысла достаточно ново, и в результате приобретает особую актуальность проблема рецепции произведения. Перечитывание классиков, в особенности, может быть, самых «классических» из классиков, в этом смысле представляется важнейшим делом. И мы должны быть благодарны периоду модерна за то, что он дал нам этот новый взгляд, который позволит обогатить восприятие классических текстов, часто по ходу истории — ив XIX и в XX веках — затруднявшееся тем, что в дело замешивались политические вопросы. Удивительная слепота В. Г. Белинского в отношении Гоголя, а потом Достоевского, катастрофические «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855) Н. Г. Чернышевского на долгие годы задали определенное восприятие этих классиков, тем более что в советское время мнение Белинского, Чернышевского и критиков их «лагеря» стало считаться единственно верным и основополагающим.
Чернышевский сталкивает Гоголя с Пушкиным, которому ставит в вину его эстетизм. Он сталкивает «содержание» и «форму», сатиру — и литературную игру и т. д. Он не понимает самой сути литературы и, очевидно, понимает Гоголя еще хуже, чем Пушкина. Возможно, лучший ответ на его текст дал Хармс 15 декабря 1936 года, накануне сталинских церемоний, посвященных столетию со дня смерти поэта:
О Пушкине
Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто о нем ничего не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александр I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь.
А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе.
Хотя Гоголь так велик, что о нем и написать-то ничего нельзя, поэтому я буду все-таки писать о Пушкине.
Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу[9].
Через сто лет после смерти Пушкин оказывается в центре бесконечных рассуждений о природе своей «современности» — об этом с иронией и комизмом и говорит Хармс в тексте, написанном, естественно, «в стол».
В конце концов, все сводится к проблеме восприятия литературного произведения, к которой необходимо будет обратиться в рамках нашего разговора о «новизне» в литературе. Чем больше у писателя признаков «новизны», тем произвольнее его восприятие. В качестве доказательства можно предложить хотя бы грандиозное недоразумение с Гоголем, из которого критика долго и ожесточенно делала реалиста (а он им не был), и с Пушкиным, которого впоследствии «реабилитировали» и отмыли от обвинений «утилитаристской» критики 50–60-х годов XIX века.
Пушкин ведет автореференциальную игру постоянно, и не удивительно, что именно формалист Шкловский первым сравнил его со Стерном в статье 1923 года «Евгений Онегин (Пушкин и Стерн)»[10]. Иногда эта игра у Пушкина подчеркнута, например, когда он иронизирует по поводу избитой рифмы «розы — морозы». Однако иногда она менее заметна. Об этом пишет в своей статье о поэтике Пушкина Б. М. Гаспаров, который приводит как пример (эпизод смерти Ленского) строфу: «Тому назад одно мгновенье / В сем сердце билось вдохновенье. / Вражда, надежда и любовь, / Играла жизнь, кипела кровь». Неоригинальность рифмы, образ «кипела кровь» и, в более общем смысле, интонация, напоминающая самые избитые клише элегической поэзии, показывают, что Пушкин здесь не просто оплакивает смерть поэта, а иронически имитирует поэтический стиль самого Ленского. Кроме собственно повествования, здесь присутствует размышление о поэзии как таковой. И по той систематичности, с которой эта составляющая возникает в творчестве Пушкина, понятно, что его сюжет — это прежде всего сам процесс письма. Как говорит Гаспаров: «Целью его творческих усилий является не трансцендентный смысл, находящийся по ту сторону словесного произведения и лишь намеками проглядывающий в разрывах литературной ткани, — но само это произведение как таковое»[11].
«Домик в Коломне» (1830) — безусловно, одно из произведений, где Пушкин дальше всего заходит в этом направлении, по крайней мере в нем эти проявления наиболее заметны. Кто-то может решить, что сюжет поэмы — история мужчины, который, переодевшись кухаркой, проник в дом вдовы и ее дочери, и тайна оставалась нераскрытой, пока его не застали за бритьем. Но тогда получится, что это просто шутка, водевильчик, разыгранный с блеском талантливым рифмоплетом. Советская критика, всегда проявлявшая невероятную смелость интерпретаций, увидела тут интерес к простому народу, или еще — провокацию поэта, от которого, после его возвращения с Кавказа, где шла русско-турецкая война, журналисты-реакционеры ждали патриотических выплесков. Если бы даже и так, это мало что объяснило бы, потому что в поэме прежде всего поражает — и это было многократно прокомментировано — прощание с четырехстопным ямбом, который господствовал в поэзии XVIII века («Четырехстопный ямб мне надоел: / Им пишет всякий. Мальчикам в забаву / Пора б его оставить…»[12]), а также использование новой поэтической формы (октавы, написанной пятистопным ямбом). Другая поразительная вещь — то, что Пушкин последовательно описывает все, что он делает. И последнее: это описание растягивается на десять строф — восемь в начале и две в конце, при том что в поэме их всего сорок. Это если не считать строф или частей строф внутри повествования, которые представляют собой отступления от него.
Итак, сюжетом, без всяких сомнений, является сам процесс написания поэмы, а также долгое размышление о поэзии в целом. Даже когда поэт все-таки погружается в саму рассказываемую историю в начале девятой строфы, он по ходу дела комментирует «ситуацию творчества», да еще и педалирует клишированную формулу «жила-была»:
Усядься, муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки! Не вертись, резвушка!
Теперь начнем. — Жила-была вдова…[13]
Конец поэмы в провокационной форме подводит нас к тому, чтобы задаться вопросом, о чем же все-таки в ней говорится: («Как, разве все тут? шутите!»; «Ужель иных предметов не нашли?»[14]). Что касается последней строфы, тут все достаточно ясно сказано: «Больше ничего / Не выжмешь из рассказа моего»[15] — из рассказа ничего не выжмешь, кроме самого рассказа, в котором, как мы видим, речь вовсе не о кухарке, тем более что она совсем и не кухарка. Что же тогда хочет сказать Пушкин?
Ясно, что прежде всего тут присутствует разговор о процессе письма. И он не ограничивается комическим или лирическим рассуждением об октаве или метрике. Ирония и пародийное отношение затрагивает и сам жанр произведения. В начале истории нам представляют героиню Парашу в таком антураже, который заставляет предположить, что нас ждет описание любовной истории в духе сентиментальных романов: ее уже назвали «красотка наша», она и томная, и много работает, живет одна с матерью и так далее. Очевидно, по законам жанра и по воле читательских ожиданий, тут должен появиться некий герой и, в зависимости от тональности повествования, либо составить ее счастье, либо соблазнить и толкнуть на самоубийство. Действительно, герой появляется, но все ожидания оказываются обманутыми (не зря ведь он появляется переодетым!). Идет пародийная игра с привычными и даже незаменимыми клише, которые присущи определенным жанрам. Эта игра дополнительно подчеркивается окружающим текстом, даже если речь идет о простеньком затрепанном образе. Например, говорится, что летом, когда ставни дольше оставляли открытыми, «Бледная Диана / Глядела долго девушке в окно», — за этим немедленно следует комментарий в скобках: «(Без этого ни одного романа / Не обойдется; так заведено!)»[16]. Итак, с одной стороны, непропорциональность структуры романа, которую мы показали, превращает ее в некоторый гибрид форм, но, с другой стороны, игровая и пародийная составляющая ведет нас еще дальше, поскольку затрагивается проблема жанра в целом. «Так вот, — восклицает Пушкин, — куда октавы нас вели!»[17]
Если в «Домике в Коломне» все это на поверхности, то в других произведениях такие приемы часто ускользают от взглядов критики. Анализ «Руслана и Людмилы» (1821) оказывается очень показательным в этом отношении и демонстрирует, что всего Пушкина, начиная с самых первых текстов, имеет смысл рассматривать под представленным нами углом зрения. Этой поэме мы посвятили статью, где хотим доказать, что «Руслана и Людмилу» не следует давать читать детям. О поэме написано немало глупостей, например в самом серьезном французском литературном справочнике читаем: «Скажем сразу, что это произведение дебютанта, и в нем прослеживаются многочисленные влияния»[18]. Тот, кто написал эти строки, очевидно, ничего не понял в поэме: он считает влияниями, и, соответственно, грехом молодости, тот волшебный калейдоскоп из отблесков других произведений, которые Пушкин, несмотря на свой юный возраст, не только прочел, но и усвоил до такой степени, что смог составить из них, прибегая к искуснейшему пародированию, нечто совершенно новое. Мы покажем еще, что, кроме рассказа о Руслане, главное занятие которого — вздыхать по своей возлюбленной, и о Людмиле, фривольность которой иногда приводит в замешательство, эта поэма также говорит о себе самой и о литературе, она с бесспорным кокетством отражает саму себя в непрестанной игре отражений и автоотсылок. То же касается и прозы Пушкина: запутанность повествования, которую можно заметить, например, в «Метели» или в «Капитанской дочке», играет все ту же роль метадискурса, так же как в последнем из этих двух произведений — зеркальная структура, которая определяет его композицию.
Проза Гоголя тоже очень хорошо подходит для такого анализа, поскольку в этой прозе сама фактура своим богатством привлекает внимание читателя к принципам ее построения даже больше, чем рассказываемая история, которая, как в свое время заметил Юрий Тынянов, сводится к нескольким словам (как человек потерял свой нос и как он его нашел; как человек, которого принимают за «ревизора», умудряется запугать целый город, а потом уехать; как другой мошенник сколачивает себе воображаемое состояние, скупая «мертвые души» у помещиков, которые с радостью от них избавляются, и так далее). И так же, как у Пушкина, это свойство проявляется в гоголевских текстах с самого начала: в 1832 году писатель вставляет в свой украинский цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» странную историю «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Во-первых, возникает вопрос, что в ней, собственно, украинского? Но главным образом, конечно, задумываешься, о чем же на самом деле рассказывается в этой истории. Она пересыпана бесконечной болтовней соседа Сторченко, которая перемежается бормотанием Шпоньки, не способного, совсем как потом Акакий Акакиевич, закончить фразу (для нас это выливается в очередное, тоже метадискурсивное, отступление от хода рассказа: «Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова»[19]). Тут же следуют непропорциональные описания, вроде описания обеда, где начинает воплощаться «новый замысел тетушки», который дает название пятой главе и о котором мы так ничего и не узнаем, или описание допотопной брички, в котором уже улавливаются некоторые пассажи будущих «Мертвых душ» или «Коляски». Помимо того, являются всякие «наросты» в повествовании, связанные в первую очередь с полной неспособностью героя совершить хоть малейшее действие: этот самый герой в критический момент, когда решается вопрос о его будущей жизни (и женитьбе), впал в крайнее смущение, «ободрился, и хотел было начать разговор; но казалось, что все слова свои растерял он на дороге», и после четверти часа молчания он наконец выдавливает из себя слова: «Летом очень много мух, сударыня!»[20] Его несостоятельность абсолютна и распространяется даже на отношения с противоположным полом: когда тетушка говорит, что он должен жениться (ему 38 лет), он в панике отвечает: «Как, жена! <…>…я еще никогда не был женат… Я совершенно не знаю, что с нею делать!»[21] Но эта несостоятельность героя, составная часть фабулы, в конце концов становится метафорой неспособности самого текста двигаться дальше. Как это получается?
Повествование начинается вполне традиционно с упоминания о детстве героя и о годах его становления. Но это лишь видимость. На самом деле фрагменты его биографии, которые нам сообщаются, не дают о нем практически никакой информации. Каждый раз, как начинается какая-нибудь линия, которая могла бы быть информативна, если бы имела продолжение, она сейчас же обрывается и теряется во множестве отступлений, которые переходят в детальные описания, и, в конце концов, отдаешь себе отчет, что в этом тексте нет вообще ничего, что могло бы составить правдоподобную фабулу. Наоборот, любой детали, которая в «нормальном» повествовании появилась бы «между делом», уделяется непропорционально много внимания, это тормозит движение рассказа, и в результате повествование вовсе не может продолжаться. Получается, что Гоголь показывает не столько бессвязную историю жизни Шпоньки, сколько механизм функционирования повествования, а точнее, механизм его не-функционирования, что, впрочем, одно и то же. Его игра с читательскими ожиданиями и их обман — это способ привлечь внимание читателя к механизмам повествования. Тут не скажешь «так вот что он описывает» (это была бы история Шпоньки), а скорее, «вот как он пишет» (соответственно, история истории). Поэтому нам уже не так важно знать, что произойдет дальше, и текст может оборваться где угодно: повествование выдыхается, теряется под грузом отступлений и стилистических изысков и наконец заканчивается молчанием, речь обессиливается, так же как и сумбурные, всегда неоконченные высказывания героя.
Это объясняет конец рассказа: как и принято в классическом повествовании, глава заканчивается на фразе, которая должна пробудить интерес читателя и подтолкнуть его, не мешкая, продолжить чтение следующей главы («Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе»[22]) — Но никакой следующей главы нет, и рассказ резко обрывается на этом месте. И что самое примечательное, читатель знал об этом с самого начала. Ведь еще перед тем, как начать рассказ о жизни Шпоньки, повествователь предупредил, что конца он не знает, потому что его «старуха» использовала последние листки тетради, чтобы печь пирожки (между прочим, очень вкусные), а память у него слишком скверная, чтобы вспомнить, о чем там шла речь. Ясно, что, в отличие от читателя конца XX века, привыкшего к таким ходам, поскольку для постмодернизма это дело обычное, читатель XIX века не мог считать это нормальным, и его, еще больше, чем нас сегодня, должен был занимать вопрос, ради чего ему рассказали эту историю. А ответ на этот вопрос, вполне, кстати, правомерный, дается в самом начале повествования, в первой фразе рассказа: «С этой историей случилась история»[23]. Сюжет рассказа — не история Шпоньки, а история самой истории.
В этом произведении, относящемся, между прочим, к самому началу его писательской карьеры, Гоголь достигает отчаянной новизны: по своей металитературной составляющей, доведенной до предела, по своей радикальной автореференциальности, по игре с читательскими ожиданиями, по обнажению приемов, которые определяют его структуру, по своей искусно подчеркнутой незавершенности этот текст больше напоминает некоторые эксперименты в духе модерна, абсурда или постмодерна XX века, чем украинскую историю в фольклорном стиле. И поэтому неудивительно, что у Гоголя и дальше обнаруживается множество приемов, схожих с теми, что мы будем анализировать в этой книге, — например, в статьях о Хармсе, у которого в начале одного незавершенного текста читаем: «В два часа дня на Невском проспекте или, вернее, на проспекте 25-го Октября ничего особенного не случилось»[24] — этот зачин до странности напоминает начало второй главы из истории Шпоньки: глава называется «Дорога», и ее первые слова: «В дороге ничего не случилось замечательного»[25]. В результате мы можем по-новому взглянуть и на проблему незавершенности того или иного текста, например «отрывок» «Рим» (1842), и вообще другими глазами перечитать петербургские повести Гоголя, воспринимая их как главы одной книги, составленной по зеркальному принципу и содержащей развернутый и богатый дискурс об искусстве.
Как мы показали, уроки, преподанные модерном, дают хорошую базу для того, чтобы по-иному проанализировать написанное классиками. Именно по этой причине мы намеренно выбрали произведения самых известных писателей. Мы считаем, что этот метод можно обобщить. Очевидно, что с Достоевским он также срабатывает. Часто творчество этого писателя разделяют на два периода: до каторги и после. До каторги мы имеем дело с писателем одновременно социалистического и романтического толка, произведения которого вписываются в традицию той «натуральной школы», из принадлежности к которой Белинский сделал абсолютный критерий оценки и к которой он немного поторопился причислить Гоголя. После каторги и после окончания переходного периода, который завершается «Записками из подполья» (1864), Достоевский писатель, обновивший свои убеждения. Для одних он реакционер, для других — религиозный писатель, третьи считают, что он обновляет эстетику романа (и создает такие разновидности, как «роман-трагедия», «полифонический роман» и так далее). Все это, конечно, соответствует реальности, но не отвечает на вопрос о том, что же объединяет оба эти периода. Нам кажется, что ответ на этот вопрос можно найти в той металитературной составляющей, которую обнаруживаешь на каждой странице его книг, причем с самых первых произведений (как у всех новаторов). Взять хотя бы его первый роман «Бедные люди». Можно, конечно, вместе с Белинским порадоваться появлению нового писателя, озабоченного социальными проблемами, но действительно ли это самое важное? Не интереснее ли увидеть в «Бедных людях» (1846) диалог с Гоголем, причем не только на уровне сюжета, который напоминает «Шинель» (трагическая судьба существа, лишенного того, о чем оно мечтает, история, в которой, как заметил в свое время К. В. Мочульский, замена шинели на женщину выглядит особенно значимо: «<…> вместо вещи (Шинель) поставил живое человеческое лицо (Вареньку) <…>»[26]); интересно также упоминание самим героем писателя, против которого он восстает и которого противопоставляет… Пушкину — им он восхищается (вспоминается текст Хармса, цитированный выше). Сравнение Девушкина и Акакия Акакиевича на первый взгляд кажется логичным, но при внимательном прочтении понимаешь, что они различны абсолютно во всем: по существу, Достоевский выворачивает детали гоголевской повести, прежде всего очеловечивая героя, который у Гоголя остается механической куклой; кроме того, Достоевский наделяет своего героя даром слова — у Акакия было только косноязычие; и, наконец, дает ему возможность в ясной форме выражать свои взгляды на литературу, какими бы они ни выглядели наивными. Можно пойти еще дальше и сказать, что одна из задач, поставленных Достоевским в своем первом романе, а потом и в следующих, — это воспроизвести типы личности, относящиеся к определенной литературной традиции, а потом, перенося их в другой контекст, превзойти те жанры, из которых он заимствует принципы построения своих текстов. Так в «Бедных людях» Достоевскому удалось связать (контрастно их сочетая) принципы «натуральной школы» («психологический очерк»), сентиментализм (который просматривается в лирических порывах влюбленного Девушкина, в чистоте и самоотверженности, которыми отмечено его чувство) и социальный роман, не говоря уже о модном в то время эпистолярном романе: ситуация, когда корреспонденты переписываются, находясь в нескольких метрах друг от друга, выглядит пародией на эту моду.
Проблема жанра останется важной темой и в следующих произведениях Достоевского. Часто она даже подчеркивается, например, в первом романе, где герой считает, что сам знает, как нужно писать. Ясно, что в манере письма молодого Достоевского заметны следы книг, которые он прочел, но было бы некорректно видеть в ней лишь систему различных влияний. На самом деле производит впечатление именно та смесь, из которой вырастает новая манера письма: Достоевский связывает разнообразные влияния друг с другом, включает их в диалог и таким образом возвышает каждое из них и создает собственную манеру. Тынянов в знаменитой книге 1921 года о Достоевском и Гоголе[27] первым стал размышлять в этом направлении и показал, как Достоевский «играл» гоголевским стилем, особенно в 1840-е годы, пока не отошел от этой линии. Тынянов также показывает, что, хотя присутствие Гоголя совершенно очевидно, это присутствие следует рассматривать не столько как влияние, сколько как взаимодействие и отталкивание.
Во многих произведениях Достоевского есть пародийная составляющая, которую не всегда оценивают по достоинству. А она тем не менее имеет важнейшее значение, и не обязательно объектом пародирования становится какой-то конкретный писатель, скажем Гоголь, который в это время заметен во всех произведениях Достоевского (особенно в «Двойнике», но так же и в «Хозяйке», где смесь фантастического и фольклорного устроена совсем как в рассказе Гоголя «Страшная месть», но пародийно переплетается с чертами авантюрного романа: разбойниками, выстрелами и т. п.). Эти произведения становятся сценой настоящей дискуссии о литературных жанрах, в которой определенный жанр подчеркивается иногда даже слегка преувеличенно, а потом исчерпывается: так история безумного музыканта и договора с дьяволом в первой части неоконченного романа «Неточка Незванова» напоминает романтизм Э.-Т.-А. Гофмана (или В. Ф. Одоевского), но эти жанровые признаки подчеркиваются даже слишком, а потом продолжение первой части уводит нас совсем в другую сторону. В очередной раз это оказывается скорее экспериментом с жанром произведения (и попыткой подвергнуть этот жанр сомнению), чем использованием на практике традиционных приемов. Следовательно, писательская манера Достоевского строится на преодолении существующих моделей, и Гоголь — не единственный пример из молодости, который он таким образом оркеструет: перед нами проходят все модные в то время жанры, от романа-фельетона до социального романа, от сентиментальной мелодрамы до приключенческого романа и романа с тайной, О. де Бальзак, Ч. Диккенс, Э. Сю, Ф. Сулье, В. Гюго, Гофман и многие другие.
С точки зрения изучения жанров анализ первого большого романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861), о котором часто пишут как о переходном и достаточно слабом произведении, оказывается весьма продуктивным. Роман состоит из двух линий, почти совершенно независимых друг от друга. Первая линия — любовь Наташи — явственно восходит к сентиментальной мелодраме, а вторая — история маленькой Нелли — напоминает Гофмана и в то же время в ней есть переклички с «Лавкой древностей» (1840) Диккенса. Противники романа обрушивались на эти черты сходства с английским романом, даже усматривали плагиат: они не поняли, что эти созвучия — составная часть замысла романа. Так же как имя Гофмана явно названо, роман Диккенса тоже упоминается с помощью весьма красноречивых деталей: Достоевский дает своей героине то же имя, что и у героини английского романа, заключает такой же странный секретный союз между ней и стариком, как и у Диккенса, — таким образом Достоевский делает сходство весьма заметным, и даже слишком заметным.
При этом нужно констатировать, что ключевые сцены со слезами, которые сопровождают мелодраматическую линию повествования, отмечены такой чрезмерностью, что подозреваешь их в пародийности.
Итак, привлекает к себе внимание прежде всего не то, что писатель по-разному обходится с этими линиями своего повествования, а то, что эти жанры представлены вместе и в одном и том же произведении. Если понять это, сосуществование двух интриг, разделенных почти искусственно и объединенных, что весьма показательно, с помощью фигуры повествователя, представляется исполненным особого смысла, а вовсе не недостатком архитектурного устройства романа. Более того, архитектура романа как раз и оказывается в центре внимания.
Игра с ультракодифицированными жанрами встречается и во всех последующих произведениях Достоевского, независимо от их содержания.
Еще один хороший пример — «Записки из подполья» (1864). С точки зрения содержания это произведение подводит итог прошлому, готовя одновременно почву для следующих романов. Но то же самое можно сказать и о литературно-эстетической стороне: тут к полемике против организаторов принудительного счастья и социальных утопий, унаследованных от Ж.-Ж. Руссо, добавляется чисто литературная полемика — во второй части романа, той самой, за которую Достоевского ругали те, кто не понял его замысла, или не захотел понять, в том числе и Набоков.
Часто можно прочитать, что вторая часть романа, повествовательная, служит плохой иллюстрацией к первой, теоретической, части и что их соединение искусственно. Это, конечно, не верно ни в психологическом, ни в философском плане, которых мы, однако, касаться не будем. Но это столь же неверно и в чисто литературном плане. Во второй части история чистосердечной проститутки Лизы — ситуация, типичная для социального романа с примесью романтизма. Но названный жанр имеет свои обязательные черты: юная проститутка должна оказаться спасенной героем, который также должен быть чист, а здесь ее унизили и оскорбили, а потом еще и выгнали. Рассуждение о природе повествования мы обнаруживаем и в речах героя, который комментирует собственный стиль («…я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской неизъяснимо благородной тонкости»[28]) и отвергает чувства, которые мог бы испытывать, если бы не происходил из подполья: «И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих „поганых сантиментальных душ“!»[29] Пародийность очевидна, и она даже подчеркивается в начале второй части, эпиграфом к которой поставлены строки Н. А. Некрасова:
Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья,
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки.
Тебя опутавший порок.
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена…
Трудно было бы придумать что-то более язвительное, тем более что в подписи сказано только: «Из поэзии Некрасова», как будто эти стихи могли быть взяты из любого его произведения! Что касается «и т. д.», здесь ясно показывается, что мы можем угадать продолжение, где говорится о прощении, которое получает падшая женщина, и все кончается словами (саркастически произнесенными героем дальше в повести): «И в дом мой смело и свободно / Хозяйкой полною войди!»[31] Налицо обилие литературных штампов, и Достоевский высмеивает все это не только своим «и т. д.», но также историей, где герой унижает и выгоняет из дома проститутку, готовую раскаяться, которую в шаблонном произведении, вроде стихотворения Некрасова, обязательно бы спасли и приютили. Следовательно, в «Записках из подполья» в дополнение к ощутимой сложности на уровне психологической структуры, а также идеологической и философской организации текста со всей очевидностью присутствует еще и металитературная (автореференциальная) составляющая.
Удивительно, что Набоков не заметил этой стороны творчества Достоевского: он видит только смесь западных «готических романов» с «религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность»[32]. Еще он упрекает Достоевского в безвкусице — его сентиментальность нужна только для того, чтобы вызвать сочувствие читателя, и не преследует никаких художественных целей. Все держится только на интриге, и Достоевский оказывается «прежде всего автором детективных романов»[33], умеющим «мастерски закрутить сюжет и с помощью недоговоренностей и намеков держать читателя в напряжении»[34], но его книги не выдерживают повторного прочтения.
«Записки из подполья» (это, по мнению Набокова, заметки «маньяка», причем такие «посредственные подражатели Достоевского, как французский журналист Сартр, продолжают пописывать в том же духе и по сей день»[35]) он критикует за «назойливое повторение слов и фраз», за «стопроцентную банальность каждого слова» и за «дешевое красноречие…»[36]. Удивительно, что Набоков совсем не задумывается о смысле именно такого устройства произведения: из двух частей, которые кажутся автономными только на первый взгляд. Для него только после первой части, которую он называет «прологом», со второй главы второй части «начинается действие»[37]. Набоков имеет в виду только историю Лизы, но он мог бы вспомнить фразу Гоголя из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»: «С этой историей случилась история».
Так же близоруко разбирается «Преступление и наказание» (1866): Набоков в нескольких строках уничтожает роман, ругая его за банальность. По мнению Набокова, банальностью является сцена чтения Евангелия Раскольниковым и Соней, в ней начало раскаяния Раскольникова отмечено фразой, «не имеющей себе равных по глупости во всей мировой литературе»[38]. Набоков считает, что нет никакого смысла в треугольнике «убийца и блудница» и «вечная книга», это просто набор литературных клише: этим двум персонажам нечего делать вместе уже потому, что «Христианский Бог <…> простил блудницу девятнадцать столетий назад», а «убийцу следовало бы прежде всего показать врачу», «убийца и блудница за чтением Священного Писания — что за вздор! Здесь нет никакой художественно оправданной связи. Есть лишь случайная связь, как в романах ужасов и сентиментальных романах. Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой поэтики и набожности». И в отношении ремесла Сони: «Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово»[39].
Как правило, никогда не бывает совершенно очевидным, что литература преимущественно говорит о самой себе, но это как раз то самое, что выставляется напоказ литературой модерна, иногда даже весьма настойчиво, например… у самого Набокова. Этот дискурс кроется в мельчайших деталях произведений, порой — в самой незначительной метафоре. Тут как раз и требуется второе прочтение, которое бы учитывало такой двойной смысл текста. Совсем как метафора, любое литературное произведение развивается в двух планах: один — открытый, эксплицитный, это — «содержание», другой — скрытый, имплицитный, и его смысл нужно искать в формальной организации текста. Без этой двойственности нет литературы, как нет литературы без метафоры. В каком-то смысле «форма» всегда является частью «содержания», и она всегда, только в разной степени, является его метафорой. Это объясняет, почему в каждом произведении всегда есть некоторая степень зеркальности, обеспечивающая ему структуру еп abyme, «текста в тексте», без которой никогда не удается обойтись. Этого и не захотел увидеть Набоков у Достоевского (трудно поверить, что он правда этого не видел). Если перечитать «Преступление и наказание» и задаться вопросом, откуда появляется Свидригайлов, можно, конечно, ответить, что возникает из бреда Раскольникова, двойником которого сам же и является. Но можно также доказать, что он возникает из самой структуры текста: появляется в конце третьей части, произносит свое имя, представляясь, и эта же сцена повторяется в начале четвертой части, где он снова произносит свое имя. С первого взгляда может показаться, что это просто классический прием романа-фельетона, нужный только для того, чтобы читательский интерес не ослабевал до выхода следующей части (очередного номера журнала). Но мы находимся точно в середине романа (он состоит из шести частей), и этот повтор добавляет тексту новое измерение, а зеркальная структура становится метафорой раздвоенности героя.
Известно, что Достоевский писал свои романы достаточно быстро, так что можно предположить, что он создал эту устойчивую зеркальную структуру случайно. Но это совершенно неважно, а важно, что она там есть. Сознательно это было сделано или нет — ничего не меняет. Точно так же как совершенно не важно, сознательно ли Хармс, когда писал «Старуху», построил текст по схеме, напоминающей «Преступление и наказание», структурировав его тремя диалогами: первый — с самой старухой, главный диалог с Сакердоном Михайловичем (который стоит в центре произведения, так же как Свидригайлов) и, наконец, диалог с самим собой, который напоминает внутренние монологи Раскольникова со своим двойником.
Если пересмотреть под этим углом зрения историю литературы, понимаешь, что привычные категории (романтизм, реализм, модернизм и т. д.) не слишком хорошо работают, а иногда могут даже и помешать восприятию произведения. Творчество Достоевского приходится на период в истории русской литературы, который называют «реалистическим». По сути, это был период, когда интерес к форме был выражен слабо (это объясняет также упадок поэзии, наблюдавшийся в то время) и от литературы ждали представления реальности, про которую нас, с одной стороны, хотят заставить поверить, что это — «правда», а с другой стороны — что она единственный сюжет произведений, о которых идет речь. Но это, как мы видели, не совсем так. Иначе говоря, это было время упадка автореференциальной системы, которая действует независимо ни от чего в любом произведении искусства.
Исторически это было логическим продолжением использования самого понятия «натуральная школа», так же как и способ восприятия литературы, который эта школа навязала современникам. Эта тенденция сохраняла свои позиции в литературе и критике до конца XIX века, она была к тому же подкреплена идеологическими шаблонами, изобретенными критикой шестидесятых годов, которую формальные проблемы совершенно не интересовали. Главная идея состояла в том, что у литературы есть миссия: она должна «идти в народ». Для этого она должна быть «реалистической» — единственный способ описать социальную реальность, которую полагалось обличать. К тому же это надо было делать так, чтобы стало понятно «народу». Надо было стремиться к «искренности», к «простоте», а эти две характеристики идут вразрез с самой сутью литературы. Такая политизация литературы, а также «утилитаристские» идеи, которые из нее следуют, имели довольно серьезные эстетические последствия. Тому виной, в частности, и совершенно искусственное и антиисторическое увековечение, которое обеспечила этим идеям советская критика, когда были уничтожены все «формалистские» тенденции, сеявшие сомнения в правильности единственного назначенного пути.
Но, как было уже сказано, разговор литературы о себе самой никогда окончательно не прекращался, потому что вместе с ним умерла бы и сама литература, и у всех больших писателей эта составляющая берет верх, иногда вопреки воле самого писателя. Л. Н. Толстой может служить хорошим примером противоречий той эпохи, ведь он изо всех сил боролся против усложнения формы и старался в своих статьях об искусстве построить эстетические концепции именно на понятиях «искренности» и «простоты». Это было в конце XIX века, то есть во время грандиозных перемен, которые непосредственно и подвели к обновлению, принесенному модернистскими течениями начала XX века.
Толстой умер в том же 1910 году, когда Андрей Белый напечатал сборник статей «Символизм». Эта работа подводит итоги течению, господствовавшему в русской литературе в первом десятилетии нового века, и одновременно констатирует его закат. Совпадение значимо в том смысле, что теории великого романиста, иногда весьма пугающие, вошли в резкое противоречие с эстетической революцией, которая одновременно разворачивалась и была не чем иным, как очередным утверждением в своих правах модерна: ему все-таки удалось выжить, несмотря на несколько десятилетий приоритета «реализма» и в литературе, и в критике.
Символизм проложил дорогу более радикальным изменениям: сразу после него мы наблюдаем великий переворот, связанный с авангардом и затронувший не только литературу, но и пластические искусства, а также критику. В основе этой яркой вспышки лежал обновленный интерес к «форме» «как таковой», который связан с подчеркиванием — иногда весьма радикальным и даже агрессивным — автореференциальной составляющей произведения в такой степени, что стали появляться произведения, как, например, у беспредметников, которые говорят лишь о себе самих и полностью находятся в области чистого метадискурса (но сам он между тем абсолютно «реален»).
Дальше в истории русской литературы XX века будет, как мы знаем, происходить то же чередование двух тенденций, но в гораздо более политизированном контексте, чем прежде: после революции авангард и формалистов атакуют «пролетарские» писатели, которых поддержит власть, и в тридцатые годы установится примат социалистического «реализма». А между тем наблюдается более органическое развитие авангарда к деградированным формам, в том смысле что он (авангард) постепенно лишается своей утопической подоплеки и приближается к тому, что получило название «абсурда», — явление, которое можно констатировать по всей остальной Европе в это время. Одновременно делались попытки объединить эти две вечные для литературы тенденции.
Выдающимся примером такого стремления к синтезу можно назвать Набокова. Толстой хотел искоренить «запутанные завязки» и рассказывать «простые» истории; его противники-авангардисты были не менее радикальны и возвещали смерть романа, культ формы и обнажение автореференциального дискурса; Набоков же в своих романах устанавливает абсолютную гармонию притягательного содержания (на уровне нарратива, истории) и не менее значимого метанарративного содержания (истории истории), причем второе у него никогда не занимает такого положения, чтобы упразднялся первый уровень прочтения. И течение, которое потом назовут постмодернизмом, является более или менее удачной, иногда игровой и всегда — крайне свободной реализацией такого сплава.
Очевидно, самый ценный урок, который можно извлечь из этих литературных процессов, — неизменность свободы творчества, которую на самом деле невозможно ущемить. «Освобождение слова», которое столь громко проповедовали футуристы, было освобождением в эстетическом плане, но XX век показал, что такая свобода может быть орудием борьбы, потому что она очень внятно утверждает свое существование, а еще в силу той чрезвычайной автономии, которую такая свобода предоставляет литературе. Можно сказать, что вся область, свободная от внелитературного содержания, оказывается, как видно из наших построений, залогом свободы и становится средством мощного сопротивления, если какая-нибудь внешняя сила хочет навязать литературе конкретное содержание. XX век в России оказался крайне подходящим временем для проявлений такой свободы. Именно им посвящена последняя часть нашей книги. Замятин, Эрдман, Булгаков, Ахматова, Хармс и многие другие литераторы, вышедшие еще из Серебряного века и из того самого авангарда, представителей которого начнут уничтожать с конца двадцатых годов, — сколько из них пошли наперекор власти, желавшей навязать литературе свои требования! Каждый на свой лад показал, что в политических условиях, когда малейший протест, выраженный прямо, приводил к немедленному аресту, утверждение «автономии» (а значит, и свободы) поэтического слова происходило в той области, где оно могло происходить свободно, в самых разных формах: смысл порождался самим текстом.
У всех авторов, которых мы изучаем в этой книге, такая свобода заложена в самой литературной ткани, начиная еще с Пушкина, к которому в самые черные свои часы обращается Ахматова. Мы показали, что для Пушкина характерна крайняя свобода обращения с литературной материей, неважно, идет ли речь о его языке, о жанрах, которые он использует, или о его взаимоотношениях с самим собой как с автором и с произведением, которое он пишет. Тот же дух свободы ощущается у него как у автора запрещенных текстов: «Вольность», «Деревня», «Во глубине сибирских руд…» и многих других. Несмотря на бесчисленные спекулятивные умопостроения в этой области, которые велись в советское время, не стоит пренебрегать гражданской линией у Пушкина, которая выливается у него в размышления о ходе истории, о природе власти, о связанном с ней насилии, узурпации и прочем, — например, в «Капитанской дочке», «Медном всаднике», «Борисе Годунове». Во всех названных произведениях дух свободы проявляется чрезвычайно мощно как на уровне идей, так и на уровне формы, причем обе эти составляющие дополняют и осмысляют друг друга. Пушкин прекрасно это знал, не зря же он писал во времена работы над «Борисом Годуновым»: «Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода»[40].
Это в очередной раз доказывает, что, какими бы ни были условия ее существования, литература всегда сохраняет за собой право самой черпать среди литературных приемов средства, чтобы доказать свою непреложную свободу и способность к сопротивлению. В том и состоял горький опыт, который приобрели в XX веке и многие писатели, и многие читатели. Власть это хорошо поняла, поскольку очень быстро принялась внедряться в эту неконтролируемую область, вплоть до физического уничтожения писателей. Утверждение в поэзии футуристов свободного, «само-витого» слова, «знака, выпрямившегося во весь рост» (signe debout), как скажет потом Барт[41], было уже неприемлемой для власти программой; защита Замятиным «еретической» литературы, реплики с двойным смыслом в театре Эрдмана или сатира (как у Булгакова) дали повод к фронтальной атаке. В тридцатые годы существовать в этой области стало еще труднее, но литература умеет сопротивляться, она в очередной раз скрывает смысл произведений за тем дискурсом, который ведет о себе самой. Его признаки — зеркальная структура и оркестровка интертекстуальных связей в таком, например, памятнике сопротивления, как «Реквием» Ахматовой, где за «тюремными затворами» звучит в сердце нового «каменного века», «жестокого века», «свободный глас поэта», наш «вечный современник».
I. УРОКИ МОДЕРНИЗМА
Номинализм и литература:
об автореференциальности, или как литература избежала молчания[*]
Если, предельно схематизируя, поделить мнения, которые звучат в спорах о статусе литературного текста, в зависимости от того, как они отвечают на вопрос: что говорит (или называет) произведение или что оно может говорить (называть), — то мы коснемся самой сути проблемы номинализма в ее применении к литературе. Мы получим два ответа: либо произведение говорит о внешней по отношению к нему реальности, которую оно намеревается так или иначе представить, либо оно говорит о самом себе — то есть оно автореференциально и свободно от каких бы то ни было обязательств по отношению к внешнему миру. Именно с этим вопросом и ответами на него, иногда весьма радикальными, и связан расцвет литературы модерна[43], а дальше — появление модернизма и авангарда.
Мы хотим вернуться к этому вопросу, который волновал умы многие десятилетия, и показать, что выбрать какой-то один ответ на него, исключив другой, значило бы обречь литературу на молчание, которого она едва избежала в начале XX века.
Модерн / реализм — ложь / правда
Набоков, желая убедить своих студентов в том, что «всякое произведение искусства обман», как утверждает один из его персонажей, объяснял им, что литература «родилась не в тот день, когда из неандертальской долины с криком: „Волк, волк!“ — выбежал мальчик, а следом и сам серый волк, дышащий ему в затылок; литература родилась в тот день, когда мальчик пробежал с криком: „Волк, волк!“, а волка за ним и не было»[44]. Итак, в основе литературы изначально лежит ложь, и разговор о литературе всегда связан с вопросом о степени правдивости произведения, ведь традиционно правдивость считается показателем связи этого произведения с реальностью. Заметим, что имеем в виду «ложь» как эстетическую, а не моральную категорию, в том же смысле, что Оскар Уайльд, утверждающий в диалоге «Упадок искусства лжи» (1889), что «ложь, умение рассказывать прекрасные истории, каких никогда не случалось, составляет истинную цель Искусства»[45].
Эта проблема — ключевая для разделения мнений, благодаря которому возникло направление в искусстве, называемое «модерном». Размышляя на эту тему, мы хотим переосмыслить «эстетическую революцию», которая произошла в начале XX века в России (и в Европе); теперь, когда сопутствовавший ей шум утих, хотелось бы понять, была ли это действительно революция.
Реализм в XIX веке добился рекордной правдивости, поскольку ему полагалось имитировать жизнь. Однако приходилось закрывать глаза на саму суть этой «миметической иллюзии» (illusion mimétique), не замечать, что это «иллюзия», причем иллюзия имитирующая, то есть некое подобие, видимость, а значит — тоже ложь. Модерн возвел (хотя, скорее, вернул) ложь на почетное место, ведь именно это имеет в виду Бодлер, когда в эссе «Художник современной жизни» (1845) говорит о «двойной композиции» Прекрасного: в нем, конечно, есть «вечная неизменная составляющая», но есть также и «относительная составляющая, зависящая от обстоятельств», этот «развлекательный, щекочущий, сладостный конвертик к божественному пирогу», без которого вечная составляющая не может по-настоящему проявиться. Настаивая на важности этого «конверта» в главе «Хвала макияжу», Бодлер поднимает важнейшую проблему эпохи модерна — день ото дня растущее внимание к форме, как отталкивание от предшествовавшего периода реализма. Бодлер задает главный вопрос, ответ на который сегодня стал очевидным, но в то время он был весьма актуален и, возможно, даже более актуален для России, чем для остального мира: «Кто осмелится свести искусство к бесплодной функции подражания природе?»[46]
Итак, модерн породил, с одной стороны, живое осознание двойственности и даже двуличия искусства, а с другой стороны, понимание того, что оппозиция «форма / содержание» — устарела, теперь форма (которую раньше сводили к одному лишь стилю) была объявлена частью содержания, что сделало возможными те формальные поиски в искусстве, которые велись в конце XIX, и особенно в начале XX века. В этом смысле Россия представляла собой, бесспорно, прекрасную лабораторию, ведь вторая половина XIX века была периодом упадка поэзии в русской литературе из-за того, что с 60-х годов в ней господствовала эстетика утилитаризма. Серьезный эстетический конфликт между защитниками реализма, а также искусства гражданской направленности — и сторонниками «искусства для искусства» принял в России более радикальную форму по сравнению с тем, что происходило в Европе, и превратился в настоящую идеологическую войну, последствия которой будут ощущаться в течение большей части XX века. В России символизм, а вслед за ним (в первой четверти XX века) авангард вывели эксперименты с формой на первый план, потому что участники этих движений были убеждены, и не без оснований, что только таким путем можно прийти к созданию нового смысла. И вовсе не случайно рождение формализма пришлось на тот момент, когда эти тенденции достигли максимального размаха. Напомним, что первые работы Шкловского, в том числе «Воскрешение слова» (1914), стали результатом его участия в шумных вечерах фугуристов в «Бродячей собаке» — знаменитом петербургском литературном кафе[47].
Это изменение отношения к форме принципиально важно, потому что связано с одним из главных уроков эпохи модерна. С осознанием упомянутой двойственности стало ясно, что любое произведение обязательно имеет сразу два означаемых:
1) Первое означаемое, которое мы воспринимаем сразу и которое может быть множественным: рассказываемая история, реальность, представленная этими описаниями, передаваемое чувство и т. д. Именно это означаемое порождает тот тип анализа, которому критика долго отдавала предпочтение, именно с ним связано восприятие произведения «обычным» читателем.
2) Второе означаемое, предмет которого — сама литература (как писал О. Уайльд, «Искусство никогда не выражает ничего, кроме себя самого»[48]). Независимо от того, хочет автор этого или нет, второе означаемое всегда присутствует. Самый наглядный пример — прием «текст в тексте» (mise еп abyme), но он далеко не единственный: ведь интертекстуальные связи, тропы и все остальные литературные приемы тоже участвуют в этой цепочке отражений — в рассказе, который литература ведет о самой себе.
Все серьезные эстетические споры в конце XIX века велись вокруг того, какое из этих двух направлений выбрать: имитацию жизни или авторепрезентацию литературы. Иными словами:
1) либо автор пытается спрятать второе означаемое, то есть рассказ литературы о себе самой, — это так называемые реалистические произведения;
2) либо делается попытка потеснить, хотя бы отчасти, первое означаемое, дав место приему, «лжи»: именно так поступает модернизм и особенно его самый радикальный вариант — авангард.
Любой из этих двух подходов, если не знать меры, заводит в тупик.
В какой тупик заводит первый подход, наглядно продемонстрировал Эмиль Золя, сам того не желая, в сборнике статей «Экспериментальный роман» (1880), где он объявляет войну «воображению» и защищает, как он пишет, «чувство реального». Золя отказывается от интриги, так же как и от приемов закручивания сюжета; он восхваляет упрощенность современного романа «отказ от усложненной и лживой интриги»[49]. В эту же самую ловушку (связанную с недоверием к так называемой «лжи») попался Толстой, объявивший в трактате «Что такое искусство?» (1897–1898) крестовый поход против модерна и новаторства. Кстати, его теоретические выводы во многом схожи с лозунгами Золя: отказ от интриги, которая для Толстого — синоним «лжи», требование искренности и восхваление простоты, к которой писатель стремился, но никогда, к счастью, не преуспел в своем стремлении. К счастью — потому, что в этом стремлении он обрекал литературу на молчание. В самом деле, что может быть проще молчания?
Искусство по Толстому
В незаконченной статье 1896 года Толстой писал: «Все дело искусства состоит только в том, чтобы быть понятным, чтобы сделать непонятное понятным»[50]. Эти слова достаточно полно выражают эстетическую программу великого романиста. В те годы писатель был озабочен развитием так называемого декадентского искусства. В дневнике он писал: «Думал нынче об искусстве. Это игра. И когда игра трудящихся, нормальных людей, она хороша; но когда это игра развращенных паразитов, тогда она — дурна» (2 ноября 1896 года)[51]. Эти «развращенные паразиты» — ни больше ни меньше, как Р. Вагнер, С. Малларме, М. Метерлинк, Г. Ибсен и т. д., — все, чье творчество адресовано, словами Толстого, «праздному меньшинству»[52]. Ведь искусство, по его мнению, должно быть обращено ко «всей массе трудящихся людей». Чтобы достичь своей цели, искусство должно удовлетворять двум непременным условиям, а именно:
1) выражать «чувства, которые свойственны всем людям»[53], потому что они самые благородные (например, любовь к Богу).
2) обладать ясностью и простотой, чтобы произведение было доступно как можно большему числу людей.
Поэтому задача — во «все большем и большем возвышении содержания, достижении того, что доступно всем людям» и «такая передача его, которая была бы свободна от всего лишнего, т. е. была бы как можно более ясна и проста»[54].
Толстой тут сражается как раз против второго означаемого в произведении. Это «лишнее», которое он осуждает, и есть бодлеровская «относительная составляющая, зависящая от обстоятельств», его «сладостный конвертик к божественному пирогу». Взгляды Толстого на искусство (и только на искусство!) ставят его в ряд самых антимодернистски настроенных умов того времени.
Эти идеи Толстой развил в своем гигантском трактате «Что такое искусство?», который представляет собой результат пятнадцатилетних размышлений. Эти пятнадцать лет точно совпали с тем периодом, когда повсеместно происходила модернистская «революция», против которой страстно, со всей активностью моралиста и выступает Толстой, что могло привести к трагическим результатам в области эстетики.
Толстой начинает с утверждения, что все несчастья в искусстве связаны с его отождествлением с идеей красоты, которая ведет прямиком к идее наслаждения (а это — грех!). Со всей свойственной ему иногда риторической тяжеловесностью он сравнивает искусство с пищей, которая не становится же полезной для здоровья только из-за того, что она нам нравится:
…мы никакого права не имеем предполагать, что те обеды с каенским перцем, лимбургским сыром, алкоголем и т. п., к которым мы привыкли и которые нам нравятся, составляют самую лучшую человеческую пищу.
Точно так же и красота, или то, что нам нравится, никак не может служить основанием определения искусства, и ряд предметов, доставляющих нам удовольствие, никак не может быть образцом того, чем должно быть искусство[55].
В конце концов, «чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра»[56]. Будучи в плену у морали, Толстой представляет красоту как нечто ужасное и ставит ее в один ряд с иллюзией и ложью:
С красотою же истина не имеет даже ничего общего и большею частью противоположна ей, потому что истина, большею частью разоблачая обман, разрушает иллюзию, главное условие красоты[57].
Как видим, Толстой отрицает все, что эпоха модерна возвела в ранг принципов искусства. По его мнению, настоящее искусство должно быть простым, оно «не нуждается в украшениях, как жена любящего мужа», а «поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда изукрашено»[58].
Все это рассуждение Толстого строится на устаревшем противопоставлении формы и содержания. Для него усложнение формы означает обеднение содержания.
Что же такое тогда «настоящее искусство» по Толстому?
Определяя его, он уточняет, что искусство — «не средство наслаждения», а «одно из условий человеческой жизни», и приходит к выводу, что «искусство есть одно из средств общения людей между собой»[59]. Предмет этого общения — чувство, эмоция, которая обязательно восходит к чувству религиозному. Так получается, что религиозное чувство — антитеза красоты, приравненной к наслаждению.
Бинарная манихейская мораль Толстого на самом деле очень проста. О том, что из нее следует в области эстетики, мы еще поговорим, но уже сейчас видно, что эти следствия, как сказано выше, катастрофичны. Тип искусства, который предлагает Толстой, предполагает непосредственное восприятие его «всем народом» (подразумевается, что он является носителем того «религиозного сознания», которое «высшие классы» утратили): «хорошее искусство всегда понятно всем»[60], оно должно быть доступно «и русскому мужику, и китайцу, и африканцу, и ребенку, и старому, и образованному, и необразованному»[61], и по этой причине «песня баб была настоящее искусство <…>. 101-я же соната Бетховена была только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и поэтому ничем не заражающая»[62]. (Вообще-то причина, по которой Бетховен не мог уже создать настоящего искусства, просто в том, что он оглох![63]) Да уж, невеселые дела… Однако интересно посмотреть, к чему эта эстетическая программа ведет в области литературы.
Тут Толстой объявляет войну приемам, которые управляют созданием предмета искусства. Таких приемов, считает он, четыре:
1) Первый, «заимствование», состоит в том, чтобы «заимствовать из прежних произведений искусства или целые сюжеты, или только отдельные черты прежних, всем известных поэтических произведений и так переделывать их, чтобы они с некоторыми добавлениями представляли нечто новое»[64] — что разрушает их цельность (пример: «Фауст» Гёте!).
2) Второй, «подражательность», — в литературе выражается в чрезмерно детальных описаниях внешности или отношений персонажей, как и ситуаций, в которые они попадают. (Камешек в огород реализма.)
3) Третий прием — стремление удивить, «поразительность» (ужасы, контрасты…; таким образом в литературе — эффект, в том числе и физический, произведенный на читателя, например, описанием, образом или любым другим приемом, нацеленным на то, чтобы поразить воображение!).
4) И наконец, последнее — «занимательность», самое очевидное ее проявление в прозе — «запутанная завязка» (plot).
Тут мы видим, как Толстой обрушивается и на интертекстуальные связи, и в целом на стилистику, и, в частности, на приемы, связанные с закручиванием интриги (как Золя).
Эти эстетические теории Толстого оказали некоторое влияние на его последующее творчество. Его идеи пропитаны морализмом, и сквозь эту призму искусство, как его понимали в эпоху модерна (а потом, вслед за ней, и весь XX век), представляется настоящим грехом, вроде плотской любви (напомним, Толстой сравнивает усложнение формы с украшениями проститутки). Но вот что забавно: как Толстой-человек поддавался искушению и ухлестывал за горничными, так и Толстой-писатель предавался греху литературы: в «Исповеди» он называет это «соблазн писательства»[65]. Его система работала все-таки более умозрительно, нежели практически, что и естественно, поскольку она предполагала ни больше ни меньше, как уход от литературы.
В подтверждение мы хотим привести два особенно ярких примера того, как Толстого удается поймать на месте «литературного преступления». Они взяты из повести «Смерть Ивана Ильича», написанной в 1886 году, то есть после двух больших романов и незадолго до «Крейцеровой сонаты» (которая как раз отстаивает целомудрие), уже в период его раздумий об искусстве. Все знают эту знаменитую повесть об агонии человека, который на пороге смерти чувствует отвращение ко лжи, окутавшей всех, кто его окружал и на службе и в семье, — ко лжи, которая была двигателем его карьеры в Судебной палате. Эта вселенская ложь — главная тема повести, и Иван Ильич перед смертью осознает ее масштабы.
Все это вещи известные. А интересно здесь то, что именно из-за смешивания у Толстого морали и эстетики его повесть ставит своей целью уничтожить «ложь» в литературе.
Раскрыв в заглавии и уже в первых строках развязку событий, которые он собирается рассказать, Толстой пытается избежать четвертого недостатка, за который он клеймит «фальшивое искусство», — «занимательности». Он не хочет, чтобы читатель отвлекался на прием из-за намеренной задержки повествования, и надеялся, что «герой» как-то из всего этого выпутается, — читатель, по замыслу Толстого, должен сосредоточиться на морали, которая заключена в повести. Это прямой выпад против приемов закручивания сюжета, ставших классическими, например, для жанра приключенческого романа.
Но тут Толстой сталкивается с непреодолимым противоречием. Выходит, что таким образом он помещает развязку в начало текста, то есть использует прием, и в результате, даже если фабула крайне незатейлива, писатель преобразовал ее в сюжет, то есть создал произведение искусства; уточним, что мы используем эти термины в том смысле, который под ними подразумевали формалисты — фабула представляет собой события в их хронологическом развитии (Иван Ильич продвигается по службе, заболевает, умирает), а сюжет — их художественную реорганизацию (Иван Ильич умер, потом мы возвращаемся назад, к событиям, которые происходили до его смерти).
Но есть тут и другой прием, противоречащий принципам, которые Толстой утверждает в трактате «Что такое искусство?», причем он действует на всем пространстве повести — это прием остранения, состоящий в том, чтобы отодвинуть от нас, «остраннить» описываемый предмет, чтобы его лучше увидели. Известно, что первым остранение описал Шкловский[66]. Парадокс состоит в том, что именно из произведения Толстого Шкловский выбрал самый наглядный пример использования этого приема: в повести «Холстомер» (тоже поздней, 1886 года) мы видим общество глазами лошади, существа, которому незнакома обычная для этого общества система взглядов, и поэтому она смотрит на общество с нейтральной точки зрения (вспомним также «Простодушного» Вольтера, всех добрых дикарей в литературе, а также Гулливера и т. д.).
Прием остранения Толстой использует постоянно: это, конечно, описание оперы в «Войне и мире», и описание сражений, и сцена церковной службы в романе «Воскресение» (1899). В «Смерти Ивана Ильича», где мы видим русское общество глазами умирающего человека, все ценности которого были перевернуты болезнью и неизбежностью смерти, обнаруживается, несомненно, тот же прием. Однако остранение связано еще с одним из четырех грехов, которые Толстой бичует в трактате «Что такое искусство?», — с «поразительностью». Несомненно, представляя описываемый предмет странным, писатель играет на контрасте, у которого нет другой цели, кроме как поразить, даже если (как считал про себя Толстой) его задача — поучительность, потому что, как мы видим, остранение особенно хорошо работает в сатирическом жанре.
Можно сказать, что Толстой, стремясь изгнать из литературы такие фундаментальные принципы, как «занимательность» или «запутанная завязка», подписывает ей смертный приговор, поскольку, как писал Шкловский (хоть и в форме гипотезы), «ост-ранение есть почти везде, где есть образ»[67], стало быть — прием. И действительно, остранить — это отстраниться, установить дистанцию, и эта дистанция присутствует во всех приемах: литература устанавливает ее, чтобы задаться вопросом о своей собственной природе.
Примеры, которые мы привели, позволяют сказать: трактат «Что такое искусство?» в какой-то степени являет собой поединок Толстого с Толстым! И его поздние произведения в чем-то сродни беременности его жены — по Москве ползли слухи, что ее начало (то бишь грех) восходило ко времени написания «Крейцеровой сонаты».
Набоков очень точно подметил это главное противоречие у Толстого, который «твердо решил, что если когда-нибудь и возьмется за перо после великих грехов своих зрелых лет, „Войны и мира“ и „Анны Карениной“, то будет писать лишь простодушные рассказы для народа, благочестивые поучительные истории для детей, назидательные сказки и тому подобное»[68]. Набоков отмечает в «Смерти Ивана Ильича» «не вполне чистосердечные попытки такого рода», но, по его словам, «в целом побеждает художник». А потом добавляет: «Этот рассказ — самое яркое, самое совершенное и самое сложное произведение Толстого»[69]. По сути, простота, к которой стремится Толстой, противоположна самой идее искусства, и, повторяя вслед за Набоковым, «это вздор, чушь»:
Всякий великий художник сложен. Прост «Сэтердей ивнинг пост». Прост журналистский штамп. Прост «Эптон Льюис». Просты пищеварение и говорение, особенно сквернословие. Но Толстой и Мелвилл совсем не просты[70].
Толстой совершенно не справился с миссией, которую сам на себя возложил, а Набоков, восхваляя его стиль, безжалостно констатирует, что «Смерть Ивана Ильича» «предвещает русский модернизм»[71].
Важно еще подчеркнуть утопическую составляющую размышлений Толстого. Ведь произведению искусства, каким его видит Толстой, должны быть не только присущи «цельность» и «органичность», мало того, чтобы его «форма и содержание составляли одно неразрывное целое»[72]. Оно должно быть местом вселенской гармонии, единения всех людей в великом экуменическом союзе: «Содержанием искусства будущего будут только чувства, влекущие людей к единению или в настоящем соединяющие их; форма же искусства будет такая, которая была бы доступна всем людям»[73].
Систематическое смешение эстетики и морали вписывает Толстого в традицию русской утопии, и важно подчеркнуть, что это касается не только его искусства, но и жизни. Толстой намеревался создать в парадигме морали и христианских взглядов свой утопический топос искусства, в котором искренность была бы гарантом всеобщего счастья и каждый человек мгновенно понимал бы написанное. Но к несчастью, понимать в нем было бы особенно нечего.
В морализме, который пронизывает эстетические взгляды Толстого, таится серьезная угроза. А. Жуффруа очертил ее в своем послесловии к французскому изданию Толстого, где он называет писателя «предвестником» А. А. Жданова, доказывая эту точку зрения тем, что оба они задаются вопросом: кому и чему может служить искусство[74]. Он подчеркивает опасность идеи, что нужно осудить произведение, которое нам не понятно, поскольку народ его тем более не поймет (так Толстому были непонятны Бодлер, Верлен, Вагнер, Малларме, Метерлинк, Ибсен и многие другие авторы, которых он называет «развращенными паразитами»). Жуффруа слышит здесь те же нотки, что в ждановском лозунге «Литература — дело народа!». Не заходя так далеко, как Жуффруа, мы можем сказать, что угроза тоталитаризма кроется в теориях Толстого, как и в любых утопических построениях.
Заметим, между прочим, что в 1920-х годах журнал «На посту» в публикациях, пропагандирующих пролетарское искусство, базирует свою идеологическую кампанию на двух столпах: «искренности» и «простоте». Добавим сюда, что эстетические концепции постфутуристов в том виде, как их определит ЛЕФ (Левый фронт искусств), и особенно «Новый ЛЕФ», в некотором смысле созвучны утверждениям Золя и Толстого. Но к счастью, последнему не удалось осуществить свои намерения. У него обнаружился могучий противник — он сам.
Эти наблюдения показывают, что подобный дискурс «искренности», выстроенный вокруг понятия «реализм» (все еще довольно туманного), рвется вытеснить главный предмет, который литература должна в точности назвать — а именно ее саму.
Если довести этот подход до логического конца, мы просто-напросто выйдем за рамки литературы (ведь литературное произведение, которое не называет самое себя, сводится к простому отчету о событиях). Однако, как мы покажем дальше, в противоположном подходе заключена такая же опасность.
Авангард и автореференциальность: от абстракции — к молчанию
Публикация в 1913 году сборника «Помада» Крученых ознаменовала важный этап в процессе ликвидации той составляющей произведения искусства, которую мы назвали «первым означаемым». О его стихотворении «Дыр бул щыл», ставшем эмблемой кубофутуризма, в предисловии было сказано, что это «стихотворение из слов, не имеющих определенного значения»[75]. А значение имеет прямое отношение к первому означаемому. Футуристы называли «заумью» (а в живописи ей соответствует супрематизм Малевича) поэзию, освобожденную от всякой «нарративности» в широком смысле этого слова, — то есть текст, который не подчиняется требованиям горизонтального синтаксиса, и слова, из которых он состоит, не должны непременно вступать между собой в фиксированные связи. Таким образом они подпадают под определение «слова как такового» (из первых футуристских манифестов). Хлебников называл это же «самовитым словом». Все авангардные течения доводят эту идею до логического конца, в результате, как предел абстракции, возникает «беспредметность», или, как позже обозначит ее Туфанов, «безобразность». В результате единственная ощутимая реальность в абстрактной поэзии, вроде стихотворения Крученых, единственная названная в них вещь — это само стихотворение. Если пользоваться устаревшими категориями, содержание изгнано, осталась одна лишь форма, та самая ложь, которую почитает Оскар Уайльд и на которую обрушивается автор «Войны и мира».
Можно сказать, что, придумав фонетическую поэзию, Крученых (а вслед за ним Г. Балль со своими Lautgedichte[76] и многие другие) доводит модернистский проект до крайности: он становится создателем мира автономного и, само собой, автореференциального, потому что, как он говорит в знаменитой «Декларации слова как такового» (1913), «новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот»[77]. По сути, Крученых хотел свести к минимуму антиномию мысль/речь, поскольку «мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее»[78]. Опять процедура ровно та же, какая проявляется в живописи: читая теоретические трактаты Малевича, мы понимаем, что отказ от предмета или сюжета (первого означаемого) обусловлен онтологической необходимостью добиться новой чистоты, чистоты, присущей целому мирозданию, заключенному в каждом новом и независимом предмете.
Но модернизм, который стремится, оттолкнув полностью первое «нарративное» содержание, довести до конца эксперимент с формой и требует от нее, чтобы она прежде всего отсылала к самой себе, а уж потом, по правилам некой, как минимум, туманной метафизики, к какой-то гипотетической Целостности, — тоже заходит в тупик. Мы не хотим сказать, что абстрактное искусство, которое развилось из принципов, заложенных импрессионистами и подхваченных потом кубистами, ничего не дало, совсем наоборот (несмотря на то, что оно по достаточно понятным причинам оставило более яркий след в живописи, чем в литературе). Но радикализация эстетических идей, которая проявилась в этой области, показала, что, когда эти взгляды доводились до крайности, произведение, созданное на их основе, выходило в некое утопическое пространство, ограниченное пространство их собственной реальности. В книге «История утопии в России» Л. Геллер и М. Никё говорят об этом явлении, верно констатируя, что модернизм «привел к фундаментальным изменениям в утопических идеях», — имеется в виду, что «он переводит утопизм из области представленного содержания в область творческой деятельности как таковой»: «представитель символизма объявляет себя ни больше ни меньше, как демиургом, творцом миров, или, скорее, „теургом“, создателем мифов и религий»[79]. Авангард присвоил этот процесс создания новых миров. В эстетическом плане это означало построение системы, откуда было полностью изгнано первое означаемое, причем автономность этой системы впрямую рассматривалась как гарантия ее способности выразить мир во всей полноте. Другими словами, ложь вот-вот должна была стать правдивостью.
Но всякий эксперимент имеет пределы.
В том же году, что и «Помада», вышла маленькая книжечка эгофутуриста Василиска Гнедова «Смерть искусству»[80], и это название заявляет некую программу, даже если под «искусством» тут понимается искусство традиционное, то есть плохое, которое предшествовало публикации этой брошюры. Она состоит из 15 «поэм» (в полновесном смысле этого слова в русском языке), но, вопреки заявленной форме, их длина не превосходит одной строчки, а в двух случаях вообще сводится к единственной букве; таким образом, эта книга становится высшей точкой на пути радикализации модернистской мысли: первое означаемое полностью отсутствует, автореференциальность максимальна. Ставшая знаменитой поэма 14 состоит из единственной буквы: «Ю». Разумеется, «ю» — предпоследняя буква алфавита, записанная в виде предпоследней поэмы сборника, — наводит на мысль о следующей букве: «я», которая, с одной стороны, занимает в алфавите последнее место, а с другой, означает то самое «я», которого мы вправе ожидать в тексте настоящего эгофутуриста. Это «я», между прочим, одновременно и автореференциально, и вписывает автономного индивида в великое Целое. Но это уже из области философии (связанной, заметим, с «нарративностью»). В интересующей нас перспективе «поэма» Гнедова поднимает другую более важную проблему — что именно называет такое произведение; другими словами, вопрос о месте этого произведения в том, что мы называем (пока еще) литературой.
Итак, мы уже знаем, что предпоследняя поэма «Смерти искусству» — «Ю». Но последняя поэма — не «Я». Она состоит из одного лишь названия «Поэма конца». Больше ничего нет — поэма уходит в полную афонию. Эта афония к тому же перформативна, потому что название, предвещающее конец, ведет к молчанию, хотя это молчание «декламировалось»: поэт В. Пяст вспоминал в 1929 году, что «слов <поэма> не имела и вся состояла из одного жеста руки, быстро поднимаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок», выписывая «нечто вроде крюка»[81].
Конечно, можно сказать, как это и делает С. Сигей в предисловии к переизданию стихотворений Гнедова, что мы находимся здесь «у истоков современного синтетического искусства»[82]. Тем не менее, вступая в эту вне-словесную область, мы меняем род искусства (на танец или театр). И. В. Игнатьев, поэт-эгофутурист, который подписал предисловие-воззвание к «Смерти искусству», объявил, что «в последней поэме этой книги Василиск Гнедов Ничем говорит целое Что»[83]. Но немного тревожит дополнение, которое он делает о том, что дальнейший путь литературы — «Безмолвие»… Это безмолвие, конечно, называет нечто, но это нечто все больше походит на пустоту. Будучи образцовой автореференциальной системой, оно угрожает проявить в конце концов одно-единственное свойство — неспособность к высказыванию.
Можно сказать, что, если бы литература пошла за Толстым или за Гнедовым, нам было бы теперь особенно нечего читать.
Абсурд: автореференциальный крик
Перед тем как двинуться дальше, повторим, что автореференциальность является, несмотря ни на что, фундаментальной чертой литературы, которая в большой степени представляет собой высказывание о себе самой. Без этого автореференциального измерения она попросту не была бы уже литературой. Руководствуясь этой идеей, мы можем оценить какой угодно текст какой угодно эпохи на предмет его новизны. Маленького примера из Гоголя будет достаточно, чтобы это доказать (в чем, кстати, нет ничего неожиданного, ведь Гоголь, безусловно, из тех классиков, новизна которых проявляется наиболее остро). Рассказ Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» начинается словами: «С этой историей случилась история». В этом высказывании первое вхождение слова «история» отсылает к первому означаемому, то есть к тому, что нам собираются рассказать о Шпоньке (или, скорее, попробовать рассказать, поскольку повествование получается, как минимум, хаотичное), а второе вхождение отсылает ко второму означаемому, то есть к истории самого текста, и если внимательно прочитать этот небольшой рассказ, который внезапно обрывается из-за того, что у повествователя нет последних листков, понимаешь, что его сюжет — не столько Шпонька, сколько сама литература и средства, которые есть в ее распоряжении.
Явление, которое мы наблюдаем в начале XX века, представляет собой не что иное, как усиление свойства, присущего всякому литературному начинанию: нападки на «миметическую иллюзию», как и великая утопическая идея «слова как такового», повлекли за собой возможность сведения к нулю пространства называемого и, как следствие, словесного элемента, которому полагалось его называть. Иначе говоря, если «Ю» еще представляло собой «нечто» — пусть это был только звук и, возможно, даже одна из тех «чистых форм», о которых мечтал Малевич, — то последовавшее дальше молчание стало свидетельством некоторой метафизической пустоты, последствия которой будут весьма ощутимы в XX веке. Ее выражением станут, например, первые ростки течения, которое можно (хоть и не без осторожности) назвать абсурдом. Даниил Хармс, который болезненно перенес это крушение утопических мечтаний авангарда, не подозревал, насколько он точно подметил в записных книжках: «Чистота близка к пустоте»[84]. И близость тут была не только фонетической.
В малых текстах тридцатых годов Хармс ставит перед собой задачу (в дополнение к другим, например к изображению кошмарного быта) — назвать эту угрожающую пустоту. Его ключевой текст «Голубая тетрадь № 10» (1937) — именно об этом:
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что не понятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить[85].
Каждый элемент этого текста — попытка назвать часть несуществующего персонажа, так что читатель задается вопросом, о чем вообще в нем говорится. Это цепочка маленьких «ю», которые стремятся стать речью, но эта речь замкнута на себя саму. И хотя угроза молчания (пустоты) здесь ощущается, надо признать, что, несмотря на это, перед нами — текст. Однако встает вопрос: текст о чем? Ответ же возвращает нас к изначальному постулату: это текст о тексте.
Многие тексты Хармса устроены по тому же принципу, что и «Голубая тетрадь № 10». Как мы уже имели возможность показать[86], эти «рассказы» очень часто представляют собой набор из начал нескольких текстов. Как будто автор пытается двигаться от нуля, в котором он запутался, к единице, (к существованию) которая остается недостижимой. Как будто время превратилось в пространство, а само пространство к тому же еще и сводится почти что к пустоте. Минималистская миниатюра «Встреча» (без даты) дает хороший пример этого процесса:
Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси.
Вот, собственно, и все[87].
Здесь мы имеем дело с отсутствием события, скрытым под внешней формой вполне классического начала повествования «Вот однажды…». Используя термин, который иронически используется Хармсом в его эстетической системе, — «симфония», можно сказать, что это скопление маленьких «встреч», начал повествования, которым не удается обрести статус повествования, составляя тем самым хаотическую картину мира. Многие его тексты построены по этим же законам, например: «Начало очень хорошего летнего дня», которому дан подзаголовок «симфония» (симфония, представляющая собой сопоставление в пространстве начал нескольких событий), «Синфония <так!> № 2» (в которой повествования резко обрываются, следуя друг за другом без всякой связи), «Случаи» (где персонажи умирают, едва появившись в текстовом пространстве) и многие другие. Не без интереса замечаешь, что в некоторых текстах каждый фрагмент «симфонии» пронумерован, и это можно понять как другой тип авторефлексии текста, или, иначе говоря, «мета-повествование». Это применимо к таким текстам, как «Связь», «Пять неоконченных повествований», название которого само по себе весьма красноречиво. Все они представляют собой безнадежные попытки повествования обрести существование, но каждая такая попытка оказывается отброшена к нулевой точке несуществования, от которой она пыталась удалиться, до такой степени, что нам ничего не рассказывают, потому что рассказывать-то нечего.
Это размышление позволяет объяснить, почему «Голубая тетрадь № 10» становится эмблемой такого рода поэтики: нет больше предмета, нет фабулы, нет сюжета и т. д. Но вот, именно когда кажется, что уже на самом деле ничего нет, можно заметить то, что осталось: сам текст!
О. Буренина точно подметила эту тенденцию абсурда — развивать «совокупность практически автономных микросюжетов», результатом чего становится некая отсылка к себе, которую исследовательница назвала «автосемантичность»[88]. И в самом деле, можно увидеть, что это сведение повествования к нулю порождает новое пространство — пространство самого текста. И именно по этой причине текст будет искать в самом себе средства восстановить причинно-следственные связи, которых уже нет в описываемой реальности. Можно сказать, что текст изобретает некую «автомотивировку», поскольку никакой другой нет. Вот пример, иллюстрирующий наше утверждение:
Однажды Петя Гвоздиков ходил по квартире. Ему было очень скучно. Он поднял с пола какую-то бумажку, которую обронила прислуга. Бумажка оказалась обрывком газеты. Это было неинтересно. Петя попробовал поймать кошку, но кошка забралась под шкап. Петя сходил в прихожую за зонтиком, чтобы зонтиком выгнать кошку из-под шкапа. Но когда Петя вернулся, то кошки уже под шкапом не было. Петя поискал кошку под диваном и за сундуком, но кошки нигде не нашёл, зато за сундуком Петя нашёл молоток. Петя взял молоток и стал думать, что бы им такое сделать. Петя постучал молотком по полу, но это было скучно. Тут Петя вспомнил, что в прихожей на стуле стоит коробочка с гвоздями. Петя пошёл в прихожую, выбрал в коробочке несколько гвоздей, которые были подлиннее, и стал думать, куда бы их забить. Если была бы кошка, то конечно было бы интересно прибить кошку гвоздём за ухо к двери, а хвостом к порогу. Но кошки не было. Петя увидел рояль. И вот от скуки Петя подошёл и вбил три гвоздя в крышку рояля[89].
Хоть текст и начинается с традиционного «Однажды…», предвещающего повествование, в нем не создается никакой фабулы, то ли потому, что все это не интересно, то ли из-за вялого характера героя или из-за непоследовательности, толкающей его к действиям, которые можно назвать абсурдными (в общепринятом смысле слова). Поэтому данный текст тоже можно рассматривать как скопление начал повествований, хотя в каждом из них идет речь об одном и том же персонаже. Зато сам текст, на фонетическом уровне, создает тесную связь между героем — Гвоздиковым — и единственным действием, которое ему удается довести до конца, тоже, разумеется, абсурдным — вбиванием гвоздей в рояль. Конечно, этот прием далеко не нов: вспомним хотя бы гоголевского Пирогова из «Невского проспекта», который утешается после неудачи в любовных делах, съев два слоеных пирожка, да и многие другие «словесные маски» (выражение Б. М. Эйхенбаума), которыми изобилует наследие классика. Однако текст Хармса представляет собой нечто принципиально новое. В нем нет практически ничего, кроме определенной экзистенциальной пустоты. Автореференциальность берет верх над всем остальным: уничтожив все элементы, благодаря которым повествование становится повествованием, Хармс в результате рассказывает о чем-то другом, а именно: о том, как он написал текст, который мы читаем. Именно по этой причине в текстах Хармса всегда обнажается процесс повествования. Здесь мы имели дело с использованием ономастики, но это лишь один небольшой пример. По сути, в так называемых абсурдных текстах задействованы все поэтические категории[90], и выходит, что рассказы Хармса передают не историю персонажа и связанные с ним события, а историю самого текста; предмет повествования сдвигается с фабулы, которая, как мы видели, не может осуществиться, — к «истории истории» («С этой историей случилась история»), то есть от повествования к метаповествованию, и второе иногда полностью вытесняет первое.
Можно заключить, что идея этой совершенной автореференциальности, стоявшая в программе исторического авангарда (а также, очевидно, хотя и в меньшей степени, модернизма в целом), подходит под определение «чисто синтаксического номинализма, исключающего всякое требование смысла вне рассматриваемой системы знаков»[91]. Она была вписана в «Черный квадрат» Малевича, в заумь Хлебникова и Крученых, за которыми в 1920-е годы последовали «фоническая музыка» и ритмика Туфанова. Но то было время, когда люди считали, что автореференциальность может стать выражением мира во всей его полноте. Потом утопические мечты исторического авангарда пошли прахом, и на смену той Целостности, которую они стремились выразить с помощью речи, пришла фрагментированность мира, дробящегося в пустоту. Того мира, который речь, тоже, в свою очередь, фрагментированная, могла изобразить лишь в тщетных попытках разложиться на составляющие, из-за чего превращалась, как было и раньше, в «безрассудное молчание» (Камю), с которым сталкивается человек абсурда.
Складывается впечатление, которое мы позволим себе высказать на правах гипотезы, что знаки, предвещавшие это крушение, ощущались задолго до него самого, возможно, даже с появления «Поэмы конца» Гнедова, то есть с самого начала. И пожалуй, именно для того, чтобы избежать молчания, которое должно было стать совершенным выражением этой автореференциальности, — но обнаружило его неспособность назвать что бы то ни было, кроме пустоты, — литература и испустила свой крик, бесспорно автореференциальный, но выразивший, кроме того, сознание человека абсурда.
Буквы на снегу, или Встреча двух означаемых в глухом лесу
(«Отчаяние» В. Набокова)[*]
В начале XX столетия особенно ярко вспыхнула борьба представителей модернизма против устарелых «реалистов», однако не надо забывать, что речь идет здесь не о простом межпоколенческом конфликте, а скорее о двух постоянных и противоположных тенденциях в развитии литературы, которые просто достигли предельного накала накануне Первой мировой войны. Произошедшая тогда эстетическая революция показала главным образом, что дальше идти по каждому из этих путей — некуда.
Как было сказано в предыдущей главе, эти две тенденции можно схематически и довольно грубо свести к следующему:
• Реализм, традиция которого пропагандирует преимущество содержания над формой. Крайние позиции в этом направлении, особенно в периоды сильного идеологического давления, считают внимание к форме, стилистике чуть ли не диверсией (от «направленности») или в случае Толстого — грехом.
• Модернизм, и это наверняка самое главное изобретение его, отказался от этого разделения между формой и содержанием, считая первую частью второго. Крайнее выражение этого подхода — когда произведение искусства изображает исключительно само себя (абстракция).
Мы также убедились, что в каждом произведении есть два означаемых: первое, непосредственное, — относится к рассказанному содержанию (фабула, факты, описания, психология, социология и т. д.), а второе, вторичное, — к дискурсу о тексте. В случае повествовательного текста можно сказать, что первое значение произведения связано с нарративным дискурсом, а второе — с метанарративным. Без этого второго значения, от которого яростно (и бессмысленно) отказывался Толстой, нет искусства вообще. С другой стороны, доведенные до крайности позиции модернизма (Крученых, Гнедов) тоже заходят в тупик. Нужно было найти некое равновесие. И тут появился Владимир Набоков, который исторически занимает важнейшее место в противостоянии «реалистов» и «модернистов».
Если подойти к творчеству Набокова с точки зрения вышеупомянутых категорий, то можно сказать, что его романы являются своеобразным синтезом этих двух направлений. Набоков как бы помирил (хотя и пародийно) изобретения модернизма с «традицией» и этим самым создал новый тип романа, где достигается абсолютное равновесие между Означаемым 1 (нарративом) и Означаемым 2 (метанарративом). Это равновесие встречается во всех романах писателя, даже в первых так называемых «романах памяти» о России, а также в произведениях автобиографического характера[93]. Возьмем, к примеру, финал «Машеньки» (1926): Ганин видит стройку, но мы понимаем, что недостроенный дом, на котором «в утреннем небе синели фигуры рабочих», становится метафорой книги со своим «переплетом» («Он видел желтый, деревянный переплет — скелет крыши, — кое-где уже заполненный черепицей»)[94]. Здесь два значения слова «переплет» на равных правах: архитектурный элемент крыши дома буквально переплетается с элементом оформления книги (тем более что каждая плитка черепицы похожа «на большую книгу»). Здесь план Означаемого 1 — роман с Машенькой — сливается с планом Означаемого 2 — роман о романе с Машенькой. И когда Ганин смотрит «на легкое небо, на сквозную крышу» и понимает «с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда»[95], то мы понимаем, что слово «роман» в этом предложении также употребляется в двух значениях: любовная история с Машенькой (нарратив) и литературный жанр (метанарратив)… и то и другое «кончилось навсегда».
Видно, что с самых ранних лет Набоков определяет главную свою эстетическую задачу: рассказать в произведении о том, как оно создается. Эта задача особенно ясно будет выражена в первом его крупном шедевре «Защита Лужина» (1929), а также во всех последующих произведениях, вплоть до романов «Ада» (1969) и «Смотри на арлекинов» (1974). При этом если оставить в стороне последний роман, написанный Набоковым по-русски, «Дар» (1937–1938), то среди написанных им до перехода на английский язык «Отчаяние» (1934) представляет собой, наверное, самый лучший пример автореференциальности, или метанарративности, а также соединения двух планов построения романа, что станет впоследствии одной из основных характеристик второго, американского, периода его творческого пути («Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), «Бледный огонь» (1962), «Лолита» (1965) и др.). С одной стороны, он осуществляет совершенную mise еп abyme, поскольку роман рассказывает о себе (признак модернизма), а с другой — рассказывает о некоторых событиях детективного характера (признак некой традиции). Поэтому трудно согласиться с биографом писателя Брайаном Бойдом, который пишет, что «при всей легкости его стиля, в композиции романа есть досадные слабости»[96].
В исторической перспективе небезынтересно напомнить наконец, что «Отчаяние» было написано в 1932 году и опубликовано два года спустя (1934) в парижском журнале «Современные записки» — две даты крайне символичные и очень много значащие в истории русской литературы[97]. 1932-й — это год окончательной ликвидации самостоятельных литературных групп, значит, почти официальный «конец русского авангарда», а также год принятия решения о создании Союза советских писателей. 1934-й — год Первого съезда этого Союза и провозглашения социалистического реализма, т. е. возвращения, по существу, к тем эстетическим нормам XIX века, против которых модернизм боролся. Поэтому явно показателен тот факт, что именно в эти годы, за несколько лет до написания «Дара», был сочинен роман, который явился синтезом двух проанализированных противоположных тенденций и поэтому стал ключевым звеном в «эпилоге русского модернизма»[98], или же тем «Рубиконом, который разделяет классическую и модернистскую модели нарратива»[99].
Фабула как метафора сюжета
Напомним основные события, описанные в романе.
Главный герой и рассказчик Герман Карлович, коммерсант, который торгует шоколадом, натыкается однажды на спящего немецкого бродягу, некоего Феликса из Цвикау, который кажется ему совершенным его двойником. Отсюда возникает идея заманить бродягу в лес, убить его, а затем переодеть в свою одежду с целью обмануть страховую компанию. После этого совершённого убийства, его жена Лида сможет получить крупную страховку на жизнь и приедет во Францию, где будет прятаться в ожидании новой жизни. Продумав все детали, он приступает к осуществлению своего плана и 9 марта в лесу убивает своего бедного двойника. Все идет как по маслу, и, оказавшись во Франции в городе Икс, он собирается исчезнуть. Однако, читая газеты, Герман узнает, что полиция уже напала на его след и что она пока не знает только личность жертвы: «помню, однако, что сразу понял две вещи: знают, кто убил, и не знают, кто жертва»[100]. Значит, план, который Герман задумал как произведение искусства, как настоящий шедевр, потерпел полный крах. Причина этой неудачи заключается в том, что он абсолютно не похож на Феликса: сходство оказалось иллюзией. В конце романа Герман ждет в своем номере неминуемого ареста.
Это краткое изложение представляет собой первый уровень романа, то, что формалисты называют фабулой, то есть простое хронологическое изложение событий. Мы назвали это «Означаемое 1» или нарративное содержание.
Теперь переходим к «Означаемому 2», или метанарративному содержанию. Дело в том, что Герман отказывается от идеи, что он жертва иллюзии, и обвиняет полицию в непризнании его гениальности:
Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало, меня: ни звука о сходстве, — сходство не только не оценивалось (ну, сказали бы, по крайней мере, да, превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то приметам это не он), но вообще не упоминалось вовсе, — выходило так, что человек совершенно другого вида, чем я <…>
Едва ли не загодя решив, что найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее исключив априори возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет видеть), полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть на меня не похожего. Глупость и явная пристрастность этого рассуждения уморительны. Основываясь на нем, они усомнились в моих умственных способностях.
В ярости от этого непризнания, Герман решает изложить все происшедшее на бумаге, так что мы читаем не только рассказ об убийстве и довольно банальном жульничестве со страховкой[101], но и рассказ о том, как пишется роман, который мы держим в руках:
Принимаю с горечью и презрением самый факт непризнания <…> и продолжаю верить в безупречность. <…> Я утверждаю, что все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вот, для того чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание сего труда.
Очевидно, если вспомнить гоголевскую формулировку, что «с этой историей случилась история», — mise еп abyme довольно обычна. Но это еще не все. Описанные последние события происходят в десятой, предпоследней главе, а несходство Германа и его жертвы — это только одна из ошибок Германа. В последней главе мы узнаем, что он переселился в другое место, потому что полиция наконец нашла машину и в ней улику, позволившую определить личность убитого. Чтобы узнать, о каком предмете идет речь, Герман перечитывает все им написанное за последнюю неделю, т. е. первые десять глав рукописи:
Ища способа развлечься от расплывчатых, невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони, игриво сказал «ого!» и решил, прежде чем дописать последние строки, все перечесть сначала.
Это потрясающая ситуация: Герман теперь не только главный герой и повествователь, но даже и читатель собственного произведения! Он будет разыскивать ошибку, которую допустил, которую мы, читатели, должны были бы, подобно полиции, найти и которую мы, конечно, не увидели по причинам, выясняющимся позже. Начинается отрывок, где Герман перечитывает свою рукопись и доходит до места, где он обнаруживает «ошибку» в фабуле:
«…Садись [в машину], скорее, нам нужно отъехать отсюда».
«Куда?» — любопытствовал он.
«Вон в тот лес».
«Туда?» — спросил он и указал…
Палкой, читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней именем: Феликс такой-то из Цвикау.
И эту палку он оставил в машине. В конце перечтения текста mise еп abyme еще усиливается тем, что рождается заглавие всего романа: «Отчаяние».
После этого отрывка роман близится к концу, и на нескольких оставшихся страницах повествования мы узнаем, что Герман получает письмо от Ардалиона — двоюродного брата его жены и ее любовника (об этом знают все, кроме самого Германа). Из письма понятно, что его жена уже все рассказала. Это, кстати говоря, еще одна ошибка Германа: он самодоволен до такой степени, что не допускает мысли, будто Ардалион, которого он презирает, может стать чьим-то любовником, или вообще что жена-дура может ему (гению!) изменить. Но это другой вопрос (не будем здесь рассуждать о толкованиях критиков, которые считают, что Герман подсознательно устраивает этот план для того, чтобы избавиться от соперника — этот сугубо психоаналитический подход кажется нам не очень убедительным). Интересно для нас следующее: в письме Ардалион объявляет ему, что он дурак и не понял, что никакого сходства с Феликсом нет: «…мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожих людей нет на свете и не может быть, как бы вы их ни наряжали» (523). Он упрекает Германа в «мрачной достоевщине» (к чему мы вернемся) и говорит: «Думаю, мягко говоря, что это вранье. Подлое при этом вранье…» (523). Итак, в тематическом центре романа находится понятие обмана, на котором основывается вся эстетика модерна[102] (Уайльд, Бодлер и др.) и которое является стержнем всех произведений Набокова и всех его размышлений о литературе.
Литература как обман
Обман вложен в самую сердцевину «Отчаяния» и, что особенно интересно, на обоих уровнях — нарративном и метанарративном. Ироническим образом, зная размышления Льва Толстого о правде в искусстве, можно сказать, что с этой точки зрения ситуация немножко похожа на ситуацию «Смерти Ивана Ильича», рассмотренную в предыдущей главе. Но там, где Толстой объявляет войну любому проявлению метанарративности, Набоков, наоборот, выставляет ее напоказ, — то, что формалисты называли «обнажением приема».
На уровне Означаемого 1, то есть на уровне фабулы, ложь присутствует везде, начиная с главной цели Германа: он же хочет обмануть страховую компанию. Для этого он должен врать постоянно: жене, Орловиусу, Феликсу, конечно, и т. д., то есть абсолютно всем персонажам романа, отчасти и себе. Но интересно, что с самого начала то, что преобладает на уровне фабулы, мало-помалу распространяется и на Означаемое 2, и весь процесс написания романа обусловлен этим центральным понятием — обманом. Когда Герман в начале романа излагает свою биографию, он пишет о матери, что она «княжеского рода», и чуть дальше вдруг останавливается и объявляет:
Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина — простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее, как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости.
Задан тон: все изложенное поставлено под знак сомнения. И когда он якобы говорит правду насчет матери, у читателя нет возможности проверить, что рассказчик в этот раз не врет. Мы видим, как Герман дальше придумывает очередную свою биографию для Феликса, потом еще одну для жены (которой он, по его словам, всю жизнь врал), придумывая себе брата (новую ипостась Феликса), который якобы когда-то убил кого-то и который теперь просит помочь ему совершить самоубийство, чтобы деньги от страховки достались ему (Герману). Герман здесь придумывает новый роман, похожий на тот, который мы читаем и в котором он опять играет роли действующего лица и рассказчика. В его рассказе Лиде показателен момент, когда он говорит: «…вообрази, что все, что я тебе рассказываю — выдуманная история. Я сам, знаешь, внушил себе, что это сплошь выдуманная история, — единственный способ не сойти от ужаса с ума» (484). Речь здесь идет о роли рассказчика. А когда дальше она ночью просыпается и спрашивает его: «…а ты не думаешь, что это… жульничество?», он просто отвечает: «Спи» (488).
Поэтому важно подчеркнуть: самое главное заключается именно в том, что Герман врет не только в качестве главного действующего лица романа (Означаемое 1), но и в качестве рассказчика этого романа (Означаемое 2). Здесь явное обнажение приема: показано, что автор имеет право манипулировать своими персонажами (а крайняя точка этой манипуляции — убийство, хороший способ выгнать персонаж из текстового пространства). И эта манипуляция начинается с их биографии или, в случае Ich-Erzählung, с автобиографии: как только Герман произносит слово «я», начинается ложь[103].
Обман, который представляет собой любое произведение искусства, выставлен напоказ с первых строк романа. Отсюда многочисленные приемы (тоже обнаженные), как, например: замена рассказчика, точки зрения или фокализации; изложение несостоявшихся событий (и признание в этом очередном обмане); изложение некоторых возможных вариантов последующих событий, как в начале третьей главы: «Как мы начнем главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов» (422). Опять-таки mise еп abyme здесь очевидна, и речь дальше идет о самой сути повествовательной техники. Герман отказывается от первого, классического характера, варианта якобы из-за того, что он «неправдив»:
Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив.
Таких «автокомментариев» — множество. Они не всегда выполняют такую важную структурную роль, как в предыдущей цитате. Например:
Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повествовательность первых двух слов и затем — длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана. Но это так — между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется, рассказ мой тронулся…
Эти автокомментарии усиливают ощущение, что мы присутствуем и даже участвуем (ведь Герман все время обращается к читателю) в процессе написания книги, и, значит, усиливают «ощущение формы» и рефлексивности этой формы.
Становится ясной цель романа Набокова и, обобщая, всего его творчества. Речь идет о колоссальной попытке смешать оба возможных уровня восприятия. Если взять главные темы романа, то есть двойника, обмана и преступления, то мы видим, что их значения систематически относятся одновременно и к тематике, и к формальным приемам: план убийства Феликса становится построением романа о Феликсе; мотив зеркала становится метафорой автореференциальности литературного произведения; наконец, вранье Германа становится метафорой писательского кредо самого Набокова — что «всякое произведение искусства — обман» (506). Как мы увидим дальше, эта последняя цитата из десятой главы определяет смысл всего романа.
В силу совпадения рассказанных в романе событий (Означаемое 1) с дискурсом о романе (Означаемое 2) фабула становится метафорой, причем — точной метафорой написания романа. Поэтому можно сказать, что прав Б. Вейдле, который в рецензии в берлинском альманахе «Круг» (1936) написал, что «тема творчества Сирина — само творчество»[104]. Прав был и постоянный защитник Набокова В. Ф. Ходасевич в статье «О Сирине», опубликованной в «Возрождении» (13 февраля 1936 года), утверждая, что «Отчаяние» — «один из самых лучших романов Набокова»[105], что у писателя тема творчества и творческой личности присутствует везде и что, как фокусник, писатель показывает свои приемы, «показывает лабораторию своих чудес»: «…одна из главных задач его, — пишет поэт, — именно показать, как живут и работают приемы»[106]. И дальше: «Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина»[107]. Некоторые современники поняли скрытый смысл романа Набокова.
Зато неубедительны попытки трактовать «Отчаяние» как бред самодовольного психопата, «отчаяние» которого преимущественно сексуального характера из-за боязни собственной гомосексуальности (Э. Фильд[108]); неубедительны высказывания первого русского биографа Набокова Б. М. Носика о том, что писатель «здесь решает единственно важные для него проблемы», а именно — помимо «проблемы творчества, реальности» (с чем можно только согласиться) — проблему «жизни после смерти»[109]; неубедительны, наконец, и строки, которые Б. Бойд посвящает «Отчаянию» в своей монументальной биографии писателя: американский исследователь рассматривает роман как «фантазию о преодолении собственной смерти и границ собственного „я“»[110]. Все эти рассуждения не свободны от моральных предубеждений и решительно остаются в рамках разбора на уровне Означаемого 1[111]. На самом деле «Отчаяние» представляет собой главным образом описание встречи двух означаемых произведения, и эта встреча описывается мастерским образом в десятой главе: именно в этой ключевой главе и осуществляется перемешивание планов и полное совмещение означаемых. Проследим, как это происходит.
Время 1 + время 2 = день дурака
Несколько слов о ситуации в этой предпоследней главе романа. В конце предыдущей главы Герман убил Феликса (9 марта), «и уже одиннадцатого марта очень небритый человек в черном пальтишке был за границей» (503). Значит, читатель пока не знает, что план Германа рухнул и ждет эпилога. Но, прочитав роман до конца, мы уже знаем больше, чем обычный читатель, и, следовательно, знаем о крахе и о том, что Герман написал эти главы как самооправдание и доказательство, что его план был безупречным. Надо это иметь в виду постоянно.
Здесь особую роль играет время, так как оно особо остро проявляется в обычных для любого повествования двух измерениях: фабульном (время, связанное с изложением событий, — Temps de I’histoire, Erzählte Zeit) и повествовательном (время, связанное с процессом написания романа, — Temps du récit, Erzählzeit). Легко понять, что первое относится к Означаемому 1, а второе — к Означаемому 2. Эти два типа времени в течение романа мало-помалу приближаются друг к другу. В десятой главе они сливаются. Герман убивает Феликса 9 марта; приезжает в Икс — 12-го, 13-го — переезжает в другой город, где бездельничает неделю; 19 марта во время разговора с жильцами гостиницы и чтения газеты он узнает, что полиция нашла труп 10 марта (то есть примерно десятью днями раньше и уже на следующий день после убийства). Следовательно, он пишет первые десять глав примерно с 21 по 28-е (приблизительная дата находки машины, где находится роковая палка Феликса). В конце главы он убегает, прерывая свой рассказ на полуслове, после чего снова начинает писать, наверное, 30 марта. Рассказ превращается в дневник 31 марта, а на следующий день его арестуют.
Это значит, что первые десять глав (из одиннадцати), которые можно симметрично-зеркально разделить на две группы (5+5), как это убедительно показал С. Давыдов[112], Герман написал за неделю (в начале девятой главы он говорит, что устал, потому что пишет «чуть ли не от зари до зари, по главе в сутки, а то и больше»; 492). Понятным образом, поскольку рассказ представляет собой хронологическое изложение событий в виде flash-back’a, расстояние между фабульным временем и временем повествования мало-помалу уменьшается, и, по идее, соединение этих двух временных линий должно было бы обозначить конец романа. Но в конце десятой главы, когда Герман собирается уже закончить книгу (он еще думает, что его не найдут), происходит катастрофа: открытие имени Феликса, под которым он, разумеется, прячется. Он убегает в другое место, где начинает писать о последних событиях, откладывая таким образом финал. То, что десятая глава написана приблизительно через две-три недели после преступления, имеет особое значение, потому что это момент, когда оба типа времени начинают совпадать друг с другом. И именно в этой главе мы окончательно переходим от плана фабулы, то есть истории убийства (Означаемое 1), к истории самого романа (Означаемое 2). Затем, в одиннадцатой главе, после прочтения Германом письма Ардалиона (где тот обвиняет его в «мрачной достоевщине»; 523), то есть на последних страницах романа, фабульное время и время повествования начинают совпадать до такой степени, что рассказ превращается в дневник, что является для Германа творческой неудачей: «Увы, моя повесть вырождается в дневник», — пишет он под датой «31 марта, ночью», а дневник, пишет он дальше, «самая низкая форма литературы» (525). Он пишет уже в настоящем времени: «Сейчас <…> я сижу, и вот пишу на этой клетчатой школьной бумаге, другой было здесь не найти, — и задумываюсь <…>» (526). А на следующий день (и на следующей странице) его арестовывают (как бы в «прямом эфире»!).
Здесь опять полное совпадение между нарративным моментом и метанарративным: ведь мы видим, как он также в прямом эфире пишет последние страницы романа, и слава, которой он жаждет как писатель, метафорически изображена собравшейся под его окном толпой (подобно публике в театре): «Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь» (последние слова романа; 527).
Неслучайно момент встречи фабульного времени с временем повествовательным датируется первым апреля. Стало быть, шутка, и не первая в истории литературы[113] — от даты рождения Гоголя и рассказчика «Истории Села Горюхина» Пушкина до даты самоубийства Чулкатурина из «Дневника <!> лишнего человека» И. С. Тургенева и превращения «Портрета художника в юности» именно в дневник в последней части романа Д. Джойса; не говоря уже, в рамках творчества самого Набокова, о «первоапрельской» комнате Альферова в «Машеньке» (номера в берлинском пансионе — «листочки, вырванные из старого календаря»[114]) и о первом предложении «Дара», где дата дана таким образом: «в исходе четвертого часа, первого апреля 192…», на что рассказчик объясняет: «только русские авторы — в силу оригинальной честности <!> нашей литературы — не договаривают единиц»[115]! Таким образом, все, что мы только что прочитали, — шутка, «выдуманная история» (398, 484), великий обман художественного повествования.
Воскрешение Автора
Теперь обратимся непосредственно к тексту десятой главы и проследим, каким образом дискурс о литературе мало-помалу сливается с развитием фабулы. Глава начинается ложной и демонстративной инверсией повествовательной инстанции: в первой фразе («Я с детства люблю фиалки и музыку»; 504) «я» неожиданно для читателя относится не к Герману, а к Феликсу. Начинается как бы новая автобиография («Я родился в Цвикау»[116]), написанная литературным двойником рассказчика и описывающая те же события, только с противоположной (зеркальной) точки зрения. Это он, Феликс, рассказывает, как он якобы убил «франта» Германа («Однажды мне попался франт…»). Выдумывая биографию Феликса, автор/рассказчик обнажает прием введения повествовательной инстанции: благодаря этому Герман становится как бы автором, значит, он делает то, что Набоков делает с ним. Это, конечно, не значит, что Герман пользуется абсолютной свободой, наоборот: над ним витает грозная фигура Автора, которым он никогда не станет[117].
Именно автор дальше показывает свою абсолютную свободу в манипуляции персонажами, хоть и голосом Германа. Зачином десятой главы подчеркивается одна из возможностей обмануть читателя[118]: читая первые строки, мы еще не знаем, что этот «я» — не тот «я», который писал в предыдущих главах. Это обнажение усилено в начале второго абзаца, когда Герман говорит: «Так укрепившееся отражение предъявляло свои права». А дальше: «Не я искал убежища в чужой стране, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня» (504). Этим «не я» подчеркивается условность персонажа как литературной категории. Условность эта связана с работой писателя, и здесь главная ошибка Германа — он недостаточно хорошо изучил свое создание: «Но душу Феликса я изучил весьма поверхностно — знал только схему его личности, две-три случайных черты» (505). Именно из-за этой недостаточно проделанной писательской работы произошла катастрофа: Герман решил, что Феликс похож на него, несмотря на все признаки противоположного.
На самом деле очень много признаков несходства: десны у Феликса другие («<он> улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла»; 401); зубы у него белее; он левша, тогда как Герман правша[119]; глаза немного другие; ноги больше размером; вообще Герман боится, что у Феликса тело совсем не похоже на его и т. п. Вглядываясь после убийства в паспортный снимок Феликса, Герман заявляет: «Странное дело, — Феликс на снимке был не так уж похож на меня» (503)[120]. А в десятой главе устами Феликса сказано прямо: «…франт, утверждавший, что похож на меня. Глупости, он был не похож» (504). Вопреки сказанному и тому, что он якобы сам это пишет, Герман остается при своем. Но это все на уровне Означаемого 1. Самое интересное заключается в том, что читатель верит иллюзии. Поскольку Герман занимает сильную позицию рассказчика, мы верим в то, что он говорит: «Феликс похож» — значит, похож. Во второй главе Герман прямо говорит, что собирается заставить читателя поверить в это сходство, будь оно настоящим или нет (потому, между прочим, что в произведении искусства такие вопросы не задаются):
Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю, — пускай ко мне привыкнет; я же буду тихо радоваться, что он не знает, мое ли это лицо или Феликса, — выгляну и спрячусь, — а это был не я. Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует, да, да, да, — как бы искусственно и нелепо это ни казалось.
В этом отрывке ясно звучит мысль о том, что рассказчик может сделать абсолютно все, что хочет, со своими персонажами и что вполне в его власти заставить читателя поверить любому обману: ведь мы не видим Германа и Феликса, и наше представление полностью зависит от того, что нам сообщает рассказчик. Интересно отметить, что, несмотря на обнажение приема (то есть на признание в отсутствии сходства), рядовой читатель верит, потому что он остается на уровне Означаемого 1. А реакция удивления, причем приятного удивления, связанная с открытием несходства, вызвана читательским открытием, что его обманули: в этот момент читатель, сознательно или бессознательно, открывает Означаемое 2.
Тема отношений автора со своими персонажами развивается дальше, и Герман даже удивлен послушностью своей жертвы, «податливостью этого большого мягкого истукана, когда я готовил его для казни», «послушными» его руками, он удивлен до того, что даже «дико вспомнить, как он слушался меня», вплоть до радикального объявления: «Неужто воля человека <рассказчика. — Ж.-Ф. Ж.> так могуча, что может обратить другого <персонажа. — Ж.-Ф. Ж.> в куклу». Рассказчик превращается в кукловода, а персонаж в марионетку с «покорностью безмозглого, нелепого автомата» (505), но это не помогает: Феликс из Цвикау остается непохожим. Причина кроется в том, что Герман является одновременно и кукловодом, причем довольно неудачным, но и куклой в руках какой-то невидимой высшей инстанции, о чем он даже (по замыслу той самой инстанции) не подозревает. Это не мешает ему быть, посредством своих наблюдений, как бы несознательным рупором самого Набокова, заметившим в «Твердых суждениях», говоря о свободе автора и о писательской технике: «В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность и прочность отвечаю я один»[121].
Будучи неудачным манипулятором, Герман не способен построить правильный образ своего двойника, и это объясняет его нелюбовь к зеркалам (напоминающую фобию зеркал у Дориана Грея), о которой он говорит дальше: «Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам» (505). Мотив «зеркала» и другие с ним сходные по метафорическому значению, как отражение в воде, или дальше в этом отрывке «отражение в темном стекле», или «собственная тень», изобилуют в «Отчаянии», подкрепляя не только тему «сходства», но и зеркальную структуру всего произведения. И к этому как бы пространственному раздвоению сюжета можно прибавить еще и раздвоение сюжета по линии времени, выражающееся сквозным мотивом déjà-vu — ощущение, которое постоянно охватывает (раздвоенного) Германа. Все эти лейтмотивы сопровождают центральную тему двойника[122].
Интертекст как зеркало
Ощущение déjà-vu постоянно охватывает и читателя: это связано с плотной сетью интертекстуальных ассоциаций. А интертекстуальность — один из возможных способов для литературы вести разговор «о себе». Здесь, в начале десятой главы, Герман вставляет свой рассказ в традицию всемирной литературы (тема двойника стара, как литература) и, в частности, русской литературы, цитируя фразу из «Преступления и наказания»: «„Дым, туман, струна дрожит в тумане“. Это не стишок, это из романа Достоевского „Кровь и Слюни“. Пардон, „Шульд унд Зюне“» (505). Тень автора «Преступления и наказания» («Old Dusty» в английском переводе!) витает над романом везде, намеками или реминисценциями, стилистическими оборотами (его обращение в этом отрывке к «господам» напоминает манеру речи героя «Записок из подполья»), или прямым, как здесь, упоминанием другого раздвоенного персонажа — Раскольникова, который тоже убивает за деньги «бесполезную вошь» и этим дает канву «метаромана» Набокова.
Здесь не место разбирать подробно «мрачную достоевщину» — о ней уже написано немало. Стоит только повторить, что это часть великолепной игры с литературой и зеркального построения произведения. То, что речь идет именно о литературной игре, часто не замечали критики, начиная с Ж.-П Сартра, который написал чрезвычайно грубую и не умную рецензию на перевод «Отчаяния» на французский язык, где он говорит, что все эти «трюки», «болтовня», наполняющая этот «роман-недоносок», происходят оттого, что «писатель-поскребыш», как и его герой, слишком много читал. Правда, великий экзистенциалист признает талант Набокова, но утверждает, что среди его «духовных родителей» первое место занимает Достоевский. Это уже показывает его полное непонимание писателя, тем более что он видит разницу между ними в том, что «Достоевский верил в своих героев, а Набоков в своих уже не верит». И добавляет: «…как, впрочем, и в искусство романа вообще»[123]! Сартр, как и многие другие, попадает в ловушку Набокова, застревая на уровне Означаемого 1.
А на уровне Означаемого 2 эти открытые, как в вышеописанном случае, но чаще всего скрытые литературные намеки подчеркивают указанный нами процесс создания замкнутого, автономного и рефлексивного мира повествования. Таким приемом роман смотрит на себя в зеркале русской литературы. Неслучайно эта связь с литературой подчеркивается в конце романа, когда Герман собирается перечитывать свой труд и удивляется тому, что на первой странице пока еще нет заглавия: варианты возможных заглавий[124] напоминают «Двойника» Достоевского (кстати — единственное произведение писателя, которое Набоков считает хорошим[125]), его же «Записки из подполья» (как мы уже видели, очень часто приторная и декламационная интонация Германа напоминает интонацию «парадоксалиста» Достоевского); «Записки сумасшедшего» Гоголя (тоже история раздвоения личности — только у Гоголя раздвоение, условно говоря, «настоящее»), не говоря уже о произведениях В. Я. Брюсова («В зеркале», «Зеркало теней»), Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Джойса («Портрет художника в юности»), Вл. С. Соловьева («Оправдание добра») или же, конечно, Пушкина («Опровержение на критики», «Поэт и толпа»)[126] и др. В конце концов, заглавие он найдет после перечитывания рукописи, когда поймет, что промахнулся:
Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, — и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо написал на первой странице слово «Отчаяние», — лучшего заглавия не сыскать.
Речь идет, конечно, об отчаянии перед неудавшейся манипуляцией, отчаянии творца перед неудавшимся творением, будь то преступление или произведение искусства. Здесь уже непонятно, к какому означаемому отсылает данное слово. Поэтому можно сказать, что французский перевод заглавия книги («La méprise») абсолютно неудачен, поскольку он остается на уровне Означаемого 1: «ошибка» относится к забытой в машине палке, тогда как «Отчаяние» (как и английское «Despair») относится к двум планам: отчаяние перед допущенной ошибкой и, самое главное, — перед неудачей творческого акта. Иными словами, как пишет Вейдле в вышеупомянутой рецензии, «Отчаяние» является «сложным иносказанием», «за которым кроется не отчаяние корыстного убийцы, а отчаяние творца, неспособного поверить в предмет своего творчества»[127]. Прибавим, что за этим иносказанием кроется другое иносказание (или очередной обман), поскольку мы держим в руках книгу, стало быть, она опубликована, значит, она удалась, — несмотря ни на что! Это потому, что в мире художественного произведения все дается свободнее и можно просто вычеркнуть карандашом то, что в жизни мешает достигнуть совершенного преступления и совершенного произведения.
В этом контексте можно говорить о скрытой mise еп abyme посредством обнажения приема: если рассуждать в рамках только Означаемого 2, допустимо предположение, что Герман смог запросто вычеркнуть в девятой главе ошибку с палкой, и его тогда не нашли бы (ведь он перечитывает рукопись романа, когда по идее автор может себе позволить сделать все, что хочет со своим текстом). Но он этого не делает: этим приемом показано, что у нас в руках рассказ не о неудачном преступлении с наказанием, а о том, как пишется удачный роман. Но удача, понятное дело, уже всемогущего Автора — этим объясняется фраза Германа: «Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, на мною же — нет, не мной, а диковинной моей союзницей — написанную фразу, и уже понимал, как это непоправимо» (522).
Издеваясь в начале десятой главы над «Олд Дасти», Набоков голосом своей куклы Германа отказывается от моральных аспектов проблемы. Ведь в художественном произведении это не имеет значения, Герман здесь уже не преступник, достойный, как у Достоевского, «соболезнования», а «непонятый поэт»:
Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп, жалость. Я не принимаю вашего соболезнования, — а среди вас наверное найдутся такие, что пожалеют меня, — непонятого поэта.
Мы находимся в другом плане — в плане эстетическом, и, как говорит Герман, «художник не чувствует раскаяния, даже если его произведение не понимают» (505). Зато, как мы видели, он может испытывать «отчаяние».
«Достоевщина» не совсем мрачная
Противопоставление отчаяние/раскаяние бросает новый свет на присутствие Достоевского в романе Набокова и на цитату из «Преступления и наказания»: «Дым, туман, струна дрожит в тумане». Здесь, по всей видимости, больше, чем очередное нападение на великого классика.
Во-первых, надо отметить, что цитата неточная: у Достоевского струна не «дрожит», а «звенит»[128]. Употребление этого глагола показывает цитатность у самого Достоевского, так как здесь слышны слова Поприщина в «Записках сумасшедшего» Гоголя (записанные также к концу т. н. «повести», на самом деле — дневника!): «сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане»[129]. Таким образом, пародийность, которая связывает обоих классиков, убедительно описанная в свое время Тыняновым[130], усложняется здесь новым пластом.
Во-вторых, цитата занимает подобное место в обоих романах, то есть в последней главе (у Достоевского — «части»). Как уже было упомянуто, Давыдов прекрасно показал, что тема двойника диктует симметричное деление романа Германа на две части, каждая из которых состоит из пяти глав. Эта структура подкрепляется систематическим повторением отдельных мотивов в обеих частях произведения. Одиннадцатая глава, в которой роман превращается в «самую низкую форму литературы» — в дневник, выпадает из этой структуры, поскольку Герман ее не предвидел (5+5/+1). То же происходит в романе «Преступление и наказание», который представляет собой подобную зеркальную конструкцию (3+3) с эпилогом, также выпадающим из общей структуры и принадлежащим как бы к другому жанру (3+3/+1). В этом контексте уместно обратить внимание на происходящее в середине обоих романов. У Достоевского именно в этом месте (в конце третьей части и в начале четвертой) и появляется, как в страшном сне, Свидригайлов — «двойник» Раскольникова. В середине же «Отчаяния», т. е. в конце пятой главы, в какой-то гостинице Герман спит со своим «двойником» и видит страшный сон, переполненный мотивами из мира Достоевского («На листьях виднелись подозрительные пятна, вроде слизи…»; 456), а в начале шестой описывается бунт Германа против Бога («Небытие Божье доказывается просто»; 457) — жалкая пародия на Ивана Карамазова. Это свидетельствует о том, что нелюбовь Набокова к Достоевскому не так уж примитивна и поверхностна (что было уже отмечено[131]): ведь пародия подразумевает некую зависимость от источника, нравится это или нет.
И наконец: слова «Дым, туман, струна звенит в тумане» произнесены Порфирием Петровичем во время разговора с Раскольниковым, когда следователь впервые прямо говорит ему о том, что это он, Раскольников, убил старуху. Порфирий Петрович знал об этом с самого начала, поскольку читал статью молодого человека, в которой тот утверждает, что «необыкновенные <люди> имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные»[132]. У Германа примерно такая же философия. Оба героя выдвигают странные теории, пытаясь философски обосновать преступления и очистить себя от подозрений в корысти; у обоих героев преступный план проваливается; Раскольников, как и Герман, никого не смог обмануть и т. п. И главное, что они оба пишут, и пишут первое в жизни произведение. Разница в том, что Раскольников пишет до преступления, тогда как Герман пишет после; Раскольников пишет статью, Герман — роман; статья становится судебным доказательством, роман — эстетическим самооправданием. Таким образом, Набоков полностью перевернул ситуацию, и поэтому у него не «Кровь и слюни» («Crime and Slime» в английском переводе), то есть «преступление и раскаяние», а скорее «преступление и отчаяние». И Набоков играет эту партию до конца: он даже заглавие своего романа берет прямо из реплики Порфирия Петровича[133]:
Вспомнил тут я и вашу статейку <…>. В бессонные ночи и в исступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи! Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния; она мрачная статья-с, да это хорошо-с[134].
Но доля Раскольникова — раскаяние: автор статьи, со своей «искренностью», остается на мрачном уровне Означаемого 1. Доля же Германа — отчаяние: автор романа, хоть и неудачного, поскольку не сумел уместиться в предвиденных им самим десяти главах, уже перешел со своей «веселой, вдохновенной лживостью» (398) на уровень Означаемого 2. Во всяком случае, он так думает до тех пор, пока не понимает, что ничего не контролирует — ни первого, ни второго из двух означаемых своего произведения. Контролирует же все в этом бумажном мире тот «совершеннейший диктатор», который оставил в машине палку и в тексте слово «палка»…
«Чрезвычайно больно бьется проклятая палка», — говорит Поприщин[135].
В бумажно-чернильном лесу: роман романа
Как видим, в начале десятой главы готовится окончательный переход от плана Означаемого 1 к плану Означаемого 2: Герман говорит здесь уже не о преступлении (убийство + обман), а о создании художественного произведения (письмо + обман). До сих пор были отдельные моменты, когда планы перемешивались, но теперь они будут перемешиваться постоянно вплоть до полного слияния. Творческий акт здесь сравнивается с преступлением[136]: это поступок того же типа. Именно поэтому, как уже было сказано, самое главное заключается в том, что рассказ об убийстве Феликса становится метафорой самого процесса написания романа. Это абсолютно точное автоизображение (так же как жизнь Лужина абсолютно точно совпадает с шахматной игрой в «Защите Лужина»). И неудивительно, что дальше Герман оправдывается именно по отношению к этому переходу из одного плана в другой.
Двусмысленность всех последующих его высказываний просто поразительна и требует от читателя соответственного двойного чтения. Например, во фразе Германа «оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (поскольку я помню) почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти» (505) очень важно подчеркнуть слово «как будто». Им все сказано: история преступления только повод, чтобы показать, как пишется роман. «Двигатель» на уровне Означаемого 1 — «корысть», но, как говорит Герман, «уж так ли мне было важно получить эту довольно двусмысленную сумму?» Нет, конечно. Важно было ему написать совершенный рассказ, безукоризненно продуманный, — это и есть «двигатель» на уровне Означаемого 2. Проблема заключается в том, что Герман пишет не один, и в построение его рассказа вмешивается другая инстанция, которая за него принимает решения. Эта инстанция здесь таится за памятью, по которой он пишет. Но, как это бывает с гоголевскими рассказчиками, память у него не очень надежная: «…или, напротив, память моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить, не могла — будучи до конца правдивой — придать особое значение разговору в кабинете у Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет)» (506). Как мы знаем по всем высказываниям Набокова на эту тему, память — особое отношение к прошлому, она создает особый автономный мир, который при нормальных условиях становится миром произведения и к которому «реальный мир» уже не имеет никакого отношения. Мир этот не реален, а правдив, поскольку он сам себя оправдывает. Отсюда, кстати, и особенность воспоминаний Набокова, которые все время изменялись, оставаясь при этом всегда правдивыми. Но если Набоков может позволить своей памяти писать «за него», то Герман не может этого сделать именно потому, что она принадлежит не ему, а Автору-«диктатору», который активно выбирает за него и воспоминания, и пробелы в них. И если Герман не контролирует развитие рассказа даже на уровне Означаемого 1, то тем более не контролирует его на уровне Означаемого 2, о существовании которого он, впрочем, скорее всего, даже не подозревает.
Читаем следующий абзац этой десятой главы. Именно в нем окончательно стирается граница между двумя планами повествования:
И еще я хочу вот что сказать о посмертных моих настроениях: хотя в душе-то я не сомневался, что мое произведение мне удалось в совершенстве, т. е. что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий, — я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми, чтобы обман, — а всякое произведение искусства — обман, — удался; авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный.
В этом отрывке абсолютно все «двусмысленно», начиная с лексики:
— в выражении «посмертные настроения» первое слово относится к Феликсу, а второе к Герману (вследствие чего возникает вопрос, не является ли роман историей о самоубийстве? Ведь если происходит инверсия точки зрения, как в начале этого отрывка, убийство становится самоубийством!);
— слово «произведение» относится и к роману, и к убийству: ясно сказано, что творческий акт — преступление. Необходимо отметить важную роль столкновения двух типов времени, о которых мы говорили, — времени фабульного и повествовательного. Если остаться на уровне изложенных событий (фабула), Герман еще не начал писать свой рассказ, так что он не имеет права еще говорить о «произведении». Зато на уровне повествовательного времени, то есть момента, когда он пишет, слово вполне годится. Эта двусмысленность еще усилена дальше, поскольку «произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу», относится исключительно к преступлению: 9 марта «подписано» только убийство, а произведение пока еще на стадии рукописи: подписано оно будет через 3 недели — 1 апреля.
Так же можно проанализировать следующие выражения:
— «новичок»: слово годится скорее для писателя, чем для убийцы, но все же относится к двум выявленным нами планам значения: первое преступление = первый роман (то, что он гениален, — его убеждение; может быть, это и правда, но главное для нас то, что это слово в его сознании связано и с преступлением, и с написанным романом);
— то же можно сказать о слове «слава»: напомним последнюю сцену, в которой изображена толпа (зевак, стало быть, — читателей), собравшаяся под окном гостиницы, где Герман ждет ареста;
— такое же переплетение планов звучит в словах: «чтобы скорее мое произведение… было оценено людьми», — как известно, «произведение» будет оценено отрицательно и полицией, и литературными критиками. Метафора дальше полностью раскрывается: «Вбив себе в голову, что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик, который при одном виде книги неприятного ему писателя решает, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произвольного положения), вбив себе это в голову, они <полиция. — Ж.-Ф. Ж.> с жадностью накинулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка» (515);
— именно по этой логике «авторские» права оплачиваются страховой компанией;
— наконец, в выражении «художник бескорыстный» первое слово относится к метанарративному плану романа, тогда как второе — к нарративному.
В свете этих примеров видно, как в самом языке переплетаются прямой смысл произведения и метафорический. Все это довольно очевидно, но надо отметить, что смесь двух планов иногда выражена сложнее, как, например, во фразе: «я не сомневался, <…> что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий». Речь идет, конечно, о темном лесе («черно-») с остатками мартовского снега на месте преступления («белый»). Но это на уровне Означаемого 1. На самом деле слово «черно-белый» здесь уже обозначает другое, а именно: черные буквы на белой бумаге. И именно в этом и только в этом контексте «лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий», поскольку мы теперь уже знаем, что протагонисты на самом деле, наоборот, совершенно не похожи друг на друга. И только в этом бумажном контексте обман становится реальностью, то есть конкретным произведением, правдивее, чем жизнь[137]. Это художественное кредо ясно изложено в романе раньше, в седьмой главе, то есть до промаха:
Ошибка моих бесчисленных предтечей <убийц/писателей. — Ж.-Ф. Ж.> состояла в том, что они рассматривали самый акт как главное и уделяли больше внимания тому, как потом замести следы <убрать палку из машины/вычеркнуть эту деталь из текста романа. — Ж.-Ф. Ж.>, нежели тому, как наиболее естественно довести дело до этого самого акта, ибо он только одно звено, одна деталь, одна строка, он должен естественно вытекать из всего предыдущего, — таково свойство всех искусств. Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, — настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.
То, что Герман промахнулся (или что его недооценили!), ничего не меняет — Набоков же не промахнулся.
Итак, скрытая зеркальная структура всего романа проявляется во всем своем изяществе в немецком «глухом лесу», описание которого можно изобразить следующим образом (и распространить на весь роман):

Как мы видели, эта зеркальная структура распространяется на лексику, которая требует двойного чтения и расшифровки метафоры для перехода к литературному плану:
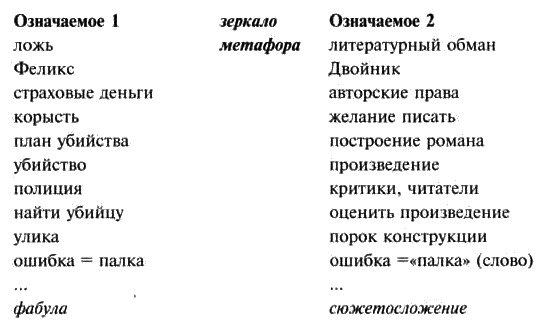
Этот список, конечно, можно продолжить. Структура определяет главным образом статус Германа («Я»), проникая даже в семантику и в построение самых простых групп слов:

Теперь понятна ключевая фраза: «всякое произведение искусства обман». В следующем абзаце, после очередной скрытой цитаты из Пушкина («Что пройдет, то будет мило» — последняя строка стихотворения, начинающегося словами: «Если жизнь тебя обманет»), в качестве доказательства Герман начинает писать ложный эпилог: «В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида» и т. д. (506) — то, что произошло бы, если бы обман удался. Как в начале десятой главы (с подменой рассказчика), Герман обманывает читателя и потом показывает ему, что обманул, и так — без конца.
Правдивость, «Правда или правдоподобие»
Разбор романа «Отчаяние» дает возможность сделать некоторые выводы.
Во-первых, можно утверждать, что один из главных вопросов, поставленных Набоковым, это вопрос о роли рассказчика и о его отношениях со своими персонажами, с одной стороны, и с автором с другой. Это один из главных вопросов современной нарратологии. Понятно, что сложность этих отношений обостряется в случае повествования от первого лица. Мы имели возможность убедиться в том, что Герман показывает, насколько рассказчик пользуется абсолютной свободой по отношению к персонажам и ко всему построению своего рассказа. Но эта его свобода второстепенна и только иллюстративна: она ограничена тем, что рассказчик сам является персонажем, значит — куклой в руках высшей инстанции, которую представляет собой Автор. За этой свободой кроется определенный обман, присущий всякому литературному произведению (даже если эта идея не нравится Толстому). Не было бы такого обмана, автор и рассказчик выступали бы как одно и то же лицо и Набоков после «Лолиты» отсидел бы срок за совращение несовершеннолетней девушки, так же как Герман отсидит срок за жульничество и убийство. Можно сказать, что скандал, разразившийся после публикации «Лолиты», развернулся вокруг прочтения романа на уровне Означаемого 1, а на уровне Означаемого 2 такие моральные предрассудки не имеют никакой силы.
Построенный таким образом новый мир романа, конечно, «выдуманный», значит — обманчивый, но, как было уже сказано, «вымысел искусства правдивее жизненной правды», потому что развивает свою собственную логику: произведение искусства правдиво по отношению к самому себе. Маленький пример из «Отчаяния»: когда в начале четвертой главы Герман получает письмо от Феликса, он указывает дату (9 сентября 1930). Чуть дальше он объясняет, что читателю неважно знать, когда написано письмо, что читатель даже и не замечает эти даты, но, говорит Герман, «эти даты нужны для поддержания иллюзии» (431). Мир вымышленный, но правдивый — вот главное художественное кредо Набокова. В лекции о Достоевском он пишет:
В сущности, подлинная мера таланта есть степень непохожести автора и созданного им мира, какого до него никогда не было, и что еще важнее — его достоверность. Предлагаю вам оценить мир Достоевского с этой точки зрения.
Затем, обращаясь к художественному произведению, нельзя забывать, что искусство — божественная игра. Эти два элемента — божественность и игра — равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного творца. При всем том искусство — игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымысел, что актеров на сцене не убивают, иными словами, пока ужас или отвращение не мешают нам верить, что мы, читатели или зрители, участвуем в искусной и захватывающей игре; как только равновесие нарушается, мы видим, что на сцене начинает разворачиваться нелепая мелодрама, а в книге — леденящее душу убийство, которому место скорее в газете. И тогда нас покидает чувство наслаждения, удовольствия и душевного трепета — сложное ощущение, которое вызывает у нас истинное произведение искусства[138].
Очень важна здесь идея «равновесия». Речь идет о равновесии между Означаемым 1 и Означаемым 2. От этого равновесия читатель получает «удовольствие», «наслаждение». Это всегда верно для настоящего искусства, и здесь Набоков не первый. Совершенно ново другое: Набоков своими приемами заставляет читателя осознать (или хотя бы сильно ощутить) механику построения этого правдивого обмана. Он придумал тот новый «пакт с читателем» (pacte de lecture), который убедительно описал французский набоковед М. Кутюрье[139], взамен старого «пакта неискренности» (pacte de mauvaise foi), о котором говорит Ж. Блен в знаменитой книге «Стендаль и проблемы романа»[140]. Но мы затрагиваем здесь обширный и уже довольно серьезно исследованный вопрос, который оставляем в стороне. Добавим только, что именно на основе осознания или же ощущения этого равновесия, о котором говорит Набоков, и можно заключить, во всяком случае отчасти, этот новый «пакт с читателем». Более того: благодаря адекватности обоих планов романа — нарративного и метанарративного — Набоков создает новый тип романа, где все темы и мотивы (преступление, обман, зеркало и т. д.) входят в обширную метафорическую сеть, которая в силу своей автореференциальности становится новым, вполне реальным и правдивым и к тому же свободным миром. Так же как и отражение в зеркале, по определению своему не имеющее никакой материальной реальности, становится метафорой искусства, рассказанные в романе события не имеют никакого конкретного референта в реальной жизни. Зато роман как таковой становится реальным миром, где внутри собственных границ он правдивее жизни[141]. В конце повести «Соглядатай», когда погибший герой наблюдает себя в других персонажах, мы читаем:
Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова <двойника рассказчика. — Ж.-Ф. Ж.>. Не все ли равно какой? Ведь меня нет, — есть только тысячи зеркал, которые меня отражают[142].
Все это значит, что обман, который представляет собой произведение искусства, становится эквивалентом правды. Эта правда проистекает из гармонии созданного нового предмета. Поэтому можно сказать, что следующие слова Германа, вспоминающего о том, как он в детстве «сочинял стихи и длинные истории», прекрасно смог бы произнести и сам Набоков (этот отрывок идет сразу после того, как Герман предлагал несколько возможных вариантов!):
Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал.
Цитата, кажется, уже не нуждается в комментарии.
* * *
Сартр сказал по поводу «Отчаяния», что получился «курьезный труд — роман самокритики и самокритика романа» и что Набоков «далек от того, чтобы изобретать новую технику: высмеивая ухищрения классического романа, он не пользуется при этом никакими другими»[143]. И добавляет: «Где же роман? Собственный яд разъел его»[144]. Удивительно, до какой степени искусный романист ничего не понял!
На самом деле этим романом Набоков прощается с так называемой миметической иллюзией, т. е. с попыткой классического и, в особенности, «реалистического» романа внушить читателю идею, будто то, что он читает, действительно произошло. Этим он продолжает линию, начатую Флобером и Прустом. Другими словами, он применяет теорию, которую предложил Уайльд, знаковая фигура эпохи модерна, в уже упомянутой работе «Упадок искусства лжи» о «правде искусства». Согласно этой теории, изображаемый в искусстве предмет правдивее, чем реальный предмет, поскольку искусство придает этому предмету некое совершенство связности и построения, которого он лишен в реальности.
Обширной mise еп abyme и радикальному обнажению всех приемов построения сюжета Набоков противопоставляет правду реальности и изобретает новый тип романа, который осуществляет старую мечту модернизма — создание автономной системы изображения, то есть системы автоизображения («auto-représentation», термин Ж. Рикарду в его работах о Новом романе[145]), избегая при этом тех ловушек и тупиков, в которые то и дело попадали представители авангарда и их последователи.
Причина этого успеха состоит в том, что Набоков не отказался от повествования на уровне Означаемого 1, от нарративности, и даже от привлекательного сюжета — историю преступления Германа можно прочесть как детектив. Сохраняя таким образом прочную сюжетную линию (в отсутствие которой уже нельзя говорить о «романе», что стало очевидным намного позже, как раз после экспериментов Нового романа), Набоков разрешил старый эстетико-идеологический спор об искусстве. Своим творчеством он спас самые главные изобретения модернизма, обошел опасности утопии, связанные с ним, взял из классического романа то, что ему было нужно, заранее миновал также будущие тупики деконструкции постмодернизма, организуя деконструкцию реальности в конструкции нового прочного универсума. И стал одним из самых значительных прозаиков XX века, способным дать наперед, в период создания Союза советских писателей, свой блестящий ответ рождающемуся в насилии так называемому «социалистическому реализму».
II. ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОПАСНОСТИ
От футуризма — к формализму: В. Шкловский в 1913 году
(«Воскрешение слова»)[*]
Пути нового искусства только намечены.
Не теоретики — художники пойдут по ним впереди всех.
Как-то раз в конце 1913 года художник Н. И. Кульбин, известный организатор футуристических выставок и диспутов, с сияющими глазами объявил Б. К. Пронину, основателю знаменитого литературного кабачка «Бродячая собака», где собирался весь цвет петербургской культуры, что он встретил в трамвае «необычайного юношу», это настоящий «человек искусства», студент 1-го или 2-го курса, и он согласен выступить в кабачке с докладом[147]. Так впервые в литературной среде прозвучало имя этого двадцатилетнего студента — Виктор Шкловский. Надо сказать, что, хотя один из курсов тогда читал И. А. Бодуэн де Куртенэ, отделение филологии Санкт-Петербургского университета в целом не удовлетворяло молодого литературоведа-энтузиаста.
Шкловский выступил в «Бродячей собаке» с докладом «Место футуризма в истории языка» 23 декабря 1913 года. Доклад стал событием: Пронин вспоминает, с какими «восторженными лицами» М. А. Кузмин и Н. С. Гумилев слушали молоденького «Витю», «полугимназиста, полустудента»[148]. Поэт-символист В. А. Пяст в книге «Встречи» описывает эти события чуть менее мажорно: он вспоминает атаки, которые пришлось, как водится, выдержать Шкловскому, когда он впервые появился в «Собаке»: его обвинили в полном невежестве, «и футуризм с ним вкупе»[149]. Но как бы там ни было, 23 декабря 1913 года произошла историческая встреча футуризма и формализма, хотя формализма, как такового, конечно, еще не было, но путь для него был уже намечен. Важность этой встречи не всегда осознают в полном объеме, не всегда понимают ее масштаб и логику — как исторического события и как события в теории литературы. Шкловский, который в те времена занимался также скульптурой — он писал, что из этих занятий узнал, «что такое форма»[150], — в «Третьей фабрике» (1926) скажет, чему научился благодаря футуризму:
С футуризмом и скульптурой уже можно было много понять. Тогда я понял искусство как самостоятельную систему[151].
После того как доклад был прочитан, Шкловский подготовил его печатный вариант — он вышел в феврале следующего года под заголовком «Воскрешение слова». Это была брошюра в 32 страницы, некоторые экземпляры были проиллюстрированы О. В. Розановой, другие — А. Крученых; это ставило книгу на одну доску с многочисленными публикациями футуристов того времени, но одновременно было и первым шагом на пути формализма. Со своей брошюрой Шкловский пришел к Бодуэну де Куртенэ, который, сказав, что «сам не понимает этого вопроса»[152], отправил его к другому своему ученику, Л. П. Якубинскому. Через несколько месяцев к ним присоединился Е. Д. Поливанов. Таким образом «Общество по изучению теории поэтического языка» (ОПОЯЗ) вот-вот должно было появиться на свет.
Шкловский впоследствии не отказался от своего первого текста. В предисловии к сборнику произведений 1990 года он писал: «Семьдесят лет теперь этой книге. Но она, мне кажется, не постарела. Она и теперь моложе меня»[153]. По этому заявлению можно судить, какого внимания она заслуживает.
* * *
Тесная связь между футуризмом и формализмом, конечно, ни для кого не секрет. И все-таки проще получить об этом представление, если читаешь по-английски и можешь познакомиться с первыми книгами о формализме, выходившими уже с 50-х годов, — начиная с классических работ: «Russian Formalism» В. Эрлиха[154] (1955, 1965), «Russian Formalist Theory and its Poetic Ambiance» К. Поморска (1968) — эти книги не были переведены на французский язык. Та же тема поднимается и в книгах, посвященных футуризму, в том числе в классической работе В. Ф. Маркова «Russian Futurism — a History»[155] (1968) — тоже на английском и тоже не переведенной на французский. Среди книг, в которых хорошо проработана связь футуризма и формализма, нужно упомянуть исследование О. А. Ханзен-Лёве «Der russische Formalismus» (1978)[156]. На французском языке этой теме посвящено несколько страниц, написанных Ц. Тодоровым в журнале «Tel Quel» в 1968 году[157], потом о связях футуризма и формализма скажет Ж. Конио[158], много позже к этой же теме обратится в своей работе о русском футуризме А. Сола[159], а М. Окутюрье начнет свою книгу о формализме из серии «Que sais-je?»[160] с упоминания об этом первом докладе Шкловского. Но, как правило, эти работы известны в основном русистам, и нельзя сказать, что они укоренились в сознании теоретиков литературы, у которых нет других контактов с русской культурой того времени.
Бесспорно, всем известен интерес формалистов к модернистским экспериментам начала века. Он проявляется и в статье Тынянова «О Хлебникове», произведения которого Тынянов опубликовал в конце двадцатых годов (1928). Конечно, сюда же надо отнести соответствующие исследования P. O. Якобсона: его статью 1919 года «Новейшая русская поэзия» (тоже о Хлебникове) и написанную позже статью о В. В. Маяковском. Но оба они написали эти работы по следам уже прошедших, хоть и очень недавних, событий. То же самое можно сказать и о работах Шкловского, последовавших за «Воскрешением слова» и опубликованных в сборниках ОПОЯЗа в 1916 и 1919 годах[161]. В 1919 году он скажет в статье «Об искусстве и революции»: «мы, футуристы, связываем свое творчество с Третьим Интернационалом», там же он утверждает, что «футуризм был одним из чистейших достижений человеческого гения»[162]. Сказанное выше относится также и к сотрудничеству формалистов в двадцатые годы с журналом «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) Маяковского и О. М. Брика.
Более важное значение имеют, бесспорно, поэтические эксперименты Якобсона в 1914–1915 годах, его «заумные» стихи, опубликованные под псевдонимом Р. Алягров в маленькой «Заумной книге» (так!) (1915) в соавторстве с Крученых[163]. История этой публикации, не слишком известная, хотя Якобсон с удовольствием упоминал о ней в интервью, наглядно демонстрирует сближение молодых филологов и футуристов, которые не просто эпатировали публику, но и действительно совершали революцию в поэтическом слове. Мы говорим здесь о тех материалах, которые доступны французской публике[164].
Но даже если все это нам известно, трудно утверждать, что сближение, о котором мы говорим, в полной мере осознано исследователями, особенно на Западе и, в частности, во Франции. Здесь интерес к главным текстам формализма развивался очень поздно (в 60-е годы) и независимо от восприятия (заново) русского авангарда — ведь знакомство с ним, по вполне понятным причинам, происходило скорее через искусства визуальные (живопись, фотография, кино), а не через тексты, относящиеся к течению, важность которого трудно оценить, не зная русского языка. Часто начало школы формализма датируют 1916 годом, по первым публикациям ОПОЯЗа, созданного в 1914 году. А знаменитая статья Шкловского, которую сегодня считают основополагающим текстом и платформой формализма, «Искусство как прием», была опубликована во втором томе «Сборников по теории поэтического языка» в 1917 году. И тем не менее основные тезисы, провозглашенные в этой статье, звучали уже в докладе, прочитанном в «Бродячей собаке».
В то время футуристическая революция в основном осуществилась: футуристы ввели в обиход понятие «зауми» — заумной поэзии, свободной от логики и рамок значения. Крайней ее формой станет фонетическая поэзия. Очевидно, что было совершенно необходимо познакомить с первой статьей Шкловского — хотя бы как с явлением в истории литературы — всех, кто интересуется теорией формализма. И вот наконец в 1985 году она опубликована по-французски, а в качестве приложения напечатан один из самых важных теоретических текстов, характеризующих поэтическую революцию, которая происходила в 1913 году, — манифест «Новые пути слова», подписанный А. Крученых[165]. Со времени этой публикации прошло уже больше двадцати лет, но кажется, все еще не оценено по достоинству соприкосновение двух движений, которые накануне Первой мировой войны вывели Россию в авангард формалистических поисков — как в литературе, скульптуре и живописи, так и в области теоретических наработок. Именно на перекрестке этих двух движений стоял в тот декабрьский вечер 1913 года студент Шкловский.
Чтобы лучше понять природу «воскрешения», о котором он говорил, будет полезно вернуться на несколько месяцев назад, ведь футуризм представляет собой не что иное, как заключительную стадию процесса, приведшего к тому, что все литературные движения начала века полностью переосмыслили природу поэтической речи, которая одна способна, как утверждал Андрей Белый в «Магии слов» (1910), оживить слово, усилить его[166].
* * *
В декабре 1912 года, то есть ровно за год до того вечера в «Собаке», в Москве была опубликована «Пощечина общественному вкусу» — сборник, объединивший имена, которые войдут в историю литературы как «кубофутуристы» (Д.Д. и Н. Д. Бурлюки, Крученых, Маяковский, Хлебников, Б. К. Лившиц и, по случайности, В. В. Кандинский). Некоторые тексты, вошедшие в сборник, весьма удивили тогдашнюю публику, сегодня же внимание привлекает одна только хлесткая декларация, которая их сопровождала. Авторы декларации нападали и на классиков и на символистов, а кроме того, объявляли о новых «правах поэтов», в числе которых: право «на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (слово — новшество)», а также право «на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку»[167]. Кончалась декларация так:
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова[168].
Футуристы вводят здесь основополагающее понятие «самоценного» или «самовитого» слова, чуть позже его назовут еще: «слово как таковое» — то есть свободное, не связанное взаимоотношениями с окружающими словами. Таким образом, футуристы произвели беспрецедентную эстетическую революцию, подготовленную, между прочим, не кем иным, как символистами, над которыми этот манифест потешается весьма жестоко, а причина этой жестокости — скорее близость двух этих течений, чем их антагонизм. И если эта близость не проявляется в поэтических произведениях, то уж по крайней мере видна в эстетических теориях.
Конечно, футуризм не родился одновременно с этой декларацией. Хлебников уже в 1908–1909 годах исследовал возможности языка по части морфологических производных одного и того же слова, например в знаменитом «Заклятии смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно![169]
Существуют и другие тексты и сборники, которые можно считать предтечами футуризма, но «Пощечина общественному вкусу» остается первой декларацией футуристов как сложившейся группы, и сложившейся как раз вокруг проекта «воскрешения слова», о котором годом позже напишет Шкловский. Между прочим, через ту же метафору «оживления» языка Лившиц, один из авторов декларации, опишет свои впечатления от рукописей Хлебникова: «то, что нам удалось извлечь из хлебниковского половодья, кружило голову, опрокидывало все обычные представления о природе слова»[170]. Заметим, что голову кружила не отважная новизна Хлебникова, а что-то куда более глубокое, что, по словам Лившица, сковало его «апокалиптическим ужасом». И дальше идет это необыкновенное свидетельство:
Ибо я увидел воочию оживший язык.
Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо.
И я понял, что от рождения нем[171].
Исследование ресурсов языка, включавшее интерес ко всем возможным ритмическим и фонетическим сочетаниям (в том числе, как следствие, и к детскому языку, и к экстатическим молитвам некоторых религиозных сект), совершенно естественно привело к изобретению поэзии абстрактной, то есть не имевшей определенного заранее семантического содержания. Пример можно найти у Крученых, который в том же 1913 году опубликует в сборнике «Помада» (на самом деле это крохотная брошюрка с иллюстрациями М. Ф. Ларионова, тираж которой составил несколько экземпляров) первое стихотворение, полностью составленное из выдуманных слов:
Дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз[172]
С этим стихотворением родилась заумь — язык за пределами ума, представляющий в поэзии окончание маршрута, сходного с тем, что привел живопись к абстракции: известно, что супрематизм Малевича называли аналогом заумной поэзии Крученых, только в живописи. Последний осуществил на практике главное требование, выдвинутое в «Пощечине общественному вкусу», — создать настоящее самодостаточное слово, слово «как таковое». За 1913 год теоретические основы тех первых манифестов формализуются, в частности, в сборнике «Садок судей II», в котором демонстрируются новые принципы словотворчества футуристов (расшатывание синтаксиса и метрики, выход на первый план графического образа текста и фонетики, семантического наполнения букв, изобретение свободного ритма, оправдание произвольной лексики и т. д.).
Автономное слово, освобожденное от всех обычных ограничений и готовое, следовательно, ожить, станет главной идеей Крученых, который в 1913 году напишет в форме трактата свою знаменитую «Декларацию слова как такового»[173]. Этот текст состоит из восьми пунктов, перечисленных в беспорядке и представляющих собой программу футуристов:
4) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее[174].
Итак, заумь — это способ выразиться полнее, а главное, вернуться к первоначальной чистоте языка, эта идея развивается в следующем положении декларации:
5) Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена[175].
Именно благодаря этой восстановленной чистоте возникает то, что Крученых, как и Хлебников, называет «вселенским языком». Но если «слово как таковое» — это слово до Вавилонского столпотворения, Крученых идет дальше, замечая, что с этим новым языком поэт сможет не только выразить мир во всей его полноте, но и создать мир. Таким образом заумь приобретает реальную телеологическую силу:
1) Новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот.
6) Давая новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить <…>[176]
Так поэт, теург, становится создателем новых миров, что позволяет Крученых объявить в заключение, что «искусство не суживается, а приобретает новые поля»[177].
В том же 1913 году Крученых подписывает еще два текста, в которых его идеи представлены более полно. В первом, подписанном также Хлебниковым, объявляется, что «будетляне речетворцы» превзошли всех остальных и что в «Дыр бул щыл» Крученых — «более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина»[178]. Презрительно перечисляются требования к языку, предъявлявшиеся поэзией раньше: «ясный, чистый, честный, звучный, приятный (нежный) для слуха, выразительный (выпуклый, колоритный, сочный)»[179], — качества, которые кажутся больше приложимыми к женщине, чем к языку:
В самом деле: ясная, чистая (о, конечно!) честная (гм!.. гм!..), звучная, приятная, нежная (совершенно правильно!), наконец, сочная, колоритная вы… (кто там? Входите!)[180]
Эта атака направлена на символистов и «сливочную тянучку»[181] их поэзии, в особенности на поэзию А. А. Блока, который, по их мнению, воспевая вечно женственное, «Прекрасную даму», в результате делает юбку мистической, но важно, что он остается в рамках «фигуративного» течения, а язык должен существовать сам по себе:
Мы же думаем, что язык должен быть прежде всего языком, и если уж напоминать что-нибудь, то скорее всего пилу или отравленную стрелу дикаря[182].
И значит, нужно любыми средствами освободить язык от всего, что мешает ему быть тем, что он есть, освободить его от Психеи «страстей и чувств», чтобы он стал языком (то есть языком как таковым):
будетляне речетворцы <любят пользоваться> разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык[183].
Все эти идеи будут представлены в такой же агрессивной манере, но с большей обстоятельностью, в статье, которая вышла в том же 1913 году в сборнике «Трое», объединившем Крученых, Хлебникова и Е. Г. Гуро, которая умерла незадолго до того — сборник посвящен ее памяти. Заголовок статьи Крученых из этого сборника уже дает представление о ее содержании: «Новые пути слова» (с подзаголовком: «язык будущего — смерть символизму»). После выпада против критиков футуризма, этих «вурдалаков питающихся кровью „великих покойников“» и «гробокапателей станичников паразитов»[184], Крученых заявляет:
<…> до нас не было словесного искусства
были жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию и психологию (что называлось романами, повестями, поэмами и пр.) были стишки для всякого домашнего и семейного употребления, но
искусства слова
не было[185].
И хуже того, говорит Крученых, «делалось все, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка, чтобы вылущить из слова плодотворное зерно, оскопить его и пустить по миру как „ясный чистый честный звучный русский язык“ хоть это был уже не язык, а жалкий евнух не способный что-нибудь дать миру»[186]. Самая низкая точка падения русской поэзии со времен «Слова о полку Игореве», по его мнению, — стихи Пушкина, которого в «Пощечине общественному вкусу» совершенно логично было предложить «бросить <…> с парохода современности»[187].
Крученых объясняет идею совершаемой футуристами революции так: раньше шли через мысль к слову, а футуристы исправили эту ошибку, перевернув последовательность — нужно «идти через слово к непосредственному постижению», которое Крученых называет «высшей интуицией (Tertium organum П. Успенского)»[188]. Слово не может сводиться к «тесной мысли», к простой логике, стоящей на службе у разума, «СЛОВО ШИРЕ СМЫСЛА»[189]. Получается, что заумная поэзия — самое надежное средство, чтобы приблизиться к высшему смыслу, отталкивая прочие разные смыслы. По сути, здесь смысл противопоставляется значениям, которые обязательно привязаны к словам обычного языка. Новая форма выступает здесь гарантией нового восприятия:
Мы первые сказали, что для изображения нового и будущего нужны совершенно новые слова и новое сочетание их[190].
Эти новые сочетания складываются по своим собственным внутренним законам, а не по правилам логики и грамматики, как было раньше.
Крученых проводит параллель с живописью: художники обнаружили, что неправильная перспектива добавляет новое — четвертое — измерение; подобно этому и «современные же баячи открыли: что неправильное построение предложений (со стороны мыслей и гранесловия) дает движение и новое восприятие мира и обратно — движение и изменение психики рождают странные „бессмысленные“ сочетания слов и букв»[191]. Следует вывод:
Поэтому мы расшатали грамматику и синтаксис, мы узнали, что для изображения головокружительной современной жизни и еще более головокружительной будущей — надо по-новому сочетать слова, и чем больше беспорядка мы внесем в построение предложений — тем лучше[192].
Конец статьи посвящен отдельным частям программы футуристов, в том числе неправильностям и диссонансам: именно они являются лучшим выражением того «беспорядка», который не столько работает на разрушение, сколько участвует в грандиозном предприятии построения смысла и параллельно — эстетической системы, способной выразить этот смысл. Итак, футуристы пишут то, что они пишут, не ради эпатажа читателя, а чтобы предложить новые пути понимания и выражения мира, подчеркивая необходимость увидеть мир заново, как в первый раз, видеть его «насквозь», меняя угол зрения:
Мы рассекли объект!
Мы стали видеть мир насквозь.
Мы научились следить мир с конца, нас радует это обратное движение <…>
Мы можем изменить тяжесть предметов (это вечное земное притяжение), мы видим висящие здания и тяжесть звуков.
Таким образом мы даем мир с новым содержанием…[193]
Мы опять видим, что здесь ставится не задача воссоздания мира, а, ни много ни мало, его создания. И это создание идет через форму, которая и есть новое содержание нового мира: «Раз есть новая форма следовательно есть и новое содержание, форма таким образом обусловливает содержание»[194].
* * *
Похоже, что Шкловский садился за свою работу о новом поэтическом языке, вооруженный внушительным багажом. Тем более что в начале декабря, незадолго до своего доклада, он присутствовал на представлении футуристической оперы «Победа над солнцем», либретто к которой написал Крученых, автором пролога был Хлебников, музыки М. В. Матюшин, а декорации и костюмы сделал Малевич. Это всеобъемлющее произведение стало главным культурным событием 1913 года.
В черновиках статьи «Воскрешение слова» Шкловского есть такая запись:
Задача данного реферата объяснить приемы молодого искусства и показать, что их происхождение вовсе не в желании быть причудливыми. <…> Сумасшедшие <футуристы> это ясновидящие, они больными нервами чувствуют приближающуюся катастрофу. <…> Вы отрицаете новое искусство, не зная его, во имя старого, которое не понимаете. Нам не нужно старых форм для выражения наших чувств. <…> Из узких дворов небо кажется другим. Поезд на мосту требует новых ритмов[195].
Идея о том, что футуризм идет в ногу со временем, а чтобы описать это время, нужны новые приемы, пригодные для оживления языка и мира, который описывает этот язык, — скорее лозунг, выдвигаемый футуристами, чем теоретическое открытие. Интересно же в статье, подготовленной по следам доклада, сделанного в «Бродячей собаке», в первую очередь желание дать новому движению филологическое обоснование, а дальше — расширить сделанные выводы до более значительной эстетической теории, которая в будущем и станет формализмом.
Статья «Воскрешение слова» начинается с того, что слова, участвовавшие в древнейшем поэтическом творчестве человека, сейчас мертвы и «язык подобен кладбищу». А только что рожденное слово было «живо, образно»: «всякое слово в основе — троп»[196], — пишет Шкловский, но со временем образы потерялись, и слово стало просто инструментом, которому не придают значения.
Шкловский описывает агонию образа в слове, агонию — потому, что слова стали привычными, и мы больше не видим за ними образов. Слова также превратились в «алгебраические знаки», их «внутренняя форма» перестала переживаться. Образы стали привычными, а привычное не проникает в сознание:
Мы не видим стен наших комнат, нам так трудно увидать опечатку в корректуре, особенно если она написана на хорошо знакомом языке, потому что мы не можем заставить себя увидать, прочесть, а не «узнать» привычное слово[197].
Поэтическая форма должна переживаться, а привычной достаточно просто быть узнанной. Значит, язык априорно является поэтическим, но ему все время угрожает опасность стать прозаическим: он должен искать в себе ресурсы для постоянного обновления, спасать в себе образ. Эпитет, например, был средством обновления образного характера слова. Но постепенно эпитет тоже становился привычным, переставал переживаться, и языку нужно было искать другие средства[198].
Процесс, когда поэтические образы, содержащиеся в словах, стираются из нашего сознания в силу привычки, «как исчезает шум моря для тех, кто живет у берегов»[199], постепенно выходит за пределы отдельных слов и захватывает целые ситуации, а в конце концов — и произведения в целом; они «окаменевают» (потом формалисты назовут это «автоматизацией») и больше не переживаются, а только узнаются.
Такое скатывание поэзии в прозу объясняет, по мнению Шкловского, тот факт, что «писатели часто ценятся с точки зрения количества благородных мыслей, в их произведениях заключенных»:
Апофеоз переживания «искусства» с точки зрения «благородства» — это два студента в «Старом профессоре» Чехова, которые в театре спрашивают один другого: «Что он там говорит? Благородно?» — «Благородно». — «Браво!»
Здесь дана схема отношения критики к новым течениям в искусстве[200].
По Шкловскому, «старое искусство уже умерло <…> и вещи умерли, — мы потеряли ощущение мира»[201], и надо искать новые формы искусства, чтобы этот мир воскресить[202]. Это и было задачей зауми, о которой Шкловский несколько десятков лет спустя скажет, что это была попытка «выразить свое ощущение мира, как бы минуя сложившиеся языковые системы»:
Ощущение мира — не языковое. Заумный язык — это язык пред-вдохновения, это шевелящийся хаос поэзии, это докнижный, до-словный хаос, из которого все рождается и в который все уходит[203].
Одно лишь порождение непривычных форм может воскресить мир, в том смысле, чтобы мы смогли его «переживать» и «видеть». И если футуристы шли в авангарде этого возрождения первоначального ощущения мира, это потому, что они заново изобрели язык поэзии:
И вот теперь, сегодня, когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не мертвым словом, он, желая дать ему лицо, разломал и исковеркал его. Родились «произвольные» и «производные» слова футуристов. Они или творят новое слово из старого корня (Хлебников, Гуро, Каменский, Гнедов), или раскалывают его рифмой, как Маяковский, или придают ему ритмом стиха неправильное ударение (Крученых). Созидаются новые, живые слова. Древним бриллиантам слов возвращается их былое сверкание[204].
Конечно, продолжает Шкловский, этот новый язык труднее читать, чем «Биржевку», некоторые его созвучия не похожи на русский язык, а иногда он даже вовсе не понятен. Но кто сказал, что в этом задача искусства? — спрашивает Шкловский: «мы слишком привыкли ставить понятность непременным требованием поэтическому языку», в то время как «история искусства показывает нам, что (по крайней мере, часто) язык поэзии — это не язык понятный, а язык полупонятный»[205].
Поэтому футуристы выбрали правильный путь, оттолкнувшись от своих предшественников, которые писали «слишком гладко, слишком сладко»[206], — «они правильно оценили старые формы»[207] и поняли, что надо создавать новый язык, потому что нужно сделать мир снова «видимым», а не только «узнаваемым». Они наметили «пути нового искусства», и «не теоретики — художники пойдут по ним впереди всех»:
Их поэтические приемы — приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию, как введена была в поэзию в первые века христианства рифма, которая, вероятно, существовала всегда в языке[208].
Шкловский отлично понимал, что одновременно с шумными вечерами футуристов, о которых судачили, совершалась настоящая поэтическая революция, и он патетически приветствовал ее в одном из вариантов заключения своей статьи, потом, правда, отброшенном: «Их путь правилен, и если они погибнут, не дойдя до цели, то погибнут в великом предприятии»[209].
* * *
Можно с уверенностью сказать, что именно тезисы футуристов навели Шкловского на мысль развить главную идею своей теории искусства, позже представленную в статье «Искусство как прием». Все самые важные положения этой знаменитой статьи звучали уже в «Воскрешении слова», некоторые были выражены явно, другие лишь в самом общем и не вполне еще осознанном виде, начиная с идеи о том, что главное различие между привычным и поэтическим языком такое: первый живет по закону экономии сил, который позволяет осуществлять эффективную коммуникацию, а второй, напротив, должен замедлять восприятие при помощи «затрудненной формы», чтобы добиться «видения» (а не узнавания) и обеспечить описываемым предметам эстетическое восприятие. Как мы показали, уже в 1913 году Шкловский доказывал, что искусство — одна из форм сопротивления «автоматизации» в восприятии предмета. Это станет главной темой статьи «Искусство как прием», построенной вокруг понятия «остранения». Конспективно она очень четко сформулирована в одной из черновых записей к докладу в «Бродячей собаке»:
Перевернуть картину, чтобы видеть краски, видеть, как художник видит форму, а не рассказ. Слово сковано привычностью, нужно сделать его странным, чтобы оно задевало душу, чтобы оно останавливало. Эпитет как подновление слова. Мы снимаем грязь с драгоценных камней, мы будим спящую красавицу. Самоценность слова[210].
Слово остранение еще не используется, но понятие уже налицо: слово нужно «сделать странным», дезавтоматизировать, чтобы заставить его увидеть. И когда Шкловский говорил, что язык не обязательно должен быть понятным, он уже приближался к идее «затрудненной формы», «закона затруднения», которая будет разработана несколько позже. Вспомним, уже в 1913 году он писал, что «мы потеряли ощущение мира». В статье «Искусство как прием» он возвращается к этой мысли:
И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание…[211]
Менее явно в «Воскрешении слова» проводится и другая идея, которую можно обнаружить не только в последующих статьях самого Шкловского, но и у других формалистов, например у Тынянова, — это автоматизация литературного произведения в целом. Ведь когда Шкловский пишет, что «судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова», что «они совершают путь от поэзии к прозе» и, как следствие, «их перестают видеть и начинают узнавать»[212], то здесь в зародыше присутствуют все будущие раздумья формалистов о проблеме литературной эволюции, и в частности идея о том, что эта эволюция происходит в три этапа: со временем литературная форма автоматизируется, потом приходит время пародирования старой формы (например, через «обнажение старого приема»), и наступает этап, когда пародийные очертания размываются, открывая путь новой форме[213]. Эта диахроническая перспектива, которая позже окажется в центре исследований формалистов, тоже просматривается у Шкловского уже в 1913 году.
Получается, что он инстинктивно нащупал несколько понятий, которые впоследствии станут ключевыми для формализма, и очень важно, что эта школа, которая произведет революцию в литературной критике, родилась из наблюдений над таким проявлением литературной практики, которое вызывало шутки и насмешки. Футуристы, кстати, и сами удивились в тот декабрьский вечер 1913 года тому, что стали предметом «академических штудий», что их упоминают в одном ряду с Аристотелем, трубадурами и шумерским языком.
* * *
Набор исторических фактов и теоретических положений, который мы здесь приводим, позволяет утверждать, что первое «выступление» Шкловского оказалось весьма плодотворным и сделало его одновременно активным участником футуристического движения и первооткрывателем в области теории литературы. Понятие «остранения» бесспорно является крупным открытием Шкловского-формалиста, и слишком часто его значение сужают, воспринимая просто как аналог необычной точки зрения в повествовании. На самом же деле это понятие подводит нас к пониманию более важных вещей, которые Шкловский, видимо, предчувствовал, когда написал в статье «Искусство как прием», что «остранение есть почти везде, где есть образ»[214]. Именно этот прием лежит у истоков «воскрешения слова», которое он описывал в статье 1913 года: прочтение поэзии Хлебникова (ограничимся разговором лишь о самом значительном из участников этого воскрешения) могло заставить услышать в этом радикально новом языке то, что в нем было радикально «странного» и, следовательно, «поэтического». Благодаря статье Шкловского футуризм, используя скандальные выступления, занял свое место в восприятии общества и в анналах истории и получил эстетическое и теоретическое обоснование: заумь теперь могла рассматриваться как крайняя форма остранения.
Но это еще не все. Шкловский не только точно уловил принципиальную суть, которая была заключена в текстах поэтов-футу-ристов, он также инстинктивно предугадал то, что станет характеристикой всей поэзии модерна[215] в целом, а именно: что в такой поэзии слово полностью отказывается от горизонтальных связей, обусловленных смыслом, которые управляют обыденным языком и проникли во все формы искусства; слово имеет свою собственную ценность, которую оно несет «в себе» и «для себя». Ролан Барт через много лет скажет примерно то же самое:
<В поэзии модерна> поэтическое Слово не может быть лживым, потому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, в Слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак <ип signe debout>[216].
И кстати, если не обращать внимания на их эпатирующий стиль, именно в этом состояло главное требование футуристов: «знак во весь рост», именно эта идея кроется за понятиями «самоценного», «самовитого» слова, а потом — и «слова как такового»; все эти понятия блестяще свел воедино этот «румяный, как яблочко мальчик», «выпрыгнувший в футуризм прямо из детской»[217].
Велимир I — поэт становления
(А. Туфанов и В. Хлебников)[*]
Среди терминов, появившихся в эпоху авангарда и подхваченных последующими исследователями, есть один, связанный с заумью, не очень известный, но стоящий того, чтобы в нем разобраться. К тому же он является причиной одного ошибочного толкования, в котором мы, к сожалению, отчасти повинны. Речь идет о неологизме становлянство и его производных становление, становлянин.
Этот термин принадлежит А. Туфанову (1877–1942?[219]) — поэту. который представляет интерес, по меньшей мере, по трем причинам[220]. Прежде всего, завершив свои скитания во время Гражданской войны по Архангельской области, где он занимался изучением ритмических особенностей частушек, и вернувшись в 1921 году в Петроград, Туфанов становится главным пропагандистом крайней зауми, идеи, которая нашла конкретное воплощение в двух книгах стихов — «К зауми» (1924) и «Ушкуйники» (1927), — соединив поэтическую практику («фоническая музыка») с широко аргументированной теоретической основой. Во-вторых, в середине двадцатых годов он играет ключевую роль организатора, объединяя заумников в такие группы, как Орден заумников и Левый фланг, где будущие обэриуты Хармс и А. И. Введенский делали свои первые шаги[221], а также сближая свою поэзию с творчеством художника Матюшина и с его группой Зорвед при петроградском Государственном институте художественной культуры (ГИНХУКе), возглавляемом в это время Малевичем. Наконец, что особенно важно, Туфанов видел себя преемником Хлебникова в качестве «Председателя Земного Шара Зауми» и «Государства Времени» под именем Велемира II.
Необходимо остановиться на последнем положении, в первую очередь, потому, что оно не вполне обоснованно толковалось скорее в контексте противопоставления, чем преемственности, а также в связи с появившимся в последние годы интересом к фигуре Туфанова. Множество вышедших в последнее время статей дополнило то, что мы знали о нем ко времени переиздания в 1991 году «Ушкуйников»[222], а работа с личным архивом Туфанова (Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Ф. 749), в котором хранятся многочисленные стихотворения, драмы, статьи, письма и даже роман поэта, обещает новые открытия[223]. Эти материалы проливают новый свет на связи между двумя писателями, несмотря даже на то, что многие статьи дополняют, а порой повторяют уже известные, опубликованные как при жизни Туфанова, так и в 1991 году в новом издании сборника «Ушкуйники».
Эти статьи были написаны после смерти Хлебникова, которую Туфанов воспринял как «жестокую потерю для нашего литературного футуризма»[224] и которая побудила его предложить создание «Кружка памяти поэта Хлебникова»[225]. Некоторые из них предназначались для чтения в «Вольной Философской Ассоциации», где 10 сентября того же 1922 года Н. Н. Пунин выступил на тему «Хлебников и „Государство Времени“», 10 октября Л. E. Аренс говорил о «Хлебникове и будетлянах», а 18 сентября был организован вечер «Памяти Велемира Хлебникова», в том числе с участием Малевича и Матюшина. Годом позже, в первую годовщину смерти поэта, Туфанов пишет еще одну статью — «Поэзия Становлян (К годовщине Велимира Хлебникова)», название которой вписывает слово становлянин в уже длинный список неологизмов русского авангарда. Приблизительно в то же время в студии В. Е. Татлина была поставлена сверхповесть «Зангези» (11 и 23 мая 1923 года), которой Туфанов посвятил серьезный разбор[226].
Все эти тексты — как напечатанные, так и ненапечатанные — сопровождают подготовительный процесс, ведущий к изданию книги «К зауми», вышедшей в свет в 1924 году[227]. Они укрепляют нас в мнении, что Туфанов ставит Хлебникова особняком от других будетлян, с которыми его традиционно связывали. Они также показывают, что искания Туфанова идут в русле исканий поэта, сумевшего открыть дорогу истинной зауми, единственной поэзии, способной за-ум-но выразить непостижимый умом мир в его вечном становлении.
В то время Туфанов развивает теорию семантизации согласных фонем, прямо унаследованную им от Хлебникова (хотя первого в слове интересовали предударные фонемы, а второго — начальные). Во вступлении к упомянутому изданию Двинятина убедительно показывает, что Туфанов знал «Перечень. Азбуку ума» (1917), но что он не был знаком ни с «Художниками мира!» (1919), ни с «Нашей основой» (1919–1920). Поиски поэтов по семантизации согласных фонем, очевидно, шли параллельно. Двинятина также показывает, что в отношении некоторых фонем поэты пришли к схожим результатам. Но это уже другая тема.
Из всего сказанного видно, что сопоставление Хлебникова и Туфанова — тема обширная, и поэтому кажется не лишним внести некоторые уточнения в толкование термина становлянин, который постоянно встречается у писателя в это время. Но сначала необходимо исправить одну ошибку, допущенную нами в толковании этого термина.
В 1924 году в книге «К зауми» Туфанов пишет:
Наши предшественники — Елена Гуро, Крученых и Хлебников через «воскрешение слова» шли к заумию, поэтому они не столько будетляне, сколько становляне[228].
В 1991 году в предисловии к переизданию «Ушкуйников», куда входила и процитированная статья, мы истолковали эту фразу таким образом, будто в оппозиции терминов будетлянин — становлянин Туфанов отдавал предпочтение первому. На самом же деле толкование это ошибочно — все обстоит как раз наоборот. Из статей Туфанова начала двадцатых годов мы узнаем, что самого себя он тоже считает становлянином и отбрасывает термин будетлянин как чересчур узкий. В чем причина этого? Видимо, в том, что исключительная устремленность поэзии в будущее оборачивается отказом принять целостное представление о течении времени, а следовательно, и от идеи о возможности преодоления смерти.
Победа над смертью является частью поэтической программы Туфанова, а достичь ее возможно, лишь отбросив представление о времени как о протяженности, то есть отбросив сами понятия прошлого и будущего. «Я не приемлю будущего, а вот от прошлого иду к безобразной, звуковой поэзии», — пишет Туфанов в своей автобиографии в 1922 году[229]. При этом условии достигается полная свобода в вечности, то есть то, что Туфанов называет в статье «Освобождение жизни и искусства от литературы» (1923) «прекрасной мгновенностью, умирающей и воскресающей бесконечно»[230]. В заключении к статье «Государство Времени» (того же года) Туфанов пишет:
Мы разрушим ее <вселенную. — Ж.-Ф. Ж.> и упраздним даже смерть, а новой вселенной, взамен смерти, дадим самих себя, самих себя, как солнцелейную пляску в лазурной мгновенности под вихревые аккорды звуко-шумов и жестов.
Для Туфанова, как для всех его современников, идея мгновенности связана с философией Бергсона и соприкасается с ключевым понятием текучести — поэтического принципа, постоянно присутствующего в статьях Туфанова: только текучесть позволяет воспринять жизнь в ее бесконечном потоке и вечном возрождении, в образе реки, которая в истоках и в устье обладает равно «прекрасной мгновенностью»[231]. Статья «Поэзия Становлян» открывается фразой, которую Туфанов неустанно повторяет в текстах этого времени и которая навеяна чтением «Творческой эволюции»:
Жизнь есть нечто эволирующее, становящееся, движущее, ускользающее, неустойчивое, скользкое, крылатое, непрерывное, тягучее, непредвидимое, вырывающееся и торчащее вечно новое. Такова жизнь, таково и искусство, таков и поэт, художник.
А между тем, человеческий ум, привыкший к пространственному восприятию времени, к сравниванию, сопоставлению, выделению общих признаков, все распределяет по ящикам с надписями: символисты, акмеисты, имажинисты, будетляне, космисты и пр. и пр.
Но поэт, как сама жизнь, есть то, что становится, делается; он всегда — становлянин. Таков был Велемир Хлебников, такою была Елена Гуро и таковы мы — все Велемиры в Государстве Времени.
Как видно, будетляне относятся к тем, кто привык к «пространственному восприятию времени», в то время как истинный поэт — тот, кто становится[232]. Это показывает, что для Туфанова становлянин, как и Велемир, — это синоним Поэта с большой буквы (даже «больше, чем поэт»[233]) по сравнению с теми мелкими ремесленниками слова, которым чужда «прекрасная мгновенность». Именно в этом контексте надо понимать неоднократно встречающееся в статьях Туфанова различение двух видов лиризма: непосредственного и прикладного. Первый, называемый также заумным, открывает непосредственный доступ к жизни в цельности ее становления, в то время как второй представляет собой лишь ремесленничество, способное остановить реальность в застывших формах, на которые уже нетрудно приклеить «слова-ярлыки»[234]. По мнению Туфанова, этот второй тип лиризма подпадает под известное определение А. А. Потебни, назвавшего поэзию образным мышлением[235]. Напротив, «непосредственный лиризм» подразумевает освобождение от образности, иными словами, является заумью, способной воплотиться лишь в «фонической музыке». Именно в таком ключе написаны стихи Туфанова этого времени:
Но есть другого рода лиризм, иногда бурный, иногда тихий, но исходящий всегда от жизненного порыва, непосредственный, не прикладной; к нему определение Потебни «поэзия — образное мышление» не приложимо. Этот лиризм — заумный («Поэзия Становлян»).[236]
Прикладная образность неплодотворна в той мере, в какой она результат пространственного, то есть количественного восприятия времени с его неизбежностью смерти. Туфанов же полагает, что время — это «качественное множество» или «качественная длительность»:
Эту качественную длительность [мы] люди привыкли развертывать в пространстве, привыкли разделять моменты и лишать все живое одушевленности и окраски, привыкли изолировать переживания из комплекса явлений и обозначать их словами, придавая им характер вещей <…> («Велемир I Государства Времени»).
Гений Хлебникова сумел освободиться от этой образности:
Искусство было поэзией мыслей, образное мышление (по оп-редел<ению> Потебни). Поэт был не свободен, он жил вдали от самого себя, от своего Я, и давал в поэзии только обесцвеченный словами-понятиями призрак, тень, которую чистая длительность бросала в однородное пространство. Поэт жил больше в пространстве, нежели во времени, для внешнего мира больше, чем для самого себя, больше говорил и думал, чем ощущал, он не проникал вовнутрь предмета и не сливался с тем, что есть в нем единственное и, следовательно, невыразимое.
И Хлебников был велик тем, что он первый почувствовал ненужность [слова образа] поэтических образов в поэзии. Он писал:
Бобэоби пелись губы
<…>
Он ушел к словотворчеству, выдвинув на первый план фонему с ее психически живыми кинемами и акусмами. Для него слово [вставка: точнее, комплекс звуков] стало самовитым, в смысле освобождения от образности; он выдвинул вопросы о значении первых согласных в слове, о перемене согласных в корне, о чем здесь уже докладывал г. Аф<а>н<а>с<ьев-Соловьев> («Велемир I Государства Времени»).
Как видно, главный вопрос — это вопрос восприятия времени, того, что, по словам Туфанова, «для нас — последовательное и качественное множество». И только заумь способна перевернуть представления о времени:
Наше заумие ведет, конечно, не к возврату в первобытное состояние, а к разрушению вселенной в пространственном восприятии ее человеком и к созданию новой вселенной в Государстве Времени («Государство Времени»).
В этой статье, посвященной «Государству Времени», как и во многих других работах, Туфанов повторяет мысль о том, что понятия прошлого и будущего бесполезны. Есть только настоящее, то есть вечное становление:
Для нас «прошедшее» всегда втекает в настоящее, и «будущее» — то же настоящее и тоже с погруженным в него прошлым. Мы не приемлем ни прошедшего, ни будущего в пространственном восприятии. Есть только одна прекрасная мгновенность, умирающая и воскресающая бесконечно («Государство Времени»).
В этом, собственно, и заключается проблема, непреодолимая для тех, кто привержен прикладному лиризму и обладает пространственным представлением о времени. Будетляне, следовательно, как вытекает из семантики корня, на котором построен неологизм, не в состоянии понять «прекрасной мгновенности», их связь со временем остается пространственной. Я говорю, разумеется, лишь о том значении термина будетляне, в каком употребляет его Туфанов, понимая под этим футуристов, но — и это крайне важно — Хлебникова он относит к этой категории лишь в историческом плане, но отнюдь не в эстетическом. И все статьи из собрания, о котором идет речь, подтверждают это положение.
Соединив все эти элементы, мы убеждаемся, что система, в которую они складываются, вполне последовательна. Эта система состоит из ряда синонимов и представляет собой по существу парадигму авангарда как в литературе, так и в искусстве (хотя в нашем контексте они скорее составляют единое целое, что показывает сотрудничество с Матюшиным и с его учеником по ГИНХУКу Б. В. Эндером, который «иллюстрировал» сборник «К зауми»[237]). Заумь, таким образом, является синонимом становлянства, и оба термина входят в тот же смысловой ряд, что и безобразность, беспредметность[238], непосредственный лиризм, фоническая музыка и т. д., к чему можно было бы добавить дунканизм[239], вортицизм[240] и др. Вот сколько способов разрушить вселенную, постигаемую пространственно, и воссоздать ее в беспредельности «Государства Времени» (то есть Заумия), — которое достижимо как раз благодаря зауми.
Как было уже сказано, именно разрушение «пространственного восприятия времени» позволяет человеку освободиться от Смерти. Это удалось достичь Хлебникову. В наброске «<Речи для вечера памяти Хлебникова>» Туфанов пишет: «В заключении я напомню об одном замечательном произведении Хлебникова „Ошибка барышни Смерти“ как попытке, общей всем нам, путем волшебства звуковой композиции разрушить смерть в пространственном восприятии ее человеком». Отголоски этих размышлений мы находим и в рецензии на постановку «Зангези» в 1923 году, когда он акцентирует внимание на финале спектакля. На сцене, пишет он, появляется доска с объявлением: «Зангези умер… / Зарезался бритвой / Оставив записку», после чего «появляется на сцене Зангези, и известие о его смерти опровергается. Над сценой развертывается полотно с надписью: „28 IV 1922“ — дата смерти Велимира Хлебникова»[241]. Как известно, Зангези сам объявляет в конце сверхповести: «Зангези жив / Это была неумная шутка»[242]. Бритва не в состоянии перерезать «воды его жизни», то есть остановить текучесть жизни (см. стихи: «Широкая железная осока / Перерезала воды его жизни, его уже нет…»[243]). Хлебников, таким образом, действительно «Король времени», он бессмертен, как и его творения.
Итак, по словам Туфанова, Хлебников проделал путь, ведущий к зауми, к поэзии без слов, без образности. Есть, конечно, и другие поэты, которые шли и идут тем же путем, к ним относятся Лермонтов, Фет, Бальмонт, Ахматова или Садофьев, «но их переход к нашему лиризму тормозится прикладными задачами: вызывать „любовное томление молитвами из слов“, „познанием“ и т. п.» («Простое о поэте Хлебникове»). Сам Хлебников освободился от всего этого, об этом и пишет Туфанов в статье о «простоте» Хлебникова, поясняя, что поэт сложен только для тех, у кого пространственное восприятие его произведений, и что на самом деле он был совсем прост, даже если порой и «возвращался к придуманной жизни <т. е. — к образам. — Ж.-Ф. Ж. >, становился сложнее и писал, как Пушкин» (!). Он заключает свою статью следующими словами:
Чем ближе мы становимся к природе, тем непонятнее кажемся человеческому уму. И когда, подобно библейскому Духу Святому, происходит сошествие [его] природы на нас, апостолов, мы начинаем говорить на всех языках. Эти все языки и есть заумный язык, которым овладевал в своем становлении Хлебников и которым никогда не овладеет человеческий ум, создающий из поэзии всегда образное мышление.
Подписав эту статью «Велемиром II в Государстве Времени», Туфанов отвел Хлебникову место первого Поэта. Отныне все подлинные поэты, и он, Туфанов, в первую очередь, будут «Велемирами». Это имя, которое Туфанов по понятным причинам неизменно дает в написании с двумя «е», — вот звание, достойное истинного поэта:
Звание Велемира, повторяю, обязывает: отказ от пространственного восприятия вселенной, уход к недумающей Природе и неизбежно связанное с ним заумие в поэзии, отказ от «образного мышления» и передача самоощущ<ений> жизни в движении фоническими аккордами. Мы должны установить имманент<ный> телеологизм для всех фонем и связь и порядок в организации материала нашего искусства. В этом Государстве Времени я чувствую уже себя Велемиром II, но чтобы быть Велемиром III, могу уступить корону Велемира II («Велемир I Государства Времени»).
Все эти частности важны, поскольку показывают, что Туфанов хотел прочно и надолго внедрить заумь, или, иными словами, ста-новлянство хлебниковского типа, более того, он видел в ней конечную и единственную поэтическую форму своего времени. Это позволяет нам с большей серьезностью отнестись к попыткам Туфанова создать в середине двадцатых годов организацию молодых поэтов Ленинграда. В Декларации Заумного Ордена он объявляет: «Орден объединяет всех становлян, т. е. тех, кто становится, а не тех, кто был и будет». И уточняет: «Не Пушкиных и не будетлян»[244]. Туфанов ясно представлял себе, что в отличие от такого «старого футуриста», каким был, к примеру. Крученых, Хлебников не вошел бы в категорию «будетлян» и что Орден заумников является прямым детищем великого ушедшего поэта. Поэтому влияние Хлебникова на начинающих поэтов, которых в 1925 году Туфанов объединяет в Левый фланг, не должно быть недооценено при анализе их текстов. Хлебников, поэт-становлянин, никогда не умирал для них. Его смерть воспринималась «неумной шуткой», и Хармс был вправе в своем известном двустишии 1926 года, посвященном «Виктору Владимировичу Хлебникову», написать: «Ногу на ногу заложив / Велимир сидит. Он жив».
Кризис «текучести» в конце Серебряного века
(О Леониде Липавском и его поколении)[*]
Среди произведений, которые долгое время были недоступны читателю, несмотря на либерализацию режима и открытие архивов, сочинения Л. С. Липавского (1904–1941) занимают видное место. С этой точки зрения недавнее издание тома его произведений В. Н. Сажиным — приятная новость[246].
Конечно, Липавский не является фигурой первого плана. Он прежде всего философ. Конечно, его тексты гораздо менее «доходны» и выгодны для продажи, чем другие. Нужно добавить, что большая часть его текстов, скорее всего, утрачена, а собранные вместе, они представляют собой скромное и очень фрагментарное наследие.
Несмотря на это, его наследие заслуживает особого внимания по крайней мере по двум причинам. С одной стороны, потому, что, даже если речь идет о философских трактатах Липавского, его тексты имеют подлинное литературное значение[247], и не только с точки зрения формы, но также и с точки зрения их эстетических следствий. С другой стороны, потому, что если подойти к этому наследию в рамках общего контекста позднего «Серебряного века», то Липавскому отводится отдельное место, наряду с другими писателями, входящими в группу, известную под названием чинари (поэты Введенский, Хармс, Н. М. Олейников и философ Я. С. Друскин)[248]. Все они теперь в той или иной степени заняли подобающее им положение в истории русской философии и литературы: в наше время все произведения поэтов-чинарей опубликованы, Хармс даже в широком масштабе. Наследие Друскина также широко доступно читателю благодаря неутомимым усилиям его покойной сестры Л. С. Друскиной. К этому надо добавить, что чинари были опубликованы все вместе в объемной двухтомной антологии, изданной в 1998 году и переизданной в 2000-м, — издание, хорошо подчеркивающее общность мысли этих писателей[249], но до 2005 года не было отдельного издания сочинений Липавского.
Среди причин, по которым Липавскому отводится место в дискуссии о Серебряном веке, — тот факт, что, подобно другим чинарям, его путь служит примером того, во что некоторые исходные эстетические принципы Серебряного века превратились в контексте тридцатых годов. Нам бы в особенности хотелось показать, в чем творчество Липавского является отголоском разочарований по отношению к предшествующему периоду, проследив повторяющийся мотив воды и, точнее, текучести — метафора, которая неизменно связана с проблематикой времени[250] и слова (речь/река).
В одной из глав самого известного произведения Липавского «Исследование ужаса» возникает образ воды, ставшей «твердой как камень», плотной жидкости, смыкающейся над человеком. Что к тому привело? Эти строки были написаны в первой половине тридцатых годов. Чуть более чем десятью годами ранее, в 1921 году, Липавский, лишь недавно получивший диплом об окончании гимназии, опубликовал во втором томе альманаха Цеха поэтов «Диалогическую поэму». Через год за этой публикацией последовала другая — в третьем томе того же альманаха. Тот факт, что Липавский оказался в кругу Цеха поэтов, возглавлявшегося Н. С. Гумилевым, игравшим активную роль в литературе начала двадцатых годов, немаловажен: это предполагало общение со сливками писательской среды той эпохи (в лохмотьях и изголодавшихся), в том числе в одном из ее центров, которым в то время был петроградский Дом искусств. В то время это место объединяло все направления Серебряного века и фактически представляло собой связующее звено между прежним поколением и тем, которое должно было стать активным в двадцатые и тридцатые годы[251].
Человек, «выплеснут временным прибоем» на «случайный берег», наблюдает, как на океане поднимаются волны, и ведет диалог с хором — вот обстановка этого стихотворения, в котором определяющее место занимает вода. Развитие водяного элемента происходит во взаимосвязи с темами, которые станут основными в творчестве Липавского на протяжении всей его жизни, а именно: темой постоянного рождения мира, времени без направления и мифа о вечном возвращении:
Бесконечно рождаясь,
Ныряя из тела в тело
Сквозь смерть
<…>
Память о будущих днях
И о ночи прошлой,
Отвори проклятую дверь
<…>
Время непрерывная жертва,
Жизнь непрерывная тризна.
Сквозь непроницаемость времен,
Прозревая корни предметов
И предчувствуя их листья,
Проношу я мою душу,
Как рождающуюся звезду[252].
«Диалогическую поэму» поэтому можно сопоставить с некоторыми философскими концепциями, очень модными в эпоху Серебряного века, и в их числе с идеей о том, что жизнь представляет собой вечный и непрерывный поток, в противоположность разуму, который способен воспринимать лишь то, что неподвижно и поддается разграничению. Успех этой идеи связан с интенсивным освоением философии Анри Бергсона в России, в особенности его «Творческой эволюции» (1907)[253]: интуитивное познание жизни, триада «реальное — непосредственное — абсолютное», идентификация понятий «реальное» и «становление», и в особенности метафизика становления как метафизика имманентности, открытой трансцендентности — вот частые темы этого времени, как в литературе (у символистов и их последователей), так и в живописи (понятие «интуиции» у Малевича[254]). Из этой концепции мира (и времени) вытекают многие поэтические принципы Серебряного века и, в особенности, идея о необходимости создания языка, адекватного для постижения этого вечного потока во всей его целостности. Заходит ли речь о музыкальности, о которой говорит К. Д. Бальмонт, или о зауми будетлян, которая все еще в центре внимания в двадцатые годы, мы присутствуем при поисках поэтического языка, способного постичь этот большой вечный поток мира. Уже Бальмонт видел, как из воды возникала «гармония слов»:
Потому что когда, молода и горда,
Между скал возникала вода,
Не боялась она прорываться вперед, —
Если станешь пред ней, так убьет.
И убьет, и зальет, и прозрачно бежит,
Только волей своей дорожит.
Так рождается звон для грядущих времен,
Для теперешних бледных племен[255].
В этом контексте фраза Липавского «Вода, твердая как камень» приобретает особенное значение, тем более в ситуации сталинского террора, в период краха всех ценностей модернизма. С этой точки зрения эволюция метафоры воды (и текучести) от «Диалогической поэмы» к «Исследованию ужаса» очень выразительна.
В плеяде писателей, у которых в той или иной степени присутствует эта тематика, отдельное место следует отвести одному из постоянных посетителей Дома искусств, М. О. Гершензону, работы которого безусловно оказали влияние на молодого Липавского в то время, когда он работал над «Диалогической поэмой». В 1922 году (то есть в год второго издания Цеха поэтов) Гершензон публикует очерк «Гольфстрем», посвященный — в рамках его работ о Пушкине — философским фрагментам Гераклита Эфесского[256].
В предисловии к очерку Гершензон обращает внимание на то, что существует некая перманентность человеческого сознания с тех пор, как оно вышло из мрака и безмолвия: «Первобытная мудрость содержала в себе все религии и всю науку. Она была как мутный комок протоплазмы, кишащий жизнями <…>»[257]. В глубинах человеческого сознания, по его словам, зародились «вечные течения, текущие от пращуров до нас и дальше в будущее». Гершензон ставит перед собой целью исследовать этот «Гольфстрем духа», эти вечные течения (в которых каждое индивидуальное сознание является лишь мимолетным эпизодом) — для того, чтобы «в беспредельных пространствах времени найти самого себя»[258].
Основная идея учения Гераклита, интересующая Гершензона[259], заключается в утверждении, что «в мире нет ничего постоянного, что Абсолютное не есть какая-либо субстанция или сила, остающаяся неизменной в разновидности явлений», но что все есть движение. Это постоянное движение лежит в основе всего: «В мире нет неподвижности и покоя, но все движется, все течет, ничто не пребывает; бытие — не что иное, как движение»[260]. Иными словами: «Мир — не данность, а процесс»[261], и существо, которое оказывается в этом мире, находится в постоянном становлении.
«Чистое космическое движение, недоступное чувственному восприятию, Гераклит условно называет огнем. Это огонь метафизический — то всеединое начало, которое люди именуют Богом»[262]. И все существующее — это лишь переходное состояние изменения этого огня до абсолютного холода, который является не чем иным, как отсутствием движения (остылость/неподвижность). Не только в мире, но в каждом существе постоянно совершаются два противоречивых процесса (от горячего к холодному и от холодного к горячему), откуда вытекает идея непрерывного движения: «Ничто не возникает, и мир никогда не был создан; ничто не гибнет, и мир вечен, ибо он — только движение»[263]. Этот процесс предполагает три состояния: газообразное, жидкое и твердое. Жизнь, таким образом, представляет собой лишь непрерывный переход от одного состояния к другому: от огня к воде, от воды к твердым телам, и наоборот. Ни одно из этих состояний не стабильно: «они лишь мнимые отрезки единого неустанно текущего потока»[264]. Эти три состояния не пребывают ни мгновения, но непрерывно переходят одно в другое путем «сгущения» или «разрежения»: «Все это — текучие, мнимые формы. Лишь человек в своем чувственном опыте воспринимает их как постоянные формы бытия»[265]. Отсюда — идея Гераклита, которая должна нас заинтересовать (во всяком случае, в прочтении Гершензона), по которой «в средней стадии» — то есть между газообразным состоянием и твердым состоянием — «вводе, рождается жизнь»[266]. «Жизнь, по Гераклиту, — это неустанная борьба различных стадий огня между собой. Мир течет как река» (и невозможно войти дважды в одни и те же воды[267]). «Вещи становятся» по мере того, как угасает вечный огонь[268].
Вся этика, история, философия Гераклита, по словам Гершензона, в следующем: «Нет Бога, который бы, извне или изнутри, направлял мир, но сам мировой процесс есть Бог. Жизнь мира — это неустанное и регулярное изменение: она непрерывно течет, подобно реке, вечно та же в смене явлений, без начала и конца, без причины и цели <…>». Необходимо сохранить в себе первоначальное тепло души, не дать ей остыть и в особенности «отвердеть»[269].
Ничто не позволяет утверждать, что Липавский читал очерк Гершензона, но очевидно, что его «Диалогическая поэма» пропитана изложенными в нем идеями, свидетельствуя о том, что они прочно вошли в сознание эпохи. Интересно поэтому проследить развитие этих идей в последующие годы, поскольку их развитие — пример того, что произошло с целым поколением.
Последствия наиболее выразительны в философском плане. Это особенно верно в отношении категории времени — объекта постоянного интереса со стороны Липавского (и других чинарей), уже потому, что проходящее время можно представить (и это часто делается в форме метафоры) как воду текущей реки, в которую, как утверждает Гераклит, нельзя войти дважды. В этом вечном континууме события (также широко изученная чинарями категория) представляют собой перерыв, необходимый для чувственного восприятия времени. Остановка времени (возможно, иллюзорная), событие напоминает попытку отвердевания его жидкой массы:
Если время уподобить основной жидкости, то события будут взвешенными в ней капельками, эмульсия или раствор. Мы можем и не различать отдельных капелек, не считать их (внутривременное отношение), а ощущать густоту раствора[270].
Но это не все. Последствия в равной степени важны и для языка — мы осознаем, что слово в нем играет роль, сопоставимую с ролью события в течении времени. Эти идеи мы находим в «Теории слов» (1935) Липавского. Речь идет не об обсуждении правильности лингвистических теорий философа (это хорошо сделала Т. В. Цивьян[271]), но о том, чтобы выявить их эстетическое значение. В главе «История значений» Липавский утверждает, что изначально в мире существовали «семена слов», которые выросли и вышли на встречу с миром, постепенно выявляя значения в виде слов.
Этот процесс начался простым «дыханием» и закончился «миром твердых тел». Между двумя фазами есть первая фаза истории языка, которая описана Липавским как «проекция на жидкость»[272] — что отчасти напоминает приведенную Гершензоном дыхательную трилогию Гераклита, в которой жидкое состояние расположено между газообразным и твердым состоянием[273]. Липавский подчеркивает, что следы этого момента истории значений есть в современном языке, начиная с пары речь/река, в таких выражениях, как плавная, текучая речь, а также, разумеется, в таких временных оборотах, как в течение времени. Лишь впоследствии язык будет развиваться в структурирующие грамматические отношения. Но становится понятно, что интерес Липавского обращен к предшествующему состоянию языка, соответствующему времени до разделения мира на предметы и действия (выраженные частями речи), времени, предшествующему отношениям субъект — объект (выраженным грамматическими отношениями), ко времени без событий, без количества, без чисел, без счета — к вечному времени:
Очень важно понять, что при проекции на жидкость не существует ни разделения на предметы и действия (частей речи), ни отнесение к субъекту или объекту (залоги), ни, наконец, числа[274].
Таким образом, история значений — это история постепенной специализации слова, постоянного сжимания семантического поля, сопровождающего разделение мира разумом, и это происходит в процессе эволюции, которую Липавский отчетливо ассоциирует с процессом отвердевания[275]. Первоначальное жидкое состояние поэтому соответствует определению, которое можно было бы дать зауми, в смысле поэзии «без предмета» (беспредметность). И если перенести на язык метафору реки, которая находится одновременно у истока и в устье, мы видим, что этот «жидкий» язык отвечает требованию обобщающего выражения мира, которое предполагает само понятие абстракции, содержащееся в зауми.
Связующим звеном между обоими упомянутыми периодами, и как раз в связи с понятием текучесть, является, безусловно, Туфанов[276]. Творчество Туфанова представляет собой переход от символистской и одновременно эгофутуристической поэзии его первого сборника «Эолова арфа» (1917) к радикальной зауми 1920-х годов («К зауми», 1924; «Ушкуйники», 1927). «Эолоарфизм»[277] Туфанова в 1910-е годы — чистый (хотя и периферийный) продукт Серебряного века: к тому же поэт признает влияния, которым он подвергся. Среди них можно отметить влияние Бальмонта (и его «Великой Книги»[278]), которого он относит к «нашим лучшим поэтам»[279] и с которым чаще всего тематически и музыкально перекликаются его собственные стихотворения. Неудивительно поэтому, что Туфанов, как и многие его современники, признает влияние, оказанное на его творчество философией Бергсона[280].
В 1918 году, через год после появления его первого сборника, Туфанов впервые говорит о текучести — в длинной программной статье, в которой он открыто объявляет себя последователем Бергсона и, в частности, его «Творческой эволюции». Он заимствует у Бергсона, цитируя его, представление о жизни как о некой непрерывности, недоступной для разума, способного воспринимать лишь то, что неподвижно и разделяемо[281]. Интересно, что такое представление о мире, находящемся в постоянном движении, в котором «все течет», лежит и в основе эстетических теорий писателя. Туфанов понимает заумь как поэзию движения, единственно способную постичь то, что недоступно разуму. Начиная с этого момента поэт говорит о текучести как о поэтическом принципе, — текучести, которая очень скоро становится синонимом абстракции, как в живописи (беспредметность), так и в поэзии (безобразность, говоря языком Туфанова).
В следующие годы эта идея останется прочно закрепленной в философских и эстетических размышлениях Туфанова. В 1923 году он возвращается к тезисам Бергсона (в свободном переложении и автоцитации статьи 1918 года), на этот раз открыто связывая их с учением Гераклита:
Жизнь есть нечто — движущееся, эволирующее, становящееся, крылатое, ускользающее, неустойчивое, непрерывное, тягучее, вырывающееся и творящее вечно новое, непредвидимое; — огнезарные вихри, в которых душа нового человека чувствует себя уже влажной, как в майское утро возврата к вечной юности, от приливающих юных сил.
Все течет, все изменяется, говорил еще древний Гераклит. Жизнь не знает возврата к прошлому; она подобна океану, говорил старец Зосима у Достоевского: надавишь в одном месте — в другом конце мира отдается; она подобна Гольфстрему, как поток: нет в ней ни прошлого, ни будущего, как в диалектическом процессе, а есть одна только прекрасная мгновенность, умирающая и воскресающая бесконечно[282].
Настоящая «живая жизнь» вся заключена в этой диалектике, синтез которой назван Туфановым «опрощение». И именно мир в движении, этот текучий мир (без предметов и без событии) должна постигать поэзия. Лишь поэзия «без предмета» (а значит, без слов) может достигнуть этого опрощения:
А при опрощении мы уходим к ней <к природе. — Ж.-Ф. Ж.>, недумающей, и уходим, конечно, без слов. <…> И поэтому материалом лирики может быть только звук человеческой речи; природа любит, живет, замирает, вновь оживает, выбрасывает только жесты. Мы соединяемся с ней, имея в звуке жест. Недаром при зарождении речи в ледниковые периоды звук человеческой речи был только жестом. Нам остается только воскресить утраченную им функцию — вызывать ощущение движений[283].
Немного позже, в «Декларации», которая следует за предисловием к сборнику «Ушкуйники», Туфанов вкратце излагает мысль, которую можно сформулировать следующим образом: если заумное творчество «беспредметно», то это потому, что предметы в нем не имеют своих обычных очертаний; с другой стороны, искажение — более надежный способ приступить к рассмотрению действительности в ее «текучести» (с «расширенным смотрением», говоря языком Матюшина[284]):
Заумное творчество беспредметно в том смысле, что образы не имеют своего обычного рельефа и очертаний, но при расширенном восприятии, «беспредметность» в то же время вполне реальная образность с натуры, воспроизведенной «искаженно» при текучем очертании[285].
Мы находим эту идею в другой статье, написанной примерно в то же время. В ней Туфанов еще раз открыто сопоставляет язык заумников с текучестью мира, которую, как предполагается, этот язык воспроизводит:
А мы, немногие, слышим и подземные удары грядущих землетрясений, при дальнейших открытиях Павлова, Эйнштейна, Марра и других, и делаем попытки художественного оформления новых представлений при текучем рельефе вещей, с их сдвигами, смыканиями и с устранением обычных соотношений между природой, человеком и стихиями[286].
Таким образом, сформировалось представление, что заумная поэзия может позволить лучше воспроизводить реальность: мир текуч, и предметы, из которых он состоит, не имеют четких очертаний. Человек пытается остановить эту действительность в движении, для этого он использует слова-«ярлыки». Но эти слова — продукты разума, который по определению ограничен, — противоречат самой идее текучести мира: они в такой же степени являются попытками остановить это вечное движение. Для того чтобы воспроизвести этот большой поток мира, необходимо найти новый стиль письма, нужно писать текуче.
Как раз в то время, когда Туфанов развивает свои идеи (то есть в середине двадцатых годов), он создает в Ленинграде группу поэтов (Левый фланг), в которую вошли заумники-чинари Даниил Хармс и Александр Введенский. Эти поэты представляют собой уже следующее поэтическое поколение — поколение Липавского, которое узнает «воду, твердую как камень».
Не принимая во внимание те несколько замечаний, которые были сделаны выше, невозможно адекватно понять некоторые тексты этих двух поэтов, в частности их размышления о времени и вечности. Например, когда Хармс заявляет (после того, как он отметил, что «новая человеческая мысль <…> потекла» и что «она стала текучей»):
Один человек думает логически; много людей думают ТЕКУЧЕ.
<…>
Я хоть и один, а думаю ТЕКУЧЕ[287].
Текучесть постоянно присутствует в текстах Хармса в виде метафоры. Только один пример — поэтический диалог «Вода и Хню» (1931), который начинается следующими стихами:
Хню
Куда, куда
спешишь ты, вода?
Вода
Налево
там за поворотом
стоит беседка
в беседке барышня сидит
её волос черная сетка
окутала нежное тело
на переносицу к ней ласточка прилетела
вот барышня встала и вышла в сад
Идёт уже к воротам.
Хню
Где?
Вода
Там за поворотом
барышня Катя ступает по травам
круглыми пятками
на левом глазу василёк
а на правом
сияет лунная горка
и фятками…
Хню
Чем?
Вода
Это я сказала по-водяному[288]
Примечательно: вода рассказывает Хню о том, что происходит вниз по ее течению, «за поворотом», то есть о том, чего нельзя видеть с места, где происходит дискуссия. Только вода наделена даром вездесущности: она может говорить здесь о том, что происходит там, она находится одновременно у истока и у устья, потому что она текуча. Текучесть воды, ее всеведение — идея, которую мы находим в романе Г. Гессе «Сидцхарта» (1922). Перевод романа под заглавием «Тропа мудрости» опубликован за несколько лет до того, как Хармс написал свое стихотворение, и нет сомнения, что интересующие нас писатели были с ним хорошо знакомы[289]. На берегу реки Сидцхарта находит священное слово (слово слов) Ом. Дальше он понимает, что в тайны жизни можно проникнуть через воды реки:
Из тайн же самой реки он в этот день узнал лишь одну, и та поразила его душу. Он видел: эта вода текла и текла; она текла безостановочно и все же всегда была тут, всегда во всякое время была такою же, хотя каждую минуту была новой[290].
Сиддхарта осознает, что для воды реки не существует времени и что она познала не протяженность вечности, а то, что Туфанов называет «прекрасная мгновенность»:
Ты хочешь сказать, что река одновременно находится в разных местах — у своего источника, и в устье, у водопада, у перевоза, у порогов, в море, в горах — везде в одно и то же время, и что для нее существует лишь настоящее — ни тени прошедшего, ни тени будущего?[291]
У Хармса, как у Гессе, образ воды напрямую связан с выходом за пределы времени (протяженность) и с идеей трансцендентности. Например, в набросках, написанных за несколько дней до «Воды и Хню», которые также представляют собой диалог, мы находим ту же идею, выраженную той же рифмой:
Он
скорей сколотим быстрый плот
и поплывём по вьющейся реке
мы вмиг пристанем к ангельским воротам.
Она
где?
Он
Там за поворотом[292].
Происходящее «за поворотом», там, где открываются небесные ворота, подчиняется той же логике, что и происходящее вне разума, за умом. Для того чтобы в нее проникнуть, нужно думать текуче, а чтобы ее выразить, нужно писать текуче. Текучесть, следовательно, отчетливо приближается к зауми, метафорой которой здесь является река.
Тематику воды в текстах Хармса, таким образом, всегда следует сопоставлять с поэтическим языком, а ключи к пониманию этой метафоры надо искать в эволюции теории универсального мобилизма, которая — от Гераклита к Бергсону, от Липавского к Туфанову, через Гершензона — является своего рода инвариантом в эпоху Серебряного века и еще долгое время после первого издания «Творческой эволюции». Однако, если проследить историю этой тематики, мы заметим, что неожиданно вода прекращает течь.
* * *
В 1937 году, самом мрачном в его жизни, Хармс создает следующие стихи:
Я плавно думать не могу
Мешает страх[293].
Страх уничтожает текучесть мысли, делает человека неподвижным («Я ничего теперь не делаю»[294]). Этот кризис текучести (представляющий собой кризис движения) логически становится кризисом времени — идея, находящаяся в центре второй части стихотворения, в которой время остановилось и часы без конца издают звук, уже не указывающий на время:
Остановилось время,
Часы бесконечно стучат
Расти трава, тебе не надо время.
Дух Божий говори, Тебе не надо слов[295].
Возможного текучего человеческого слова больше нет: есть лишь безмолвие или же слова, простые инструменты («ярлыки»), разрезающие действительность на куски. В тридцатые годы эта вода, с помощью которой можно было раньше увидеть, что происходит «за поворотом», больше не способна помочь поэту.
Проследив тематику воды в творчестве Хармса, мы замечаем, что чаще всего вода у него становится метафорой убегающего мира, или же она стоячая[296] и скорее заточает человека, чем способствует развитию у него чувства вечности.
Мы находим эти же идеи в «Исследовании ужаса», над которым Липавский работает в те же годы. Для того чтобы объяснить случай с «убегающим миром», философ обращается к ситуации, когда у нас кружится голова. По своей природе головокружение есть «ощущение движения без ощущения направления этого движения». Это то, что происходит с пьяным человеком, который видит, как стены плывут перед его глазами и теряют свои очертания[297]. Реальный мир превращается в жидкое состояние, но в этом процессе, который Липавский описывает как «неподвижное движение», очертания предмета пропадают:
…при движении предмета всегда происходит смазывание его очертаний — от незаметного до того, когда предмет превращается в мутную серую полосу. Это смазывание очертаний предмета происходит от того, что мы не успеваем фиксировать его точно, крепко держать глазами[298].
Отметим схожесть процесса, который описывает Липавский, с описанным Туфановым; но если Туфанов видел в стирании очертаний предмета необходимое условие текучей (а значит, заумной) манеры письма, то Липавский видит исчезающий мир. Этот мир, который поэт должен был бы словом охватить в его целостности (то есть в его текучести), становится неуловимым: вместо того, чтобы поддаться восприятию, он теряет свою «определенность» смазыванием очертаний и его засасывает в абсолютную пустоту. Это объясняет, почему «Исследование ужаса» заканчивается образом ускользающего мира:
Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность.
Потеря предметами стабильности, ощущение их зыбкости, растекания и есть головокружение[299].
Мы сталкивались выше с парадоксом остановленного движения, теперь перед нами парадокс действительности, которая, превращаясь в жидкость, затвердевает. Это время ужаса.
Ужас, механизм которого Липавский описывает, вызван как конкретными явлениями повседневной жизни, так и особенным отношением ко времени. Этот основополагающий страх на самом деле двойствен: с одной стороны, это страх по отношению к «разлитой жизни»[300], которым, например, объясняется страх крови — жидкой жизни, растекающейся за пределы, которые должны бы были быть ее собственными. С другой стороны, это страх перед определенной самостоятельностью материи — такой страх испытывает ребенок при виде желе, дрожащего на блюде, или же эротический страх, который вызывают некоторые части женской анатомии. В обоих случаях ужас вызван однородностью материи. Заметим мимоходом, что среди разных примеров вязкого и клейкого материала, перечисленных Липавским, отдельное место он отводит протоплазме, которая, как мы помним, у Гершензона представляет собой образ «первобытной мудрости», «кишащей жизнями», откуда к нам текут «вечные потоки» «Гольфстрема духа». У Липавского же, напротив, кажется, что эти аморфные массы принадлежат к низшей сфере существования, это вязкая магма жизни до разделения, и такая магма ужасна.
В «Исследовании ужаса», таким образом, жидкий элемент явно отмечен отрицательным знаком: то, что жидко, — ужасно, и ужас рождается от однородности этого элемента. Поскольку метафора текущей воды отсылает ко времени, мы осознаем, что эта однородность есть однородность вечности, которая представляет собой не что иное, как отсутствие времени — неподвижная вечность, компактная масса, поскольку она не содержит событий. Когда Липавский описывает «особый страх послеполуденных часов», он показывает, что имеет в виду именно страх перед остановившимся временем:
…время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мертвое цветение кругом! <…> Как же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков. И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни — во веки веков[301].
Речь, таким образом, идет уже не о вечном движении мира в его текучести — теме, описанной Гераклитом, продолженной Бергсоном и усвоенной целым поколением Серебряного века, — но о мире без движения, затвердевающем в вечной неподвижности: вечной смерти, которую можно противопоставить «вечной юности» (о ней говорил Туфанов). И именно после описания «послеполуденного страха» Липавский помещает четвертый пункт своего трактата, который мы упоминали в самом начале: «Вода, твердая как камень». Первые строки этой главки таковы:
Да, вы попали в стоячую воду. Это сплошная вода, которая смыкается над головой как камень. Это случается там, где нет разделения, нет изменения, нет ряда. Например, переполненный день, где свет, запах, тепло на пределе, стоят как толстые лучи, как рога. Слитный мир без промежутков, без пор, в нем нет разнокачественности и, следовательно, времени, невозможно существовать индивидуальности. Потому что если все одинаково, неизмеримо, то нет отличий, ничего не существует[302].
Мы видим пройденный путь: еще в двадцатые годы именно однородность воды позволяла ей течь, а реке находиться одновременно в устье потока и у его истока и таким образом познать вечность в один миг, в «прекрасной мгновенности». Через десять лет, после краха мечтаний Серебряного века, речь идет об однородности, знакомой утопленнику («Я прыгнул в воду. Вода во мне. <…> Вода переполнила меня. Я захлебываюсь», — пишет Введенский[303]): образ воды, ставшей «твердой как камень» окружающей человека, приговоренного к неподвижной вечности, лежит в основе метафизического ужаса, который описывает Липавский в своем трактате.
Гершензон, вслед за Гераклитом, описывал вечность мира как движение, непрерывно колеблющееся между «разрежением» и «сгущением». Так как это движение вечно, очевидно, что описанный выше переход от газообразного состояния к жидкому, а затем к твердому состоянию представляет собой только одну фазу цикла, подразумевающую противоположную: жизнь мира — это «дыхание», оживленное «вечным огнем», который гарантирует новый толчок по окончании процесса сгущения. Этот процесс Гершензон также описывает как переход от «пути вниз» к «пути вверх»[304]. У Липавского сгущение всеобъемлюще и образ стоячей воды («неподвижного движения») очевиден: мир затвердевает, дыхание останавливается, человек прошел «путь вниз», и он останется здесь, застряв в клейкой массе…; «пути вверх» нет.
Мы уже не в «вечной юности» бесконечного времени, а в эсхатологическом времени. Неудивительно поэтому, что в произведениях Хармса и Введенского в тридцатые годы часто встречается эсхатологическая идея из «Откровения» о том, что «времени больше не будет», как, например, в этих стихах:
Мне всё противно
Миг и вечность
меня уж больше
не прельщают
Как страшно
если миг один до смерти
но вечно жить ещё страшнее[305].
Конечно, последствия не только метафорические (затвердевшая вода) или философские (остановившееся время), они в равной степени затрагивают поэзию: как предвидел Гераклит, поэтическое слово уже не способно выразить своей текучестью вечное обновление мира. В языке Липавского это соответствует такому состоянию, при котором слова находятся уже не в стадии «проекции на жидкость»: они также перешли в твердое состояние («ярлыки» в словаре Туфанова).
Не удивляет, что в этих условиях Хармс, за несколько лет до того заявлявший, что «пишет текуче», теперь отказался от поэзии в пользу прозы, и именно в тот момент, когда Липавский работал над «Исследованием ужаса». Если поэзию Хармса в двадцатые годы следует рассматривать в контексте Серебряного века (даже если это конечная фаза Серебряного века), его проза тридцатых годов бесспорно относится к поэтике новой стадии развития литературы[306]. И это относится ко всему его поколению.
Разумеется, в образе отвердевшей воды есть трагическое измерение, также как в сопутствующей идее остановившегося, неподвижного времени и ужасной вечности, которую это предполагает: Введенский в «Серой тетради» описывает смерть как «остановку времени»[307], Друскин говорит о «неподвижном времени»: «Это пустота и смерть. Время есть, но не проходит»[308].
С этой точки зрения не удивительны самые последние строки, написанные Введенским незадолго до его трагической смерти, в которых отчетливо ощущается предчувствие «остановки времени». В тексте «Где. Когда» (1941) поэт прощается с водой (которая здесь рифмуется с бедой):
…Прощай вода.
Бегут почтовые гонцы,
Бежит судьба, бежит беда[309].
Персонаж, который говорит в этом тексте, — сам поэт, прощающийся с жизнью и с мирозданием, которое он прославлял в своих стихах — деревья, лес, звезды, птицы, трава… и, конечно, река, в которую, по его словам, «он входил, или не входил»:
Я приходил к тебе река.
Прощай река. Дрожит рука.
Ты вся блестела, вся текла,
и я стоял перед тобой,
в кафтан одетый из стекла,
и слушал твой речной прибой.
Как сладко мне было входить
в тебя, и снова выходить.
Как сладко было мне входить
в себя, и снова выходить
<…>[310]
И затем, конечно, происходит прощание с морем (там, где, по Бальмонту, рождается «гармония слов»), таким далеким от всего — и от истока реки и ее поворотов, и от места, где поэт вышел из воды, чтобы умереть:
Море прощай. Прощай песок.
<…>
И всё на море далеко
И всё от моря далеко.
Бежит забота скучной <ш>уткой
Расстаться с морем нелегко.
Море прощай. Прощай рай.
О как ты высок горный край[311].
Затем, простившись с животными пустыни, поэт осторожно складывает свое оружие, вынимает свой висок (так!) из кармана и пускает пулю в голову. И теперь приходит очередь мира прощаться с ним, и в том числе очередь камней, характерные черты которых противоположны характеристике реки. Если река — символ постоянного движения, ведущего к морю, то камень остается неподвижным вдали от моря; если река — образ времени, которое протекает в вечности — «вечной юности», то камень — образ остановившегося твердого времени; наконец, если река — метафора всеобъемлющего поэтического слова, то камень логически ассоциируется с молчанием. В молчании камни дают понять самоубийце, который уже «цепенеет», что наступил конец времен:
Скалы или камни не сдвинулись с места. Они молчанием и умолчанием и отсутствием звука внушали и нам и вам и ему:
Спи. Прощай. Пришел конец.
За тобой пришел гонец.
Он пришел последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Что же он возражает теперь камням. — Ничего — он леденеет[312].
Что касается реки, она устремляется в даль и оставляет поэта каменеть на берегу:
Река властно бежавшая по земле. Река властно текущая. Река властно несущая свои волны. Река как царь. Она прощалась так, что. Вот так. А он лежал как тетрадка на самом ее берегу.
Прощай тетрадь.
Неприятно и нелегко умирать.
Прощай мир. Прощай рай.
Ты очень далек человеческий край.
Что сделает он реке? — Ничего — он каменеет[313].
От Серебряного века мы перешли к Каменному: окаменелость поэта, времени, поэтического слова. В этой эсхатологии окаменелой текучести осталось лишь молчание камней…
И течет «великая река»
(Заметки о «Реквиеме» Анны Ахматовой)[*]
И весь траурный город плыл
По неведому назначенью,
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
Для понимания «Реквиема» Ахматовой следует прежде всего иметь в виду, что эта поэма нарративна: в повествовании, которое ведет читателя от ареста («Уводили тебя на рассвете…») к казни героя («Распятие»), параллельно развиваются две сюжетные линии, связанные с заключением сына, с одной стороны, и страданиями матери, с другой. Обе линии сливаются в кульминационной сцене распятия, вписывающей судьбу отдельной личности тридцатых годов в контекст универсальных образов Христа и Скорбящей Божьей Матери. Кроме того, «рассказ» обрамлен двойным вступлением и двойным эпилогом, что создает устойчивую симметричную структуру произведения и позволяет с самого начала отказаться рассматривать «Реквием» просто как цикл тематически объединенных стихотворений.
При более внимательном прочтении мы замечаем, что по краям эта структура скреплена образом реки, неподвижной в начале первого стихотворения («Посвящение», 2-й стих: «Не течет великая река») и вновь обретающей течение в заключительной строке поэмы («И тихо идут по Неве корабли»). Эта симметрия, приглашая нас продолжить чтение поэмы, следуя принципу «зеркальности», обнаруживает себя и в пушкинских аллюзиях. Так, сразу же за образом неподвижной Невы в первом стихотворении следует цитата из послания Пушкина сосланным декабристам («Но крепки тюремные затворы, / А за ними „каторжные норы“»), а в конце поэмы, непосредственно перед тем, как Нева приходит в движение, мы находим еще одну, на сей раз скрытую (имплицитную) отсылку к Пушкину — вечному певцу Петербурга («Я памятник себе воздвиг <…> выше / Александрийского столпа»), в знаменитых строках: «А если когда-нибудь в этой стране / Воздвигнуть задумают памятник мне…» Это присутствие Пушкина не случайно: в обоих стихотворениях упоминается та самая свобода поэтического слова, которую символизирует река, скованная в начале, вновь освобожденная в конце.
Весь «Реквием» может быть прочитан как история поэтического слова, обновленного в испытаниях, прошедшего, подобно Спасителю, через крестную муку; история, которую следует включить в «петербургский текст», идущий от Пушкина к поэтам, которых пытались лишить голоса в тридцатые годы.
Среди характерных черт «петербургского текста» В. Н. Топоров отмечает особенность соотношения культура/природа: в то время как обычно город определенным образом воплощает победу первой над второй, Петербург, напротив, является полярной системой, где они сосуществуют и где природа не подавлена культурой, но равноправна с ней:
<…> Петербург как великий город оказывается не результатом победы, полного торжества культуры над природой, а местом, где воплощается, разыгрывается, реализуется двоевластие природы и культуры (ср. идеи Н. П. Анциферова). Этот природно-культурный кондоминиум не внешняя черта Петербурга, а сама его суть, нечто имманентно присущее ему[315].
Такое «двоевластие», согласно Топорову, влечет за собой целую серию оппозиций, составляющих структуру «петербургского текста»: что касается природы, то это прежде всего болота, туман, сумрак, ветер, которым противостоят прямые проспекты, архитектурные ансамбли, шпили, купола и т. д. В этом контексте вода традиционно ассоциируется, с одной стороны, с городской сыростью (болота, слякоть, дожди) и, с другой — с наводнением как торжеством природы над гранитом, символизирующим культуру. Именно в таком свете следует рассматривать наказ Пушкина, венчающий «Пролог» к «Медному всаднику» («Вражду и плен старинный свой / Пусть волны финские забудут»).
Возвращаясь к образу неподвижной «великой реки» в «Реквиеме», можно с уверенностью сказать, что оппозиция, лежащая в основе двух отмеченных Топоровым парадигм, оказывается перевернутой (или, по крайней мере, сдвинутой): архитектурные сооружения, самой вертикальностью своих линий представляя феномен культуры (а следовательно, и победу над природой), оборачиваются тюрьмой, в то время как река становится метафорой поэтического слова, вначале застывшего, затем воскресшего. Таким образом, оппозиция: природа (вода) / культура (камень) сменяется на другую: культура (вода) / варварство (камень). Если добавить к этому, что река в равной мере выступает и как метафора Истории, взыскующей памяти (к чему мы еще вернемся), то увидим, что в начале поэмы у тюремного порога застыли ледяное, словно омертвевшее, слово и остановившая свой ход История.
Прочтение «Реквиема» под таким углом зрения позволяет значительно расширить спектр толкований поэмы, что здесь и хотелось бы сделать, проследив, каким образом в рамках ее структуры взаимодействуют и дополняют друг друга два уровня: нарративный (история матери и арестованного сына) и символический (вода и камень города).
Наличие этих двух уровней проявляется уже в эпиграфах. Если в первом («You cannot leave your mother an orphan») вводится тема материнства, под знаком которой проходит вся поэма и которая составляет самое ядро ее сюжета, то во втором акцентируется место, где разворачивается действие:
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был[316].
«Там» — это Ленинград или, точнее, ленинградская тюрьма «Кресты», у стен которой поэтесса провела «семнадцать месяцев» «в страшные годы ежовщины» («Вместо предисловия»). Таким образом, поэма с самого начала вписывается в традицию «петербургского текста», с тем, однако, существенным отличием, что, вопреки этой традиции, единственные объекты архитектуры, упоминаемые в «Реквиеме», — это городские тюрьмы, рядом с которыми сам город оказывается лишь «привеском»:
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
Если вспомнить о том, что пишет Топоров по поводу оппозиции природа/культура, то увидим, что именно тюрьма является средоточием всего, что могло бы быть присуще культуре: являясь единственным проявлением вертикальности, единственной постройкой из камня, тюрьма занимает то самое место, которое исторически принадлежало дворцам и церквям. Тюрьма становится апокалиптическим символом одновременно смерти культуры, смерти поэтического слова и конца истории. А значит — возвращаясь к вопросу о симметрии — можно сказать, что заканчивается поэма подлинным их возрождением, потому что река вновь живет и движется, делая в перспективе возможным уход от тюремного мира.
Что происходит в промежутке между этими полюсами? Чтобы понять это, достаточно разобраться в самой структуре поэмы, симметрия которой не исчерпывается образами тюрьмы и реки. Если читать десять стихотворений поэмы, следуя принципу «зеркальности», то есть двигаясь от начала и от конца к центру, в середине мы находим два стихотворения: «Семнадцать месяцев кричу…» (V) и «Легкие летят недели…» (VI). За криком боли матери, которой грозит гибелью «огромная звезда», что ей «в глаза глядит», следуют более спокойные строки следующего стихотворения, в конце которого крик переходит в слово:
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.
Мотив взгляда, присутствующий в V и VI стихотворениях, усиливает эффект «зеркальности» центральной части поэмы. Здесь же происходит и смена плана изображения, при которой образ Креста вытесняет образ тюрьмы «Кресты»; смена, подчеркнутая употреблением слова «око» вместо слова «глаз» в предыдущем стихотворении. И если в первом мы слышим крик боли в предчувствии «скорой гибели», то во втором, несмотря на нависшую угрозу, становится возможным «заговорить» о смерти («И о смерти говорят»), то есть обрести истинное слово. И наконец, если в первом мы все еще находимся в остановившемся времени начала поэмы, то во втором время будто снова приходит в движение («Легкие летят недели»). Таким образом, в этом центральном месте поэмы, представленном V и VI стихотворениями, происходит коренной перелом[317]: введение образа Креста фактически переносит поэму в другой план изображения, более универсальный, достигающий кульминации в заключительном стихотворении («Распятие»), где казнь одной из многих жертв террора возвеличивается до христианской Жертвы, смерть которой предвещает Воскресение. И, как уже было сказано, это Воскресение предстает теперь как воскресение поэтического слова.
Можно выделить достаточное количество мотивов, поддерживающих двухчастную структуру поэмы, которая, с одной стороны, возвращает нас к жестокой действительности тридцатых годов, с другой — переносит проблематику в общечеловеческий и религиозный контексты.
Возьмем, например, отрывок из IV стихотворения, непосредственно предваряющий строки «семнадцать месяцев кричу», о которых только что шла речь:
<…>
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука. <…>
Этим строкам о простой матери, которая оплакивает «слезою горячею» сына «под Крестами», соответствует евангельская сцена распятия (X) с Божьей Матерью «под Крестом», которой Сын говорит: «О, не рыдай Мене…» (310). И тишине сцены перед тюрьмой («И ни звука») соответствует молчание Божьей Матери («А туда, где молча Мать стояла»; 310). Таким образом, в поэме повторяется одна и та же сцена, та же Голгофа, однако, благодаря перемещению ее на Святую Землю во второй части «Реквиема», с надеждой на Спасение.
Это Спасение, как мы увидим, становится возможным благодаря поэтическому слову: именно оно обретет весомость «каменного слова», которое падает на «еще живую грудь» поэта («И упало каменное слово / На мою еще живую грудь»; 307), в «Приговоре» (VII) — стихотворении, которое следует сразу за уже цитированной строкой: «И о смерти говорят». Определение «каменный», которым ранее можно было охарактеризовать тюремные стены, переносится на слово — пока еще застывшее «каменное слово» судебного приговора. Однако, если слово может быть приговором, это значит, что оно обладает определенной властью… Образ камня является сквозным[318], но во всей полноте его смысл раскрывается в «Распятии», в тот самый восславленный «хором ангелов» «великий час», когда Мать молча стояла у подножия Креста:
I
Хор ангелов великий час восславил,И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»
II
Магдалина билась и рыдала,Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Известно, что «любимым учеником» Христа был Иоанн, кстати сказать, единственный из евангелистов, упоминающий о присутствии Марии у подножия Креста («При кресте Иисуса стояли Матерь Его…»[319]). У Иоанна же говорится о Слове как Божественной ипостаси и об Иоанне Крестителе как человеке, который словом свидетельствовал о Боге: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. <…> Был человек, посланный от Бога: имя ему Иоанн. / Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него»[320]. Таким образом, здесь, подле безмолвной Божьей Матери, в образе Иоанна «каменеет» символизированное в нем божественное Слово (в тот момент распятое на кресте). Заключительные строки «повествовательной» части поэмы (I–X) помещают нас в самое сердце трагедии, которой отмечена эпоха: принесенный в жертву Сын умирает на Кресте, Мать, страдания которой заставляют отводить взгляды, хранит молчание… Но ведь мать — поэт, и это ее слово «каменеет», воплотившись в образе «любимого ученика». И, одновременно, это то самое слово, которое в конечном итоге сможет свидетельствовать.
У нас еще будет возможность показать[321], что в композиции «Реквиема» два четверостишия «Распятия» служат кульминацией; это стихотворение, предваряющее эпилог, объединяет две линии — казни сына (после ареста, тюрьмы, приговора) в первом четверостишии и страданий матери (потрясение, одиночество, муки, безумие) — во втором. Очевидно также, что здесь, благодаря религиозной тематике, осуществляется переход от выражения индивидуального страдания в начальных стихотворениях к общечеловеческим[322] материнским страданиям, символом которых является образ Божьей Матери у подножия Креста. (Здесь небезынтересно отметить, что в более ранней редакции предпоследняя строка — «А туда, где молча Мать стояла» — несколько отличалась от нынешней и звучала так: «А туда, где Мать твоя стояла», что придавало ей более личностный, чем в окончательном варианте, характер.) Подобная универсализация, идентифицирующая личную судьбу с евангельским сюжетом, помимо прочего, позволяет перейти от «Я» к обобщенному «Мы-матери» и говорить уже от лица тех миллионов женщин, чье слово автор обещала воплотить в предисловии. Но слову ее здесь грозит окаменение: ведь это именно оно каменеет во времена, когда камни служат лишь для постройки тюрем, а страдание таково, что выразить его может только молчание[323].
Если бы мы по-прежнему оставались на берегах заледеневшей реки, в рамках «петербургского текста», совершенно искаженного ленинградской действительностью тридцатых годов, молчание одержало бы верх. Но благодаря евангельскому контексту у нас появляется надежда на воскресение, немыслимое в том «ненужном привеске», что «болтался» «возле тюрем своих». Ибо если Мать безмолвна, то о Поэте можно сказать, что он «свидетельствует»: залогом Спасения является сама поэма. Итак, в результате «зеркального» изображения, возможного именно благодаря симметричному построению всей поэмы, Слово, воскреснув после Распятия, станет «приговором» — на сей раз палачам. Знаменательно также, что слово «приговор», вынесенное в заглавие VII стихотворения (того самого, где он назван «каменным словом»), впервые появляется в «Посвящении», и поэтому вполне закономерно, что в эпилоге звучит своего рода приговор палачам: таким приговором становится свобода, воспетая Пушкиным.
Чтобы разобраться в том, как это происходит, следует вернуться к «Посвящению». Как уже было сказано, сразу же за образом неподвижной «великой реки» следует первая эксплицитная реминисценция из строк пушкинского послания декабристам «Во глубине сибирских руд…» (1827). Строки Ахматовой «Но крепки тюремные затворы, / А за ними „каторжные норы“» (303) содержат цитату из третьей строфы этого знаменитого стихотворения:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Как видим, стихотворение Пушкина исполнено надежды: в нем поэзия проходит сквозь «затворы» тюрьмы. «Посвящение» в «Реквиеме» лишено такой надежды. И хотя слово «надежда» содержится и в нем, наполнено оно значением, противоположным пушкинскому. У Пушкина надежда — это вера в освобождение:
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.
В «одичалой столице» у Ахматовой, напротив, надежда убита «приговором» в самый момент его произнесения:
<…>
А надежда все поет вдали.
Приговор. И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет… шатается… одна…
Таким образом, Ахматова, обращаясь к стихотворению Пушкина, используя ту же лексику и ту же ситуацию, переосмысляет его. У нее нет надежды: «тюремные затворы» «крепки», в отличие от Пушкина, у которого «свободный глас» поэта доходит до узников «сквозь мрачные затворы».
Это переосмысление проявляется даже на уровне метрики и строфики. Оба стихотворения написаны двусложным метром, однако Ахматова заменяет пушкинский четырехстопный ямб на пятистопный хорей. Сравним эти строки, поместив их параллельно:
Сразу бросается в глаза, что у Ахматовой добавлен один стих (неодинаково и чередование рифм: аВаа+В у Ахматовой, АЬЬА у Пушкина). Эта «лишняя строка» Ахматовой тем более выделяется, что она (исключительно в первой строфе) усечена на одну стопу: обрубленная после четвертой стопы строка подобна безвременно оборвавшейся жизни, что соответствует и ее содержанию: «И смертельная тоска…» (рифмуется с «река»!). Такой обрыв ритма с пропуском двусложной стопы и с пропуском двух ударений приближает стих к прозе, поэзия словно прерывается там, где возникает образ реки, с которой рифмуется строка. Сказанное подводит нас к тому, что сразу вслед за выражением «каторжные норы» возникает тема смерти, ритмически представленная четырехстопным хореем, в то время как Пушкин в сопоставляемом нами параллельном отрывке говорит классическим ямбом о «свободном гласе» поэта, о той свободе, что «примет радостно у входа», когда «Оковы тяжкие падут, / Темницы рухнут…».
Таким образом, все «Посвящение» построено на контрапункте со строками Пушкина. В качестве последнего примера отметим, что стихотворение Пушкина заканчивается образом «братьев», которые «меч вам отдадут», в то время как в соответствующих строках Ахматовой мотив братства полностью отсутствует, вместо него звучит тема одиночества, отчужденности матери, узнавшей о приговоре («Ото всех уже отделена <…>/ Но идет… шатается… одна…»).
Итак, сополагая две похожие ситуации, Ахматова «свободный глас» поэта замещает мертвым застывшим словом, образом заледеневшей Невы. Этот символический образ предрекает тюрьму и гибель, два лейтмотива, проходящие через всю поэму, от похоронной ритуальности ареста в первом стихотворении («Уводили тебя на рассвете, / За тобой, как на выносе, шла»; 304) до казни на кресте в последнем («Распятие»; 310).
Присутствие Пушкина между тем не исчерпывается приведенными наблюдениями[324]. Можно утверждать, что в «Реквиеме», начиная с только что рассмотренной первой строфы «Посвящения» и вплоть до эпилога, присутствует скрытая за фабулой мать — сын иная тема — тема Пушкина, которая вписывает всю поэму не только в историю русской поэзии, но равным образом и в великую Историю страны с самых древних времен. Это видно в том же стихотворении IV («Показать бы тебе, насмешнице…»; 306), где Ахматова говорит о себе как о «Царскосельской веселой грешнице», какой она была в десятые годы, и которое помещает нас в тот же временной триптих, что позднее появится в «Поэме без героя»: Золотой век — Серебряный век — Каменный век. Однако следует помнить, что кроме Невы в поэме присутствуют еще две реки, расположенные все по тому же принципу симметрии, причем оба раза мы переносимся в Серебряный век, о котором мимоходом говорится в IV стихотворении.
Это, во-первых, «Тихо льется тихий Дон» (II), с его строкой «Муж в могиле, сын в тюрьме» (305) — стихотворение, в котором можно увидеть связь с пушкинскими «Простите, вольные станицы, / И дом отцов и тихий Дон» в «Кавказском пленнике» (1821) и с «Блеща средь полей широких, / Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!» («Дон» 1829), которое перекликается не только с творчеством расстрелянного «мужа» Гумилева, но и со стихотворениями Блока о страданиях Руси под татарским игом из цикла 1908 года «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»), страданиях, что сродни тем, какие описаны Ахматовой во «Вступлении» («И безвинная корчилась Русь», которая рифмуется с «черных марусь»; 304)[325]. Таким образом, Дон можно сопоставить с Невой, а татарское иго — со сталинской эпохой. И аналогично тому, как безвинная Русь «корчится» в великом потоке Истории[326], Петербург, переживший Золотой, а затем Серебряный век, превращается в «ненужный привесок», которым является каменный Ленинград «черных марусь».
Во-вторых, строки «Клубится Енисей, / Звезда полярная сияет» (308) из «К смерти» (VIII), как известно, содержат реминисценцию из манделыитамовского «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931, 1935), точнее, из его последней строфы:
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет[327].
Так, реки, описанные поэтами Серебряного века, позднее впавшими в опалу, располагаются в поэме симметрично, образуя своеобразную географию, которая ведет нас от Древней Руси к берегам, символизирующим изгнание, описанным Мандельштамом — поэтом, уже арестованным к моменту написания «Реквиема». Надо отметить, что, в отличие от Невы в «Посвящении», эти реки полны жизни, они текут, а значит, поэзия, как и История, еще существует. Но прежде всего они символизируют присутствие еще живой памяти, движения в противовес образу застывшей недвижной Невы в начале поэмы, где она уподоблена оледенелой Лете. Именно из такого контекста следует толкование в «Приговоре» строк: «Надо память до конца убить, / Надо, чтоб душа окаменела…» (307) — в варварские времена больше нет памяти, душа каменеет, и Слово вскоре будет распято: такова безысходность, которую мы ощущаем в начале «Реквиема» и которая выражена в столь безыскусно простом стихе: «Не течет великая река» (303).
В эпилоге же ситуация коренным образом меняется. И меняется она благодаря поэзии, которая одна способна посредством письма, посредством воскресшего Слова донести то «свидетельство», о котором говорил Евангелист Иоанн: «Узнала я, как опадают лица, / Как из-под век выглядывает страх, / Как клинописи жесткие страницы / Страдание выводит на щеках» (311), — читаем мы в первой части эпилога. Аллитерацией /стра-/ показано, как жизнь буквально пишется через страх и страдания на лице этих женщин и таким образом становится поэмой. Здесь же видно, как, подобно обобщению материнского страдания в сцене распятия, происходит обобщение поэтического слова, которое превращается в молитву: «И я молюсь не о себе одной, / А обо всех, кто там стоял со мною» (Там же). А чтобы не позволить новому Каменному веку похоронить это слово, нужно призвать память, как сказано в первом стихе второй части эпилога: «Опять поминальный приблизился час» (312).
Таким образом, письмо, поэтическое творчество — это прежде всего работа памяти, но памяти не о себе, а обо всех женщинах годов террора, символически представленных в образе той женщины «с голубыми губами», что спросила поэта, может ли она описать «это», иными словами — свидетельствовать, и которая, услышав утвердительный ответ, позволила улыбке скользнуть «по тому, что некогда было ее лицом» («Вместо предисловия»; 302). Вся поэма, теперь став достоянием читателя, выступает в качестве такого свидетельства:
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
Эта метафора симметрично отвечает погребальному образу из III стихотворения: «Пусть черные сукна покроют / И пусть унесут фонари…» (305). Поэма уже не принадлежит поэту (она же останется после ее смерти) и становится «нерукотворным» покровом Божьей Матери Заступницы. С этого момента слову больше не грозит окаменение, оно становится свидетельством, памятью, которую убить уже невозможно:
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
Поэма превращается в своего рода мемориал, «памят-ник» победы поэзии над Каменным веком, победы культуры над камнем тюрем, победы свободы. Неудивительно, что сразу же вслед за этими строками вновь появляется аллюзия на Пушкина, на этот раз именно в связи с образом «памят-ника»:
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество
<…>
Но только при условии, что поставлен он будет в том месте, где нельзя убить память:
<…>
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
Точно так же как в «Посвящении», аллюзия на Пушкина и его стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) возвращает нас к идее Свободы:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
У Пушкина также поэзия побеждает смерть:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Новый «памятник нерукотворный», стоящий у тюрьмы на берегах Невы, монумент, с бронзовых век которого сбегают слезы («И пусть с неподвижных и бронзовых век» (312) — новая аллюзия на Пушкина), олицетворяет победу культуры над варварством каменных тюрем. Иными словами, после возвращения к каменному веку мы оказываемся в преддверии нового бронзового века, с надеждой на приход нового Золотого или Серебряного века. И в пору такого пробуждения культура вновь становится памятью, словом, историей, — таков многозначный метафорический образ освобожденной реки, которая обретает течение в последней строке поэмы: «И тихо идут по Неве корабли» (Там же). Примечательно, что в этом последнем стихотворении «Реквиема», в отличие от «Посвящения», не наблюдается ни одного нарушения размера; более того, рифмы здесь смежные, все мужские, и не пропущено ни одного ударения: подчеркнуто регулярный четырехстопный амфибрахий, наподобие мощной Невы, торжественно течет — прочь от Крестов, «прочь от своих могил».
Как видим, образ реки, обрамляющий «Реквием», немаловажен: он показывает, насколько неверно трактовать поэму исключительно с точки зрения сталинских репрессий, ведь она в равной степени содержит размышления о поэзии в целом — о ее природе и назначении. В основе этих размышлений лежит именно «петербургский текст». «Город Петра» (Петер-бург) немедленно вызывает в памяти живое слово Пушкина, в то время как «город Ленина» (Ленин-град), напротив, воспринимается именно городом «каменного слова», историософская традиция «петербургского текста» оказывается полностью переосмысленной.
Поэма начинается в Ленинграде, где все мертво и Нева недвижна (слово застыло, и больше нет ни времени, ни Истории). В предисловии поэт берет на себя миссию свидетельствовать и, выполняя ее, рассказывает о личной драме, которая разыгрывается у стен «Крестов», — мы все еще находимся в Ленинграде', затем все действие переносится к подножию Креста, индивидуальная драма приобретает вселенский масштаб, и свидетельство наполняется евангельским смыслом; в конце, завершив свою миссию и спускаясь с Голгофы обратно в город, поэт доносит до мертвого и скованного льдом мира живое слово автора «Медного всадника», и это унаследованное слово, этот «свободный глас» пушкинского (уже) Петербурга возвращает к жизни реку, слово, Историю.
III. ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА АБСУРДА
(Хармсиада)
«Оптический обман» в русском авангарде
(О «расширенном смотрении»)[*]
В 1934 году, когда состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писателей и его решением социалистический реализм будет навязан литературе на долгие годы, Хармс написал «в стол» миниатюру «Оптический обман»:
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом[330].
При первом чтении этот маленький текст может показаться безобидным: он похож на большинство миниатюр Хармса, где действие постепенно исчерпывает себя повторением одного жеста, автоматизированного до абсурда, и тем самым исчерпывается сама причина существования текста. В нем также можно увидеть, как показывает А. Флакер, сцену, напоминающую ослепление интеллигента, носителя столь характерных для этого класса очков, перед лицом угрозы, которую представляет для него грубый мужик. Эта угроза так же неизменна, как и весь мир Хармса в целом, состоящий из вещей, которые видны, но которые можно также и не видеть. Это приводит Флакера к рассуждению о пародийности по отношению к литературным нормам: «Тот факт, что Хармс сохраняет форму <рассказа>, является лишь отправной точкой, позволяющей ему бросить вызов как форме рассказа, так и всей эпической прозе вообще», так как, если «эпическое произведение в прозе, рассказ или роман, базируется на изменениях в семантической области, тогда здесь бросается вызов всей эпичности». Почему? Потому что «мир Хармса <…> меняется лишь в той мере, в какой изменяется оптика в целом, в буквальном смысле этого термина»[331].
Тот факт, что видение меняется в зависимости от наличия или отсутствия очков, имеет важное значение: очки, если они символизируют интеллигента, отсылают в то же время к проблематике видения вообще и зрительного аппарата в частности, — проблематике, которая находится в центре внимания того самого русского авангарда, который именно в 1934 году окончательно сложил оружие перед натиском «новых» псевдоэстетических теорий.
Говорить, что русский авангард видел очень широко, — трюизм, даже если нет уверенности, что это выражение будет правильно понято. Ведь один и тот же термин «видеть» обозначает «обладать зрением» и «воспринимать окружающий мир». Можно утверждать, что в развиваемых им системах русский авангард в большинстве случаев понимал слово «видеть» во втором значении. Опираясь на принцип, согласно которому речь идет о восприятии мира в целостности, он разработал системы изображения, которые считали себя способными представить мир в его бесконечности. «Каждая форма есть мир», — писал Малевич[332], и квадрат являлся иллюстрацией этой ключевой фразы его системы. Мир как целостность и художественная форма как изображение этой целостности: в этом заключалась основа абстракции в понимании «нового реализма» (подзаголовок книги, из которой приведена цитата), каким явился супрематизм (со всем его метафизическим субстратом), и в понимании «аналитического искусства» П. Н. Филонова.
Эта особенность авангарда сочеталась с другой, неотделимой от нее, а именно — с чрезвычайной говорливостью, которой он сопровождал свою художественную деятельность. Эта потребность постоянно объясняться породила совершенно специфическое явление: определенную раздвоенность между исключительно сложной философской системой и способом изображения, которое должно быть лишь ее иллюстрацией или иногда даже простым комментарием. Малевич в большей степени, чем кто-либо иной, служит этому примером. Можно сказать, что его система изложена им в основном в многочисленных трактатах, которые показывают, что его «видение» является прежде всего философским и лишь потом визуальным.
Но было бы удивительным, если б после кубизма, который ставил своей задачей представление предмета во всей его целостности (стало быть, включая и его скрытую сторону), не нашлось художника, который постарался бы видеть и в первичном значении этого слова и вел поиск значительно более прагматический — на уровне расширения видения в самом буквальном значении этого термина. Именно этим и занимался старейший из футуристов, художник, поэт, музыкант и композитор М. В. Матюшин, теории которого (так же, впрочем, как и живопись) остаются малоизвестными до настоящего времени[333].
Имена Малевича, Филонова и Матюшина мы упомянули отнюдь не случайно. Эти три столпа авангарда опубликовали в одном и том же номере журнала «Жизнь искусства» в 1923 году, то есть в разгар эстетических и идеологических споров, три краткие декларации, которые, соответственно, суммировали их теории. В «Супрематическом зеркале» Малевич писал: «Науке, искусству нет границы, потому что то, что познается, безгранично, бесчисленно, а бесчисленность и безграничность равны нулю»[334]. В «Декларации „Мирового Расцвета“» Филонов утверждал свою теорию различия между «глазом видящим» и «глазом знающим», тогда как первый реагирует на цвет и форму, второй, посредством интуиции, старается схватить скрытый механизм восприятия[335].
Малевич остается философом, Филонов, очевидным образом, более визуален, но именно Матюшин, излагая существо деятельности своей группы «Зорвед» в декларации «Не искусство, а жизнь», обнаруживает интерес к работе над механизмами зрения[336]. Название группы, несомненно, отсылает к той же проблематике, что и у Филонова, так как речь идет о соединении двух корней: «зор» = зреть, видеть и «вед» = ведать, знать, — два вида деятельности, которые должны быть одновременными и взаимодополняющими. Следовательно, теория «расширенного смотрения», развиваемая им в этой декларации, предполагает теорию «расширенного познания», и тут Матюшин находится в одном ряду со своими единоверцами. Кстати, «расширенное смотрение» имеет очевидную связь, с одной стороны, с понятием, выдвинутым М. В. Лодыженским в его очень модной в это время теософской книге «Сверхсознание и пути его достижения» (1911), и, с другой стороны, с теориями четвертого измерения, также очень модными среди представителей авангарда, с книгами П. Д. Успенского (1911, 1913), Ч. Хинтона (1904) и др.[337] Матюшин уже с 1913 года упоминал о четвертом измерении в исследовании этого «нового пространства», о котором говорится в его не опубликованной при жизни статье 1922 года «Опыт художника новой меры»[338].
Но что отличает Матюшина как в этой статье, так и в вышеупомянутой декларации, так это интерес к физиологическому расширению зрения, целью которого является превзойти фрагментарность, свойственную нашему восприятию «текучей» по определению реальности. Матюшин объясняет, что вся история искусства шла в направлении «постепенного расширения угла зрения». Раньше, писал он в своем дневнике в 1915–1916 годах, «глаз не охватывал и не воспринимал ничего, кроме отдельных частей»:
<Старые мастера> видели отдельную монаду без связи с целым, списывали подробно ее признаки, тоже без связи с ее собственным и окружающим движением жизни. Делали так, потому что их глаз еще не вмещал охвата большого угла разом[339].
Таким образом, цель Матюшина — превзойти фрагментарность восприятия посредством использования обобщающей техники. И, не замыкаясь в чисто философской теории видения, художник пробовал испытать возможности работы над самим зрительным аппаратом, предполагая, что сможет расширить поле зрения до 360°, то есть до такой степени, чтобы увидеть/познать полноту реальности, включая «задний план». Он назовет это явление «затылочным зрением», предлагая охватывать реальный мир не только посредством «центрального» зрения, но также, благодаря всей нервной системе, через затылок. Таким образом, угол зрения расширяется с 90 до 360°, тем самым увеличивая возможности художественного исследования. Эта физиологическая характеристика работы художника ясно выражена в декларации 1923 года:
«Зорвед» представляет собой физиологическую перемену прежнего способа наблюдения и влечет за собой совершенно иной способ отображения видимого.
«Зорвед» впервые вводит наблюдение и опыт доселе закрытого «заднего плана», все то пространство, остававшееся «вне» человеческой сферы, по недостатку опыта.
Новые данные обнаружили влияние пространства, света, цвета и формы на мозговые центры через затылок. Ряд опытов и наблюдений, произведенных художниками «зорведа», ясно устанавливает чувствительность к пространству зрительных центров, находящихся в затылочной части мозга[340].
Что касается живописной практики, вытекающей из этой теории, — то есть абстракции, — она представляется, следовательно, как бы более «реальной», потому что менее «реалистической». Кстати, по этому поводу уместно напомнить, что, если Малевич развивал теорию «нового реализма», интуитивного реализма[341], Матюшин осуществлял то, что он называл теорией пространственного реализма, — название, которое носили его мастерские уже с 1919 по 1922 год в петроградской Академии художеств. Это свидетельствует о том, насколько осторожно надо подходить к термину «реализм».
Можно, конечно, говорить об этой декларации как просто об очередном громком и безапелляционном манифесте в истории русского авангарда. Однако удалось обнаружить научное происхождение этой теории. Некоторые из понятий, выдвигаемых Матюшиным, можно найти в работах немецких физиологов, и особенно у профессора И. фон Криза (1853–1928), которого Матюшин упоминает лишь однажды.
В 1923 году, когда «Зорвед» печатает свою декларацию, Криз опубликовал работу, где речь идет, среди прочего, о «субъективности зрительного аппарата»[342]. Эту теорию можно связать с работами 1860-х годов физиолога И. М. Сеченова (1829–1905); Сеченов рассматривал пространство в качестве идеи, познанной движением зрительных мускулов[343]. А если подняться выше, можно установить еще более удивительные связи: с профессором Г. фон Гельмгольцем (1821–1894), учителем Сеченова, автором работ об оптических проблемах в живописи[344], и в особенности объемистого учебника по «Физиологической оптике» (переизданного именно Кризом в начале 1910-х годов), с которым Матюшин тем или иным образом мог познакомиться. Гельмгольц в этой работе пространно говорит о «случайных образах», которые могут появиться в случае внутреннего возбуждения сетчатки[345], утверждая множественность зрительного механизма. Он вводит понятие «затылочной точки», которое, очень вероятно, может являться первопричиной использования этого слова Матюшиным:
Эта точка поля зрения, которая существенно отличается от всех остальных, поскольку является соответствующей точкой фиксации глаза в его первичном положении, будет называться точкой основного взгляда (точкой фиксации). Диаметрально противоположная точка, которая находится позади головы зрителя и которая образует противоположный край диаметров поля зрения, направленного к точке основного взгляда, и будет названа <…> затылочной точкой[346].
У Криза также можно найти мысль о «двойном зрении», и в этом случае Матюшин прямо указывает на преемственность:
Криз выдвинул теорию двойного зрения: центрального — прямого и дневного, и периферического — непрямого или сумеречного[347].
Исходя из идеи, что «мы пользуемся лишь частью наших зрительных возможностей», Матюшин настаивает на необходимости «двойного зрения» — «центрального» и «периферического». Одновременное использование обоих есть то, что он называет «расширенным смотрением». Художник настаивает на том, что лишь такое «расширенное смотрение» может схватить существующую между вещами связь. Лишь оно может дать возможность достичь той целостности, о которой говорилось выше. Напротив, смотрение под узким углом исключает всякую связь между действительностью в целом и рассматриваемым объектом, представляющимся в этом случае нагим и абсурдным (как мужик на сосне):
Для того чтобы получить понятие о связи вещей в их взаимоотношении к среде, необходимо привлечь к действию не только желтое пятно, но и периферические части сетчатки[348].
Это позволяет пролить новый свет на «пространственный реализм» Матюшина, то есть на абстракцию, потому что в этой системе она является результатом «деформации» вследствие «широкого зрения» и благодаря этому способна выражать действительность в ее реальном — текучем — виде, то есть вне условных связей, установленных смотрением под узким углом, зависящим от разума, по определению своему ограниченного.
В свете этой теории Матюшин пересматривает всю историю искусства как постепенное расширение смотрения, которое неизбежно приводит к беспредметности. Таким образом, реализм (то есть «настоящий» реализм, социалистический, который готовился одержать решительную победу именно в то время, когда Матюшин издал свой маленький трактат) понимался как регрессия, то есть возврат к фрагментарности мира, предлагаемой искусством, когда сетчатка художников спокойно предавалась лени в уюте единственного «центрального зрения».
Нашей целью не являются размышления о том, верны ли взгляды Матюшина, или насколько адекватно он понимал теории, которыми оперировал. Вполне возможно, что он познакомился с ними посредством какой-нибудь популяризации[349]. Главное не это — очевидно, что у поэтов и художников теории принимали вид, совершенно отличный от того, чем они были в первоисточниках. Важно здесь то, что этот аспект работы Матюшина лишний раз подчеркивает связь авангарда с соответствующими научными исследованиями. И к именам А. Эйнштейна, Э. Сиверса, В. М. Вундта, И. П. Павлова, Н. И. Лобачевского, Г. Минковского и других, с которыми литературовед постоянно сталкивается при изучении русского авангарда, нужно теперь прибавить имена Гельмгольца, Криза, Сеченова и наверняка еще других ученых, которые своими работами участвовали в попытках авангарда создать целостную и окончательную систему миропонимания.
Матюшин не ограничивается абстрактной констатацией сложного физиологического функционирования глаза. Он предлагает еще и метод: новое восприятие пространства, то самое «затылочное» восприятие, которое он пропагандирует, можно получить с помощью медитации, или неопределенного, «рассеянного взора», бросаемого поэтом на мир в поисках постижения вселенной как единого и неделимого целого. И этот механизм он описывает с точностью, уже не свойственной чистому теоретику:
Смотря таким образом, мой взор невольно начинает охватывать и расширять свое поле зрения. Я понял драгоценное свойство рассеянного взора мечтателей поэтов, художников.
Глубинное подсознание освобождает — раскрепощает взор; поле наблюдения становится свободным, широким, безразличным к манящим точкам цветности и формы[350].
Матюшин с характерным для эпохи энтузиазмом утверждает, что с помощью этой «внутренней сосредоточенности» весь мир может войти в глаз художника.
Таким образом, за строгими научными теориями «желтого пятна», «затылочной точки» и «периферического зрения» скрывается мечтатель, который, «лежа меж деревьев и глядя долго в небо»[351], осуществляет контакт с бесконечностью, с той Целостностью, к которой, как понятно из предыдущей цитаты, стремился не только авангард.
Теории Матюшина, который работал тогда в Государственном институте художественной культуры (ГИНХУКе) под руководством Малевича, были хорошо известны в Ленинграде в период, когда Хармс начинал свою литературную деятельность, то есть в середине 1920-х годов[352]. Можно найти следы деклараций Матюшина о расширении угла зрения до 360°, например, у Туфанова, который в 1926 году, то есть в момент участия Хармса в объединениях заумных поэтов в рамках «Заумного Ордена» и затем «Левого Фланга», упоминает о сближении с «Зорведом» Матюшина[353]. Именно в этом контексте следует понимать его идею о «заумной классификации поэтов по кругу» в зависимости от функционирования их зрительного поля, которую Туфанов предлагает в заметке «Вечер заумников»:
Одни поэты под углом 1–40° исправляют мир, другие под углом 41–89° — воспроизводят. Третьи под углом 90–179° — украшают. Только заумники и экспрессионисты при восприятии под углом 180–360°, искажая или преображая, — революционны[354].
В статье «Слово об искусстве» Туфанов уточняет, что те, кто «исправляют», имеют либо религиозные, либо педагогические цели (символисты, лефовцы, напостовцы, лапповцы); реалисты, натуралисты и акмеисты «воспроизводят»; в группу тех, кто «украшает», входят импрессионисты, футуристы и имажинисты. А революционны лишь те, кто расширяют угол зрения до 360° и кто, как его братья-художники, открыли абстракцию[355].
Таким образом, Хармс знал об интересе современников к проблематике видения, и, исходя из этого (вернемся к началу настоящей статьи), можно представить себе новую интерпретацию миниатюры «Оптический обман». Мы, конечно, отнюдь не хотим сказать, что Хармс думал о немецких физиологах, когда писал свой текст, но любопытно все-таки отметить это совпадение.
Творчество Хармса в значительной части представляет собой признание факта, что системы изображения, созданные авангардом, включая его собственную, являлись лишь обманом, поскольку мир, который можно видеть, всегда шире непосредственно увиденного: «Я говорил себе, что вижу мир. Но весь мир был недоступен моему взору, и я видел только части мира». Этими словами начинается произведение «Мыр» (1930)[356]. Оно является выражением неспособности индивидуума воспринимать мир как большое целое, внутри которого «я» могло бы гармонично раствориться. И тут также видеть — воспринимать зависит от видеть — видеть. В конце текста мир угрожает разрушением и исчезновением из-за этой невозможности расширения зрения: «Но только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая, что мир рухнул»[357]. На самом деле мир продолжает существовать, но субъект не способен его видеть. Он без очков, и это — оптический обман.
Таким образом, если вернуться к двойному определению видения, которое мы дали в начале этой статьи, можно сказать, что оптический обман у Хармса выражается двумя уровнями определения: первым — философским и вторым — оптическим.
У Хармса было философское видение, благодаря которому он выработал собственную систему, как и Малевич: вслед за квадратом (чистой формой, выражающей Целостность) идет цисфинитум, символом которого является круг; вслед за нолем «Супрематического зеркала» идет «цисфинитный» ноль, который Хармс приближает из-за очевидных зрительных причин к кругу[358]. Однако, как мы уже имели случай показать в своих предыдущих работах, система Хармса, как и его предшественников, зиждется на обмане, который приводит к тому, что этот круг уже не станет выражением бесконечности мира, но именно нулем, который он символизирует, следовательно — ничем. «Чистота близка к пустоте», — пишет Хармс в дневнике в 1933 году[359], очевидно, не ради игры слов. В тридцатые годы все его творчество ориентируется на эту пустоту, скрывающуюся за оптическими обманами, связанными с понятием «цисфинитум»[360].
Следует подчеркнуть, что результат этого восприятия действительности — ужас — тоже может быть отнесен на счет зрения, в чисто физиологическом смысле этого термина: поле зрения сужается, угол зрения становится до крайности острым, и мир воспринимается (и, следовательно, изображается) лишь фрагментарно. Это позволяет перечитать миниатюру Хармса другими «очками» и трактовать ее шире: как выражение проблематики связи человека с миром и вопроса о существовании, реальном или предполагаемом, того, что он видит в нем. Семен Семенович видит разные вещи в зависимости от того, надевает или нет очки, или, скорее: некоторые вещи существуют для него лишь тогда, когда он носит очки. Следовательно, очки становятся метафорой того инструмента измерения мира, который Хармс искал уже в 1929 году[361]. Но в 1934 году такой инструмент может измерить в мире только грубость его. Если в начале своей литературной деятельности Хармс видел широко, то его видение постепенно сужалось к отдельным деталям мира, которые, отрываясь от остального мира, становились устрашающими. Отсюда гротескное изображение мира клочками.
Итак, в «Оптическом обмане» поставлен вопрос о художественном изображении. Можно отметить, что, вне зависимости от используемого метода, оно всегда будет в какой-то степени оптическим обманом — мысль, которую, кстати, Гельмгольц принимает полностью в своем эссе «Оптика и живопись»:
Первая цель художника — предложить нашим глазам с помощью раскрашенной картины поразительный образ предметов, которые он пытается изобразить. Речь идет, таким образом, о производстве своего рода оптического обмана <курсив наш. — Ж.-Ф. Ж.; полужирный — прим. верст.>, не такого, чтобы мы думали <…>, что находимся среди реальных предметов, но достаточно убедительного, однако, чтобы художественное изображение вызвало в нас такую же сильную и энергичную мысль об этих предметах, как если бы мы их действительно имели перед глазами[362].
Это так же относится к реализму, оперирующему «центральным зрением», как и к абстракционизму, даже когда он действует в границах «периферического зрения». Это поймет Хармс, когда, после веры в заумника с широким взглядом, он вынужден будет перейти к узкому взгляду, который сделает быт таким для него невыносимым. Так же как квадрат Малевича не станет никогда выражением бесконечности мира, круг Хармса никогда не станет в действительности выражением бесконечной прямой, как он утверждал вначале, и «я» никогда не станет большим Всем, но останется лишь маленькой частью его, более или менее приспособленной к нему. Вот что выражает крик, повторяемый несколько раз в конце упомянутого текста «Мыр»: «Я мир. А мир не я»[363].
Но если вернуться к чисто визуальному аспекту проблемы, можно отдать себе отчет в том, что сказанное в «Оптическом обмане» связано с прозой Хармса тридцатых годов: сужение поля зрения является действительно одним из наиболее частых приемов писателя. Взгляд воспринимает действительность по кускам, изолируя каждую из частей мира, находящегося отныне в полном распаде. Эту мысль мы опять-таки находим у Матюшина:
Смотрение в узком пучке зрения уместно при необходимости тщательного рассматривания лишь очень небольшого участка нашего поля зрения, но оно происходит в ущерб связи частей видимого[364].
Большое количество текстов Хармса в тридцатые годы является повествованиями, основывающимися на видении под узким углом: рассказчик видит одну вещь, потом видит другую, потом третью и т. д., но не знает, какая связь их соединяет. «Центральное зрение» завоевывает поле, а «периферическое зрение» понемногу устраняется и взгляд становится неподвижным. Это особенно наглядно во «Встрече»:
Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который купив польский батон, направлялся к себе восвояси.
Вот, собственно, и все[365].
Здесь нет Nachbilder, периферия исчезает до такой степени, что глаз видит лишь одну маленькую точку — точку встречи. Взгляд рассказчика остановился на этом месте встречи, и на все, что происходит вокруг, что произошло до и произойдет после, он не обращает внимания: мы не узнаем ничего другого о двух персонажах, так как они покинули поле зрения рассказчика. И не в том суть, что он не видит «заднего плана» через затылок — вся голова и глаза лишены способности двигаться. Он как бы умер, взгляд его остановился.
Именно это четкое «узкое видение» делает мир чудовищным и агрессивным. Может быть, в том и заключается главная мысль «Оптического обмана». Семен Семенович предпочитает рассматривать как обман то, что очки открывают ему в мире. Он предпочитает «рассеянный взор» поэта на текучий мир. Но есть риск, что этот «широкий взгляд» окажется лишь простой близорукостью, не устраняющей конкретности кулака, который в любом случае проломит ему череп. И тогда об оптическом обмане уже не будет речи.
Зато оптическим обманом является, вероятно, любая система видения — восприятия мира как неделимой целостности. И обман этот опасен, поскольку, как история показывала, показывает и, к сожалению, будет показывать, мужиков на соснах слишком много.
Даниил Хармс: поэт в двадцатые годы, прозаик — в тридцатые
(Причины смены жанра)[*]
<В поэзии модерна> поэтическое Слово не может быть лживым, потому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, в Слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак.
Если бы в первые четыре тома собрания сочинений Даниила Хармса[367] не была включена почти вся его поэзия, история нового открытия этого автора ограничилась бы интересом к его прозе, которая уже в самиздате завоевала огромную популярность своей внешней простотой, злободневностью и черным юмором. «Случаи», которые Хармс в 1930-х годах объединил в цикл, быстро стали частью устного багажа советской культуры, но при этом, как ни странно, в тот же самый период никто или почти никто не мог прочесть наизусть ни одного его стихотворения. Конечно, это не относится к детским стихам, которые многие уже давно знали наизусть.
Однако Хармс — прежде всего поэт. В 1925 году он участвует в «Ордене заумников» — группе поэта Туфанова[368]. В 1926 году его принимают в Ленинградское отделение Всероссийского Союза поэтов: там ему удается опубликовать единственные два стихотворения, напечатанные при жизни[369]. В 1927 году в декларации «ОБЭРИУ»[370], которая предшествует спектаклю «Три левых часа», Хармс представлен как «поэт и драматург». Последнее определение оправдано тем, что он написал для этого вечера пьесу «Елизавета Бам».
Весь период творческого становления Хармса проходит под знаком поэзии. Сам он, как следует из дневников, считает себя поэтом, и, что самое важное, все в его творчестве ориентировано на поэзию. Если взглянуть на этот вопрос с точки зрения статистики, можно заметить, что до 1932–1933 годов, то есть в период, когда Хармс более или менее часто появляется на публике (до первого ареста), он пишет много стихов, при этом первый прозаический текст стоит особняком — он датирован только 1929 годом[371], а регулярно писать прозу Хармс начинает лишь в 1933–1934 годах. Такую перемену нельзя объяснить просто спонтанным решением Хармса переключиться на сочинение прозы, — по-видимому, она связана с каким-то новым и важным процессом. Мы считаем, что речь должна идти о философском и поэтическом кризисе писателя, об основных этапах которого и расскажем дальше.
Не будем специально останавливаться на философской системе Хармса, о которой мы уже писали[372], однако напомним в нескольких словах, в чем состояла ее основа. Под названием «Цисфинитум» или «цисфинитная логика» писатель в конце двадцатых годов выстроил систему восприятия мира, основанную на ноле[373]. Этот ноль, как и круг, который передает его графически, становится эмблемой укрощенной бесконечности: «…беру на себя смелость утверждать, что учение о бесконечном будет учением о ноле»[374]. Этот проект определенным образом вписывался в линию грандиозных замыслов авангарда: по сути, ноль был средством вернуться к восприятию мира, предшествовавшему разъятию его разумом, что давало всякой художественной форме возможность полной автономии, она могла даже стать выражением мира во всей его полноте. Малевич говорил о том же самом, и эта же идея лежала в основе мировоззрения заумников, которое определяет поэтику Хармса раннего периода. Можно вспомнить, как в 1925 году на вопрос 21 в анкете для вступления в Союз поэтов: «Членом каких литературных организаций Вы состоите или состояли?» — Хармс ответил, что он «Председател <так! — Ж.-Ф. Ж.> Взирь Зауми»[375]. Отказ от зауми в декларации «ОБЭРИУ»[376] не уменьшает того глобального влияния, которое оказала эта поэтическая школа на формирование молодого писателя. Во-первых, соответствующая часть декларации написана Н. А. Заболоцким, авангардизм которого был выражен слабее, чем у всех остальных членов объединения, а главное, по всей видимости, речь идет только об отказе на уровне наименований. На самом же деле все в творчестве Хармса этого периода говорит о его намерении отойти от ряда «финитум — количество — реализм» — в пользу ряда «цисфинитум (постижимый вариант инфинитума) — качество — заумь». Чтобы лучше понять, как развивается поэтический дискурс Хармса, важно обратить внимание на понятие «столкновение словесных смыслов», введенное в декларацию:
В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии — столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики[377].
«Столкновение словесных смыслов» занимает центральное место в творчестве Хармса и связано с его философскими взглядами и с поэтическими принципами, причем важно подчеркнуть, что оно важно как для поэзии Хармса (на лингвистическом уровне), так и для его прозы (на структурном уровне). Как точно сформулировал И. Левин, такая поэтика состоит в том, чтобы «извлечь слово из сферы его нормативного лексического употребления и ввести его в непривычный контекст»[378]. Результатом становится манера письма, на первый взгляд выглядящая раздробленной, по-французски ее называют «non-sens», за неимением лучшего термина, чтобы перевести понятие «бессмыслица», на котором базируется также и поэтика А. Введенского. К этой манере письма применимы слова Ж. Делёза из эссе об «Алисе в Стране Чудес»: «Как и определение сигнификации, нонсенс обеспечивает дар смысла, но делает это совсем по-другому»[379].
Рассуждая на ту же тему, Хармс уже в 1927 году пишет маленький, но весьма полезный для понимания его взглядов трактат «Предметы и фигуры», в котором выдвигает такую идею: «Предмет в сознании человека имеет четыре рабочих значения и значение как слово»[380]. Если четыре первых значения (начертательное, целевое (утилитарное), эмоциональное и эстетическое) существуют в их связи с человеком, то пятое, которое Хармс называет «сущее значение», «определяется самим фактом существования предмета»: это — «свободная воля предмета»[381]. То же происходит и со словами, но в другом ряду — ряду понятий: «Пятое сущее значение предмета в конкретной системе и в системе понятий различно. В первом случае оно свободная воля предмета, а во втором — свободная воля слова»[382]. В таком контексте дать свободу словам — означает дать им возможность соотноситься более точно с реальным миром, который существует вне тех отношений, которые человек с ним поддерживает, на уровне сущих значений разных составляющих его частей. Язык, если он подчиняется тем же законам, то есть если он освобождается от своих четырех рабочих значений, будет наилучшим выражением реального мира. Но надо признать, что такое выражение выходит за пределы человеческого и становится бес-смысленным в самом буквальном смысле этого слова:
11. Любой ряд предметов, нарушающий связь их рабочих значений, сохраняет связь значений сущих и по счёту пятых. Такого рода есть ряд нечеловеческий и есть мысль предметного мира…
12. Переводя этот ряд в другую систему, мы получим словесный ряд, человечески БЕССМЫСЛЕННЫЙ[383].
Конечно, это «нон-сенс», но отличающийся отсутствием точного и предопределенного значения и с гарантированно присущим ему имманентным, полным и, надо добавить, свободным смыслом. Итак, вписываясь в идейный багаж, накопленный модерном[384] за несколько десятилетий, Хармс предложил поэтику, способную качественно выразить смысл — в противоположность творчеству реалистического типа, которому остается довольствоваться лишь количественным выражением, через накопление привычных значений. Письмо такого типа, по сути, не способно пойти дальше, чем предмет, который оно описывает, и, следовательно, оно по определению всегда остается описательным и неполным (потому что мир бесконечен); слово же оказывается сведенным к разряду чистого означающего, произвольным образом присвоенного этому предмету одними его «рабочими значениями». Поэтому «сила заложенная в словах должна быть освобождена»[385]. Так пишет Хармс в 1931 году: он, как достойный последователь Хлебникова, делает из буквы начальную точку той раздробленности выражения, которое через звуковую комбинаторику — писатель называет ее «словесной машиной» — продвигается к смыслу:
Пока известно мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры. Эти машины построены не путем вычисления или рассуждения, а иным путем, название которого АЛФАВИТЪ[386].
Но то, что верно для поэзии, верно и для других форм выражения. Закон, определяющий функционирование «реального театра», — тоже закон раздробленности. Например, пьеса «Елизавета Вам» состоит из «кусков», связанных между собой такой натянутой нитью, что она постоянно рвется. Как слово было освобождено от «литературной шелухи», так и театральное представление должно быть освобождено от всего, что не является чистым театром. Сюжет, который обэриуты называют «драматургический сюжет» (арест героини), практически полностью исчезает, уступив место «сценическому сюжету», возникающему из всех элементов спектакля, «взаимоотношения и столкновения» которых образуют чисто театральный смысл:
Драматургический сюжет пьесы расшатан многими, как бы посторонними темами, выделяющими предмет как отдельное, вне связи с остальным, существующее целое; поэтому сюжет драматургический не встанет перед лицом зрителя как четкая сюжетная фигура, он как бы теплится за спиной действия. На смену ему приходит сюжет сценический, стихийно возникающий из всех элементов нашего спектакля[387].
Декларация подчеркивает, что каждый отдельный элемент спектакля «самоценен и дорог» и «ведет свое собственное бытие, не подчиняясь отстукиванию театрального метронома». Но это не мешает ему участвовать в выработке общего смысла:
Здесь торчит угол золотой рамы — он живет как предмет искусства; там выговаривается отрывок стихотворения — он самостоятелен по своему значению и в то же время, — независимо от своей воли, — толкает вперед сценический сюжет пьесы[388].
Еще интереснее то, что этот же принцип обнаруживается и в первых прозаических опытах Хармса, с той лишь разницей, что исходной точкой будет здесь не буква или какой-нибудь театральный элемент, а единица повествования. Приведем пример:
Я вам хочу рассказать одно происшествие, случившееся с рыбой или даже вернее не с рыбой, а с человеком Патрулёвым, или даже еще вернее с дочерью Патрулёва.
Начну с самого рождения. Кстати о рождении: у нас родились на полу… Или хотя это мы потом расскажем.
Говорю прямо:
Дочь Патрулева родилась в субботу. Обозначим эту дочь латинской буквой М.
Обозначив эту дочь латинской буквой М, заметим, что:
1. Две руки, две ноги, посерёдке сапоги.
2. Уши обладают тем-же, чем и глаза.
3. Бегать — глагол из под ног.
4. Щупать — глагол из под рук.
5. Усы могут быть только у сына.
6. Затылком нельзя рассмотреть, что висит на стене.
17. Обратите внимание, что после шестёрки идёт семнадцать.
Для того, чтобы раскрасить картинку, запомним эти семнадцать постулатов.
Теперь обопрёмся рукой о пятый постулат и посмотрим, что из этого получилось.
Если бы мы упёрлись о пятый постулат тележкой или сахаром или натуральной лентой, то пришлось бы сказать что: да, и ещё что ни будь.
Но на самом деле вообразим, а для простоты сразу и забудем то, что мы только что вообразили.
Теперь посмотрим, что получилось.
Вы смотрите сюда, а я буду смотреть сюда, вот и выйдет, что мы оба смотрим туда.
Или, говоря точнее, я смотрю туда, а вы смотрите в другое место.
Теперь уясним себе, что мы видим. Для этого достаточно уяснить себе по отдельности, что вижу я и что видите вы.
Я вижу одну половину дома, а вы видите другую половину города. Назовём это для простоты свадьбой.
Теперь перейдёмте к дочери Патрулёва. Её свадьба состоялась ну, скажем, тогда-то. Если-бы свадьба состоялась раньше, то мы сказали бы, что свадьба состоялась раньше срока. Если-бы свадьба состоялась позднее, то мы сказали-бы «Волна», потому что свадьба состоялась позднее.
Все семнадцать постулатов или так называемых перьев, налицо. Перейдём к дальнейшему[389].
В этом тексте 1930 года — одном из первых, написанных Хармсом в прозе, — элементы повествования разбросаны в произвольном порядке, как «куски» в «Елизавете Вам», они взаимозаменяемы (рыба или человек, Патрулёв или его дочь, или буква «М»), нумерация постулатов непоследовательна; идет от 6 до 17; семантика играет на несовместимости слов («уперлись о постулат тележкой»), синтаксис шаток и т. д. Формально, поскольку в этом тексте основным элементом конструкции является «столкновение», он построен по тем же уже рассмотренным композиционным правилам. Но все-таки приходится констатировать, что трудно увидеть здесь такие же философские результаты, как те, что мы описали, говоря о поэзии.
Чтобы понять причины этого расхождения, нужно подчеркнуть когнитивную ценность «цисфинитной логики», а также принципа «столкновения словесных смыслов». Привести мир в первозданное состояние (к «нолю»), предшествовавшее его разъятию рассудком, срастись с миром, стать одной из его частей — среди прочих, носителем всего его смысла — такова философская программа Хармса. Фрагментировать свою поэтическую речь, чтобы познать мир во всей его бесконечности, — такова его поэтическая программа. Но то, что поэзия и театр могли представить в конкретном воплощении, в первом случае — посредством ритма или музыкальности, во втором — при помощи режиссуры, оказывалось невозможным в прозе, и эта невозможность, вероятно, напрямую связана с выбранной формой. Проза Хармса рассказывает, а рассказ обязательно предполагает определенную линейность повествования, которая входит в конфликт с принципом «столкновения». По всей видимости, Хармс хотел, чтобы в его прозаических текстах «столкновение словесных смыслов» было таким же эффективным, как и в поэзии. В начале тридцатых годов он работает в этом направлении, но результаты оказались малоубедительны.
Итак, около 1933 года происходит надлом, который отчасти можно объяснить политической и культурной ситуацией в стране. Но такое объяснение не включило бы в себя всех составляющих. Именно в 1933 году Хармс добивается высшей стадии разработанности своей поэтики. Это видно по письму, которое он пишет 16 октября актрисе Клавдии Пугачевой: в нем Хармс излагает всю свою систему, связывая ее с понятием чистоты:
Я думал о том, как прекрасно всё первое! как прекрасна первая реальность! Прекрасно солнце и трава и камень и вода и птица и жук и муха и человек. Но так же прекрасны и рюмка и ножик и ключ и гребешок. Но если я ослеп, оглох и потерял все чувства, то как я могу знать всё это прекрасное? Всё исчезло и нет, для меня, ничего. Но вот я получил осязание, и сразу почти весь мир появился вновь. Я приобрёл слух, и мир стал значительно лучше. Я приобрёл все следующие чувства, и мир стал ещё больше и лучше. Мир стал существовать, как только я впустил его в себя. Пусть он еще в беспорядке, но всё же он существует!
Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но, в то же время, я узнал, что это одно и то же.
Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечён этим и только об этом и думаю. Я говорю об этом, пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать, построить. Я творец мира, и это самое главное во мне. Как же я могу не думать постоянно об этом! Во всё, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира. И я делаю не просто сапог, но, раньше всего, я создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным и красивым. Мне важно, чтобы в нём был тот-же порядок, что и во всём мире: чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от прикосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил бы свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы чистым.
Это та самая чистота, которая пронизывает все искусства. Когда я пишу стихи, то самым главным, кажется мне, не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие «качество», а нечто ещё более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна, это — чистота порядка.
Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально.
Но, Боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство! Великая вещь «Божественная комедия», но и стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» — не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь, такая-же реальная, как хрустальный пузырёк для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьётся. Вот что могут сделать слова!
Но, с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки! Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой, занозистой бумаге[390].
В этом тексте чувствуется большая вера Хармса в возможности, которые дает литературное творчество, в способность человека принять бесконечность мира и в способность литературы ее выразить. К тому же, поставив в прямую зависимость друг от друга понятия чистоты и автономии (ср. выше: «свободная воля», «самостоятельное существование» и т. п.), Хармс занимает «идеологическую» — в самом широком смысле этого слова — позицию, которая приведет к известным нам последствиям. Но вопрос не в этом. Интересно, что той же осенью 1933 года он пытается осуществить сближение поэзии и прозы, о чем свидетельствует запись в его дневнике от 25 сентября:
Стихотворные строчки:
«… гибнут реки наших знаний
в нашем черепе великом…»
выглядят хорошо. Но сказать прозой:
«… я видел как реки наших знаний постепенно гибнут и в нашем великом черепе…»
звучит плохо. Надо сказать:
«… я видел, как гибнут наши знания и в нашем большом черепе…».
Конечно в стихах свой закон, но было бы ещё лучше, если бы стихи звучали хорошо, сохраняя, в то же время, и закон прозы[391].
Элемент, общий для поэзии и прозы, их постоянная составляющая — та самая чистота, которая придает миру смысл, причем смысл единственный (вспомним «чистоту порядка») — от нее теперь должна принять эстафету литература. В тот же день Хармс делает еще одну запись:
Стихи надо писать так, чтобы каждая отдельная мысль стихотворения, высказанная прозой, была бы так же чиста, как и стихотворная строчка, выражающая её[392].
Это стремление сделать прозу такой же эффективной, как поэзия, не увенчается успехом, по крайней мере в том виде, как того хотел Хармс. По существу, принцип «столкновения» останется в силе, но вместо того, чтобы затрагивать формальные характеристики произведения (структуру, композицию, синтаксис, лексику и т. д.), он переместится на объект повествования. Причин у этого сдвига несколько.
Прежде всего, как мы видели, повествование диктует определенный порядок изложения: даже если в его структуру внесена ощутимая путаница, всегда остается возможность восстановить то, что формалисты называли фабулой, а к тексту, процитированному выше, это неприменимо. Поэтому то, что в поэзии было способом возвращения к «первозданной реальности» мира, в прозе становится просто беспорядком, хаосом, который ни к чему не ведет.
Кроме того, нужно напомнить, что философская система, выработанная Хармсом за прошедшие годы, переживала кризис, причины которого были связаны не только с проблемами Хармса — человека и поэта, но и с самой этой системой. Именно тогда его охватил чудовищный «страх пустоты» (выражение, которое использует Липавский в «Исследовании ужаса»[393]), а потом — и тревога метафизического плана: это момент, когда поэт понимает: «…я мир. А мир не я»[394]. Фрагментация же, с тех пор как она больше не оправдывается гарантией всеобъемлющего смысла, способного выразиться в любой частичке мира, превращается в распыление, разброс. Этот разброс стал мучением для поэта и превратился в настоящий экзистенциальный кризис.
Если рассматривать ситуацию более глобально, понимаешь, что не один Хармс оказался в такой ситуации. Квазиметафизический оптимизм авангарда уже не срабатывал в те времена, когда только что созданный Союз советских писателей формировал свои первые установки. Отсюда вытекает, что и кризис той философской системы, которую писатель разработал в рамках авангарда, не был единичным случаем, и нужно рассматривать его переход к прозе в контексте общего кризиса модернистских представлений об искусстве. «Я мир. А мир не я», — фраза уже из эпохи экзистенциализма. Неслучайно экзистенциализм отдавал предпочтение прозе как средству выражения.
Наконец, назовем самую важную из внутренних причин кризиса. На начальном этапе поэзия Хармса была связана воедино с его философской системой, поскольку последняя была описанием первой, а первая — приложением к последней. Когда писатель взялся за прозу, то в кризисе оказалась не только его философская система: выбор новой формы повлек за собой все более явно выраженный перевес в сторону быта, а там и просто его навязчивый образ, — того быта, который ни в какой мере не отвечал его философским потребностям. Эта антиномия не была уже творческим решением самого поэта, теперь она навязывалась ему каждодневной рутиной, простыми составляющими жизни. Особенно примечательно, что это свойство описываемой реальности повлекло за собой некоторую бессвязность его текстов и, как следствие, совершенно новую ориентацию в плане поэтики, которая затронула как его прозу, так и поэзию.
Что касается стихов, то с 1934 года их становится все меньше, а потом они исчезают совсем: если обратиться к собранию, подготовленному Мейлахом и Эрлем, в котором представлены все тексты этого периода, мы увидим там шесть стихотворений, написанных в 1934 году, около дюжины — в 1935-м, два-три — в 1936-м, десяток — в 1937-м, три — в 1938-м, одно — в 1939-м, и ни одного — в 1940–1941-м (мы считали только законченные произведения). Но скажем больше. Среди текстов, о которых идет речь, можно выделить несколько категорий, которые выпадают из поэтической системы, созданной Хармсом ранее. Прежде всего выделим стихотворения, которые по форме и по смыслу напоминают молитву (в эту категорию надо включить переводы из религиозной поэзии эпохи немецкого барокко[395]); затем можно выделить некоторое количество посвящений конкретным людям (например, Олейникову и Малевичу); особняком стоят все стихотворения автобиографического характера (стихи-жалобы тяжкого периода 1937–1938 годов); есть еще группа текстов по сути прозаических и даже нарративного характера, но графически расположенных как стихи. Еще более примечательны попытки использования Хармсом с середины 1930-х годов традиционных поэтических форм: в это время написаны «Упражнения в классических размерах» («УКР»), которые показывают, что Хармс постепенно отходит от своих прежних поэтических принципов.
В прозе это изменение хармсовской поэтики приведет к появлению новых конструктивных принципов: проза этого периода кажется абсурдной, это уже не относится (как было раньше) к законам поэтики, на которых она основана, — дело в той реальности, которую она описывает. Черты раздробленности начального периода сменяются новыми характеристиками: краткостью, точностью, ясностью в развитии повествовательной линии и т. п., даже если довольно часто эти характеристики представляются лишь пародией на себя самих. Обратимся к процитированному выше тексту о дочери Патрулёва: можно заметить, что нелогичный характер повествования в нем связан, в первую очередь, с особенностями композиции (с повествовательной структурой) и с языком (лексикой, синтаксисом, семантикой). Если взять более поздние тексты, особенно «Случаи», понимаешь, что нелогичность находится на уровне того, что рассказывается: вот персонажи действуют и говорят нелепо, бессвязно, вот эпизод из повседневной жизни выглядит как чудовищная история, вот в какой-то мысли не сходятся концы с концами. Возьмем самый известный из «Случаев», «Голубую тетрадь № 10» (1937):
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что не понятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить[396].
Здесь главное — отсутствие сюжета, однако это отсутствие рассказано, хотя и в пародийной манере, но самым традиционным образом: привычный зачин, описание (неважно, что за ним открывается пустота) и заключение. Каждый отдельный «случай» становится предметом отдельного рассказа, в котором есть, как минимум, начало и конец, а если между ними ничего нет, то именно это ничего (или почти ничего) и становится предметом повествования. Так, например, в рассказе «Встреча»:
Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси.
Вот, собственно, и все[397].
Такому сокращению повествования соответствует полная раздробленность самой реальности: теперь Хармс уже рассказывает не свою философскую систему, а саму жизнь, свою собственную жизнь во всех подробностях, от самых комичных до самых трагических. И с этого момента его поэтика укладывается в нормы гораздо более классические. То, что не дало особенно интересных результатов в поэзии (мы имеем в виду «Упражнения в классических размерах»), в прозе оказалось на редкость удачным ходом. Сначала, как мы видели, это напоминает пародию. Но очевидно, Хармс не хотел останавливаться на этом минималистском этапе, что и доказывает «Старуха», написанная в 1939 году. Эта повесть — единственный среди его произведений текст внушительной длины и написанный в более классической манере — показывает, что писатель вступил на совершенно новый для себя путь; правда, он прожил слишком недолго, чтобы довести это обновление до конца. Введенский не ошибся на этот счет, когда ответил Я. Друскину, спросившему у него, что он думает о «Старухе», — дело было сразу после того, как Хармс прочел друзьям свою повесть: «Я ведь не отказался от левого искусства»[398].
Переход от поэзии к прозе действительно совпал у Хармса с переходом от «левой» авангардной поэтики к более классической. Вообще-то даже на начальном этапе творчество Хармса содержало в себе зародыши этих перемен: мы показали, что уже в 1927 году в «Елизавете Вам» наравне с авангардными чертами на сцену выводится неспособность людей общаться друг с другом, которую позже показал Ионеско в «Лысой певице»[399]. Но тогда в центре находилась «цисфинитная логика», которая играла роль организующего принципа. С того момента, как эта логика показала свою нежизнеспособность в философском плане из-за своей утопичности, этот цемент, раньше оправдывавший любую степень раздробленности поэтической формы, перестал работать. Утрата организующего принципа, которая сопровождается непременно феноменом «автоматизации», привела все творчество Хармса в область не только других форм, но и другой литературы, в которой чуть позже зародятся экзистенциализм и абсурд.
Трудно в конце этого разговора не вспомнить о Р. Домале. Он пережил похожее расставание с утопией, открывшее ему глаза на «абсурдную очевидность» его существования, которое он не может вписать в существование вселенной. «Индивидуум, который познал себя на фоне всего, может поверить на мгновение, что он вот-вот рассыплется в однородную пыль и будет просто пылью, заполняющей в точности то место, где раньше пыли не было, вне пространства и времени», но, к сожалению, «всякий раз, как он думает, что уже наконец рассыплется, человека удерживает его кожа, я хочу сказать, его форма, удерживает на привязи тот конкретный закон, внешнее выражение которого и есть эта форма, удерживает абсурдная формула, иррациональное уравнение его существования, которое он еще не решил»[400]. Эти строки были написаны почти в то же время, что и процитированные слова Хармса: «я мир. А мир не я». Потом Домаль переходит к прозе, в промежутках она сменяется молчанием, и по-прежнему с ним остается память о пережитом:
Вспомни о том дне, когда ты порвал полотно и был схвачен заживо, застигнут на месте в гвалте гвалтов колес колес, крутящихся, не крутясь, а ты — внутри, зацепленный все тем же неподвижным мгновением, оно повторялось снова и снова, и время сливалось в одно, все вращалось в трех бесчисленных направлениях, время шло против часовой стрелки — и глаза плоти видели один только сон, была только ненасытная тишина, слова, как высушенные шкурки, и шум, да, шум, нет, зримый и черный вой этой машины перечеркивал тебя — молчаливый крик «я есть», который слышат кости, от которого умирает камень, от которого, кажется, умрет то, чего никогда и не было — и ты рождался заново каждое мгновение лишь для того, чтобы тебя зачеркнул огромный безграничный круг, чистейший, весь как единый центр, чистейший, если б не ты.
И вспомни дни, которые были потом, когда ты шагал, как заколдованный труп, уверенный, что тебя поглотила бесконечность, что тебя зачеркнуло единственное существующее — Абсурд[401].
Это написано в 1942 году, когда Хармс — поэт, ставший прозаиком, — умирал в тюрьме…
Хармс — переводчик или поэт барокко?[*]
Как известно, Даниил Хармс свободно говорил и читал по-немецки, поскольку учился в Петершуле, где преподавание велось на этом языке. Он знал и английский, хотя, по всей видимости, хуже. Им было сделано несколько переводов для детей, самый знаменитый — перевод книги немецкого писателя В. Буша «Plisch und Plum» или, точнее, ее переложение, опубликованное в 1936 году в журнале «Чиж» под названием «Плих и Плюх»[403]. Что же касается опытов перевода с английского, то в качестве примера можно привести неоконченный текст «Зачем ты блистаешь / летучая мышь…»[404] (стихотворение «Twinkle twinkle little bat…» из книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес») и хранящийся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (OP PH Б) достаточно неуклюжий прозаический отрывок 1931 года «Опасное приключение»[405].
Однако в данной статье мы обращаемся к «взрослым» переводам Хармса. Прежде всего факт существования среди рукописей поэта, хотя и небольшого, наброска перевода отрывка из книги Г. Мейринка «Der Golem» (книги, к которой Хармс возвращался на протяжении многих лет[406]) знаменателен сам по себе и служит доказательством того, что Хармс относился к занятию переводами не только как к одному из способов зарабатывания на жизнь. Более того, внимательное изучение автографов позволяет в настоящее время, во-первых, утверждать, что некоторые опубликованные как принадлежащие Хармсу тексты на русском языке являются, на самом деле, переводами или переложениями, и, во-вторых, оспаривать авторство написанных по-немецки рукою поэта причисленных к его творческому наследию стихотворений.
Среди автографов Хармса в OP PH Б имеется значительное количество его рукописных текстов на немецком и английском языках. Так, например, в одной из тетрадей середины 1930-х годов наряду с произведениями русских авторов содержатся стихотворения А. А. Мильна, Л. Сарони, Дж. Р. Киплинга, И. В. Гёте, У. Блейка, Кэрролла (одно из них, а именно «Twinkle twinkle little bat…», упоминалось выше) и др.[407] Отметим, кстати, что большинство из них имеет одну общую черту — их структура сродни песенной, а также что в эту тетрадь включены нотная запись и слова романса «Сомнение» (музыка М. И. Глинки, слова Н. В. Кукольника) и ирландской «Застольной песни» (музыка Л. В. Бетховена).
Десятью годами раньше в одной из записных книжек Хармса находим написанные по-немецки замечания бытового характера. Их содержание таково, что от человека, свободно владеющего немецким языком, мы были бы вправе ожидать грамматически безукоризненных фраз; тем не менее Хармсом допущено значительное количество ошибок. Например, весной 1925 года он записывает: «М. G. Es ist doch logisch mich einladen Gedichte zu lesen. Mach es M. G. da sind Menschen die Lieteratur lieben, es wird ihnen interessand sein dass zu hören. Lass Natascha hoflicher sein zu meine gedichte. G. mache doch dass <нерзб> ich bitte dich mach es mein liebste G.» (правильно: «M<ein> G<ott>. Es ist doch logisch, mich einzuladen, Gedichte zu lesen. Mach es, m<ein> G<ott>, da sind Menschen, die Literatur lieben, es wird für sie interessant sein, das zu hören. Lass Natascha höflicher sein zu meinen Gedichten. G<ott>, mache das doch <und?> ich bitte dich, mach es, mein lieber G<ott>.»); 7 июня: «Wartete sehr lange sibente Nummer. Fick seine Mutter. Ich bin böse» (правильно: «Wartete sehr lange auf die Nummer sieben. <…>»); 9 июня: «G.H. m. in Technikum bleiben. Gott mach dass ich hier lernen weiter werde <…>» (правильно: «G<ott> H<ilf> m<ir>, im Technikum zu bleiben. Gott mach, dass ich hier weiter lernen werde <…>»)[408]. При разборе такого рода записей очевидно, что даже в 1925 году, когда Хармс, не так давно закончивший Петершуле, должен был знать немецкий лучше всего, он пишет простыми фразами, явно заимствованными из русского языка (наиболее яркий пример, безусловно, «Fick seine Mutter» — калька русского «Еб твою мать»), и допускает определенное количество ошибок (довольно часто не соблюдает правила синтаксиса, орфографии — пишет как слышит, пунктуации — отсутствие запятых, существительные не всегда написаны с прописной буквы и т. п.). Можно также отметить, что в большинстве своем записи Хармса на немецком языке обращены к Богу или в той или иной степени касаются жены поэта Эстер Русаковой, то есть носят сугубо интимный характер.
В одной из записных книжек, датированных 1925 годом, содержится текст написанной по-немецки песни и черновые варианты ее перевода на русский язык. Ошибок на этот раз нет, не считая отсутствия некоторых прописных букв, а синтаксис намного сложнее синтаксиса процитированных выше записей. Приводим для сравнения первых пять строчек:
Das haben die Mädchen so gerne
Mädchen, ach ich kenne euch.
Mädchen, ihr seid alle gleich
führt mit fester Hand
uns am Gängelband[409].
Итак, бесспорны два, впрочем давно уже известных, факта: Хармс переводил из немецких поэтов и сам вел по-немецки записи интимного характера. Закономерно возникает вопрос: является ли немецкий язык языком его художественных произведений?
В OP PH Б хранится несколько стихотворений на немецком языке, написанных рукой Хармса приблизительно в 1937–1938 годах. Два текста («Welt, gute Nacht!» и «Wie furchtsam wankten meine Schritte») были опубликованы П. Урбаном как принадлежащие Хармсу в немецкой газете «Die Zeit» (1991. № 20. 10 мая). На наш взгляд, причисление упомянутых произведений к оригинальному творчеству поэта ошибочно, поскольку перед нами немецкие духовные стихи.
Этому есть ряд доказательств, наиболее неоспоримым из которых является тот факт, что в рукописи под текстом первого стихотворения стоит фамилия и имя его автора. М<агнуса> Дан<иэля> Омайса — философа, теолога, филолога и поэта барокко конца XVII — начала XVIII века[410]. Вот как это стихотворение было переписано и переведено на русский Хармсом.
Welt, gute Nacht!
Es ist nun aus mit meinem Leben,Got<t> nimmt es hin, der es gegeben;
Kein Tropflein mehr ist in dem Fass.
Es will kein Funklein mehr verfangen.
Das Lebenslicht ist ausgegangen;
Kein Körnlein mehr ist in dem Glas.
Nun ist est aus; es is volbracht.
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!
Пришел конец. И гаснет сила.
Меня зовет моя могила.
И жизни вдруг потерян след.
Все тише сердце бьется,
Как туча смерть ко мне несется
И гаснет в небе солнца свет.
Я вижу смерть. Мне жить нельзя.
Земля, прощай! Прощай, земля![411]
Установить источник текста, к сожалению, крайне трудно. Очевидно, что стихотворение было взято из книги церковных песнопений. Первоиздание данного произведения восходит к 1673 году[412]. Позднее оно, к тому времени став уже классикой церковной песни, появляется в антологии Омайса «Духовные цветы поэзии и песен» (1706), которая затем не переиздавалась. Для этого сборника Омайс значительно изменил первоначальный текст[413]. Текст, которым пользуется Хармс, явно ближе к оригиналу песни, чем к версии «Духовных цветов». Небольшие разночтения оригинала 1673 года и варианта Хармса объясняются тем, что на протяжении веков песни часто перерабатывались под другие мелодии. Стихотворение «Welt, gute Nacht!» появляется с не менее чем шестью вариантами мелодий в многочисленных протестантских и католических церковных песенниках. На основании наших данных можно сделать вывод, что этот текст был более всего распространен в восточной части Средней Германии — Саксонии[414]. Одно из указаний на то, как это стихотворение могло попасть в руки Хармса, — его появление в католической церковной книге 1806 года в Жагане, в Польше (Силезия)[415]. Это или подобное издание поэт мог видеть, например, в находившемся недалеко от его дома католическом костеле Св. Девы Марии Лурдской в Ковенском переулке, куда, как известно, Хармс любил заходить.
Размер стихотворения — четырехстопный ямб, полностью перенятый Хармсом, так же типичен для барочных[416] церковных песен, как и простая структура рифмы. Форма его строже, чем это требуется каноном песни, и указывает на знание Омайсом риторических требований времени. Следует прежде всего указать на тройное деление стихотворения (2–4—2), которое поддержано симметрией рифмической структуры. При этом встречная пунктуация отмечена делением, соответствующим переложению на музыку (3–3—2). Тема задается в первых двух строках, в последующих четырех возникают аллегорические картины, в то время как конец восходит к началу стихотворения и выливается в громогласное обращение к миру. Аллегорические картины средней части глубоко традиционны, в особенности представление о «Свете жизни» («Lebenslicht») и «Песочных часах» (подстрочный перевод: «Уже ни капли в бочке, / Уже никакая искра не хочет зажечь огня, / Свет жизни погас, / Уже ни песчинки в стекле…») как о символе преходимости человеческого существования, и сохранились в качестве фразеологических элементов до наших дней.
Хармс, только внешне перенимая структуру образца, устраняет на тематическо-образном уровне общую структуру стихотворения (трехчастность) и полностью опускает аллегоричность барочного текста[417], так что рифмическая структура теряет начальную функциональность. Его поэтическое «я» — это не общечеловеческое «я» оригинала, верного своему жанру. Таким образом, Хармс устраняет «барочность» стихотворения, которое в его переложении не подчинено больше нив формах, ни в образах строгому формальному канону.
Одновременно обращается в противоположность сама суть стихотворения. В автографе отсутствует название текста из антологии Омайса — «Вожделение смерти» («Die Lust zu sterben»). Кроме того, в оригинале за первой строфой (Хармс ее изолировал) следуют еще шесть, которые намекают на смерть как на освобождение от «земной юдоли» — один из ключевых духовных терминов барокко — и возвращение души к Богу. В новом прочтении Хармса стихотворение становится не только «лиричнее», но и трагичнее: несмотря на невозмутимость тона, исчезает представление о смерти как о естественном возвращении к Богу. Пессимистическое звучание перевода еще более подчеркивается одной немаловажной деталью — отсутствием Бога. Вторая строчка Омайса «Бог дал, Бог взял» в переводе Хармса звучит как «Меня зовет к себе могила», превращая молитву оригинала в литературное произведение автобиографического, бытового характера.
Важно отметить также, что немецкий и русский тексты написаны на бумаге одного качества и одинакового формата, теми же чернилами и одним почерком. Это позволяет утверждать, что они были написаны в одно время и что русский представляет собой перевод немецкого или, скорее, переложение по мотивам исходного текста, поскольку Хармс не перенял функциональную структуру оригинала.
Сказанное позволяет опровергнуть приписываемое Хармсу авторство и другого опубликованного в «Die Zeit» произведения. Данный текст (автографы Хармса по-русски и по-немецки) написан на такой же бумаге и такими же чернилами, что и «Welt, gute Nacht!», и представляет собой религиозный гимн на сей раз неизвестного (или анонимного) автора. В вышеупомянутой публикации отмечалось, что речь идет о позднейшем немецком варианте первоначально написанного по-русски стихотворения Хармса «Как страшно тают наши силы…». На наш взгляд, мы вправе утверждать иное, то есть текст «Как страшно тают наши силы…» (в свою очередь, также воспроизведенный идентичными чернилами на идентичной бумаге) является переводом приводимого ниже немецкого текста:
I.
Wie furchtsam wankten meine Schritte,Wie furchtsam wankten meine Schritte,
Doch Jesus hört auf meine Bitte,
Doch Jesus hört auf meine Bitte,
Und zeigt mich seinem Vater,
Und zeigt mich seinem Vateran.
Wie furchtsam wankten meine Schritte,
Wie furchtsam!
Wie furchtsam!
Wie furchtsam wankten meine Schritte,
Doch Jesus hört auf meine Bitte,
Doch Jesus hört auf meine Bitte,
Und zeigt mich seinem Vater,
Und zeigt mich seinem Vateran.
II.
Mich drückten Sündenlasten nieder,Mich drückten Sündenlasten nieder,
Sündenlasten nieder,
Doch hilft mir Jesu Trostwort wieder:
Dass es für mich genug
Genug gethan,
Dass es für mich genug gethan
Für mich genug gethan.
I.
Как страшно тают наши силыКак страшно тают наши силы
Но Боже слышет наши просьбы
Но Боже слышет наши просьбы
И вдруг нисходит Боже
И вдруг нисходит Боже к нам.
Как страшно тают наши силы
Как страшно!
Как страшно!
Как страшно тают наши силы
Но Боже слышет наши просьбы
Но Боже слышет наши просьбы
И вдруг нисходит Боже
И вдруг нисходит Боже к нам[418].
Перевод Хармса несколько удаляется от оригинала; кроме того поэт пропустил вторую строфу немецкого стихотворения. Однако в архиве Хармса найден черновик русского текста, показывающий, что первоначально поэт был ближе к немецкому источнику (например, дословно переведено слово «Schritte» — «шаг» Приводим черновой автограф с многочисленными вариантами переработки:
Как страшно
Как страшно
Колеблется мой шаг.
Но просьбу ты мою исполни
Молю тебя исполни просьбу
И дай надежду снова мне
[и мрачен] забрызган неверен
[и сбивчив] замызган опасен труден
загажен и [мрачен долог]
мой путь.
[неверен мой] [путь мой]
неверен
неверен.
Как страшно, как страшно,
Колеблется мой шаг.
Но просьбу ты мою исполни
И щедрым будь моленья утоли.
Ниже на листе находятся наброски перевода второй части стихотворения:
Тяжесть [греховная] меня греховная
меня давит.
Но помогая
[Нас бремя греха давит]
Нас бремя греха гнет и давит, давит
Но ты [нам] мне радость утешенья [повтори] ниспошли.
Что ты ко мне, опять ко мне, опять
опять придешь[419].
Промежуточная ступень переводческой работы показывает развитие интерпретации содержания: барочная (или пиетическая) безусловность личных отношений с Богом превращается у Хармса в чистую мольбу («Молю тебя исполни просьбу»). Что касается окончательного варианта переложения этого стихотворения, то и в нем Божье утешение, внимание Господа к мольбе человека не является чем-то бесспорным, само собой разумеющимся. Но молитва — это и не обращение в пустоту. Слово «вдруг», немыслимое в барочном тексте, придает ответу Бога значение чуда; повелительное наклонение чернового варианта «… мою исполни просьбу» меняется на изъявительное «Но Боже слышет наши просьбы / И вдруг нисходит Боже…». Однако несмотря на то, что Хармс сохраняет настоящее время строки «Jesus <…> zeigt mich seinem Vater» («Иисус <…> показывает меня отцу»), встреча человека с Богом в его переложении остается гипотетической, в то время как у анонимного автора она воспринимается читателем как реальность. В этом контексте следует также отметить, что, если чудо все-таки произойдет, такая встреча состоится не на небесах (в оригинале человек поднимается к Богу, движение снизу вверх), а на грешной земле (у Хармса Бог нисходит к человеку — сверху вниз).
На первый взгляд в черновом автографе содержатся отсутствующие в немецком тексте элементы: «и мрачен <…> мой путь». Но на самом деле в строке «неверен мой путь» варьируется заимствованная у анонимного автора идея о «колебании шага», а уже в первую строфу Хармс включает понятие тяжести греха, которое мы находим в первом стихе второй части оригинала («Mich drücken Sündelasten nieder»). Кроме того, ни в каких других черновых автографах поэта нет такого накопления вариантов рифм, что заставляет думать о работе переводчика. Вышесказанное, а также наличие нескольких набросков и ряд таких деталей, как, например, старая орфография слова «gethan» (вместо «getan») или очень специфическое употребление формы родительного падежа «Jesu», доказывают, что работа велась с немецкого на русский, а не наоборот.
Возвращаясь к идентичности рифм и метрических систем немецкого и русского стихотворений, следует подчеркнуть, что именно в середине 1930-х годов Хармс стремится ориентировать свою поэтику в несколько ином направлении, обращаясь к формам более классическим, нежели раньше. Он упражняется в стихосложении, подтверждением тому являются УКР (сокращение самого поэта) — «Упражнения в классических размерах»[420]. Одновременно возрастает интерес поэта к простым, прочным и даже застывшим формам песни.
Но, как уже отмечалось выше, в основе наших утверждений о происхождении немецких текстов лежит не только текстологическая очевидность. Хармс не мог писать подобные стихотворные произведения на немецком языке уже потому, что он, хорошо говоря на этом языке, не в достаточной степени свободно владел письменным немецким, о чем свидетельствуют приведенные нами в начале статьи бытовые записи из записных книжек поэта. Хармс, по всей видимости, на протяжении всей своей жизни читал по-немецки, однако нам представляется маловероятным, чтобы поэт через 10–15 лет после окончания школы мог писать на этом языке типично барочные духовные стихи. Отметим также, что никаких других указаний на то, что поэт работал на немецком языке или хотя бы регулярно пользовался им, в архивах нет.
* * *
Закономерно встает вопрос, следует ли причислять русские переводы этих стихотворений к оригинальным сочинениям Хармса? Безусловно, русские тексты иногда в значительной степени отличаются от немецких оригиналов, однако не следует забывать, что первоначально Хармс намеревался переводить намного ближе к тексту. Но это, на наш взгляд, не самое важное.
Намного более продуктивным представляется внимательное изучение поэтического творчества Хармса конца 1930-х годов и, в частности, разбор написанных поэтом в этот период стихотворений-молитв и стихотворений-песен. Не исключено, что отправной точкой для написания некоторых из них послужили либо схожие источники, либо один и тот же источник. Рассматривая построение этих произведений, можно привести параллели между написанными приблизительно в один период текстами: «Как страшно тают наши силы, / Как страшно! / Как страшно!..», «Часы стучат, / часы стучат./ Летит над миром пыль» («Смерть дикого воина», 27 июня 1938 г.) или «Журчит ручей, а по берегам, / по берегам, / по берегам, <…>» (18 августа 1938 г.)[421]. Всем им свойственен песенный характер и многочисленные повторения. На наш взгляд, отдельные тексты Хармса являются реминисценциями старых духовных стихотворений (или песен), ставших неотъемлемой частью не только поэтического, но и личного опыта автора. В этой связи следует обратить внимание на тот факт, что некоторые страницы дневника поэта 1937–1938 годов стилистически и тематически очень близки к процитированным выше произведениям. Так, например:
Пришел конец. И гаснет сила.
Ср.:
Пришли дни моей гибели. (9 апреля 1938 г.)
Меня зовет к себе могила.
Ср.:
Железные руки тянут меня в яму. (28 сентября 1937 г.)
Но просьбу Ты мою исполни
Ср.:
Боже, теперь у меня одна единственная просьба к Тебе:
уничтожь меня <…>[422]
В то время как в молитве поэт обращается к Богу за надеждой, в дневнике он просит быть уничтоженным. Продолжая сравнение с другими написанными от первого лица стихотворениями этого периода, можно заметить, что во многих из них, как и на страницах дневника, поэт постоянно возвращается к двум темам, которые занимают центральное место в обоих анализируемых в данной статье переводах. Первая — упадок сил (сил как творческих, так и физических):
Как страшно тают наши силы
И гаснет сила
Ср.:
Я ничего теперь не делаю («Я плавно думать не могу…»).
Увянут страсти и желанья («Тебя мечтания погубят…»).
<…> начинается слабость <…>/ потом наступает потеря / быстрого разума силы («Так начинается голод…»).
Меня закинули под стул, / но я был слаб и глуп[423].
Ср. дневниковые записи:
Полная импотенция во всех смыслах (18 июня 1937 г.).
Я потерял трудоспособность совершенно (7 авг. 1937 г.).
Я вижу, как я гибну. И нет энергии бороться с этим (7 авг. 1937 г.).
Ничего делать не могу. Все время хочется спать, как Обломову (30 ноября 1937 г.).
Вторая тема — тяжесть греха:
Нас бремя греха гнет и давит.
Ср. стихи:
То вспыхивает земное желание («Я долго смотрел…»).
Желанье сладостных забав / меня преследует[424].
Ср. дневниковые записи:
<…> мысли ленивые и грязные (7 авг. 1937 г.).
<…> если и промелькнет какая-то мысль, то вялая, грязная или трусливая (7 авг. 1937 г.).
Ощущение падения, бессилие («я упал так низко, что мне уже теперь никогда не подняться», — пишет поэт 12 января 1938 года) и обращение к Богу — те три черты, которые отличали созданные Хармсом в конце 1930-х годов произведения, будь то стихотворные тексты, дневниковые записи или, еще в большей мере, проза. В этом контексте важное значение приобретает тот факт, что названные черты присущи и единственным найденным переводам Хармса (не считая нескольких переведенных также в 1937–1938 годах строчек «Der Golem» и переводов для детей). Тематическая и стилистическая близость переводов и оригинальных сочинений поэта настолько очевидна, что нам представлялось важным установить объект перевода, поскольку в дальнейшем это позволит обогатить интертекстуальный анализ творчества Хармса 1930-х годов.
Кроме того, факт работы Хармса над переводами барочных поэтов поднимает вопрос, который, безусловно, потребует впоследствии более широкого освещения: о взаимоотношениях позднего авангарда и барокко. Вполне справедливо принято исходить из представления об «отстраненности» и социальном посредничестве барочных стихов. Именно в этом свойстве, выходящем за рамки политических направлений и «социального заказа», проявляется одна из родственных черт барокко и (русского) авангарда. Но к внеиндивидуалистичности текстов XVII века следует относиться неоднозначно, поскольку это также время процесса секуляризации и самосознания личного «я», приближающегося к представлениям Нового времени. Во многих текстах отражается сложный исторический опыт Тридцатилетней войны и Контрреформации, и появление в конце века поэтов, для которых серьезным становится то, что раньше для других было не более чем искусной игрой[425], неслучайно.
Когда Хармс самовольно «экзистенциализирует» Омайса, вырывая из контекста его творчества одну строфу, он случайно касается важной стороны барочного мироощущения поэта. Отказываясь от языковых игр своих предшественников из Нюрнбергской школы и утверждаясь в жанре церковной песни, Омайс как бы сам предопределяет будущую хармсовскую интерпретацию. Ибо некоторым авторам барокко свойственно стремление к «постформалистическому», приближающемуся к экзистенциалистскому исходу. Сюда относится основанный на личном опыте жанр пиетически-религиозной песни, к которому, вероятно, принадлежит второе стихотворение. Можно обнаружить типологическое родство между попыткой барокко сохранить все более уязвимую универсальность ощущения с помощью художественного отображения его всевозможных парадоксов и поздним Хармсом, чья отчаянная жизненная ситуация, а также изменение изначальной поэтической установки связаны с критическим переосмыслением религиозного мироощущения и представления о чуде.
Для Хармса переводы-переложения связаны, как было уже сказано выше, с его интересом к песенной форме, в которой он достигает высочайшей простоты средств выражения. Именно в этом проявляется связь с поэтической эпохой, которая вполне справедливо прославилась «маньеризмом» или «деланностью». Представленный в настоящей статье пример текстовых контактов между западноевропейской барочной литературой и угасающим русским авангардом поднимает вопросы, зовущие к дальнейшим исследованиям. Уже на сегодняшний день есть некоторые указания на связь этих эпох[426]. Но речь идет об ином аспекте — о параллелизме «религиозной экзистенциализации» поэтики в позднюю пору двух разных эпох, для которых характерны тяга к формализации и критическое отношение к искусству как к выражению личного «я».
Возвышенное в творчестве Даниила Хармса[*]
Для того чтобы говорить о возвышенном, необходимо предварительно сделать некоторые уточнения. Когда мы читаем классическую литературу по данной теме (псевдо-Лонгина, Канта, Берка, Буало и т. д.), мы постоянно сталкиваемся с некоей путаницей, которая является, по-видимому, результатом невозможности точного разграничения различных понятий, которые, дополняя друг друга, имеют в то же время различное применение. Представляется необходимым по отдельности рассматривать понятие природного возвышенного (то есть проявление возвышенного в природе, как, например, разгул стихий, о котором философы говорили еще в древности), чувство возвышенного (посещающее индивидуума при виде того или иного явления вне зависимости от его природы), возвышенный стиль (предполагающий безусловное присутствие риторических элементов), а также возвышенное как категорию эстетическую или философскую. Упоминая некоторые поэтические элементы, относящиеся к возвышенному, в данной статье мы тем не менее ограничимся размышлениями о философской системе, которую пытался создать Хармс и которая в различных аспектах относится к возвышенному.
Если говорить о произведении искусства, то перед нами стоит такая же трудность. Необходимо определить в какой-то мере ту точку, в которой расположено возвышенное: возвышенное может быть в изображаемом предмете, который представлен таким, каким он существует в природе (например, в романтическом искусстве), либо в той манере, в которой этот предмет изображен (стилистика), либо в самом произведении искусства, рассматриваемом как автономный предмет в качестве эстетического отображения некоего философского видения. Нас интересует именно последнее, поскольку, как мы увидим позже, именно оно позволяет выделить возвышенное в созданных авангардом системах (например, в абстракции).
Необходимо также устранить еще один источник недопонимания: когда мы говорим, что нас интересует философская система Хармса, мы не подразумеваем, что писатель является философом, и еще меньше, что, анализируя его тексты, будем прибегать к философскому подходу. Тем не менее такая система существует и находит свое отражение в виде теоретических (или псевдотеоретических) рассуждений, присутствующих в нескольких текстах писателя, на которых мы позже остановимся. Разбор этой системы позволяет, таким образом, выделить определенное число общих принципов построения произведений Хармса без использования метода, заключающегося в поиске элементов, позволяющих отнести эти произведения к той или иной категории, в данном случае к возвышенному.
Не выходя за установленные таким образом рамки, можно сказать, что в литературе о возвышенном мы встречаем две рекуррентные идеи, которые воспринимаются практически как штампы. Первая — это идея полноты или целостности, заключенной в художественном изображении (неизбежным следствием чего является бесконечность, совершенство, чистота и т. п.), и которую Ж. де Лабрюйер очень хорошо определил в «Характерах»:
Возвышенное отображает только истину (однако только в благородном предмете) во всей ее полноте, в ее причине и следствиях; оно является наиболее достойным выражением или образом этой истины[428].
Отметим, что в вышеприведенном определении понятие полноты связано с понятием одновременности в изображении причины и следствия, что, как правильно отметил Т. Литман в книге «Возвышенное во Франции»[429], отсылает к примеру «Fiat lux» («Да будет свет. И стал свет»), приведенному Н. Буало в предисловии к трактату Лонгина (1674) со следующим пояснением: «Этот превосходный оборот, так точно отражающий повиновение Творения приказам Творца, является действительно возвышенным и несет в себе нечто божественное»[430]. В известном смысле эта идея стоит в центре авангарда (например, в словах Крученых: «Новая форма создает новое содержание»[431]). Мы еще вернемся к этому. Вторая идея состоит в том, что возвышенное обязательно связано с ужасом, со страхом, с тем самым horror, который так прекрасно выявлен Э. Берком в его «Философском исследовании относительно возникновения наших представлений о возвышенном и прекрасном» (1757)[432]. И. Кант обозначает его понятием «возвышенное-страшное» (Schreckhaft-Erhabene) в «Наблюдениях о чувстве прекрасного и возвышенного» (1764) («Чувство возвышенного сопровождается ужасом или грустью…»[433]), а Ж.-Ф. Лиотар дал ему интересное развитие, о котором мы также будем говорить позже. Эти два понятия (полнота и ужас) пройдут красной нитью через все последующие рассуждения, поскольку они находятся в центре философской и поэтической теории Хармса и являются причиной как метафизического возвышения, так и резкого падения.
Одной из черт авангарда было построение интегрирующих систем восприятия и изображения мира. Это относится как к зауми Туфанова, так и к супрематизму Малевича (ограничимся этими двумя примерами, которые имели безусловное влияние на молодого поэта в 1920-е годы). В ту эпоху, когда Хармс общается с этими «ветеранами» исторического авангарда (в рамках «Ордена заумников» Туфанова и ГИНХУКа, которым руководил в это время Малевич), он также делает попытки создать подобную систему, названную им Cisfinitum, согласно которой оказывается, что единственным средством изображения мира в его полноте и бесконечности является ноль (тот самый ноль, что лежит в основе супрематизма[434]).
Нам хотелось бы далее показать, что возвышенное — в таком смысле, который был нами определен во вступлении, — является постоянной величиной творчества Хармса. Оно присутствует как в построении системы, так и в момент ее распада (время ужаса). Возвышенное также обусловливает то, что писатель в конце своей жизни взывает к чуду. Однако в этом случае проблематика становится противоположной: на смену человеку-Богу, способному построить модель возвышенного изображения мира, приходит падший человек, призывающий небеса своим вмешательством помочь ему вновь подняться. Именно этой диалектике подчинена поэтика Хармса, который, сделав первые шаги по пути авангарда, постепенно переходит к новому роду литературы — к экзистенциализму.
Cisfinitum
«Я мир. А мир не я». В этих словах Хармса заключена та проблематика, которая была нами выявлена выше. Первое положение предполагает возможность наличия полноты мира в каждом из его проявлений (я, например) — вспомним формулу Малевича: «Каждая форма есть мир»[435]. Второе положение несет в себе утверждение провала метода, поскольку «я», становясь автономным предметом, выбрасывается из мира. Полнота побеждена разрывом и последующими раздробленностью и изоляцией. Эта цитата взята из небольшого текста «Мыр», датированного 1930 годом, переписанного в тетрадь, в которой собрано несколько других поэтикофилософских текстов[436]. Этой тетради (заглавие одного из текстов которой — Cisfinitum) была посвящена глава нашей книги о Хармсе[437], поэтому мы позволим себе остановиться лишь на части рассуждений Хармса, прежде всего на его рассуждениях о бесконечности — понятии, которое, как мы видели, прямо связано с проблематикой возвышенного.
Хармс отталкивается от идеи, что бесконечное представить невозможно. В качестве доказательства он приводит прямую, которая перестает быть бесконечной, и, следовательно, совершенной, в тот момент, когда она проведена на бумаге. Он предлагает переломить прямую в каждой ее точке. Геометрически получается кривая, наиболее совершенная разновидность которой (то есть когда она переламывается в каждой из бесконечного числа ее точек) — круг:
Прямая, сломанная в одной точке, образует угол. Но такая прямая, которая ломается одновременно во всех своих точках, называется кривой. Бесконечное количество изменений прямой делает ее совершенной. Кривая не должна быть обязательно бесконечно большой. Она может быть такой, что мы свободно охватим ее взором, и в то же время она останется непостижимой и бесконечной. Я говорю о замкнутой кривой, в которой скрыто начало и конец. И самая ровная, непостижимая, бесконечная и идеально замкнутая кривая будет КРУГ[438].
В своих многочисленных рассуждениях о числах Хармс мыслит таким же образом: ноль занимает позицию между отрицательной и положительной сериями чисел (которые обе бесконечны), а с другой стороны, он не является символом какого бы то ни было количества, он простое качество. Тем самым он представляет собой выражение бесконечности чисел. Геометрически и арифметически получается один и тот же символ: круг/ноль.
Идея, таким образом, заключается в следующем: Круг представляет собой совершенную фигуру, которая, кроме того (и, безусловно, из-за этого), является изображением бесконечности. Мы подошли к основе проблематики возвышенного, как она представляется, например, в следующем определении Канта из «Критики способности суждения» (1790): «Прекрасное в природе имеет отношение к форме объекта, которая заключена в ограничении: напротив, возвышенное можно найти также в бесформенном предмете при условии, что безграничность либо представлена в нем самом, либо благодаря ему и что все же к этому прибавится мысль о его полноте»[439]. Другими словами, перед нами «показ непоказуемого» согласно формуле Лиотара, который прекрасно заметил, что «именно в эстетике возвышенного современное искусство (и в том числе литература) находит движущую силу, а логика авангардов свои аксиомы»[440].
Представляется полезным подробно остановиться на этом. «Возвышенное <…> имеет место тогда, — пишет Лиотар, — когда <…> воображение не может представить некий объект, который, хотя бы в принципе, вступает в согласование с неким понятием»[441]. Он продолжает:
У нас сложилось определенное представление о мире (полнота всего, что есть), однако мы не имеем возможности показать его на примере. <…> Мы можем постичь нечто совершенно огромное, совершенно могущественное, однако любой «показ» какого-либо объекта, попытка показать эту абсолютную огромность или мощность нам кажется до боли недостаточной. Это как раз те идеи, которые не могут быть «показаны»[442].
Возвращаясь к рассуждениям Хармса, можно лишь констатировать близость проблематики: начертив круг, поэт, как кажется, «показывает» бесконечную прямую, которая не может быть таковой. Мы говорим «как кажется» потому, что мы имеем дело с уловкой, за которой едва скрытое (а в случае с Хармсом оно довольно быстро станет очевидным) некое трагическое бессилие (которое Лиотар охарактеризовал словами «до боли недостаточной» в приведенной выше цитате). Кроме того, ведь не случайно круг имеет ту же форму, что и ноль, и, несмотря на то, что именно на него Хармс возлагает дело содержания в себе и представления бесконечности чисел, он все-таки остается символом отсутствия, пустоты, небытия (что станет определяющим положением в продолжении наших рассуждений). Здесь мы имеем дело с логикой того, что Кант называет негативным показом (отрицательным представлением), когда он толкует отрывок из Исхода (20: 4) о запрещении изображений («Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху…») как один из самых возвышенных пассажей Библии; эта мысль в авангардистском контексте означает, что абстракция есть одно из самых совершенных выражений возвышенного. О том же говорит Лиотар:
Современным я называю искусство, которое свою «малую технику», как говорит Дидро, использует для того, чтобы показать, что существует непоказуемое. Показать, что есть вещи, которые можно помыслить, но нельзя ни увидеть, ни показать: вот суть современной живописи[443].
Лиотар не случайно переходит отсюда именно к Малевичу, чтобы предложить эстетику возвышенного в живописи: «В качестве живописи она, конечно, „покажет“ нечто, но — отрицательным образом, иначе говоря, она избегнет фигуративности или изображения, она будет „белой“, как квадрат Малевича, она будет показывать, не давая видеть, она будет доставлять наслаждение, лишь причиняя боль»[444].
Все это позволяет по-новому взглянуть на раннюю поэзию Хармса. В действительности заумь, являющаяся словесным вариантом супрематизма (как отмечал Крученых в 1916 году в предисловии к «Вселенской войне»[445]), имеет целью «показать непоказуемое», то есть словами выразить невыразимое, а именно: ту бесконечность мира, которая стоит выше разума, по природе своей ограниченного. Финитуму, являющемуся не более чем плодом произвольного созидания разума и вотчиной реалистов, и постижимому, но не могущему быть показанным инфинитуму, Хармс противопоставляет цисфинитум, то есть бесконечность «по сю сторону» («cis-»), которая может стать объектом показа. В свете вышесказанного особенно значительным оказывается тот факт, что Хармс, разрабатывая систему, которая очевидно обнаруживает признаки возвышенного, прибегает на первых порах к зауми. Вместе с тем знаменательно и то, что Хармс быстро отказывается от нее. Но здесь необходимо подробнее остановиться на еще одной стороне творчества писателя.
Sublime is now
То, что рассматривалось нами до сих пор исключительно с точки зрения геометрии (прямая, круг), имеет важное философское значение, и это не могло не заинтересовать Хармса. «Цисфинитная логика» писателя фактически заключает в себе метод показа, опирающийся на «перевернутость» представляемого объекта: круг, как наглядное изображение бесконечной прямой, или ноль, как наглядное изображение бесконечности чисел, — примеры того, что Кант называет негативным показом. Применяя этот метод ко времени и к пространству — проблематика, стоявшая в центре авангардистских дискуссий, — мы отдаем себе отчет в том, что единственно возможным показом этих понятий будет «здесь/теперь», несущее в себе совокупность времени (вечность) и пространства. Хармс развивает эту мысль в небольшом трактате 1936 года, в котором в качестве условия существования некоего объекта (это) он выдвигает наличие другого объекта (то), с которым первый вступает в контакт в некоей точке (нулевой точке), называемой автором препятствием. Говоря о времени, Хармс опирается на эти же постулаты:
29. Прошедшее, настоящее и будущее, как основные элементы существования, всегда стояли в необходимой зависимости друг от друга. Не может быть прошедшего без настоящего и будущего, или настоящего без прошедшего и будущего, или будущего без прошедшего и настоящего.
30. Рассматривая порознь эти три элемента, мы видим, что прошедшего нет, потому что оно уже прошло, а будущего нет, потому что оно еще не наступило. Значит, остается только одно «настоящее»[446].
Однако настоящего самого по себе не существует, поскольку оно является лишь точкой пересечения, «препятствием» между прошедшим и будущим. Таким же образом Хармс оперирует пространством и приходит к выводу, что существование Вселенной находится в зависимости от столкновения времени и пространства, это новое «препятствие», которое может толковаться как полнота мира и его длительности:
36. Таким образом: «Настоящее» времени — это пространство.
37. В прошедшем и будущем пространства нет, оно целиком заключено в «настоящем». И настоящее является пространством.
<…>
45. Таким образом: тут пространства — это время.
46. Тут пространства и «настоящее» времени являются точками пересечения времени и пространства[447].
Итак, возможен только негативный показ бесконечности. Именно в молниеносности настоящего, лишенного какой бы то ни было длительности, можно почувствовать прикосновение вечности. Еще раз мы подходим вплотную к проблематике возвышенного и, в частности, к идее, что возвышенное уже не столько «показ непоказуемого», сколько «показ без показа». Лиотар, говоря об авангарде в книге «Нечеловеческое», приходит к подобным же выводам. Отправной точкой ему служит эссе художника Б. Ньюмана, название которого говорит само за себя: The Sublime is Now (1948). Данному «now» французский философ дает следующее определение:
Когда Ньюман пытается найти возвышенное в «здесь и теперь», он порывает с красноречием романтического искусства, не отвергая при этом его основную задачу, заключающуюся в том, чтобы живописное или другого рода выражение стало знаком того, что не может быть выражено. Невыражаемое заключено не в «там», не в другом мире и не в другом времени, а вот в чем: пусть оно (нечто) произойдет[448].
Вот почему Лиотар предлагает переводить название эссе Ньюмана не как «Le sublime est maintenant» (Возвышенное — теперь), а как «Maintenant, tel est le sublime» (Теперь: таково возвышенное). Произведению искусства отводится абсолютно новая роль: оно более не рассматривается ни как имитация, ни как воспроизведение и даже ни как показ; оно само по себе становится реальностью, то есть «тем, что происходит». Возвышенное «не в другом месте, не где-то там наверху, не где-то там в стороне, не раньше, не позднее и не когда-то. Вот, происходит… и вот картина перед нами», — продолжает Лиотар прежде, чем сделать вывод: «Что теперь и здесь не пустота, а эта картина — это и есть возвышенное»[449]. У Хармса мы встречаемся с аналогичными рассуждениями, смысл которых заключается в том, что произведение искусства должно быть сориентировано не на объект, который надо показать, а на идею, что это произведение находит отражение в самом себе и само становится объектом реальности. Стихотворение становится конкретным предметом, который можно держать в руках. Именно в этом аспекте следует толковать следующий афоризм Хармса: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется»[450] — или отрывок из программного письма от 16 октября 1933 года, адресованного актрисе Пугачевой:
Но Боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство! Великая вещь «Божественная комедия», но и стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» — не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а, следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, эта вещь такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова![451]
Эта цитата позволяет говорить о некоторых из фундаментальных аспектов творчества Хармса. Поэт ставит на одном уровне и в одной фразе три основных понятия: чистота, близость к реальности, самостоятельность. Нам кажется, что названные три понятия имеют прямую связь с возвышенным, как оно было проанализировано в предыдущих строках. Возвращаясь к образу круга, мы вместе с Хармсом понимаем, что именно чистота его формы и позволяет кругу показать полноту мира в том смысле, что он показывает «чистоту порядка»:
Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке, и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально[452].
Еще раз мы сталкиваемся с логикой по Малевичу: он не переставал настаивать на необходимости создания форм новых и чистых; охарактеризовал супрематизм формулой «новый живописный реализм»; что касается понятия автономии, то оно содержится в уже процитированной фразе, а именно: «Каждая форма есть мир»[453]. Таким образом, не удивительно, что в основе представления о мире как Малевича, так и Хармса лежит ноль. Как отмечалось выше, в «Супрематическом зеркале» (1923) Малевич в общих чертах излагает свои основные идеи, которые тесно перекликаются с рассуждениями Хармса:
<…>
4) Если религия познала бога, познала ноль.
5) Если наука познала природу, познала ноль.
6) Если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало ноль.
7) Если кто-либо познал абсолют, познал ноль[454].
Ноль, следовательно, является подобием той чистоты, которая создает возвышенное в творчестве Хармса. Тем не менее, как мы уже отметили, такой философский подход страдает определенными изъянами: ноль — это также и образ небытия. Тут мы подходим вплотную ко второй стороне проблемы возвышенного, без которой возвышенного не существовало бы, — это ужасное, связанное с идеей о том, что «происходящего» (по Лиотару) не происходит: «Но суть вопроса — в „теперь“, now, как чувство, что может ничего не произойти: небытие теперь»[455]. Одним словом, существует опасность, что в любой момент великое Все окажется великим Ничем. Именно это чувство отражено в записанной Хармсом в 1933 году в дневник фразе: «Чистота близка к пустоте»[456]. Очевидно, что эта запись представляет собой не только рифмованный каламбур.
Ужас
«Я уже замечал, что все, что способно наводить ужас, может служить основанием возвышенного», — писал Берк в упомянутом исследовании о возвышенном[457]. Страх или ужас является фундаментальной величиной произведений Хармса. Безусловно, в них отражен ужас, который наполняет человека при виде кошмарной действительности. В прозе Хармса 1930-х годов во многом нашел отражение чудовищный быт, царивший в ту эпоху. Тем не менее перед нами ужас другого рода. Хотя бы уже потому, что, по Берку, наличие возвышенного определяется не только одним ужасом. Необходимо, чтобы к ужасу примешивалось чувство наслаждения, зарождающееся оттого, что опасность, в каком-то смысле, держится на почтительном расстоянии. Однако у Хармса чувство ужаса перед реальностью уже победило: ужас противодействует возвышенному и ведет к падению индивидуума.
Но в произведениях Хармса мы встречаемся и с метафизическим ужасом, который может быть рассмотрен в контексте ранее сказанного. В этой связи интересно упомянуть написанное философом и другом писателя Липавским эссе «Исследование ужаса»[458]. По богатству идей его можно сопоставить с исследованием Берка. Например, мысль, уже развивавшуюся английским философом, о том, что ужас всегда обусловлен неким лишением («Всякое общее лишение велико, потому что ужасно: Пустота, Тьма, Одиночество и Безмолвие»[459]), встретим и у Липавского. Со своей стороны, Лиотар объясняет, что «возвышенное порождается угрозой того, что больше не происходит ничего». «Ужасает то, — пишет он, — что Происходящего не происходит, оно перестает происходить»[460]. Другими словами, ужас порождается тем, что «здесь/теперь» (now) не существует, а опыт вечности без длительности, увлекающий индивидуума в несуществование, есть не что иное, как опыт небытия, смерти.
В данном контексте следует обратить внимание на то, что Берк говорит о бесконечном, которое, по его словам, «стремится заполнить ум такого рода сладостным ужасом, который является наиболее естественным следствием и непременным опытом возвышенного»[461]. Философ видит возможность искусственного вое-произведения бесконечности в «последовательности» и в «единообразии»:
Последовательность и единообразие частей создают искусственную бесконечность. 1. Последовательность: надобно, чтобы части распространялись столь длительно и в таком направлении, чтобы своим частым воздействием на чувства напечатлеть в воображении идею об их движении за действительные их пределы. 2. Единообразие: потребно постольку, поскольку, если облик частей претерпевает изменения, воображение всякий раз бывает озадачено: при каждой перемене мы имеем дело с окончанием одной идеи и началом другой, так что становится невозможным продолжение того непрерывного движения, которое одно может наложить на ограниченные объекты печать безграничности[462].
В первой части этой статьи мы стремились показать, что Хармс, изобретая свою цисфинитную логику, был одним из тех, кто хотел бы «показать непоказуемое». В свете вышеприведенной цитаты можно сказать, что ноль, от которого отталкивается названная логика, представляет собой данную «искусственную бесконечность». В этом контексте показателен тот факт, что Берк пришел к понятию единообразия, которое в эссе Липавского мы находим в виде понятия однородности. Именно однородность, по Липавскому, вызывает ужас при виде грязи, тины, жира, слизи, слюны, продуктов секреции желез, протоплазмы и т. п., одним словом, веществ, которые, казалось бы, находятся в низшей сфере существования («cis-»). Но, как и у Хармса, речь здесь идет не только об ужасе при виде физических явлений, но и об ужасе метафизическом, который находит, опять-таки как у Хармса, свое наиболее полное отражение во взаимоотношении индивидуума со временем. Эта однородность — не что иное, как бесконечность, которая, в свою очередь, является не чем иным, как отсутствием времени. В одном из лучших мест «Исследования ужаса» Липавский описывает страх, который внезапно охватывает человека в послеполуденные часы (страх полудня) — момент, представляющий собою нулевую точку:
В жаркий летний день вы идете по лугу или через редкий лес. Вы идете, не думая ни о чем. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку и косым полетом выпархивают кузнечики из-под носа. День стоит в своей высшей точке.
Тепло и блаженно, как в ванне. Цветы поражают вас своим ароматом. Как прекрасно, напряженно и свободно они живут! Они как бы отступают, давая вам дорогу, и клонятся назад. Всюду безлюдно, и единственный звук, сопровождающий вас, это звук собственного, работающего внутри сердца.
Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мертвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом вы замечаете: полет ее неподвижен. Стрекоза схватила мушку и отгрызает ей голову, и обе они, и стрекоза и мушка, совершенно неподвижны. Как же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков. И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни — во веки веков. Только бы не догадаться о самом себе, что и сам окаменевший, тогда все кончено, уже не будет возврата. Неужели нет спасения из околдованного мира, окостеневший зрачок поглотит и вас? С ужасом и замиранием ждете вы освобождающего взрыва. И взрыв разражается[463].
Мы уже отмечали это стремление приблизиться к нулевой точке, к своего рода вечному настоящему, без прошлого и будущего. Однако здесь наступает «каталепсия времени» и ноль оказывается ничем: птица зависла в полете, не происходит ничего (сказал бы Лиотар) и «даже „сейчас“ не существует». Остается лишь «страх пустоты, иначе страх падения»[464] — тема, о повторении которой в произведениях Хармса было достаточно сказано. Ужас (уже совсем не delightful) заключается в том, что вечность (отсутствие длительности) находит свое проявление лишь в смерти. В 1933 году Хармс писал:
Мне все противно.
Миг и вечность
меня уж больше
не прельщают.
Как страшно
если миг один до смерти,
но вечно жить еще страшнее[465].
Приблизительно в этот период все параметры созданной поэтом философской системы становятся обратными: круг более не «искусственная бесконечность», а знак пустоты, которую он символизирует (0). Мысль о полноте, заключенная во фразе «я мир», уступила место мысли о рассеивании, нашедшей отражение в написанной вслед за первой фразе: «А мир не я»; мир однородный становится тесным и подавляет существо; на смену фундаментальной идее «чистоты порядка» приходит беспорядок быта, в котором царит грязь; возвышение индивидуума кончается его падением; святость побеждена грехом; «здесь/теперь» только лишь формула, выражающая несуществование. Нетрудно заметить, что именно такое изменение параметров лежит в основе прозы Хармса 1930-х годов, причем не только на тематическом (распыление персонажей, помойки, теснота коммуналок, наводящее страх размножение предметов, исчезновение персонажей и т. п.), но одновременно и на поэтическом уровне: фрагментация повествования, невозможность закончить текст, бессвязность повествовательных составляющих и, главное, как у Беккета, стремление говорить для того, чтобы заполнить пустоту, рискуя при этом говорить лишь ни о чем, как это происходит в знаменитой «Голубой тетради № 10» (1937):
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.
Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так, что непонятно, о ком идет речь.
Уж лучше мы о нем не будем больше говорить[466].
Cisfinitum не удался.
Чудо
В свете сказанного можно рассматривать многие тексты Хармса. Например, следующий отрывок из его псевдодневниковых записей о друзьях-писателях можно толковать, опираясь на размышления Лиотара о «Случается (происходит), что…»:
Я слыхал такое выражение: «Лови момент!»
Легко сказать, но трудно сделать. По-моему, это выражение бессмысленное. И действительно, нельзя призывать к невозможному.
Говорю это с полной уверенностью, потому что сам на себе все испытал. Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы. Теперь я знаю, что это невозможно.
Так же невозможно «ловить эпоху», потому что это такой же момент, только побольше.
Другое дело, если сказать: «Запечатлевайте то, что происходит в этот момент». Это совсем другое дело.
Вот например: раз, два, три! Ничего не произошло! Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло.
Я сказал это Заболоцкому. Тому это очень понравилось, и он целый день сидел и считал: раз, два, три! И отмечал, что ничего не произошло.
За таким занятием застал Заболоцкого Шварц. И Шварц тоже заинтересовался этим оригинальным способом запечатлевать то, что происходит в нашу эпоху, потому что ведь из моментов складывается эпоха[467].
Из этого текста следует, что эпоха целиком помещена под знак «ничто», поскольку любой момент, из которых она составлена, пуст. И если есть нечто возвышенное в «раз, два, три!» (это — «Случается, (происходит), что…»), оно опровергается тем, что «ничего не произошло».
Случай «Сундук» (1937) рассказывает историю человека, который заперся в сундуке, чтобы наблюдать «борьбу жизни и смерти». Когда приходит решающее мгновение, миг, который своим огненным блеском должен был бы знаменовать победу над временем, отвечая этим критерию возвышенного, последнее себя не обнаруживает:
Вот началось: я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно! Мне уже нет спасения! И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь!..[468]
Однако в заключительной части статьи мы хотели бы сказать об ином, а именно — о чуде.
Во второй половине 1930-х годов в творчестве Хармса наблюдается все более частое прямое обращение к Богу. Поэт всегда был глубоко верующим, и молитва рано заняла важное место в его поэзии. Вспомним его прекрасную «Молитву перед сном…» (1931), где он обращается к Господу с призывом прямо вмешаться в его стихотворчество:
Только Ты просвети меня Господи
путем стихов моих.
Разбуди меня сильного к битве со смыслами,
быстрого к управлению слов
и прилежного к восхвалению имени Бога
во веки веков[469].
Но можно утверждать, что после неудачи с Cisfinitum Бог становится неотложнейшей потребностью и что в дальнейшем с Ним сопрягается возвышенное. От Него ожидается знамение, и этим знамением будет чудо, то есть нечто непременно возвышенное.
Тема чуда появляется в творчестве Хармса очень рано. Уже в «Утре» (1931) читаем: «Вчера я просил о чуде. Да-да, вот если бы сейчас произошло чудо»[470]. Дальше понятие чуда непосредственно связывается с писательством:
Вчера вечером я сидел за столом и много курил. Передо мной лежала бумага, чтобы написать что-то. Но я не знал, что мне надо написать. Я даже не знал, должны быть это стихи, или рассказ, или рассуждение. Я ничего не написал и лег спать. Ноя долго не спал. Мне хотелось узнать, что я должен был написать. Я перечислял в уме все виды словесного искусства, ноя не узнал своего вида. Это могло быть одно слово, а может быть, я должен был написать целую книгу. Я просил Бога о чуде, чтобы я понял, что мне нужно написать.
Но мне начинало хотеться курить. У меня оставалось всего четыре папиросы. Хорошо хоть две, нет, три оставить на утро.
Я сел на кровать и закурил.
Я просил Бога о каком-то чуде.
Да-да, надо чудо. Все равно какое чудо.
Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было по-прежнему.
Но ничего и не должно было измениться в моей комнате.
Должно измениться что-то во мне[471].
В губительном 1937 году Хармс записывает в свой дневник: «Есть ли чудо? Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ»[472]. В 1939 году: «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира»[473]. В этой фразе заключена фундаментальная идея преображения (трансформации-деформации) реального мира. И если (возвращаясь к «Утру») исходить из мысли, что этим чудом может быть простое слово, легко заметить, что логика здесь та же, что лежит в основе абстракции и, следовательно, зауми. И в этом плане реализм предстает просто-напросто антитезой возвышенного.
Эти несколько наблюдений позволяют взглянуть по-иному на повесть «Старуха», написанную в 1939 году, то есть в том же году, что предыдущая дневниковая фраза. Повесть выстроена целиком вокруг ожидания чуда. Напомним, что речь идет об истории писателя («Я»), к которому приходит умирать старуха; старуху эту он видел утром, она держала в руках стенные часы без стрелок, что наилучшим образом символизирует идею времени, лишенного длительности, о которой шла речь выше. Рассказчик сосредоточен на мысли, что необходимо избавиться от трупа, который — надо ли уточнять? — представляет собой тягостное опровержение вечности. На всем протяжении повести писатель ожидает чуда, которое, «нарушив физическую структуру мира», приведет к тому, что мертвого тела в его комнате не будет. Но единственное «нарушение физической структуры мира» — разложение трупа. И то же — в финале, когда у героя крадут в поезде чемодан, куда он засунул старуху, чтобы бросить ее вместе с чемоданом в болото где-нибудь под Ленинградом, и он ожидает обратного поезда, где его ждет неминуемый арест:
По земле ползет зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцами. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.
Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь[474].
Вот чудо, ожидаемое с самого начала повести: человек создан по образу и подобию Божию, а Бог оказывается в этом случае все-го-навсего гусеницей, извивающейся на земле в ожидании искупления (возможно, в виде всего-навсего бабочки!).
Но рассказчик ожидает еще одного чуда — чуда писательства. Он пишет рассказ и не может двинуться дальше первой фразы. Это чудо также не состоится, и «Старуха» представляется осуществлением плана рассказчика-писателя, поскольку рассказу, который он должен написать, должно было стать историей чудотворца, который не творит чудес:
Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда[475].
Совершенно так же, как чудотворец остается без чуда, рассказчик-писатель остается без рассказа: чуда писательства, которое, взятое в этом аспекте, совершенно бесспорно относится к категории возвышенного, не произойдет. Так, после неудачи с Cisfinitum, последний шанс реализации возвышенного оказывается неосуществимым. Именно это придает творчеству Хармса последнего его периода трагический характер.
* * *
Таким образом, анализ возвышенного у Хармса позволяет проследить эволюцию его творчества. Но тему эту можно, несомненно, расширить и продолжить утверждением, что здесь перед нами типическая схема выхода из авангарда.
Авангард характеризуется построением систем. Cisfmitum был одной из них — на тех же правах, что супрематизм Малевича или заумь Крученых. Конец авангарда наступил тогда, когда эти системы рухнули: это видно в торжестве быта, который захлестывает прозу Хармса в 1930-е годы, в возврате к фигуративности у Малевича и в попытках Крученых уловить что-то заумное в прозе Лидии Сейфуллиной, Всеволода Иванова и др.[476] Жажда чуда выступает в этом контексте как последняя — и безнадежная! — попытка спасти систему именно в этом пункте: в ее началах возвышенного. Абсурд как форма экзистенциализма, характеризующий творчество Хармса второго периода, оказывается, по-видимому, результатом ухода возвышенного в сопровождении жестокого молчания Бога.
«Cisfinitum» и смерть: «каталепсия времени» как источник абсурда[*]
Многозначность слова «абсурд» весьма усложняет любые попытки обобщения. Когда мы говорим об абсурде, то почти всегда на первых порах думаем о философском абсурде, корни которого уходят довольно далеко, к проявлениям кризиса мысли в XIX веке (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), и который нас приводит прежде всего к А. Камю. Камю видит абсурд в трагической связи, которая соединяет человека с миром, остающимся для него непонятным и противопоставляющим ему «бессмысленное молчание» Бога (см. «Миф о Сизифе»; 1942). Это составляет, безусловно, одну из основ абсурда — такого, каким он отражается в литературе XX века после кризиса исторического авангарда и, в частности, в «театре абсурда»[478]. У Хармса это проявляется совершенно очевидным образом: во всех его прозаических текстах 1930-х годов тем или иным способом всплывает чувство разрыва между героем и миром — разрыва, великолепно выраженного в следующих двух фразах: «Я мир. А мир не я» («Мыр»)[479].
Тем не менее если оно и является обязательным, то этого измерения далеко не достаточно для того, чтобы определить литературное произведение, обладающее вышеуказанными параметрами, как абсурдное. Более того, нельзя забывать вторую фазу процесса, описанного Камю, в котором человек восстает («Человек бунтующий»; 1951). Иными словами, как это точно подчеркивает О. Буренина, «человек абсурда отнюдь не лишает действительность смысла <…>, но сама лишенная смысла действительность наделяет человека креативной силой, восстанавливающей смысл вопреки всему», и эта семантизация выражается в крике:
Человек кричит — мир молчит. Иными словами, экзистенциалистское понимание абсурда можно сформулировать следующим образом: абсурд есть попытка семантизирования (криком) десемантизированного — распад, бессмысленность и безумие мира человек пытается собрать, осмыслить и образумить[480].
Однако, чтобы можно было действительно говорить о «литературе абсурда», необходимо, чтобы в произведении наличествовали и другие особенности, связанные с его построением в смысле поэтики (эстетики). Между тем, идет ли речь о философии или о поэтике, нам кажется, что большую часть вопросов, связанных с абсурдом, можно свести к проблеме времени. Это особенно поражает нас в произведениях Хармса, у которого мы в действительности находим не только философское размышление о времени, но и прямое воздействие этого размышления на саму его манеру письма.
Время и бесконечность
Поскольку мы уже немало писали на эту тему[481], то ограничимся изложением лишь нескольких основных положений, касающихся многочисленных размышлений Хармса о времени. Как яркий наследник авангарда (подобно близким ему и входившим в содружество «чинарей» поэту Введенскому и философам Я. Друскину и Липавскому[482]), Хармс был воодушевлен идеей возможности развития эстетической системы, которая в состоянии будет отразить весь мир в его Совокупности (и, стало быть, Бесконечности). Однако на практике эта бесконечность оказалась очень схожей с «бессмысленным молчанием» Бога и самого мира: непостигаемой, невидимой и не поддающейся описанию как таковая. Для того чтобы преодолеть это препятствие, Хармс и изобрел то, что он назвал «цисфинитной логикой» (или Cisfinitum’ом), призванной выразить это понятие. В этом, впрочем, и заключалась великая мечта авангарда. Бесконечность прямой, то есть пространства, стало возможным выразить в форме круга, то есть в форме нуля[483]. Что касается времени, то оно вроде бы полностью (то есть бесконечность прошлого и бесконечность будущего) могло сконцентрироваться в ноль-точке, в бесконечности настоящего, несущего в себе бесконечность мира. Эта ноль-точка, которая уже присутствовала в центре внимания супрематической системы Малевича, и явилась «ответом на все вопросы»[484]. Но этот грандиозный проект провалился, и ноль на самом деле оказался тем, чем был: абсолютной пустотой, готовой поглотить индивидуума.
Что же произошло?
А произошло следующее: этот «цисфинитный ноль», который должен был стать чем-то вроде бесконечного настоящего, оказался на самом деле просто точкой перехода, совершенно безвременной и, соответственно, без собственного существования, зажатой между бесконечностью прошлого, которого уже нет, и бесконечностью будущего, которого еще нет. В противоположность тому, что думал Хармс[485], встреча этих двух разных несуществующих бесконечностей не могла создать нечто существующее. Уделом абсурдного человека оказывается великая пустота. Введенский описывает это еще прозрачнее, когда утверждает в «Серой тетради»:
Время единственное что вне нас не существует. Оно поглощает все существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время <…> восходит над нами как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя надежда — Христос Воскрес.)[486].
Очевидно, что мы оказываемся перед апокалиптическим видением («И времени не будет» — говорится в Откровении Иоанна Богослова), и это измерение является некоей константой для абсурдного человека.
Время и смерть
Разработка и последовавший затем крах этой системы сильно повлияли на поэтику Хармса. Это влияние определяет два различных периода его литературного пути. Первому, по меньшей мере до 1932 года (дата первого тюремного заключения и временного ухода Хармса из литературной жизни), соответствует преимущественно поэтическое творчество, которое можно связать с великими всеобъемлющими (и утопическими) мечтаниями авангарда. «Цисфинитная» логика, которую Хармс описывает в нескольких квазифилософских трактатах, несет в себе идею времени, сведенного к нулю; но этот ноль определяет заполненность его «я» в бесконечном времени, наконец-то прирученном. В этом заключается смысл маленького стихотворения, названного «Третья цисфинитная логика бесконечного небытия» (1930):
Вот и Вут час.
Вот час всегда только был, а теперь только полчаса.
Нет полчаса всегда только было, а теперь только четверть часа.
Нет четверть часа всегда только было, а теперь только
восьмушка часа.
Нет все части часа всегда только были, а теперь их нет.
Вот час.
Вут час.
Вот час всегда только был.
Вот час всегда только быть.
Вот и Вут час[487].
В этих стихах проявляется процесс распада на составные части, возврата к нулевой точке, который мы уже несколько раз наблюдали. Но в данном случае категория, которая распадается на отдельные части, необычна, поскольку речь идет о времени. Разлагая час таким образом, чтобы свести его к самой маленькой единице, поэт стремится все к тому же нулю, который и в самом деле является бесконечно малой частицей настоящего, то есть частицей ближайшей и неорганизованной реальности. Итак, реальность есть «бесконечное небытие». Это не логика конечного (будь конечное восьмушкой часа или целым часом — безразлично) и не логика бесконечного (недоступного по определению), но логика цисконечного, то есть непосредственной реальности, помещающей «я» в настоящее, равное нулю и вечно обновляющееся.
Крах этой системы, первоначально полной оптимизма, приведет к радикальному изменению поэтики писателя, и второму периоду его пути соответствует то, что можно назвать (с подобающей осторожностью) «абсурдным периодом Хармса». Одной из наиболее характерных черт этого изменения является постепенный переход от поэзии к прозе[488]. Или, чтобы быть точнее: его поэзия (очень редкая во второй половине 1930-х годов) превращается в выражение ужаса перед условиями существования абсурдного человека. Но этот человек и есть сам Хармс, и здесь мы оказываемся в категории философского абсурда, описанного Камю: это и есть причина, по которой стихи Хармса приобретают в основном форму молитв и безнадежных жалоб, тональность которых та же, что и в его записных книжках того же периода. Во всяком случае, становится ясно, что характеристики поэтики абсурда следует искать не здесь.
Зато эти поиски можно осуществить в его прозе. И здесь опять можно констатировать, что определение этой поэтики обеспечивается анализом категории времени. Как уже было сказано, ноль, с которым у Хармса было связано столько надежд, оказался ужасающей пустотой, которая оказывается не чем иным, как смертью. Смерть — единственная существующая бесконечность и, значит, единственный «Cisfinitum». Эксперимент с «Цисфинитумом» привел лишь к дроблению времени на части (каждая из которых станет маленькой смертью) и разрушению его линейности. Введенский отлично выразил эту мысль в «Серой тетради»:
В мире летают точки, это точки времени. Они садятся на листья, они опускаются на лбы, они радуют жуков. Умирающий в восемьдесят лет, и умирающий в 10 лет, каждый имеет только секунду смерти. Ничего другого они не имеют. Бабочки однодневки перед нами столетние псы. Разница только в том, что у восьмидесятилетнего нет будущего, а у десятилетнего есть. Но и это неверно, потому что будущее дробится. Потому что прежде чем прибавится секунда, исчезает старая, это можно было бы изобразить так:

Только нули должны быть не зачеркнуты, а стерты. А такое секундное мгновенное будущее есть у обоих, или у обоих его нет, не может и не могло быть, раз они умирают. Наш календарь устроен так, что мы не ощущаем новизны каждой секунды[489].
Чувство абсурда также рождается из этой трагической альтернативы: смерть («остановка времени»; «больше не будет времени») или же раздробленное и лишенное линейности время, где каждое мгновение существует лишь для себя (то есть без определенного «порядка», как деревья в лесу, по определению Я. Друскина[490]) или, скорее, пытается существовать. Именно это восприятие времени очень сильно повлияло на повествовательную прозу Хармса. Самое впечатляющее проявление этого влияния — уничтожение при-чинно-следственных связей. Отсутствие этих связей было допустимо в поэзии. Иногда это даже было одним из требований, выдвигаемых «левым искусством», на чем особенно настаивал Введенский в той же «Серой тетради», где, говоря о глаголах, он достаточно четко объясняет влияние, которое может оказать его восприятие времени на собственное письмо:
Глаголы на наших глазах доживают свой век. В искусстве сюжет и действие исчезают. Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны, их нельзя уже назвать действиями. Про человека, который раньше надевал шапку и выходил на улицу, мы говорили: он вышел на улицу. Это было бессмысленно. Слово вышел, непонятное слово. А теперь: он надел шапку, и начало светать, и (синее) небо взлетело как орел[491].
Мы видим, что принцип, о котором упоминает Введенский, убедителен в художественном плане — так же, как и его пример. Но, как он констатирует, и само понятие нарративности отходит в прошлое. Для рассказа о каком-либо событии обязательно требуется определенное взаимоотношение со временем. Эти взаимоотношения (как мы увидим далее) усложняются из-за того, что во всяком повествовании требуется наличие двух видов времени, как это нам известно еще с эпохи формалистов: «фабульного» и «повествовательного» («erzählte Zeit» / «Erzählzeit»; «temps de l’histoire» / «temps du récit»).
Симфония
Большое количество текстов Хармса построено по принципу перечеркнутых нулей, которые нарисовал Введенский. Другими словами, эти тексты часто представляют собой аккумуляцию зачинов[492]. Это все равно что пытаться, двигаясь от нуля, пробиваться к единице, до которой невозможно добраться. Как если бы время превратилось в пространство, да еще в такое, которое оказалось сведено к бесконечно малой величине (иначе говоря, к тому, что есть почти ничто). Крошечная миниатюра «Встреча» является хорошим примером этого процесса:
Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси. Вот, собственно, и все[493].
Мы здесь встречаемся с неким «несобытием», скрытым в обличье стандартного начала повествования. То, что в эстетической системе Хармса можно назвать «симфонией» (здесь мы следуем значению, вкладываемому в этот термин самим автором), на самом деле является аккумуляцией маленьких «встреч», начал повествования, которое никак не может получить статус настоящего повествования, давая таким образом хаотическую картину мира[494].
Немало текстов Хармса построено по такому широко прокомментированному принципу: «Начало очень хорошего летнего дня», подзаголовком которого служит термин «симфония» («симфония» здесь воплощает в себе пространственное противопоставление начал событий), «Синфония <так!> № 2» (в которой развитие повествования резко обрывается и представляет собой прерывистую цепочку звеньев, никак не связанных друг с другом), «Случаи» (где персонажи умирают, еще не успев войти в пространство текста) и многое другое. Понятие «синфония» прекрасно выражено в следующей записке Хармса 1934–1935 годов:
Цена его головы такая же, как и цена отдельных частиц его головы.
Симфония![495]
Особенно интересно отметить, что в некоторых случаях каждый фрагмент «симфонии» пронумерован, что можно рассматривать как отражение текста в самом себе или же как метаописание. Это имеет место в таких произведениях, как «Связь», «Пять неоконченных повествований». Название последнего говорит само за себя: пять безнадежных попыток повествования быть осуществленным, но каждый раз оно возвращается в ноль-точку, то есть в небытие, от которой пыталось отдалиться. Таким образом, нам ничего, по сути дела, не рассказывается, так как рассказывать, по сути дела, нечего.
Эта констатация позволяет объяснить тот факт, что «Голубая тетрадь № 10» (о рыжем человеке, у которого ничего не было, так что непонятно, о ком идет речь, и лучше о нем замолчать) стала эмблемой такого рода поэтики: больше нет темы, больше нет фабулы, больше нет сюжета, больше даже нет персонажа и так далее. Однако, когда уже кажется, что больше ничего нет, мы начинаем замечать то, что остается: а именно — сам текст! И это нас приводит к обсуждению важнейшей проблемы — автореференциальности текстов Хармса.
Автореференциальность
В заключение своей статьи О. Буренина весьма тонко подмечает тенденцию абсурда создавать «совокупность практически автономных микросюжетов»[496], результатом чего становится нечто вроде отсылки текста к самому себе, которую исследовательница называет «автосемантичностью». Действительно, мы замечаем, что сведение повествования к нулю создает новое пространство: пространство самого текста. Это причина, по которой текст ищет в самом себе способы восстановить причинно-следственную связь, которой нет в описываемой действительности. Можно даже сказать, что он изобретает для себя «автомотивировку», за неимением любой другой. Приведем пример для иллюстрации вышесказанного:
Однажды Петя Гвоздиков ходил по квартире. Ему было очень скучно. Он поднял с пола какую-то бумажку, которую обронила прислуга. Бумажка оказалась обрывком газеты. Это было неинтересно. Петя попробовал поймать кошку, но кошка забралась под шкап. Петя сходил в прихожую за зонтиком, чтобы зонтиком выгнать кошку из-под шкапа. Но когда Петя вернулся, то кошки уже под шкапом не было. Петя поискал кошку под диваном и за сундуком, но кошку нигде не нашел, зато за сундуком Петя нашел молоток. Петя взял молоток и стал думать, что бы им такое сделать. Петя постучал молотком по полу, но это было скучно. Тут Петя вспомнил, что в прихожей на стуле стоит коробочка с гвоздями. Петя пошел в прихожую, выбрал в коробочке несколько гвоздей, которые были подлиннее, и стал думать, куда бы их забить. Если была бы кошка, то конечно было бы интересно прибить кошку гвоздем за ухо к двери, а хвостом к порогу. Но кошки не было. Петя увидел рояль. И вот от скуки Петя подошел и вбил три гвоздя в крышку рояля[497].
Этот текст, который, хотя и начинается традиционным «однажды», обещающим дальнейшее повествование, не в состоянии произвести никакую фабулу: либо потому, что это неинтересно или скучно, либо потому, что персонаж слишком вялый, либо, наконец, из-за непоследовательности последнего, которая побуждает его к действиям, какие можно назвать «абсурдными» в обычном смысле слова, то есть нелепыми. По этой причине данный текст тоже можно считать нагромождением зачинов, даже если все время речь идет об одном и том же единственном персонаже. Однако текст сам создает (здесь — на фонетическом уровне) необходимую связь между героем Гвоздиковым и единственным законченным действием, самым абсурдным из всех — забиванием гвоздей в рояль.
Этот прием далеко не нов. Достаточно вспомнить гоголевского Пирогова, который спасался от тоски, съедая два слоеных пирожка, и многие другие случаи «словесной маски», которыми испещрены произведения великого писателя-классика и которые так удачно описаны Б. М. Эйхенбаумом. Однако фундаментальное нововведение в текстах Хармса — отсутствие всего прочего. Автореференциальность берет верх над остальным. Уничтожая все элементы повествования, которые в принципе создают повествование, Хармс в конечном счете дает понять совершенно другое: как именно он пишет тексты, которые мы читаем. По этой причине мы всегда можем найти в текстах Хармса обнажение приема. В рассказе о Пете Гвоздикове, например, это было определенное использование ономастики.
Фабульное время / повествовательное время
Нет сомнений, что время — столь фундаментальное во всем повествовании понятие — имеет также право на толкование не как философская категория, существующая вне текста в качестве предпосылки, но и как нарративная категория, предстающая в первозданном виде. Это значит, что оно описывается в тексте, который, казалось бы, описывает совсем другое.
Если вернуться к двум вышеупомянутым типам времени («фабульное время» и «повествовательное время»), можно взглянуть на некоторые тексты Хармса под совершенно новым углом зрения — особенно на тексты, в которых рассказывается о падении. Падение — само по себе красивая (впрочем, довольно мрачная) метафора сближения с ноль-точкой, которое завершается, как правило, довольно печально, и метафора ускорения времени, вплоть до его упразднения («каждый имеет только секунду смерти»; «и времени больше не будет»). Но это — время философское. Упоминание падения равным образом вводит и употребление времени как художественной категории.
Хорошо известный «случай» «Вываливающиеся старухи» начинается фразой: «Одна старуха, от чрезмерного любопытства, вывалилась из окна, упала и разбилась»[498]. Мы отдаем себе отчет, что в этой фразе два времени находятся в прекрасном соответствии: падение (фабульное время) длится столько же, сколько и время повествования о падении (повествовательное время).
Совсем иная ситуация в рассказе «Упадание (Вблизи и вдали)» (1940), о котором А. А. Кобринский совершенно верно пишет, что это «вершина опытов Хармса с художественным временем»[499]. В нем два человека с предельной замедленностью падают с крыши (подобно распространенному приему в кинематографе, о котором удачно написал исследователь):
Два человека упало с крыши. Они оба упали с крыши пятиэтажного дома, новостройки. Кажется, школы. Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать. Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать сразу целых двое. Совершенно растерявшись, Ида Марковна содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее протирать запотевшее оконное стекло, чтобы лучше разглядеть, кто там падает с крыши. Однако, сообразив, что пожалуй падающие могут, со своей стороны, увидеть ее голой и невесть что про нее подумать, Ида Марковна отскочила от окна и спряталась за плетёный треножник, на котором когда-то стоял горшок с цветком. В это время падающих увидела другая особа, живущая в том же доме, что и Ида Марковна, но только двумя этажами ниже. Особу эту тоже звали Ида Марковна. Она как раз в это время сидела с ногами на подоконнике и пришивала к своей туфле пуговку. Взглянув в окно, она увидела падающих с крыши. Ида Марковна взвизгнула и, вскочив с подоконника, начала спешно открывать окно, чтобы лучше увидеть как падающие с крыши ударятся об землю. Но окно не открывалось. Ида Марковна вспомнила, что она забила окно снизу гвоздём, и кинулась к печке в которой она хранила инструменты: четыре молотка, долото и клещи. Схватив клещи, Ида Марковна опять подбежала к окну и выдернула гвоздь. Теперь окно легко распахнулось. Ида Марковна высунулась из окна и увидела как падающие с крыши со свистом подлетали к земле.
На улице собралась уже небольшая толпа. Уже раздавались свистки, и к месту ожидаемого происшествия не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам. К этому времени уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая голая, высунувшись в окно, визжали и били ногами. И вот, наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши ударились об Землю.
Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности[500].
Совершенно ясно, повторяем, что несоответствие двух времен можно найти во всех видах повествований (рассказы, повести, романы): можно довольно легко втиснуть двадцать лет в одну страницу или один час растянуть на двести страниц, и понятно, что случай с «Вываливающимися старухами» весьма специфический. Однако природа происходящего в этом тексте совершенно иная. Если повествовательное время растягивается и более не соответствует фабульному времени (как в рассказе «Вываливающиеся старухи»), то можно констатировать, что оба вида времени разделяются до такой степени, что появляется новое фабульное время. Поясним: если бы длина текста зависела, например, от описания дома или от рассказа о прошлом этих людей, то мы имели бы дело с обычным повествованием. Однако здесь персонажи (причем один из них сам является рассказчиком), которые находятся в противоположном здании, успевают произвести невероятное количество действий, тогда как внизу успевает собраться целая толпа, и милиционер отнюдь не вынужден торопиться, чтобы поспеть к месту происшествия вовремя. Таким образом, наряду с двумя местами действия (оба здания) у нас имеются и два фабульных времени, каждое из которых имеет и свое повествовательное время. Более того, несоответствие двух типов времени в одном случае противоположно другому: рассказ о падении много длиннее, чем само падение, тогда как рассказ о деятельности различных персонажей в здании напротив много короче, чем предполагаемая длительность этой деятельности[501].
Эта весьма выразительная «гетерохронность» (термин Кобринского) должна заставить задаться вопросом, о чем в самом деле идет речь в этом тексте. Кажется, что Хармс прежде всего — скорее, чем падение двух персонажей и чем истерику обеих Ид Марковн и всей остальной толпы, — описывает здесь фундаментальную проблему поэтики. Повторим еще раз, что это не ново: когда Гоголь начинает рассказ «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» словами «С этой историей случилась история», он не совершает ничего иного[502]: смысл слова «история» относится к фабульному времени в первом случае, тогда как во втором — к повествовательному. Все это вписывается в общую автореференциальную тенденцию литературы, которой невозможно избежать и без которой литература не могла бы существовать. Однако у Хармса мы наблюдаем решительную радикализацию, соединенную с той самой тенденцией обнажения приема, которую мы видим в «Упадании». Поэтому можно сказать, что в настоящем тексте, как и в «Вываливающихся старухах», Хармс ведет речь о проблеме времени в прозаических текстах. И не только времени вообще, но и всех приемов, которые с ним связаны: причинно-следственные связи, замедление, затяжка и т. д.
Можно обобщить: в конечном счете то, о чем повествуется в текстах Хармса, является не столько историей персонажа или событиями, с ним связанными (ср. у Введенского: «События не совпадают со временем. Время съело событие»[503]), сколько историей самого текста. Это находится в идеальном соответствии: повествование переместилось с фабулы, то есть с истории, которая рассказывается и которая (как мы уже видели) не может существовать, на историю истории («С этой историей случилась история»); иначе говоря — от повествования к «метаповествованию», и второе полностью замещает первое…
Заключение
Эти размышления о прямом влиянии философской специфики абсурдного времени на поэтику так называемых «писателей-абсурдистов» далеко не исчерпывают темы. Нам показалось интересным подойти к проблематике абсурда в связи с проблемой времени. Это, как представляется, убедительно отображает поразительные изменения, которые произошли за несколько лет активной литературной деятельности с писателями, которые начинали в рамках авангарда, как раз в то время дошедшего до своих пределов. Можно сказать, что задача идеальной автореференциальности была исторической частью программы авангарда (а также, вне всякого сомнения, вообще модернизма). Она была вписана уже в «Черный квадрат» Малевича, в заумь Хлебникова и Крученых и т. д. Это был период, когда верили, что автореференциальность может стать выражением Всеобщности мира. Потом мечта целого поколения потерпела крах, и на смену бесконечному времени, которое надеялись описать словами, пришло время раздробленное, несущее в себе неподвижность и смерть — новую действительность, которую слово, в свою очередь раздробленное, могло описать лишь в безнадежных попытках раскрыться, однако постоянно возвращаясь к «бессмысленному молчанию», с которым сталкивается человек абсурда.
Предпосылки этого краха существовали уже довольно давно. Например, в 1913 году, когда Гнедов только-только издал свою брошюру «Смерть искусству»[504], состоящую из 15 «поэм», каждая из которых была не длиннее одной строки, а в двух случаях даже сводилась к одной-единственной букве. Например, в поэме 14, ставшей столь знаменитой, — «Ю». Здесь автореференциальность максимальна. Разумеется, являясь в сборнике в качестве предпоследнего включенного в него произведения, она, эта буква «Ю», призывает к себе букву «Я», являющуюся не только следующей и последней буквой русского алфавита, но и одновременно, разумеется, местоимением первого лица единственного числа; местоимением, которое мы были бы вполне вправе ожидать от хорошего эгофутуриста; местоимением, которое, заметим, также авторефе-ренциально и которое вписывает автономного индивидуума в великое Всё… Но это уже философия.
На самом деле произошло другое. Последняя в сборнике «поэма» сводится к его названию: «Поэма конца». Это все: она, стало быть, является совершенно афонической. Причем эта «афония» перформативна, поскольку название, предвещающее конец, обращено в сторону молчания. Это молчание было, однако, прочитано. В. Пяст вспоминал, как автор декламировал эту заключительную «поэму»:
Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки, быстро подымаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой[505].
Конечно, можно сказать, как это делает С. Сигей в предисловии к переизданию Гнедова, что поэт «оказывается у истоков современного синтетического искусства»[506]. Однако, оказываясь на экстравербальной территории, мы меняем регистр (танец, «перформанс», «body-art»). Поэт-эгофутурист Игнатьев в своем манифесте-предисловии к «Смерти искусству» заявляет следующее: «Гнедов Ничем говорит целое Что»[507]. Но все же далее добавляет, что будущее литературы есть Безмолвие…
Однако молчания не наступило, или же, точнее, это молчание оказалось столь грохочущим, что его нарекли абсурдом.
IV. ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ
Наказание без преступления
(Хармс и Достоевский)[*]
Связь повести Хармса «Старуха» с Достоевским без труда угадывается даже неискушенным читателем. Пародийный аспект этого произведения, поднятая в нем тема наказания в отсутствие преступления и значение, которое она приобретает в контексте 1930-х годов XX века, отмечались уже неоднократно[509], однако нам представляется небесполезным уточнить некоторые положения, чтобы показать, насколько недостаточно интерпретировать отношения двух писателей исключительно с точки зрения пародии.
Стоит напомнить в двух словах содержание повести. Герой-рассказчик — писатель, безуспешно пытающийся создать рассказ о чудотворце, который не творит чудес. Его прототипом во многом является сам Хармс: живет в том же районе Ленинграда, что и Хармс, курит трубку, ненавидит детей, мучается теми же «проклятыми вопросами» бытия, его друг Сакердон Михайлович напоминает друга Хармса Николая Олейникова и т. д.
Однажды утром он встречает старуху, которая держит в руках стенные часы без стрелок; на вопрос о времени она отвечает: «Сейчас без четверти три»[510] (очевидный намек на «Пиковую даму» Пушкина). В этот же день она приходит к герою-рассказчику и умирает. В растерянности тот не знает, что предпринять, хочет доложить о случившемся управдому, но лишь тянет время. Именно из-за этой нерешительности, а еще потому, что голоден, он идет в булочную. Там в очереди завязывается короткий разговор с «дамочкой», он приглашает ее к себе выпить водки, но, спохватившись, ретируется. Затем он направляется к Сакердону Михайловичу выпить водки и закусить сардельками — к этой центральной сцене повести мы еще обратимся в дальнейшем, — а потом возвращается к себе в надежде, что старухи там больше нет («Неужели чудес не бывает?!»; 178). Но, войдя в комнату, видит, что старуха-покойница на четвереньках ползет к нему… В страхе герой хватается за молоток для крокета. В конце концов он принимает решение в духе уголовного романа (как он сам себя убеждает) избавиться от трупа, засунув его в чемодан и выбросив где-нибудь на болоте на окраине Ленинграда. В поезде у него начинаются рези в животе, он бежит в уборную и, возвратившись на свое место, видит, что чемодан украден. Предчувствуя неминуемый арест, герой выходит на станции Лисий Нос и в ожидании обратного поезда идет в лес. Там, став на колени перед ползущей (как старуха!) гусеницей, он произносит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь» (188).
В качестве предварительного замечания хотелось бы также добавить, что повесть занимает особое место в творчестве Хармса: во-первых, это единственный текст такого значительного объема (примерно полтора печатных листа); во-вторых, в поэтике писателя он представляет собой новое направление, более «классическое» по сравнению с авангардистскими поэтическими экспериментами начального периода и крайним, доходящим порой до нелепости минимализмом затем последовавшего периода. Написанная в 1939 году, то есть незадолго до ареста автора, повесть в известной мере подводит итог всему предшествующему периоду. Ее появление в свете периодизации творчества Хармса представляется вполне закономерным. Действительно, как мы старались показать в наших работах, творчество Хармса делится на два периода[511]. Первый период (1925–1932) следует рассматривать в контексте заката авангарда, запутавшегося в непреодолимых трудностях (вследствие как внешнего давления, так и внутренних философско-эстетических проблем, которых мы не будем касаться). Это период оптимизма, отмеченный эстетикой формалистских поисков. Второй период — период сомнений, представленный поэтикой, которую можно (разумеется, со всей осторожностью) сблизить с поэтикой абсурда, понятого как некий вариант экзистенциализма[512].
Вполне закономерно, что при переходе от первого периода ко второму Хармс сменяет поэзию на прозу и что в итоговой повести «Старуха» он вновь поднимает вопросы, близкие к тем, что были у Достоевского. А тот факт, что «Старуха» была написана во время разгула сталинского террора, заставляет нас задаться некоторыми вопросами.
Как уже отмечалось, сопоставительный анализ «Старухи» с произведениями Достоевского был уже в общих чертах разработан, хотя, разумеется, не исчерпывающим образом. По сходству сюжетной ситуации к повести ближе всего «Преступление и наказание»: в комнате с трупом старухи находится молодой человек, в страхе пытающийся найти выход из ужасного положения. Повесть Хармса, как и роман Достоевского, следует включить в «петербургский текст», тем более что действие происходит во время белых ночей, и это влечет за собой целую цепь аллюзий. Герой-рассказчик описывает свой маршрут по городу подобно тому, как описан маршрут Раскольникова, и также страдает от летней жары. Наконец, он, как и Раскольников, живет в одной бедной комнате со скудной мебелью и часто лежит на «кушетке», как Раскольников на своей «неуклюжей большой софе»[513].
Определенные образы являются знаковыми, даже несмотря на то, что у Достоевского и у Хармса они представлены совершенно по-разному. Например, часы, с их важной символикой, появляются в повести Хармса пять раз, напоминая заклад, который приносит Раскольников процентщице во время своего «пробного» визита. Другим примером знакового образа служат ключи. Когда в начале повести старуха приходит к герою, первым делом она говорит ему: «Закрой дверь и запри ее на ключ» (164), чему он машинально повинуется. Это прямо противоположно тому, что происходит в романе Достоевского, где старуха-процентщица, напротив, не закрывает двери, и Раскольников совершает свое преступление при полуоткрытой входной двери:
Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, всё время, во всё это время! <…>
Он кинулся[514] к дверям и наложил запор.
Вместе с тем этот отрывок перекликается с происходящим позднее в повести Хармса, когда герой внезапно пугается при мысли, что он оставил дверь открытой и что старуха может выползти из комнаты:
Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?
Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами.
Отметим, что, выбежав из дома процентщицы, Раскольников также замедляет шаг, не желая привлекать внимания прохожих:
А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось.
Еще один знаковый образ: забитая до смерти лошадь («лошадка», «клячонка», «кобыленка») во сне-аллегории Раскольникова, готовящегося к убийству старухи. Напоминание о ней мы находим в описании трупа у Хармса: «Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь» (166).
Наиболее очевидно к роману Достоевского отсылает сцена, где герой-рассказчик вооружается молотком для крокета, чтобы защититься от мертвой старухи, которая еще двигается (у порога!). Отметим, что в следующих эпизодах, подобно Раскольникову после того, как он берет в руки топор, мысли героя проясняются:
Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.
Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжение многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!.. (179)
<…>
Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.
Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.
С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.
Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.
— Раньше всего закрыть дверь! — скомандовал я сам себе.
Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты. (181)
<…>
Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток. Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. (181)
<…>
Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приотворив ее, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собою дверь на ключ. (182)
<…>
Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню. (183)
<…>
Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее, прочь эту падаль! (183)
Все в этой сцене напоминает беспокойные действия Раскольникова после убийства: жесты, психологическое состояние, лексика и т. д.:
Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровию, — в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки всё еще дрожали. Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. (63)
<…> Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнул еще раз над старухой, но не опустил. (63)
<…>
Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.
Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. (64)
<…>
Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но всё было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. (64–65)
<…>
Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить всё разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, покамест не отперли. «Поскорей бы уж!» — мелькнуло в его голове. (68)
Можно найти еще немало деталей из «Преступления и наказания», воспроизведенных у Хармса в перевернутом, гротескном виде, или, во всяком случае, сниженных, передразненных, имеющих явно пародийный оттенок. Так, например, оба героя пугаются, услышав шум на лестнице (у Хармса: «В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула»; 181). Или еще: прежде чем герои берут себя в руки и действуют хладнокровно, как во втором процитированном выше отрывке («мысли мои текли ясно и четко»), они оба испытывают мучительный голод, который туманит их мысли и определяет поведение. Читаем у Хармса:
Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод, все сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.
<…>
Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.
У Достоевского в конце первой главы «Преступления и наказания» Раскольников заходит в харчевню, чтобы подкрепиться, так как свою слабость он объясняет голодом (здесь кусок сахара помогает молодому человеку!):
Один какой-нибудь стакан пива, кусок сахара, — и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения!
И далее, когда старуха-процентщица спрашивает его, отчего он бледен и дрожит, он отвечает: «Поневоле станешь бледный… коли есть нечего» (62).
Герои испытывают одинаковое чувство страха и неотвязного отвращения (у Хармса: «Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха» (183); у Достоевского: «Он <…> почувствовал к ней непреодолимое отвращение» (53), это слово неоднократно повторяется). Оба беспрестанно твердят себе, что надо бежать, и оба рассеянны и тянут время, когда надо действовать: герой Хармса отправляется в булочную или дремлет на своей кушетке, а что касается Раскольникова, то «минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам» (65).
Встреча героя Хармса с пьяницей («На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я бы убил его тут же на месте»; 177) явно отсылает нас к двум встречам с пьяными и к встрече с Мармеладовым в первой главе «Преступления и наказания».
Отметим также финал повести Хармса. Сразу вслед за молитвой перед гусеницей следует: «На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась» (188). Этот финал напоминает заключительные строки романа Достоевского о «постепенном перерождении» героя, которое, впрочем, не описывается: «…но теперешний рассказ наш окончен» (422).
Можно было бы привести и другие примеры спародированных образов, но все они являются главным образом указателями, внешними атрибутами сходства. Однако есть и гораздо более глубокий пласт для сравнения.
Очевидно, более важен мотив детства, выводящий нас далеко за рамки двух произведений: дети без конца мешают герою Хармса, он хочет избавиться от них, они внушают ему не меньшее отвращение, чем старики и трупы (эту тему герой затрагивает в беседе с Сакердоном Михайловичем[516]). В «Преступлении и наказании» тема детства вводится рассказом о подлостях Мармеладова и первым упоминанием о Соне. Тема эта, однако, являясь сквозной в творчестве Достоевского, прежде всего связана с «Братьями Карамазовыми». У Хармса она решительным образом перевернута (напомним известный «афоризм» писателя: «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь надо же с ними делать!»[517]). Отметим, кстати, что эту равную неприязнь Хармса к детям и к старикам (так же как к зародышам и покойникам) можно истолковать как метафизический ужас перед двумя симметрично окружающими человеческую жизнь «идеально черными вечностями», то есть ужас перед возможной пустотой небытия, перед «безличной тьмой по оба предела жизни» (В. Набоков[518]).
Сказанное объясняет присутствие других важнейших мотивов повести Хармса, в том числе самого главного из них: мотива тления. Эта тема звучит и у Достоевского в связи с вопросом о бренности плоти, о воскресении и вообще о том, что происходит после смерти. Сразу после совершения преступления Раскольников на мгновение испугался, что процентщица не умерла:
Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнул еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку; да и без того было видно.
То же самое чудится и герою Хармса, который, как и Раскольников, наклоняется над старухой, чтобы убедиться в ее смерти; жесты одинаковы, описание столь же натуралистично:
Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается ясно: старуха умерла.
<…> Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?
Сомнение Раскольникова повторяется, таким образом, у Хармса, который в своей повести развивает и воплощает в отталкивающе-комичном плане страхи героя Достоевского. Напомним, что дальше в романе Достоевского старуха вновь появляется во сне героя, который расположен между диалогом о воскресении Лазаря и появлением Свидригайлова[519]: здесь, несмотря на удары топором Раскольникова, «старушонка сидела и смеялась» и решительно не умирала: «<…> а старушонка так вся и колыхалась от хохота» (213).
Воплощением этих страхов является у Хармса образ ползущего, но уже разлагающегося трупа старухи (хотя умерла она всего лишь несколько часов назад):
Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и, на мгновение, застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу. (178)
<…>
Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого пока еще хоть и слабого, но все-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.
Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. (182)
Повторенная деталь — «нестерпимый запах» трупа — позволяет развернуть цепь гораздо более серьезных параллелей: это и «тлетворный дух», исходящий от тела святого старца Зосимы, так потрясший Алешу Карамазова; и, в особенности, центральная в «Преступлении и наказании» тема воскрешения Лазаря (уже через несколько дней сильно затронутого тлением), возникающая в романе дважды: в разговоре Раскольникова с Порфирием Петровичем, а затем с Соней в эпизоде чтения Евангелия; и a fortiori Воскресение Христа (ср. описание картины Гольбейна «Мертвый Христос» в романе «Идиот»), и вообще воскресение мертвых.
Несмотря на несомненную пародийную составляющую «Старухи», было бы сильным упрощением свести к ней всю повесть. Последний пример подводит нас к самой сути философии Хармса, которая перекликается с мыслями Достоевского о вере и безверии. И неудивительно, что, как и у Достоевского, эта тема проявляется в ходе трех философских диалогов, составляющих структуру текста Хармса.
Таким образом, при всей правомерности рассмотрения повести «Старуха» как пародии, такого подхода оказывается недостаточно, чтобы оценить всю глубину этого произведения. Как совершенно справедливо указал Р. Айзлвуд: «Может показаться, что в раскрытии этих тем заложены элементы пародии, но, в конечном счете, Хармс не преуменьшает их важности; скорее он переносит их из области идей в область повседневного бытия»[520].
До сих пор мы говорили о точках соприкосновения в основном на тематическом уровне, между «Старухой» и «Преступлением и наказанием». Укажем теперь (пусть это и покажется излишним) на принципиальное различие сюжетов двух текстов, а именно на то, что в повести Хармса нет преступления. Инверсия абсолютна, текст предстает как рассказ о следствиях, не имеющих причин: герой вынужденно ведет себя как преступник, и делает это осознанно. Решая избавиться от трупа, он отмечает: «У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий» (181). Несмотря на отсутствие преступления (то есть причины), он воспроизводит действия убийцы (то есть следствие). Разумеется, здесь нельзя не вспомнить об искусе преступления, воображаемого, но не совершенного в «Братьях Карамазовых». Этот подтекст несомненно присутствует в повести Хармса, однако нарушение причинно-следственных связей в «Старухе» представляется нам интересным и в других отношениях.
Дело в том, что Хармс увлечен проблемой упорядоченности мира. Это понятие является центральным в начальном периоде становления писателя и выражается в систематических попытках создания (или восстановления) правильного порядка в мире. В программном письме к актрисе ТЮЗа Пугачевой от 16 октября 1933 года он прямо пишет об этом:
Мир стал существовать, как только я впустил его в себя. Пусть он еще в беспорядке, но все же существует!
Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же.
Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечен этим и только об этом и думаю. Я говорю об этом, пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать, построить. Я творец мира, и это самое главное во мне. Как же я могу не думать постоянно об этом! Во все, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира. И я делаю не просто сапог, но, раньше всего, я создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным и красивым. Мне важно, чтобы в нем был тот же порядок, что и во всем мире: чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от прикосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил бы свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы чистым[521].
Такое оптимистическое видение роли творца в мире звучит в унисон с грандиозными утопиями авангарда. Однако, как отмечалось выше, второй период творчества писателя отмечен горьким разочарованием: проза Хармса тридцатых годов — не что иное, как признание непоправимого мирового бес-порядка[522]. Он видит перед собой мир утраченного порядка в самом буквальном смысле этого слова. В подтверждение приведем лишь один пример — «Сонет» (1935) из цикла «Случаи»:
Удивительный случай случился со мной: я вдруг забыл, что идёт раньше — 7 или 8?
Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу.
Каково же было их и моё удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счёта. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли.
Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи».
Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как её слова показались нам лишёнными всякого смысла.
Что нам было делать? Мы пошли в Летний сад и стали там считать деревья. Но дойдя в счёте до 6-ти, мы остановились и начали спорить: по мнению одних дальше следовало 7, по мнению других — 8.
Мы спорили бы очень долго, но, по счастию, тут со скамейки свалился какой-то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора.
А потом мы разошлись по домам[523].
Шутливо-анекдотичный по характеру текст ставит тем не менее важный вопрос о последовательности событий: в жизни, как и в любом повествовании, событие (причина) влечет за собой результат (следствие), и было бы немыслимо поменять их местами. Преступление влечет за собой наказание; наказание не может быть прежде преступления, как восемь не бывает прежде семи. Однако именно это происходит в «Старухе». Нарушение причинно-следственной цепи служит Хармсу средством изображения полной неопределенности, в которой живет его герой (да и он сам). Потеря ориентиров рождает тревогу, которая изматывает «абсурдного» человека. В таком мире все становится возможным, именно это показывает проза Хармса тридцатых годов: ссоры вспыхивают безо всякой причины (и могут так же неожиданно утихнуть), люди исчезают, испаряются, и самый невероятный абсурд воплощается в реальность. Трагизм заключается в том, что в контексте террора тридцатых годов мир индетерминизма смыкается с реальностью: ведь аресты безвинных людей были нормой, и конечно же не случайно, что такой важный персонаж, как Сакердон Михайлович, напоминает Олейникова, арестованного, как и многие другие (например, Заболоцкий), незадолго до этого… Таким образом, в «Старухе» реально присутствует политический подтекст. Одновременно интересно отметить, что Хармс то же самое писал уже двенадцатью годами ранее в пьесе «Елизавета Вам» (1927), своем первом большом произведении, где два странноватых «служителя закона» приходят арестовывать героиню:
Стук в дверь, потом голос
Елизавета Бам, именем закона, приказываю Вам открыть дверь.
М о л ч а н и е.
Первый голос
Приказываю Вам открыть дверь!
М о л ч а н и е.
Второй голос (т и х о)
Давайте ломать дверь.
Первый голос
Елизавета Бам, откройте, иначе мы сами взломаем!
Елизавета Бам
Что вы хотите со мной сделать?
Первый
Вы подлежите крупному наказанию.
Елизавета Бам
За что? Почему вы не хотите сказать мне, что я сделала?
Первый
Вы обвиняетесь в убийстве Петра Николаевича Крупернак.
Второй
И за это Вы ответите.
Елизавета Бам
Да я не убивала никого!
Первый
Это решит суд[524].
Этот арест нужно толковать не только как политическую аллюзию, но гораздо шире — как отражение беспорядка мира в целом.
Следовательно, необходимо подчеркнуть, что «Старуху» и «Преступление и наказание» связывают не столько «тематические указатели», рассыпанные по всему тексту повести, сколько коренная инверсия временной последовательности. Здесь мы попадаем в апокалиптическое время, где возможны фундаментальные меж-текстовые параллели. Например, параллель между отсутствием стрелок на стенных часах старухи (повесть Хармса), утверждением «Времени больше не будет» из «Откровения», смысл которого стал понятен Ипполиту перед попыткой самоубийства («Идиот»), о чем он заявляет в «необходимом объяснении», и часами, остановленными Кирилловым в решающий момент («Бесы»).
Как было упомянуто, в «Старухе» присутствуют три «философских» диалога (назовем их так), которые определенным образом организуют текст. Первый — это диалог героя у булочной с «дамочкой», с которой он заигрывает и приглашает к себе, пока вдруг не вспоминает о трупе старухи; второй — с Сакердоном Михайловичем за водкой с сардельками; и третий — со своими собственными мыслями. Философский диалог является, безусловно, еще одной точкой соприкосновения между двумя авторами, и если по форме — лапидарной и схематичной — диалоги Хармса походят на пародию, то по серьезности затронутых в них вопросов они ничуть не уступают Достоевскому.
В первом диалоге, посреди обычного бытового разговора, герой вдруг совершенно неожиданно спрашивает собеседницу, верит ли она в Бога:
Я. Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.
Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.
Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?
Она (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте.
Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?
Она (удивленно): В Бога? Да, конечно.
Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне. Я живу тут рядом.
Во втором диалоге вопрос поднимается вновь и на этот раз принимает неожиданный оборот:
Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.
— Хотите еще водки? — спросил он.
— Нет, — сказал я, но, спохватившись, прибавил: — Нет, спасибо, я больше не хочу.
Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.
— Я хочу спросить вас, — говорю я наконец. — Вы веруете в Бога?
У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:
— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: «веруете ли в Бога?» — тоже поступок бестактный и неприличный.
— Ну — сказал я, — тут уж нет ничего общего.
— А я и не сравниваю, — сказал Сакердон Михайлович.
— Ну, хорошо, — сказал я, — оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.
— Пожалуйста, — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь я просто отказался отвечать вам.
Я бы тоже не ответил, — сказал я, — да только по другой причине.
— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.
— Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.
— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? — сказал Сакердон Михайлович. — А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?
— Может быть, и так, — сказал я. — Не знаю.
— А верят или не верят во что? В Бога? — спросил Сакердон Михайлович.
— Нет, — сказал я, — в бессмертие.
— Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?
— Да просто потому, что спросить: верите ли вы в бессмертие? — звучит как-то глупо, — сказал я Сакердону Михайловичу и встал.
Отметим употребление в этом диалоге глагола «веровать» (в отличие от «верить» в первом), того же самого, что использован в «Преступлении и наказании» и в других произведениях Достоевского в диалогах о Боге. По сути дела, рано или поздно этот вопрос встает перед героями всех больших романов Достоевского. Опуская многочисленные примеры, необходимо тем не менее отметить мимоходом, что «желать верить» смыкается с «буду верить» Шатова, а «желать не верить» — с бунтом Ивана Карамазова[525].
Но, оставаясь в рамках «Преступления и наказания», необходимо еще раз вернуться к диалогу Раскольникова с Порфирием Петровичем, который также совершенно неожиданно и, казалось бы, не к месту спрашивает молодого человека сначала о том, верит ли он в Бога, затем, верит ли он в воскресение Лазаря, и, наконец, «буквально» ли он верит в это чудо, на что Раскольников отвечает утвердительно (кстати, следователь, также как и рассказчик Хармса, извиняется за этот вопрос):
— И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую.
— Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Пор-фирия.
— И-и в воскресение Лазаря веруете?
— Be-верую. Зачем вам всё это?
— Буквально веруете?
— Буквально.
— Вот как-с… так полюбопытствовал. Извините-с.
Тема эта поднимается вновь в сцене чтения Евангелия: Соня читает Раскольникову именно место, знаменующее победу Христа над смертью, над бренностью уже тронутого тлением и смердящего тела. Происходит чудо («И вышел умерший»), после которого многие «уверовали в него» (251). Здесь перед нами открывается другая магистральная тема, которой проникнуто творчество обоих писателей: бессмертие. Она затрагивалась в вышеприведенном диалоге с Сакердоном Михайловичем, она же находится в центре третьего, на этот раз внутреннего диалога, который герой ведет со своими собственными мыслями:
— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее бес-покойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.
— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.
— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.
Неожиданное упрямство заговорило во мне.
— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.
— Попробуй! — сказали мне мои собственные мысли.
Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.
Так о каком же бессмертии идет речь? Гротескное развитие этой темы неразрывно связано у Хармса с его концепцией нарушенного мирового порядка и временной последовательности событий, о чем уже шла речь: если может быть наказание без преступления, то и смерть необязательно влечет за собой конец жизни (бес-порядок —> бес-покойники). И куда поместить чудо воскресения — то самое, в котором усомнились самые близкие к вере герои Достоевского (Мышкин перед «Христом» Гольбейна, Алеша у гроба старца), и, одновременно, то самое чудо, к которому взывает герой Хармса («Неужели чудес не бывает?»).
Жажда чуда является жизненно важной как для героя Хармса, так и для него самого. Это отражено во многих записях писателя совпадающих по времени с написанием «Старухи»: «Есть ли чудо. Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ»[526]. В другом месте из записных книжек чудо определяется так: «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира»[527].
Заключительная сцена, в которой герой, преклонив колени, совершает молитву перед гусеницей, оставляет повесть открытой, что дало повод некоторым исследователям для очень оптимистических толкований, которых мы не разделяем. Более того, представляется, что в «Старухе» Хармс трагичнее Достоевского, в том смысле, что единственным «нарушением физической структуры мира» в повести является разложение трупа старухи. Предстоит, разумеется, «энтомологическое чудо» превращения гусеницы в бабочку. Как было нами уже отмечено, насекомое, пригвожденное к земле, пока что ползет как старуха, но скоро «взовьется в воздух, обманет притяжение…, станет почти Богом. Ненадолго конечно, но что бы не отдал бедный человек, дабы испытать подобное вознесение. Увы, чудо при этом останется строго в рамках энтомологии…»[528] Напомним также, что герой пишет текст о чудотворце, который не творит чудес, и что текст этот так и остается не написанным: таким образом, в повести нет и чуда творчества. Однако это уже другая тема[529].
Как видим, повесть Хармса, тематически и идейно связанная с произведением Достоевского, не ограничивается лишь его пародированием. Прежде всего, конечно отказавшись от причинно-следственной связи — «наказание без преступления», писатель с явным осуждением смотрит на свою эпоху. Но помимо того, он подхватывает, пусть даже порой в форме гротеска, вопросы и размышления Достоевского о вере, смерти, воскресении, чуде, бессмертии… Не давая ответов, он выявляет то, что движет как им самим, так и героями Достоевского, а именно — метафизическое сомнение. Только в нем и таится надежда на утешение, ведь, по словам Хармса: «Сомнение — это уже частица веры»[530].
Между «до» и «после»
(Эротический элемент в поэме Пушкина «Руслан и Людмила»)[*]
Среди вопросов, которые возникают при анализе поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», один из самых сложных — это вопрос об организующем принципе. Проблема, в первую очередь, связана с определением жанра, к которому принадлежит поэма. Сразу после ее публикации в 1820 году этот вопрос стал главным предметом споров, хотя, кажется, эти споры не дали никакого результата. Со своей стороны, мы не собираемся разрешить эту задачу, но кажется небесполезным напомнить, что в поэме представлена удивительная смесь разных жанров и что эта смесь как раз и является главным ее своеобразием. Основным материалом являются, конечно, мотивы русского фольклора — старинных сказок и былин. В русской литературе тем же материалом пользовался В. А. Жуковский в балладе «Двенадцать спящих дев». Из общеевропейских источников необходимо упомянуть прежде всего «Неистового Роланда» Л. Ариосто, «Орлеанскую девственницу» Вольтера и «Оберон» К. М. Виланда. К этому надо еще прибавить влияние эротической поэзии, в частности Э. Парни, некоторые стихи которого переложены почти буквально в «Руслане и Людмиле». Каждый из этих возможных источников заслуживает отдельного разговора, но, повторяем, интереснее задуматься над тем, как Пушкин их синтезировал, преобразуя в свою оригинальную систему.
Подход Пушкина к проблеме жанра в «Руслане и Людмиле» показывает, что он играет в некоторую литературную игру: блестящее чередование сказочного и эпического, волшебного и лирического, средневекового и современного является самым большим достоинством поэмы. Всякая попытка свести ее только к одной из этих характерных черт обречена на неудачу.
Интрига также требует некоторых предварительных замечаний, поскольку она связывает «Руслана и Людмилу» с целой традицией европейского литературного наследия, а именно со средневековым рыцарским романом. Мотив похищения жены, невесты или любимой женщины очень распространен в ирландском и бретонском циклах. Стоит упомянуть роман XII века Кретьена де Труа «Рыцарь телеги», в котором герой Ланселот разыскивает свою любовницу, королеву Джиневру. Еще ближе поэма Пушкина оказывается к некоторым старинным ирландским сказкам[532]. Можно упомянуть довольно известную «Любовь к Этайн», но еще более «Руслан и Людмила» походит на другую ирландскую сказку — «Этна новобрачная»: героиня со своим супругом, также как и пушкинская пара, только что поженились, и во время праздника в замке она вдруг глубоко засыпает; немного спустя ее похищает король-волшебник Финварра. Как и в поэме Пушкина, она спит очень долго и просыпается благодаря чудесному предмету. Нужно назвать еще лэ «Сэр Орфео», в котором королева Юродис, также после долгого летаргического сна, в котором она видит предшествующие события, похищена магической силой[533] и насильственно водворена в очень богато обставленный дворец. Можно также напомнить сказку «Супруга Бальмачизского Владельца», в которой у героя похищают жену и подменяют ее двойником, или «Мэри Нельсон», которую волшебная сила уносит в ту ночь, когда она должна рожать, и т. д. Мотив восходит к греческой мифологии: вспомним исчезновение жены Орфея Эвридики, которое, кстати говоря, является источником вышеупомянутого лэ «Сэр Орфео». Однако у Пушкина движение фабулы подчиняется известным правилам построения, восходящим к средневековым рыцарским романам (вызов, блуждания, поиск, препятствия, сражения, куртуазная любовь и т. п.), хотя очевидно, что здесь присутствует пародийный момент: на самом деле эти правила постоянно нарушаются и составляют, в конце концов, лишь условную псевдосредневековую рамку.
Фабула не изменена: королеву или княжну похищает какая-то сверхъестественная сила (Бог или нечисть), и доблестный герой должен освободить эту женщину, но на его пути возникают препятствия (волшебства, обольщения, соперники, бои и т. д.), которые нужно мужественно преодолеть. «Руслан и Людмила», по-видимому, вписывается в старинную традицию. Однако нельзя не заметить, что Пушкин уходит от героического аспекта, сосредоточиваясь почти целиком на последствиях похищения — на неудовлетворенности сексуального желания и дальнейшем вынужденном воздержании героя. Этот параметр присутствует, конечно, и в рыцарском романе, но на периферии сюжета. Известны в «Рыцаре телеги» томления Ланселота, который забывает все, вплоть до собственного имени, ибо мысль о королеве Джиневре переполняет его существо. После расставания с Говеном он впадает в такое же бессознательное состояние, что и Руслан после расставания с соперниками — Фарлафом, Ратмиром и Рогдаем. Оба, во власти неотвязной мысли, «бросают узду» и представляют лошади выбирать дорогу самой:
<Рыцарь> телеги замечтался, как человек без сил и без защиты перед Любовью, владеющей им. И в своих мечтах он достиг такой степени самозабвения, что уж и не знал, есть ли он или нет его. Своего имени он не помнит и не знает, вооружен он или нет. Не знает, ни откуда приехал, ни куда едет, ничего не помнит, кроме одной вещи, только одной, которой ради все остальные канули для него в забвение. Только о ней он и думает, и так много, что ничего не видит и не слышит. Однако его быстро уносит конь, не отклоняясь от прямого пути[534].
Руслан томился молчаливо,
И смысл и память потеряв[535].
Что делаешь, Руслан несчастный,
Один в пустынной тишине?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Все, мнится, видел ты во сне.
На брови медный шлем надвинув,
Из мощных рук узду покинув,
Ты шагом едешь меж полей,
И медленно в душе твоей
Надежда гибнет, гаснет вера.
Этот мотив у Пушкина занимает тем больше места, что, в противоположность рыцарям Средневековья, которые почти беспрестанно сражаются с врагами, Руслан проводит намного больше времени, вздыхая и мечтая об удовлетворении своего желания, чем совершая отважные поступки. Такие поступки немногочисленны и, вдобавок, поданы гротескно (сражение с головой, с Черномором, с печенегами). Становится очевидным, что в поэме главное — игра эротической тематикой. На эту особенность, впрочем, обратил внимание еще в 1821 году «благонамеренный» критик, пожалев, что «перо Пушкина, юного питомца муз, одушевлено не чувствами, а чувствительностью»[536]. Как бы то ни было, если прочесть «Руслана и Людмилу» с этой точки зрения, поэма становится особенно забавной.
Такое прочтение мы и хотим предложить в настоящей статье, исходя из трех постулатов. Во-первых, нам кажется, что основной замысел Пушкина состоит в игре. Эта игра столько же стилистическая (жанровая смесь), сколько тематическая. Во-вторых, тот факт, что герой проводит больше времени в бездействии, вздыхая, ожидая, словом, претерпевая события, вместо того чтобы их подчинить себе, показывает, что произведение выходит за рамки жанра, к форме которого восходит поэма Пушкина (рыцарский роман). Тут драматическая динамика зависит почти исключительно от любви в крайнем выражении ее куртуазного варианта, то есть секса. Как мы увидим, самое главное для Руслана, у которого похитили жену в брачную ночь, в самый разгар его желания, в самом начале полового акта, и даже, по всей видимости, во время его, цель поиска очень проста и даже прозаична: он хочет закончить то, что начал, то есть удовлетворить свое желание. Есть, видимо, некое наслаждение в задержке сексуального удовлетворения, но есть также наслаждение, связанное с выражением этой затяжки, и это третий важный момент: существует прямая связь между желанием и процессом писания. Последний зависит от первого, и можно сказать, что вся поэма развивается в крайнем напряжении, которое представляет собой такое обострение желания. Мы увидим, что Пушкин тут утрирует другой старинный прием рыцарского романа.
* * *
Начиная с «Посвящения», поэма поставлена под знак эротизма, поскольку рассказчик утверждает, что он сочиняет стихи для красивых женщин, и для них исключительно:
Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал.
Как мы увидим в дальнейшем, цель рассказчика — не изложить отважные поступки храброго рыцаря, а возбудить в душе слушательниц любовное волнение. Причем с самого начала установлено динамическое отношение желания (писания). В первых же строках признается далекий от добродетели характер этого «труда игривого»:
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.
Проследим теперь за ходом приключений Руслана и Людмилы.
Песнь I
Рассказ начинается совершенно традиционным в рыцарских романах образом — с пира во дворце царствующего короля, в данном случае — Владимира-Солнца, в честь своей дочери, которая выходит замуж за Руслана. Однако последний отнюдь не веселится: «храбрый Руслан» (13) томится в ожидании того момента, когда он останется один на один со своей красивой супругой:
Но, страстью пылкой утомленный,
Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,
Считает каждые мгновенья.
Первое появление героя не очень героическое: на самом деле, он собой не владеет.
Неудовлетворенность усиливается еще тем, что присутствуют все три соперника героя, и особенно хан Ратмир, «полный страстной думы» (14) и уже обнимающий Людмилу в своих мечтах (18). Следует отметить, что одного лишь Ратмира ведет исключительно сексуальное желание, без всякого духа соперничества, который воодушевляет остальных. Отметим также, что желание Ратмира направлено на эротическое наслаждение вообще, а не на Людмилу как таковую; при первой возможности он этому наслаждению и предастся, усугубляя «фрустрацию» Руслана. К этому мы еще вернемся.
Пир наконец окончен, и Руслан оживляется:
И все глядят на молодых:
Невеста очи опустила,
Как будто сердцем приуныла,
И светел радостный жених.
Все уходят, и Руслан воспламеняется. Однако все остается воображаемым (как это будет, впрочем, в течение всей поэмы):
Жених в восторге, в упоенье:
Ласкает он в воображенье
Стыдливой девы красоту.
В конце концов наступает самый момент, когда ведут «невесту молодую» на «брачную постель» и начинаются первые любовные ласки, изображаемые через клише из эротической поэзии Э. Парни:
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры.
Поэт настаивает на этих предварительных ласках, подчеркивая мотив ожидания (см. слова «готовятся» в этой цитате, «заране» в следующей), чтобы потеря вышла еще болезненнее. Следует отметить, что похищение происходит после «последней робости», то есть уже после начала акта (см. слово «настали»):
Вы слышите ль влюбленный шепот
И поцелуев сладкий звук
И прерывающийся ропот
Последней робости?.. Супруг
Восторги чувствует заране;
И вот они настали… Вдруг.
Что потом — известно: Людмила пропала, «похищена безвестной силой», а бедный Руслан, который уже в этой цитате получил звание «супруга», становится опять только «женихом», к тому же — женихом «испуганным», так же как Людмила, называвшаяся до сих пор «невестой», становится в следующей строфе «минутной супругой». На самом деле, термин «супруг» оказался предвосхищением несостоявшегося акта. Это лексическое колебание вполне вписывается в логику напряжения между «до» и «после», на которой строится вся поэма. В этих строках следует еще отметить мастерское употребление Пушкиным переноса, передающего нетерпение Руслана. Герой должен еще потерпеть, и это состояние воздержания будет его долей в течение всей поэмы. Поэтому переносов немало, когда речь идет о Руслане и в основном — о его действиях или перемещениях. Например:
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей (20).
Выходит вон. Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня (28).
Привычной думою стремится
К Людмиле, радости своей (33).
Померкла степь. Тропою темной
Задумчив едет наш Руслан
И видит (51).
И мщенье бурное падет
В душе, моленьем усмиренной (55).
Зима приблизилась — Руслан
Свой путь отважно продолжает (66).
Князь карлу ждет. Внезапно он
По шлему крепкому стальному
Рукой незримой поражен (72).
………………………………………Ходит он
Один средь храмин горделивых
Супругу милую зовет (74).
«Быть может, горесть… плен угрюмый…
Минута… волны…» В сих мечтах
Он погружен (75).
Накинув тихо покрывало
На деву спящую, Руслан
Идет, и на коня садится (83).
И очутился в два мгновенья
В долине, где Руслан лежал
В крови, безгласный, без движенья (93).
Сказал, исчезнул. Упоенный
Восторгом пылким и немым,
Руслан, для жизни пробужденный,
Подъемлет руки вслед за ним… (94).
Ликует Киев… Но по граду
Могучий богатырь летит (97).
Но вернемся к первой песне. До сих пор у Руслана нет ничего, кроме неудачи. Далее, гротескным образом махнув руками («Хватает воздух он пустой»; 16), он — «испуганный» (16), «несчастный» (16, 19), «уныньем как убит» (17) и т. п. Но сразу становится понятно, что неудача Руслана — только оставшееся неудовлетворенным сексуальное вожделение. Это констатируется в первом из примерно двадцати лирических отступлений, которое следует за похищением, и показывает, что именно волнует рассказчика, который предпочел бы умереть, чем быть лишенным в решительную минуту предмета своего желания:
Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить… о друзья,
Конечно, лучше б умер я!
К счастью, Руслан остался жив, благодаря чему поэма может продолжаться: «Однако жив Руслан несчастный» (16). Он слишком приземлен, чтобы от этого умереть, так же как Людмила (как мы увидим) слишком приземлена, чтобы покончить жизнь самоубийством. Итак, Руслан жив, но в течение всей первой песни герой совершил только одно: неудачно провел брачную ночь и вздыхал. Это далеко от привычных принципов построения рыцарского романа.
То же самое происходит дальше, когда Руслан встречается с финном. С одной стороны, этот персонаж играет в структуре повествования ту же роль, что «прюдоны» в средневековых романах: этой встречей герою сообщается необходимая информация (у Пушкина — место заключения Людмилы), подготавливающая дальнейшие эпизоды, но с другой стороны, здесь подчеркивается исключительно эротический характер страданий Руслана. Гог с радостью узнает, где находится его жена и что украл ее «красавиц давний похититель» (20) Черномор, но у него сразу же возникает мрачное подозрение, что волшебник, возможно, обесчестил ее. Однако финн успокаивает его, сообщая, что старый карлик — импотент:
Вновь ожил он; и вдруг опять
На вспыхнувшем лице кручина…
«Ясна тоски твоей причина;
Но грусть не трудно разогнать, —
Сказал старик, — тебе ужасна
Любовь седого колдуна;
Спокойся, знай: она напрасна
И юной деве не страшна.
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
<…>
Он только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей.
Вокруг нее он молча бродит,
Клянет жестокий жребий свой…»
Вторая часть первой песни целиком состоит из рассказа финна о своей любви к Наине в молодости. Руслан здесь опять-таки остается вне действия, но надо отметить, что эта история, которая занимает огромное (по сравнению с главной фабулой) место в поэме, — опять-таки история о неудовлетворенном желании, рассказанная знакомой лексикой («мучительная тоска», «горесть», «тайная кручина» и т. п.). Тема как бы раздваивается с появлением новых персонажей и приобретает дополнительный оттенок: борьба молодости и старости и, соответственно, силы и бессилия. Оба злых старика, Черномор и Наина, — неудовлетворены, именно поэтому они и гротескны. Поэтому же оба ненавидят Руслана: у него есть «сила», которой у них больше нет:
Колдунья старая, конечно,
Возненавидит и тебя.
Слово «конечно» объясняется как раз их общим конфликтом между старостью и молодостью: на первый взгляд у Наины нет никакой причины ненавидеть Руслана.
В конце первой песни герой уезжает, «душа надеждою полна» (28), как обычно, когда ему кажется, что цель недалека.
Итак, если подвести итоги этой песни, надо отметить, что герой поэмы вял и пассивен, большую часть времени он лишь вздыхает и томится отсутствием желанной женщины. Его энергия будет обнаруживаться только по мере приближения момента удовлетворения желания: самый отважный (и чуть ли не единственный) подвиг его — битва с печенегами, то есть когда цель уже практически достигнута.
Песнь II
Эротический элемент разлит по всей поэме. Мотивировка поступков соперников Руслана отнюдь не состоит в желании блистать рыцарскими доблестями. «Фарлаф, / Все утро сладко продремав» (30) моментально выходит из игры, ужасно испуганный Рогдаем, и вступает в соглашение с ведьмой (переходя тем самым в лагерь старых импотентов, где и останется, когда, подло похитив Людмилу, уже не будет в состоянии разбудить ее). Чувственный хан Ратмир тоже выходит из игры, как только его привлекает «красавиц рой» (62), и решает скорее предаться наслаждениям жизни, чем опасному разыскиванию Людмилы. Что касается Рогдая, самого решительного из всех, то он скончается после боя с Русланом в объятиях русалки (44).
Между тем герой продолжает поиски, подталкиваемый в основном «дремлющим желанием» и сожалением, что Людмила останется девственницей, если он ее не найдет:
……………………Найду ли друга?
<…>
Иль суждено, чтоб чародея
Ты вечной пленницей была,
И, скорбной девою старея,
В темнице мрачной отцвела?
Дальше рассказчик возвращается к Людмиле, которую он называет «нашей девой». Интересно отметить, что он говорит о похищении не как о горестной разлуке супругов, но как о внезапно прерванном половом акте:
Я рассказал, как ночью темной
Людмилы нежной красоты
От воспаленного Руслана
Сокрылись вдруг среди тумана.
Физиологический (сниженный) характер разлуки усиливается еще и последующим, находящимся на грани вульгарности, сравнением, с бедным петухом, который «сладострастными крылами / Уже подругу обнимал» (35) и у которого коршун крадет курицу прямо во время соития. Отметим, что на эту «пошлость» обратил внимание еще Абрам Терц в «Прогулках с Пушкиным»[537].
Людмилу тоже мучает желание, и когда она просыпается у Черномора, несмотря на «смутный ужас», она «Душой летит за наслажденьем, / Кого-то ищет с упоеньем» (35). Как и Руслан, она живет своим желанием — естественной потребностью молодости. Уже цитировались строки, где рассказчик утверждает, что предпочел бы смерть похищению «минутной супруги», — в противоположность Руслану, который, несмотря ни на что, остается в живых («Однако жив Руслан несчастный»). С Людмилой происходит то же самое. Сначала она весьма картинно решает покончить жизнь самоубийством, но без объяснений отказывается от этого намерения:
В унынье тяжком и глубоком
Она подходит — и в слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решилась утонуть —
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.
«Дале» она оказывается вдруг перед роскошным обедом и произносит страстный внутренний монолог о бесполезности в отсутствие друга земных благ, но жизнь побеждает еще раз:
«Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать
Умру среди твоих садов!»
Подумала — и стала кушать.
Жизнь сильнее всех превратностей, и жизнь — это плотские наслаждения (если не любовь, то хотя бы еда).
Дальше Людмила возвращается в свой «чертог», где ее раздевают три девушки:
Но поспешим: рукой их нежной
Раздета сонная княжна;
Прелестна прелестью небрежной,
В одной сорочке белоснежной
Ложится почивать она.
И в этой эротической атмосфере впервые появляется Черномор. Появление его одновременно торжественно и гротескно, поскольку прежде его входит в комнату борода Черномора, в которой он запутывается самым смешным образом. К этому мы еще вернемся.
Песнь III
До сих пор супруги в основном занимались тем, что вздыхали и беспрестанно мечтали закончить начатое. Фабула развивается под влиянием напряженной паузы между пробуждением желания и его удовлетворением. В начале третьей песни рассказчик поддерживает это напряжение упоминанием, что колебался, назвать ли Людмилу «княжной» (социальная функция) или «девой» (природное качество), и завистливый критик упрекнул его:
Зачем Русланову подругу,
Как бы на смех ее супругу,
Зову и девой и княжной?
Как и в посвящении, рассказчик утверждает стихами в манере Парни, что обращается к девушке, можно сказать, ко всем девушкам, которые одни могут его понять, то есть понять причину томления любовников:
Но ты поймешь меня, Климена,
Потупишь томные глаза,
Ты, жертва скучного Гимена…
Я вижу: тайная слеза
Падет на стих мой, сердцу внятный;
Ты покраснела, взор погас;
Вздохнула молча… вздох понятный!
Эта третья песнь, где Людмила издевается над Черномором, играя с ним в прятки в шапке, которую она у него украла и благодаря которой становится невидимой и центральным эпизодом которой является борьба Руслана с головой, не добавляет ничего нового к эротическому плану поэмы.
Песнь IV
В четвертой песне большое место занимает история Ратмира, которого окружает «красавиц рой» (62), или же «девицы красные толпою» (63), и чувственность которого заставляет его сразу забыть о Людмиле и отдаться эротическим наслаждениям. Удовлетворенность его выявляет еще ярче неудовлетворенность Руслана, который вскоре становится даже невольным зрителем сладкой жизни молодого хана. Историю последнего следует прочесть параллельно с историей Руслана, поскольку Ратмир проходит через те же самые страдания от ожидания:
Томится сладостным желаньем,
Бродящий взор его блестит,
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит.
В его случае ожидание будет довольно коротким, но испытания одинаковы. Желание мучает его, но он должен сначала поесть («Садится за богатый пир»; 64). Затем в описании, которое рассказчик сам ставит под знак поэзии Парни (в противоположность Гомеру), Ратмир ложится в постель и, «воспаленный», «вкушает одинокий сон». Он видит эротический сон:
Его чело, его ланиты
Мгновенно пламенем горят;
Его уста полуоткрыты
Лобзанье тайное манят;
Он страстно, медленно вздыхает,
Он видит их — и в пылком сне
Покровы к сердцу прижимает.
Красивая девушка приближается к его постели и ложится рядом с ним. Он хочет проснуться (отметим тут намек на Руслана: «Проснися — дорог миг утраты»), что и случается: сон его прерывается «лобзаньем страстным и немым» (65) уже реальной женщины. Итак, в противоположность тому, что происходит с главным героем поэмы, сон Ратмира продолжается в действительности. Все это, конечно, очень нравится рассказчику, но героем поэмы является немолодой хан, и «Руслан должен нас занимать». Оказывается, в тот момент, когда его соперник «одинокий вкушает сон», Руслан «сладостный вкушает сон», но, проснувшись, видит всего лишь, как «сияет тихий небосклон» (66). Для него поиск продолжается. Отметим, что традиционные и детально описываемые в рыцарских романах бои здесь лишь упоминаются («То бьется он с богатырем, / То с ведьмою, то с великаном…»: 66): очевидным образом, не они составляют сюжет поэмы. Главная деятельность героя — погружение в собственные неотвязные мысли. Сказано, что «в его душе желанье дремлет» (66), и это спасает его от несущих гибель русалок.
Эпизод с Ратмиром заканчивается интересным отступлением:
Но, други, девственная лира
Умолкла под моей рукой;
Слабеет робкий голос мой —
Оставим юного Ратмира.
Рассказчик объясняет свое решение сдержанностью или скромностью и в то же время обязанностью рассказать о главном герое, но можно толковать его и как невозможность продолжать после того, как желание удовлетворено: вдохновение существует только во время «страстного ожидания». Это касается и Руслана, который как бы спасает повествование тем, что не поддался обольщениям русалок.
Затем мы возвращаемся к Людмиле, названной уже «моей княжной», «моей прекрасной Людмилой» (67), что показывает растущее вмешательство повествователя в рассказываемую им историю. Так же как и «супруг», она в основном «о друге мыслит и вздыхает» (67). Ее до сих пор спасает черноморова шапка, которую она, впрочем, употребляет с известным кокетством, являясь иногда взорам тех, кто ее разыскивает, и крича им: «сюда, сюда!». Как и Руслан, она думает только об одном:
На ветвях кедра иль березы
Скрываясь по ночам, она
Минутного искала сна —
Но только проливала слезы,
Звала супруга и покой.
Если бы Руслан стал супругом в полном смысле этого слова, она бы нашла покой. Но, обреченная на муки ожидания, она в том состоянии, которое выражают очень сильные переносы такого же типа, с какими мы встречаемся в рассказе о Руслане, например в этом отрывке («…она / минутного искала сна»), или немного дальше, когда, вследствие волшебства Черномора, ей кажется, что она видит мужа: «И стрелой / К супругу пленница летит» (69).
Со своей стороны, Черномор тоже жертва этого ожидания, несмотря на то, что он импотент. В страшной ярости, «жестокой страстью уязвленный» (68), он решает поймать Людмилу любой ценой. Его желание тоже носит сексуальный характер: последний эпизод этой песни может внушить сомнение, в самом ли деле карла ни на что не способен:
Что будет с бедною княжной!
О страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!
Ужели счастлив будет он?
Как в рыцарских романах, в которых попытка изнасилования молодой девушки является сквозным мотивом, Руслан приезжает в последний момент, чтобы отстоять то, что хочет сделать сам, а Черномор, в свою очередь остановленный, должен покинуть предмет желания и выйти на бой, как сказано в последнем стихе этой песни, «закинув бороду за плечи».
Песнь V
В пятой песне встречаются все упомянутые до сих пор мотивы и даны ключи к пониманию поэмы. Сначала идет отступление, показывающее, что рассказчик все больше и больше усваивает сексуальный аппетит своего героя, отождествляя себя с ним:
Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена… так что же?
Еще милее тем она.
<…>
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождают жар.
Людмила — его княжна, поскольку она является его литературным созданием, и это позволяет еще раз установить связь между желанием и процессом писания. Пока рассказчик горит этим «жаром любви», то есть пока он испытывает такие же чувства, какие испытывает Руслан, читатель может быть уверен, что ему предоставится возможность следить дальше за приключениями героев. Зато как только Руслан закончит свое дело, рассказчик, покинутый вдохновением, оставит перо. «Да, впрочем, дело не о том», — говорит он и начинает рассказывать о бое Руслана с Черномором. Бой комичен: герой «за бороду хватает» старого карлу и улетает, держа ее в руках. Он не отпускает его, «щиплет волосы порой» до тех пор, пока волшебник не сломится. Сила юноши, удесятеренная желанием, побеждает силу старика, который просит пощады и говорит: «нет мочи боле». Мы уже видели, что у Черномора вся сила в бороде:
В его чудесной бороде
Таится сила роковая.
Поскольку сексуальная тематика занимает большое место в поэме, можно истолковать бороду как метафору полового члена. С этой точки зрения стоит перечитать первое появление Черномора во второй песне:
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет.
Сцена становится бурлескной, когда Черномор, получив от Людмилы удар по голове и оглушенный ее пронзительным криком, «Хотел бежать, но в бороде / Запутался, упал и бьется» (42) или же когда в начале следующей песни он сидит «сердито на кровати» и «Вокруг брады его седой / Рабы толпились»: они «нежно» расчесывают ее и льют на его «бесконечные усы» восточные ароматы (46). Предлагаемая интерпретация функции бороды Черномора становится, по-моему, бесспорной в пятой песне, когда в конце полета Руслан, отсекши у Черномора роковую бороду, обессиливает его окончательно:
Тогда Руслан одной рукою
Взял меч сраженной головы
И, бороду схватив другою,
Отсек ее, как горсть травы.
Затем он спрашивает его: «…где твоя краса / Где сила?». Без бороды Черномор лишь бессильный карла, и его способность обольщать сводится на нет после этой сцены, походящей на бурлескную кастрацию.
Но Руслан еще не добился своего (как показывает перенос: «…Ходит он / Один средь храмин горделивых» (74): Людмилу не найти. Тогда он теряет контроль над собой и, став «неистовым» (furioso как Орландо), разрушает все вокруг. В конце концов, случайно найдя ее, Руслан опять должен отложить исполнение желания, потому что Людмила глубоко спит:
Нежданным счастьем упоенный,
Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвет,
Любви, восторга слезы льет,
Зовет ее — но дева дремлет,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ее подъемлет.
Руслан с нее не сводит глаз,
Его терзает вновь кручина…
Таким образом, бедный Руслан в очередной раз лишен того, ради чего боролся. Предсказание финна о том, что колдовство закончится по приезде в Киев, его немножко утешает, но желание Руслана тем не менее опять подвергнуто тяжелому испытанию. Любовники снова физически достаточно близки, но оба предаются сладким мечтам независимо друг от друга:
Любовь и тайная мечта
Русланов образ ей приносят,
И с томным шепотом уста
Супруга имя произносят…
В забвенье сладком ловит он
Ее волшебное дыханье,
Улыбку, слезы, нежный стон
И сонных персей волнованье…
Еще раз удовлетворение желания отложено до неопределенного момента. В новом авторском замечании рассказчик даже сомневается в том, что герой выдержал очередное испытание и удовольствовался целомудренным созерцанием возлюбленной:
Еще далек предел желанный,
И дева спит. Но юный князь,
Бесплодным пламенем томясь,
Ужель, страдалец постоянный,
Супругу только сторожил
И в целомудренном мечтанье,
Смирив нескромное желанье,
Свое блаженство находил?
Во всяком случае, монах, сохранивший это предание, утверждает, что между ними ничего тогда не произошло. Рассказчик решает, что этому можно поверить, поскольку «без разделенья / Унылы, грубы наслажденья». Он вспоминает при этом собственный житейский опыт — «первый поцелуй любви», который дал женщине, вкушавшей «лукавый сон», и который оказался недостаточным, чтобы разогнать ее «дремоту терпеливую» (78).
Однако, несмотря на самоотверженную способность сдерживаться, Руслан мучится и опять вздыхает. И все же есть в этих муках некое наслаждение:
Руслан на луг жену слагает,
Садится близ нее, вздыхает
С уныньем сладким и немым.
В этот момент он видит, как Ратмир, ставший рыбаком, обнимает обольстительную «младую деву». В описании ощутимо вожделение, но непонятно, чье это вожделение — Руслана или рассказчика:
………………………стройный стан,
Власы, небрежно распущенны,
Улыбка, тихий взор очей,
И грудь, и плечи обнаженны,
Все мило, все пленяет в ней.
После этой встречи герой продолжает путь. Ночью, сидя у кургана «с обычною тоскою / Пред усыпленною княжною» (84), он засыпает и видит вещий сон, как Людмила исчезает в «бездну глубинную» и опять появляется во дворе Владимира-Солнца в сопровождении Фарлафа (85). В действительности предатель в этот момент подкрадывается к уснувшему Руслану, вонзает меч в его грудь и убегает со спящей Людмилой. Героиня вторично похищена.
Песнь VI
Шестая, и последняя, песнь начинается отступлением, которое еще раз устанавливает связь между процессом писания и страстями любви. Здесь рассказчик, обращаясь к женщине, которая дарит его своей благосклонностью, говорит сначала, что больше не может петь «старинные были» и отдаваться поэзии, потому что он жертва своей чувственности:
Твой друг, блаженством упоенный,
Забыл и труд уединенный,
И звуки лиры дорогой.
От гармонической забавы
Я, негой упоен, отвык…
Как видно, у рассказчика та же навязчивая идея, что у Руслана:
Меня покинул тайный гений
И вымыслов, и сладких дум;
Любовь и жажда наслаждений
Одни преследуют мой ум.
И то, что Руслан совершит мечом, рассказчик совершит своим пером. Только любовь к слушательнице заставляет его продолжать рассказ:
Ты, слушая мой легкий вздор,
С улыбкой иногда дремала;
Но иногда свой нежный взор
Нежнее на певца бросала…
Решусь; влюбленный говорун,
Касаюсь вновь ленивых струн.
Что потом — известно: Фарлаф приезжает в Киев со спящей Людмилой, весь город говорит, что «Младой супруг свою супругу / В светлице скромной забывал», а Руслан чудесным образом оживает, поднимается «бодрый, полный новых сил, / Трепеща жизнью молодою» (94). Но и эта молодость, и эти силы бесполезны — нет у них «получателя»:
Но где Людмила? Он один!
В нем сердце вспыхнув замирает.
Финн — носитель благой вести — объявляет Руслану, что его «ожидает блаженство», то есть — удовлетворение желания. Как в начале поэмы, ободренный этой новостью, «упоенный / Восторгом пылким и немым» (94; отметим перенос), Руслан бросается в путь, в Киев — к предмету своего желания. Теперь темп резко ускоряется.
Если прочитать конец поэмы с предложенной точки зрения, то он оказывается очень забавным: Руслан будит Людмилу «заветным кольцом», и кажется, что «какой-то сон / Ее томил мечтой неясной / И вдруг узнала — это он!» (98). Наконец наступил долгожданный момент, и поэтому безусловно производит комический эффект риторический вопрос рассказчика: «Чем кончу длинный мой рассказ?» Причем он хитро добавляет: «Ты угадаешь, друг мой милый!» (99). Однако сказано очень мало: читатель узнает, что Владимир-Солнце успокоился, что Фарлафу простили предательство, что «лишенного сил» Черномора приняли во дворец, а относительно влюбленной пары сказано только, что их пригласили на… пир:
И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей.
Все возвращается к исходной ситуации поэмы, и бедный Руслан, который столько времени воздерживался, должен, прежде чем утолить свое желание, пройти еще через испытание пиром, которое было ему так невыносимо еще в начале поэмы.
* * *
Можно сказать, что тема любви Руслана и Людмилы разработана так же, как тема Святого Грааля в артуровских легендах. В этих преданиях герой никогда не достигает цели, и тайна никогда не открывается для читателя: повествование иссякает без того, чтобы стало известно содержимое чаши; также и поэма Пушкина заканчивается прежде, чем осуществляется то, за что боролся герой. В этом обнаруживается не только желание авторов придать повествованию таинственность (в случае Грааля) или накинуть на него покров скромности (в случае Руслана). Предмет желания должен оставаться вдали, чтобы гарантировать продолжительность процесса писания. Мы видели, что желание Руслана является не только фабульной мотивировкой, но и источником вдохновения рассказчика. Руслан не должен встретить никаких новых препятствий к завершению того, что он так неудачно начал в первой песни, — и поэтому вдохновение покидает рассказчика. Тот, совпадая с фигурой самого изгнанного Пушкина, объявляет в конце эпилога:
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов.
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек —
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений…
Интересно, что подобные случаи известны и в западной средневековой литературе. В качестве примера приведем роман Артурова цикла «Прекрасный незнакомец» (XIII век). Молодой рыцарь Генглен получает от короля Артура поручение спасти Уэльскую королеву. Его приключения все более невероятны, он проходит различные стадии всевозможных посвящений, в том числе — посвящения в куртуазную эротику, которая означает, как и для Руслана, обострение желания. Он встречает фею, и та открывает ему жестокость желания, страдание в воздержании и сублимацию (то есть все стадии, через которые проходит герой поэмы Пушкина): она играет рыцарем, то возбуждая его, то отталкивая. Но если прекрасный незнакомец узнает в конце концов радости любви, для рассказчика дело обстоит иначе. Так же как и рассказчик в «Руслане и Людмиле», он пишет, чтобы добиться любви женщины, и его первые слова таковы:
Для нее, которая держит меня в своей власти, которая уже вдохновила меня на одну песнь о верной любви, собираюсь я написать рассказ о прекрасных приключениях. Для нее, которую я люблю чрезмерно, начинаю я эту повесть[538].
На последней странице он обрывает свой рассказ и просит даму отдаться ему поскорее, угрожая, в противном случае, оставить своего героя, над которым у него абсолютная власть, в полной сексуальной прострации:
По Вашей прихоти он <рассказчик. — Ж.-Ф. Ж.> будет продолжать свой рассказ, или же замолчит навсегда. Если Вы согласитесь удостоить его благосклонным приемом, он сделает для Вас так, чтобы Генглен нашел свою потерянную подругу и сжал ее, нагую, в своих объятьях, но если Вы заставите его ждать, Генглен будет страдать и никогда не обретет снова свою подругу. Другого средства отомстить нет, и, к самому большому несчастью Генглена, эта месть падет на него: я никогда не буду говорить о нем больше, пока меня не удостоят благосклонного приема[539].
Как видно, проблематика та же: писательская работа тесно связана с желанием любить. К тому же тема ожидания занимает центральное место в повествовании: на нее опирается вся фабула. Прекрасный незнакомец доведен до высшей степени желания, а затем половой акт резко обрывается, что, хотя и в совершенно других обстоятельствах, оставляет его в таком же состоянии, как Руслана:
Миловидная и красивая молодая женщина направилась к нему быстрым шагом и, откидывая плащ, чтобы высвободить руки, наклонилась над ним. Их взоры встретились с удовольствием. Ее шея и грудь были белы, как боярышник; она прижалась к нему, шепча: «Милый друг, если бы вы знали — спаси меня Господи! — как мне хочется быть с Вами». Она прижимала свою грудь к груди молодого человека, оба были почти нагие, их разделяла одна рубашка. Она его щедро одаряла ласками. <…> Незнакомец посмотрел на нее с нежностью и попытался украсть у нее нежный поцелуй. Тогда дама откинулась назад:
«Ни в коем случае! Какое неприличие! Я Вам не отдамся, будьте уверены, но как только вы на мне женитесь, я буду Вашей»[540].
Жертва нестерпимого желания, молодой человек, как Руслан, видит эротические сны:
Любовь терзает и мучит его, но он так устал, что засыпает. Во сне он увидел ту, ради которой бьется его сердце до смерти: он держал красавицу в объятьях. Всю ночь он видел во сне, как обнимает ее, и это продолжалось до самого утра[541].
Затем будут многочисленные вариации этого мотива, до того момента, когда молодой человек сможет удовлетворить свое желание:
И дама лежала в кровати — в самой красивой и богатой кровати, которую видел свет. Ох! я бы с удовольствием описал ее без прикрас и без ошибки, но для того, чтобы ускорить счастье, которого Генглен жаждет, я не хочу изображать его кровать: то была бы слишком долгая работа[542].
На сей раз Генглену повезет больше, даже если рассказчик объявляет странным и забавным образом: «Я не знаю, сделал ли он ее своей любовницей — меня там не было, я ничего не видел, но вблизи своего друга она потеряла имя „девушки“» (вспомним лексические колебания в поэме Пушкина). Мы узнаем, что «в эту ночь они утешились после долгого ожидания»[543]. Но теперь, когда Генглен «получил все, что хотел, и обладает тем, что раньше было для него причиной беспрестанных страданий», читателю дается понять, что рассказчик поведал всю историю, чтобы выразить свою собственную боль ожидания — боль, которая, однако, сопровождается неким наслаждением:
И поэтому я не жалею, что люблю и что я верен своей подруге: в один день она может вознаградить меня больше, чем я мог бы заслужить когда-нибудь. И надо любить страстно ту, которая может так неожиданно дать столько счастья. Тот, кто хочет служить женщине, даже если он страдает долгое время, пусть не отступает: власть дам такова, что, когда они хотят вознаградить, они заставляют забыть все испытанные страдания[544].
Конечно, на уровне фабулы, случай с Русланом совершенно иной, поскольку речь идет не об отказе со стороны возлюбленной. Зато на уровне повествовательной динамики оба текста функционируют одинаково, и в обоих случаях обнаруживается желание писателя поиграть, показывая, каким образом можно манипулировать повествованием. Именно в этом, по нашему мнению, своеобразие обоих произведений.
* * *
Анализ эротического элемента в поэме «Руслан и Людмила» позволяет выявить некоторые особенности, которые определяют не только оригинальность этого произведения, но и его организующий принцип. Оказывается возможным несколько иначе посмотреть на проблему вероятных источников поэмы. Конечно, не будь «Неистового Роланда», «Двенадцати спящих дев» или же «Орлеанской девственницы», — не было бы и «Руслана и Людмилы».
Конечно, желание Пушкина пародировать неоспоримо: это даже самый главный источник комического. Но еще больше, нам кажется, желание поэта выбрать определенные черты рыцарского романа и утрировать их, довести до семантического предела, чтобы выявить их настоящее значение. Так обстоит с мотивом похищения любимой женщины. Конечно, Пушкин придал ему довольно резкий сексуальный оттенок, но надо отметить, что и в средневековой литературе эта черта была тоже подчеркнута. Пушкин только выдвинул на первый план именно этот мотив в ущерб всем остальным (например, отважные поступки, которые у него описываются редко и совсем неубедительно): это его интерпретация, игровая обработка. Так же обстоит дело с соотношением между поиском предмета желания и процессом писания — другой характерной чертой средневековых произведений: Пушкин развивает ее, подчиняя движение повествования, одновременно, сексуальной неудовлетворенности героя и вожделению рассказчика к его слушательнице.
Игра с повествовательной техникой существовала уже в Средние века, но только в XX веке она стала постоянной величиной в литературе (см., например, французский «Новый роман»), В своей поэме Пушкин, как никто другой, играет с традицией и тем самым преодолевает понятие «жанра». В этом качестве, часто отмечавшемся критикой, «Руслан и Людмила» представляет собой произведение совсем иное. Но игрой с эротическим элементом поэт пошел еще дальше: он обнажил те приемы повествовательной техники, которые лишь в наши дни станут привычным явлением в художественной литературе.
Повествовательные метели Пушкина
(О «Капитанской дочке»)[*]
Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.
«В моей „Капитанской дочке“ не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю „Капитанская дочка“, а думаю: „Пугачев“»[546]. Марина Цветаева, написавшая эти строки, пожалуй, чуть ли не внимательней всех прочла роман: через сто лет после его создания она почувствовала, что банальная романтическая история, в честь которой он получил свое название, — обманка. Талант и интуиция истинного поэта помогли ей проникнуть в то металитературное пространство, где сконцентрирована новизна этого романа Пушкина — «ее Пушкина». Ведь в эссе Цветаевой «Пушкин и Пугачев», которое было напечатано в 1937 году во втором номере журнала «Русские записки», речь идет как раз о самом необычном в «Капитанской дочке» — а именно об эксперименте с повествовательными техниками и границами жанров. Цветаева поняла, что настоящий смысл романа заключается как раз в этом эксперименте, но в то же время он выходит далеко за рамки стернианской игры, представленной в «Тристраме Шенди», включает в себя также глубокие рассуждения о смысле истории и о роли человека в ней, о природе власти и о захвате власти, — все эти вопросы волновали Пушкина в момент написания «Капитанской дочки», но не обсуждаются в его тексте. Потому что у литературы свои хитрости, и Пушкин в романе умудрился всех обвести вокруг пальца: «Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане; потому и семилетним детям давали, что думали — классическое. А классическое оказалось — магическое, и дети поняли, только дети одни и поняли, ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.
В „классиков“ не влюбляются» (385).
Поэтому будет совсем не лишним для начала обратиться к цветаевскому прочтению «Капитанской дочки» — очень пристрастному, но при этом и очень точному.
Роман о Вожатом: проблема жанра
Итак, у истоков всего стоит детская любовь к Пугачеву, благодаря которой юная героиня Цветаевой сразу понимает, что именно он здесь главный герой и что он прежде всего литературный герой, а уж потом исторический персонаж. А еще «Пугачев» — это слово, звучание которого имеет собственную силу, действует само по себе (есть такие «самознаки и самосмыслы», как пишет Цветаева). «Вожатый» для нее — такое слово, и именно с разговора об этой главе, действие которой разворачивается в метель, она начинает эссе[547]: «Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим. <…> Таким словом в моей жизни было и осталось — Вожатый». И Цветаева добавляет: «Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили: „Как называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая?“ — я бы сразу ответила: „Вожатый“. И сейчас вся „Капитанская дочка“ для меня есть то и называется — так» (368).
Заметим, что, перечисляя героев романа, Цветаева не только называет Савельичараньше Гринева, но еще и не упоминает самой капитанской дочки, этой, как она пишет, «дуры Маши», в честь которой назван роман, забыв также назвать и ее семью. Цветаевское прочтение «Капитанской дочки» — без дочки и без капитана — полностью сфокусировано на Пугачеве, в которого лирическая героиня Цветаевой сразу влюбляется, уже в том облике «самозваного отца», в каком он является Гриневу во сне во время метели. Она убеждает Гринева подойти под благословение Самозванца, больше того — любить его, как она сама. «Да иди же, иди, иди! Люби! Люби!», и добавляет: «и готова была горько плакать, что Гринев не понимает (Гринев вообще не из понимающих) — что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам тебе давать лапу, а ты бы этой лапы — не принял» (369). Перечитывая роман, Цветаева каждый раз боится, что Гринев Пугачеву вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, «послушает дурака Савельича, а не себя» и не ее, читательницу.
После встречи с Вожатым Цветаева с неохотой преодолевает текстовое расстояние до следующей встречи (а будучи сама поэтом, она отлично знает, что все написанное так или иначе представляет собой метафору процесса письма):
Потом, как известно, Вожатый пропадает — так подземная река уходит под землю. А с ним пропадал и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти — без Вожатого (как — в том же детстве, на больших — прогулках — без воды) — в совершенно для меня ненужном обществе коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина и не только не нужном, а презренном — Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она «чрезвычайно бледна».
Ничто: ни дуэль, ни любовное объяснение Гринева с Машей — не затмевает для Цветаевой черной бороды Пугачева. Она не понимает, «как может Гринев любить Марью Ивановну, а Марья Ивановна — Гринева, когда есть — Пугачев?». И хотя она уже знает продолжение, она каждый раз радуется тому, что отец запрещает Гриневу жениться, представляя себе, что он «опять по дороге встретит — Вожатого и уж никогда с ним не расстанется и умрет с ним на лобном месте». А Маше придется выйти за Швабрина — «и так ей и надо» (370).
Она не сомневается, что Пугачев — злодей, но его смягчает чувство благодарности. Он казнит людей, но он и должен казнить, «потому, что он был волк и вор», но при этом сохраняет жизнь Гриневу, который не поцеловал ему руки, «помиловал — за заячий тулуп». «Благодарность злодея» (371). Ведь он не нарушает свое слово, и это главное для ребенка-Цветаевой. Дети-то не ненавидят людоедов и Бабу-Ягу в сказках: они их просто боятся. Так и с Пугачевым: он ведь никому не обещал быть хорошим:
За что же мне было ненавидеть моего Вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот — не обещав, обратное обещав, хорошим — оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось — добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра.
Дальше Цветаева задается вопросом, как же Гринев мог не узнать Пугачева во время осады крепости, если сама она узнала его немедленно. «И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было — после того сна — те черные веселые глаза — забыть?» (372). Дальше она переходит к встрече в избе самозванца, задумываясь о том, почему тот позвал в круг «своих» именно Гринева, а не кого-то из перебежчиков. Она сравнивает это с любовью волка к ягненку и вспоминает, не было ли такой сказки. Когда Пугачев приглашает Гринева за стол, «благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана» (372) тем, что самозванец даровал дворянину жизнь при штурме крепости (ведь в сказках случай два раза не выпадает). Итак, речь идет о «чистом влечении сердца, любви во всей ее чистоте» (373). О любви, которая освещает весь, как пишет Цветаева, «бессмертный диалог» — когда Пугачев предлагает Гриневу служить ему или, по крайней мере, не служить против него, а Гринев отвечает, что не может: ему мешает Долг. За этот диалог, замечает Цветаева, она отдала бы все диалоги Достоевского.
Она подробно описывает отношения между Пугачевым и Гриневым, которые понимает как любовь; тут и множество даров от самозванца дворянскому сыну: дарованная ему жизнь, прощение, несмотря на то, что тот отказывается целовать ему руку, и еще одно, потом, когда Гринев признает, что солгал ему о Маше, и предложение служить в его войске, и то, что Пугачев постоянно Гриневу подмигивает, и его последний, во время казни, кивок головы, и даже — дар отцовской любви (он объясняет и все остальные). Этот дар надо рассматривать в контексте «пугачевской мечты об отцовстве всея России». Все это, считает Цветаева, — проявления любви. Сам Пушкин зачарован своим героем. Когда Гринев говорит, что, сидя за столом с Пугачевым, он был охвачен «пиитическим ужасом» (377), очевидно, что речь здесь на самом деле о Пушкине, о его отношении к герою, которое Цветаева называет «чара». Этим объясняется и неправдоподобно быстрое взросление Гринева, и его превращение в поэта: ведь он совсем недавно «только и делал, что голубей гонял» (378), а в доме его отца, кроме «Придворного календаря», никаких книг не было.
Цветаева считает, что с появлением Пугачева Гринев превращается в Пушкина:
Шестнадцатилетний Гринев судит и действует, как тридцатишестилетний Пушкин. Дав вначале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя. <…> Он так занят Пугачевым и собой, что даже забывает post factum постарить Гринева, и получается, что Гринев на два года моложе своей Маши, которой — восемнадцать лет! Между Гриневым — дома и Гриневым — на военном совете — три месяца времени, а на самом деле, по крайней мере, десять лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши — наивность: любовь мужей обращает в детей, но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до полного физического роста четыре года расти и вырастать из своих мундиров! Пушкин забыл, что Гринев — ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь.
С первой и до последней встречи Гринев и Пушкин зачарованы Пугачевым. Да и Цветаева тоже: она заканчивает эту часть эссе утверждением, что конец романа ей не интересен, то есть все, что происходит после появления Екатерины, которая не вызывает у нее ни малейшей симпатии: «Основная черта Екатерины — удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике Фальконета» (382–383); «На огневом фоне Пугачева — пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров — эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой» (382).
Оставив в стороне эмоциональное отношение к персонажам, а также изменения в интерпретации истории, к которым приводит такой образ Екатерины, обратим внимание на те весьма конкретные представления о структуре и жанре произведения, которые предлагает цветаевский взгляд:
Книга для меня распадалась на две пары, на два брака: Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились!
<…>
Екатерина нужна, чтобы все «хорошо кончилось».
Но для меня и тогда и теперь вещь, вся, кончается — кивком Пугачева с плахи. Дальше уже — дела Гриневские.
Дело Гринева — жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство.
Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.
Тут Цветаева очень кстати замечает, что такой образ Пугачева — дань Пушкина романтизму его эпохи. И она имеет в виду не романтическую первую любовь, а именно романтизм той самой любви к Пугачеву. Так Пушкин обманул читателя (но не Цветаеву).
Заметим, что в своем прочтении «Капитанской дочки» Цветаева говорит прежде всего о литературе. Но ведь и сам Пушкин говорит о литературе. Взгляд Цветаевой по мере развития ее эссе все больше смещается к этому металитературному уровню пушкинского текста. И выводы, которые предполагает такой подход, позволяют ответить на вопрос, о чем же на самом деле хочет сказать Пушкин. Конечно, о любви, о войне и о прочих обычных вещах, о которых принято говорить в романах, но, помимо всего прочего, они становятся предлогом, чтобы обратиться к вопросам чисто литературным. И прежде всего к вопросу литературного жанра, который определяется ролью, отводимой в тексте разным персонажам.
Если бы главной героиней, как это следует из названия, была «бледная» Маша, перед нами оказалась бы просто романтическая история двух голубков, которым мешает злодей Швабрин, и самая что ни на есть традиционность этой истории определялась бы уже упоминанием о бледности героини.
Если решить, что главным героем является Гринев, текст мог восприниматься как роман воспитания, инициации, а если учесть и роль капитана Миронова, — роман о войне, украшенный несколькими живописными персонажами, такими, как капитанша и Савельич.
Сосредоточившись на истории пугачевского бунта, можно было решить, что «Капитанская дочка» исторический роман. Но и этого не случается, ведь в развитии фабулы не обнаруживается почти никакого соответствия исторической правде (а это обязательное свойство названного жанра). Итак, очевидного ответа на вопрос о жанре этого текста нет. В эссе поднимается также вопрос о значащей композиции «Капитанской дочки» и о построении ее повествовательной структуры. Весьма значимо то, что Цветаева уделяет столь существенную роль первому появлению в метели персонажа, который потом окажется главным героем. Выясняется, что метель — не только привычный топос русской литературы, у нее имеется и метанарративная функция — быть местом всякого рода путаницы: в жанрах, структуре, времени или на повествовательном уровне. Для примера обратимся ненадолго к другой повествовательной метели, а потом вернемся к роману — как его называет Цветаева — «Вожатый».
Об одной повествовательной метели («Метель»)
Читатель «Метели» не может не удивляться ее неожиданному финалу — повесть кончается несколькими фразами героини, Марьи Гавриловны, обращенными к тому, кто, сам того не подозревая, оказывается ее мужем («так это были вы! И вы не узнаете меня?»), и этому мужу ничего не остается, как побледнеть и пасть к ее ногам в окружении полных значения многоточий («Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…»[548]). Для читательского удивления есть несколько причин. Первая из них, конечно, относится к повествовательному уровню: полной неправдоподобности такой цепочки событий и каждого по отдельности, а также резкости концовки. Вторую причину следует искать на метанарративном уровне, в запутанности повествования, которая характеризует всю композицию повести. Ведь отсутствие настоящей концовки — лишь самое ощутимое проявление этой запутанности, которая вообще-то заставляет задуматься о том, что же является настоящим сюжетом этого текста. И мы увидим, что, как и в некоторых других произведениях Пушкина, мы имеем дело с примером рефлексивного письма и пародии на определенный жанр.
На первый взгляд кажется, что читателю предлагают классическую историю любви, в которой строжайшим образом соблюдаются все правила подобных романтических историй. На одной страничке нам сообщают сведения, необходимые для такого повествования: время (1811 год) и место действия (Ненарадово), ключевые персонажи (главная героиня — Марья Гавриловна) и ситуация (она влюблена). Эта краткость, свойственная Пушкину, выглядит здесь совершенно естественной и начинает удивлять лишь потом, когда читатель замечает, что повествование становится еще более лаконичным, а главное, весьма ироническим в те моменты, когда описываются чувства героев. А без подобных описаний никак не может обходиться текст этого типа (заключительная сцена, если ее рассматривать под таким углом зрения, выглядит особенно иронической). Но и это еще не все: если внимательно прочесть первые строки, мы заметим, что Пушкин тщательно наблюдает за тем, что же у него получается, и его ирония распространяется в том числе и на выбранный им тип повествования. Он сразу показывает, что намерен строго следовать устоявшимся правилам жанра. Можно сказать, что существенная часть текста является комментарием к самому себе.
Ситуация, описанная на первой странице, позволяет тут же догадаться о том, что последует дальше: Марья Гавриловна — красивая и юная героиня любовной истории, которую нам собираются рассказать. Мы сразу узнаём, что она «бледная» (как и «капитанская дочка»), и, учитывая последовательность эпитетов, в которой возникает это прилагательное («стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу») (102), читатель, рефлекторно, как собака Павлова, незамедлительно должен услышать: «романтическая» — и именно таков на самом деле единственный смысл этого слова. В предыстории описание событий, следующих друг за другом, выглядит почти механическим. Складывается впечатление, что жанр жестко диктует свои законы и автору остается лишь подчиняться им. Все события совершенно такие, каким положено происходить в любовных романах, естественно французских, вроде тех, что читает Татьяна в «Онегине». Это подчеркивает и следующая фраза повествователя: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена» (102). Дальше оговаривается невысокое социальное положение, которое занимает «бедный армейский прапорщик» Владимир: о нем мы узнаём, что «само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию» (103). В завязке тоже нет ничего удивительного: родители девушки запрещают ей общаться с ним. Продолжение возникает автоматически: придется нарушить запрет. Этот автоматизм повествования все время подчеркивается: «…они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения…» (103), имеется в виду нарушение родительского запрета. Повествователь добавляет: «Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась воображению Марьи Гавриловны» (103). Когда Владимир пишет к Марье Гавриловне, он предлагает ей сценарий, которому, собственно, и нет альтернатив: венчаться тайно, а потом броситься к ногам родителей, «которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: Дети! Придите в наши объятия» (103). Так с помощью разных вводных конструкций («следственно», «само по себе разумеется», «что весьма естественно», «конечно», «непременно») нам дают понять, что история, которая рассказывается, не так уж оригинальна. В этих нескольких строчках Пушкин шесть раз подчеркивает автоматизм развития событий. Он совершенно очевидно играет с читательскими ожиданиями, а это отчетливо новаторский прием, который сначала встречается у Стерна, потом у модернистов, а потом и у постмодернистов. Все это находится в контексте однозначно иронического дискурса. Ирония относится не только к содержимому повествования и его персонажам, но и к формальным особенностям выбранного жанра. Читатель сразу понимает, что перед ним не трагедия, как, например, «Ромео и Джульетта», которая начинается с подобной завязки. Поэтому он ожидает чего-то другого, и это другое вполне предсказуемо: тем или иным способом, преодолев череду препятствий и пройдя через разные приключения, любовники снова окажутся вместе и будут наконец счастливы, а мы вместе с ними. Однако все происходит совсем не так: герои расстаются — и больше не находят друг друга. Ситуация даже более странная: у повести действительно оказывается счастливый конец, встреча героев происходит, только это не те герои. Смерть Владимира вполне могла бы превратить повесть в трагедию. Тогда Марье Гавриловне полагалось бы стать еще более бледной и в конце концов умереть. Но ничего подобного: она довольно быстро оправляется от горя и даже снова влюбляется. Тут нам вспоминается героиня «Руслана и Людмилы», которая оказывается недостаточно огорченной разлукой с Русланом, чтобы броситься в бурный поток, как ей хотелось поначалу. Потом все оборачивается еще прозаичней: она было решает, что вдали от милого ей и еда ни к чему, но потом, сев за накрытый стол, она «подумала — и стала кушать». В «Метели» же, благодаря довольно неправдоподобному сюжетному ходу, повесть все-таки заканчивается хорошо — и Бог с ним, с Владимиром.
Что же способствовало такой развязке? Ответ нам дает заглавие: метель. Для начала заметим, что ее описание занимает непропорционально большое место в повести (1/5 часть текста), а между тем общий стиль здесь — это короткие фразы (подлежащее-сказуемое-дополнение, более длинные встречаются лишь изредка), в которых излагается только суть дела, а все, о чем должно было бы говориться в повествовании того типа, к которому читатель готовится в начале, вообще остается за скобками. Мало того: в тексте дается целых три описания метели, она показана с точки зрения трех главных героев — Марьи Гавриловны, Владимира и Бурмина. Метель оказывается структурной основой повести и причиной всех перипетий, которые случаются с героями. В классическом повествовании такого жанра эти функции должен был бы выполнять еще один персонаж — конечно отрицательный, — именно ему полагалось бы препятствовать счастью двух наших героев (и по логике вещей, герои к концу повести должны преодолеть это препятствие). Действительно, третий персонаж есть: Бурмин. Но он не выполняет роли, заданной жанром повествования, а вместо этого становится одним из двух протагонистов второй истории, заменяя Владимира, которого как раз поглотила метель (а затем — историческая метель 1812 года). Итак, сюжет пушкинской повести — не просто история двух несчастных любовников, которая составляет «первый» уровень текста. Это еще и рассказ о том, какие повествовательные замены возможны в установленных жанровых рамках. Пушкин как будто говорит: взгляните-ка, что можно сделать, если добавить к сюжету метель.
Итак, в авторском отношении к героям, конечно, присутствует ирония (впрочем, довольно добродушная), но есть и другой тип иронии, более острой, и ее объектом является само повествование. Географическое пространство, разделяющее героев (ведь дело происходит зимой, и они планируют встретиться в определенном месте), становится метафорой пространства повествования. Метель спутывает все пространственные и временные рамки, изменение которых собственно и составляет сюжет любого повествования, и в результате возникают самые невероятные ситуации, например эффектное выталкивание одного из главных героев за пределы повествовательного пространства. Когда метель кончается, мы оказываемся уже в новом повествовательном пространстве, где возникает новая история любви, и эту историю можно было бы рассказать, даже если б первой вообще не было (ведь Владимир так и не попал в церковь, где происходят события, ставшие завязкой второй истории). Обратим внимание, что место, где развивается действие второй части повести, в отличие от первой, — крайне неопределенно: это ***ское поместье в *** губернии, куда Марья Гавриловна с матерью переезжают после смерти отца девушки. Крайне необычная структура повести изображена на схеме 1.

Очень интересно следить за тем, как Пушкин разламывает все шаблоны, свойственные жанру, в рамки которого, как кажется сначала, он собирается втиснуть свою повесть. Этот жанр предполагает довольно жесткую конструкцию: экспозиция —> завязка (запретная любовь) —> препятствия и приключения —> развязка (обычно счастливый конец). Начиная с экспозиции, Пушкин явно дает понять, что следует этой схеме, а когда читатель добирается до этапа приключений, автор ломает всю постройку. Он избавляется от героя, переселяет героиню и переходит к новой экспозиции: добавляет нового героя, и это приводит к такой развязке, которой никак не могла бы закончиться первая часть (и даже никаких препятствий преодолевать не пришлось). Уже через несколько страниц от заявленного в начале жанра не остается вообще ничего. Дочитав «Метель», читатель поневоле удивится: и внезапной концовке (что у Пушкина вообще-то встречается нередко), и тому, что рассказанная история вообще ни на что не похожа. В этом тексте, как и во многих других, Пушкин прежде всего говорит о литературе, и именно в этом его новаторство.
Но это еще не все. Пушкин пародирует не только набор стандартных элементов, имеющихся в распоряжении писателя, но еще и некоторые конкретные произведения. Это подтверждает некогда блестяще аргументированный Тыняновым тезис о том, что литературный процесс больше похож не на систему взаимовлияний, а на непрерывную борьбу — вечный диалог «архаистов» и «новаторов». К примеру, «Метель» вступает в пародийный диалог с балладой Жуковского «Светлана» (1808–1812), из которой взяты эпиграфы к пушкинской повести. Известно, что эта знаменитая баллада, вольное переложение «Леноры» Г. А. Бюргера, вызвала живой отклик в литературных кругах, и ее считали существенным шагом к обновлению русской поэзии. Пушкин, таким образом, обращается к одному из ключевых текстов того времени (заметим, что и в «Евгении Онегине» он цитирует «Светлану» трижды).
Баллада начинается знаменитым: «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали»[549]. Одна из них, Светлана, в гадании не участвует. Она тоскует по жениху:
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет.
Светлана перед зеркалом вызывает жениха, и тот появляется. Он зовет ее в церковь:
Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами.
И вот — едут, бушует вьюга, кони идут с трудом. Приезжают в церковь — там стоит гроб, священник служит за упокой. Жених молчит. «Ворон каркает: Печаль!» — эту строку Пушкин берет эпиграфом. Кони выносят Светлану к избушке. Кони, сани и жених вмиг пропадают. Светлана заходит в избушку и видит… гроб. Она молится перед иконой. Вьюга стихает. Тут начинает шевелиться мертвец в гробу — жених Светланы. Тут девушка просыпается и думает, что же может значить этот сон. Она слышит звон колокольчика, сани: приехал жених.
Заметим, что в пушкинской повести, с одной стороны, возникают ситуации, напоминающие балладу, а с другой, о них рассказывается совсем по-иному. Как ему свойственно, Пушкин рассказывает совершенно новую историю на основе известного сюжета или, по крайней мере, на основе ситуаций, которые наводят читателя на вполне определенные ассоциации. В балладе Жуковского метель — аллегорическое и романтическое воплощение страхов Светланы: она приходит во сне и подчеркивает смятение девушки. А у Пушкина тут никакого романтизма нет: метель становится метафорой тех смещений по отношению к стандартному ходу повествования, которые создает Пушкин, и, собственно, средством для этих смещений. В метели как будто прячется чертик, который строит свои козни.
За литературными играми всегда стоит некоторая бесовщинка, и сам Пушкин показывает это в стихотворении «Бесы» (1830): «Сбились мы. Что делать нам! / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам»[550]. Между прочим, это стихотворение, написанное приблизительно в то же время, что и «Метель», и перекликающееся с событиями из второй главы «Капитанской дочки» — той самой, которая служит исходной точкой для пламенной цветаевской интерпретации, — это стихотворение переведено на французский, и замечательно неточно, самой Цветаевой[551]. Но вернемся к «Вожатому», к его второй главе, которая стала местом встречи двух великих новаторов, и к тому веселому и немного «бесовскому» обману, без которого не было бы литературы.
Биографическая и историческая метель в симметричной структуре
В истории «Капитанской дочки» обман начинается еще до того, как Пушкин берется за перо: в августе 1833 года поэт просит у Николая I разрешения отправиться в Оренбургскую и Казанскую губернии для работы в архивах. Он говорит, что там должны разворачиваться события его будущего романа, и дает понять, что его интересует генерал Суворов (тот самый, который посадил Пугачева в клетку в Симбирске). Тема, которая занимает его на самом деле, — собственно восстание Пугачева — еще слишком свежа и относится к числу запретных, хотя потом этот запрет Екатерины будет отменен Александром I.
Результатом этой работы стало сначала историческое произведение «История Пугачевского бунта» (1834) — причем слово «бунт» было добавлено Николаем, — а уже потом литературное произведение: роман «Капитанская дочка» (1836). Различия между Пугачевым из «Истории Пугачевского бунта» и персонажем романа уже изучены, и мы не будем сравнивать их заново. Первый Пугачев — жестокий и опасный человек, второй — его противоположность, и даже роль злодея, которую он непременно должен был играть в историческом тексте николаевской эпохи, Пушкин передал другому герою. На эти хронологические обстоятельства, как и на смену точки зрения, обращает внимание Цветаева: она задается вопросом о том, как Пушкин мог написать такой роман после своего исторического исследования, то есть уже зная настоящие исторические обстоятельства («как Пушкин своего Пугачева написал — зная?») (392). Если бы все происходило наоборот, это можно было бы понять: «Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом — узнал». Но нет: он сначала показал Пугачева-чудовище, а потом его преобразил. Объяснение здесь вполне возможно, только это будет объяснение поэта:
Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: «Да, знаю, знаю все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу, этому несвоему, чужому знанию противопоставляю знание — свое. Я лучше знаю».
В этом и есть «обман». И в этом же — «поэтическая вольность». «Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева. „Историю Пугачевского бунта“ он писал для других, „Капитанскую дочку“ — для себя» (392). В своем историческом труде Пушкин показал нам Пугачева, а в романе он нам его внушил. «И сколько бы мы ни изучали и ни перечитывали „Историю Пугачевского бунта“, как только в метельной мгле „Капитанской дочки“ чернеется незнакомый предмет — мы все забываем, весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви — весь наш дурной опыт с любовью» (394).
Итак, мы снова возвращаемся к метели, где «в поле бес нас водит, видно», к обману, который, если приглядеться внимательно, открывает нам более важную истину, потому что это — истина поэзии, свободной от ограничений реалистического повествования. Можно только согласиться с Цветаевой, когда она говорит: «Был Пушкин — поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в „классической“ прозе „Капитанской дочки“» (396). Попробуем понять, как работает этот обман. В романе явно выделяются два центра повествования, что уже не вполне традиционно: с одной стороны, это довольно наивная история любви Гринева, рассказанная как история романтическая (и почти забавная: мы чувствуем пушкинскую иронию, присутствие которой наблюдали в «Метели» и в других текстах), а второй центр повествования — восстание Пугачева. Эти темы, конечно, переплетаются, но главное внимание мало-помалу фокусируется на второй, и скоро становится ясно, что именно Пугачев — главный герой романа, и это пародийно разрушает смысл заглавия, которое указывает только на один из двух повествовательных центров, да к тому же отсылает к самому невыразительному и обыкновенному персонажу в книге.
Роман, начиная с заглавия, пронизан автореференциальными отсылками, мыслями об устройстве литературы, а также иронией, механизм действия которой, кстати, довольно многогранен. Легкая ирония повзрослевшего Гринева по отношению к себе-подростку переплетается местами с авторской иронией по отношению к его молодому персонажу и к тому набору элементов, из которых складывается его повествование. Маша, а вместе с ней и все приемы, традиционно используемые в романтических историях, с героиней, которая всегда «чрезвычайно бледна», — естественным образом оказываются первыми жертвами этой иронии. Единственным, о ком Пушкин пишет без иронии, в конце концов остается главный герой. Он появляется из ниоткуда и, как мы видим по ходу чтения, завладевает не только крепостью: под него подстраивается все устройство пушкинского романа, что серьезно меняет его характер. Метель оказывается причиной сразу трех метаморфоз: одна касается биографии, другая — исторической стороны дела и третья — повествования. Именно из метели появляется главный герой, четыре эпизода с участием которого задают структуру романа и меняют жанр, имплицитно заявленный в заглавии. История Маши и Гринева разделяется на две части и в результате оказывается рамкой истории Гринева и Пугачева. Возникает целая система симметричных пар: например, два доноса Швабрина, один в первой части, когда он выдал Гринева Пугачеву, другой — во второй, когда он донес на него в Следственную комиссию; два появления Зурина; два военных совета и т. п. Есть и менее заметные симметричные структуры — например, симметрично расположенные фразы, скажем те, что произносит попадья: в первый раз — о том, что Швабрин не сказал Пугачеву, кто такая Маша («однако не выдал, спасибо ему и за то»; 470), а вторая — когда Пугачев сохранил жизнь Гриневу («Как это он вас не укокошил? Добро! Спасибо злодею и за то»; 514).
Вернемся еще раз к нашим четырем встречам (под встречами мы понимаем такие моменты, когда возникает прямой контакт между персонажами, а не просто те, где они одновременно появляются в повествовании). Структурный анализ показывает, что две самые важные встречи происходят непосредственно в центре романа:
1) Глава II («Вожатый»). Первая встреча в метель. Мы еще не знаем, кто это — некий загадочный, хотя, скорее, положительный персонаж: он спасает Гринева, который скрепляет их союз, пожаловав ему заячий тулуп и стакан вина, и за то будет вознагражден многократно. Цветаева, как мы видели, называет его «волком, полюбившим ягненка». Мы еще вернемся к этой теме дальше.
2) Глава VIII («Незваный гость»). Вторая встреча — во время взятия Белогорской крепости. Пугачев, которого Гринев узнаёт не сразу и только благодаря Савельичу, теперь появляется в облике жестокого вождя из исторических хроник. Но он все помнит и умеет быть великодушным, поэтому освобождает Гринева. После странного и более чем демократичного военного совета происходит один из главных диалогов — Пугачев зовет Гринева к себе на службу, а тот отказывается, и тогда Пугачев его спрашивает: «А коли отпущу, так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?» (476). Ответ Гринева замечателен: он не может дать такого обещания, и дело тут не в чувстве долга, а в том, что он не волен в своем выборе («Сам знаешь, не моя воля»; 477).
3) Главы XI–XII («Мятежная слобода», «Сирота»). Третья встреча в Бердской слободе, во время осады Оренбурга. Пугачев в ней являет собой образец справедливости: он помогает Гриневу спасти свою возлюбленную, которую Швабрин держит в Белогорской крепости. Что касается перемещения персонажей в пространстве, можно заметить, что, во-первых, на этот раз Гринев приходит к Пугачеву, а не наоборот, а во-вторых, возвращение в крепость замыкает географическое кольцо, и это усиливает симметрию, о которой мы говорили, и подчеркивает композиционный центр романа. В этом месте Пугачев все больше становится человеком (а значит, меньше и меньше — волком), до такой степени, что его начинают интересовать разговоры о нем в Оренбурге (506). Эта трогательная сцена напоминает то место в «Борисе Годунове», где Лжедмитрий спрашивает у пленника, ждут ли его, Лжедмитрия, в Москве и что там о нем думают[552]. В этом диалоге Пугачев воспринимается как трагическая фигура. Он говорит о несчастливой судьбе самозванца, о своем одиночестве, уверен, что обречен, что соратники продадут его при первой неудаче… Но каяться уже поздно. Пугачев рассказывает калмыцкую сказку о вороне, который живет триста лет, потому что питается мертвечиной, и об орле, который живет только тридцать три (!) года, но, попробовав палую лошадь, заключает: «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью» (508). Пугачев тяготеет к размаху, и Пушкин дарует ему этот размах. Именно во время этой сцены из уст Пугачева звучит как будто симметричный отголосок слов Гринева «не моя воля»: «Улица моя тесна; воли мне мало» (507).
В следующей главе Пугачев, про которого уже понятно, что ему скоро придет конец, становится, по сути, «посаженым отцом» Гринева (как в том сне, тоже связанном с сиротством, — а слово «сирота», отнесенное, правда, уже к Маше, как раз стало названием этой главы). Когда Гринев рассказывает Пугачеву о своей любви, тот говорит: «Да мы тебя женим» (503); он предлагает Гриневу чуть ли не усыновить его, что столь же сомнительно, как и его притязания на российский трон: «Пожалуй, я буду посаженым отцом» (512). Это тот самый отец, который привиделся Гриневу во сне во время метели, но здесь он откладывает в сторону топор бунтаря и собирается женить влюбленных. Глава заканчивается сценой расставания: «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему» (516).
4) Глава XIV («Суд»), Четвертая встреча происходит мельком, она кратко упомянута «издателем» записок Гринева: перед самой казнью и всего-то один обмен взглядами.
Итак, Пугачев сначала был бродягой, которого застала врасплох метель, потом — ужасным бунтовщиком и самозванцем, но постепенно он покидает исторический план повествования и переходит в романный, тот, в котором развивается романтическая история любви. Он и сам становится романным персонажем; это перевоплощение происходит у нас на глазах и подчеркивается структурой романа. И в этой своей новой роли он уже не тот кровавый и жестокий вожак, которого Пушкин описал в «Истории Пугачевского бунта». Что еще более удивительно, роль «злодея» теперь переходит к дважды предателю Швабрину. Пушкин защищает своего героя вплоть до впадания в антиисторизм (вот она, поэтическая вольность). Во второй главе «Истории Пугачевского бунта» Пушкин приводит самые кошмарные подробности: Пугачев велит казнить коменданта крепости Харлова, у которого глаз, вышибленный копьем, висел на щеке; с коменданта другой крепости Елагина содрали кожу, злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Вместе с тем казнь в «Капитанской дочке» описана довольно мягко. Пушкин кардинально переставляет акценты: в этой же второй главе «Истории Пугачевского бунта» есть эпизод, похожий на сюжет романа. Пугачев убил жену Елагина, захватил его дочь, Елизавету Харлову (муж которой тоже погиб во время этих событий), и взял ее к себе в наложницы, пообещав пощадить ее семилетнего брата. В «Капитанской дочке» подобный омерзительный поступок совершает Швабрин. В десятой главе Маша пишет Гриневу, что Швабрин принуждает ее выйти за него замуж, иначе «то же будет, что с Лизаветой Харловой» (492). В итоге в «Капитанской дочке» Пушкин делает Пугачева, наоборот, защитником Маши!
Так постепенно происходит смешение двух сюжетных линий: исторической и романтической. Мы можем проанализировать эпизоды, из которых складывается параллельное развитие Пугачева и Гринева. Ведь по сути, пушкинский роман — это история взросления Гринева, которое происходит благодаря метели и всему, что она в романе символизирует, — например, потере временных и пространственных ориентиров[553]. Ведь именно во время метели Гринев видит сон, в котором происходит пересмотр его сыновнего статуса и впервые намечаются те особенные отношения, которые свяжут его с Пугачевым (хотя он, конечно, всего этого не осознает), — с этого момента наши два персонажа параллельно изменяются. При каждой новой встрече оба они оказываются уже не такими, как раньше, и эти перемены задают трансформацию самого устройства романа. Чтобы описать, как это происходит, вернемся к четырем уже упомянутым встречам:
1) Во время первой встречи Пугачев остается загадкой: он — только «вожатый» в метели, где все нечетко. Это человек, который ведет за собой других. «Петруша» в этот момент еще просто дитя, он стремится доказать своему «дядьке», что он уже взрослый («…я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок»; 403). Это биографический план повествования. И мы ожидаем, что перед нами роман воспитания, инициации (которым «Капитанская дочка», конечно, тоже является, но в совершенно неожиданном ракурсе).
2) Вторая встреча. Здесь Пугачев — уже предводитель бунтовщиков, человек, который велит казнить, то есть почти тот же персонаж, который показан в «Истории Пугачевского бунта». Это самозванец, который претендует на власть в России, незаконно присваивает себе роль правителя. А Гринев к моменту этой встречи пережил события, которые разрушили его идиллический мир. Это исторический план повествования. Пушкинский текст здесь приближается к историческому роману.
3) Во время третьей встречи Пугачев остается тем же самозванцем исторического романа, но победоносный период уже миновал. Мы застаем Пугачева в момент трагического одиночества, его мучает предчувствие скорого конца, и он рассказывает об этом Гриневу, — а тот, в свою очередь, взрослеет в рекордные сроки (и даже неправдоподобные: за три месяца на десять лет, по подсчетам Цветаевой). Пугачев у Пушкина еще и самозванец-романтик, который озаботился любовной историей молодого человека и тем самым взял на себя роль его отца. Происходит событие, о котором во сне Гриневу говорит его мать. То, что Пугачев становится «посаженым отцом» Гринева, придает роману новое, психологическое измерение — поэтому логично, что Екатерина, которая тоже присвоила себе функции правительницы, симметричным образом берет на себя роль «посаженой матери» по отношению к сироте Маше. В этот момент два плана повествования, исторический и романный, смешиваются. А пушкинский текст становится все больше похож на роман психологический.
4) Во время последней встречи Пугачев уже лишился всего — в историческом плане, зато он осуществил свою «воспитательную» миссию. Взгляды, которыми обмениваются два главных героя, говорят о том, что влияния Пугачева на Гринева ничто не поколебало: последний повзрослел с того времени, когда он бродил впотьмах во время метели.
Получается, что эти четыре встречи вполне зримо выстраивают текст: каждая из них задает определенную стадию в развитии персонажей и одновременно производит полный переворот (как в зеркале) того литературного жанра, который, кажется, был задан в первой части. Эти перевороты связаны с развитием самого Пугачева, который, как постепенно становится ясно, является единственным динамическим элементом в романе. Его развитие отражается и в определениях, которые Пушкин дает своему герою: дорожный —> вожатый —> предводитель царь (самозваный) —> отец (посаженый). Интересно, что Цветаева использует выражение, которого нет в пушкинском тексте, — «самозваный отец», соединяя в один лексический сплав политику и семейные узы[554].
Из какого-то «чернеющего в метели предмета» он становится воином (мужская дружба, пир), считающим самозванство Отрепьева славным эпизодом, потом — романтическим героем (освобождение «сироты») и даже — трагическим («Улица моя тесна»). Этот герой вспоминает Отрепьева с горькой улыбкой и кончает свои дни на эшафоте. Если анализировать структурный план, понятно, что первая встреча — литературная (и не только потому, что в ней еще не возникает конкретный исторический персонаж, но и потому, что эта сцена вступает в разнообразные отношения интертекстуальности, о которых мы еще поговорим). Вторая встреча — историческая. А во время третьей Пугачев покидает исторический план (осада Оренбурга) и внедряется в литературный. Схематически эта структура изображена на схеме 2.

Симметрическая структура центральной части романа, подкрепленная повторением отдельных сцен или мотивов, изображена на схеме 3.

Символическая, жанровая и повествовательная метель в метели
Вернемся к важнейшей сцене из второй главы, и начнем с того, что перечислим несколько элементов, которые позволяют понять, как происходит смена жанра. Это интересный вопрос, если иметь в виду, что моделью романа в то время служили творения В. Скотта, как свидетельствует сам Пушкин в рецензии на вышедший незадолго до «Капитанской дочки» роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829)[555].
Гринев, Савельич и кучер, захваченные метелью врасплох, вынуждены остановиться, потому что «все исчезло» (406). И в этот момент они замечают вдалеке какие-то непонятные очертания. Этот пассаж напоминает соответствующую сцену из стихотворения «Бесы», которое мы уже цитировали выше: «Кони стали… „Что там в поле?“ — / „Кто их знает? Пень иль волк?“», и тот, кто прочел все стихотворение, знает, что речь идет о присутствии бесовщины, — под знаком которой происходит и первое появление Пугачева:
Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажестя, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.
Тот, кто в начале был просто «незнакомым предметом», а потом называется «дорожным», выводит их к постоялому двору. Во время этой поездки в кибитке Гринев дремлет и видит сон: он вернулся домой, отец болен, мать объявляет ему о возвращении сына и просит благословить его, но вместо отца Гринев видит «чернобородого мужика», и мать говорит: «это твой посаженый отец» (409). Гринев отказывается подойти под его благословение, и тогда мужик вскакивает с кровати и выхватывает из-за спины топор. Несмотря на то что Гринев в ужасе, он хочет благословить его. В этот момент спящий просыпается. Только после этого сна Пугачев назван «вожатым», то есть словом, которым названа вся глава, — и, конечно, он чернобородый. Гринев жалует ему стакан вина и свой тулуп, который Пугачеву не в пору. Сам он потом забудет об этой истории, но Пугачев говорит: «Век не забуду ваших милостей» (413). Получается, что Пугачев является одновременно в двух обличьях: мужика с топором (символ крестьянского бунта) и ангела-хранителя Гринева, а кроме того, хотя не всякий читатель может это заметить, — как его посаженый отец. Проблемы с памятью тут возникают не только у Гринева, но и у читателя: совсем как Гринев, он не сразу узнает самозванца, а вот старый Савельич узнает его тут же.
Как в повести «Метель», о которой мы говорили выше, здесь просматривается двойной мотив — дорога и метель, причем то и другое имеет ярко выраженное символическое значение. Дорога — метафора человеческой судьбы и истории, метель — обстоятельство, в котором теряются все ориентиры. Время и пространство исчезают, и все становится возможным как в судьбе конкретного человека, так и в ходе истории в целом, при том что две эти линии связаны в общий конфликт. Гринев выезжает из своего имения, то есть из четко обозначенного места (Симбирск), и проводит ночь где-то между этой точкой и пунктом назначения — Оренбургом. Это пространство трех первых глав. До метели, как мы видели, он был еще ребенком. После ночи, проведенной непонятно где, он просыпается уже чуть более взрослым, и теперь становится возможным продолжение романа (война, любовь). Если проанализировать эту структуру, можно заметить симметричную композицию, которая соответствует построению романа в целом и изображена на схеме 4.

Таким образом, во время метели Гринев, сам того не зная, переводит с помощью Пугачева биографическое время — в историческое. Теперь ему осталось понять, что с ним происходит, то есть установить связь между событиями своей жизни и всем, что творится в большой Истории. Что он и сделает с помощью Пугачева, носителя исторического сознания — этот факт подчеркивается его упоминанием о Смутном времени. Сам Пугачев, как мы показали, проделывает обратный путь — и эти два пути в романе Пушкина пересеклись. Причем пересечение оказалось возможным именно благодаря метели.
Так что же: «Капитанская дочка» — это все-таки исторический роман? Можно сказать и так, если прибегнуть к напрашивающемуся сравнению с романом «Юрий Милославский», действие которого помещено в исторический контекст (Смута), весьма напоминающий трудные времена, описанные в «Капитанской дочке», а главный персонаж — тоже самозванец. В период, когда московские жители подчинились польскому королю, молодому Юрию, совсем как Гриневу, приходится выбрать позицию в отношении к Историческим событиям. В этом романе, как и в «Капитанской дочке», герой развивается и взрослеет, погрузившись в ход истории, которая, конечно, сильнее его. Будто бы случайно, роман Загоскина тоже начинается с метели, во время которой полузамерзший запорожский казак Кирша спасает боярина Милославского и его слугу, помогая им выйти на дорогу и найти путь к жилью. Кирша потом в благодарность поможет Юрию в его любовной истории. Если пересказывать роман в двух словах, то получается, что в основе лежит совершенно та же сюжетная канва: встреча в степи двух героев, дворянина и казака, потом ряд исторических событий и любовная история. Это сходство подкрепляется также многими деталями повествования[557]. Однако сходство между двумя романами (это касается сравнений с некоторыми романами Вальтера Скотта, например «Роб Рой» или «Ламмермурская невеста») — сходство тут слишком серьезно и очевидно, чтобы считать его просто результатом влияния (в случае «Юрия Милославского» в голову приходит мысль чуть ли не о плагиате). Мы видим здесь настоящий интертекстуальный диалог, причем его предметом является именно проблема жанра. Таким образом, мы в очередной раз имеем дело с грандиозной рефлексией литературы — о себе самой. Как мы видели в «Метели», когда Пушкин открыто обращается к чужому сюжету, он не подражает, а играет с ним. Эта игра под его пером выливается в полный пересмотр сути того жанра, внешние признаки которого он использует и которые он иногда доводит до степени пародии. В результате получается произведение совершенно иного жанра, чем первоначально мог ожидать читатель. В «Капитанской дочке», как и во всех текстах Пушкина, где есть историческая составляющая («Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник»), все явственней проявляется трагическое измерение: история жестоко обходится с человеческими судьбами. Этого нельзя было предвидеть сначала, ведь все было представлено как романтическое повествование, немного наивный рассказ о двух голубках, где все к тому же должно было хорошо кончиться. Тем не менее пространство повествования заполняет трагическая нота. Это происходит под воздействием персонажа, про которого постепенно становится понятно, что он и есть главный герой. Это Пугачев, который в одиночестве лицом к лицу с историей. В повести «Метель» заглавное событие выполняло задачу смещения пространственно-временных рамок в личной и, скорее, забавной судьбе героев (Владимир, правда, умер, но его смерть почему-то не так уж сильно нас огорчает). Именно метель помогла осуществить вытеснение одного из героев за пределы нарративного пространства. А в «Капитанской дочке» смещения, к которым приводит метель, принимают совсем иной — аллегорический — смысл и размах. Это тем более потрясает, что все начинается с маленькой черной точки в снегу, о которой даже непонятно, волк это или человек. Но этот размах не уменьшает значения пушкинской литературной игры, а именно: переноса тематического элемента (конкретно — поиска пути) на структуру повествования. Наглядный пример такого смещения дает название девятой главы (которая занимает центральное положение, поскольку расположена между описаниями двух главных встреч героев): «Разлука». При первом чтении не возникает никаких сомнений в том, что речь идет о разлуке Гринева и Маши. Но более структурное прочтение показывает, что имеется в виду скорее разлука Гринева и Пугачева. Тот факт, что это происходит в конце второй встречи, усиливает симметричность структуры всего романа. Гриневу, который не понял значения своего сна («Гринев вообще не из понимающих», — замечает Цветаева; 369), нужно было время, чтобы узнать Пугачева, и это узнавание происходит в тот момент, когда они расстаются после второй встречи. С этой минуты у Маши не остается никаких шансов: вся романтическая составляющая смещается в сторону фигуры отца — но не того сурового отца в Симбирской губернии, который запрещает жениться (как и отец Марьи Гавриловны в «Метели»), а того, который делает женитьбу возможной. Этим решительным жестом Пушкин отмывает кровавого героя «Истории Пугачевского бунта» от его грехов перед Лизаветой Харловой, передав его низкий поступок предателю Швабрину. А ему уже и так по ходу написания перешли все отрицательные черты, которые должны были достаться Гриневу (то есть в пушкинских черновиках — предателю своего класса — Шванвичу). Если в историческом плане на сторону самозванца переходит Швабрин, то в плане романном перебежчиком выступает как раз Гринев, и в очередной раз это происходит из-за метели.
* * *
Как мы показали, автореференциальная игра, характеризующая творчество Пушкина, присутствует в «Капитанской дочке» в полном объеме. Хотя эти проявления, может быть, не так наглядны и очевидны, как в текстах вроде «Домика в Коломне», эта составляющая играет здесь важную роль, тем более что речь идет не просто об игре с формой, как в некоторых стихотворениях или в «Метели». Размышление литературы о себе самой, связанное с рефлексивной иронией, действующей на разных уровнях, в «Капитанской дочке», конечно, проявляется менее ярко, чем в «Метели», и тем не менее оно не просто там присутствует, а является основным элементом, на котором строится смысл романа. В результате этот смысл по своей глубине значительно превосходит смысловое наполнение «Метели». В повести Пушкин в основном пародирует композиционные и стилистические приемы, связанные с неким сложившимся жанром, а в романе ситуация совсем другая. Переходы, подчеркнутые симметричной структурой (скажем, переход Гринева — к взрослости, переход Пугачева от самозванца и волка — к «посаженому отцу», то есть человеку, или на жанровом уровне — переход от исторического плана к романному), — все они не только говорят о внутреннем размышлении произведения над своей сутью и литературой в целом, но и подводят к более существенным выводам, даже к некоей «морали», которая касается места человека в историческом вихре и его свободы в общем мироустройстве, а также роли литературы и писателя в интерпретации исторических событий, то есть всех тех вопросов, которые ставятся в разных произведениях Пушкина.
Речь идет о фундаментальной проблеме правды в литературе, проблемы тем более насущной, когда речь идет об Истории. Мы ведь отлично знаем, что Пугачев не защищал никакой Маши и не благословлял никакой свадьбы, и ничего не знаем о его страданиях и трагическом чувстве одиночества, которое захлестывало его по ходу его пути, но то, что, скорей всего, неправда в историческом плане и было бы неправдой, если бы попало в «Историю Пугачевского бунта», становится правдой в плане романном. И «Капитанская дочка» лишний раз подтверждает ту абсолютную свободу, на которую имеет право писатель в рамках творческого акта, пределы которого он определяет себе сам. Подтверждение этой свободы, безусловно, и есть тот самый нескончаемый урок, который преподносит любое литературное произведение, достойное такого названия, причем на ином уровне, чем тот, где ведутся игры с формой, — хотя и благодаря им. Ведь игра с формой, в которой всегда есть некоторая доля обмана (конечно, мы не вкладываем в это слово никакой моральной оценки), не имела бы вообще никакого смысла, если бы не решала других, более серьезных вопросов.
Снова необходимо констатировать, что в основе литературы всегда лежит обман, и этот обман сосредоточен ровно там же, где и новаторство писателя, — в той области, где произведение говорит о самом себе. Тут кроется одно из основных условий самого существования литературы. Не случайно Пушкина так сильно интересуют самозванцы в Истории: его героями становятся Годунов, Лжедмитрий, Мазепа и Пугачев. Пушкин осуществляет все те трансформации, которые мы описали, и делает историческую личность, чью жестокость он так убедительно показал в «Истории Пугачевского бунта», персонажем романа, привлекающим читательские симпатии. Так он утверждает, во-первых, неотъемлемое право подобного «обмана» на участие в литературном процессе, а во-вторых, полную свободу писателя, когда он создает произведение искусства. На этот метадискурс обычно не слишком обращают внимание, потому что в «Капитанской дочке», в отличие от других пушкинских текстов, он звучит не слишком явно, и обычно в связи с этим романом предпочитают говорить об истории, реализме, психологии любви и подобных вещах. Естественно, все это тоже присутствует в романе, иначе у него было бы совсем мало читателей. При том что большинство из них все же останавливаются на прочтении самого «верхнего уровня», из-за чего им приходится иногда обманываться в своих ожиданиях. Но если не уделять внимания этим аспектам, можно не заметить в романе многих главных проблем, тем более что, как и в «Метели», все персонажи, кроме Пугачева, здесь достаточно типичны: Маша — «бледная и трепещущая» «бедная девка»; Гринев — милый, но не слишком энергичный, а главное, жутко наивный; Швабрин — злодей, о котором нечего сказать, кроме того, что он злодей; и еще несколько интересных (но второстепенных) персонажей, например Савельич или капитанша, весьма своеобразная особа. Но никому из них ни разу не удалось изменить ход повествования, Пугачев оказывается его единственным движущим элементом. И ясно, что Пушкин не просто рассказывает нам довольно банальную историю любви (вроде тех, что встречаются в других романах этого жанра) и не просто обращается к Истории (как он это делает в «Истории Пугачевского бунта»), а создает некий новый объект — и показывает, как именно он его создает.
Прочтение «Капитанской дочки», в котором уделяется внимание этим вопросам, появилось только через сотню лет после написания романа. Именно поэтому эссе Цветаевой — отличный пример действительно новаторского взгляда, который обогащен всем опытом современности и потому способен показать новизну «классического» произведения. А. Маркович безусловно прав, когда утверждает, что, «кажется, только Цветаева по-настоящему прочла это последнее произведение Пушкина»[558], и в ее прочтении звучит восхищение поэта — поэтом и тем чудесным обманом, который лежит в основе любого литературного произведения.
От петербургского тумана к римскому свету: городская «поэма» Николая Гоголя[*]
А существуют ли на самом деле «Петербургские повести»?
Вопрос может показаться нелепым, особенно когда держишь в руках книгу с таким заглавием. Однако он становится оправданным, когда знаешь, что сам Гоголь никогда не давал книге этого заглавия, а в историю литературы оно вошло несколько случайно для обозначения сборника гоголевских повестей. Но о каких именно повестях идет речь? Ибо если они «петербургские», как тут очутилась «Коляска», действие которой происходит в провинции? Одни скажут, что герой этой повести сделал карьеру в столице империи, другие добавят, что в ней можно найти стилистическое сходство с другими текстами этого периода, и, наконец, третьи заметят, что она была написана в российской столице. Допустим. Но что тогда сказать о «Шинели», целиком написанной за границей? И тем более, что сказать о «Риме», повести, завершающей цикл? Санкт-Петербург кажется очень далеким от этой повести, также написанной за границей и к тому же незаконченной. И если она не закончена, почему Гоголь в 1842 году решил включить ее, несмотря ни на что, в третий том своих «Сочинений» (который назван просто «Повести»)?
Много вопросов, которые так и не нашли ответов и от решения которых издатели зачастую уклонялись, предпочитая попросту исключать «Коляску» и «Рим» из состава «Петербургских повестей»: первую повесть — по причине ее провинциализма и анекдотического характера, вторую — ввиду ее незавершенности и того, что в ней действие разворачивается много южнее Петербурга. Эти изъятия позволяли предложить читателю «Петербургские повести» без примесей, во всяком случае тематических, и издатели избавлялись таким образом от необходимости как-то оправдать общее название сборника и тем более его состав.
Остается неясным, почему Гоголь не поступил подобным образом в 1842 году, когда он готовил третий том своего «Собрания сочинений». Но мы знаем, что писатель сам отобрал тексты для этого тома и, что еще важнее, сам определил порядок следования текстов. А ведь этот порядок никак не связан ни со временем написания текстов, ни со временем их публикации: «Шинель», написанная позднее других текстов (лишь немного раньше «Рима» и второго варианта «Портрета») и опубликованная впервые как раз в «Собрании сочинений» 1842 года, окружается двумя группами из трех повестей и, таким образом, оказывается в самой середине ансамбля, представляющего симметричную структуру:
«Невский проспект» (первая публикация: 1835 г.)
«Нос» (1836 г.)
«Портрет» (первая редакция: 1835 г.; вторая редакция: 1842 г.)
«Шинель» (1842 г.)
«Коляска» (1836 г.)
«Записки сумасшедшего» (1835 г.)
«Рим. Отрывок» (1842 г.)
Это простое напоминание с очевидностью показывает, что писатель организовал свои повести в цикл, и можно не без основания думать, что если он отобрал именно эти тексты, написанные в течение последнего десятилетия, то видел в них общий знаменатель, достаточно весомый, чтобы утвердить такой порядок. Впрочем, неудивительно: было установлено, что некоторые тексты писались параллельно. Так, «Невский проспект» был начат в то же время, что и первый вариант «Портрета», и без преувеличения можно утверждать, что оба художника растут из одного корня. Гоголь, рассказав историю Пискарева, покидает на время «Невский проспект» и обращается к «Портрету», прежде чем вернуться к первой повести и закончить ее похождениями Пирогова (после похорон Пискарева рассказчик произносит знаменательную фразу: «Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою»[560]). Таким образом, понятно, насколько важно соблюдать совокупность ансамбля, называемого «Петербургские повести», как единого текста, состоящего из нескольких глав, объединенных связующей нитью, обозначенной писателем, когда он готовил издание 1842 года.
Разумеется, каждая из этих «глав» образует законченное произведение с собственным значением и смыслом, которое может быть прочитано само по себе. Но публикация этих повестей, подчиненная другому порядку, хронологическому или иному, и изъятие или привнесение каких-либо текстов, как нередко происходит, лишают этот комплекс смысла, привносимого авторской организацией текста и выходящего за пределы каждой взятой отдельно повести.
В понимании этого единого смысла сам город играет центральную роль. Даже если он далеко, когда мы его покинули и устремились, например, в Рим. Итак: «Петербургские повести» существуют, но несколько в ином роде, чем принято думать.
«Нет ничего лучше Невского проспекта…»
Приехав в северную столицу Российской империи из своей родной Малороссии в конце 20-х годов XIX века, Гоголь отдается сразу двум занятиям: службе и литературе. Если первая не принесла ему никакого удовлетворения (хотя государственная служба была идеализированной целью его перемещения) и он потерпел в ней неудачу, то вторая быстро принесла свои плоды. Когда появляются два его сборника «малороссийских повестей», «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832 гг.), писатель уже стал хорошо известным в литературном мире и в 1834 году смог оставить место профессора всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете (в этой роли ему удавалось лишь усыплять аудиторию), чтобы полностью посвятить себя литературе. Именно в это время Гоголь делает первые наброски того, что выльется затем в «Петербургские повести»: все они были написаны между этим годом и 1842-м, годом публикации первой части «Мертвых душ», которые создавались параллельно.
Город, увиденный Гоголем, довольно противоречив: если он блещет великолепием, унаследованным от XVIII века, века его рождения и бурного роста, он имеет и более неприглядные аспекты, связанные с чертами, сообщенными ему правлением Николая I, который подавил при восшествии на трон несколькими годами раньше восстание декабристов, готовился подавить и польский мятеж и понемногу стал превращать столицу в замкнутый мирок, где правит вездесущая бюрократия. Писатель открывает город, холодный и влажный климат которого приводит его в ужас. В 1836 году в журнале «Современник» он спрашивает себя, каким образом после Киева, где «мало холоду», и Москвы, где тоже холода недостаточно, «забросило русскую столицу — на край света», где «воздух продернут туманом», а земля «бледная, серо-зеленая»[561]. Другой упрек городу состоит в том, что у него очень слабо выражены национальные черты, в чем он являет собой полную противоположность Москве. После ряда таких замечаний Гоголь принимается сравнивать обе столицы. «Нечесаная» Москва — «домоседка, печет блины» противопоставлена Петербургу, этому вечно спешащему «щеголю», который встает засветло и на месте ему не сидится:
Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостию, неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии[562].
Город является под пером Гоголя неким прекрасным иностранцем («Москва женского рода, Петербург мужеского», — подчеркивает писатель), и душа его — Невский проспект, описание которого и открывает сборник: «Нет ничего лучше Невского проспекта…» (5). Этот зачин знаменитого пролога вписывается в определенную традицию, восходящую к предшествующему веку: сказать похвальное слово городу и тем восславить деяния его основателя Петра Великого. Но очень бегло, ведь здесь все очень непрочно.
Эта традиция была еще жива в то время: разве не писал Пушкин в прологе к «Медному Всаднику»: «Люблю тебя, Петра творенье…»? Но ведь и в поэме Пушкина, с которым Гоголь познакомился в 1831 году, тоже все непрочно. Если во вступлении поэт признается в любви к «строгому» и «стройному» облику города, «Невы державному теченью» и «береговому ее граниту», к белым ночам, когда «Одна заря сменить другую / спешит, дав ночи полчаса», в общем, этой ликующей молодости, перед которой «померкла старая Москва»[563] (и тут поэма идеально вписана в традицию), то после пролога Пушкин рассказывает историю бедного Евгения, невеста которого погибла во время самого сильного петербургского наводнения 1824 года. В этот момент взгляд на город смещается: город по-прежнему прекрасен, но он наделен страшной разрушительной силой и в конце концов станет причиной безумия героя. Евгений сделал едва заметный жест протеста: однажды, проходя мимо статуи Петра Великого, он захотел восстать против этого «властелина судьбы»[564], беспощадного и равнодушного к несчастьям маленьких людей. Он осмелился угрожать, но обратился в бегство, увидев, что лицо Медного Всадника загорелось гневом; Евгений бежал по улицам столицы и слышал за спиной грохот и звон погони.
Нельзя безнаказанно восстать против порядка Петра, и персонажи Гоголя тоже получают этот жестокий опыт. Это случай Поприщина, героя «Записок сумасшедшего», который, осмелившись мечтать о дочке своего начальника, посягает на Табель о рангах, жесткую систему продвижения по службе, установленную основателем города. Попытка ее нарушить влечет за собой немедленное наказание: Поприщин, сведенный с ума своим ничтожным положением в самом низу служебной лестницы (само имя его родственно слову «поприще»), подвергнется истязаниям в сумасшедшем доме, куда будет заключен. У Гоголя нарушения запрета всегда влекут суровое наказание, и даже желание уже есть нарушение: ведь Акакий Акакиевич осмелился пожелать новую шинель, мечтал о ней как о своей суженой. Наказание последует немедленно: сам город производит на свет мошенников, умыкнувших его приобретение, сам город породил «значительное лицо», верного стража петровского порядка, и этот же город награждает нашего героя горячкой, от которой он уже не оправится: «Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было» (147). Город не обращает внимания на столь маленьких людей, он слишком для них велик. Все его величие может обернуться против личности: есть изящная геометрия архитектуры, но это пространство может стать местом преступления («Шинель»); есть прекрасные дворцы, но есть и дом Зверкова, знаменитый доходный дом, в котором Гоголь и сам жил некоторое время, символ немыслимой скученности обитания бедного люда («Записки сумасшедшего»); есть прямые и роскошные проспекты в центре, но есть и Коломна, окраинная часть города, где ютится мелкий людской сброд, вытесненный за пределы блистательного центра, здесь живет и владелец дьявольского портрета («Портрет»), и здесь навсегда исчезнет призрак Акакия Акакиевича («Шинель»). Город, показанный Гоголем, — это пространство трагического безумия для персонажей с «геморроидальным» (121) цветом лица, которые живут в этом городе и не в силах из него вырваться.
Конечно, «нет ничего лучше Невского проспекта». Но скоро начинаешь понимать, что эта красота — только приманка. Все светится, но свет ложный: это свет уличного фонаря, уродующего действительность, и город-декорация становится ловушкой. «Нет ничего лучше…» — читаем мы в прологе, но «все обман, все мечта, все не то, чем кажется», — слышим мы отклик в эпилоге:
Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
Тут уж неудивительно, что оба персонажа полностью ошибаются насчет увиденного: Пискарев, хотя он и художник, не видит, что библейская красота, встреченная им на Невском проспекте, всего лишь проститутка; поручик Пирогов не видит, что немка, которую он преследует ухаживаниями, вовсе не ветреная женщина, ради военной формы готовая забыть о своем муже. Оба героя повести были введены в заблуждение, поскольку все пропитано ложью.
Городские туманы, повествовательный туман и пародия
В создании этого всемогущего «тромплея» (обман зрения) не последнюю роль играет петербургский туман, и внимательное чтение показывает, что он мало-помалу поглощает и само повествование. В конце первой части «Носа» ход приключений цирюльника Ивана Яковлевича, которого окликнул квартальный надзиратель, увидев, что тот тайком бросил в Неву пресловутый нос, найденный утром в свежеиспеченном хлебе, «закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно» (43). Тот же туман поглощает и концовку второй части. Этот природный туман становится метафорой чудовищной повествовательной неразберихи и делает возможным самые немыслимые события. Во всем этом и «северная столица нашего обширного государства» повинна, но «непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты», как сказано в эпилоге повести, но «подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают» (64–65). Во всяком случае, в Петербурге.
Город занимает в повестях центральное место, но этот город раздроблен на мелкие части, и его жители пытаются собрать их воедино. Повестью «Невский проспект» Гоголь сознательно ставит себя в рамки традиции, однако потрясает ее основы, сообщая целому пародийное значение. Но пародийность этого текста еще шире.
Туман, затмевающий лик действительности, и повествовательная неразбериха, деформирующая правдоподобие, ожидаемое от рассказа, соединяются, чтобы похоронить всю романтическую литературную традицию, окружавшую Гоголя. Взглянем еще раз на «Невский проспект». Недалекий критик, которому и невдомек, что он имеет дело с одним из величайших гениев русской литературы, пожалуй, нашел бы повесть кривоватой, с ее непомерным прологом, за которым следуют две истории, очень различные и по размеру и по стилю. Верно, он нашел бы ее уродливым гибридом, члены которого существуют порознь друг от друга. Мы видим необходимость искать то, что их объединяет, вовне. Эту связь можно обнаружить, например, в пародийном плане произведения — история художника Пискарева строится вокруг шаблона, свойственного романтизму, где заметное место отводится мечте, и встречаем приметы шаблона: любовь героя к прекрасной незнакомке, которую он пытается спасти от падения, дозы опиума и затем трагическая смерть художника в городе, современном и потому враждебном. Но это романтическое повествование затем снижается рассказом о злоключениях поручика Пирогова, восходящим уже к иному жанру — фарсу, граничащим с вульгарностью, и он тоже отвечает стереотипам жанра: бурлескные сцены, поколоченный воздыхатель и т. д.
Пародия на романтико-фантастический рассказ заметна даже в той детали, что после трагической смерти Пискарева мы переносимся «в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф» (30). Но слово «романтизм» в России, и особенно в ту эпоху, означало немецкий романтизм. А кто говорит о немецком романтизме, тот вспоминает Ф. Шиллера, — обязательное чтение для целого поколения. У Гоголя фамилия немецкого ремесленника Шиллер несомненно приобретает новое значение, тем более что его приятеля зовут Гофман, то есть произносится имя и другого писателя, чья тень витает над всеми «Петербургскими повестями». Впрочем, Гоголь и привлекает к этому внимание читателя, многократно повторяя известные имена:
Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром.
Открывая свой цикл повестью «Невский проспект», Гоголь предлагает читателю текст, в котором он играет жанрами, воспроизводя их внешние признаки. Впрочем, к Шиллеру и Э.-Т.-А. Гофману надо присовокупить французских «неистовых» (например, Ж. Жанена) и романы ужаса, очень популярные в то время. Повторим, что в этой игре очень большое место отводится городу, привилегированному топосу романтической традиции, с его теневыми зонами, разбойничьими притонами и т. д. Первые наброски «Невского проспекта» полностью вписывались в эту традицию:
Было далеко за полночь. Один фонарь только озарял капризно улицу и бросал какой-то страшный блеск на каменные домы и оставлял во мраке деревянные, <которые> из серых превращались совершенно в черные.
Фонарь умирал на одной из дальних линий Василь<евского> острова. Одни только белые каменные домы кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствует двенадцать часов <…>
Можно представить, что это начало страшной сказки: ночные сумерки, пугающие тени, пустынные улицы, а дальше в рукописи возникнет еще и непременное кошачье мяуканье. Но вскоре Гоголь оставляет эту линию, и если в окончательной версии и сохранится уличный фонарь, роль его радикально изменится: теперь это не просто традиционная часть городского пейзажа, но орудие дьявола, которое он использует, чтобы исказить действительность, искромсать ее, «показать все не в настоящем виде» и оставить героев обманутыми. Теперь Гоголя интересуют уже не полуночные страхи, но природа этого зрительного искажения, на которой надо будет остановиться. Подобным образом, предложение, делаемое Пискаревым «падшей женщине», которую он вознамерился спасти женитьбой на ней и честным трудом, должно пониматься как новый пародийный выпад, на сей раз — против социально-романтических штампов, сокрушительный удар которым наносит ответ красавицы, восхваляющий проституцию (поскольку, согласно этому шаблону, «падшая женщина» должна возродиться благодаря любви).
Манера письма Гоголя — тоже тромплей в изображении города, оказывающегося тем средоточием разлада, в котором затеряется художник. С первой же повести проблема видения становится главной заботой писателя. Пролог «Невского проспекта» должен интересовать нас, помимо прочего, и методом описания, реализуемым в тексте. Гоголь представляет действительность фрагментами, прибегая к синекдохе: по главной артерии города снуют не люди, а усы, бакенбарды, талии и мундиры. Метод, старый, как и сама литература, не лишен, однако, и нового смысла: ведь это сам мир распался на части, и метонимическое его представление — всего лишь следствие распада. В повести «Нос» метод доведен до абсурда: часть тела отделяется и преспокойно отправляется гулять по городу, и (конечно!) по тому же Невскому проспекту, где все лживо. Неудивительно, что психоаналитический подход в утрате этого ковалевского «аппендикса» увидел его кастрацию. Надо заметить, что иконографическая традиция часто уподобляет нос мужскому половому члену, и такое прочтение «Носа» добавляет остроты, особенно когда Ковалев заявляет, что этот орган необходим ему для женитьбы. В этом прочтении особенно пикантен тот факт, что Нос оказывается чиновником более высокого ранга, чем его хозяин (одержимый идеей о повышении). Но здесь кроется не только маленький подарок будущим фрейдистам. В поэтике рассечения на части, столь типичной для писателя, следует видеть реализованную синекдоху, и мы вправе читать «Нос» как приключения тропа, выпущенного на свободу, и свободного до такой степени, что он чуть было не сбежал в Ригу (далеко от столицы, далеко от текста!) и лишь случайно был задержан тем же самым квартальным надзирателем, которого мы встретили в конце первой главы, прежде чем все погрузится в петербургский туман, и о котором узнаем (только сейчас!), что он настолько близорук, что не может разглядеть на лице носа!
Этот взгляд заставляет нас читать вторую повесть цикла как продолжение первой. При этом «Нос» становится абсурдным развитием того, что было лишь визуальным приемом в предыдущей повести. Мы вспоминаем, что знаменитый Шиллер в «Невском проспекте», будучи пьян, просит своего приятеля Гофмана отрезать ему нос, поскольку тот обходится ему слишком дорого ввиду расходов на нюхательный табак («Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности»; 30–31). Есть замечательная симметрия в том, что Шиллер хочет избавиться от носа, тогда как Ковалев стремится вернуть себе свой, будто метонимическое описание из пролога «Невского проспекта» приуготовило гротескное отделение драгоценного органа, который теперь красуется в мундире, разъезжая все по тому же Невскому проспекту… но уже в следующей повести.
Это еще не все. Зрительно раздробленная действительность представлена с начала приключений Пискарева как трагедия для художника: «Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно» (12). Невозможно быть художником в Петербурге, поскольку в нем невозможно найти зрительной гармонии. Именно это и погубит Пискарева: не столько любовное разочарование, сколько невозможность как следует разглядеть лоскутья действительности, расплывающиеся в тумане и во мгле. То же самое погубит и Чарткова, героя «Портрета».
Есть ли спасение для художника? Да, — отвечает нам Гоголь, — но нужно подождать, и мы найдем его в финальной повести цикла… в Риме, где Мадонны и в самом деле Мадонны, а не проститутки.
В поисках гармонии: «Увидеть Рим…»
Помещая «Рим» последним, Гоголь придал циклу симметрию, в которой нет ничего случайного. Главным героем как первой, так и последней повести является город: первой — Петербург, последней — Рим. Обе представляют структуру, в которую вкрапляются лирические отступления, и имеют сходный сюжет: встреча исключительно красивой женщины на городской улице и затем поиски увиденной мельком красавицы. Но в «Риме» тема развивается зеркально. В «Невском проспекте» (где тема встречи дублируется гротескными приключениями Пирогова) женщина оказывается проституткой (а другая, героиня параллельной линии — женой пьяницы-ремесленника); в «Риме» античная красавица Аннунциата так и остается прекрасной незнакомкой. Есть и другая зеркальность: если «Невский проспект» открывается длинным прологом, где синекдохами отображается распавшаяся реальность города, который будет далее губить своих обитателей, то в заключении «Рима» мы видим откликом на этот пролог завершающую и повесть и сборник волнующую картину гармонии Вечного города, напоенного светом (в противоположность петербургскому туману):
Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе, еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух… Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете.
Эта концовка представляется не столько завершением собственно повести, сколько эпилогом ко всему циклу, гармоническим откликом на дисгармонию, возникающую в начале сборника. Однако такой взгляд заставляет нас задуматься о незавершенности «Рима». В. В. Гиппиус в монографии «Гоголь» (1924) замечает, что повесть была в определенном смысле окончена, она была в том качестве, когда уже «не фабула в ней главное»[565], а стилистика лирических периодов, которые находят завершение в последней картине итальянской столицы. Замечание критика тем более верно, что Гоголь не впервые использует такой прием: во введении к малороссийской повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» рассказчик предупреждал с самого начала, что он потерял последние листки текста (его супруга употребила их для выпечки пирогов) и что из-за своей дырявой памяти вынужден рассказать историю без окончания. И кто бы мог подумать (мы находимся в первой половине XIX века, а не в постмодернистской поэтике фрагмента): в конце очередной главки обещано продолжение истории, но этого продолжения не было, и рассказ о жизни Шпонь-ки обрывался на полуслове. Этот текст, названный неоконченным, Гоголь все же опубликовал, как он опубликовал и «Рим». В последней повести, как и в истории о Шпоньке, если и нет концовки, то ввиду ее избыточности. Впрочем, в первых набросках текст назывался «Аннунциата», и Гоголь упоминал его в письмах как будущий роман. Конечно, внезапное прекращение князем поисков может удивить, но разве не говорилось буквально, что князь забыл «красоту Аннунциаты»? Князю больше не интересна красавица из Альбано, он забыл ее глаза, свет которых в первых строках повести расщепляет тьму, и это отклик на слова о дьявольских глазах «Портрета». Художник из «Рима» больше не нуждается в эфемерной красоте, поскольку он нашел нечто более значимое. Во всяком случае, поручение поисков Пеппе не дало результата. Этот персонаж слишком «петербургский»: когда он наконец появляется, мы видим прежде всего его нос («В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом»; 220).
Перечитаем теперь заново «Петербургские повести» в свете приведенных соображений. «Невский проспект» казался нам парой историй, следующих одна за другой и практически независимых (героев мы сначала видим вместе, но затем их пути расходятся и более уже не пересекаются: Пирогова мы не встретим даже на похоронах его друга-художника). Обе истории явились нам выраженными стилизациями в разных жанрах, так что простого последовательного присоединения второй к первой было достаточно для разрушения смысла первой как представительницы своего жанра (бурлеск второй истории уничтожал романтизм первой). Теперь мы можем утверждать, что эта двойная перспектива разворачивается на фоне всего цикла.
Таким образом, «Нос», помещенный на второе место, предстает продолжением приключений Пирогова (тут возникает схожий тип смешного и тривиального персонажа). «Портрет» продолжает линию Пискарева, поскольку его герой Чартков тоже художник. «Коляска», как нам представляется, воссоздает тип Пирогова (уже в провинции) в образе Чертокуцкого. Что касается «Записок сумасшедшего», можно увидеть их логическим завершением действия, которое производит город, описанный в начале цикла. Конечно, Поприщин не художник. Однако он чуть было не стал музыкантом, как видно из черновых набросков повести, которая называлась «Записки сумасшедшего музыканта» (еще один типичный персонаж романтической литературы). Но в рамках общей структуры не следовало помещать еще одного представителя искусства во вторую часть цикла: герой должен был быть чиновником, представителем заведенного Петром Великим порядка. Это вполне логично, поскольку формула «петербургский художник» — оксюморон. Художником в Петербурге быть невозможно. Зато можно быть чиновником, поскольку для переписывания административных бумаг не надо иметь острого взгляда (Акакий Акакиевич подслеповат), смена героя происходит именно в «Шинели», положение которой в середине цикла становится понятным, и заканчивается безумием такого же чиновника, описанным в «Записках сумасшедшего» (Акакий Акакиевич и Поприщин имеют одно и то же звание в Табели о рангах). Отныне становится ощутимой степень разрушения, которое оказывает город наличность. Поприщину кажется, что он в Испании. Но вымышленный им Юг есть не что иное, как дом сумасшедших, где наш герой подвергается жестокому обращению. Понадобится истинный свет юга, чтобы обрести гармонию. И это свет Рима.
«Петербургские повести» являют собой систему зеркал, и чтобы избежать безумия в этой системе, надо покинуть город Петра Великого. Даже маленькая повесть «Коляска» служит тому подтверждением: здесь присутствие столицы может быть объяснено тем фактом, что Петербург тоже является метонимией и представляет собой всю непоколебимую Российскую империю, а Российская империя это также и провинция, которая служит Чичикову плацдармом для его махинаций в «Мертвых душах» и которая впадает в ступор при появлении самозванца-ревизора («Ревизор»), прибывшего, как водится, из Петербурга, где все обман. Итак, «Коляска» занимает именно свое место в ансамбле, который все же может называться «Петербургские повести», если спасение обретается… в Риме!
Единый текст
Из этой структуры проявляется мало-помалу истинная история. Разумеется, она тоже распалась на части, как и вся описанная действительность, но она существует. И не только общее устройство цикла требует такой интерпретации: она определяется и деталями текста. Внимательное чтение показывает, что множество мотивов переходят из повести в повесть, получают новое развитие и укрепляют всю конструкцию. Например, Пирогов обожает театр, кроме разве некоторых водевилей, которые находит ниже своего уровня, но как раз их обожает Поприщин. Комнаты двух художников, Пискарева и Чарткова, очень схожи своим беспорядком (еще одна рассыпавшаяся реальность, которую художник не в силах воссоединить). Ковалев должен отказаться от понюшки табака: табакерку с изображением дамы ему протянул чиновник из газетной экспедиции (нет носа — нет табака, нет женщины!), а с этой табакеркой перекликается другая, Петровича, портного из «Шинели», украшенная на сей раз изображением генерала, и третья, упомянутая мимоходом в «Коляске», где один из двух главных персонажей… генерал (не говоря уже о шутке с табаком в «Шинели» _ он был извлечен будочником из сапога, чтобы «освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой»: 148). Усам, встреченным на Невском проспекте, отвечают в «Коляске» усы солдата из конюшни, которые становятся частью, почти столь же независимой от их владельца, как и нос Ковалева, когда солдат ведет за узду «вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдруг подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами» (156). Район Коломны описан в «Портрете», но именно в нем исчезает призрак Акакия Акакиевича в конце «Шинели». Именно на Невский проспект, о котором нам уже известно, что он лжет, переезжает Чартков в «Портрете», когда он начинает лгать себе своей живописью. Там и сям мы видим башмаки, от которых произойдет фамилия Акакия Акакиевича; в первой части «Портрета» мы встречаем башмаки, шинели и нос. У цирюльника из «Носа» есть коллега в «Записках сумасшедшего». Нам встречаются три демонических персонажа, первые два из них восточного типа: персиянин в «Невском проспекте», готовый, заметим мимоходом, уступить Пискареву опиум в обмен на портрет, который тот должен для него написать; ростовщик, который заказывает злополучный портрет; да и портной Петрович в «Шинели», похожий на «турецкого пашу» (128) (на самом деле всего лишь сидевший по-турецки за работой), становится для бедного Акакия Акакиевича демонической фигурой.
Можно продолжить перечисление мотивов, переходящих из повести в повесть. Наиболее заметный из них — все тот же знаменитый нос. Прежде всего мы видим его, когда Шиллер просит своего приятеля Гофмана отрезать нос, который выходит ему в копеечку из-за расходов на табак и притом совершенно бесполезен (в отличие от Ковалева, который считает его предметом, необходимым для женитьбы). Мы также видели, что неслучайно следующая повесть рассказывает историю о носе, вырвавшемся на свободу. К слову сказать, нос Ковалева, прежде чем покинуть своего хозяина, был украшен маленьким прыщиком, который тоже свободно гуляет из текста в текст, исчезнув с носа коллежского асессора, в следующей повести, «Портрете», мы обнаруживаем у девицы, которую рисует Чартков, маленький прыщик на лбу (не отраженный на холсте художником, поскольку все вокруг ложь), и этот же прыщ нам слышится в фамилии героя «Записок сумасшедшего» (в его фамилии хорошо слышно слово «поприще», но можно расслышать и отзвук «прыща»). Кроме того, множество носов возникают в устойчивых выражениях: мать предполагаемой невесты Ковалева отвечает на его безумное требование вернуть ему его пропавший орган, что она никогда не намеревалась его «оставить с носом» (61); в «Коляске» о Чертокуцком сказано, что он «пронюхивал носом, где стоял кавалерийский полк» (154). Все эти носы, которые жестоко атакует «сильный враг», «наш северный мороз» (126) («Шинель»), гуляют по всему циклу, и вполне логично, что они занимают важное место и в предпоследней повести (или, скорее, последней, если считать «Рим» эпилогом «Петербургских повестей»), «Записках сумасшедшего». Поприщин, гулявший инкогнито все по тому же Невскому проспекту в один из дней «без числа» (180) и мечтавший пройтись по нему в королевской мантии, которую собирался заказать портному (отголосок «Шинели»), но затем решил соорудить сам из старого вицмундира (как предлагал Петровичу Акакий Акакиевич) — итак, Поприщин погружается в бред о носах, отделившихся от их владельцев, и бред этот был уже подготовлен приключениями Ковалева. Но этот мотив можно проследить и в прочих местах «Записок». 4 октября, когда видит, остолбенев, что дочь его начальника уронила носовой платок, он пишет: «Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа» (167); 12 ноября, когда он ищет дом собачонки, которая состоит в переписке с собачкой дочери его начальника, ему приходится идти в Мещанскую улицу (кстати, тут живет и Шиллер!), где так разит капустой, что он вынужден «заткнуть нос» (171). Затем мы видим, как собачонка защищает свою собственность от Поприщина, пытающегося отобрать письма; «мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос» (Там же). Когда он оказывается в Мадриде, то есть в сумасшедшем доме, все эти выражения материализуются в бред: наш герой хочет спасти луну, которую делает хромой бочар из Гамбурга, и делает «прескверно», так что приходится «затыкать нос». Он поясняет:
И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может насевши размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну.
В таком контексте вполне логично, что завершающий «нос», прежде чем мы перенесемся в Рим, появится в последней «петербургской» фразе: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» (184).
Вот куда завела нас исходная синекдоха, символ распада действительности, который приводит к распаду личности. Круг замкнулся. В своей последней тираде Поприщин, который был до сих пор всего лишь свихнувшимся маленьким чиновником, становится трагическим персонажем: ему остается только бегство в бесконечность, вдаль от петербургского тумана, к «матушке», к свету, к Италии: «сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия» (Там же).
Художественный манифест
Нити, протянутые между повестями, образуют единую смысловую ткань по всему сборнику. Среди мотивов, укрепляющих структуру и создающих глобальный смысл, есть еще один, и он заслуживает особого внимания. Речь идет об аллюзиях на литературные диспуты той эпохи, и они ведут нас к фигуре Пушкина, неявной, но центральной. Поприщин, как мы узнаем из записи его дневника от 4 октября, читает «Северную пчелу», очень популярную бульварную газету того времени, по выпускам которой он следит за событиями в Испании. Эту же газету мы видим и в руках Пирогова: ее название не упоминается, но о нем можно догадаться по именам двух редакторов: Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина. В «Носе» служащий газетной экспедиции, где Ковалев намерен дать объявление о розыске носа, предлагает ему, ввиду фантастичности рассказанной Ковалевым истории, обратиться к тому, «кто имеет искусное перо <…> и напечатать статейку» (52) в той же «Северной пчеле». А ведь эта газета постоянно атаковала Пушкина (да и Гоголя тоже), и она всегда маячит рядом с именем поэта. Возникает немалая ирония, когда рассказчик небрежно замечает о посредственных людях, вроде Пирогова, что они «любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча» (28). Бедный Пушкин: он оказался окруженным своими гонителями. Столь же неуместно упоминание имени Пушкина в записках Поприщина, который приписывает поэту никчемные стишки, принадлежащие забытому автору XVIII века.
Имя Пушкина возникает, конечно, неслучайно, и игра аллюзий увлекает нас к иному смысловому слою, который указывает внимательному читателю, что «Петербургские повести» являются поистине литературным и художественным манифестом. Автор «Медного всадника» возникает — опять-таки, совершенно симметричным образом — и в конце первой части «Портрета», и в конце его второй части. Когда Чартков в приступе безумия начинал крушить картины, которые он покупал с этой единственной целью, то «казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин» (100). И что же делает демон, давший свое имя стихотворению Пушкина? Он учит молодого романтического поэта, что красота — всего лишь мечты (мы узнаем здесь жестокий опыт Пискарева). В конце второй части Пушкин возникает вновь, на сей раз в виде скрытой цитаты, когда говорится о полотне, написанном автором дьявольского портрета после очистительной аскезы и изображающем «рождество Иисуса». В этом отрывке описан «глубокий разум в очах божественного младенца» (117), над которым склоняется Богоматерь. Выражение взято из сонета Пушкина «Мадонна» (1830 г.), где говорится о знаменитой Мадонне Перуджино.
В линии, протянутой от демона (зажигавшего фонари в «Невском проспекте») к Мадонне, понемногу вырисовывается разговор об искусстве, тонкая разработка которого ведет очень далеко. В нашем цикле есть три портрета Мадонны: Санта Мариа деи Бьянки в Пьеве — с ней Пискарев сравнивает незнакомку, которой он увлечется; Богоматерь кисти иконописца, аскезой преодолевшего дьявольское начало, которое может проникнуть в произведение искусства и которое проникло, силой гения этого художника, в злополучный портрет; и, наконец, Аннунциата, земная Мадонна, воплощение античной красоты, которую уже нет надобности воплощать. Это абсолютный ответ смешной Психее Чарткова, который уступил лжи льстивого изображения модели, рисуя портрет прыщавой столичной дурочки. И лишь в Риме будет побеждена эта ложь, порожденная городом с первой же повести цикла. Появление Вечного города, впрочем, уже было подготовлено: именно там была написана картина, потрясшая Чарткова и открывшая ему глаза.
О чем же хотел сказать Гоголь? За пределами рассказанных историй, которые то неприхотливы, то невероятны, за пределами стилистической виртуозности, которая отодвигает эти истории на задний план, мы находим настоящий художественный манифест, применимый и к живописи, и к литературе, и основание его надо искать в искусстве религиозном. Недаром столь значительное место отводится в «Портрете» великим мастерам Возрождения с Рафаэлем во главе: уж они-то умели видеть.
Мы то и дело возвращаемся к проблеме видения. Перечитывая повести, поражаешься, насколько вездесуща эта тема. Все плохо видят, и не только исторгнутый болотами петербургский туман тому причиной. У Пискарева, который не смог разглядеть, что перед ним проститутка, а вовсе не Мадонна, проблемы зрения еще усилятся после принятия опиума; Петрович, пресловутый портной, крив; Акакий Акакиевич видит плохо из-за бесконечного переписывания бумаг; квартальный надзиратель, перехвативший нос при его попытке удрать за границу, совершенно близорук Все это проделки дьявола, того демона, вызванного к жизни Пушкиным который «показывает все не в настоящем виде». Таким образом, поставленный вопрос — это вопрос представления действительности и, a posteriori, истины в искусстве. Представляя рассыпавшийся мир, Гоголь показывает бессилие реалистического искусства, бессмысленность скопления элементов, ничем не связанных: в таком контексте сами по себе глаза могут стать дьявольскими («Портрет»). Чтобы преодолеть эту раздробленность, Гоголь покидает Петербург — не только в сборнике повестей, но и в действительности (с 1836 года он живет за границей). Он едет именно в Рим, место добровольной ссылки своего друга, художника Александра Иванова, работавшего в то время над знаменитым полотном «Явление Христа народу». В Рим, о котором Гоголь говорил в одном из писем, что это «родина <его> души»[566], он отправится на поиски сути религиозного искусства, где светится «глубокий разум в очах божественного младенца».
Мудрость романа
М. Кундера пишет, что «великие романы всегда несколько умнее чем их авторы»: должно быть, есть некая «мудрость романа», «надличностная мудрость», которую навевает романисту «иной голос»[567]. Несомненно, этот самый голос нашептал Гоголю композицию третьего тома его сочинений. Можно ли сказать, что «Петербургские повести» — это главы единого романа? Или единой «поэмы», согласно определению, данному самим писателем «Мертвым душам» (законченным одновременно с «Шинелью»; Гоголь пишет их на той же бумаге, что и «Рим»… и в Риме)? Такой взгляд вполне возможен. Во всяком случае, в структуре сборника есть особая «мудрость», голос, который должен быть слышен внимательному читателю.
Достоевскому, одному из лучших читателей своего знаменитого предшественника, приписывают слова: «Все мы вышли из гоголевской шинели», — той самой «Шинели», которая занимает центральное положение в зеркальной структуре цикла. Конечно, Достоевский слышал этот голос. Факт тем более замечателен, что критики социологической направленности, и первый их представитель Белинский, авторитет которого признавался почти безоговорочно, сводили творчество писателя к обвинению режима. Будучи «реалистом», Гоголь показывал, по Белинскому, самые неприглядные стороны самодержавия. «Мертвые души» приветствуются критиком как обвинение крепостничества. Эта мысль была затем механически подхвачена так называемой «радикальной» критикой XIX века, а позднее и советской. В том же духе о «Шинели» будут говорить, что она направлена против мощной административной машины Николая I, безжалостно давящей «маленького человека». Чего только не прочтешь о знаменитой фразе, которую произносит Акакий Акакиевич в ответ на насмешки коллег: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» (123). Эта фраза, произнесенная тоном, в котором «слышалось что-то такое преклоняющее на жалость», что недавно поступивший на службу чиновник услышал в ней: «Я брат твой» (123–124), по мнению критика, была криком протеста, выражением той «гуманности», которую Белинский призывал в литературу и которую видел у Гоголя. Какое разочарование постигло его, когда в 1847 году, вместо ожидаемой всеми второй части «Мертвых душ», Гоголь публикует то, что считал своим великим поучительным произведением, «Выбранные места из переписки с друзьями». Возмущенный Белинский увидит в этом сборнике писем лишь мешанину из проповедей «curé du village»[568], защитника патриархальных порядков, угодных Богу и самодержавию. Это было предательством, и Белинский в письме, которое получит большое хождение в политических и литературных кругах, призовет Гоголя порадоваться «вместе <с ним> падению <его> книги»[569], этого «тяжкого греха», который он мог бы «искупить новыми творениями, которые бы напомнили <его> прежние»[570].
Белинский хорошо понимал необходимость перемен в России, но был глух к «мудрости романа». Эта глухота подчас побуждала его говорить нелепости. Например, он упрекал «Портрет» в фантастичности: здравая идея, состоявшая в представлении «даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностию к деньгам и обоянием мелкой известности», была испорчена, по Белинскому, недостатком простоты, что растворило повесть в «фантастических затеях». Если бы его повествование было основано на «ежедневной действительности», «тогда Гоголь с своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета <…>; не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что поэт почел столь нужным, именно от того, что отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство» (323–324). Представим: следовало написать «Портрет» без фантастических деталей, без ростовщика и даже без самого портрета! Убогость этих рас-суждений впечатляет, когда думаешь об эстетическом значении гоголевского цикла повестей.
Белинский не понял религиозного измерения творчества Гоголя, не понял он и его пародийного измерения, и тем самым всего, что составляло новизну его произведений. Такое политизированное прочтение Гоголя укоренилось надолго. Нужно было дождаться начала XX века, чтобы непредвзято пересмотреть его творчество и оценить его с художественной точки зрения. Формалист Эйхенбаум — ограничимся только его оценкой — предложил новый подход в знаменитой статье с программным названием: «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (1924). Автор призвал перестать утверждать, что содержание повести сосредоточивается в крике отчаяния Акакия Акакиевича («Зачем вы меня обижаете?»), и предложил прочтение, выявлявшее истинную фактуру повести как следствие ее стилистических характеристик и тем самым истинный ее смысл. Эйхенбаум показал, что «Шинель» построена на двух «композиционных слоях»: один комический, основанный на мимической артикуляции (как незабываемая генеалогия героя), другой — на патетической декламации, как знаменитая фраза, на которой и сосредоточился социологический подход («Я брат твой»). Если рассматривать лишь первый слой, «Шинель» сводится к комическому сказу; если же замечать лишь второй, мы попадаем в ловушку так называемой гоголевской «гуманности». И в обоих случаях фантастический финал повести (появление призрака-мстителя Акакия Акакиевича) остается необъяснимым. Эти слои выявляют смысл текста, только если мы видим их в совокупности, если замечаем их чередование и контраст: каждый из слоев глубоко изменяет смысл повести, рассматриваемой лишь в одном из них (так бурлескное приключение Пирогова меняет патетический тон рассказанного перед тем приключения Пискарева). Несомненно, что к тому и стремился Гоголь, ведь по его черновикам мы видим, что «патетическая декламация» была добавлена к первому — комическому — слою лишь позднее. Отсюда и происходит то «гротескное» действие, что лежит в основании гоголевского приема, в котором «мимика смеха сменяется мимикой скорби»[571].
Тот же тип анализа уместен для всего цикла. Правда, лишь в позднейшее время, при подготовке издания 1842 года, Гоголь выстроил единый текст, порождавший новый расширенный смысл, до тех пор скрытый, и смысл этот призывал a posteriori к новому прочтению каждой повести. Предложенное прочтение подтверждает, как нам кажется, новаторство писательской манеры Гоголя: пародийное разрушение жанровых канонов; значащая структура; обрывы повествования; обнажение используемых приемов; стилизованный повествовательный дискурс; разбухание описаний; автокомментарии и т. д. Эти методы принадлежат к числу тех, что XX век поместит в центр своей эстетики. Новое прочтение делает мучительно ощутимым распад действительности, что превращает гоголевский персонаж в предшественника «человека абсурда» XX века, одинокого в раздробленном мире; оно выявляет и религиозный аспект этого (безнадежного) призыва к трансцендентности искусства. Последнее тоже несет в себе новизну.
Гоголь не был борцом. Не был он и curé du village. Не был забавником. Он был писателем, то есть тем, кто вкладывает в свои произведения единое смысловое Целое, а если этого не происходит, то сжигает рукопись. Что Гоголь и сделал со второй частью «Мертвых душ». И вскоре после этого умер.
V. ОСВОБОЖДЕННОЕ СЛОВО, СВОБОДНОЕ СЛОВО
О зеркальной структуре повести «Дьяволиада» Михаила Булгакова[*]
«Абсолютная ценность этой вещи <…> — уж очень какой-то бездумной — не так велика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ» — таким был отзыв Е. А. Замятина на появившуюся в 1924 году в альманахе «Недра» (кн. 4) небольшую повесть М. М. Булгакова «Дьяволиада»[573]. Время покажет, что писатель не ошибался, говоря о творческих возможностях Булгакова, однако его оценка произведения представляется слишком суровой, а общепринятое мнение, согласно которому эта повесть неудачна, — спорным. В. Я. Лакшин, отмечая, что «пусть повесть в целом не удалась», тем не менее писал, что «у серьезного автора ничего напрасным не бывает»[574], поэтому необходимо по-новому взглянуть на «Дьяволиаду», тем более что исторически она является первым камнем того громадного сооружения, которым станет «Мастер и Маргарита»[575]. Разбор «Дьяволиады» представляется интересным еще и потому, что о ней было написано довольно мало. Фактически лишь Ф. Левин отводит ему важное место в исследовании гротеска в прозе Булгакова[576]. Обычно «Дьяволиада» воспринимается как сатира на новоявленную советскую бюрократию, написанная в традициях Гоголя и Достоевского, а ее главный герой Коротков — как потомок Акакия Акакиевича и Голядкина. Все это так, однако, перечитывая повесть, можно заметить, что Коротков — жертва не только мелких тиранов, опирающихся на громоздкую административную машину, но и раздвоения, толкающего его к безумию и делающего его фигурой трагической (несмотря на то, что сама повесть остается произведением комическим), и что раздвоение прекрасно окаймлено самой структурой текста.
Безусловно, «Дьяволиада» представляет собой некие вариации на тему двойников, хотя, и это следует подчеркнуть, собственно двойников в произведении нет. Читатель уже подзаголовком («Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя») извещается о том, что Кальсонеры — близнецы. Следовательно, безбородый — двойник бородатого только в воображении героя, дающего событиям неправильную интерпретацию. Коротков, как и герой «Отчаяния» Набокова, сам себя вводит в заблуждение. Не подлежит сомнению, что сам автор и не пытается сбить читателя с толку: всему можно найти рациональное объяснение, и лишь неспособность Короткова разумно мыслить превращает реальность в кошмар. Именно он, и только он один, видит в появлении бородача и изменении голоса («Голос тоже привязной»[577]) дьявольский фокус. Он же отказывается понять секретаршу Яна Собесского, говорящую об «этих ужасных Кальсонерах» (29).
Однако в «Дьяволиаде» тема раздвоения повторяется и разрабатывается в различных видоизменениях, и почти всем элементам произведения, в первую очередь персонажам, находится пара, например: Кальсонер / его «Двойник»; Коротков / Колобков; томная красавица, преградившая дорогу герою / секретарша-обольстительница (гл. 5/9); высокая старуха в наколке / коричневая баба с пустыми ведрами (гл. 5/7); двое мальчишек (гл. 5/11); в этот перечень по фонетическим (под ударением — звук «ы») и семантическим (лысина / дырка) причинам условно можно включить пару Лысый/Дыркин (гл. 3/10).
Кроме того, большое число событий, мотивов и отдельных деталей, встречающихся в первой половине повести, повторяется при несколько измененных обстоятельствах во второй. Так, например, в конце 2-й главы Короткову снится «огромный бильярдный шар на ножках» (10), и именно бильярдными шарами он будет в последней главе защищаться от преследующей его толпы; в 4-й главе вскользь упоминается об органе, и название центральной главы повести — «Орган и кот» (гл. 7); в той же 4-й главе «Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы» (16), а в последней главе Кальсонер выкатывается на крышу на роликах и пытается схватить Короткова; следует также отметить два превращения Кальсонера, сначала в кота-оборотня (гл. 7), затем в петуха (гл. 10); два сна Короткова (гл. 2/8); появляющуюся дважды тему ареста: в разговоре с серым и мрачным человеком в 5-й главе и с розовым и толстым в 10-й; и несколько постоянно возвращающихся мотивов, главным из которых, определяя саму структуру текста, является мотив зеркала (гл. 2, 4, 5, 10, 11). Наиболее ярким примером такой «симметризации» повести служат, безусловно, две пьяные ночи, дающие названия главам 6 и 8 (собственно: «Первая ночь» и «Вторая ночь»). Вышеупомянутые главы позволяют выделить обрамляющую структуру текста: 7-я глава, окаймленная двумя ночами, занимает в повести центральное место (об этом речь пойдет ниже). Наконец, рассматривая систему двоичных повторений, задающих ритм всему произведению, необходимо упомянуть о 5-й и 9-й главах. И в той и в другой появляется отвратительный старичок-стукач, говорится о пропавших документах, секретарях и стуке печатных машинок, на пути героя возникает женщина, пытающаяся задержать и соблазнить его, описывается странный лифт, который, заглатывая людей, увлекает их в пропасть, «в клетчатую бездну» (18), ту самую, которая фигурирует в названии последней главы. В 5-й главе Коротков впервые как личность испытывает на себе прямое давление канцелярского мира. Его не только перепутали, судя по всему, из-за похожего звучания фамилий и одинаковых инициалов с неким В. П. Колобковым, но, главное, вычеркнули его фамилию из списков («…я вас уже вычеркнул», говорит люстриновый старичок; 19), подписав ему тем самым приговор: Короткова больше не существует. Эта тематика находит свое развитие в конце главы, когда герой пытается объяснить тупому швейцару, что он и есть Коротков:
— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы… Все до единого… Меня забрать могут…
— И очень просто, — подтвердил человек на крыльце.
— Так вот позвольте…
— Пущай Коротков самолично и придет.
— Так я же, товарищ, Коротков.
— Удостоверение дай.
Происходит то же, что и в «Мастере и Маргарите», когда Коровьев говорит Мастеру, сжигая его бумаги: «Нет документа, нет и человека»[578]. Начиная с этого момента борьба Короткова состоит в том, чтобы вернуть себе имя, то есть свою личность. Так, в парной 5/9-й главе на предложение брюнетки отдаться ему герой отвечает, что ему «не надо», так как «у <него> украли документы» (33), а в следующей главе он объявляет, заходясь в сатаническом хохоте: «…я неизвестно кто <…>. Ни арестовать, ни женить меня нельзя» (36). На данном этапе развития повести Коротков побежден.
Не останавливаясь здесь подробно на значении, которое придается в «Дьяволиаде» процессу писания, отметим лишь постоянное присутствие в тексте печатных машинок. В 5-й главе, несмотря на их невыносимый стук, сцена в целом остается обыденной:
В третьем <отделении> царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых мелкозубых женщин. <…> Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, — женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было.
В 9-й главе машинок уже тридцать, и то, что представляется читательскому взору, — ужасно:
<Блондин> махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.
При внимательном прочтении «Дьяволиады» читатель постепенно начинает понимать, что с характерной для повести игрой зеркал во второй половине текста всегда можно найти отблеск (хотя и деформированный) сцены, имевшей место в первой части. Деформированный — поскольку к этому времени Коротков уже утратил рассудок, вследствие чего простой «дьявольский фокус» оборачивается «машинной жутью» (название, соответственно, 5-й и 9-й глав). Таким же образом первой пьяной ночи (гл. 6), тревожной и мятежной, но остающейся все же бытовой, соответствует ночь безропотного сумасшествия (гл. 8), кинематографически передаваемого завершающим эту главу экспрессионистским портретом Короткова: «Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы» (32).
Очевидно, что 5-я и 9-я главы формируют собой некое симметричное целое: они обрамляют главы 6 и 8, обрамляющие, в свою очередь, главу 7, о которой, в связи с ее центральным положением в тексте, нужно говорить отдельно. Если приложить данную схему к 4-й и 10-й главам, можно заметить, что игра зеркал продолжается и в них и что на этот раз речь идет действительно о зеркале. В 4-й главе, узнав о своем увольнении и решив объясниться, Коротков «…кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах…» (31). Эта сцена находится в первой половине повести, и деформация, которой подвергается отражение героя, может быть объяснена рационально. Напротив, 10-я глава, идущая вслед за нервным припадком героя и отмеченная бесповоротным переходом последнего в мир безумия, начинается следующими словами: «Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль» (36). Целостность утрачена навсегда. В дальнейшем герой будет говорить о себе во множественном числе (а о Кальсонере — в единственном!): «…нам теперь уже все равно» (37), «Кальсонера <…> атакуем…» (40). В последний раз Коротков увидит своего «двойника» тогда, когда, взбежав в «зеркальное пространство вестибюля» (39) и «вонзившись в коробку <очередного! — Ж.-Ф. Ж.> лифта» (40), он сядет «напротив другого Короткова» (40). Пространство переворачивается, и лифт уже не спускается в бездну, а поднимается, увозя героя туда, где он покончит жизнь самоубийством.
Все вышесказанное дает право считать, что повесть может быть разделена на три части, укладывающиеся в схему 5.

В первой части, включающей в себя четыре первых главы, основное внимание сосредоточено на работе секретариата Спимата, то есть на быте. Безусловно, быт, характерной чертой которого является жалованье, выданное спичками или церковным вином, — абсурден, однако им все-таки управляют некоторые законы, что делает его приемлемым. Две первых главы играют роль вступления. Появление нового начальника (гл. 3), в описании которого нарочито повторяется прилагательное «неизвестный», вносит дестабилизирующий элемент, дающий толчок к развитию сюжета в сторону фантастики. Первая часть заканчивается увольнением Короткова (гл. 4): сходя с кругового маршрута «дом-Спимат-дом», герой попадает в новое для него пространство, которое он не в силах освоить. Начинается вторая часть (гл. 5–9), дьяволиада в прямом смысле слова, как на то указывает уже название 5-й главы — «Дьявольский фокус». И наконец, третья часть, состоящая из двух последних глав, то есть безумие. Дьяволиада завершена, и раздвоившийся Коротков в последнем никчемном порыве к восстанию решительно бросается навстречу своей смерти. Читатель вновь попадает в мир бюрократии, однако мир этот радикально изменился. В начале повести, несмотря на сдвиг реальности в сторону фантастики, постоянно присутствовала та или иная отсылавшая к быту деталь. Превращению Кальсонера-первого в Кальсонера второго или даже в кота можно было все-таки найти рациональное объяснение. В отличие от этого, события 9-й главы, например появление секретаря Сергея Николаевича, развертывающегося как рулон из ящика стола, выходят за рамки рационального понимания. Реальность перестает быть осязаемой, все лишь мираж и оптический обман, о чем свидетельствуют уже фамилии появляющихся здесь персонажей — Дыркин («дыра») и Пузырев («пузырь»).
Следующим признаком деформации реальности служит распад категории времени. В первых главах временные величины указаны с необычной точностью: действие начинается в 11 часов 20 сентября 1921 года, продолжается во 2-й главе «через три дня», в 3-й — «на следующее утро» и в 4-й — снова «на следующее утро». В 5-й и 6-й главах (начало дьяволиады) время все более и более растягивается, поскольку в них описывается все тот же день, что и в предыдущей 4-й главе. Центральная 7-я глава начинается с указания времени («В десять часов следующего дня…»; 23), однако оно будет последним. Прибыв на место работы, Коротков спрашивает себя, «…какое сегодня число?» — и сам себе отвечает: «Вторник, т. е. пятница. Тысяча девятьсот» (24). А чуть дальше герой пытается восстановить временные связи и с их помощью получить доказательство своего бытия:
Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий номер 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на пэ, и пятница на пэ, и воскресенье… воскресс… на эс, как и среда…
Ночью (гл. 8) временное отношения и вовсе разлаживаются: слышно, как часы пробили сорок ударов. 9-я глава открывается такими словами: «Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно» (32). Вероятнее всего, речь идет о следующем дне, однако точного временного указания нет. Важно отметить, что временные связи нарушаются именно тогда, когда герой превращается в обессиленное существо (не он встречает осенний день, а осенний день его), и происходит это в главе, занимающей центральное место в структуре повествования.
Аналогичный процесс происходит и с пространством. В первой части повести действие разворачивается в Спимате, дома и в Центроснабе. 7-я глава начинается как обычно: Коротков идет в Спимат. Позже, бросаясь на поиски Кальсонера, он едет пять минут на трамвае — ровно столько, сколько ему потребовалось в 5-й главе, чтобы добраться до Центроснаба (17), однако оказывается не у серого дома, в котором располагается данное учреждение, а перед «девятиэтажным зеленым зданием» (27). Последним пространственным ориентиром для читателя станет ресторан, на вывеске которого, сообразуясь с логикой безумия, латинскими буквами будет написано следующее: «Restoran i pivo» (39).
В процессе анализа «Дьяволиады» приходится постоянно возвращаться к 7-й главе, поскольку она является переломным пунктом в развитии повествования, что определяется не только наметившимся в ней переходом от каждодневного быта к безумию, но и постепенным поворотом от описанного к зримому, от литературы к кинематографу, происходящим на фоне смены старой эпохи новой. Проблема конституирования личности Короткова, являющаяся основной темой повести, сводится в начале к поискам пропавшего документа, то есть клочка бумаги. В середине 7-й главы Кальсонер выдает герою удостоверение, в котором значится следующее: «Предъявитель сего суть действительно помощник т. Василий Петрович Колобков, что действительно верно. Кальсонер» (25). Простой замены двух согласных звуков достаточно для того, чтобы лишить Короткова доказательств его бытия, однако безвозвратная потеря собственного «я» произойдет позже, и на этот раз зримо: «Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины <лифта. — Ж.-Ф. Ж.> и вышел один в прохладный вестибюль» (36). «Параграф первый» приказа (гл. 4), в котором говорится об увольнении Короткова, — из области письма; вторая половина названия главы — «Коротков вылетел» — разговорная метафора, то есть языковой прием; а в конце повести читатель вступает в область кинематографа, о чем свидетельствует название последней главы — «Парфорсное кино». Метафора реализуется: Коротков снова вылетел, только на сей раз буквально — с крыши. Продолжая анализировать текст в этом направлении, можно прийти к выводу, что все сосредоточено на дихотомии старое / новое, символом первого становится литература, второго — кинематограф. И снова приходится говорить о 7-й главе.
Эта глава, ядро центральной части текста, — особенная. Во-первых, она намного длиннее всех остальных. Во-вторых, именно в ней пространственно-временные ориентиры становятся менее заметными, а Коротков теряет себя и свое имя. Неровный, но быстрый темп повествования замедляется по мере того, как действие приближается к абсолютно неожиданной и, в некотором роде, стоящей в стороне сцене с Яном Собесским, то есть к центру главы. В-третьих, здесь же автором вводятся некоторые автобиографические элементы, позволяющие затронуть тему литературы. Как известно, речь идет о реминисценциях нескольких месяцев службы Булгакова в Лито Главполитпросвета, красочно описанных в «Записках на манжетах»[579]. Итак, в центре центральной главы центральной части (здесь неизбежна эта тавтология) «Дьяволиады» переплелись автобиографический элемент, литературная деятельность, литературный быт и прошлое, в несколько гротескной манере воскрешаемое деформированной фамилией польского национального героя XVII века Яна Собесского и «прекрасной атласной мебелью Луи Каторз» (29).
Таким образом, яснее становится смысл повести: в «Дьяволи-аде» Булгаков не только рассказывает читателю историю «маленького человека», проглоченного безумной административной машиной, и повествует, прибегая к гротеску, о раздвоении личности. Он рисует картину шизофрении целой эпохи, спокойно наблюдающей за тем, как в Центроснабе рядом с надписью на отошедшем в предание и загадочном для героя повести языке «Дортуаръ пепиньерокъ» появляется варварское «Начканцуправделснаб» без твердого знака. Эпохи, сообразуясь с которой претерпевают изменения как фамилии, так и личности, собственное «я» ее современников. Следовательно, большое значение приобретает игра слов; Кальсонер становится кальсонами, Коротков — Колобковым, поэтому вполне логично, что Ян Собесский, не довольствуясь и без того соответствующим новой эпохе звучанием своей фамилии, вызывающей ассоциации с аббревиатурой «собес» — социальное обеспечение, берет себе новую:
…Вы не подумайте, товарищ, что имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно.
Предшественник Шарика, перевоплощающегося в Шарикова в «Собачьем сердце», Собесский становится «Соц», приспосабливаясь тем самым к современной ему политической действительности. Знаменательно, что описываемая сцена расположена в самом сердце повести, поскольку в ней автор размышляет не только о месте человека и литературы в новой эпохе, но и, вводя автобиографический элемент, о своем собственном месте и о месте своего творчества в ней.
Как видно, «Дьяволиада» богаче, чем кажется на первый взгляд. Анализ этого текста не ограничивается изложенными в данной статье наблюдениями. Очень плодотворным может оказаться сопоставление повести с романом «Мастер и Маргарита», в котором разворачиваются многие ее мотивы, и прежде всего мотив присутствия дьявола. Перечислим некоторые другие: описание момента смерти (Берлиоза и Короткова) как перехода от света к мраку; безумные погони (см., например, 4-ю главу романа, в которой, так же как и в повести, появляется страшный кот); описание лабиринта МАССОЛИТа (гл. 5), напоминающего Центроснаб; связь между шизофренией и алкоголем (гл. 6); долгий тяжелый сон (гл. 8); цифра 302 (дом № 302 бис на Садовой в романе и бюро претензий в повести); уже упомянутая неразрывная связь между удостоверяющими личность документами и существованием человека; превращение человека в животное (Николая Ивановича в борова и Кальсонера в кота и петуха); наличие в обоих произведениях сцен, в которых очаровательная женщина пытается соблазнить испуганного мужчину; тема полета (Маргариты и старичка); перемещение Лиходеева в Ялту (гл. 7) и попытка отправить Короткова в Полтаву или в Иркутск (гл. 9); тема сатанических денег (валюта в «Мастере и Маргарите» и спички в «Дьяволиаде»); проблема имени в связи с личностью (у Мастера имя потеряно); разлад категории времени (на балу Воланд немного задерживает полночь) и т. д.
Неудивительно, что в обоих произведениях логическим разрешением раздвоения героя является его смерть. Неудивительно также, что в романе, как и в повести, время «бредит», что оба текста построены на дихотомии двух эпох и, наконец, что тема литературы (и, в частности, литературной деятельности самого Булгакова) занимает в них обоих центральное место. Все вышесказанное дает возможность утверждать, что «Дьяволиаду» и «Мастера и Маргариту» связывает не только общая тематика и отдельные повторяющиеся мотивы, но и обрамляющая зеркальная структура, основой которой является письмо.
Возвращаясь к рецензии Замятина, открывающей нашу статью, можно отметить, что писатель недооценивал именно этот аспект повести, говоря, что к ней можно приложить термин кино, «тем более что вся повесть плоская, двухмерная, все — на поверхности, и никакой, даже вершковой, глубины сцены — нет»[580]. Действительно, на уровне простого описания действий героев «Дьяволиада» — кинематографическая лента, однако, благодаря использованию достаточно элементарного приема зеркального обрамления, который станет в «Мастере и Маргарите» грандиозным mise еп abyme (роман в основном рассказывает о самом себе), в ней достигается удивительная глубина и смысловая множественность.
Чистота, пустота, ассенизация: авангард и власть[*]
Недавно И. И. Кабаков заявил, что «чистота никогда окончательно не побеждает, а грязь и мусор продолжают оставаться постоянным фактором нашей жизни. Это особенно характерно для нашей русской жизни». Художник добавляет: «Мусор у нас — это синоним существования, поскольку нет никакого смысла что-то расчищать и строить, если все превратится в мусор»[582]. Эти слова Кабакова не только содержат обычную для художника долю провокации, но и являются также выражением постоянного вопроса, который восходит к источникам русской культуры XX века, и в частности — авангарда.
Поразительно, насколько «чистота» и противоположная ей «нечистота», так или иначе, постоянно присутствуют в размышлениях представителей авангарда. Но также поразительно и то, насколько она стоит в центре идеологии советского строя. В двуполярном мире, который возник в 1917 году, почти сразу понятие «чистота» стало эквивалентом понятия «добро», так же, впрочем, как это происходит в любой религиозной системе. Отнюдь не случайно, что одной из самых существенных проблем, которую революция встретила на своем пути, оказалась религия, и, парадоксальным образом, именно эта проблема нашла свое решение с молниеносной быстротой. Вероятно, это объясняется отчасти тем, что место укорененного давным-давно, во всяком случае со времен «Домостроя», понятия «чистая совесть» (то есть «чистое сознание»), которое сопровождает чистоту дома и вообще гигиену жизни, — это место почти моментально занял тоталитарный вариант этой парадигмы, основанный на том же корне (чист), на котором основано, например, слово «чистка». Мир надо было очистить от мусора, и за это взялись с самого начала: известны карикатуры-лозунги «Ленин очищает землю от нечисти», где огромный Владимир Ильич со шваброй в руках очищает маленький земной шар от всякого мусора, то есть от проклятых буржуев, попов, генералов и др. Известны и стихи Маяковского:
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города[583].
Ту же идею мы найдем через десять лет накануне самоубийства поэта, когда он пишет пьесу «Баня» (это баня, которая «моет (просто стирает) бюрократов»[584]), в знаменитых стихах из неоконченной поэмы «Во весь голос» (1928–1930):
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный[585].
Стремление к чистоте равно стремлению к добру. Тогда, конечно, все, что мешает в этом стремлении, становится эквивалентом грязи, мусора. Показательно, что стражи идеологии нередко употребляли эту метафору в борьбе против инакомыслия. В знаменитом письме Правительству СССР от 28 марта 1930 года М. Булгаков отмечает, что о нем писали как о «литературном УБОРЩИКЕ», подбирающем объедки после того, как «НАБЛЕВАЛА дюжина гостей», или как о писателе, который «В ЗАЛЕЖАЛОМ МУСОРЕ шарит»[586]. Все помнят, как Д. И. Заславский в «Правде» (27 октября 1958 года) написал о «Шумихе реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» после выхода в свет «Доктора Живаго», тогда как председатель КГБ В. Е. Семичастный сравнил Б. Л. Пастернака со свиньей, которая гадит там, где ест[587]. М. А. Шолохов в качестве великого ассенизатора советской литературы объяснит позже писателям, которые написали письмо в Президиум XXIII съезда КПСС в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, что «клевета — не критика, а грязь из лужи»[588]. Таких примеров ругательств, включающих в себя идею нечистоты обвиняемого, к сожалению, много в истории советской литературы.
Как сказано, вопрос о «чистом / нечистом» связан с проблемами морально-религиозного, а в данном контексте и политического характера. Но он связан и с проблемами эстетического характера. В русском авангарде он стоит даже в центре эстетических систем его главных представителей. И потому изучение этого вопроса позволяет показать, как вокруг него столкнулись две мощные системы, и объяснить, почему, во-первых, авангард потерпел поражение именно тогда, когда власть стала насильственно «очищать», но и, во-вторых, почему он сразу воскрес, как только насилие и «ассенизаторы» исчезли.
Исторический авангард и чистота
Как мы вскоре убедимся, авангарду была свойственна по отношению к этой тематике амбивалентность, безусловно объяснимая, но загнавшая его в такой тупик, из которого он не мог (или не знал как) выбраться. Нет нужды останавливаться на причинах, по которым это произошло. Для нас важно выделить некоторые черты, позволяющие при анализе этой амбивалентности на ряде показательных примеров выявить точку пересечения порожденных авангардом различных систем, даже если эти системы представляются на первый взгляд не имеющими ничего общего. Для этого нужно уточнить еще один момент. Речь идет о необходимости рассматривать категории «чистого» и «нечистого» (равно как и понятия, имеющие отношение к этим двум полюсам) не как две соперничающие парадигмы, а как составные единой парадигмы, выявляющейся то со знаком «+», то со знаком «—», что предполагает возможность каких угодно инверсий и поворотов.
Отнюдь не второстепенное противоречие авангарда состоит в том, что, наряду с (подчас даже агрессивным) культом уродства, ошибки, нечистоты обыденной жизни, он развивал приемы, ставившие целью посредством истинной или предполагаемой чистоты разработанных им различных художественных форм выработать обобщенное восприятие мира и найти для этого восприятия соответствующее художественное выражение. В действительности же, как мы далее сможем убедиться, это противоречие кажущееся, ибо все проистекало из общего желания постичь за рамками новой эстетики смысл мира, который должен был единой формулой охватить оба знака парадигмы: положительный и отрицательный. Если обратиться к таким двум эмблематическим фигурам исторического авангарда, как Крученых и Малевич, разрабатывавшим совершенно разные (во всяком случае, на первый взгляд) художественные приемы, то замечаешь, что оба исходили из того же замысла и достигли, как им казалось, в общем схожих результатов.
В «Новых путях слова» (1913) Крученых, излагая футуристическую программу, ставит во главу угла использование всевозможных неправильностей и ошибок (синтаксических, грамматических, семантических, лексических):
Наша цель подчеркнуть важное значение для искусства всех резкостей, несогласов (диссонансов) и чисто первобытной грубости[589].
Конечно, нужно понимать эти слова как отказ от обращенной в прошлое эстетики предшественников (в том числе символистов с их «сливочной тянучкой»[590]) и рассматривать их в контексте постоянной провокационности, характерной для первых манифестов. Но более того: неправильность речи была не только антибуржуазным эпатажем, она являла собой подлинный метод, позволявший придать миру перспективу, связанную одновременно и с первобытностью (до вмешательства разума), и с четвертым измерением, понимаемым как измерение искусства («неправильная перспектива дает новое 4-е измерение»[591]). Таким образом, та «чистота», против которой восстает Крученых, в конце концов оказывается лишь искусственной правильностью, выдуманной теми, кто всегда подчинял язык поэзии внепоэтической норме, идет ли речь о гражданских мотивах XIX столетия или о метафизических Серебряного века. До футуристов «делалось все, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка, чтобы вылупить из слова плодотворное зерно, оскопить его и пустить по миру как „ясный чистый честный русский язык“, хотя это был уже не язык, а жалкий евнух, неспособный что-нибудь дать миру»[592]. Программа же «беспорядка», предложенная Крученых, входит в более широкий замысел, который заключается в том, чтобы дать «движение и новое восприятие мира», и поэтому: «чем больше беспорядка, тем лучше»[593].
Если мы внимательно перечитаем манифесты и сочинения футуристов и попытаемся рассмотреть их в плане нашей темы, то заметим, что у футуристов в действительности было два типа чистоты. Первая из них — дурная чистота, чистота их предшественников во главе с символистами, то есть чистота, выставляющая себя напоказ как таковую и являющаяся на самом деле лишь нормативным выражением так называемого Прекрасного, выдуманного и давно устаревшего. Другая же чистота — хорошая, правильная — лежит в основе нового художественного языка: свободного, «звездного», «заумного» и т. п. Беспорядок, о котором говорит Крученых, это, по сути дела, беспорядок, что с грохотом ворвался в самую сердцевину той условной чистоты, которая в конечном итоге была не чем иным, как одной из разновидностей быта. Этот беспорядок необходим в истинно поэтическом действии в той мере, в какой он творит смысл. К тому же Хлебников в программной статье «Наша основа» (1919) отчетливо использует слово «чистый» в противовес слову «бытовой» (в связи с понятием «самовитого» слова):
Слово делится на чистое и на бытовое. <…> Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли[594].
Итак, носителем нечистоты является быт. Что касается неправильности речи, к которой во весь голос призывает Крученых, то она является лишь переменой перспективы, которая приведет впоследствии к изначальной («самовитой») чистоте всего мира. Во всяком случае, в «Нашей основе» Хлебников говорит о том же, воспевая опечатку:
Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная неосознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику[595].
Все это позволяет объяснить ту легкость, с которой Крученых сближает «заумь» с супрематической живописью в предисловии к «Вселенской войне» (1916):
Эти наклейки рождены тем же, что и заумный язык — освобождением твори от ненужных удобств (ярая беспредметность). Заумная живопись становится преобладающей. Раньше О. Розанова дала образцы ея, теперь разрабатывают еще несколько художников, в том числе К. Малевич, Пуни и др., дав мало говорящее название: супрематизм.
Но меня радует победа живописи как таковой в пику пропглецам и газетшине <так! — Ж.-Ф. Ж.> итальянцев.
Заумный язык (первым представителем коего являюсь я) подает руку заумной живописи[596].
Только на первый взгляд мало общего между практикой зауми у Крученых, развиваемой в эту пору («Дыр, бул, щыл…»[597]), и опытом художника, почти тогда же пишущего свой «Черный квадрат» и заявляющего: «И вот я пришел к чистым формам цвета»[598]. А квадрат он объявил «первым шагом чистого творчества», добавив затем: «До него были наивные уродства и копии натуры»[599]. Благодаря супрематизму искусство наконец стало свободным в том смысле, что оно обрело собственную реальность, или, повторим еще раз слово поэтов — соратников Малевича, стало «самовитым»:
Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым. Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма.
В искусстве Супрематизма формы будут жить, как и все живые формы натуры[600].
На основании этих примеров можно утверждать, что, хотя с точки зрения художественного воплощения творчество этих двух представителей авангарда имело между собой мало общего, оба они в своей деятельности исходили из одной и той же парадигмы. То, что перед этой парадигмой Крученых ставит знак минус, а Малевич — плюс, не имеет никакого значения. Идет ли речь о работе первого над диссонансами и даже об «анальной эротике», столь характерной для русского языка с его изобилием звука «к» (порождавшим интересные «какальные» сдвиги заумного типа[601]), или о супрематической эпюре второго, в котором свобода художественной формы становилась выражением всего сущего, — цель была одна: достичь такой степени чистоты, которая выходила бы за рамки предмета.
Чистоты представления о предмете можно достичь, только отвлекшись от него. Поэтому абстракция («бес-предметность») становится единственным художественным средством, позволяющим постичь мир в его целостности и бесконечности, а значит, в его чистоте, поскольку не может быть и речи о пределах чистоты как во времени, так и в пространстве. С этой точки зрения всякий предмет становится нечистотой поэтического порядка, поскольку он устанавливает пределы (именно те, которыми ограничен он сам) в том мире, который не должен был бы знать никаких пределов, — мире художественного изображения.
Конец авангарда и пустота
Эта амбивалентность, чтобы не сказать двусмысленность, станет позднее еще более ощутимой, когда авангард в силу внешних (исторических) и внутренних (поэтических и философских) причин, обсуждать которые мы в рамках этой статьи не будем, упрется в ограниченность систем и приемов, им самим выработанных[602]. Всякого, даже не слишком вдумчивого, читателя у Хармса поражает вездесущность грязи, проникающей во все сферы жизни: мусорные ведра, свалки, скопления пыли, плевки, падаль, рвота, крысы и тараканы; к этому следовало бы добавить оскорбления и насилие, которые также суть проявления великого разупорядочения мира. Все эти элементы в некоторой мере даже структурируют прозу писателя второго периода его творческого пути.
Грязь столь же материальна (отбросы), сколь и духовна («грязные мысли»). Она проявляется в поведении персонажей, стилистике, орфографии, структуре текста. Мир есть «симфония», как не без иронии гласит подзаголовок «Начало очень хорошего летнего дня», но симфония нового типа, в которой пьяница Харитон с «расстегнутыми штанами» выкрикивает непристойности перед бабами, стоящими в очереди, мать трет «хорошенькую девочку о кирпичную стену», а мальчишка выкопал в плевательнице «какую-то гадость»[603]. От помоек, где ослепший Абрам Демьянович шарит в поисках пищи и его среди отбросов кусает крыса («История»[604]), до дивана, под которым разлегся и сосет пыль «Катерпиллер» Мишурин («Приключения Катерпиллера»[605]); от империи Александра Вильбердата, где старики, беременные женщины, дети, зародыши и экскременты в равной степени оскорбительны для «мирного населения» и тошнотворны для славного императора («Статья»[606]), и до резни, устроенной маньяком, домогающимся реабилитации и объясняющим, почему он лизал лужи крови и испражнялся на свои жертвы («Реабилитация»[607]), — довольно примеров — все эти тексты Хармса дают образ огромной свалки, которую являет собой буквально отравленный мир, чей «син-фонизм» скорее сродни какофонии[608].
То видение действительности, которое передается прозой Хармса 1930-х годов, основано на собирании всякой мерзости, больших и малых «гадостей», что само по себе не уникально и не ново. Но зато особенно поразительно то, в какой степени этой тематике необходима ей противоположная: у Хармса нечистота всегда подана как отсутствие чистоты, более или менее тяжело переживаемое. Предметный мир пока лишен чистоты, но, очевидно, она должна воцариться, как только этот мир будет приведен в порядок, — тот именно, что является порядком поэтическим (или порядком, чаемым поэтом, но в любом случае сообразным Высшему порядку). Эта мысль очень ярко выражена в письме Хармса к актрисе ТЮЗа К. Пугачевой от 16 октября 1933 года, когда поэт, несмотря на первый арест, еще не впал окончательно в депрессию:
Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. <…>
Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечен этим и только об этом думаю[609].
Поэт, таким образом, выступает в качестве «творца мира» и утверждает, что если он тачает сапог (в качестве метафоры — предмет, сработанный подобно стихотворению), то ему неважно, будет ли тот удобен или прочен. Нужно только, чтобы «в нем был тот же порядок, что и во всем мире; чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от соприкосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы чистым». И Хармс продолжает:
Это та самая чистота, которая пронизывает все искусства. Когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие «качество», а нечто еще более туманное и не понятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна. Это — чистота порядка[610].
Как можно понять из этих строк, нечистоте беспорядка мира поэт противопоставляет чистоту «поэтического порядка», который он вносит в мир.
Мы видели, что у Малевича чистота художественной (беспредметной) формы является условием приближения («интуитивного» приближения) к бесконечности реального мира. Представления Хармса примерно те же, с той лишь разницей, что он — может быть, сильнее, чем кто бы то ни было, — страдал от сознания того, что такой подход, вероятно, невозможен. Он не раз пытался, как и его предшественники, создать некую эффективную систему. То, что он называл «цисфинитной логикой», как раз и предусматривало выражение бесконечности прямой в круге, а бесконечности чисел — в ноле, то есть бесконечности посредством конечной, но совершенной, а значит, и чистой формы[611]. Круг — «наиболее совершенная», самая чистая фигура, и ноль (уже графически) ни в чем ей не уступает. Но Хармс не мог не видеть и не понимать опасности такого хода рассуждений. Там, где Малевич видел в «супрематическом нуле» своего рода ипостась Бога (правда, очень персонального Бога), Хармса вдруг охватил страх пустоты. Да еще, как нарочно, «чистота» рифмуется с «пустота», как отметил поэт в том же 1933 году, когда написано было письмо к Пугачевой:
Чистота близка к пустоте.
* * *
Не смешивай чистоту с пустотой[612].
Очевидно, что у Хармса понятия «чистоты» и «бесконечности» близки до такой степени, что иногда совпадают. А бесконечность не поддается определению, и это делает ее похожей в некотором роде на пустоту. Чтобы ее ухватить, писатель придумал следующий прием. Речь идет о малом несовершенстве, именуемом «небольшой погрешностью» и делающем совершенство ощутимым. Если бы совершенное равновесие, в котором являет себя бесконечность мира, не нарушалось иногда какой-либо нечистотой, то оно оставалось бы недоступным человеку. На это ясно указывает в своих заметках друг Хармса философ Я. Друскин, быть может, более, чем кто-либо, повлиявший на ход рассуждений поэта:
Некоторое равновесие не происходит и не возникает, не нарушается и не восстанавливается. Некоторое равновесие с небольшой погрешностью есть в видимом, в том, что происходит, небольшая погрешность равновесия есть видимость происхождения и времени, но само равновесие не во времени. Я же замечаю его как нарушение и восстановление, я замечаю небольшую погрешность. Оно открывается мне в нарушении, когда же восстанавливается, но только в видимости, потому что само не нарушается и не восстанавливается, но есть, тогда я ничего не вижу. Я наблюдаю восстановление равновесия как пустое, незаполненное время без событий[613].
Нет нужды далее распространяться о понятии «небольшая погрешность»[614], но ввести его в наше рассуждение о «чистом» и «нечистом» — необходимо. Из рассуждений Хармса и его поэтики в целом ясно следует: для того, чтобы увидеть или, лучше говоря, показать бесконечное, необходима именно маленькая «погрешность» (по определению она нечто конечное, то есть — иными словами — ограниченное во времени и в пространстве)[615]. Все это имеет целью еще раз подчеркнуть неразрывную связь между «чистым» и «нечистым». Ибо когда все — грязное, человек объят ужасом, подобным тому метафизическому ужасу, что охватывает его перед бесконечным, то есть когда все — «чистое».
В окружении Хармса лучше всех это сумел выразить философ Леонид Липавский в «Исследовании ужаса»[616], где четко установлена взаимосвязь между ужасом, охватывающим человека при виде некоторых проявлений повседневности (отвращением), и тем ужасом, уже метафизического порядка, что порождается страхом пустоты. Этот философ, утверждающий, что «в основе ужаса лежит омерзение» и что это омерзение «не вызвано ничем практически важным, оно эстетическое»[617], методически исследует объекты, вызывающие отвращение или страх: «грязь, топь, жир, <…>, слизь, слюна (плевание, харканье), кровь, все продукты желез, в том числе семенная жидкость, вообще протоплазма»[618]. Страх перед ними он объясняет как «страх перед однородностью». Однако эта однородность, говорит он, та же самая, что и однородность бесконечного, а бесконечное само описывается как порождающее ужас отсутствие времени. В эссе Липавского описаны не только физические явления, вызывающие определенное отвращение, но также и тот страх, уже по существу — метафизический, что охватывает человека в жаркие полуденные часы, когда кажется, что время остановилось:
В жаркий летний день вы идете по лугу или через редкий лес. Вы идете, не думая ни о чем. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку и косым полетом выпархивают кузнечики из-под носа. День стоит в своей высшей точке.
<…>
Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мертвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом вы замечаете: полет ее неподвижен. Стрекоза хватает мушку и отгрызает ей голову; и обе они, и стрекоза и мошка, совершенно неподвижны. Как же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков. И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни — во веки веков.[619]
Видно, что здесь тот же механизм, и в этом контексте становится трудно отличить то проявление нечистоты, что играет роль «небольшой погрешности» и связано с желанием показать бесконечное, от того, что является лишь обыкновенным проявлением повседневного быта[620].
Таким образом, перед нами то противоречие, которое было изначально присуще системам изображений авангарда и которое, по-видимому, не может найти разрешения. С одной стороны, имеется такая нечистота, загрязненность, которая свойственна быту и не дает ни минуты покоя человеку в его метафизическом стремлении возвыситься до абсолютной чистоты посредством искусства, с другой — маленькая нечистота, «небольшая погрешность», без которой чистота остается непостижимой, как «белый квадрат на белом фоне», когда оба цвета были бы совершенно неразличимы[621].
Это противоречие не было ощутимо в первые годы авангарда, когда заумь или супрематизм могли, казалось, торжествовать победу. Позднее, в тридцатые годы, как это становится ясным из творчества Хармса второй половины его литературной жизни, «небольшая погрешность» становится большой, нечистота (в широком смысле этого слова, включающем все проявления скотства «человеческого стада») охватывает все сферы жизни, включая и область художественного творчества.
Революция и ассенизация
До сих пор мы рассуждали исключительно в терминах эстетических категорий, но в той же степени интересно (принимая во внимание годы, в которые жили рассматриваемые авторы) перевести разговор в идеологический контекст, а стало быть, вернуться к моральному аспекту, часто вкладываемому в понятие чистоты или, говоря более заземленно, чистоплотности.
Если выразить то, о чем мы говорили до сих пор, совершенно схематично, то это будет выглядеть так. Хотя авангарду и не удалось достичь поставленных им перед собой целей — разработать интегрирующие системы восприятия и репрезентации мира (как и раньше, вопрос этот остается спорным), то по крайней мере он сумел выявить обязательное наличие двух противоположных выражений единой парадигмы. Так, всякая положительная величина (+1) воспринимается лишь при условии существования равносильной ей отрицательной величины (—1), причем оба выражения сходятся в одной центральной точке — нуле, совершенном средоточии Вселенной. В соответствии с той же схемой «бесконечное» (= чистота) воспринимается только при условии, что равносильное ему «конечное» (= нечистота, «небольшая погрешность») действует одновременно с ним и что оба объединены единой формой, превосходящей и то и другое и являющейся (по выражению Хармса) «чистотой порядка». Если перенести этот ход рассуждений на сферу морали, то придем к следующему, правда довольно банальному, выводу: не будь Зла, Добро не воспринималось бы. При всей банальности этот вывод ставит под сомнение всякую попытку борьбы со Злом, ставящую целью его окончательное уничтожение, что свойственно каждой «религии» (в широком смысле этого слова, как мы далее увидим) и любой системе морали.
Интересно оценить политическую систему, установившуюся в октябре 1917 года, в свете некоторых размышлений и пронзительной прозорливости Замятина, который первым почувствовал религиозный характер социалистической морали большевистского толка. Назвать творчество Замятина, развивавшееся в атмосфере повальной стандартизации (в том числе и эстетической), еретическим — значит повторить избитую истину. В 1921 году он закончил очерк «Я боюсь» так:
Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если не излечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое[622].
Если рассмотреть эти слова в контексте изложенного выше, то легко понять, что «ересь» Замятина в определенной степени близка диссонансам Крученых, опечаткам Хлебникова, а также «небольшой погрешности» Хармса. Это творческая разновидность нечистоты, которая проникает в чистый мир, заявляющий о себе, что он чист, и которая, стало быть, обнаруживает застылость и неподвижность этого мира. Чистота же в самом деле бесплодна: это мертвое место, как все утопии, которые, будучи якобы совершенными, выдают себя за окончательные и бесконечные. Ересь — это «нет», высказанное вслух в День Единогласия в романе «Мы» (1921), это заново изобретенное движение, это позиция истинной литературы.
С такой точки зрения «Великий Ассенизатор» (1918) дает прекрасную метафору. Замятин, по существу, говорит, что «революция очищает». Она — синоним тотальной (тоталитарной) ассенизации. «В ассенизации все, и от нее все качества»[623]. Но Великий Ассенизатор, поэт чистоты «в круглом кожаном фартуке», трудясь над совершенствованием установленного им порядка, сам становится вместилищем грязи, «и скоро от него пошел такой дух, что чиновники, не совсем безносые, переводились подальше»[624]. И когда, после отстранения от должности, он возрождается и оказывается уже во главе всей России, то он, «самоотверженный ассенизатор все глубже пропитывается запахом ассенизационного материала», да так крепко, что «все слышней знакомый дух охранки и жандарма»[625].
Мечта Великого Ассенизатора, как мы видим, утопична. Новый порядок является как бы Добром, которое должно было бы успешно утвердиться в отсутствие его противоположности — Зла. Но последовавшее зловоние свидетельствует о провале замысла. Проводя систематическую «чистку», служители чистоты в конце концов сами вбирают в себя всю нечистую силу.
Та же метафора развита в маленьком рассказе 1918 года «Хряпало», монстр-герой которого жрет все, что находится на его пути, и своими испражнениями загаживает всю землю ярославскую: «где не пройдет Хряпало — пусто, и только сзади него останется — помет сугробами»[626]. Но у этой ипостаси революционера-ассенизатора есть еще одна характеристика: он «все прямо прет, невозможно ему оборачиваться», и поэтому ярославскому народу остается только спрятаться за ним: «не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато — верное дело»[627].
Понятно, что будущее не опровергло замятинские аллегории (даже если «жирная земля стала плодородная от помета, урожай будет хороший»[628]), но следует также заметить, что писатель был прав не только в политическом плане, но и указал на проблемы, которые авангарду разрешить не удалось.
Разумеется, в искании чистоты миропорядка следует противопоставить понятие «маленькой погрешности» (= нечистоты) и ее последствий понятию оздоровления идеологического, то есть морального и религиозного типа (тому самому «католицизму», по слову Замятина), которое присуще революции, выдающей себя за последнюю (см. в романе «Мы» «Запись 30-я» о «последнем числе»[629]). Напомним, что в поисках бесконечного (вечного) нечистота является элементом, необходимым для обнаружения мира во всей полноте и чистоте, пусть даже методом от противного. Но, с другой стороны, необходимо отметить опасность этой утопической мечты, очень хорошо предугаданную Замятиным: нечистота может занять больше места, чем ожидалось, и в конечном счете подавить всякое стремление к чистоте, к совершенству.
Проще говоря, между квадратом Малевича и мусорными баками Хармса пролег 1917 год…
* * *
Таким образом, основываясь на одной и той же системе понятий, можно утверждать, что нечистота, которую представляет собой всякое в широком смысле слова инакомыслие в контексте якобы совершенного законопорядка, каков бы он ни был (а России кое-что известно на этот счет), гарантировала неостановимое движение мысли в идеологическом и, естественно, художественном и литературном процессе в России.
Все, что мы видели, позволяет нарисовать довольно удивительную картину советского периода истории, поскольку то, что кажется априори положительным в политико-морально-религиозной системе, совершенно симметрично становится отрицательным в области эстетики. Если резюмировать выше сказанное, то получается:
1) Чистота влечет за собой ассенизацию, как ее описал Замятин, а затем сталинские чистки. На эстетическом уровне результат известен: приведение к повиновению, выражающееся нормативными, псевдоклассическими художественными формами, положительными героями (чистые сердца революции) и т. д. Все это кончается полной неподвижностью (эстетической и социальной) и философской пустотой.
2) Нечистота обозначает собой нарушение равновесия, которое гарантирует движение. Это замятинская ересь на политикорелигиозном уровне, с которой совпадает на эстетическом уровне небольшая погрешность Хармса. Позже нечистое (с точки зрения правительства) слово диссидентов будет ферментом выхода из советской неподвижности и пустоты. А что касается эстетических форм, то, как только будет возможно, они выйдут из ящика его письменного стола и соединятся прежде всего с тем историческим авангардом, который ассенизаторы пытались уничтожить.
И если сегодня оглянуться и подвести итоги советской (официальной, конечно) культуры, то можно сказать, что главная ее заслуга заключается в том, что она показала (против своей воли): насильственно ориентировать сверху литературный процесс невозможно.
Николай Эрдман — «подрывной элемент»?[*]
Мамаша, если нас даже арестовать не хотят, чего же нам жить, мамаша, чего же нам жить?
В определенный период своей истории Россия испытала соблазн отказаться от смеха. Вопрос стоял тем более серьезно, что был поднят в рамках классовой борьбы, если верить словам руководителя одного московского журнала по поводу принесенного ему сатирического рассказа: «Это нам не подходит. Пролетариату смеяться еще рано: пускай смеются наши классовые враги»[631]. Проблема: «Нужна ли нам сатира?» — имела широкое обсуждение, а с самого первого номера «Литературной газеты» (22 апреля 1929 года) была начата дискуссия: «Возродится ли сатира?» — вопрос, на который театральный критик В. Блюм отвечал следующим образом: «Сатирическое произведение широчайшим обобщением наносило удар чужому классу, чужой государственности, чужой общественности. Продолжение традиций дооктябрьской сатиры (против государственности и общественности) становится уже прямым ударом по нашей государственности, по нашей общественности»[632]. Смысл рассуждения совершенно понятен: раз исчез объект сатиры, смеяться стало не над чем. Стало быть, смех подрывает режим.
М. Булгаков, среди прочих, оказался в центре этой полемики, и это один из вопросов, поднятых им в письме советскому правительству от 28 марта 1930 года:
Один лишь раз, в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления: «М. Булгаков ХОЧЕТ стать сатириком нашей эпохи» («Книгоноша». № 6 — 1925 г.).
Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в плюсквамперфектум. М. Булгаков СТАЛ САТИРИКОМ, и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима[633].
Булгаков цитирует именно статью Блюма, где тот заявляет, что «ВСЯКИЙ САТИРИК В СССР ПОСЯГАЕТ НА СОВЕТСКИЙ РЕЖИМ», и это приводит к главной проблеме, которую он ставит в своем письме: «Мыслим ли я в СССР?»[634] Разумеется, ответ «нет», и это относится ко всем, кто пытается смешить в двадцатые годы: Зощенко, И. Ильфу и Е. Петрову, Маяковскому… Среди них и Н. Р. Эрдман. Всем им, так или иначе, пришлось умолкнуть.
Один из вопросов, поднятых в данной полемике, помимо своих гротескных акцентов, относится к объекту сатиры. Над кем мы смеемся? В отношении Эрдмана, как и Зощенко, обычно отвечают: над мещанином. Однако определение, вернее, ареал охвата этого понятия «мещанин» весьма расплывчат, в частности, оттого, что чем больше времени проходило после революции, тем труднее становилось увидеть в мещанине продукт прошлой жизни. Именно в этот момент бдительные идеологи почуяли опасность: они понимали, что народ смеется не просто над отдельными смешными чудаками, а над всей системой, порождающей таких людей. Однако этой системой были они сами. И они отреагировали, и победили (на тот момент).
* * *
Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить двойственность критической дискуссии, развернувшейся вокруг комедий Эрдмана «Мандат» (1925) и «Самоубийца» (1930), а следовательно, и причины, побудившие власти запретить эти пьесы.
В конце двадцатых — начале тридцатых годов действительно существовало два типа трактовки этих пьес. Первый предполагал, что, будучи направленными против мещанского духа, они изобличают пороки некоей части населения, вышедшей из старого режима и не способной адаптироваться к новому нарождающемуся обществу: такое прочтение, исполненное некоторой наивности и чаще всего, конечно, притворной, характерно для защитников Эрдмана. Несомненно, К. С. Станиславский лишь отчасти был искренен, когда, прося разрешить ему работать с пьесой «Самоубийца», писал И. В. Сталину, что, по его мнению, в этой комедии Эрдману «удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны»[635]. Э. П. Гарин, в одночасье сделавшийся известным в 1925 году благодаря исполнению главной роли в «Мандате», также в своих воспоминаниях высказывает эту точку зрения, когда упоминает о «комических квипрокво», пронизывающих интригу, «которые могли бы так и остаться в ряду других театральных недоразумений, если б не была эта комедия наполнена большим социальным смыслом, если бы не была она создана для борьбы со всеми разновидностями мещанства»[636]. А. А. Гвоздев, в то время авторитетный специалист в области театра, также говорит о психологии «мещанина-обывателя» в описании идеологических конфликтов, представленных в пьесе: «С одной стороны — дух косного, тупого, но крайне упорного протеста мелкобуржуазной среды против всего нового, что принесла с собой революция; с другой — яркая, гневная, беспощадно обличительная сила, извергающая и отрицающая все устои старорежимной культуры. Идеология мещанина-обывателя на Благуше, вскрывающаяся в ряде бытовых сцен, опрокидывается и уничтожается до конца в смелом, искреннем обличении сатирика-драматурга»[637]. Об этом же говорит и К. Рудницкий, ссылаясь на мнение А. В. Луначарского, замечавшего по поводу персонажей Эрдмана, этой «человеческой пыли»: «Мелкий быт мелких людей, но, правда, в огромную эпоху, которая бросает на них свет»[638]. Со второй половины двадцатых годов такое мнение становится единственно возможным[639]. Позднее, когда Эрдман будет реабилитирован, снова достанут эти старые схемы толкования его текстов, погрязшие в привычно-казенных выражениях. В 1975 году «Краткая литературная энциклопедия» пишет, что «Мандат» — пьеса, «остро бичующая мещанство в различных его проявлениях»[640], и во всем, что касается драматурга, еще долго будет повторяться лейтмотив этого упрощенного клише.
Вторая трактовка принадлежит противникам писателя: цензорам, членам Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) и т. д. Они пришли к выводу, что эти пьесы, показывающие персонажей, в которых каждый может узнать себя, направлены против режима и что их следует запретить. Как ни парадоксально, такая трактовка оказывается более близкой к истине, нежели другая, и это, помимо прочего, доказывает, что цензура была зачастую более «умна», чем можно предполагать. Чтобы в этом убедиться, достаточно взять отзыв — на тот момент — ответственного секретаря оргкомитета Союза писателей В. Я. Кирпотина в редакцию «Года шестнадцатого» (сборника, придуманного М. Горьким), которая намеревалась опубликовать пьесу «Самоубийца»:
«Самоубийца» Эрдмана — очень абстрактная сатира. Поэтому многие реплики не выражают существа типа, в уста которого они вложены, а звучат политически двусмысленно. Пьеса нуждается в значительной доработке[641].
В то же время, то есть в начале 1932 года, сразу после письма Станиславского Сталину, о котором мы уже упоминали, когда «на литературном фронте» разгорается битва, а Главрепертком оставляет «Самоубийцу» под запретом, интересное свидетельство того, какой могла быть позиция РАППа, мы находим в письме «пролетарского» драматурга В. В. Вишневского[642], адресованном жене Мейерхольда актрисе З. Н. Райх:
Бывает так, что за делами спектакля надо видеть более высокие требования политики партии. <…> А вот «Самоубийца» при всех формальных достоинствах пьесы — ни черта не дает. Безнаказанный памфлет против Сов. власти. И будет полезно разгромить его, как и «Дни Турбинных» и т. п.[643]
Желание Вишневского будет исполнено: в октябре 1932 года после закрытого представления в присутствии комиссии, составленной из «компетентных» людей, то есть членов Политбюро (В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. А. Жданов), пьесу запретили. По словам очевидцев, они встали и демонстративно покинули зал, когда герой пьесы Подсекальников, который уже ничего не боится, поскольку готовится умереть, заявляет: «Захочу вот — пойду на любое собрание, на любое, заметьте себе, товарищи, и могу председателю… язык показать»[644]. Такая реакция доказывает, что они поняли смысл пьесы.
Интересно, что в том же письме Вишневский указывает на особенность, которая делает из этой комедии произведение, подрывающее режим, к тому же сближая его с «Клопом» Маяковского:
Припомните «Клопа». Был ли образ мещанина заклеймен? Нет! Вы увидели теплого, своего человека, немного дурашливого, живого. Результат обратный замыслу[645].
Очевидно, что Вишневский ошибается в интерпретации замысла Маяковского, зато он совершенно прав, когда говорит об этих персонажах, что они живые. А «живые» подразумевает «многоплановые». Тоталитарная мысль не допускает подобной художественной характеристики: для нее существует положительный герой или враг. Оба они выражают мнение, лишенное «двусмысленности». К сожалению, такие типы не существуют в реальности, и именно это блестяще продемонстрировал Эрдман в то время, когда поляризация была в порядке вещей. Вот почему в его пьесах нет какого-то одного персонажа, которого можно было бы ставить в пример, и в то же время, наоборот, нет персонажа, заслуживающего бесспорного порицания. Конечно, помимо всеобщей глупости, мы находим и другие неприятные черты, которые едкое перо Эрдмана беспощадно выставляет напоказ: приспособленчество, похоть, трусость, малодушие, эгоизм, доносительство, непостоянство, даже жестокость (когда человек находится в стаде), но это лишь первый, наиболее очевидный, слой их характера. Все эти пороки, впрочем, слишком человеческие… Вот почему сатира Эрдмана не злая, напротив: если вчитаться, от его отношений со своими персонажами исходит даже какая-то нежность. Они слишком «живые», чтобы их отвергнуть, если только ты не прирожденный палач.
* * *
Чтобы покончить с этим клише относительно Эрдмана, достаточно просто перечитать его пьесы. Первый тип трактовки, рассмотренный нами, характерный для Станиславского и других сторонников «Самоубийцы», был лишь частичным прочтением, отвечавшим одному стратегическому требованию: так представить пьесу, чтобы завуалировать перед Сталиным ту истину, что рай, который он строит, вызывает у некоторых желание покончить с собой. Это не означает, что такая трактовка неверна. «Мандат» был написан в весьма своеобразный период литературной истории Советского Союза, когда партия лишь начинала руководить литературным процессом и еще оставалась возможность для некоторого разнообразия тенденций. Также нельзя упускать из вида, что советское общество двадцатых годов отнюдь не было столь закоснелым, каким оно стало впоследствии. Разнородность еще более усиливалась благодаря НЭПу, позволявшему определенной части общества если не мечтать в действительности о возврате к старому режиму, подобно Сметаничам из пьесы, то по крайней мере оставаться теми, кем они были раньше: мещанами, которые пытаются всеми силами выжить в сложившейся политической обстановке и не особенно задумываются об идеологии. Эту категорию людей, ставшую именно в те годы мишенью многих сатириков, лучше всего иллюстрирует персонаж матери Гулячкина.
Но сказать, что «Мандат» — это сатира на того самого мещанина, которого ненавидели большевики, было бы крайним упрощением. В действительности и эта пьеса Эрдмана, и «Самоубийца» обладают гораздо большим размахом: с одной стороны, эти пьесы обличают отнюдь не только тех нескольких персонажей, что выводятся на сцене, но, как мы уже имели возможность убедиться, и среду, которая делает их такими, какими они рисуются; с другой же стороны, эти пьесы подчас с трагической глубиной ставят фундаментальные экзистенциальные вопросы.
Несмотря на это, придется ждать, пока Эрдман будет открыт в России заново, чтобы кто-либо из вдумчивых литературоведов предложил другую трактовку. В статье «Возвращение горького смеха» Л. Велехов написал по поводу «Мандата»:
Нет, Эрдман не был прост и наивен, ни тем более подл и беспринципен, чтобы над этими людьми издеваться. <…>
А разоблачил и высмеял автор пьесы тупую и бездушную репрессивно-бюрократическую систему, воцарившуюся в государстве и измерявшую достоинства человека наличием у него бумажки с печатью. Сами представители этой системы на сцену не были выведены, но присутствовали на ней незримо, словно стоя сапогами на плечах и головах героев, все ниже пригибая их к земле и заставляя унижаться и изворачиваться в поисках несуществующего спасения[646].
Впрочем, кажется, что зрители в 1925 году не поддались на обман. Если верить автору этой статьи, многими этот спектакль был воспринят «как сатира на Сталина и его клику, премьера превратилась в своего рода антисталинскую демонстрацию и завершилась долгими овациями, сквозь которые прорывались крики: „Прочь Сталина! Долой сталинских жуликов! Долой лицемеров и бюрократов! Долой сталинских ставленников!“»[647]. Несомненно, публика прекрасно узнавала себя в этих персонажах, затерянных в водовороте двадцатых годов. Как справедливо сказал о них Вишневский: они живые. С этой точки зрения весьма интересны переданные Рудницким слова поэта и друга Эрдмана С. А. Есенина:
— Всеволод, пойми, грешно смеяться над ними, чем же они виноваты, люди маленькие… А ты смеешься, и я смеюсь, и злюсь на тебя за это[648].
Как говорит тот же Рудницкий, «в жизненности персонажей „Мандата“ никто не сомневался. Они выходили на сцену будто прямо с московских улиц — с Садового кольца, со Смоленского или Сухаревского рынка»[649]. Кроме того, Гарин-Гулячкин часто обращался к зрителям, словно ища у них поддержки, и то, что они отвечали смехом, никак не отменяет (и даже наоборот — подкрепляет) тот факт, что они, в большинстве, смеялись над самими собой.
Важно понять, что «всем тут досталось», согласно знаменитому выражению Николая I, сказанному после представления гоголевского «Ревизора». Если внимательно прочитать пьесу, можно констатировать, что люди «за сценой», эти «коммунисты», которых не видно, это государство, одним лишь словом или бумажкой вызывающее ужас у собственных граждан, представляют в реальности систему, гораздо более достойную осуждения, нежели несчастные персонажи пьесы, утратившие всякие ориентиры. Эту систему в том виде, как она представлена в обеих пьесах Эрдмана, можно описать несколькими наименованиями, которых сегодня никто уже не отрицает: бюрократия, ложь, репрессии, террор… Вот почему мы не можем сказать, что слова персонажей служат, лишь чтобы показать их собственную глупость. На самом деле то, что в 1925 году могло сойти за карикатуру на контрреволюционные выступления и выставить на посмешище того, кто их произносит, в 1931-м становится отражением суровой реальности, которую уже невозможно скрыть. Приведем несколько примеров.
Тамара Леопольдовна — один из наиболее гротескных персонажей «Мандата», однако это еще не достаточное «преступление», чтобы стать причиной обыска в ее доме. И когда она среди вороха прочих нелепостей говорит: «Разве теперь что-нибудь за что-нибудь бывает?» (I, 11), — трудно найти лучшее выражение для мира индетерминизма, в котором живут люди. То, что некая причина приводит к непредвиденному последствию, может вызвать смех, но тот же механизм срабатывает, когда арестовывают человека, не совершившего никакого преступления… Разумеется, на память сразу приходит «Процесс» Кафки или написанная в то же время «Елизавета Вам» Хармса, где героиню арестовывает тот самый человек, которого она якобы убила, и когда она говорит, что никого не убивала, то получает ответ: «Это решит суд»[650]. Такое манипулирование причинами является одним из излюбленных видов оружия в арсенале тоталитарных режимов.
Другой пример: какое впечатление производит страна, где можно сказать, что бумажка дороже человека? И тем не менее именно так резюмирует все в том же «Мандате» Автоном Сигизмундович, пускай воинствующий и наполовину впавший в маразм, узнав о том, что «все люди ненастоящие»: «Что люди, когда даже мандаты ненастоящие» (III, 30). Эту сатиру на торжество бюрократии, позволяющей мелкому ничтожеству, Павлу Гулячкину, терроризировать всех мандатом, который он сам себе выписал (чтобы, наконец, обрести существование), можно встретить во многих текстах двадцатых годов, как у Зощенко, так и у Булгакова, когда в «Мастере и Маргарите» Коровьев говорит Мастеру, сжигая его бумаги: «Нет документа, нет и человека»[651]. В «Дьяволиаде», написанной Булгаковым примерно в то же время, что и «Мандат», мы также обнаруживаем эту тему, поскольку ее герой, Коротков, потерявший свои документы, рассматривается как некто несуществующий, так что его даже нельзя арестовать (по крайней мере, он так считает!). Обезумев, он восклицает: «Как ты арестуешь, если вместо документов — фига?»[652]
Персонажи «Мандата» постоянно живут в страхе перед тем, что с ними может случиться. Восклицания: «На помощь!», «Мы пропали!», «Все кончено!», «Меня сейчас арестуют!», «Сейчас меня расстреляют!» — то и дело звучат на всем протяжении пьесы. Слова «партия», «коммунист», «милиция» создают волны паники каждый раз, когда они произносятся, и хотя мы снова смеемся, это не отменяет того факта, что действие разворачивается на фоне едва замаскированного террора. И в особенности сегодня, когда мы знаем историю страны, знаем, что режиссер, поставивший пьесу, подвергся пыткам и был расстрелян во время великой бойни тридцатых годов, трудно увидеть лишь шутку в словах Надежды Петровны: «Нет такого закона, Павлуша, чтобы за слова человека расстреливали» (I, 4). Впрочем, ее сын резонно отвечает: «Слова словам рознь, мамаша». И как не вспомнить (хотя история эта произошла на десяток лет позже) о милом Павлике Морозове, этом мальчике, прославившемся в тридцатые годы тем, что донес на своих родителей, когда Надежда Петровна признается Олимпу Валериановичу, что не может спать по ночам, потому что боится, что сын ее арестует. А на вопрос: «Зачем ему арестовывать свою мать?» — она отвечает: «Он ужасно идейный» (III, 9).
Таким образом, сатира высмеивает не только психологические характеры персонажей, но и среду, в которой они развиваются. Именно эта двусмысленность в конце концов привлекла внимание цензуры. Над кем мы смеемся, когда доносчик Иван Иванович уверяет: «нынче за контрреволюцию и фонограф осудить можно» (II, 39), или: «без бумаг коммунисты не бывают» (И, 40)? Конечно, не столько над тем, кто говорит, сколько над теми, о ком он говорит. У этих персонажей забавное представление о советском обществе, о марксизме или коммунистах, но нельзя не признать, что оно тем не менее находит корни в реальности, которая также дает повод для смеха. Когда в другом эпизоде Иван Иванович объясняет кухарке Гулячкиных Насте, живущей в своих романтических мечтах и читающей «Кровавую королеву-страдалицу», что «в коммунистическом государстве, Анастасия Николаевна, любви нету, а исключительно только одна проблема пола» (III, 12), на периферии нам слышатся попытки того времени найти новое определение всем ценностям, подозреваемым как «буржуазные» с марксистской точки зрения.
Та же идея встречается и в «Самоубийце». Она вложена в уста Егорушки, который подсматривает в замочную скважину за моющейся женщиной, а когда его обнаруживают, объясняет, что он смотрит «с марксистской точки зрения», то есть в соответствии с принципами радикальной диалектики, и что с этой точки видать «не только что по-другому, а вовсе наоборот»:
Идешь это, знаете, по бульвару, и идет вам навстречу дамочка. Ну, конечно, у дамочки всякие формы и всякие линии. И такая исходит от нее нестерпимая для глаз красота, что только зажмуришься и задышишь. Но сейчас же себя оборвешь и подумаешь: а взгляну-ка я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения — и… взглянешь. И что же вы думаете, Серафима Ильинична? Все с нее как рукой снимает, такая из женщины получается гадость, я вам передать не могу (II, 12)[653].
«Марксистская точка зрения» Егорушки приводит его к рассуждениям, абсурдность которых весьма близка к абсурдности самой реальности. Чуть далее он описывает будущее социалистическое общество, пуританское и обезличенное, и он недалек от истины. Он отказывается выпить стаканчик вина, потому что боится приучиться:
Александр Петрович. Да чего ж вы боитесь, Егор Тимофеевич?
Егорушка. Как чего? Может так получиться, что только приучишься, хвать — наступит социализм, а при социализме вина не будет. Вот как хочешь тогда и выкручивайся.
Маргарита Ивановна. Только рюмку, всего лишь, одну лишь, за дам.
Егорушка. Между прочим, при социализме и дам не будет.
Пугачев. Ерунда-с. Человеку без дамочки не прожить.
Егорушка. Между прочим, при социализме и человека не будет.
Виктор Викторович. Как не будет? А что же будет?
Егорушка. Массы, массы и массы. Огромная масса масс (III, 2)[654].
А вот в словах, которые произносит чуть далее Подсекальников, — герой, собирающийся покончить с собой и осаждаемый всеми окружающими, надеющимися с выгодой использовать это самоубийство, — в его словах нет ничего гротескного. Напротив, на пороге тридцатых годов они звучат скорее как страшное предупреждение, чем как досужие разглагольствования мещанина:
Массы! Слушайте Подсекальникова! Я сейчас умираю. А кто виноват? Виноваты вожди, дорогие товарищи. Подойдите вплотную к любому вождю и спросите его: «Что вы сделали для Подсекальникова?» И он вам не ответит на этот вопрос, потому что он даже не знает, товарищи, что в советской республике есть Подсекальников (III, 2)[655].
Далее, набравшись смелости, которую ему придает его положение (то есть близость смерти), Подсекальников звонит в Кремль, чтобы высказать то, что он думает («передайте ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не понравился»; III, 2[656]), он отчеканивает в телефон, что он «ин-ди-ви-ду-ум»… и на том конце вешают трубку.
Этот же прием, когда Эрдман заставляет персонажей посредственных говорить правду, использован, например, в представлении в «Самоубийце» интеллигенции. Аристарх Доминикович Гранд-Скубик (!), интеллигент из низов и страстный любитель аллегорий, отнюдь не самый блестящий ее представитель, но он также произносит слова, которые не далеки от истины. Доказательством тому его притча о курице, высиживающей яйца утки. Вылупившись из яиц, утята кричат своей приемной матери-курице, которую они притащили к реке: «Плыви!» А затем Аристарх Доминикович объясняет смысл своей притчи. Курица представляет интеллигенцию, а яйца — неблагодарный пролетариат:
Много лет просидела интеллигенция на пролетариате, много лет просидела она на нем. Все высиживала, все высиживала, наконец высидела. Пролетарии вылупились из яиц. Ухватили интеллигенцию и потащили к реке. «Я ваша мама, — вскричала интеллигенция. — Я сидела на вас. Что вы делаете?» — «Плыви», — заревели утки. «Я не плаваю». — «Ну, лети». — «Разве курица птица?» — сказала интеллигенция. «Ну, сиди». И действительно посадили. Вот мой шурин сидит уже пятый год. Понимаете аллегорию? (III, 2)[657]
В конце концов, вот о чем говорит «Самоубийца», — пьеса и персонаж: есть веские причины свести счеты с жизнью. И напрасно сосед Александр Петрович, повторяющий официальные лозунги, объясняет Подсекальникову, чтобы разубедить его в намерении довести свой план до конца, что «жизнь прекрасна» «в век электричества». Подсекальников ему отвечает: «Я об этом в „Известиях“ даже читал, но я думаю — будет опровержение» (I, 13)[658]. В этой «прекрасной жизни» нет места маленьким людям, чья воинственность, в конце концов, сводится к отстаиванию своего крохотного права на то, чтобы сказать: «нам трудно жить», потому что эти слова делают жизнь легче. И снова, как бы мелок ни был образ Подсекальникова, невозможно не подписаться под каждым его словом, когда он отстаивает хотя бы «право на шепот»:
Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: «Нам трудно жить». Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом проживем (V, 6)[659].
Даже этого права они лишились…
Мы могли бы привести еще массу примеров двусмысленности реплик персонажей, но уже сейчас можно многое сказать с уверенностью. Прежде всего, как мы увидели, Эрдман хотя и смеется над своими персонажами, делает это с такой симпатией, благодаря которой некоторые из их высказываний невероятно попадают в точку. Помимо того, семья Гулячкиных в «Мандате» (в отличие от Сметаничей), и в особенности молодое поколение, совсем не является представительницей смехотворных пережитков старого режима, а представляет собой новый советский тип (хотя и родственный прежнему мещанину), который великие плановики светлого будущего не предусмотрели в своей программе. Павлу Гулячкину около двадцати лет, значит, он повзрослел уже в Советском Союзе. Его отношение к жизни полностью этим обусловлено. Например, можно сказать, что он прекрасно понял, хотя и подсознательно, религиозный характер режима, поскольку инстинктивно ставит портрет Маркса туда, куда раньше ставил изображение Христа (при том, что картина имеет две стороны, и ее можно повернуть «Вечером в Копенгагене», в зависимости от того, кто в гостях) (I, 1). Он отлично понял, и тут уж совершенно сознательно, что для выживания в этой стране «лавировать, маменька, надобно, лавировать. Вы на меня не смотрите, что я гимназии не кончил, я всю эту революцию насквозь вижу» (I, 1). Лавировать, подсматривать («в дырочку», процарапанную в матовом окне в прихожей) и лгать. Изворотливость представлена не только как типично мелкобуржуазный порок, но и как способ выжить в существующих обстоятельствах. И в самом деле, трудно упрекать человека в том, что он хочет жить.
Итак, двигаемся дальше. До сих пор мы видели, что Эрдман демонстрирует несоответствие между новым режимом и той частью населения, которой этот режим ничего не дал («Что же ты мне за это дала, революция? Ничего», — восклицает Подсекальников в финале «Самоубийцы»[660]). Но мы можем увидеть, в частности, сквозь призму «героя» «Мандата» и те механизмы, благодаря которым тирания возникает на самом низшем уровне.
Хотя Павел никогда не состоял в партии (даже аббревиатура «КП» ему не знакома), мы видим, какие чувства в этом «новом человеке» вызывает одна лишь мысль, что он может стать ее членом. Как только у него в руках появляется мандат, выписанный им же самим, он уже уверен в своей диктаторской власти и произносит одну из тех фраз, над которыми, конечно, все смеются, но не без легкого содрогания: «Мамаша, держите меня, или я всю Россию с этой бумажкой арестую» (II, 40). Фантазия, что он стал коммунистом, вовлекает его в круг, казалось бы, смешных и неуклюжих рассуждений, но которые неизменно приводят его к тоталитарному решению, будь то относительно торговли в его магазине («Всем, торговать буду всем!»), свадьбы его сестры («Я теперь всю Россию на Варваре женю»; III, 30) или его манеры улаживать отношения с другими людьми: «Нет, голубчики, нет, всех уничтожу, всех!» (III, 30). Его мандат — фальшивка, и в финале все встает на свои места, но мы увидели сценарий того, что могло бы произойти, если б он был настоящим.
Тот же порыв овладевает Подсекальниковым в «Самоубийце», когда он чувствует, что близкий конец придал ему доселе неведомую силу: «Вот в Союзе сто сорок миллионов, товарищи, и кого-нибудь каждый миллион боится, а я никого не боюсь»[661]. Эта сила, столь ничтожная, тут же превращается в жажду безграничной власти. Как и в случае с Павлом, дремлющий в нем тиран, который на самом деле является ипостасью того, кто терроризирует эти сто сорок миллионов сограждан, пробуждается: «Я сегодня над всеми людьми владычествую. Я — диктатор. Я — царь, дорогие товарищи. Все могу»[662].
Но смысл пьес Эрдмана этим не ограничивается. «Мандат», безусловно, комедия, в которой используются все средства этого театрального жанра: невероятные ситуации, недоразумения, словесная непоследовательность, механизация жестов, элементы фарса, иногда даже на грани скабрезности, и так далее, — и все это в чистейшей гоголевской традиции. Но мы понимаем, что в центре тематики — Человек, и не просто социальный субъект, который прежде обладания человеческими качествами определяется своей социальной функцией, как это комично проиллюстрировано в реплике кухарки Насти: «Если вы, Надежда Петровна, об Иване Ивановиче говорите, то они не мужчина, а жилец» (I, 5)[663]. Нет, речь идет о человеке как частичке вселенной, которую он не в силах понять и на которую смотрит в растерянности. Здесь пьеса порой приобретает трагический оттенок.
Снова, как и у Гоголя, герой живет в мире индетерминизма, где, как мы видели, витает вопрос: «Разве теперь что-нибудь за что-нибудь бывает?» Но разрыв между причиной и следствием означает не только то, что какая-то бумажка может сделать из человека диктатора или что какая-то молочная лапша может стать уликой в «нарушении общественной тишины», как утверждает Иван Иванович, получив на голову кастрюлю со своей скудной кашей, упавшую из-за того, что Павел стучал молотком (I,3). Нет, в этом мире, где все возможно, опаснее всего лишиться понимания причины самого своего существования'. «Все люди ненастоящие. Она ненастоящая. Он ненастоящий. Может быть, и мы ненастоящие?!» (III, 30). В конечном итоге, как мы видим в финале «Мандата», все эти персонажи приговорены к смерти в философском смысле: они, которые «у себя на квартире, вот в этой столовой комнате свергли советскую власть» (III, 30), сочли бы нормальным, если бы их арестовали. И все же они не будут уничтожены физически, что с философской точки зрения еще хуже. Павел прекрасно это понял. В финале пьесы он восклицает: «Мамаша, если нас даже арестовать не хотят, то чего же нам жить, мамаша, чего же нам жить?»… Остается лишь огромная пустота, гораздо более страшная, чем сама смерть.
Этот вопрос стоит в центре обеих пьес Эрдмана. Стоит ли жить? A priori ответ, кажется, напрашивается сам собой, и последние слова «Самоубийцы» жестоко отвечают: «…жить не стоит» (V, 7)[664]. А поскольку «к жизни суд никого присудить не может» (I, 16)[665], а жизнь — лишь пустота, то добровольная смерть становится единственно приемлемым ответом. Вторая комедия Эрдмана почти полностью строится вокруг этого ответа, и мы понимаем, что этого власть потерпеть не могла: как можно согласиться со столь радикальным жестом отказа от общества, как желание покончить с собой? Можно утверждать, что главная идея «Самоубийцы» в гораздо большей степени, нежели отдельные реплики, была неприемлема в контексте той эпохи. Известно, какую неоднозначную реакцию в те времена вызвало самоубийство Маяковского. Пьеса была написана накануне, но как не вспомнить о нем, когда читаешь слова, адресованные представителем интеллигенции Аристархом Доминиковичем жене «самоубийцы»: «Муж ваш умер, но труп его полон жизни, он живет среди нас, как общественный факт» (IV, 3)[666]. Эта идея становится еще яснее чуть далее, там же, у гроба Подсекальникова: «Нужно прямо сознаться, дорогие товарищи, что покойник у нас не совсем замечательный. Если б вместо него и на тех же условиях застрелился бы видный общественный деятель, скажем, Горький какой-нибудь или нарком. Это было бы лучше, дорогие товарищи» (IV, 16)[667].
Однако перед нами комедия. Подсекальников не герой, каким представляют его окружающие приспособленцы. И он не вконец отчаявшийся человек, каким себя воображает, даже когда жалуется на судьбу. Это обычный человек, одновременно приятный и неприятный. И когда он вдруг вылезает из гроба, это похоже на карикатурного чеховского персонажа: «Товарищи, я хочу есть. Но больше, чем есть, я хочу жить» (V, 6)[668]. И далее:
Как угодно, но жить. Когда курице отрубают голову, она бегает по двору с отрубленной головой, пусть как курица, пусть с отрубленной головой, только жить. Товарищи, я не хочу умирать: ни за вас, ни за них, ни за класс, ни за человечество, ни за Марию Лукьяновну[669].
Жить…
* * *
Пьесы Эрдмана — не только сатира, направленная против жалкого мещанина эпохи НЭПа. Достаточно спросить себя, кто такой этот мещанин, чтобы заметить, что он является чисто советским продуктом. Конечно, мы можем объяснить появление этого героя в произведениях, написанных через десять и более лет после революции, как это делает Зощенко, когда в 1930 году отвечает тем, кто ставит ему в упрек, что он видит мещанина повсюду:
Я, конечно, согласен, что «мещанства» (как классовой прослойки) у нас сейчас нету. И писать о мещанстве как о мещанстве — пожалуй что, и не стоит. Но вот признаки мещанства, элементы мещанства рассеяны у нас почти что в каждом человеке. И если я пишу о мещанине, то это вовсе не значит, что я увидел где-то живого мещанина и целиком перевел его на бумагу. Нет. Это далеко не так. Я выдумываю тип[670].
Именно этот «собирательный» тип, как он далее его определяет, и есть тот самый тигель, в котором плавятся черты характера, присущие каждому. Зощенко заключает, что он согласен с идеей «перестройки», но выступает «за перестройку читателей, а не литературных персонажей»[671]. Верные слова, которые напоминают об одном из важнейших предназначений сатиры стране, склонной об этом забывать. Тем не менее, если попытаться применить это объяснение к комедиям Эрдмана, оно окажется верным лишь отчасти, поскольку принимает во внимание только психологию персонажей.
Необходимо задаться вопросом, что же «предшествует» персонажу: что сделало его таким, каков он есть? Какая среда смогла привести простых людей к таким нелепым поступкам и мыслям? Что за система, которая отторгает как инородное тело все живое, пускай несовершенное, но живое? И в этом его комедии объективно подрывают режим. Сторонники Эрдмана, делая вид, будто сатира относится лишь к персонажам, пытались завуалировать истинное идеологическое значение его произведений. Но враги не поддались на обман и увидели, что, не выходя за рамки комедии, драматург показывал на сцене Террор, возникавший в эпоху, когда он отстаивал скромное «право на шепот». Не более того. Но и это оказалось слишком.
Тогда Эрдман умолк.
Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях несколькими словами резюмирует содержание пьесы «Самоубийца»: «Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство»[672]. И жена человека, который, в противоположность Эрдману, продолжит защищать свое «право шептать», добавляет: «Эрдман сам обрек себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь»[673].
«Реквием» Анны Ахматовой, женщины и поэта
(История одного образа, от прозрения Н. Недоброво до уловки (?) В. Жирмунского)[*]
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость.
Несмотря на то что женщина всегда занимала особое место в русской литературе, тем не менее до начала XX века ее роль продолжает оставаться пассивной: ей, музе-вдохновительнице поэтов всех времен, отводится лишь роль персонажа в любовных драмах, придуманных мужчинами. И хотя во второй половине XIX века она обретает статус основного вектора общественного прогресса, раскрепощаясь, подобно Вере Павловне из романа «Что делать?», благодаря труду и возникновению новых форм эмоциональных взаимоотношений, все же она продолжает оставаться лишь объектом литературного описания.
Коренные изменения происходят в XX веке, когда относительно внезапно появляется большое количество женщин-писательниц (как об этом свидетельствует антология, куда вошли произведения ста поэтесс Серебряного века[675]), причем некоторые из них вскоре выходят на первый план литературной жизни (то же самое мы наблюдаем и в живописи). Среди них — Анна Ахматова, и хотя она не является представительницей модернизма в понимании той бурной эпохи, когда Ахматова публиковала первые стихи, в своих произведениях она поднимает поистине модернистский вопрос о читательском восприятии, во многом определяемый ее женской природой.
Поскольку наши знания об Ахматовой всегда были обусловлены внешними факторами, в частности обстоятельствами, не дававшими ей возможности опубликовать свои главные произведения, и оскорбительными нападками, которым она подвергалась вполне официально, восприятие ее творчества долгое время оставалось чрезвычайно односторонним. В общем и целом, как на Западе, так и в Советском Союзе, основной темой ее произведений считались любовные переживания. В добавление к этому советская критика отмечала в ее стихах повсеместное присутствие темы смерти и религии.
* * *
Задолго до того, как Жданов резюмировал поэтическую программу Ахматовой, сведя ее к ханжеству и порнографии (вспоминаются его меткие выражения: «между будуаром и моленной», «монахиня и блудница»[676]), уже существовало стремление к тому, чтобы заключить поэтессу в рамки этого двойного клише, хотя в двадцатые годы важнее было изобличить ее в атавистической классовой враждебности (Л. Д. Троцкий, Г. Лелевич, Б. И. Арватов, С. А. Родов, В. О. Перцов и т. д.)[677].
Лишь один голос выбивается из этого мужского агрессивного хора, и это голос женщины — А. М. Коллонтай, весьма озабоченной в те времена противопоставлением личных переживаний буржуазной любви и Эроса, питаемого энергией «коллективного» чувства. В одном из «Писем к трудящейся молодежи»[678] она в живой манере объясняет молодым работницам, обеспокоенным своей любовью к столь буржуазным стихам этой самой Ахматовой, что для такой любви есть веские причины. Она говорит им, что Ахматова пишет не о «женщине» вообще, а о новой женщине, но не такой, какой должна быть настоящая коммунистка, а новой в том смысле, что она представляет собой голос женщины, утверждающей свое «я» в обществе мужчин: «Мужчина все еще думает, что женщина либо „приятная встреча“ для утоления плоти, либо его верная законная тень — жена»[679]. Именно в этом состоит наследие буржуазной культуры, от которого невозможно освободиться без борьбы, и «этот конфликт и составляет содержание трех белых томиков Ахматовой»:
Вот поэтому, мой юный друг, и вам близки стихи Ахматовой, хотя она и «поет только про одну любовь». Каждая страница Ахматовой — это целая книга женской души[680].
Этой душе, которую в силу своей отсталости не могут понять мужчины, увязшие в стереотипах буржуазной культуры, писатели всегда посвящали целые тома, но с приходом Ахматовой эта душа впервые раскрывается изнутри, и именно здесь лежит начало нового понимания мира, мира, где женщина ищет уже не мужа, а «товарища по жизни»[681]. Стало быть, любить Ахматову не предосудительно:
Вы любите Ахматову за то <…>, что в ее томиках запечатлены трудные поиски пути, ведущего женщину в храм духовно-нового человечества[682].
Конечно, эти слова могут вызвать улыбку, но на фоне грубого (мужского) хора хулителей Ахматовой они заслуживают особого внимания. Тем более что эти слова получат незамедлительный ответ: он появится в том же номере и принадлежит перу Арватова[683]. Критик удивляется, как товарищ Коллонтай может советовать подобное чтение. Дав себе труд перечитать «Чётки», где он встречает множество слов, выдающих принадлежность Ахматовой к буржуазной культуре (от упоминания шейных платков до фарфора, от Христа до устриц, не говоря уже о систематическом употреблении уменьшительных суффиксов), критик возмущенно восклицает:
Итак: узенькая, маленькая, будуарная, квартирно-семейная поэзия: любовь от спальни до крокетной площадки. И это рекомендуется работницам![684]
Мы, разумеется, не ставим своей задачей проанализировать все, что было сказано об Ахматовой в советской критике. Впрочем, эти высказывания зачастую повторяются и сводятся к одним и тем же упрекам: в индивидуализме, в неспособности проявить интерес к проблемам общества ввиду чрезмерной озабоченности своими мелкими личными проблемами. Этот образ, сформированный на страницах журналов в разгар идеологической борьбы, впоследствии будет зафиксирован в справочных изданиях, например в «Истории русской литературы XX века» 1939 года, где мы читаем:
Лирика Ахматовой ограничивается, собственно, поэтизацией повседневной интимной жизни, душно-узкого круга чувств, случайных и мелких переживаний. Чуть ли не единственная тема Ахматовой — это довольно однообразные любовные переживания, перипетии все того же романа; причем тема эта остается в пределах узколичных обстоятельств и настроений, она не ширится (как у Блока), не связывается с философскими, социальными проблемами[685].
Однако эти строки были опубликованы в то время, когда поэтесса уже написала большую часть своего «Реквиема», в предисловии к которому она настойчиво говорит, что ее поэма есть не что иное, как продукт «социального заказа», но не из тех, что спускаются сверху: это социальный заказ всех женщин эпохи террора, олицетворяемых той маленькой старушкой, попросившей ее написать об «этом»: в ответ на согласие женщины-поэта улыбка «скользнула по тому, что некогда было ее лицом» («Вместо предисловия»)[686].
В настоящее время принято считать, что эволюция лирики Ахматовой делится на три отдельных периода: вслед за первой, любовной, лирикой следует лирика гражданская, которой было суждено оставаться под запретом, а затем ее творчество обретает новую тональность (сложную эпическую структуру в «Поэме без героя», простоту «Полночных стихов» или поэтическую раскрепощенность «Северных элегий»). Такое представление никак нельзя назвать ложным, и, что интересно, оно вполне сочетается с развитием образа женщины в поэзии Ахматовой: влюбленность, страдания матери, зрелость…
Но подобная классификация является несколько упрощенной, и мы не совсем уверены, что она может быть нам полезна. Прежде всего, кажется, невозможно так четко разграничить эти периоды, в особенности первые два. И главное, гораздо более интересным представляется изучение того, что связывает эти периоды и, следовательно, в чем проявляется то органичное единство всего ее творчества, которое так точно сумел подметить Н. В. Недоброво, причем очень рано, еще в 1914 году, в своей статье о «Чётках». Об этой статье Ахматова позже скажет, что ничего лучшего о ней никогда не писалось[687].
* * *
О чем же говорил Недоброво в этой знаменитой статье?
Одна из основных идей его исследования состоит в том, что Ахматова описывает свои эмоциональные переживания изнутри, что возводит их на уровень поистине экзистенциальный, а не только лирический и придает ее поэзии истинную «действенность», что связано не только с ее особым звучанием, сразу превращающимся в настоящий «панцирь», в котором жизнь человеческая находит себе опору. С этого момента уже невозможно видеть в поэзии Ахматовой лишь жалобу страдающей души:
Жизнеспасительное действие поэзии в составе лирической личности Ахматовой предопределяет круг ее внимания и способ ее отношения к явлениям, в этот круг входящим[688].
Это качество позволяет нам по-новому взглянуть на повторяющуюся тему несчастной любви, ставшую одной из великих удач Ахматовой: поэтессе, по словам Недоброво, удалось в ней «отыскать общеобязательные выражения и разработать поэтику несчастной любви до исключительной многотрудности»[689].
Интересно следующее: Недоброво объясняет эту силу Ахматовой тем, что ее поэзия — это поэзия «женщины-поэта» и что уже в этом заключена сила новизны после долгих веков «мужской культуры», где «любовь говорила о себе в поэзии от лица мужчины и так мало от лица женщины»[690]. Но хотя несчастная любовь и является доминантной темой, это не единственное страдание, выраженное Ахматовой. Есть множество других, и, наконец, мы отдаем себе отчет в том, что она выражает не столько истоки этих страданий, сколько их механизмы. Вот почему перед нами не просто сентиментальные жалобы, а полноценное выражение чувств гораздо более возвышенных, превращающее эти чувства в своего рода экзистенциальный опыт предельности:
Огромное страдание этой совсем не так легко уязвимой души объясняется размерами ее требований, тем, что она хочет радоваться ли, страдать ли только по великим поводам. Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в средине мирового круга; а вот Анна Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его края — и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут[691].
Глубина этого страдания, по словам Недоброво, граничит с религиозным чувством:
Конечно, биение о мировые границы — действие религиозное, и если бы поэзия Ахматовой обошлась без сильнейших выражений религиозного чувства, все раньше сказанное было бы неосновательно и произвольно[692].
Здесь перед нами две взаимодополняющие темы ахматовской поэзии (любовная и религиозная), кстати говоря в точности соответствующие, хотя и с совершенно противоположной точки зрения, двум мишеням, по которым будут бить ее гонители («монахиня» и «блудница»). Чего, однако, не увидят эти самые гонители, но что уже в 1914 году сумел заметить Недоброво: в этой поэзии было все необходимое, чтобы сделать возможным переход от личного к всеобщему, именно то, что позволит Ахматовой выразить в своем голосе голоса тех тысяч женщин (голос каждой из этих тысяч женщин), рядом с которыми она будет стоять в очередях перед тюрьмами. Личное превращается в силу:
А так как описанная жизнь показана с большою силою лирического действа, то она перестает быть только личной ценностью, но обращается в силу, подъемлющую дух всякого принявшего ахматовскую поэзию[693].
Отсюда вывод, к которому приходит Недоброво: он говорит о «благожелательности» по отношению к людям, скрывающейся в ахматовской поэзии, и об ее «гуманистическом» характере. Критик даже говорит об ахматовском «даре геройского освещения человека»[694] и отмечает, что после прочтения ее стихов «мы наполняемся новой гордостью за жизнь и за человека»[695], в которой сочетание историзма и биографии утверждает человеческое достоинство:
Еще недавно, созерцая происходившие в России события, мы с гордостью говорили: «Это — история». Что же, история еще раз подтвердила, что крупные ее события только тогда бывают великими, когда в прекрасных биографиях вырастают семена для засева народной почвы. Стоит благодарить Ахматову, восстановляющую теперь достоинство человека <…>[696].
В этой статье, написанной, напомним, накануне Первой мировой войны, Недоброво точно угадывает характерную особенность ахматовской поэзии, которая не исчезнет впредь и которая объясняет ее переход от лирического «я» десятых годов к гражданскому «мы» тридцатых не как перелом, а как органичный процесс развития. Впрочем, именно в 1914 году намечается, на этот раз уже более очевидным образом, тот самый процесс, предугаданный критиком: 19 июля, в день объявления войны, целое поколение вне-запно приходит к осознанию времени и истории. Через два года Ахматова будет вспоминать этот день, употребляя «мы»:
Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один[697].
* * *
Сама Ахматова считала, что Недоброво понял ее с самых первых публикаций. Незадолго до смерти она писала:
Он пишет об авторе «Реквиема», «Триптиха», «Полночных стихов», а у него в руках только «Чётки» и «У самого моря». Вот что называется настоящей критикой. Синявский поступил наоборот. Имея все эти вещи, он пишет (1964), как будто у него перед глазами только «Чётки» (и ждановская пресса)[698].
Чтобы показать, насколько прав Недоброво, нам хотелось бы вернуться к двум текстам из «Реквиема», которые были опубликованы при жизни автора: «Приговор» и «Уже безумие крылом…» и к двум текстам, опубликованным позднее: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает…» и «Распятие»; три из них практически продолжают друг друга и приводят к кульминационной точке — распятию (это номера 7, 9 и 10; восьмое стихотворение «К смерти» по цензурным причинам не публиковалось и, как и остальные, до 1987 года ждало своего выхода в СССР[699]). Вырванные из контекста и/или слегка подправленные, названные четыре стихотворения — как мы увидим — позволяли укрепить «официальный», уже достаточно упрочившийся образ поэтессы, описанный выше.
Первое из них, если взять хронологию публикаций, стихотворение «Приговор» датировано 22 июня 1939 года: эта дата находится между 27 сентября 1938 года, когда сын Ахматовой Л. H. Гумилев был приговорен к десяти годам трудовых лагерей, и 26 июля 1939 года, когда НКВД принял решение о сокращении ему срока вполовину. Стихотворение впервые было опубликовано в журнале «Звезда» в 1940 году[700], но без названия и с датой: 1934 год (то есть до ареста мужа Н. Н. Пунина (1935) и сына поэтессы), а позднее в том же виде — в «Избранном»[701]. И хотя в последующих публикациях дата будет исправлена, в частности в сборнике «Бег времени»[702] и в издании в серии «Библиотека поэта»[703], «Приговор» по-прежнему будет публиковаться без названия. Однако без этого названия перед нами предстает совершенно иное стихотворение:
И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то… Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.
Откуда ни взгляни, это стихотворение можно прочитать как воспоминание о любовном расставании («можно» прочитать, ибо очевидно, что некоторые читали его правильно[704]), особенно с точки зрения употребляемой в нем лексики или образов, многие из которых весьма классические: каменное слово, попадающее в самое сердце, память, которую нужно стереть, душа, превращающаяся в камень, жизнь, к которой надо заново привыкнуть, яркость дня, слишком кричащая для человека, переживающего несчастье, опустевший дом… Интересно отметить, что при таком взгляде даже само слово «приговор» могло бы найти место в этой метафорической системе. Но, учитывая тогдашнюю эпоху, невозможно представить себе столь «сентиментальное» прочтение этого слова: будучи напечатанным, оно неминуемо направило бы читателя в верном направлении.
Этот небольшой эпизод из истории литературной цензуры как раз и показывает ту особую связь, которую поддерживают между собой два полюса метафоры. Мы можем заметить, что в формальном плане ахматовская поэтика конца тридцатых годов похожа на поэтику ее первых стихов, но несколько «деметафоризованную». Природа переживаний, хотя и более неистовая, более всеобъемлющая, остается прежней, и стихи стали сильнее по своему воздействию лишь в одном: то, что раньше было метафорой, теперь используется в прямом смысле, том самом, который цензура попыталась стереть. Этот феномен можно наблюдать и в других стихотворениях Ахматовой, поскольку любовный лексикон имеет множество точек соприкосновения с лексиконом репрессий (начиная со слова «тюрьма», напечатать которое в те времена было почти невозможно)[705].
Именно благодаря этой «деметафоризации» Ахматова перешла от личного к всеобщему, выполняя тем самым тот «социальный заказ», о котором уже шла речь. Ей удалось показать универсальность страдания, пусть даже человек остается один в этом страдании, как сказано в строчках из «Посвящения»:
Приговор… И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
<…>
Но идет… Шатается… Одна…
Все это доказывает прозорливость Недоброво.
Точно так же мы можем проанализировать другое стихотворение, опубликованное во времена событий, о которых говорится в «Реквиеме»:
Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.
И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду
И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):
[Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,]
Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.
Это стихотворение, датированное 4 мая 1940 года, было опубликовано в «Избранном» (1943) без четвертой строфы и под названием «К другу», что полностью изменяет его направленность[706].
Очевидно, что после более пятнадцати лет вынужденного молчания стихи, которые Ахматовой разрешили опубликовать в период короткой передышки, начавшейся с возобновления ее членства в Союзе советских писателей в 1940 году и закончившейся постановлением ЦК ВКП(б) в 1946 году, не дали читателям возможности понять масштабы ее эволюции[707]. Хуже того — эти стихи предоставили гонителям возможность наброситься на поэтессу с теми же упреками, что и в двадцатые годы, прибавив еще один дополнительный аргумент: в то время как советский народ с радостным ликованием строит новый мир, а писатели усердно выполняют «социальный заказ» (спущенный сверху), она возвращается к поэзии, ничего не изменив в своей манере («альковной поэзии»), и, оставаясь такой же индивидуалисткой, как и прежде, продолжает таскать нас из будуара в церковь[708].
Судьбу третьего стихотворения из «Реквиема», впервые опубликованного вскоре после смерти Ахматовой в журнале «Москва»[709], можно объяснить подобным же образом, хотя худшие времена гонений уже прошли (тем не менее цензура вырезала имя автора публикации Л. К. Чуковской![710]):
Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари…
Ночь.
Опубликованные отдельно, эти стихи поддаются множественным интерпретациям, и наиболее правдоподобная из них, в контексте той дезинформации, о которой мы говорили (повторим, что сегодня невероятно сложно разобраться, кто и что понимал в то время, хотя очевидно, многие были хорошо информированы и воспринимали произведения Ахматовой адекватно), — это любовная драма, а черные сукна вполне можно было прочесть буквально или как метафору.
* * *
Здесь встает вопрос о важности того, что окружает стихи в вероятном восприятии людей. Три рассмотренных нами примера публикаций способствовали созданию совершенно искаженного образа Ахматовой, что, кстати, объясняет удивление, вызванное в среде эмигрантов публикацией «Реквиема» в Мюнхене в 1963 году[711], хотя они несомненно читали «Приговор»… но без названия. Очевидно, что в годы оттепели, когда Ахматова без конца готовила проекты сборников, которые так никогда и не вышли, — в частности, «Нечет» и первые варианты «Бега времени», — текст «Реквиема», существовавший прежде лишь в памяти нескольких людей, теперь стал немного более широко известен, но только в определенном кругу: потребуется еще некоторое время, чтобы правильный образ женщины, поэта и ее поэзии был восстановлен в сознании обычного советского читателя. И говоря об истории восстановления этого искаженного образа, следует остановиться на последнем из четырех стихотворений «Реквиема», опубликованных в СССР в 1987 году, стихотворении «Распятие»:
Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи.
1
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене…»
2
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Разумеется, в эпоху Сталина опубликовать такие религиозные стихи было невозможно и, в отличие от того, что происходило с уже рассмотренными нами текстами, подтасовать смысл этих стихов гораздо труднее. Впервые второе четверостишие было опубликовано отдельно (без эпиграфа, но под общим названием) в «Беге времени», и только в московском издании «Избранное»[712], а затем в серии «Библиотека поэта» «Распятие», хотя и с неточными датами (1940/1943 вместо 1938/1939), увидело свет в виде самостоятельного цикла из двух стихотворений. Отметим, что без первого четверостишия от распятия остаются лишь страдания живых. О распятом говорить было нельзя.
В композиции «Реквиема» это стихотворение играет роль кульминационной точки непосредственно перед эпилогом, точки, где встречаются две истории: история сына, подвергнутого пытке (после ареста, тюрьмы, приговора), которой соответствует первое четверостишие, и история страданий матери (шок, одиночество, страдание, безумие), которой соответствует второе четверостишие. Если вернуться к аналитическому исследованию Недоброво, становится понятно, что здесь через введение религиозной тематики происходит переход от выражения личного страдания, показанного в предыдущих стихотворениях, три из которых мы рассмотрели, ко всеобщему материнскому страданию, символизируемому матерью Христа у подножия распятия (небезынтересно, однако, отметить, что в более ранней редакции предпоследний стих был несколько другим: «А туда, где мать твоя стояла…» — нечто более личное, чем: «А туда, где молча Мать стояла…»[713]).
После «деметафоризации», о которой говорилось выше, теперь мы имеем дело со своего рода «реметафоризацией», поскольку распятие Иисуса и муки Марии, по сути, рассказывают историю осуждения «Лёвы» и страданий его матери-поэта. Кроме того, превращая евангельскую тему в метафору своего личного частного случая, Ахматова универсализирует его, перейдя от понятия «Я-мать» к понятию «Мы-матери», — те самые «сто миллионов» женщин, выразительницей чьих слов она обещала быть. И этому слову здесь грозит окаменеть: Иоанн, «ученик любимый», символ Глагола, «каменел». Тот самый камень, имевший метафорическое значение в «Приговоре» («И упало каменное слово…») как с точки зрения любовной лирики, так и с точки зрения гражданской поэзии, здесь становится совершенно реальным: это Глагол, который превращается в камень в застывшем каменном веке, где страдание может найти выражение лишь в молчании («А туда, где молча Мать стояла…»). Но нельзя забывать о «реметафоризации»: хотя Мать хранит молчание, мы можем сказать, что Поэт не молчит, и само стихотворение становится «каменным словом», пугающим палачей.
Трудно переоценить масштаб, который приобретает здесь образ страдающей женщины: исследование Недоброво обретает весь свой смысл в той мере, в какой мы находим среди стихотворений, написанных во времена «Реквиема», впечатляющие примеры этого вливания личного «я» в универсальное целое. Можно вспомнить стихотворение «Стансы», написанное в то же время (1940): оно раздвигает исторические рамки, показывая нам страдания жен стрельцов, казненных Петром Первым, и выводит к главной теме — теме власти[714]. Можно вспомнить и эти прекрасные и страшные стихи:
Все ушли, и никто не вернулся,
Только, верный обету любви,
Мой последний, лишь ты оглянулся,
Чтоб увидеть все небо в крови.
Дом был проклят, и проклято дело,
Тщетно песня звенела нежней,
И глаза я поднять не посмела,
Перед страшной судьбою своей[715].
Эти первые восемь строк, написанные в тридцатые годы, начинаются с любовной риторики, описывают личные страдания, а затем приобретают всеобщий размах, говоря о «страшной судьбе» поэта. Можно отметить сходство двух последних строк с двумя последними стихами «Распятия»:
А туда, где молча Мать стояла.
Так никто взглянуть и не посмел.
Следующие шестнадцать стихов датированы 1960 годом. В третьей строфе индивидуальные границы расширяются, личная судьба сливается с судьбами ее «невольных подруг» по 1937 году:
Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
После этого оба страдания — страдание матери и страдание всего народа — сливаются воедино:
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня
А в последних строках мы обнаруживаем то самое особенное свойство ахматовской поэзии, которое отмечал Недоброво, когда говорил, что Ахматова всегда была у «мировых границ»:
И, до самого края доведши,
Почему-то оставили там.
Любо мне, городской сумасшедшей,
По предсмертным бродить площадям.
На грани безумия, на грани смерти… Когда человек переживает такого рода предельный опыт, речь уже идет о проблемах, затрагивающих не одну лишь отдельную личность.
* * *
Можно констатировать, что интерпретация стихотворений Ахматовой зависит, с одной стороны, от поправок, иногда незначительных, вносимых для того, чтобы сделать эти стихи в условиях цензуры возможными для публикации (измененная дата, опущенное название или строфа), а с другой стороны, от их непосредственного контекста, то есть от тех стихотворений, которые их окружают.
Однако известно, насколько тщательно Ахматова подходила к составлению своих сборников, то есть организовывала тексты таким образом, чтобы расширить их смысл. С этой точки зрения пример «Реквиема» особенно поразителен, поскольку цикл составлен из стихотворений, написанных в разное время, очевидно без всякой композиционной задумки, и затем собранных в точном порядке, не хронологическом, но формирующем фабулу (в понимании формалистов), к ним же добавились посвящение, предисловие и эпилог в двух частях. Здесь было бы неуместно рассуждать о жанре «Реквиема», но, к слову, совершенно очевидно, что этих нескольких составляющих достаточно, чтобы утверждать: речь идет о полноценной поэме в русском понимании этого слова, а не просто о цикле стихотворений, как трактуют некоторые. И напротив, поскольку в истории читательского восприятия Ахматовой большую роль сыграл именно тот факт, что композиционно эти публикации не отвечали воле автора, нам кажется интересным в завершение посмотреть, как происходит восстановление подлинной художественной личности женщины-поэта, которое она не смогла (или почти не смогла) осуществить.
Для этого вернемся к трем из четырех стихотворений «Реквиема», которые мы находим в первом в Советском Союзе научном издании ее произведений в серии «Библиотека поэта» (1976). Излагая основные положения издания, Жирмунский заявляет, что следовал принципам организации текстов, намеченным самой Ахматовой, что было просто сделать в случае с первыми, уже выходившими, сборниками («Вечер», «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini»), но становилось более проблематично, когда речь шла о не публиковавшихся ранее книгах, или опубликованных с благословения советской цензуры («Избранное», «Из шести книг», «Бег времени»). Что касается последних, Жирмунский основывался на черновых тетрадях Ахматовой и добавил другие связанные с ними стихотворения, напечатанные отдельно, а также несколько неопубликованных. Три интересующих нас стихотворения: «Нет, это не я…», «Приговор» (без названия) и «Распятие» — входят в композицию сборника «Тростник», так и не реализованного в то время, когда он готовился (около 1940 года) и когда Ахматовой снова разрешили печататься. Сборник должен был включить в себя тексты, написанные после «Anno Domini». В архивах сохранилось несколько планов этого сборника, в настоящее время прекрасно подкрепленных материалами, в частности, благодаря работе Н. Г. Гончаровой[716], и в наши намерения сейчас не входит описывать этот сложный текстологический клубок. Заметим, однако, что в одном из вариантов этого плана мы находим «Реквием» целиком[717], но Жирмунскому, разумеется, не могли позволить опубликовать его, равно как и Ахматовой десятью годами ранее. Вот почему он решил в конце концов придерживаться той части «Бега времени», которая носит название «Тростник», то есть изданию, разрешенному цензурой, а стало быть, не соответствовавшему изначальным пожеланиям Ахматовой. Тем не менее в примечании Жирмунский говорит, что изменил порядок стихотворений и добавил еще пять стиховорений. Именно это и должно привлечь наше внимание, поскольку данный факт находится в центре нашей проблематики: как формируется смысл, исходя из некоторых изменений или особого построения композиции.
Среди этих пяти добавленных стихотворений два взяты из «Реквиема»: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает…» и первое четверостишие из «Распятия», на этот раз полное, притом что в другом стихотворении, «Привольем пахнет дикий мед…», немного предшествующем ему, также содержится намек и на евангельский цикл, и на знаменитый процесс, поскольку в нем упоминается Понтий Пилат.
Трудно поверить (хотя это всего лишь гипотеза), что Жирмунский не попытался создать композиционную перспективу и поставить три стихотворения из «Реквиема» на место, созвучное тому, которое они занимали в ахматовском замысле. Оговоримся: мы не можем с уверенностью утверждать, что речь идет о намеренном выборе: мы не утверждаем, что Жирмунский хотел обмануть цензуру. Может быть, он основывался на известном ему проекте самой Ахматовой, о котором мы ничего не знаем. А может быть, эта «рекомпозиция» выстроилась у него подсознательно, что также делает ему честь. Как бы то ни было, результат налицо: в этом кусочке сборника мы можем прочитать между строк краткое изложение «Реквиема». Если взять четыре стихотворения, предваряющие ядро, сформированное стихами из «Реквиема» (не сопровождаемыми никакими комментариями!), мы понимаем, что перед нами то же «повествовательное» развитие темы, что и в запрещенной поэме, ведущее нас от ареста к казни, разбавленное второй повествовательной линией, связанной со страданиями матери.
Итак, в середине цикла «Тростник» мы имеем скрытый «Реквием», представленный в следующем порядке и датированный (иногда неточно) следующим образом (важно отметить — такая датировка показывает, что хронология осознанно игнорируется в пользу другого организационного критерия, как обычно делала и сама Ахматова):
• «Воронеж» — 1936
• «Годовщину последнюю празднуй…» — 1939
• «Привольем пахнет дикий мед…» — 1933
• «Все что разгадаешь ты один…» — 1938
• «Нет, это не я, это кто-то другой страдает…» — 1940
• «И упало каменное слово…» — 1939
• «Распятие»:
1. «Хор ангелов великий час восславил…» — 1940
2. «Магдалина билась и рыдала…» — 1943
Вслед за этой серией идет стихотворение «Данте» (1936), где упоминается великий итальянский поэт, высланный из Флоренции, столь любимой и столь коварной: практически «петербургская» тема здесь оказывается чрезвычайно уместной, учитывая значимость образа города в «Реквиеме».
Первое из этих стихотворений, знаменитый «Воронеж» (1936), посвящено Мандельштаму. Впервые оно было опубликовано в 1940 году[718] без четырех последних стихов, где есть намек на ссылку «опального поэта» («И в комнате опального поэта…»). Здесь эти строки восстановлены, а слово «Мандельштам» в любом случае значит «арест», в особенности для Ахматовой[719], то есть перед нами ситуация, соответствующая первому стихотворению «Реквиема»: «Уводили тебя на рассвете…», — написанному под впечатлением от ареста в 1935 году ее мужа Пунина.
Второе стихотворение в издании, подготовленном Жирмунским («Годовщину последнюю празднуй…», посвященное первоначально Владимиру Гаршину), содержит намек на празднование первой годовщины некоей любовной встречи. Это стихотворение 1939 года претерпело изменения в первом издании (1940), а также из него убрали строфу, заканчивавшуюся словами:
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.
Восстановленная строфа позволяет избежать возможности свести текст к сугубо любовной лирике. Согласно нашему анализу, его можно соотнести со вторым стихотворением «Реквиема», которое заканчивается словами:
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
Третье стихотворение[720], заслуживающее нашего особого внимания по причине своего библейского контекста, датировано 1933 годом (на самом деле это 1934-й) и, таким образом, оказывается между двумя стихотворениями 1938–1939 годов, то есть того самого времени, когда Л. Гумилев находился в тюрьме. Первая строфа начинается словами:
Привольем пахнет дикий мед,
а заканчивается страшным:
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь…
Следом за текстами, повествующими о беззаконных репрессиях, проливающих реки крови, появляется образ Понтия Пилата, отсылающий к процедуре вынесения приговора, а затем казни, то есть — двумя страницами далее — к «Распятию». Этот текст можно соотнести с семнадцатью месяцами, которые Ахматова-мать провела в страданиях о сыне («крике» — пятое стихотворение «Реквиема»):
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
<…>
И долго ль казни ждать.
Также его можно соотнести и с шестым стихотворением, где финальный образ креста отсылает нас к приготовлению к Голгофе:
Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели.
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.
Четвертое стихотворение в издании 1976 года, предшествующее трем стихотворениям из «Реквиема», «Все это разгадаешь ты один…», позже станет известно под названием «Памяти Бориса Пильняка», арестованного в 1937 году и расстрелянного год спустя, в год написания стихотворения. В этом издании имя писателя появляется лишь в примечаниях и без особого комментария, просто с датами рождения и смерти[721]. Упомянув о счастливых мгновениях вместе с Борисом Пильняком, Ахматова переносится мыслью ко всем тем, кого оплакивают, тем самым поднимая свое страдание на универсальный уровень:
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Похожий отрывок мы встречаем в четвертом стихотворении «Реквиема», которое заканчивается строками:
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается…
С тем же многоточием…
И именно вслед за этими четырьмя стихотворениями, содержащими намек на путь жертвы от ареста до казни, идут три стихотворения, проанализированные нами ранее: первое рассказывает о страдании матери, Анны Андреевны («Нет, это не я, это кто-то другой страдает…»), второе — «приговор», настигающий ее сына Леву, а третье показывает в двух картинах распятие мирового Сына и страдание мировой Матери.
Таким образом, в публикации цикла «Тростник» Жирмунского мы обнаруживаем, хотя и несколько закамуфлированную, ту же композицию, что и в «Реквиеме». Здесь же мы встречаем две темы, о которых говорил Недоброво (те самые, что были целью яростных нападок советской критики): сильное любовное переживание, перерастающее в экзистенциальную драму и достигающее апофеоза в религиозной тематике. Как увидел и предвидел Недоброво, то, что было зародышем в «Чётках», раскрылось, и от личного мы перешли к всеобщему, от любовных страданий молодой женщины — к страданию всех женщин, и женщина-поэт: становится символической Матерью, подобно матери распятого Христа.
Мы можем быть признательны Жирмунскому за то, что он, находясь в условиях жесткого цензурного контроля, способствовал, сознательно или бессознательно, «реабилитации» Ахматовой в двух направлениях. Во-первых, ему удалось сделать так, чтобы в Советском Союзе, пусть и в несколько завуалированном виде, обрело существование великое произведение русской литературы, «Реквием», и подчеркнуть в этом произведении центральную роль «Распятия» — символа нового каменного века. Во-вторых, он помог восстановить образ женщины-Ахматовой и значение Ахматовой-поэта, показав органическое единство ее творчества, основанное на переходе от личного к всеобщему, столь точно понятом Недоброво. «Женщине-поэту», о которой он говорил, действительно удалось, причем блистательно, показать все личное и всеобщее, что есть в горячности любовного чувства молодой женщины десятых годов, так же как двадцатью годами позже она показала все личное и всеобщее, что есть в том яростном горниле чувств, которые обуревали ее на протяжении тех «двух осатанелых лет» вместе со всеми ее «невольными подругами»[722].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Даниил Хармс, вечный современник, или «Постоянство веселья и грязи»[*]
Совпадения порой не случайны…
В июне 2005 года актер Ю. В. Томошевский открыл пятый Хармс-Фестиваль, декламируя с балкона внутреннего двора дома на улице Маяковского (соседнего с тем, где жил писатель) стихотворение «Постоянство веселья и грязи» (1933):
Вода в реке журчит прохладна
и тень от гор ложится в поле
и гаснет в небе свет. И птицы
уже летают в сновиденьях
и дворник с чёрными усами
стоит всю ночь под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок
и в окнах слышен крик весёлый
и топот ног, и звон бутылок.
Проходит день, потом неделя,
потом года проходят мимо
и люди стройными рядами
в своих могилах исчезают
а дворник с чёрными усами
стоит года под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок
и в окнах слышен крик весёлый
и топот ног, и звон бутылок.
Луна и солнце побледнели
Созвездья форму изменили
Движенье сделалось тягучим
И время стало как песок.
А дворник с чёрными усами
стоит опять под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок
и в окнах слышен крик весёлый
и топот ног, и звон бутылок.
А двенадцатью годами ранее французская ассоциация «Pays-Paysage» — организатор биеннале книг художников в городке Юзерше (регион Лимузен во Франции) — приняла решение посвятить очередную выставку русским художникам[724]. Организаторы удивительно верно почувствовали, что было бы интересно наряду с творениями современных художников из России выставить русский авангард с его новаторским для своего времени представлением о книге как о предмете искусства, как о нерасчленимом единстве текста и иллюстрации, словесного и визуального образов. Шаг тем более оправданный, что Россия вновь, как и в предреволюционные годы, стояла на перепутье. Так, в одном выставочном зале лимузенской деревушки во Франции оказались собранными иллюстрированные издания Ю. П. Анненкова и футуристов (Крученых, Розановой, И. М. Зданевича, В. Ф. Степановой, А. М. Родченко, Кульбина, Малевича, Эль Лисицкого, Филонова, Е. Г. Гуро, Н. С. Гончаровой, Бурлюка) и современные издания: О. Дергачева, С. А. Якунина, И. И. Кабакова, Д. А. Пригова, Г. В. Сапгира, С. В. Сигея, Л. А. Тишкова, «Митьков» и других (в том числе М. С. Карасика, который вместе с филологом В. Н. Сажиным был организатором серии Хармс-Фестивалей, получивших большой резонанс в северной столице в 90-е годы, а также последнего фестиваля в 2005 году в 100-летний юбилей со дня рождения писателя).
Инициаторы биеннале в Юзерше, крайне удивленные тем, что произведения Хармса столь часто вдохновляли художников-нон-конформистов, обратились ко мне с просьбой написать статью об этом писателе, чье имя все еще оставалось загадкой во Франции (мой перевод вышел позднее в том же году). И отнюдь не случайно свою статью[725] я тоже начал с процитированного выше стихотворения. Дело в том, что еще в 80-е годы, то есть лет за 10 до выставки, оно было положено на музыку одной из самых популярных в то время рок-групп «Странные игры». Этот факт показался мне весьма знаменательным для эпохи, когда культура советского «андерграунда» одерживала свои первые победы над застоем брежневского режима, медленно агонизировавшего при Ю. В. Андропове и К. У. Черненко.
«Постоянство веселья и грязи» — это стихотворение об уходящем времени, о бесконечных «стройных рядах» людей, бредущих к своим могилам, о вселенской неизменности беспечного веселья и соседствующих с ним самых черных сторон жизни, олицетворением которых служит дворник-цербер. Это стихотворение было написано в стол 14 октября 1933 года, то есть вскоре после «досрочного выполнения» первой пятилетки, в период сталинских «головокружений от успехов». Но едва зашатались устои репрессивного режима, как стихотворение вытащили на свет и стали читать, петь, горланить на улицах… Так выстраивается своеобразная хронология литературной судьбы Хармса в России: писателя вынудили замолчать после первых же публикаций (двух стихотворений, напечатанных в 1926–1927 годах), затем надолго предали забвению, столь удобному для критиков, и, наконец, позволили вернуться в качестве детского писателя, каковым он, по сути, никогда не был, а позднее, в 70-е годы — в качестве фантазера, для которого находилось чуть-чуть места в рубрике «Юмор» на шестнадцатой странице «Литературной газеты».
Но справедливость опередила официальное признание, и в начале 80-х Хармс стал одним из самых читаемых авторов самиздата. Причем его книги воспринимали не в исторической ретроспективе, а точно так же, как, скажем, «Ожог» (1980) Аксенова или «Москву — Петушки» (1973) В. В. Ерофеева (ограничимся этими двумя излюбленными авторами сам- и тамиздата): он был действительно принят как современник. Его короткие рассказы читали и знали (зачастую наизусть!) одинаково хорошо как в среде интеллигенции, так и среди представителей так называемой культуры «андерграунда». К этому времени — позволю себе обратиться к личным воспоминаниям — относятся мои переписывания неизданных произведений писателя, хранившихся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Могу сказать, что предмет моих исследований сам по себе стал визитной карточкой, пропуском в самые разные круги города, например в «Клуб—81» (дата создания), где регулярно устраивались литературные вечера (с такими поэтами, как В. Б. Кривулин, Е. А. Шварц, А. Т. Драгомощенко), семинары по литературе и переводу (по У. Б. Йитсу, например), театральные премьеры (вроде дадаистской постановки «Анны Карениной»); или в «Рок-Клуб» на улице Рубинштейна, где выступали «Аквариум», «Кино», «Странные игры», «ДДТ» и другие менее известные группы. К этому списку можно добавить содружество «Митьки» (Д. В. Шагин, В. Н. Шинкарев, А.О. и О. А. Флоренские) или другие группы художников-нонконформистов, часть которых вскоре объединилась в рамках альтернативной Академии изящных искусств на Пушкинской улице, 10 (Т. П. Новиков, С. А. Бугаев-Африка, О. Е. Котельников и др.).
В контексте столь небывалого увлечения Хармсом появление на выставке в Юзерше книг писателя с иллюстрациями Карасика, С. В. Жицкого и Якунина было вполне понятно. Но это была не столько дань моде, сколько стремление возродить традицию, из которой вышел Хармс, — традицию авангарда, с его высокой культурой книжной иллюстрации. Знаменательно в этой связи, что, с одной стороны, творчество Хармса было неотъемлемой частью культурного обновления предперестроечной поры (сыгравшего немалую роль в том, что перестройка стала исторической необходимостью); с другой стороны, само обновление должно было пройти через возврат к традиции, которая в сложившихся условиях оказалась грубо прерванной авторитарной властью. Феномен популярности Хармса объясняется причинами социального, философского и эстетического порядка.
Самыми очевидными из них являются, видимо, причины социального порядка. В коротких текстах, наиболее известные из которых объединены под характерным названием «Случаи» (в свое время они были проиллюстрированы Карасиком), Хармс изображает реальность, фактически мало изменившуюся к 1970–1980-м годам. Реальность эта ужасает своей бестолковостью, царящими в ней грязью, бедностью, пьянством, очередями, хамством толпы, грубостью отношений между людьми. Картина такой действительности пугает беспорядочным нагромождением множества частностей, столь же абсурдных в своих связях друг с другом, как и в своей внутренней сущности. Взятая в отдельности, каждая из этих частностей могла бы остаться незамеченной, но, собранные вместе, они вдруг предстают нелепым маскарадом, где то, что поначалу смешит, оборачивается вдруг чем-то невыносимым. К тому же эффект этот удваивался тем фактом, что прошло уже более четверти века с момента, когда Н. С. Хрущев, преданный идеям исторического материализма, пообещал счастье в самом ближайшем будущем, а жизнь практически так и не изменилась к лучшему.
По сути, ни одно явление повседневности, описанное Хармсом, не претерпело сколько-нибудь значительных изменений в последующие десятилетия. Ограничимся одним, типичным в этом отношении примером — «квартирным вопросом»: ситуации тяжелые и странные, комические и драматические, порожденные скученностью коммунальных квартир, Хармс описывает в целом ряде произведений. Вспомним хотя бы героя «Победы Мышина» (1940), растянувшегося на полу в коридоре в окружении жильцов коммуналки, которые тщетно пытаются заставить его встать, угрожая даже поджечь, на что он отвечает: «Мешал и буду мешать». Эту странную ситуацию не в состоянии разрешить и милиционер с весьма ограниченными умственными способностями, прибывший вскоре на место происшествия в сопровождении, как и положено, дворника «с грязными руками»: Мышин как ни в чем не бывало продолжает лежать в коридоре. Ручаемся, что и в начале 80-х он все еще оставался на прежнем месте… Во всяком случае, тех, кто годами стоял в очереди на право получения нескольких дополнительных метров жилплощади (именно так обстояли дела в эпоху, когда заново открывался Хармс), такая сценка не могла оставить равнодушными. Выражение: «Это Хармс» — для обозначения абсурдной ситуации вошло тогда в язык не случайно.
Кульминацией описаний царящей вокруг жестокости является, без сомнения, тема арестов — лейтмотив творчества писателя, начиная с «Елизаветы Вам» (1927) и вплоть до «Помехи» (1940) — одного из последних рассказов, написанных незадолго до собственного ареста. В этом рассказе (так прекрасно проиллюстрированном Карасиком) человек в черном пальто в окружении двух военных и неизменного дворника нарушает интимную близость мужчины и женщины. После хрущевской оттепели последствия от встречи с «людьми в черном» приняли, конечно, менее трагический оборот; тем не менее вмешательство сил порядка в обыденную жизнь людей до недавнего времени было в СССР реальностью.
Можно привести в качестве примеров много других тем, которые, вопреки дистанции времени, приближают Хармса к современному читателю. Было бы, однако, упрощением видеть в этом единственное объяснение успеха его произведений после того, как они были заново открыты. В этой связи отметим, что Хармс не воспринимает действительность исключительно в контексте порожденных ею репрессий. Его видение гораздо шире: человек слишком мал и слаб, чтобы постичь реальность во всей ее полноте, он слишком слаб даже для того, чтобы совладать со своими собственными желаниями, он обречен на одиночество и беспомощную неподвижность перед лицом великого «Всё», напоминающего ему кучу обломков, которые он не в силах собрать воедино.
Таким образом, можно утверждать, что творчество Хармса обладает универсальным значением, и успех его не сводится к полноте представленного в нем материала для социологических исследований. Возвращаясь к стихотворению, процитированному в начале статьи, можно смело сказать, что фигура дворника-стукача (центрального персонажа в жизни двора как в Советском Союзе, так и при старом строе) поднята до величины универсальной и постоянной. Достигается это путем расширения от строфы к строфе плана изображения — взгляд как бы отдаляется, раздвигая границы пространства и времени, пока не упирается в вечность («Движенье сделалось тягучим, / и время стало, как песок»). Последние шесть строк во всех строфах почти идентичны, однако, благодаря отдалению фона, описанная в них фигура дворника-цербера «с грязными руками» (как и мотив беспечного веселья) вырастает к третьей строфе до вселенского масштаба. Этот образ напоминает о неизбежном крахе официальной идеологии, которая, как и вообще всякая идеология, основывается не на философских посылках (как, например, у Хармса или ранее у Малевича), — это «чистая утопия», создаваемая «грязными руками» власти, наподобие той, что уже в 1918 году блестяще изобразил Замятин в памфлете «Великий ассенизатор». И хотя с первого взгляда создается впечатление, что ситуации, описанные в рассказах Хармса, принадлежат прошлому, без сомнения, именно их универсальное значение в сочетании с бунтарским (хотя и аполитичным) характером не могло не импонировать молодежи и обеспечило писателю подлинную популярность не только в предперестроечную эпоху, но и позднее, вплоть до наших дней.
Знаменательно, что и сегодня, спустя 20 лет после начала перестройки, несмотря на радикальные перемены социального контекста, в котором родились эти произведения, они по-прежнему не оторваны от действительности. Приведу в подтверждение реакцию актрисы швейцарской труппы Паскье-Россье (Pasquier-Rossier), которую самоотверженные организаторы Хармс-Фестиваля 2005 года (уже упоминавшиеся выше Сажин и Карасик) пригласили со спектаклем «Четвероногая ворона». Во время открытия фестиваля, глядя на падающих из окон дома 11 по улице Маяковского кукол-старушек, актриса призналась мне, что лишь сейчас, прожив несколько дней в Петербурге, она поняла, что Хармс был настоящим реалистом! В качестве другого подтверждения можно привести сам этот чудесный, типично петербургский двор по улице Маяковского, 11, одновременно грязный и поэтичный, точь-в-точь такой, в каком часто бывал Хармс и его герои, такие, к примеру, как рассказчик из «Старухи» или бедный внезапно ослепший Абрам Демьянович из «Истории», которого нищета гонит на помойку в поисках объедков; двор, служащий фоном диких картин и событий, сопровождающих падение старушек. И наконец, еще одно свидетельство — трудности, с которыми пришлось столкнуться организаторам фестиваля по вине городской администрации, пожелавшей было привести в порядок («ассенизировать»!) и подновить двор по случаю фестиваля!
Итак, справедливо будет сказать, что Хармс изобразил характерную ленинградско-петербургскую реальность, в какой-то мере советскую, но одновременно и вневременную. Это, однако, еще не объясняет ни восторженного приема, оказанного Хармсу во всех странах, где его переводили, ни увлечения им в театральной среде. Ведь будь он привязан только к реальности своей страны, мы не могли бы объяснить, в частности, того, почему молодой постановщик Женевьева Паскье и вся труппа актеров в начале XXI века в Швейцарии с таким увлечением занялись этим автором. Разве подобные факты не говорят о том, что творчество Хармса не только остается вечно современным для его соотечественников, но и вписывается в гораздо более широкое историко-географическое пространство, что в нем затронуты универсальные, не зависящие от места и времени вопросы человеческого бытия?
Творчество писателя нельзя, в частности, рассматривать в отрыве от общеевропейского кризиса мысли, начавшегося в XIX веке, и от положения современного человека в мире. Хармс оказался на перекрестке двух дорог: будучи запоздалым отпрыском авангарда с его рухнувшими мечтаниями и, одновременно, предвосхищая идеи прото-экзистенциализма, он сумел изобразить трагическое одиночество «человека абсурда», человека, живущего в мире, где ближний стал «чужим», а «Бог молчит». Герой Хармса всегда балансирует на грани полной бессмыслицы и пустоты. Как, например, рыжий из «Голубой тетради № 10»: нескольких строк достаточно, чтобы показать, что он ничто и сказать о нем нечего. Естественно, что ощущение пустоты в одни эпохи сильнее, чем в другие, и все же нет сомнения, что именно оно так роднит поэта, загубленного в 30-е годы, с поколениями последних лет советского строя. Эти годы стали временем наивысшего признания Хармса, что объясняется, помимо упомянутых выше социальных причин, духовным вакуумом, оставленным семьюдесятью годами засилья идеологии, успевшей за это время окончательно растерять свое содержание.
И все-таки «человек абсурда» остается человеком, и, как все его предшественники, он отправляется на поиски смысла жизни в мир, который, похоже, его утратил. Как ни страшно его падение («Я достиг огромного падения», «Так низко, как я упал, — мало кто падает», — повторяет Хармс в записных книжках за 1937–1938 годы), он живет ожиданием чуда, — такого, что восстановило бы разорванные связи, превратило бы, подобно Искусству, хаос в гармонию. Как иначе интерпретировать заключительный эпизод «Старухи», где герой застывает в молитве перед извивающейся перед ним гусеницей, хрупким символом надежды на искупление, надежды, столь же мимолетной, как жизнь превратившейся в бабочку гусеницы? Именно здесь следует искать ключ к разгадке восприятия творчества Хармса — это «жажда чуда», тяга к высшему с тем, чтобы подняться над безнадежно грязным и унылым бытом, и, наконец, выражение определенной духовности. Все это в совокупности и составляет круг вопросов, встающих в связи с рецепцией творчества Хармса.
С точки зрения литературно-художественного процесса мне представляется наиболее важным подчеркнуть историческое значение широкого признания писателя в годы всплеска культуры на закате советской власти. Признавая Хармса одним из «своих» («наш»), деятели этой культуры отвечали непреодолимой потребности восстановить украденную у них традицию авангарда.
Авангард пытался вскрыть метафизический смысл и по мере возможности развить систему восприятия и отображения мира в его цельности. Стремление к цельности (тотальности) было свойственно и установленной в стране новой власти, с той лишь разницей, что в руках политиков идея цельности — «тотальности» — не могла не обернуться «тоталитарностью». Так и произошло. Именно тогда, в поисках своего места после революции, авангард в искусстве и авангард в политике вступили в противоборство. Тяга к тоталитарности (в широком смысле слова) была сильна у многих художников: она идет от «Комфутов» до «ЛЕФа» и конструктивистов. Но существовало и другое направление, где мы находим Малевича, Хармса и всех, кто по-прежнему предпочитал политической силе философию и эстетику. Исторически сложилось так, что сторонников этого направления заподозрили в мистицизме, затем обвинили в контрреволюции и, в конце концов, уничтожили.
Эти гонения были не чем иным, как реакцией властей на философские искания, на поиски истины, которые неизбежно приводили к совершенно недопустимым вопросам о Боге. После того как определение истины стало партийным делом, а живым воплощением ее был провозглашен великий вождь, всем, кто продолжал ее поиски, пришлось замолчать. Но стоило лишиться этого идола, как «истина» в том виде, в каком она была определена сверху, в одночасье потеряла свое содержание, превратившись в набор пустых лозунгов. Началось ретроспективное движение, новые поколения сознательно или бессознательно повернулись к тем, кого в свое время заставили замолчать; движение это крепло по мере того, как тускнел образ «отца народов» и мумифицировались идейные вожди. Молодежь возвращалась к кругу закрытых вопросов, которыми она не могла не задаться в обстановке морального и духовного опустошения, оставленного предыдущими десятилетиями.
То же происходило и в эстетике. Социалистический реализм, провозглашенный и навязанный в 1934 году Первым Всесоюзным съездом советских писателей, означал откат к псевдоклассическим художественным принципам и был отмечен к тому же дурным вкусом его создателей — наивных неофитов, призванных на службу утвердившейся догме. От «искусства творить» вынужденно возвращались к «искусству повторить» (Малевич), в свое время отвергнутому авангардом и по существу всем новым искусством. Это была попытка обуздать писательское слово, остановить в застывших образах изменчивую по определению реальность. Все творчество бывшего заумника Хармса противоречило этим, по сути, реакционным предписаниям, и потому он оказался за бортом тогдашней официальной литературной жизни. Но время работало на него, и, как только его книги смогли дойти до читателей, его мировоззрение и его слово органично вошли в русскую литературу.
Пример Хармса очень показателен: любые, даже самые рьяные попытки навязать деятелям литературы и искусства чуждую им художественную концепцию обречены. В то время как «там» искусственно выводили формулы математически непогрешимого и обязательного счастья, Замятин писал антиутопию «Мы», а несколькими годами позже у Булгакова конфискуют по политическим мотивам «Собачье сердце». «Там» сделали все, чтобы изгнать из советской литературы фантастику, тем не менее в 1930–1940-е годы тот же Булгаков создавал «Мастера и Маргариту». «Там» лукавили, будто верят, что время таинств и мистики миновало, раз найдены ответы на все вопросы, а Платонов между тем оставил нам «Джана» и «Котлован». «Там» даже хотели запретить смех, вычеркнув на время Зощенко из советской литературы, — настолько светлое будущее виделось серьезным и близким. Когда «там» окончательно уверились, что духовный мир человека может быть объектом изображения лишь буржуазной литературы, Пастернак опубликовал «Доктора Живаго». За этим последовали диссиденты и целый пласт эмигрантской литературы… А поэты? Ахматова, Мандельштам, Бродский… Вспомним, что, когда «там», следуя той же логике, считали, что с авангардом покончено, появились обэриуты, а позднее, когда «там» заклеймили экзистенциализм и абсурд как отражение упадка западной культуры, в России был уже Хармс. «Там» наверху часто ошибались…
Неудивительно, что, едва советский читатель получил выбор, он бросился именно к этим произведениям, в самое короткое время положив конец длившемуся десятилетия насилию над литературным процессом. Интерес к авангарду в 1970–1980-е годы и, а posteriori, к Хармсу и обэриутам объяснялся вовсе не преходящей модой на них или тягой к запретному. Просто восстанавливалась связь времен там, где она была прервана.
Феномен Хармса особенно интересен в этой связи, ибо эволюция писателя в 30-е годы показывает, что его художественная система претерпела кризис, во многом сходный, как сказано выше, с кризисом европейских течений авангарда. Отражением этого кризиса стали написанные Хармсом произведения тех лет, отчасти рожденные российской действительностью, но в известной мере также и внутренними противоречиями, свойственными и другим европейским течениям авангарда. Послевоенный экзистенциализм и абсурд стали следствием этого кризиса. А в стране, переживавшей небывалый, касавшийся всех сторон жизни кризис, этой литературе было суждено большое будущее. Советские идеологи, даже в 1987 году все еще определявшие экзистенциализм как «иррационалистич<еское> направление бурж<уазной> философии, возникшее <…> как выражение кризиса бурж<уазного> общества»[726], потерпели очередное поражение. Для нас же это служит еще одним свидетельством того, что в наглухо отгороженной от внешнего мира стране все эти годы невидимо шел единый с европейской культурой литературно-художественный процесс, остановить который была не в силах даже тяжелая артиллерия Союза советских писателей.
Этот художественный процесс проявился, в частности, в культуре андерграунда: ориентируясь в основном на западные, в течение долгого времени недоступные образцы, она находила опору и в собственной культуре. Начался ускоренный процесс адаптации культуры, протекавший так стремительно, что с неизбежностью привел к смешению всех и вся. Так, Хармс очутился рядом со звездами советского рока, с «панками», с «некрореалистами» параллельного кино, а также рядом с такими, как Битлз, Секс Пистолз, С. Дали, Э. Уорхол, А. Р. Пенк, Ф. Кафка, Т. Тцара, — словом, в самой разношерстной толпе. Однако в глазах новых поколений эта Мешанина не была случайной: в столь разных явлениях культуры они видели общее начало — бунтарский дух, от которого вокруг дышалось свободнее. «Андерграунд» может показаться эпизодичным, вытекающим из культурного и духовного хаоса, царившего тогда в стране. Тем не менее подобного объяснения недостаточно, хотя бы уже потому, что параллельная культура сыграла одну из первостепенных ролей в либерализации страны — перестройка лишь закрепила ее завоевания.
Что касается Хармса, то его роль здесь особенно важна. Недаром за эти годы он стал одним из излюбленных авторов у худож-ников-иллюстраторов. Эти художники помещают свое творчество в традицию исторического авангарда, показывая тем самым, что недостаточно обрести свободу, необходимо еще собрать и возродить все утраченное, недостающее, разрушенное. Возвращаясь к отечественному авангарду, интегрируя в него наследие других культур, они перекинули мост от традиции к взрывному и подчас неуправляемому андерграунду.
И никаким «грязным рукам» не под силу разрушить этот мост, потому что он стоит на таких опорах, как творчество Хармса — писателя, который был и остается нашим современником. Вечным современником.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Литература напоказ: от модернизма к классикам
Публикуется впервые.
Номинализм и литература: об автореференциальности, или Как литература избежала молчания
Впервые под заглавием: De l'autoréférentialité, ou comment la littérature а éсhаррé au silence // Noms et choses: Le corps de l’écriture dans la modernité slave / M. Weinstein (éd.). Aix-en-Provence: PUP, 2007. P. 117–127. На русском языке публикуется впервые.
Буквы на снегу, или Встреча двух означаемых в глухом лесу («Отчаяние» В. Набокова)
Публикуется впервые.
От футуризма — к формализму: В. Шкловский в 1913 году («Воскрешение слова»)
Впервые: Du futurisme au formalisme: Chklovski en 1913: La résurrection du mot // Europe (Paris). 2005. № 911. P. 37–54. На русском языке публикуется впервые.
Велимир I — поэт становлянин (А. Туфанов и В. Хлебников)
Впервые под заглавием: Futurisme, futurianisme ou devenirianisme?: Velimir Hlebnikov et Aleksandr Tufanov // Contributions suisses au XIV congrès mondial des slavistes à Ohrid, septembre 2008 / P. Sériot (éd.). Bern: Peter Lang, 2008. P. 109–122. На русском языке: Velimir Xlebnikov, poète futurien. Велимир Хлебников, будетлянский поэт // Modernités russes 8 / J.-C. Lanne (éd.). Lyon: CESAL, 2009. P. 437–448.
Кризис «текучести» в конце Серебряного века (О Леониде Липавском и его поколении)
Впервые под заглавием: La crise de la «fluidité» à la fin de l’Age d’argent: (Quelques mots sur Leonid Lipavski et sa génération) // L’Age d’argent dans la culture russe / J.-C. Lanne (éd.). Lyon: CESAL, 2007. P. 375–396 (Modernités russes 7). На русском языке публикуется впервые.
И течет «великая река» (Заметки о «Реквиеме» Анны Ахматовой)
Впервые: Pietroburgo, capitale della cultura russa/ Петербург, столица русской культуры / A d’Amelia (ed.) // Europa Orientalis (Salerno). 2004. № 5/2. P. 163–176.
«Оптический обман» в русском авангарде (О расширенном смотрении)
Впервые: Russian Literature (Amsterdam). 1998. Vol. XLIII–II. P. 245–258.
Даниил Хармс: поэт в двадцатые годы, прозаик — в тридцатые (Причины смены жанра)
Впервые под заглавием: Daniil Xarms: poète des années vingt, prosateur des années trente: Les raisons d’un passage // Revue des Etudes Slaves (Paris). 1995. T. LXVII/4. P. 653–663. На русском языке публикуется впервые.
Хармс — переводчик или поэт барокко?
Совместно с Т. Гробом. Впервые: Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения / Ред. Е. А. Тоддес. М.; Рига. 1992. С. 31–44.
Возвышенное в творчестве Даниила Хармса
Впервые: Wiener Slawistischer Almanach. 1994. Bd. 34. S. 61–80.
«Cisfinitum» и смерть: «каталепсия времени» как источник абсурда
Впервые: Russian Literature (Amsterdam). 2004. Vol. LVI. P. 199–212. Также: Абсурд и вокруг / Под ред. О.Бурениной. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 75–91.
Наказание без преступления (Хармс и Достоевский)
Впервые: Столетие Даниила Хармса: Материалы международной конференции, посвященной 100-летию Даниила Хармса / Под ред. А. Кобринского. СПб.: ИПЦ СПБГУТГ. 2005. С. 49–64. Вариант этой статьи: Достоевский и XX век / Под ред. Т. Касаткиной. М.: ИМЛИ РАН, 2007. Т. 1. С. 411–425.
Между «до» и «после» (Эротический элемент в поэме Пушкина «Руслан и Людмила»)
Впервые: Russian Studies (СПб.). 1995. Vol. 1. № 1. С. 156–181. Также под заглавием: Эротический элемент в поэме Пушкина «Руслан и Людмила» // Пушкин и Булгаков / Сост. А. Ковач // Studia Russica Budapestinensia. 1995. № II–III. С. 35–54. To же: «А се грехи злые, смертные…» Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X — первая половина XIX в.) / Изд. подг. Н. Л. Пушкарева. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1999. С. 712–736.
Повествовательные метели Пушкина (О «Капитанской дочке»)
Публикуется впервые.
От петербургского тумана к римскому свету: городская «поэма» Николая Гоголя
Вперые под заглавием: Du brouillard pétersbourgeois à la lumière romaine: le «poème» urbain de Nicolas Gogol // Gogol N. Les Nouvelles de Pétersbourg / Trad. A Markowicz. Arles: Actes Sud, 2007. P. 379–409 (послесловие). Ha русском языке публикуется впервые.
О зеркальной структуре повести «Дьяволиада» Михаила Булгакова
Впервые под заглавием: Zur Spiegelstruktur der Povest’ «Teufeliade» (D’javoliada) von Michail Bulgakov//Michail A. Bulgakov. 1891–1991: Text und Kontext / Hrsg. D. Kassek, P. Rollberg. Leipzig: Peter Lang, 1992. S. 9–18. Ha русском языке: Поиски в инаком: Фантастика и русская литература XX века/ Под ред. Л. Геллера. М.: МИК, 1995. С. 136–147.
Чистота, пустота, ассенизация: авангард и власть
Впервые под заглавием: «Чистое» / «нечистое» в русском авангарде // Utopia czystoњci i góry mieci — Утопия чистоты и горы мусора / Сост. R. Bobryk, J. Faryno // Studia litteraria polono-slavica № 4. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1999. C. 271–284. Вариант этой статьи на французском языке под заглавием: Pureté, vide, assainissement: L’avant-garde et le pouvoir // Bilan de la culture soviétique / G. Nivat (éd.). Bruxelles, 2000. P. 151–164 (Transitions. Vol. XLI—2).
Николай Эрдман — «подрывной элемент»?
Впервые под заглавием: Nikolaï Erdman, auteur subversif? // Contributions suisses au XII congrès international des slavistes à Cracovie / J. P. Locher (éd.). Bern: Peter Lang, 1998. P. 235–255. Расширенный вариант этой статьи в качестве предисловия к переводу пьесы Н. Эрдмана «Мандат» на французский язык под заглавием: Nikolaï Erdman: Quelques mots sur un écrivain qu’on n’a pas laissé grandir // Erdman N. Le Mandat / Trad. J.-Ph. Jaccard. Lausanne: L’Age d’Homme, 1998. P. 9–35. На русском языке публикуется впервые.
«Реквием» Анны Ахматовой, женщины и поэта (История одного образа, от прозрения Н. Недоброво до уловки (?) В. Жирмунского)
Впервые под заглавием: Le Requiem d’Anna Ahmatova, femme et poète: Histoire d’une image, de la lucidité de N. Nedobrovo à la ruse (?) de V. irmunskij // La femme dans la modernité / J.-C. Lanne (éd.). Lyon: CESAL, 2002. P- 217–236 (Modernités russes 4). На русском языке публикуется впервые.
Даниил Хармс, вечный современник, или «Постоянство веселья и грязи»
Впервые: Чудотворец был высокого роста… День рождения Даниила Хармса в Русском музее. Фото, видео, объект, инсталляция, книга / Сост. М. Карасик. СПб.: Хармсиздат, 2005. С. 16–21.