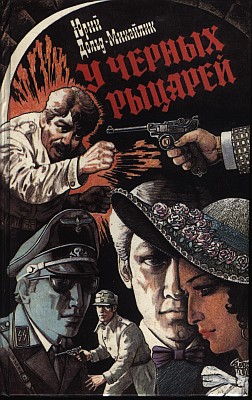
Юрий Дольд-Михайлик.
У Чёрных рыцарей
Конвоир хлопнул дверью, и замок щёлкнул, как пистолетный выстрел.
Гончаренко вздрогнул. И тотчас чувство острого недовольства собой овладело им. Услышав приговор — «расстрелять», Григорий дал себе слово не выказать страха и во что бы то ни стало держаться спокойно.
В жизни Григория бывали обстоятельства, когда приходилось напрягать все силы, чтобы побороть ту внутреннюю дрожь, от которой в минуту смертельной опасности сжимается сердце, перехватывает горло. И всё же это состояние нельзя было назвать страхом… Скорее всего это была готовность к наихудшему.
Ещё осенью 1941 года, когда он под именем Генриха фон Гольдринга перешёл линию фронта, эта готовность к наихудшему помогла ему счастливо преодолеть все испытания во вражеском тылу.
Он сознавал, что смерть подстерегает его на каждом шагу, но без страха шёл на любой риск. Даже в Бонвиле, на допросе в гестапо, когда он понял: ещё мгновение — и придётся пустить себе пулю в лоб! — даже тогда страха не было. Была собранность и готовность как можно дороже продать свою жизнь. Григорий знал: идёт война, он послан на самый сложный участок фронта, где успех, где сама жизнь или смерть зависят от умения владеть собой.
В глубине души он гордился тем, что за все годы войны страх ни разу не захватил его врасплох, не парализовал мозг, волю к борьбе.
Откуда же появилось это чувство теперь, когда произошло то, к чему он во время своего пребывания во вражеском тылу был готов каждую минуту?
Внутренняя демобилизация? Очевидно. Когда кончилась война, он, словно непосильное бремя, свалил с плеч то напряжение, в котором должен был жить в годы войны, чтобы выдержать, выполнить всё, что надлежало выполнить, дожить до победы. Ему тогда и в голову не приходило, что в радостном облегчении, которое он почувствовал, таится опасность новых испытаний.
Новых?.. Скажи лучше, последних, а точнее — последнего.
Странно, но и теперь не верится, что это произойдёт. То есть умом он постиг неизбежность конца, но все его существо восстаёт против этого, протестует. Слишком уж неожиданно всё получилось.
Неожиданно, конечно, только для него. А если учесть логику событий? Грустное занятие — логически обосновывать то, что привело тебя к такому бессмысленному концу. А впрочем, именно способность подчинять чувства и слепые инстинкты разуму и придаёт человеку силы достойно держаться до последнего.
Вот постепенно исчезает страх, который охватил тебя. И хоть ноет сердце о том, что ты хотел, но не успел совершить, но и эту боль можно преодолеть. Надо преодолеть! Ведь судьба и так слишком долго была к тебе милостива.
В памяти всплыли слова полковника Титова:
«Ты, Гриша, видно, в сорочке родился. Никто не верил, что ты вернёшься домой живой и здоровый…»
Сказано это было просто, как говорят о таких вещах солдат с солдатом, но для Григория эти слова прозвучали как высшая оценка его работы в глубоком вражеском тылу.
И вот «родившийся в сорочке» — сегодня в камере смертников. И попал он сюда только из-за собственной ошибки. Нет, не ошибки, а ошибок! Ведь совершил он их не одну, а несколько…
Само решение о поездке за границу почти тотчас по возвращении на Родину, конечно, ошибкой не было. Даже полковник Титов, узнав о цели поездки, одобрил намерение Григория, хотя и считал, что задуманное им рискованно. Но Титов понимал: бывают обстоятельства, когда приходится пренебречь собственной безопасностью, — помочь другу, попавшему в беду, он и сам считал святейшей обязанностью, делом чести.
Нет, даже сегодня, в камере смертников, Григорий не упрекает себя за решение помочь Матини, не упрекает и Курта, письмо которого послужило всему причиной.
Как растерянно посмотрел на него Курт, когда, прощаясь, Григорий протянул ему часы и узенькую полоску бумаги с адресом отца! Бедняга просто опешил. Конечно, парень давно догадался об антифашистской деятельности своего гауптмана и чем мог помогал ему. Но что герр гауптман не немец? — нет, такого Курт даже и не предполагал. Впрочем, и без того искреннее их прощание стало от этого ещё теплее.
О неизменной верности Курта говорит и письмо, переданное через советского бойца, который в своё время бежал из плена к гарибальдийцам, провоевал с итальянскими патриотами почти два года, а теперь вернулся на Украину.
Перед глазами Григория и сейчас встают два листочка бумаги, густо исписанные готическими буквами. Начав с обычного обращения «Многоуважаемый герр гауптман», Курт зачеркнул слово «гауптман» и, не совсем уверенной рукой написав «камарад», прибавил в скобках: «Разрешите Вас так называть. Всей своей жизнью я мечтаю заслужить эту честь». Григорий улыбнулся, представив, как долго Курт размышлял над обращением, но лицо его сразу стало серьёзным, как только он прочитал следующие строчки. Курт сообщал, что доктора Матини, переехавшего было в Рим, в дом под номером таким-то по такой-то улице, и начавшего работать, неожиданно отдали под суд как сторонника Муссолини, тайного чернорубашечника. Обвинение базируется на том, что Матини вместе с немецким офицером фон Гольдрингом входил в делегацию гитлеровского командования, когда велись переговоры об обмене заложниками, и выдал гестапо одного из гарибальдийцев, с которым велись переговоры, Виктора Петруччо. Теперь этого провокатора и тайного агента гестапо превозносят как героя, а Матини винят в его смерти. Эту ложь легко мог бы опровергнуть отец Лидии Ментарочи — командир отряда гарибальдийцев, но за день до ареста Матини он был убит неизвестным из-за угла. Теперь у Матини нет свидетеля, нет никаких доказательств своей правоты…
Виктор Петруччо… «Дядюшка Виктор», как называла его Лидия, ещё не зная о его предательстве… Низколобый мерзавец с густыми взъерошенными бровями, информировавший гестапо о каждом шаге гарибальдийцев… Чисто случайно, через Лидию, Григорий помог раскрыть его и сделал так, чтобы предатель получил по заслугам… Подозрительная, весьма подозрительная история. Кому-то выгодно уничтожать подлинных патриотов и поднимать на щит тех, кто их предавал. Это видно и по тому, как ведётся следствие. Курт пишет, что Лидию отказались вызвать как свидетельницу, мотивируя отказ тем, что ею руководит желание отомстить за смерть отца. Ясно, Матини нужно немедленно помочь, и сделать это может только он, Григорий.
Это его святая обязанность, веление сердца.
— И ты уверен, что сможешь помочь? — спросил Титов, выслушав рассказ Григория о Матини и прочитав письмо Курта.
— Я не знаю, какая там сейчас обстановка. Но мне хочется верить в правду. Матини истинный патриот, а лично для меня он сделал так много! Было бы чёрной неблагодарностью испугаться предполагаемых трудностей, остаться равнодушным — ведь речь идёт о его судьбе, а возможно, и о жизни. Человек мягкого характера, идеалист и мечтатель, он мало приспособлен к жизни и сам не сможет себя защитить.
— А ты понимаешь, чем рискуешь? — спросил Титов.
Григорий отлично понимал: его поездка на север Италии, а затем в Рим, будет мало похожа на увеселительную прогулку.
— То-то и оно…
— И всё же прошу мне помочь, даже учитывая риск… Некоторый риск, так как обещаю быть максимально осторожным и рассудительным…
Беседа с Титовым на этот раз затянулась. Рассматривая все возможные ситуации, они применительно к ним обсуждали линию поведения в каждом отдельном случае. Гончаренко видел: полковник доволен его рассудительностью и постепенно успокаивается.
— Ну, что же, — наконец, согласился Титов, — так тому и быть: выехать помогу. Раз твёрдо решил — помогу. Но помни: поездка — твоё личное дело. Только личное. Война закончилась, ты больше не разведчик, даже не военный!
— Ясно…
Обещание полковник выполнил, но было заметно, что он недоволен своей уступчивостью.
— Ну вот, опять беспокойся о тебе… — вырвалось у него, когда они прощались. — Теперь, правда, не как о подчинённом, а как о… — не закончив, Титов сердито мотнул головой, словно отгоняя мрачные мысли, и крепко пожал Григорию руку. — Будь счастлив!
… Мысль о том, что он не оправдал надежд полковника, нестерпимо жжёт Григория. Нет, лучше не вспоминать это рукопожатие, серьёзный взгляд усталых, чуть печальных глаз, а то в памяти встаёт другое прощание на перроне в Киеве.
Бедный отец! Как старался он скрыть тревогу, как пытался быть весёлым, спокойным, хотя чуял сердцем: письмо, так встревожившее сына, связано с внезапным отъездом. Что думает сейчас старик, получив его коротенькую открытку? Должно быть, как обычно, завернул на календаре листок — дата, когда Григорий обещал вернуться. И, верно, долго ещё будет жить надеждой, будет загибать все новые и новые листики, не зная, что для сына уже не существует ни дней, ни ночей…
Очень трудно заставить себя не думать о самом близком на свете человеке. Прости меня, отец! Но я не имею сейчас права вспоминать тебя! Мне надо заглушить в сердце жалость и боль, чтобы не осрамить наш честный род.
Говорят, в смертный час человек успевает увидеть всю свою жизнь. Странно, мне не хочется сейчас думать о прошлом. Лишь о маленькой его частичке — всего нескольких неделях. Ведь надо же всё-таки выяснить, где я промахнулся.
Казалось, начало пути не предвещало ничего плохого. Верный своей привычке не заводить знакомств в дороге, Григорий не вмешивался в разговоры спутников, сделав вид, что у него разболелась голова — даже демонстративно таблетку пирамидона проглотил. Это произвело впечатление. Никто не отважился обратиться к нему со стереотипным вопросом, откуда и куда едете, не поинтересовался, что за книгу он так невнимательно листает. Человеку нездоровится, лучше оставить его в покое; со всяким может случиться, да ещё в вагоне, где из-за плохо пригнанных дверей и окон так и гуляют сквозняки. Воспользовавшись своим положением не совсем здорового человека, Григорий отвернулся к окну.
На каждом шагу глаз натыкался на следы недавно закончившейся войны. Изуродованный взрывом паровоз, издали напоминающий большое доисторическое животное, которое всем телом припало к земле, готовясь к прыжку, да так и застыло, поражённое смертоносным оружием… Остовы полуобгорелых вагонов… Громадная куча щебня, над которой высится единственная уцелевшая стена, — всё, что осталось от чьего-то жилья… Чудом сохранившаяся труба какойто фабрики или небольшого заводика — она одиноко торчит над руинами, словно обелиск на кладбище… Обожжённые огнём деревья простёрли к светлому небу узловатые руки, то ли умоляя, то ли проклиная… Быстрое движение поезда сокращало расстояние между этими отметинами войны, и Григорию казалось, что они выстроились вдоль железнодорожной колеи, словно траурный кортеж.
Постепенно глаз привык к таким картинам и стал замечать другое: вперемежку с чёрными заплатками светилась нежная прозелень засеянных полей, в усадьбах копошились люди, по разбитой дороге вдоль полотна сновали машины, гружённые мешками, тюками, кирпичом, брёвнами, скотом. На щербатые перроны станций весёлыми стайками выбегали дети, чтобы помахать вслед поезду, как это не раз делал ребёнком и сам Григорий… Да, жизнь возрождалась и продолжалась.
Мысль, что война позади, отдалась в сердце Григория такой проникновенной радостью, что на глаза его навернулись слезы. Как гордился он в эти минуты своей Родиной! Ведь в том, что Центральная Европа сегодня живёт мирной жизнью, — заслуга его страны, его народа, всепобеждающей правды идей, которыми он руководствовался, за которые не колеблясь шёл на смерть.
В полутёмной камере-одиночке Григорий, думая о своём народе, вспомнил и о той маленькой лепте, которую сам внёс в его борьбу. И к чему лукавить: вспомнил об этом с гордостью, почувствовал себя настоящим победителем…
Постой, а не в этом ли таилась первая ошибка, которую ты допустил? Слишком уж ослепили тебя собственные «подвиги», вот и распушил хвост, как павлин, расчувствовался, загордился, позабыл об осторожности?
Если бы не слепая вера в счастливую звезду, ты бы не вышел на той проклятой станции, не нарушил данного себе слова не покидать вагон без крайней необходимости.
Поезд приближался к австро-итальянской границе. Возможно, это даже была последняя пограничная станция — та, где ты вышел на перрон. Чистый тёплый воздух, напоённый ароматом молодой зелени, казалось, сам вливался в грудь, от него, как от вина, кружилась голова. Неудержимо захотелось унести хоть частичку этой благодати с собой в вагон. Хотя бы пучок травы. Вот тогда-то Григорий и сделал те несколько фатальных шагов к краю перрона.
— Гауптман Гольдринг? — послышалось сбоку, когда он склонился над каким-то кустиком, напоминавшим молодой чебрец.
Тебя захватили врасплох, и ты вздрогнул, как мальчишка, пойманный с поличным. Это не могло укрыться от офицера войск США и двух солдат, сопровождавших его. Если бы не это… возможно…
Подошёл патруль. В толпе, успевшей окружить подозрительного пассажира, мелькнуло знакомое лицо. Фрау Вольф, бывшая экономка генерала Эверса! Поймав на себе взгляд того, кого она считала Гольдрингом, фрау быстро спряталась за чью-то спину.
«Выдала!» — мелькнула мысль.
— Да, гауптман фон Гольдринг, — после минутного замешательства подтвердил он. Сослаться на документы, оставшиеся в вагоне, он не мог — это только осложнило бы дело. Назваться настоящим именем не имел права. Ни при каких обстоятельствах. Надо искать иной выход, чтобы освободиться… Что ж, Гольдринг так Гольдринг! В чём его могут обвинить? Работал при штабе, непосредственного участия в военных действиях и карательных экспедициях тыла не принимал…
Но Григорий просчитался. Он не мог знать, что именно в это время в Асстрии и на границе Германии с Швейцарией вылавливали тех гитлеровцев, которые, поверив фашистской пропаганде, бежали сюда от войск победителей, чтобы продолжать войну в горах южной Германии.
Поняв, что их обманули, эти солдаты и офицеры, преимущественно войск СС, под вымышленными фамилиями, иногда с очень сомнительными документами в карманах, а то и без них, разбегались кто куда, спасаясь от возможной и заслуженной кары. Их вылавливали, загоняли за колючую проволоку лагерей для военнопленных. Многих союзники отпускали, даже не поинтересовавшись их преступной деятельностью во время войны.
Григорий всего этого не знал и был крайне удивлён тем, как с ним обошлись в комендатуре лагеря. Записав лишь фамилию «Гольдринг» и часть, где тот служил, дежурный сержант ни о чём больше не спросил, а только назвал номер палатки, куда и отвели вновь прибывшего.
Лагерь снова возник перед глазами до мельчайших подробностей.
Он был расположен вблизи небольшого городка Шедди на бывшем аэродроме, теперь обнесённом колючей проволокой. Каждой роте отведён отдельный участок. Взводные, ротные и батальонные офицеры — в отдельных палатках. В распоряжении офицеров высших рангов — личные денщики, у остальных, начиная от лейтенанта до майора, — один денщик на троих. Запрещалось иметь фотоаппараты и бинокли, но офицерам оставляли пистолеты, а унтер-офицерам — так называемые зайтенгеверы, то есть штыки от винтовок.
В лагере разместилось около восьмидесяти тысяч немецких солдат и офицеров. Целый палаточный городок! Палатки стояли правильными рядами, образуя кварталы, по числу которых можно было определить количество батальонов. Большой ангар приспособили под клуб, в нём почти непрерывно демонстрировались кинофильмы.
Комендатура лагеря помещалась в четырех двухэтажных домах у самого входа на бывший аэродром.
Как и каждого новичка, Григория тотчас окружили местные «старожилы», и вскоре он уже был знаком с распорядком лагерной жизни и всеми новостями, волновавшими военнопленных. Последней сенсацией было сообщение комендатуры о том, что всех военнопленных, за исключением тех, кто служил в войсках СС, СД и гестапо, отправят домой. Не из официальных, а из каких-то других источников стало известно, что пленных, семьи которых живут в Восточной Германии, отпустят в последнюю очередь и лишь после их категорического отказа остаться в западной зоне. Это вызывало в лагере больше всего разговоров, а зачастую и острых споров.
Кое-кого, в основном штабных офицеров, иногда вызывали в комендатуру, держали там по нескольку часов. Это возбуждало всеобщее любопытство. Но на вопросы коллег о причинах вызова штабисты отвечали неохотно и, как правило, уклончиво: «Расспрашивали о работе штаба».
Для Григория время тянулось нестерпимо медленно. Он подал несколько рапортов на имя начальника лагеря, но его никуда не вызывали, и он по целым дням лежал в палатке с книгой. При лагере была приличная библиотека. Приходилось одурманивать себя чтением, чтобы отогнать беспокойство, не думать о бедняге Матини, который напрасно ждёт помощи. Собственное положение волновало его меньше: начнут отпускать всех, отпустят и его…
То, что он поплыл по течению, надеясь на быстрое освобождение, было второй ошибкой, которую Генрих не может себе простить. Но поздно упрекать себя, да и не к чему… Возможно, лучше не вспоминать, не доискиваться причин. Но взбудораженный воспоминаниями мозг уже не может отключиться от недавних событий.
Утро первого дня июля началось необычно. Григорий проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо, а когда раскрыл глаза, увидал возле своей койки американского сержанта. На ломаном немецком языке тот спросил:
— Вы гауптман фон Гольдринг?
— Да, я.
— Тогда — к коменданту.
— Кто меня вызывает?
— Узнаете на месте.
Несложный утренний туалет отнял немного времени, и через несколько минут Григорий уже перешагнул порог помещения, куда так хотел попасть. Глупец! Не такого разговора он ожидал!
Комната, куда ввёл его сержант, напоминала деловую контору. Ничего лишнего: в правом углу по диагонали большой письменный стол, перед ним низенькое кресло с круглой спинкой, вдоль правой стены — огромный шкаф со множеством ящичков. Бросались в глаза выпуклые чёрные латинские буквы на каждом из этих ящичков да ещё белая эбонитовая трубка на письменном столе.
Впрочем, все эти детали Григорий заметил не сразу. Естественно, что прежде всего внимание его привлекла фигура человека за письменным столом.
Григорий ожидал увидеть военного, а перед ним был человек в штатском не первой свежести костюме, мешковато сидевшем на костлявых плечах. Расстёгнутый воротник сорочки открывал худую морщинистую шею, и это довершало картину какой-то общей неряшливости в одежде хозяина кабинета. Иное впечатление производило его лицо. Из-за непомерно больших очков, закрывавших чуть ли не треть его, на Григория глянули холодные, внимательные глаза. Казалось, именно в них сосредоточилась вся сила этого худого, немощного тела.
Едва кивнув в ответ на приветствие, очкастый указал на кресло.
Несколько секунд человек в штатском и Григорий разглядывали друг друга. Наконец, челюсть хозяина кабинета шевельнулась:
— Спик ю инглиш?
— Нет, я говорю по-немецки.
Тонкие губы очкастого перекосились: то ли улыбка, то ли презрительная гримаса.
— Хорошо, будем разговаривать по-немецки. Вы гауптман вермахта Генрих Гольдринг?
— Да.
— Вам, конечно, известно, что мы начали демобилизацию бывших военнослужащих вермахта?
— Известно.
— Теперь дошла ваша очередь. Именно затем я и вызвал вас. Дело в том, что прежде чем освободить из лагеря, мы проверяем личность подлежащего освобождению. Документы штабов немецкой армии в нашем распоряжении, и мы можем ознакомиться с личным делом каждого. Вы меня поняли?
— Да.
— И вот теперь я просто не знаю, что с вами делать.
— Почему?
Очкастый забарабанил пальцами по столу, прикрыв глаза, как бы обдумывая ответ.
— Хоть вы и воевали против нас, я не склонен причинять вам неприятности, — сказал он миролюбиво, хотя взгляд его был так же холоден.
— Я не совсем понимаю, сэр, о каких неприятностях идёт речь.
— Я же говорил — у нас была возможность ознакомиться с личным делом каждого.
— Тем лучше.
— Не сказал бы… Вы должны признать, что начали войну в рядах Советской Армии, а потом перешли к немцам. Значит, против нас воевали не под нажимом, а добровольно!
— Я немец по происхождению.
— Но русский подданный. С вами мы можем поступить соответственно имеющемуся между союзниками договору.
— Я не знаю его сути.
— У нас с Советской Россией заключён договор, по которому эмигрантами считаются лица, уехавшие из России до тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Все, покинувшие страну после, считаются лицами перемещёнными и подлежат возвращению на родину независимо от их желания.
— Я немец и…
— Это не имеет значения. По сути, вы советский подданный. Но я не думаю, что перспектива вернуться в Россию вас очень соблазняет. Ведь советский трибунал ещё осенью тысяча девятьсот сорок первого года приговорил вас к расстрелу за так называемую измену родине, — очкастый особенно внимательно взглянул на Григория, — заочно.
— Это мне известно.
— Впрочем, мы не заинтересованы, чтобы вас… ликвидировали. Хотя договор между союзниками…
— Выходит, меня передадут советским войскам фактически для расстрела?
— Такого решения ещё нет…
— Могу я надеяться, что его и не будет?
Очкастый долго не отвечал. Он молча прикурил сигарету, глубоко затянулся, выпустил длинную струйку дыма и только тогда, подчёркивая каждое слово, бросил:
— Всё будет зависеть только от вас…
— От меня?
— Мы всегда точно выполняем международные соглашения. У себя в лагере никакой агитации среди военнопленных не ведём: каждому предоставляем право свободного выбора… Вот и вы — вы сами должны подсказать нам выход. Если ваши планы нас устроят, поможем, рассчитывайте на нас полностью. Через несколько дней я вызову вас, и вы сообщите о своём решении. Больше я вас не задерживаю…
Здесь было о чём подумать. Ловко использовал очкастый его личное дело! Но напрасно он надеется, что тот, кого тут принимают за Гольдринга, сам подскажет «выход».
Ясно — идёт вербовка. Но куда? Для чего? Теперь надо только выжидать. Решение примут они сами. Кто «они»? Григорий догадывался и знал — в ближайшие дни они о себе напомнят, забрало будет отброшено, и все станет ясно.
Но прошла неделя, и никто его не тревожил. Это начинало беспокоить. Внешне Григорий не подавал вида, но в глубине души не мог не признать: лагерное безделье пагубно на него влияет, он начинает нервничать.
Только на десятый день после разговора с очкастым Григория снова вызвали в комендатуру.
Кабинет, в котором происходил первый разговор, находился на втором зтаже. Григорий занёс было ногу на ступеньку, но сержант, сопровождавший его, предупредил:
— Не туда!
На этот раз он повёл Григория по длинному коридору и открыл дверь в маленькую, почти пустую комнатку. Кроме столика и двух стульев, здесь ничего не было.
— Подождите, к вам выйдут, — бросил сержант и исчез.
Григорий был уверен: за ним следят через какой-то скрытый глазок, и подчёркнуто равнодушно закурил сигарету. Он успел положить в пепельницу несколько окурков, но никто не приходил, о нём словно забыли. Игра на нервах!
Наконец дверь бесшумно отворилась и на пороге возникла фигура, которую Григорий меньше всего ожидал здесь увидеть. Мелкими шажками комнату пересекал попик — маленький, худенький, с высушенными, словно восковыми щеками, покрытыми сеткой глубоких морщин. Опущенные веки лишали лицо старика малейших признаков жизни. Казалось, движется мумия, закутанная в длинную чёрную рясу. Но вот веки поднялись, открыв ласковые чёрные глаза, и тотчас же, словно веер, разбежались морщинки. Лицо мумии превратилось в лицо живого, хоть и старого человека.
— Садитесь, сын мой! — голос у попика был такой же мягкий, ласковый, как и взгляд.
Григорий сел, слегка облокотившись на стол, так же, как это сделал и его неожиданный собеседник.
— В ваших глазах, сын мой, я читаю удивление и прихожу к выводу, что вам не так уж часто приходится иметь дело с духовными особами. Я не ошибся?
— Простите, отче! Я недостаточно хорошо владею английским, чтобы свободно разговаривать. Понимаю, но не настолько, чтобы поддерживать беседу…
— А я почти не знаю немецкого… Как же быть? — Попик на миг задумался или сделал вид, что задумался. Потом в глазах его загорелись искорки, и ласковая улыбка заиграла всеми многочисленными морщинками на щеках, вокруг глаз и губ.
— Мне кажется, есть такой язык, на котором мы быстро договоримся, — совсем свободно, без запинки произнёс попик на чистейшем украинском языке, певуче растягивая окончания слов.
— Яволь! — нарочито по-немецки ответил Григорий.
— Почему вы отвечаете по-немецки?
— Это мой родной язык.
— А разве слово, которое в детские годы помогает нам познать мир и науку, не становится родным? Вы же, как мне известно, учились в украинской школе?
Григорию стало ясно: человек в рясе так же, как и очкастый, отлично информирован о прошлом своего собеседника.
— Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы выяснить моё отношение к украинскому языку? — в голосе Григория послышалось нетерпение.
Попик укоризненно покачал головой, но голос его, как и раньше, звучал ласково, примиряюще.
— Вы чересчур нервны, сын мой… Но нам, духовным пастырям, для того и вручён святой крест, чтобы вносить в смятенные человеческие души мир и благодать. Чтобы зло в людских сердцах отступало перед нами…
— Нельзя ли ближе к делу, отче? Я человек военный, привык говорить коротко и ясно. Того же жду и от собеседников. В деле спасения людских душ я разбираюсь мало, да, признаться, и не намерен пополнять свои знания в этой области.
Сказанное прозвучало значительно резче, чем того хотел Григорий. И тем неожиданнее была реакция попика. Подойдя к Григорию и положив ему руку на плечо, он почти весело проговорил:
— Очень приятно разговаривать с деловым человеком. Вы, милый барон, освободили меня от нудной обязанности напрасно терять время на вступительную речь. В вашем характере, мне кажется, сочетается немецкая пунктуальность и американская деловитость. Итак, время — деньги, не станем тратить его попусту. Прежде всего, кто я? Скромный рядовой священник греко-католической церкви. Зовут меня отец Фотий. Наш высший пастырь — его святейшество папа римский поручил мне, ознакомившись с делом на месте, доложить ему о положении нашей многострадальной паствы, особенно среди побеждённых. Ибо, когда страдает плоть людская, но возрадуется душа верующего, благодать божья стоит у врат жизни раба своего.
— Простите, отче Фотий, но как могут возрадоваться души таких вот, как я, если у нас забрали автоматы и загнали за колючую проволоку лагерей для военнопленных? — насмешливо спросил Григорий. Его раздражали уклончивые ответы попика.
Отец Фотий словно не заметил этого раздражённого тона.
— Силён не тот, сын мой, кто владеет оружием земным, а тот, кто во всеоружии духовном может бороться с врагами веры нашей…
— Я отдаю предпочтение автомату с полным боекомплектом к нему. Итак, оставим спор о роде оружия и перейдём к сути дела, которое, очевидно, и привело вас сюда.
На этот раз глаза отца Фотия блеснули недобрым огнём.
— Раз вы настаиваете… слушайте…
— Это уже лучше. Только я попрошу разрешения закурить в вашем присутствии.
— О, пожалуйста!
Григорий закурил сигарету и уселся поудобнее.
— Изложу суть дела кратко. Как вы, вероятно, заметили, мне известны некоторые подробности вашей биографии. Не спрашивайте откуда. Это не имеет значения. Важно другое: вы человек молодой, энергичный и, надеюсь, верующий. Для меня, как духовного пастыря, совсем не безразлично, как сложится ваше будущее. Вы материально обеспечены, это я знаю, но святая церковь хочет, чтобы вы не зарыли в землю таланты свои, а свой ум, способности и энергию направили на борьбу с врагами веры нашей.
— То есть я должен стать проповедником? — с откровенной издёвкой спросил Григорий.
Отец Фотий снова сделал вид, что не заметил тона собеседника.
— Нет, такой жертвы мы от вас не требуем. Народу, вставшему на путь борьбы за свободу и веру свою против тех, кто поднял чёрное знамя антихриста, нужны ваши способности и талант офицера.
— Откровенно говоря, не понимаю.
— В последнее время, сын мой, вы были лишены возможности ознакомиться с тем, что происходит в мире. В вашем положении это совершенно естественно. Я проинформирую вас. Сейчас на благословенной земле моей родины — на Западной Украине — идёт жесточайшая борьба. Верные сыны украинского народа подняли знамя борьбы с большевизмом. Борьба проходит успешно. Чуть ли не все западные области захвачены повстанцами. Если борьба эта официально не поддерживается нашими властями, то многочисленные и порою очень влиятельные прихожане наши на Западе оказывают бойцам значительную и великодушную поддержку. Наша могущественная церковь тоже на стороне тех, кто встал за святое дело. Но хоть повстанцев и много, хоть они хорошо вооружены, им не хватает опытных руководителей. Мы знаем, сын мой, вы ненавидите большевиков и поклялись отомстить за смерть своего отца. Это святое чувство руководило вами при переходе линии фронта в тысяча девятьсот сорок первом году. Оно будет руководить вами, когда вы вместе с повстанцами подниметесь на борьбу за веру, против антихриста. Мы никогда не забудем вас в своих молитвах и по мере возможности поможем материально…
Воцарилось длительное молчание. Предложение Фотия было столь неожиданным, что Григорий не смог скрыть растерянности. Принять предложение, чтобы изнутри развалить мерзкую банду недобитых предателей, торгующих интересами своего народа? Открыть всему миру вдохновителей этих «влиятельных особ», на помощь которых ссылался отец Фотий?
«Ты думал, что война закончилась, а она продолжается. И ты снова можешь оказаться в логове врага…»
Григорий тогда чуть было не поддался искушению. Но в памяти мгновенно всплыл разговор с Титовым, прозвучали его слова: «Только помни: поездка — твоё личное дело, только личное».
Нарушить обещание Григорий не мог. Кто знает, чем обернётся такая авантюра. Ибо его вмешательство может оказаться авантюризмом чистейшей воды. Не зная броду, не лезут в воду! Тогда категорически отказаться? Это опасно, ведь совершенно очевидно: все, только что услышанное, лишь продолжение разговора, начатого десять дней назад человеком в очках.
Припоминая дальнейший ход событий и свой ответ, Григорий решил, что вёл себя тогда правильно.
— Вы были откровенны со мной, отче Фотий, — ответил он. — Хочу отблагодарить вас тем же. Ваше предложение соблазнительно самой идеей борьбы с большевизмом. Но мне, немецкому офицеру, барону, не пристало менять мундир военного на полушубок повстанца.
Фотий улыбнулся.
— Это лишь внешняя сторона дела. Суть остаётся…
— Внешнее с внутренним иной раз связано так крепко, что разорвать их — значит покушаться на самое главное в человеке. Я офицер не по мундиру, а по воспитанию.
— Я понимаю ваши чувства, сын мой, но одобрить их не могу. Устами вашими глаголет гордыня. Гордыня, а не смирение перед волей всевышнего. Приблизительно через неделю мне снова придётся побывать в этих местах… Я найду вас. Обещайте подумать.
— Рад буду вас повидать, но не для продолжения данного разговора.
— Не надо торопиться! Жизнь человека в деснице божией, а эта десница не только милует, но и карает нерадивых.
Григорий тогда не придал значения этой замаскированной угрозе. И напрасно. Снова ошибка! Следовало сказать, что он подумает — необходимо выиграть время, разработать план побега из лагеря. Григорий пренебрёг такой возможностью. То есть план он обдумал, а выполнить его не успел.
В лагере существовал порядок: накануне окончательного освобождения офицерам давали увольнительные в город — с вечера до утра. Получение такого отпуска фактически означало, что формальности с демобилизацией закончены. Это было общеизвестно, и когда в палатку, где жил Григорий, вошёл сержант, все присутствующие бросились поздравлять счастливчика.
Григорию стоило немалых усилий скрыть беспокойство и недоумение. Что могла означать такая неожиданная «милость»? На предложение отца Фотия он ответил отказом, никто другой никаких разговоров с ним не вёл. Странно, очень странно… Возможно, этот отпуск поможет ему разузнать о намерениях лагерной администрации?
Солнце клонилось к западу, когда одетый в штатский светло-серый костюм бывший гауптман Генрих фон Гольдринг вышел за ворота лагеря, И тотчас же им овладело давно знакомое чувство насторожённости, которое всегда приходило перед опасностью.
Ничего собственно не произошло: широкая бетонированная автострада, отполированная бесчисленными шинами, поблёскивала на солнце. Ни единого прохожего или велосипедиста — никого, кто мог бы за ним следить. Тогда откуда это ощущение все возрастающей опасности?
«Повинуясь чьей воле и по каким причинам мне дали увольнительную? Может, хотят соблазнить свободой и тем усилить желание вырваться из лагеря? А что, если хотят проверить, нет ли у меня здесь каких-либо связей? Что, если они догадываются, кто таков на самом деле гауптман фон Гольдринг?»
Мысленно обдумывая все неожиданности, могущие на него свалиться, Григорий не заметил, как вошёл в город. Кривая узенькая улочка. Она тоже пустынна. Впрочем, нет!
У газетного киоска словно промелькнула тень… Нечто неуловимое — её Григорий скорее почувствовал интуитивно, чем увидал…
Надо спокойно пройти мимо киоска, потом оглянуться или даже купить газету.
Беззаботно насвистывая, Григорий миновал киоск, потом остановился, словно что-то припомнив, пошарил рукой в кармане, нащупывая мелкие монеты. Теперь можно оглянуться. Как это неприятно — всё время чувствовать, что в твою спину впились чьи-то глаза!
Быстро обернувшись, Григорий увидел у киоска молодого парня. Прежде чем тот закрыл лицо газетой, Григорий заметил: тусклые волосы, узкий лоб, внимательный взгляд водянистых глаз. Насторожённость мигом исчезла. Ясно. За ним ведут наблюдение. А коли так — бояться нечего: пусть убедятся, что, кроме развлечений, его ничто не интересует.
«Работают весьма примитивно!» — весело подумал он. Насвистывая все ту же песенку, услышанную вчера в кино, Григорий свернул в боковую улицу, потом в следующую. Молодого человека с водянистыми глазами он больше не видел.
«Очевидно, передал наблюдение. Ну, что ж, и этот будет хлопать глазами перед начальством».
Уже без всяких предосторожностей Григорий вошёл в первое попавшееся кафе.
Посетителей было мало, и он смог выбрать удобный столик у окна. Отсюда хорошо были видны все, кто входил в зал, а через стекло — и прохожие на улице.
Низенький, круглый, как бочонок, хозяин кафе лениво вышел из-за буфетной стойки.
— Что прикажете?
— Бутылку лимонада, свежих яблок и хорошую сигару.
Хозяин кивнул и направился к стойке. Пересекая зал, он на минуту остановился, пропуская нового посетителя. Рассмотреть его Григорий не успел, заметил лишь, что тот высок и строен. Нет, это не тот, что был у киоска. Впрочем, впереди много времени, чтобы разобраться, что это за птица. Отвернувшись к окну, Григорий равнодушным взглядом проводил одного-двух прохожих, потом также равнодушно повернул голову и поглядел в сторону стойки, на соседние столики…
Высокий, стройный человек, только что вошедший в зал, снял шляпу и вежливо поклонился.
— Герр Кронне? — удивился Григорий, узнав своего бывшего начальника по комендатуре.
Воспоминания об Италии, о последних днях войны молшей пронеслись в голове и исчезли. Нет, Кронне не мог знать ничего о плотине, о гибели Бертгольда, да и вообще о событиях, происшедших в Кастель ла Фонте.
— Я рад, герр Гольдринг, что вы уже приноровились к новым обстоятельствам, — сказал Кронне, пересаживаясь к столику своего бывшего подчинённого. — Ведь раньше, даже будь я в штатском, вы бы назвали меня герр оберст, не так ли?
— Это завуалированный упрёк?
— Наоборот, абсолютно искренняя похвала. — Кронне криво улыбнулся. — Тем более, что я не надеялся увидеть вас живым и здоровым…
«Случайная встреча или…» — думал Григорий, всматриваясь в лицо вылощенного и, как всегда, вежливого Кронне.
— Теперь, барон, кратко расскажите, как вы попали сюда из Кастель ла Фонте, как поступили с секретными документами? — Кронне спрашивал тихо, вежливо, но просьба звучала как приказ. — Очевидно, давала себя знать давняя привычка командовать.
— Документы я, конечно, сжёг, даже ликвидировал кое-кого из нежелательных свидетелей, поэтому и прибыл сюда позднее, чем большинство офицеров из лагеря военнопленных.
— Вам повезло — я побаивался, не попали ли вы в руки гарибальдийцев… А где сейчас Бертгольд, его, то есть и ваша, семья?
— Судьба Бертгольда меня очень беспокоит… Буквально накануне капитуляции он имел неосторожность выехать в Северную Италию. Что касается моей невесты и её матери, то… Знаю одно: они выехали в Швейцарию. Так что не теряю надежды их разыскать.
Григорий старался произнести эту фразу как можно более взволнованно, но прозвучала она довольно сухо. Верно потому, что отвращение к Лоре и жене бывшего группенфюрера он пронёс через всю войну.
— А вообще каковы ваши планы, герр Гольдринг?
— Никаких, буквально никаких. Сейчас я просто боюсь заглядывать в будущее. Германия? Существует ли сейчас вообще это понятие? Сможем ли мы, вконец уставшие люди, вернуть ей былую силу и славу?
Ироническая улыбка пробежала по губам Кронне.
— Вы, барон, чересчур молоды, у вас не хватает опыта и умения ориентироваться в международной обстановке. Прошедшая война нас кое-чему научила, и мы не повторим ошибок, приведших к краху. Вас я считаю подлинным патриотом, и это позволяет мне быть откровенным. Итак: борьба, которой мы с вами посвятили жизнь, только начинается! У меня есть основания это утверждать.
— Я не спрашиваю о них, герр оберст. Но потом, когда меня освободят из лагеря… — Голос Григория прерывался от волнения.
— Если вы согласны принять участие в этой борьбе…
— О, герр Кронне, нет, герр оберст! Разрешите забыть, что мы оба в штатском, и называть вас именно так!
— Не так громко, Гольдринг! Я найду возможность повидаться с вами в лагере или в городе…
— Вот этого я никак не могу гарантировать.
Григорий рассказал Кронне историю с увольнительной, не скрыв того, что он получил её совершенно неожиданно.
— Понимаете, никаких признаков, что меня собираются демобилизовать. Тогда что означает эта увольнительная и дадут ли мне её ещё раз?
— Попробую разузнать, — спокойно пообещал Кронне и поднялся. — К сожалению, должен вас покинуть. До новой встречи, которая обязательно состоится, герр… гауптман!
Беседуя с Кронне, Григорий внимательно следил за тем, что происходит вокруг.
Обстановка в кафе менялась. Зал заполнялся посетителями, живее заскользили между столиками официанты. Но атмосфера солидного бюргерства не нарушалась до тех пор, пока в зал не ввалился пьяный американский солдат. Расстёгнутый ворот рубашки, всклокоченные волосы, красное лицо всё говорило о том, что солдат посетил сегодня не одно такое заведение и не раз приложился к рюмке или кружке пива. Заказав целую батарею бутылок и швырнув на стол несколько пачек сигарет, солдат с пьяным упрямством принялся угощать всех, кто находился в это время в кафе. Посетителей, сидевших за соседними столиками, он просто дёргал за рукав, в тех, кто сидел подальше, швырял сигареты. Увидев, что несколько человек поднялись со своих мест, солдат загородил проход, перенеся свой столик к самой двери.
— Из кафе выйдет только тот, кто выпьет кружку пива и выкурит сигарету!
— горланил он, хохоча.
Кронне солдат пропустил, но юношу, шедшего следом за ним, силой усадил рядом с собой. Тот, испугавшись, залпом выпил пиво и, схватив сигарету, выскочил на улицу. Остальные посетители не решались последовать его примеру. Сбившись кучкой возле стойки, они требовали, чтобы хозяин кафе выпустил их чёрным ходом.
Григорий был уверен, что ему, как и Кронне, удастся спокойно выйти из кафе. Расплатившись, он медленно направился к двери.
— Э-э, нет! Так не пройдёшь! — крикнул солдат и схватил Григория за руку. — Пей! — приказал он, протягивая до краёв наполненную кружку.
Тяжёлый запах водочного перегара заставил Григория отшатнуться.
— Нн-е нравится? — зло спросил солдат. Одним движением он выплеснул пиво из кружки, и лишь то, что Григорий успел вовремя отпрянуть, спасло его от неожиданного душа.
Всё остальное произошло в мгновение ока. Взмахнув рукой, Григорий сбросил бутылки на пол и, отодвинув столик, освободил себе путь к двери. Вдруг он заметил, что солдат схватился за пистолет. Молниеносный рывок — и оружие в руках Григория. Теперь лишь несколько шагов отделяли его от выхода из кафе. Он прыгнул и, разрядив пистолет на улице, швырнул его на середину мостовой. Нашёл солдат оружие или нет, Григорий уже не видел. В соседний двор, куда он вскочил, долетали лишь злобные крики и угрозы.
Всю ночь Григорий не спал, обдумывая подробности происшедшего и стараясь предугадать последствия. Много вариантов возникало у него в голове, но того, что произошло в действительности, он не мог даже предположить.
Утром бывший гауптман фон Гольдринг был арестован и в тот же вечер состоялся суд.
Два свидетеля — сам «потерпевший» и хозяин кафе — в один голос утверждали: подсудимый хотел овладеть оружием солдата; ему это даже удалось, и лишь мужество пострадавшего, который с голыми руками кинулся вслед за вооружённым преступником, лишило подсудимого возможности осуществить задуманное.
Комедия суда продолжалась недолго. Всё было расписано как по нотам, и заранее решено. Объяснения Григория судьи даже толком не выслушали. Ещё бы! Ведь у них в руках такое неопровержимое доказательство его вины: фото, якобы присланное неизвестным фотолюбителем, который был свидетелем происшествия и заботливо зафиксировал все на плёнку.
Приговор прозвучал коротко:
«Военнопленного Генриха фон Гольдринга, бывшего гауптмана немецкой армии, за попытку овладеть оружием, принадлежащим солдату оккупационной армии, — расстрелять».
С какой целью был организован этот суд, собственно говоря, не суд, а инсценировка? Вывод один — скромная особа фон Гольдринга кому-то помешала… А может быть, иное кого-то очень заинтересовала?.. Взять хотя бы человека в очках — слишком уж этот тип беспокоился о его судьбе… Или отец Фотий… Штатский, правда, ничего конкретного не предлагал, только нащупывал почву. Так же, как Кронне… Кронне? А откуда он взялся там, в кафе? Почему солдат свободно его выпустил? Правда, несмотря на штатский костюм, чувствовалось, что Кронне офицер, — на солдат это производит впечатление. Хотя этот солдат был настолько пьян… Действительно пьян или притворялся? Гм… Похоже, что, вручая Гольдрингу увольнительную, комендатура лагеря сознательно направляла своего подопечного прямо в ловушку… Но опять же — с какой целью? Ясно с какой — нужен повод, чтобы избавиться от неугодного свидетеля: слишком много рассказал отец Фотий…
Вот и распутана лента воспоминаний до конца. Нет, не фатальное стечение обстоятельств, а собственные ошибки привели его в камеру. Особенно столкновение в кафе. Заранее запланированное и спровоцированное. Словно молодой задиристый петух, ты сам полез в эту западню.
Непреодолимое желание очутиться на свободе с такой силой овладело Григорием, что все: и его раздумья, и камера смертников, и то, что неминуемо должно свершиться, — показалось нереальным, увиденным во сне. И, словно сквозь дымку сна, на него пахнуло ароматом лозы. Так пахло там, на пологом берегу Днепра, где он ещё так недавно удил рыбу.
Родина! Родина, которую он больше не увидит! Это слово сейчас включало в себя все: отцовскую посеребрённую сединой голову; последнюю предсмертную улыбку матери, необозримость безграничных полей; величие возведённых руками трудящихся строек; радость рассветов над родной землёй и очарование её вечеров.. И всё то, что не укладывается в зримые образы, но является воплощением души родного народа, его славы и силы!
Сколько раз во время войны он черпал из этого вечного источника живую воду, которая закаляла волю, укрепляла мужество, живила ум и сердце…
Сделав несколько шагов по маленькой камере, Григорий сел на единственный, крепко привинченный к полу стул. Что бы ни было, а надо беречь силы, даже не силы, а те крохи времени, которыми он ещё владеет…
Короткий миг — это ведь тоже богатство, если насытить его дополна интенсивностью мысли и чувства. Подумай — ты вдохнул глоток воздуха, почувствовал, как пульсирует кровь в висках, шевельнул рукой… В твоём мозгу промелькнуло воспоминание — Моника в белом платье с букетом цветов в руках, вся залитая солнечным светом… Разве мало одного такого мгновения? В нём ты и весь мир! Ты можешь восстановить в памяти что-нибудь прекрасное, пережитое тобой, просто вспомнить строчку стихов любимого поэта, мысленно вдохнуть аромат розы, почувствовать прикосновение дружеской руки, увидеть огонь костра, представить стремительный полет ласточки в необозримом океане неба, по которому, словно парусники, плывут облака, ещё раз пережить напряжение борьбы и радость победы, мысленно вернуться к каждому, кто обогатил твою жизнь плодотворной идеей, дружбой, любовью… — каким богатством ты ещё владеешь!
Незаметно за маленьким зарешеченным оконцем вечер перешёл в ночь, а ночь отступила перед утренним рассветом. Григорий ни на секунду не сомкнул глаз. Такой роскоши он не мог себе разрешить — ведь ему ещё так много надо было вспомнить.
Под утро даерь камеры, скрипя, отворилась. Григорий быстро поднялся. Для раздатчика суррогатного кофе и эрзацхлеба слишком рано. Неужто?..
Но порог перешагнул не тюремщик с конвоем, не поп, на появление которого можно было рассчитывать перед расстрелом, а элегантный господин, и камера тотчас наполнилась ароматом туалетного мыла и духов. В тусклом свете красноватой лампочки, горевшей под потолком, залоснилась гладкая причёска с безукоризненным пробором, заблестели стёклышки старомодного пенсне на сухом, с горбинкой, носу.
— Простите за вторжение, — проговорил господин так, словно находился не в камере смертника, а в светском салоне, — и разрешите представиться: здешний врач.
— Очень сожалею, но медицинской помощи мне не потребуется, так что…
Григорий продолжал стоять, надеясь, что непрошеный посетитель тотчас уйдёт. Но тот, сняв пенсне, подул на стёклышки и принялся старательно протирать их, очевидно готовясь к осмотру и длинному разговору.
— Повторяю, вы напрасно беспокоитесь. Очень вам благодарен, но я хотел бы остаться один, — уже нетерпеливо сказал Григорий.
— Понимаю, понимаю и ваше возбуждение и ваше раздражение! Это так естественно… Мне не хочется быть навязчивым, но поверьте, не только обязанности официального тюремного врача привели меня сюда.
— Тогда что ещё?
— Разрешите сесть?
— А я имею право не разрешить?
— Так, так, ирония, бравада… Мы все прибегаем к ним в трудную минуту жизни…
— Господин доктор, минут у меня осталось в обрез. Напоминаю вам об этом.
— Я долго не задержу вас, и вы не пожалеете, что выслушали меня.
— Ну, что ж… — Григорий устало опустился на койку и вздохнул. — Говорите, и чем короче, тем лучше.
— Хочу сразу же предупредить, что я пришёл как друг. Вы удивлены, но это именно так.
Григорию показалось, что его сильно толкнули в грудь сердце бешено заколотилось. Неужели появился шанс на спасение? А что, если это новая игра, попытка сломить его волю перед расстрелом, вывести из равновесия? Любой ценой надо сдержаться, не выдать волнения!
— Странно. Меня вы не знаете, быть посредником между мной и ещё кем-то не можете — ведь у меня здесь нет ни одного близкого человека. Следовательно…
— Простите, а герр Кронне?
— Кронне? — в голосе Григория прозвучало искреннее удивление.
— Да, именно он попросил меня передать его глубокое сожаление по поводу того, что произошло. Он испробовал все возможности вам помочь, но оказался бессилен — с такой быстротой закружилась эта чёртова мельница правосудия. И теперь он жаждет…
— Откуда ему всё известно?
Вопрос словно повис в воздухе. Сокрушённо покачивая головой, врач сунул руку в карман, долго шарил там и, наконец, вытащил свёрнутый листок. Словно колеблясь, развернул его: даже в полутьме можно было разглядеть набранный готическим шрифтом заголовок газеты-листовки, которую вот уже две недели как издавали в лагере военнопленных. Основным материалом служили платные объявления — обращения отцов, матерей, жён, разыскивающих своих близких в лагерях для солдат и офицеров бывшей гитлеровской армии. Несколько скучнейших лагерных новостей и непременно ужасающий рассказ беглеца из Восточной зоны заполняли оставшееся место.
— Прочитайте вот это! — врач протянул газету.
— Вы забываете, у меня человеческие, а не кошачьи глаза. В такой темноте я ничего прочесть не могу.
Неожиданно вспыхнул карманный фонарик и осветил обведённую красным карандашом заметку на первой полосе. Григорий впился в неё глазами.
«Сегодня в пять часов утра, — сообщалось в информации, — приведён в исполнение приговор суда, приговорившего бывшего гауптмана немецкой армии Генриха фон Гольдринга к расстрелу за вооружённое нападение на солдата оккупационных войск. Перед смертью гауптман Гольдринг искренне раскаялся и подал прошение о помиловании. Командование оккупационных войск прошение отклонило».
— Который час? — спросил Григорий и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Да и голоса своего не узнал — он звучал хрипло и глухо.
Доктор осветил фонариком циферблат ручных часов.
— Без двенадцати четыре.
— Значит, в моём распоряжении час и двенадцать минут. Для смертника час плюс двенадцать минут — это же целая вечность. Или один миг. Как воспринять…
— Поверьте, эта газета жгла мне руки!
— Нечасто приходится читать сообщение о собственной смерти. Не скажу, что это очень приятно, но… не лишено интереса. Кстати, вам неизвестно, почему они так торопятся избавиться от меня?
— Ваша казнь — предостережение для других. Война всем осточертела, люди мечтают о мире и отдыхе. Попытка поставить во главе отрядов, перебрасываемых на Западную Украину, опытных военных руководителей — проваливается. Ваш пример должен устрашить остальных: при расстреле, я слышал, будут присутствовать все, кто колеблется.
— Наглядная, так сказать, агитация? Ну и ну! Молодчики из союзного командования не слишком разборчивы в методах.
— Совершенно с вами согласен. И поэтому я так охотно согласился выполнить просьбу герр Кронне.
— Жаль, что он тогда так быстро покинул кафе. Если бы не…
— О, он так казнит себя!
— Передайте герр Кронне: страшны не мёртвые, а живые, глядящие в лицо. Поскольку я вскоре выйду из игры…
— Вы мужественный человек, герр Гольдринг!
— Единственная роскошь, которую я могу себе позволить. Хотя, судя по информации, я умер как трус.
— Ваши друзья узнают, что это не так.
— Буду очень благодарен. А теперь… — Григорий поднялся, давая понять, что хочет остаться один.
Врач нервно заёрзал на стуле.
— Одну минуточку!.. Герр Кронне хотел… и я сам, как человек гуманной профессии… Погодите, куда же я задевал её? Ага, вот, берите, — в пальцах врача, отливая перламутром, блеснула маленькая ампула. — Надо её проглотить, и вы уснёте, тихо и без боли.
— Чтобы никогда не проснуться?
— Да!
Григорий взял ампулку и почувствовал на ней тепло пальцев, только что державших её.
«Неужели у меня такие холодные руки?» — мелькнула мысль.
— Интересно! — согнув руку лодочкой, Григорий задумчиво перекатывал ампулку по ладони. — В такой маленькой оболочке заключено так много: тихий, безболезненный сон, небытие, которое будет длиться вечно. А если взглянуть шире, то и больше. Гейне говорил, что каждый человек — это весь мир, который с ним рождается и с ним умирает. Что под каждым надгробием похоронена вся история человечества. Не помните, откуда это?
— О, в такой момент… когда в мыслях такой разброд… Очень прошу вас, будьте осторожны с ампулой! Она может упасть, куда-то закатится, и тогда…
Улыбнувшись, Григорий решительно протянул ампулу врачу.
— Чтобы вы не волновались, возьмите!
— То есть?
— Я всё равно не воспользуюсь ею. Отпущенное мне время я хочу прожить сполна и встретить смерть, как подобает человеку.
— Именно этого Кронне и опасался! Что же касается меня, то я не понимаю вас, просто не понимаю…
— Каждый живёт по-своему и по-своему умирает.
— У вас крепкие нервы. А мои, признаться… — от растерянности врач начал шарить по карманам, наконец вытащил портсигар и дрожащими пальцами прикурил сигарету. — Извините, что без разрешения, две-три затяжки меня успокоят… Простите, совсем не подумал, вы, верно, давно не курили? К сожалению, осталась только одна. Пожалуйста! Ах да, спички!
— Вот за это большущее спасибо, — ноздри Григория с жадностью втягивали запах табачного дыма, и он едва удержался от желания закурить тотчас. — С вашего разрешения спички оставлю у себя для последней затяжки…
— Конечно, конечно… — поспешно поднявшись, врач поклонился. — Не стану вам больше мешать. Моё почтение, герр Гольдринг!
— И моё тоже. Советую переменить место работы. С вашими гуманными взглядами…
— Да, да, это не для меня, никак не для меня… — Врач сделал вид, что не понял смысла, вложенного в последнюю реплику тем, кого он принимал за Гольдринга.
…Зажав сигарету между пальцами, Григорий подошёл к окну. Предрассветная мгла рассеивалась, и теперь хорошо был виден квадратный тюремный двор. Там, несмотря на такую рань, было необычайно людно. Солдаты в форме оккупационных войск перебегали от одной группки пленных к другой, два офицера нетерпеливо отдавали команды и снова возвращались к прерванному разговору, очевидно очень весёлому и далёкому от того, что здесь готовилось, ибо время от времени они разражались хохотом.
«Ещё несколько минут, и за мной придут, — подумал Григорий. — Не дадут, чёрт побери, закурить…»
Чиркнув спичкой, он зажёг сигарету и с наслаждением затянулся. Но табак был невкусный. Возможно, потому, что Григорий закурил после долгого перерыва. Натощак. Конечно, дело в этом. Вот и голова затуманилась, а руки и ноги отяжелели. Деревенеют и все. И в глазах темнеет…
Держась за стену, Григорий сделал несколько шагов в сторону койки и свалился на неё, как сноп.
Словно из далёкого далека донёсся до него звук шагов, показалось, что кто-то склонился над ним. Григорий попробовал открыть глаза, хотел проверить, явь это или сон, но приподнять веки не смог, как ни старался. Они словно налились свинцом. Потом исчезло и это желание. Он больше ничего не хотел и не чувствовал…
ЧАСТЬ I
КАПРИЗНЫ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
Берта была в восторге от Севильи. Собственно, не так от самого города, с которым она ещё не успела ознакомиться, как от нового жилья. Подумать только! Вместо шаблонной берлинской квартиры в её распоряжении домик с патио, то есть внутренним двориком посредине, где среди вечнозелёных деревьев и пышных цветов неугомонно журчит фонтан, наполняя кристально чистой водой небольшой, выложенный мраморными плитами бассейн.
— Наш маленький эдем! — сказал Иозеф в день приезда, выйдя с женой на тенистую веранду. Она огибала домик со всех четырех сторон, замыкая патио.
— О! — только и могла воскликнуть Берта в изумлении.
— Скажи спасибо маврам за это чудо. Это их стиль сохранился в Севилье до наших дней. Местные жители очень любят патио и даже новые дома строят в стиле старинных мавританских.
— И все с фонтанами? — насторожилась Берта, которая уже привыкла к мысли, что владеет чем-то исключительным, особым.
— В большинстве, — улыбнулся Иозеф. — Но пусть это тебя не смущает, милая. Они не все действующие. Представь себе, значительная часть фонтанов снабжается водой из акведуков, построенных ещё во времена Юлия Цезаря, когда Севилья была римской колонией.
— Боже, какая старина!
— О, в Севилье ты наглядишься на неё вволю! Будет чем похвастаться перед завистливой Гретой Эйслер, которая считает, что я завёз тебя чуть ли не в ссылку. Один музеи чего стоит. Не зря испанцы говорят: «Кто не бывал в Севилье, тот ничего не видал».
— Я вижу, ты стал настоящим испанцем, Зефи!
— Пришлось. Не зная языка, я бы не смог ничего достичь.
— О, эта твоя работа! Я, должно быть, никогда не привыкну к тому, что должна носить здесь фамилию фрау Нунке! Да, а как будет с письмами? Не могу же я написать родным и знакомым…
— Письма будут приходить на другой адрес. Не волнуйся, я обо всём позаботился.
— Всё-таки я хочу знать, почему твоя фирма…
— Секреты экспорта и импорта, моя милая! Бывают случаи, когда приходится действовать через подставных лиц. И не мучь этим свою хорошенькую головку. У неё и так много хлопот: надо обставить наш дом, как положено богатому коммерсанту, позаботиться о твоих туалетах. Мне придётся завести обширные знакомства. Надо будет выезжать в свет, принимать у себя… Ты довольна?
Берта головой прижалась к плечу мужа.
— Разве ты не соскучился по мне, Зефи? Разве тебе не хочется хоть немного пожить вдвоём? Помнишь, как тогда, во время свадебного путешествия?
Иоэеф Нунке вспомнил поездку в Италию. Денег у них было в обрез, и молодожёны вынуждены были останавливаться во второразрядных гостиницах, где всегда остро пахло кухней, приходилось умываться из фаянсового таза, а бельё меняли раз в две недели. Берта была очень мила и делала вид, что её это ни чуточки не трогает, но он, Иозеф, нестерпимо страдал от чувства унижения, возникавшего всякий раз, когда приходилось отказывать себе в удобствах или невинных развлечениях. Именно там, в Италии, он дал себе слово во что бы то ни стало при первой же возможности выбиться в люди. Наследник обедневшего юнкерского рода, он по приезде домой с упорством и педантичностью возобновлял старые родственные связи и вскоре стал завсегдатаем нескольких небольших салонов, где собирались в основном военные, близкие к околоправительственному окружению, мечтавшие о реванше после позорного поражения в войне четырнадцатого года. Молодой энергичный офицер привлёк к себе внимание тем, что уже в те годы призывал готовиться к реваншу. Его заметили. Вскоре одно важное лицо из одного влиятельного учреждения предложило ему должность, солидный оклад и специальные премиальные за выполнение особо деликатных поручений. Одним из них и была поездка на продолжительный срок в Севилью, большой портовый город с артиллерийскими, авиационными, оружейными и патронными заводами. Так появился «коммерсант» Иозеф Нунке — человек богатый, светский, любезный, которого охотно принимали в обществе.
— Ты не отвечаешь, Зефи?
— Прости, дорогая! Я вспомнил о нашем свадебном путешествии. Я не мог тогда предоставить тебе всё, что хотел. Зато теперь…
— Мы были богаче всех богачей: с нами была любовь. Мне обидно, что ты позабыл об этом. — В укоризненном взгляде Берты было ожидание, она надеялась: муж усыпит её ревнивые подозрения. Почти полгода они не виделись, мало ли что могло произойти за это время…
Но Нунке, поглощённый планами на будущее, только ласково потрепал жену по щеке.
— Причудница, как и все женщины! Утончённое чувство требует утончённой оправы. Теперь она у нас будет. И любовь наша расцветёт заново. Увидишь, как весело и счастливо мы тут заживём.
В тот же вечер Нунке потащил жену на плац Нуэва — излюбленное место прогулок горожан. В аллеях, протянувшихся среди апельсиновых деревьев, было людно. Берту удивило, как много знакомых у её мужа. С одними он просто здоровался, кивая издалека, к другим подходил, знакомил с женой. Берту бесцеремонно разглядывали, но встречали приветливо, она чувствовала, что нравится, и это тешило её женское самолюбие. Однако, возвращаясь домой, она была печальна. Молодая женщина хотела первый вечер на испанской земле провести с мужем наедине: поведать ему о всех горестях своей одинокой жизни, ощутить близость того, о ком так тосковала, убедиться, что чувство к ней не угасло.
— Что с тобой? — спросил Нунке, удивлённый тем, что жена молчит, не расспрашивает о новых знакомых, не замечает, кажется, прелести и своеобразия зданий, мимо которых они проходили.
— Обещай мне, что завтра мы будем только вдвоём, — вместо ответа попросила Берта. — Все эти сеньоры и сеньориты слишком болтливы, а обилие новых лиц меня просто ошеломляет. К тому же я очень плохо знаю испанский…
— Тебе придётся изучить его как можно скорее. И знаешь, я нашёл тебе чудесного учителя. Местный врач, влюблённый в старину. Он разговаривает по-немецки, правда с акцентом, и охотно будет сопровождать тебя в путешествиях по городу. Я уже договорился с ним.
— Спасибо, — сухо ответила Берта.
— Ты напрасно обижаешься, дорогая. Я просто не могу уделить тебе столько времени, сколько хотел бы. Не забывай — у меня много служебных обязанностей.
— Понимаю, — сдержанно кивнула молодая женщина.
Нет, жизнь сложилась не так, как хотелось Берте. Мужа она видела только за обедом и вечером, да и то не каждый день. Если бы не хлопоты с устройством нового жилья, она просто не знала бы, куда себя девать. И если бы не дон Эмилио Эрнандес.
Человек далеко не молодой, немного меланхоличный, дон Эмилио вначале пугал Берту старомодной изысканностью манер, его присутствие сковывало её. Но доктор так чутко улавливал все оттенки её настроения, умел так тактично переключать её мысли на другое, когда она была чем-то недовольна или опечалена, так все хорошо знал, что вскоре стал для Берты незаменимым советчиком и чичероне.
Освободившись от забот по устройству дома, молодая женщина с удовольствием бродила по городу. Она научилась ощущать аромат его истории — ведь о каждом вновь увиденном памятнике старины дон Эмилио рассказывал так увлекательно! В его печальных глазах вспыхивала настоящая страсть, и мёртвые камни оживали, залы дворцов заполнялись призраками бывших их владельцев, на развалинах городского вала снова поднимались шестьдесят шесть башен двадцатиугольной Торе дель Оро — Золотой башни, построенной на Гвадалквивире. Сюда, как и в седую старину, приставали корабли, гружённые сокровищами испанских конквистадоров.
Вскоре Берта уже сама могла быть гидом. У Нунке выдалась свободная неделя, и она решила попробовать свои силы и проверить приобретённые знания.
— Дворцы Алькасар и Сан-Тельмо, библиотека Колумба, ратуша, университет, биржа, собор Пресвятой Девы… дорогая, неужели ты собираешься тащить меня туда? Все это я видел, и, признаться, из всех сооружений, какими здесь гордятся, меня больше всего интересует цирк для боя быков. После мадридского он, кажется, второй по величине во всей Испании. Вот это настоящая экзотика, а не изъеденные временем дворцы. Обязательно пойдём с тобой на корриду! Я один раз был — незабываемое зрелище и незабываемое ощущение…
— Но ведь Алькасар построен маврами! Представляешь, когда это было? Его начали возводить ещё в двенадцатом веке! Аюнтамьендо — ратуша, о которой ты с таким пренебрежением говоришь, — это же здание пятнадцатого века, стиль раннего Ренессанса. В библиотеке Колумба, основанной его сыном, кроме массы редчайших книг, хранится около двух тысяч древних рукописей. Что же до кафедрального собора, то я просто очарована его величием и красотой. Он весь словно тянется к небу. А его колокольня, прославленная «Ла хиральда»! Знаешь, её перестроили из минарета, да и весь собор возведён на фундаменте маврской мечети в самом начале пятнадцатого века. Правда, потом кое-что расширили, достроили… Ну, давай пойдём сегодня хоть в собор! Когда играет орган на пять тысяч труб… Или когда смотришь на святого Антонио, кисти Мурилъо… В 1812 году герцог Веллингтон пытался купить это полотно, предложив закрыть его золотыми монетами… Когда дон Эмилио рассказал мне об этом, я посмеялась над экстравагантностью герцога, но, увидев картину… Верно, будь я герцогиней, тоже не пожалела бы всего своего золота!
— Тогда я должен лицом к лицу встретить опасность, которая может разрушить наше благосостояние, — рассмеялся Нунке. — Что ж, пошли в собор!
Знаменитая картина Мурильо висела в правом алтаре храма. В этот день здесь, как обычно, толпилось немало туристов. Но Берте, привыкшей к этому, они не мешали. Она вся отдалась во власть любимого творения гениального мастера. И, как бывало всякий раз, сердце её нестерпимо забилось, словно и она приобщалась к чуду видения Антония Падуанского. Светозарное и впрямь неземное сияние освещает часть тёмной монастырской келий. Лучи проникли сюда не извне — их излучает тельце младенца Христа, по-человечески трогательного в своей земной наготе и безгранично величественного, благодаря силе проникновенного милосердия, которым дышит его личико. И другое лицо — самого Антония, который стоит на коленях. Высокое устремление духа, радостный восторг, экстаз полного самозабвения. Он, Антоний, живой, живее всех стоящих рядом с Бертой…
Рука Нунке легла на руку жены:
— Пойдём, Берта! Не стоять же нам здесь вечно.
— Мне кажется, что это не картина, а моё собственное видение.
— Тебя загипнотизировали золотые герцога Веллингтона. По мне, так ничего особенного. Живопись на религиозные темы оставляет меня совершенно равнодушным.
— Но ведь важна не тема, а исполнение. Здесь речь идёт о человеке с его вечным стремлением к идеалу… так мне кажется.
— Вот-вот, кажется. А ты погляди трезвыми глазами.
«Какие они разные с доном Эмилио! — грустно подумала Берта. — Тот весь перевоплощается, когда речь идёт о чём-то близком его романтической душе… А Иозеф… он всем своим существом прикован к земле, ко всему обыденному…»
Нунке не догадывался, что в этот день жена впервые посмотрела на него критически, и это было началом краха его семейной жизни.
«Он заботится лишь о карьере… для него на первом плане деньги… Какая самоуверенность при полной ограниченности!.. Вульгарная фамилия „Нунке“, которую он себе выбрал, подходит ему как нельзя лучше… И вообще, что это за таинственная работа, о которой он избегает говорить? Любовь для него лишь физиологический акт, не более… Он много ест — это противно!.. Красив ли он? Красивая вывеска над лавчонкой стандартных вещей… Ты когданибудь видела, чтобы он увлёкся книгой? Возможно, у него была и есть любовница — его ласки становятся нескромными… А эта привычка курить дома дешёвенькие сигары!..»
Изо дня в день отмечая про себя все новые и новые недостатки мужа, Берта невольно сравнивала его со своим новым другом. «Как отлично дон Эмилио разбирается в живописи! Не напрасно в здешнем музее его встречают с таким уважением… У него утончённый вкус, а держится он как настоящий аристократ… Все схватывает с полуслова, ибо сам тонко чувствует… Очевидно, дон Эмилио пережил какую-то личную драму, иначе его лицо не было бы так печально… Какие красивые у него глаза, какие тонкие черты! Седина на висках даже идёт ему… У Эмилио большая практика, но в основном в бедных кварталах — это говорит о добром сердце и пренебрежении к деньгам… Упаси боже заболеть! Иозеф тогда непременно обратится к дону Эмилио, а она ни за какие сокровища в мире…»
Поняв, что неравнодушна к дону Эмилио, Берта испугалась. Какой позор! Замужняя женщина… дочь таких солидных родителей… Надо положить конец прогулкам, пока она ещё властна над своими чувствами.
Под всяческими предлогами Берта стала избегать встреч с доктором вне дома, хотя, оставаясь одна в своём патио, отчаянно тосковала. Вечерние выходы вместе с Нунке в театр, в ресторан или к знакомым только раздражали её.
— Ты стала чересчур раздражительна, Берта! — заметил Нунке. — Возможно, это объясняется тем, что в нашей жизни может появиться.. — Он не закончил, заметив, как побледнела жена. — Ты боишься, что это произойдёт далеко от родного дома? — спросил он с несвойственной ему нежностью.
Тон, каким это было сказано, встревожил Берту.
«Я чудовище! — подумала она. — Это кощунство горевать об Эмилио, когда я ношу под сердцем ребёнка Зефи! Мне надо бежать из Севильи, избавиться от её чар… Возможно, всё, что я чувствую, лишь нарушение психики, которое объясняется моим положением… Безусловно, это так…»
Решение вернуться в Берлин успокоило Берту. Чтобы проверить себя, она послала дону Эмилио коротенькую записочку с просьбой прийти.
— Я была в плохом настроении и отвратительно вела себя с бедным Зефи и с вами, милый мой друг. Вы не сердитесь?
— Только огорчаюсь, что надоел вам своими древностями, — отвечал доктор. — Такой молодой очаровательной женщине надо ощущать пульс современной жизни, а не прислушиваться к шорохам прошлого… Хотите, я покажу вам другую Севилью? Весёлую, шумную и не совсем обычную.
— Я уже сейчас умираю от любопытства! Куда же мы направимся?
— На правый берег Гвадалквивира, в предместье Триану.
— В Триану? — Нунке, присутствовавший при этом разговоре, высоко поднял брови. — А я было собрался присоединиться к вашей компании!
— Вы с этого берега видите лишь трубы её фабрик и заводов. А я покажу вам совсем другое: своеобразное государство в государстве, владения гитанос. Даже нас, местных жителей, которые так любят яркие наряды и украшения, все там поражает богатством красок, цветов и оттенков, до боли в глазах пёстрых, иногда неправдоподобных и всегда манящих. О туристах я уже не говорю…
— Гитанос? То есть цыган? Ведь они же кочевники? — удивился Нунке. — Я не представляю их без кибиток.
— В южной Испании, и особенно в Севилье, есть оседлые цыгане. Их старались приучить к работе на фабриках и заводах и потому разрешили поселиться в Триане, но с работой ничего не вышло. Они держатся в стороне, потому и сберегли свою самобытность во всей её первозданности. Многочисленные цыганские семьи фактически составляют один большой род, где так перепутались родственные отношения, что только самые старые из них помнят, кто кому приходится троюродным братом или четвероюродной сестрой. Что же касается ещё более дальних родственных связей, таких, как сват, пятиюродная тётя или дядя, то тут сам черт ногу сломит, если попробует точно восстановить, кто кому кем доводится… Своеобразный, совершенно своеобразный мир!
— Вы говорите, цыгане не работают, а на что же они живут? — спросила Берта.
— Как и их предки кочевники, живут «чем бог послал»: торгуют лошадьми, скотом, медными кастрюлями собственного производства, изготовляют красивые, причудливо разукрашенные ножи, скупают и продают поношенную одежду… Женщины гадают на картах, звёздах и корешках таинственных, только им известных растений. Молодёжь развлекает туристов цыганскими танцами и песнями. Надрывные, всегда остросюжетные, весёлые; зажигательные, они не могут оставить слушателей равнодушными. Свою долю в общий котёл вносит и детвора — там что-то стащат, здесь выпросят. Вообще количество ребятишек трудно даже учесть. Они шныряют повсюду. Где проводят день, что делают, чем питаются, не может сказать даже самая заботливая цыганская мать. Впрочем, сами увидите.
Берта, как обычно, радостно откликнулась на предложение дона Эмилио. После некоторого колебания решил поглядеть на жизнь гитанос и Нунке.
— Только с условием: на обратном пути вы завезёте меня в гавань Таблада. Там у меня деловое свидание, — предупредил он.
На тот берег добрались на стареньком «форде» доктора, но в уголок предместья, где обитали гитанос, решили идти пешком. Здесь проехать было трудно. Часть Трианы, где жили цыгане, напоминала большой восточный базар. Здесь все кружилось, двигалось, изменялось. Обитатели этих кварталов хоть и были коекак обеспечены жильём, пользовались им только в непогоду. Ненастье в Севилье — явление редкое, так что вся жизнь гитанос проходит на улицах и площадях. Комнаты и даже квартиры используются как склады для различных вещей, предназначенных на продажу, и прежде всего тех, которые попали к цыганам не совсем легальным путём. Полиция в своё время пыталась производить обыски у цыган, но после того, как у двух полицейских во время этих акций исчезли бумажники и кобуры пистолетов оказались пустыми, рвение блюстителей порядка поостыло. Они избегали появляться здесь даже в том случае, когда у кого-либо из местных жителей уводили коня.
И всё же, пренебрегая опасностью лишиться бумажника, часов, драгоценностей, горожане часто навещали эту самую дальнюю окраину города.
И не только они — люди приезжали сюда из самых отдалённых мест Андалузии. Дело в том, что трианские гадалки прославились на всю южную Испанию. Одним хотелось узнать о судьбе мужа или сына, отправившегося в Америку в поисках счастья и бесследно исчезнувшего, другим — убедиться в верности любимого или любимой. Больные приезжали к знаменитым трианским знахаркам, каждая из которых, не колеблясь, бралась за лечение самых тяжёлых болезней, будь то распространённая на юге Испании трахома или чахотка…
Цыгане, привыкшие к появлению чужих, равнодушно глядели на сеньору и двух её кавалеров. Только среди женской части населения появление незнакомцев вызвало некоторое оживление. Но, убедившись, что сеньора, смеясь, отказывается от гадания и лекарств, молодые гадалки и старые знахарки принялись за прерванные дела. Детвора тоже скоро поотстала, получив пригоршню песет, заранее приготовленных доном Эмилио. Можно было спокойно бродить по улицам, присматриваться и прислушиваться.
— Мне как-то неловко, — пожаловалась Берта, вроде я в щёлку подглядываю чужую жизнь. Как они могут жить так открыто?
— Примитивны, как животные, — равнодушно бросил Нунке.
— Не сказал бы, — возразил доктор. — Непривыкшие к условностям нашего цивилизованного мира, они просто пренебрегают ими. Цыгане слишком жизнерадостны и свободолюбивы, чтобы ограничивать себя рамками каких-либо принятых у нас правил. Их предки кочевали по степям, долинам, чащам. Кто мог их там видеть и слышать? Что им было скрывать? Ведь жили они одним большим родом,..
— А вот и подтверждение ваших слов, дон Эмилио! — прервала его Берта. — Взгляните на эту девушку, которая так спокойно, на виду у всех расчёсывает волосы. Даже не повернётся в нашу сторону. Мы для неё просто не существуем. Любопытно, что будет, если подойти к ней.
— У тебя длинные красивые косы, — сказал доктор, подходя к девочке. — Хочешь, я дам тебе денег на шёлковые ленты? Только ты нам спляшешь…
— Мне не хочется сейчас плясать…
— Может, ты не умеешь?
— Не хочу.
— Ты не разговорчива. Как тебя зовут?
— Мария, — неохотно ответила девушка-подросток и, сердито блеснув чёрными глазами, отошла в сторону.
— Видите, как независимо держит себя эта девчушка? Ни капельки подобострастия. А какая походка, вы обратили внимание? Кажется, ножки её не касаются земли.
— Надо сказать, достаточно грязные ножки, — насмешливо заметил Нунке.
— Ты, Зефи, невыносим со своим скепсисом. Девочка прехорошенькая. Жаль, что мы не узнали, как её фамилия! Я бы что-нибудь оставила её родителям.
— А у женщин-цыганок нет фамилий, — пояснил дон Эмилио. — С тех пор, как правительство Испании обязало цыган отбывать воинскую повинность, у мужчин появились фамилии. Но какие! В личных карточках призывников-цыган, например, бывают такие записи: «Педро, сын Паласио Кривого» или «Басилио, приёмыш гадалки Консуэлы, родной сестры кузнеца Хуана»…
— Какая нелепость! — фыркнул Нунке.
Мог ли он в эту минуту даже подумать, что судьба ещё раз сведёт его с чернокосой и черноглазой Марией, не имеющей даже собственной фамилии?
Прогулка по Триане закончилась к вечеру и очень невесело: уже в машине Нунке заметил, что у него исчез бумажник.
— Логово воров, которое надо смести с лица земли! — бесновался он. — Что за безумная идея возникла у вас, дон Эмилио, потащить нас к этому сброду? Не совсем справедливо, что расплачиваюсь за это я!
Доктор побледнел:
— Сколько было у вас у бумажнике, герр Нунке? Я считаю делом чести вернуть все, — проговорил он с холодной сдержанностью.
— Оставьте своё при себе! — грубо отрубил Нунке.
Берта глотала слезы. Когда возле гавани Таблада муж вышел из автомобиля, она не выдержала и разрыдалась.
— Простите, дон Эмилио, о, простите! Иозеф по временам бывает так груб! Мне стыдно перед вами…
— Не придавайте этому значения, фрау Берта! Мы, мужчины, часто бываем несдержанны в выражениях… то ли из-за перегруженности делами, то ли из-за служебных неприятностей…
— Не поверю, что и вы можете себя так вести!
— Иногда я тоже теряю власть над собой, — произнёс дон Эмилио странно изменившимся голосом. Если вы будете плакать, это может случиться. Да, да, может случиться, ибо… — он оборвал фразу и остановил машину. — Давайте пройдёмся по набережной! Нам обоим надо успокоиться.
Заходящее солнце зажгло на небе настоящий пожар. Воды Гвадалквивира расплавленным золотом текли между берегов. Золотыми были и шпили многочисленных церквей, возвышавшихся над городом, а статуя Веры на колокольне собора словно плыла в воздухе, оттолкнувшись ногой от шпиля, на котором была установлена.
Берте все казалось нереально-сказочным, как и те чувства, что переполняли её сердце.
— Вы не договорили, — напомнила она вдруг, прикоснувшись к руке своего спутника.
— Есть вещи, о которых лучше молчать. Пусть мечта остаётся мечтой… Поверьте, от столкновения с действительностью она блекнет.
— По-вашему, человек должен порвать с действительностью и жить в мире сказок.
— В зависимости от его характера. Слабые натуры уходят в царство мечты. Я из таких…
«А я?» — подумала Берта. И вдруг представила свою жизнь в Берлине, размеренную, упорядоченную, быть может несколько скучную, но раз и навсегда установившуюся. Нет, такая жизнь крепко её держит. Это физическое состояние виной тому, что она утратила равновесие, поддалась соблазну. На миг Берте показалось, что она вырвалась из обыденности и, словно статуя, сорвавшаяся с пьедестала, взлетела ввысь. Глупости, иллюзии! Надо положить всему конец…
Через неделю молодая жена Нунке, сославшись на своё состояние, требующее постоянного врачебного наблюдения и забот домашних, выехала в Берлин.
По странному стечению обстоятельств в тот же майский день 1930 года из цыганского селения исчезла маленькая Мария.
Девочку в цыганском таборе прозвали «Приблудная». Её отца и мать арестовали за кражу, и они бесследно исчезли в таинственных застенках испанской полиции, когда Мария была совсем маленькой. Род не оставил девочку, а принял в общину и содержал, именно содержал, а не воспитывал, ибо о воспитании её никто не заботился. Мария с детства делала всё, что хотела, ходила, куда хотела, а кормилась там, где в этот день готовили самую вкусную еду.
Исчезновение Марии заметили не сразу. Это и понятно: оседлые цыгане в эти дни были охвачены волнением и тревогой.
Весть об опасности принесли детишки, как обычно носившиеся повсюду, зачастую далеко за пределами Трианы. Вечером двадцать первого мая они прибежали испуганные, издали выкрикивая:
— Табор! Табор! Табор!
Цыгане переполошились. Даже их главарь — кузнец Альфонсо, расспрашивая детвору, не мог скрыть волнения. Да, по всему видно, ребятишки говорят правду: в нескольких километрах от Трианы расположился табор.
Кочевники! Злейшие враги оседлых цыган!
Давно, очень давно возникла эта вражда. С годами она не угасала, а ещё больше разгоралась. И дело совсем не в том, что кочевники относились к своим оседлым собратьям как аристократы к плебсу. Главная опасность таилась в другом: кочевники жестоко карали оседлых за измену извечным цыганским традициям. Мстили по-разному: поджигали дома, воровали детей, издевались над теми, кто по неосторожности попадал к ним в руки, зачастую даже убивали.
Было от чего встревожиться трианцам.
В тот вечер окраина, где жили цыгане, словно вымерла. Ни детского крика, ни окриков старших, ни ругани между старыми цыганками, ни звуков гитары, ни песен. Стихли и опустели многоголосые дворы. Жители спрятались за плотно запертыми дверями и ставнями, прихватив с собой все самое ценное из раэбросанного по двору имущества. Пустота, воцарившаяся тут, ещё больше подчёркивала тишину, в которую погрузилась окраина. Лишь в самом отдалённом конце предместья, где главная улица переходила в степную дорогу, слышались приглушённые голоса. Там собралось все мужское население, вооружённое топорами, ножами, а то и просто кольями.
В напряжённом ожидании прошёл день, другой. А на третий высланная разведка донесла:
— Табор снялся и уехал!
Реакция была бурной: такого взрыва веселья не помнили даже самые старые цыгане.
Когда начались танцы, старый Альфонсо позвал:
— Мария! Где ты? Покажи, как умеют танцевать трианские девушки!
Но Мария не откликнулась. Её не нашли. Как ни искали. Каждый из присутствующих старался припомнить, где и когда видел девочку. Это было не так уж легко, учитывая панику, охватившую население предместья в последние дни.
— Я помню, последний раз она разговаривала с сеньором и красивой белокурой сеньорой, — вспомнил кто-то из женщин.
— Тоже сказала! После этого я варила баранью похлёбку и Мария обедала с нами.
— А я видел её в тот день, когда детвора рассказала о таборе. Помнишь, Альфонсо, ты ещё накричал на Марию за то, что она вмешалась в разговор — все допытывалась, где этот табор?
Поспорив ещё немного, о девочке забыли. Хотя исчезновение «Приблудной» немного и опечалило присутствующих, но празднество продолжалось. Слишком большой и всеобъемлющей была радость А тем временем Мария переживала большое горе.
«Почему наши так испугались? — спрашивала себя девочка. — Те ведь тоже цыгане… Интересно, каков он, этот табор?»
Непреодолимое любопытство влекло Марию все разузнать самой. Девочка не привыкла предупреждать кого-либо о своих прогулках, а тут ещё интуитивно чуяла, что переступает какую-то запретную грань. Поэтому тайно, ночью, обойдя окраину, где дежурили мужчины, она побрела вдоль берега на север — в направлении, указанном цыганятами.
Ещё не рассвело, когда Мария приблизилась к табору. Утренняя мгла окутывала шатры и кибитки. Девочка решила подождать, пока таинственные кочевники проснутся. Она села на прибрежный камень, крепко обхватив руками колени, — утро было на редкость холодным.
Первой Марию увидела старая цыганка. Заспанная, растрёпанная, она, зевая, вышла из шатра. Марию так рассмешил её вид, что девочка громко прыснула.
Старуха что-то крикнула, и табор мигом проснулся. Все, от мала до велика, высыпали из шатров и кибигок. Дети ринулись было вперёд, но старый цыган сердито прикрикнул на них, и они рассыпались во все стороны, как горох.
Мария поднялась. Но не успела она двинуться в сторону табора, как у его обитателей вырвался крик возмущения. Никто не помнил случая, чтобы ктолибо из этих предателей — оседлых — добровольно пришёл в табор кочевников. Навстречу девочке полетели камни, палки, кружки — всё, что было под рукой.
Седобородый снова что-то крикнул толпе и сам пошёл навстречу непрошеной гостье.
Пощёлкивая кнутом, он подошёл к Марии и остановился в трех шагах от неё.
— Откуда ты? — сурово спросил старик, внимательно разглядывая цветистый и пышный наряд девочки. Несколько дней назад Мария стащила в каком-то дворе развешенные для просушки цветные скатерти и сшила себе такую широкую и пёструю юбку, что ей завидовали все трианские модницы. Из двух разноцветных платков вышла красивая кофточка, она туго облегала тонкую девичью талию и оголяла до локтя загорелые, словно точёные руки.
— Ты откуда? — повторил старый цыган.
— Из Трианы.
— Зачем пришла?
— Поглядеть.
Будь Мария благоразумнее — ведь старик готов был испепелить её взглядом, — она бы повернулась и кинулась бежать со всех ног. Но девочка привыкла везде чувствовать себя своей.
Мария не закончила фразу. Длинный кнут вожака племени змеёй обвился вокруг груди и спины Марии. Старик знал: бить кнутом по широкой юбке — это значит только выбивать из неё пыль.
Этот удар послужил сигналом для цыган, которые, затаив дыхание, прислушивались к разговору между стариком и девушкой.
Толпа ринулась вперёд. Непрошеную гостью били все. Били чем попало и куда попало. Сперва Мария защищалась, но скоро её сбили с ног. Закрыв лицо руками, она лежала на земле и кричала. Сначала надсадно, но постепенно вопли её становились все тише, тише, а потом и вовсе прекратились.
— Прочь! — крикнул старый цыган.
Первым ударив Марию, он отошёл в сторону и только наблюдал за расправой над дерзкой пришелицей. Теперь он, очевидно, решил, что нарушительница обычаев достаточно наказана.
Старик боялся убийства. Тогда непременно вмешается полиция и ему, как атаману, придётся отвечать за весь табор.
Как ни была наэлектризована толпа, но грозное «прочь» подействовало.
Теперь все стояли полукругом, а в центре лежала Мария. Она не двигалась, даже не стонала.
— Воды! — приказал старик, внимательно присматриваясь, не пошевельнётся ли девочка. Но та, как и прежде, не подавала никаких признаков жизни.
Старику не пришлось повторять приказание. Несколько вёдер воды стояли у его ног. Он взял ближайшее и сапогом перевернул тело избитой так, что Мария теперь лежала навзничь. Атаман медленно лил воду на голову и грудь потерявшей сознание девочки.
Никаких признаков жизни.
Атаман грозно поглядел на людей, столпившихся неподалёку.
Все виновато молчали. Знали, чем всё это может кончиться, особенно для их вожака.
Второе ведро воды тоже не помогло.
— Адела! — позвал атаман.
Цыганка, которая первой увидала Марию, а теперь стояла у шатра, молча посасывая маленькую трубочку, поняла, чего от неё хотят.
Она подошла к девочке, прижалась ухом к её груди и долго прислушивалась. Очевидно, старуха не услышала биения сердца. Выпрямившись, но не поднимаясь с колен, она задумчиво глядела на неподвижное тело.
Тогда Адела решила применить последнее средство: она несколько раз затянулась, раскуривая трубку, потом вставила чубук в ноздрю девочке и изо всех сил дунула на тлеющий табак.
Присутствующие как заворожённые наблюдали за этой процедурой. Когда Адела дунула второй раз, дым струйкой ударил Марии в ноздрю, и девочка шевельнулась.
Возглас одобрения и мстительной радости прокатился над толпой.
Старый цыган снова подошёл к Марии, носком сапога отбросил её раскинутые руки.
Девочка, как и прежде, лежала неподвижно.
— Снимаемся! — крикнул атаман, и толпа мигом бросилась выполнять его приказ.
Если бы кто-нибудь со стороны наблюдал, как табор готовится к отъезду, он заметил бы удивительную слаженность и организованность во всём. Не прошло и минуты, как засуетились все: одни ловили стреноженных коней и волокли их к крытым возкам, другие запрягали коней, третьи гасили костры, тлевшие со вчерашнего вечера, четвёртые складывали лохмотья, служившие кочевникам простынями и одеялами.
Лишь старый цыган не принимая участия во всеобщей суете. Даже не отдавал больше приказов. За всем наблюдала Адела. Но вот и она, убедившись, что всё идёт своим чередом, подошла к старику. Взглянув на неподвижное тело девочки, Адела перевела взгляд на старого цыгана и молча кивнула в сторону речки, как бы говоря: выбросим?
Атаман грозно нахмурился и бросил:
— Ко мне в кибитку!
Было видно, что решение атамана забрать с собой девочку не пришлось кочевникам по сердцу. Об этом красноречиво свидетельствовало сердитое лицо Аделы, об этом говорили и взгляды остальных цыган, которые с неодобрительной усмешкой следили, как Адела тащила неподвижное тело Марии Но никто не решился перечить: приказы атамана привыкли выполнять беспрекословно.
Уже через час после описанных событий на берегу Гвадалквивира табор быстро двигался вдоль реки, все на север и на север. Коней не щадили. Все понимали — надо ехать как можно быстрее.
Напрасны были бы старания проследить за продвижением цыганского табора из Андалузии на север Испании. Ведь не количеством стоянок и длиной пути знаменательна жизнь четырнадцатилетнеи девочки в таборе Петра, а теми неписанными законами вражды кочевников к оседлым цыганам, всю жестокость которых повседневно испытывала на себе Мария.
Девочку считали тут парией, изгоем, подонком цыганского племени. Она не могла завтракать или ужинать в общем кругу, ей всегда бросали только объедки, а так как цыгане сами были полуголодны, то девочке доставались лишь кости, которыми кормили и собак. Мария принадлежала всему табору, и каждый мог заставить её выполнять самую грязную и тяжёлую работу. Когда табор располагался на стоянку и все бросались в разные стороны, чтобы хоть чтонибудь заработать, погадать или украсть, Мария под страхом тягчайшего наказания должна была оставаться возле кибиток.
Положение сильно ухудшало то, что старая Адела бешено ревновала Марию к Петру. Не то, чтобы старый цыган относился к девочке лучше, чем все остальные. Нет! Но время от времени он бросал на неё загадочные взгляды, и Адела толковала их по-своему.
И старуха мстила, как только могла…
Однажды Мария пыталась бежать. Её поймали в тот же день. Петро сам наказал беглянку вчетверо сложенными вожжами, потом привязал её к подводе, и две недели, сбивая ноги в кровь, девочка должна была бежать за кибиткой атамана, словно привязанная к возу скотина.
И всё же Мария находила в себе силы для молчаливого отпора. Слишком яркими были воспоминания о полной свободе, которой она пользовалась в Триане, чтобы сразу позабыть обо всём и подобострастно выполнять приказы Аделы или даже самого Петра. Впрочем, сопротивление это было своеобразным. Молодёжь не принимала Марию в свою компанию, не разрешала ей петь вместе с ними. Что же, Мария пела одна, да так, что даже старые цыганки невольно заслушивались. Девочка не получала своей доли от купленного, выпрошенного или украденного, — ну и ладно, она оденется сама. Из лохмотьев или просто из никуда не годных лоскутков она шила себе кофту или юбку, и они шли ей больше, чем другим девушкам их новые пышные наряди.
Адела взваливала на Марию всю работу. Девочка выполняла её лишь в том случае, если старуха следила за ней. Стоило той отвернуться, как Мария бросала начатое дело и застывала на месте, словно каменная. Адела любила днём поспать в тени, и Мария тотчас укладывалась, хотя спать ей не хотелось. Она просто закрывала глаза, чтобы не видеть опостылевших ей кибиток и шатров.
Как-то к табору, уже с месяц стоявшему возле города Альмасап, в Кастилии, подъехала большая компания на автомашине. Гости, очевидно, хорошо знали цыганские обычаи и традиции, ибо приехали не с пустыми руками. Они прежде всего поднесли атаману пачку денег, остальным — корзины с вином и всякой снедью. Теперь уже никто не имел права выпрашивать что-то для себя лично.
Распили несколько бутылок вина, и молодёжь стала развлекать гостей. Сначала песнями, потом танцами.
Мария, как обычно в таких случаях, спряталась в кибитке. Но на этот раз всеобщее веселье захватило и её. То ли она была уверена, что её не накажут при гостях, то ли так уже взыграла молодая кровь, только девушка соскочила с воза и вошла в круг. Молодёжь сразу перестала танцевать, но Мария словно и не заметила этого: она пошла плясать одна.
Раскинув руки, как птица крылья, и чуть-чуть согнув их в локтях, Мария медленно проплыла по кругу. Но вот шаги её становятся все мельче и мельче, вот она уже лишь перебирает ногами — маленькая фигурка выпрямилась и сразу словно выросла, руки сомкнулись за спиной и лишь подёргивание плеч и длинной чёрной косы показывает, что Мария не стоит, а мелко-мелко перебирает ногами, направляясь к середине круга.
— Быстрее! — властно бросает она музыкантам, видя, что все вокруг замерли, что глаза присутствующих прикованы к ней.
Дойдя до середины, плясунья с неожиданной силой топнула ногой и, словно вихрь, закружилась по кругу. Мария чувствовала: этим бешеным танцем она словно выходит на бой за свои права, словно мстит Аделе за её издевательства, мстит всем тем, кто до сих пор не считал её человеком.
Теперь девушка не видела никого и ничего. Она то словно ветер проносилась мимо людей, плотным кольцом обступивших её, то останавливалась и, слегка подрагивая всем телом, плавно и как бы лениво изгибалась, то молниеносно выпрямлялась, грациозно покачивалась, и каждый мускул её гибкого тела под лавиной звуков подрагивал, как подрагивает молодое деревце под дождём.
А музыканты все ускоряли и ускоряли темп. Только напрасно они пытаются сморить Марию!
Вот она снова постукивает каблучками, и стук этот заглушает звуки музыки. Теперь Мария в самом центре круга. Впрочем, она ли это? Мелькают лишь краски, сливаясь в сплошную пёструю линию — Мария завертелась волчком, закружилась на одной ноге. Дух захватывало при взгляде на неё. Сколько это может длиться? Пора бы замедлить темп. Но Мария все кружится, кружится, кружится… И вдруг, неожиданно для всех, останавливается и замирает…
Возбуждённая, но не уставшая, радостная от одержанной победы, которую она ощущает всем своим существом, Мария широко открытыми глазами глядит на присутствующих. Она привыкла к похвальным выкрикам трианцев и теперь воспринимает все восторги как нечто совершенно закономерное.
Девушка выскочила из круга. Но пробиться сквозь толпу не так-то просто. Одна гостья силой останавливает её и, сняв длинный шарф, повязывает его Марии, а лысоватый, очень высокий мужчина подносит ей полную кружку вина.
— Чья ты? — спрашивает он нетерпеливо.
Мария с жадностью припадает к кружке — так хочется пить!
— Ничья. Она у нас приблудная, — отвечает вместо неё Петро.
Приблудная! Это слово, как удар кнута, рассекает воздух. Мария срывается с места. Но мчится уже не к кибитке, из которой выскочила, а к шатру атамана. Пускай её убьют, но она поступит, как хочет! И девочка позволяет себе неслыханную дерзость — падает на постель самой Аделы.
Здесь она пролежала долго, позабыв обо всём, кроме обиды, нанесённой после триумфа, не прислушиваясь к тому, что творилось в таборе.
— Выйди, Мария, гости хотят попрощаться с тобой! — раздался вдруг голос Аделы, такой необычно ласковый, что девушка даже не поверила. Но жена атамана и впрямь стояла рядом и глядела спокойно, словно считая совершенно естественным, что девушка лежит на её постели.
Мария вышла. Возле шатра её ждала толпа гостей. Длинный сеньор, тот, что угощал вином, вопросительно заглянул ей в глаза, потом крепко и долго пожимал руку. Девушка почувствовала — в ладони осталась какая-то бумажка. Поклонившись гостям, Мария снова скрылась в шатре. Ей не терпелось узнать, что за бумажку передал ей длинный. Поглядела Это были деньги. Странные какие-то, таких она даже не видела.
Когда гости уехали и шум мотора затих, Мария вышла на свежий воздух. Старые цыгане допивали вино, привезённое гостями. Девушка спокойно направилась к ним, на что раньше никогда не отважилась бы. Мужчины замолчали и с любопытством поглядывали на неё. Она подошла к Петру и протянула ему деньги.
— Возьмите! Это тот дал!
Вечером, вперые за целый год, Мария ужинала со всеми вместе, даже сидела рядом с Аделой.
Утро следующего дня началось уже совсем неожиданно: Адела вынула из большого узла цветастую юбку, шёлковую кофту и приказала девочке принарядиться. Увидав, что наряд велик для тоненькой Марии, старуха собственноручно приладила все, где подрезав, а где ушив. Когда же Мария пошла к реке умываться, никто не издевался над ней, как раньше. Все почему-то с любопытством глазели на неё.
Не успели позавтракать, как к табору опять подъехала вчерашняя машина. Из неё, с большим трудом протиснувшись в дверцу, вылез толстый человек, а следом тот высоченный господин, который накануне угощал Марию вином. Увидев девушку, длинный прицетливо помахал рукой, но не подошёл — Петро сразу же пригласил прибывших к себе в шатёр, туда же вошли и несколько старых цыган.
Через четверть часа все вернулись из большого шатра атамана и толпа во главе с Петром подошла к Марии.
— Чужая ты нам, Мария! — начал атаман. — Вот уже год, как ты в таборе, а чужой была, чужой и осталась. И красота у тебя — цыганская, и кровь наша, но испортили тебя старейшие в твоём роду. Вот мы и решили отдать тебя этому господину в служанки на год, а может и дольше прослужишь. Всё будет зависеть от тебя. Будешь послушной — останешься. Станешь привередничать или проворуешься, господин вернёт тебя раньше. Тогда берегись! Я палец приложил к этой бумаге — значит, отдаю тебя в услужение. — Петро кивнул на толстого гостя, который держал в руке исписанную бумагу.
На минуту воцарилось молчание. Все с любопытством глядели на Марию, что она скажет.
Девочка окинула всех долгим взглядом и молча пошла к машине.
МЕСТЬ АГНЕССЫ МЕНЕНДОС
Банкиру Карлосу Менендосу менее всего нужна была служанка. Он даже не знал, сколько у него слуг и какие они. Всем в его доме после смерти жены заправляла старая нянька Пепита. Не вмешивалась она только в управление виллой своего бывшего питомца в Сан-Рафаэль — чудесной местности неподалёку от Мадрида. Здесь хозяйством ведала тётка Карлоса — донья Иренэ, молчаливый свидетель всех амурных похождений племянника.
Сюда и привёз дон Карлос Марию.
Донья Иренэ привыкла к тому, что время от времени Карлос привозит с собой «хорошенькую знакомую», которой крайне необходимо подышать свежим воздухом и отдохнуть от столичной сутолоки. Молчаливо включившись в эту игру, донья Иренэ вежливо приветствовала каждую гостью, всячески её ублажала, тактично не замечая вульгарных манер очередной знакомой, чересчур свободного её поведения, нескромности туалетов Но чтобы на вилле появилась цыганка, да ещё такая молоденькая, почти девочка, — нет, такого старуха не помнила.
Впрочем, вначале донья Иренэ не очень горевала по этому поводу. Убедившись в мимолётности увлечений своего племянника, она надеялась, что пройдёт месяц, другой — и Мария исчезнет так же бесследно, как и все её предшественницы. Очевидно, на такой финал новой любовной авантюры рассчитывал и дон Карлос.
Он охотно откликнулся на приглашение старого приятеля принять участие в морской прогулке на яхте. Даже начал готовиться в дорогу. Но все его планы рухнули.
Произошло невероятное: банкир Карлос Менендос влюбился. До безумия!
Возможно, этому способствовала прошлая жизнь. Стареющий банкир, успевший в молодости немало покуралесить, теперь стремился к чему-то большему, чем купленная любовь или скоропреходящая интрижка. Возможно, этот взрыв бешеной страсти был вызван поведением Марии, которая держала себя с неприступностью королевы.
— Убегу! — заявила она при первой же попытке Карлоса добиться своего силой. — Задушу сонного вот этим шарфом и убегу! — Глаза девушки при этом так блеснули, что Карлос понял — свою угрозу она выполнит не колеблясь.
То, что Марию может потянуть к вольной цыганской жизни, теперь очень волновало Карлоса. Иногда он совсем лишался рассудка от страха. Уезжая утром в Мадрид, он по нескольку раз напоминал слугам, чтобы они следили за каждым шагом девушки. Удвоенный штат садовников охранял все подступы к вилле и был обязан немедленно сообщить в полицию, если где-либо вблизи будут замечены цыгане. С полицией на этот счёт у Менендоса была особая договорённость. Часто среди дня Карлос бросал все дела и мчался в Сан-Рафаэль, гонимый подозрениями, страхом и непобедимым желанием убедиться, что Мария здесь, не сбежала. Лишь увидев девушку, он успокаивался и посылал гонцов в город за каким-либо новым украшением, лакомствами, за всем, что могло понравиться его маленькой колдунье.
Мария принимала подарки с таким видом, словно драгоценные камни и шёлковые наряды были для неё привычными вещами. Она равнодушно отодвигала вазу с самыми вкусными пирожными, чуть надкусывала дорогую конфету, едва прикасалась к отборным фруктам.
Отоспавшись на мягком, отъевшись за всю свою голодную жизнь, девушка явно затосковала. Целыми часами она сидела неподвижно, впившись взглядом в тучку на далёком горизонте, а когда та исчезала, Мария вдруг вскакивала с места, швыряла на пол всё, что попадалось под руку, срывала с себя браслеты, бусы, с озлоблением топтала их ногами.
Таких припадков злобы Карлос боялся больше всего. Он был готов лечь девушке под ноги, только бы она успокоилась, только бы улыбнулась.
— Мария приворожила нашего хозяина каким-то зельем, все цыганки — ведьмы, — нашёптывали донье Иренэ служанки.
Старая женщина и сама готова была поверить в колдовские чары. Тем более, что в характере девушки было что-то непостижимое. Все остальные вели себя, как подобает в их положении — сначала немного капризничали, потом всеми силами стремились войти в милость, затем и вовсе стушёвывались. А эта даже не приказывает, а все делается, как она хочет, подарки принимает как бы из милости, голова гордо закинута, как у инфанты. И Карлос при ней даже не паж, а просто шут. Совсем ума лишился. Хорошо ещё, что эта цыганка-ведьма не жадна на деньги. А то этот сумасшедший мог бы за один танец или песню положить к её ногам все своё состояние.
Донья Иренэ даже не догадывается, как близка она к истине.
Да, дон Карлос не то что состояние, но и имя Менендосов решил предложить Марии.
Понимая, какую скандальную сенсацию может вызвать женитьба одного из богатейших банкиров Мадрида на неграмотной цыганке, дон Карлос решил не разглашать своего намерения. Он просто внезапно заболел нервным расстройством, которое требовало долгого и систематического лечения, а главное отдыха от всех дел.
— Понимаешь, я так устал, что ни один врач здесь мне не может помочь. Надо рассеяться, изменить условия жизни. В таких случаях лучший врач — поездка за границу, — объяснял он тётке, которая страшно перепугалась, поверив в болезнь племянника.
— Я уверена, что такой отдых пойдёт тебе на пользу, — согласилась она.
— Свежие впечатления, новые интересные знакомства…
Донья Иренэ оборвала фразу, боясь сказать что-либо лишнее. В глубине души она лелеяла надежду, что Карлос, разлучившись с Марией, навсегда вылечится не только от всех болезней, но и от этого нелепого увлечения; возможно, даже найдёт достойную пару и снова женится.
Через месяц, уладив все свои дела в Испании, дон Карлос Менендос выехал за границу. Собираясь в дорогу, он приказал и Марии быть готовой.
— Отвезу её обратно в табор, — коротко объяснил он.
Донья Иренэ облегчённо вздохнула.
С этого времени в Сан-Рафаэль монотонное течение времени нарушалось лишь получением писем и открыток с незнакомыми марками и штемпелями чужих стран. В своих корреспонденциях Карлос коротко сообщал, что чувствует себя лучше, но не настолько хорошо, чтобы можно было надеяться на быстрое воэнрашение домой; туманно намекал на какие-то личные причины столь длительного отсутствия.
Старая тётка не знала, что и думать. Через несколько месяцев пришло письмо, которое все объяснило. Племянник писал, что неделю назад он женился на дочери турецкого негоцианта, что новая жена ради него приняла христианскую веру и назвали её Агнессой, — теперь она добрая католичка. А ещё через год телеграмма-молния принесла новую радостную весть: у супругов Менендос родилась наследница и назвали её в честь старой доньи Иренэ.
Вернулся Менендос в Мадрид только в конце 1935 года. Приехал вначале один и надолго заперся с тёткой в своём кабинете. О беседе, состоявшейся наедине, Иренэ никому ничего не рассказывала. О том,что разговор был бурный, догадывались лишь слуги, до слуха которых доносились рыдания доньи и гневные выкрики хозяина дома. Но постепенно голоса за дверью стихли, и тётка с племянником расстались совсем мирно.
— Итак, я всецело полагаюсь на вас, — сказал дон Карлос, нежно целуя тётке руку. — Уверяю вас, никто даже не догадается… Если вы подготовите все, как мы условились.
В тот же вечер дон Карлос выехал в Сарагоссу, где остановилась Агнесса с маленькой дочкой — та немного прихворнула в дороге. А донья Иренэ стала лихорадочно готовиться к приезду новоявленной племянницы и внучки. Сославшись на то, что молодожёны везут с собой полный штат прислуги, она уволила всех старых служанок и лакеев, щедро наградив их и пролив не одну слезу, заключила с подрядчиком договор на ремонт виллы, вызвала декораторов, которые должны бьыи привести в порядок обстановку.
С утра до поздней ночи хлопотала донья Иренэ, стараясь забыться и рассеяться. Днём и в самом деле было легче. А ночью печальные мысли обступали её со всех сторон.
Как обманул, как усыпил её бдительность Карлос! Она отдала ему жизнь, спускала ему все, только бы он был весел и счастлив. Верно, за это и покарала её мадонна. За слезы, пролитые первой женой Карлоса, за надругательства над теми женщинами и девушками, которых она, тётка, скрывала под этой крышей. Вот одна из них и стала хозяйкой этого дома. Да ещё худшая из худших. Цыганка! Та самая Мария, от которой Иренэ так хотелось избавиться. Что из того, что Карлос обратил её в католичество? Для доньи Иренэ она навсегда останется басурманкой, злой колдуньей… А может, это воля мадонны — спасти грешную языческую душу, а через неё и душу бедняги Карлоса? Ведь благословила же пречистая дева их союз ребёнком Карлос сказал, что назвать девочку Иренэ предложила цыганка. Верно, лжёт, чтобы примирить её с Марией, или, как её теперь зовут, Агнессой. Надо привыкнуть так её величать. Имя, данное святой церковью при крещении, священно.
Впрочем, не эти раздумья, а само появление Марии-Агнессы окончательно примирило старую донью с молодой женой племянника. Трудно было узнать в этой женщине когда-то дикую, гордую и горячую девушку. Даже внешне Мария изменилась. Изящно, по-европейски одетая, сдержанная в движениях, она могла стать теперь украшением лучшей мадридской гостиной.
При встрече обе женщины ни словечком не обмолиились о прошлом.
— Приветствую тебя в твоём новом доме, Агнесса! — просто сказала донья Иренэ. — Надеюсь, ты будешь в нём счастлива.
— Вот моё счастье! — смеясь, Агнесса протянула старой женщине пышный, расшитый кружевами свёрток — Беспокойное счастье, так что нам его хватит на двоих!
Словно в подтверждение этих слов, из конверта донёсся громкий заливистый плач.
— Она больна? — всполошилась донья Иренэ.
— Просто надоело лежать спелёнутой. Сейчас я её разверну.
Обе женщины склонились над младенцем. Освобождённая от пелёнок, девчушка сразу же успокоилась. Двигая розовыми ручками и ножками, она заагукала, словно тоже хотела поздороваться. Сердце доньи Иренэ сжалось от нежности
— Да она же беленькая! — взволнованно воскликнула старая женщина. — Точнёхонько, как бабушка Карлоса, Тереза Менендос! Боже, какие волосики! Словно святые ангелы соткали их из солнечных лучей!
И действительно, солнечным лучом стала Иренэ Менендос для всех обитателей виллы Сан-Рафаэль.
Крутые перемены в судьбе и школа, которую прошла Мария у духовников в Италии, казалось, совсем пригасили страстность её натуры. Тем ярче вспыхнула в ней безумная любовь к рождённому ею маленькому существу. Девочкой измерялось все: возникшее чувство приязни и благодарности к Карлосу, примирение с его тёткой, которая так заботилась о маленькой, пробуждение настоящей глубокой религиозности. Ибо кто же, как не Иисус и Пресвятая мадонна, может защитить её крошку от всяческих бед? Ни одной мессы не пропускала Агнесса (отныне и мы будем называть её так), умоляя небо даровать её любимой Иренэ счастливую судьбу. Падре Антонио, постоянный духовник Агнессы, не мог нахвалиться своей новой прихожанкой, её щедрыми дарами, её преданностью святой католической церкви.
— Поверьте мне, — говорил он Иренэ Менендос, эта новообращённая христианка стоит десяти старых. Как у каждого неофита, в душе её пылает пламень веры, способный зажечь других. Вы только поглядите, как изменился дон Карлос…
С последним утверждением нельзя было не согласиться. О бывших увлечениях дона Карлоса напоминала лишь преждевременно облысевшая голова. Отдав дань светским обычаям, сделав все необходимые визиты, он прочно осел возле жены и дочки, даже отказался от личного руководства банковской конторой, которой управляли теперь доверенные лица. Отныне его время принадлежало только Агнессе и Иренэ. Ведь жена сбивается с ног, хлопоча возле малютки, такой прелестной, но такой слабенькой.
Здоровье девочки волновало и отца и мать. Не то, чтобы малютка часто болела, но росла она худенькой, часто плакала без причины, плохо ела. Любой врач, осмотри он Иренэ, порекомендовал бы обычные средства: не кутать ребёнка, больше держать на свежем воздухе, кормить не тогда, когда этого захочется чересчур заботливым маме, папе и тётке, а строго по часам, и девочка наверняка окрепла бы. Но дон Карлос пригласил к дочери самого модного мадридского педиатра-педолога, а тот придерживался правила, чем богаче пациент, тем сложнее надо ставить диагноз.
С тех пор супруги Менендос жили в постоянной тревоге за Иренэ. Проявлялось это по-разноу. Агнесса ещё усерднее постилась, давала ещё больше денег на всевозможные приюты, ещё горячее молилась. Карлос с головой погрузился в различные медицинские справочники, журналы, учебники. Газет он теперь не читал, ибо ничто его больше не интересовало. Даже победа Народного фронта на выборах 16 февраля 1936 года, а затем установление в стране революционной власти скорее удивили дона Менендоса, нежели заинтересовали. Ведь его имений, разбросанных в различных уголках Испании, пока никто не трогал, законную жену ни одна власть отобрать у него не может, дочка хотя и болела, но подрастала. Приказав своим доверенным лицам в случае чего перевести часть капитала в заграничные банки, Менендос совсем успокоился.
— Этот сброд, всплывший на поверхность, не способен управлять страной,
— успокаивал он жену и тётку. — Даже полезно, если испанцы в этом убедятся! Поверьте, пройдёт месяц, другой — и все станет на свои места.
Вопреки этому прогнозу, разбушевавшаяся Испания клокотала. Даже такой недалёкий политик, как дон Карлос, стал понимать, что дело гораздо серьёзнее, чем он предполагал. Менендос нервничал, все чаще говорил о бегстве за границу. Возле раньше молчавшего радиоприёмника теперь во время утренних и вечерних передач собиралась вся семья.
Включили приёмник и утром 19 июля. Первым передали сообщение, очень взволновавшее Карлоса: революционное правительство Испании издало приказ об изъятии частных машин для нужд рабочих организаций. Вся семья восприняла это как подлинную катастрофу. Лишить их машины? Да это же неслыханный произвол! Ведь дело совсем не в материальном ущербе. Забирая машину, семью ставят в совершенно безвыходное положение. А что, если понадобится срочно вызвать врача к Иренэ? Как добраться из Сан-Рафаэля до Мадрида? Ведь они из-за болезни дочери живут на два дома, а машина — это не прихоть, а необходимость. Не станет же Агнесса с маленькой Иренэ два часа трястись поездом, если на машине можно домчаться за полчаса. Бывает, что каждый час, даже несколько минут становятся выигрышем в борьбе за жизнь.
— Нет, я буду протестовать! Я уплачу любой штраф, налог, а машину не отдам. Немедленно едем в Мадрид! Должны же там понять наше особое положение,
— заявил хозяин дома так решительно, что никто не решился с ним спорить.
Сразу же после завтрака выехали в Мадрид. Дон Карлос сам вёл машину. И не прямым путём, как обычно, а через Гвадарраму. Это удлиняло дорогу, но давало и серьёзные преимущества: меньше шансов попасть на глаза патрулю, который безусловно уже охотится на автомобилистов на шоссе. Да и местность, по которой придётся ехать, не так надоела. А им всем надо рассеяться, отвлечься от тревожных мыслей.
Новые пейзажи действительно немного развлекли Агнессу. Маленькая Иренэ заснула, и ничто не мешало молодой женщине любоваться дорогой, бездонной синевой неба, наслаждаться тем ощущением движения, которое всегда рождает быстрая езда. Карлос и донья Иренэ, которая сидела рядом с ним на переднем сиденье, о чём-то тихо разговаривали, и муж не докучал Агнессе чрезмерными заботами. Как хорошо, что можно отдаться потоку собственных мыслей или просто закрыть глаза, подставив лицо встречному ветру, и ни о чём не думать. Лишь чувствовать на коленях тепло нежного детского тельца…
— Ещё несколько километров — и Гвадаррама, бросил дон Карлос, повернувшись к жене. Агнесса молча улыбнулась и, откинув голову на спинку сиденья, закрыла глаза.
Молодая женщина, видно, задремала, потому что никогда потом не могла вспомнить, с чего всё началось. Вдруг она услышала выстрелы, увидела голову мужа, упавшую на руль, глубокий кювет, к которому мчалась машина, огромную скалу… Дальше все провалилось и было окутано черным туманом…
Придя в себя, Агнесса увидала, то лежит в нескольких метрах от разбитой машины. Отчаянно вскрикнув, молодая женщина стала искать глазами дочку и только позже поняла, что Иренэ с ней: это её тельце она так крепко сжимает руками. Очевидно, в последнюю минуту мать успела прижать девочку к себе, и из машины их выбросило вместе.
Одного взгляда, брошенного на Карлоса и его тётку, было достаточно, чтобы понять — никакая помощь им уже не нужна. Шатаясь, Агнесса поднялась и побрела в сторону Гвадаррамы…
Если бы не падре Антонио, жену покойного дона Карлоса Менендоса, наверно, заперли бы в сумасшедший дом. На следствии, начавшемся по делу бандитского налёта на машину и её пассажиров, Агнесса упрямо повторяла, что зовут её Мария, а фамилии у неё нет.
Вызванные медицинские эксперты установили, что у молодой женщины сильное нервное потрясение и требуется длительное лечение. Один духовник понимал истинную причину её бреда. Да и был ли это бред? Душевное потрясение, вызванное катастрофой со всеми её последствиями, — это оно привело к уходу в прошлое, о котором теперь, кроме падре, никто не знал. Милое прошлое, — ведь с годами забывается все плохое и помнится только хорошее! Для человека, дух которого сломлен, оно часто становится самым надёжным убежищем. Надо бороться против Марии за душу Агнессы. Католички Агнессы…
Орудием в этой борьбе стала Иренэ.
Лишь впоследствии узнала Агнесса, как много сделал для её несчастной дочки падре Антонио. В хозяйстве, оставшемся после смерти Карлоса и его тётки, он один теперь руководил всем. Вызывал врачей, добывал самые дефицитные лекарства, следил за тем, чтобы своевременно проделывались все необходимые процедуры. Агнесса ничего этого не замечала. Устроившись на скамеечке возле кроватки дочери, она безотрывно глядела на её похудевшее, бледное личико и маленькие неподвижные ножки. Даже плач девочки не выводил её из прострации.
Использовав все способы влияния на убитую горем мать и не достигнув никаких конкретных результатов, падре решил прибегнуть к крайней мере.
— Пойдём! — властно сказал он однажды.
Молодая женщина сидела не шевелясь.
— Пойдём! Именем этой страдалицы приказываю тебе — пойдём!
Оробев под взглядом чёрных пылающих глаз своего духовника, Агнесса поднялась.
Не замечая дороги, она шла за падре куда-то далеко, на окраину селения. Возле покосившейся, сбитой из досок и листов жести хижины Антонио остановился.
— Войди первая!
Агнесса переступила порог. Страшный смрад ударил ей в нос. Но молодая женщина пошатнулась не от этого, а от зрелища, открывшегося ей: в углу, на куче лохмотьев, копошилось какое-то существо, похожее на паучка. На худенькой шейке беспомощно моталась маленькая головка, тонкие, как два шнурочка, ручки старались то ли что-то схватить, то ли на что-то опереться, и лишь длинные ножки лежали неподвижно, как два иссохших стебелька.
— Ты хочешь, чтобы и Иренэ стала такой? — безжалостно спросил падре, указывая на калеку.
Впервые за всё время Агнесса разрыдалась и, не ожидая своего спутника, бросилась домой.
Так вторично умерла Мария и вторично родилась Агнесса — верная дочь католической церкви. Преисполненная деятельной любви мать. Наследница рода Менендосов.
Падре не напрасно боролся за душу своей лучшей прихожанки. Теперь молодая женщина подчинялась ему во всём. Он как бы заново лепил её душу, руководствуясь одному ему известными планами. А планы Антонио простирались далеко. И Агнессе в них отводилась не малая роль.
Впрочем, падре не торопил событий, ибо сейчас молодой донье Менендос было не до его планов. Иренэ все ещё не становилась на ножки, хотя немного повеселела и даже поправилась. Увидев в этом залог выздоровления, Агнесса немного успокоилась, но здесь на неё свалилась новая беда: правительство конфисковало большую часть имущества покойного Карлоса. Дом в Мадриде забрали под госпиталь. А как раз в эта время девочка стала жаловаться на боль в позвоночнике. Невольно рядом с горем и сердце Агнессы рождалось чувство жгучей ненависти к виновникам всех её бед. А виновниками она считала не бандитов, обстрелявших машину, а новую власть, издавшую приказ о реквизиции машины. Не будь этого приказа, они бы в тот день не поехали в Мадрид, не произошло бы аварии, в которой искалечена её дочь и убит муж. И разве не новая власть конфисковала её имущество, забрала мадридский дом? Правду говорит падре: виной всему прежде всего коммунисты, безбожники…
…Вот теперь падре Антонио мог доверить Агнессе свою заветную мечту — начать крестовый поход против гонителей веры.
— Немалых жертв потребует этот поход, но и награда за них будет велика. Не одно чудо уготовил бог своим избранникам. Будешь с нами, дочь моя? — торжественно спросил падре.
— Конечно! — горячо вырвалось у Агнессы.
— Тогда будем готовиться и ждать, когда пробьёт час…
Час пробил в марте 1939 года, когда Франко вступил в Мадрид и провозгласил себя диктатором. На следующий же день в газетах появилось заявление вдовы дона Карлоса Менендоса, Агнессы Менендос, что отныне основная цель её жизни — месть за смерть мужа и увечье дочери.
На это она отдаёт все своё наследство, этому она посвятит все свои силы.
Имя Агнессы Менендос несколько дней не сходило с газетных полос. В её адрес приходили многочисленные телеграммы из Берлина, Рима, Нью-Йорка, Лондона, Парижа. Представитель Ватикана посетил виллу в Сан-Рафаэль и передал Агнессе папское благословение. Личный посланец Гитлера, майор Нунке сообщил, что ему приказано остаться в Мадриде и в случае надобности стать специальным советником благородной испанской доньи.
Неожиданное появление Нунке вначале взволновало падре Антонио, но они быстро договорились о форме, в какую должно вылиться движение, и о сфере деятельности каждого. Итогом были опубликованные в фашистской прессе сообщения, что вдова Менендос открывает школу «рыцарей благородного духа». Здесь будут воспитываться кадры для будущего крестового похода против безбожной большевистской Москвы.
Теперь уже не только приветственные телеграммы, а денежные переводы и всяческие ценности присылали Агнессе Менендос известные и неизвестные друзья и единомышленники. И надо признать, что переводы эти были своевременны. Неожиданно выяснилось, что наследство вдовы дона Карлоса не так уж велико. Его доверенные лица не только запутали финансовые дела, но и хорошенько поживились. Все якобы переведённые за границу деньги куда-то таинственно исчезли.
Агнесса совершенно растерялась. Теперь майор Нунке стал не просто советником, а до зарезу необходимым ей человеком. Даже падре Антонио стал заискивать перед ним.
О, он умница, этот Нунке! Его совершенно не взволновало сообщение падре о том, что у Агнессы, по сути дела, нет свободных денег для школы. Того, что осталось, с трудом хватит на содержание больной Иренэ. Спинка все ещё болит, а ножки отказываются носить худенькое тельце… При создавшихся обстоятельствах школа должна содержать Агнессу, а не она её…
Нунке прежде всего предложил не разглашать фактическое положение вещей.
— Новые деньги липнут к старым… Слышали эту поговорку? Итак, для всех Агнесса должна остаться богатой… Дальнейшее зависит от нас с вами…
И Нунке не терял времени. Не от имени Агнессы, а как её советник, он рассылал в разные страны, по одному ему известным адресам, многочисленные письма, предупредительно сообщая при этом номер банковского счёта популярной теперь вдовы Менендос.
ТЕРРАРИУМ ВОЗЛЕ ФИГЕРАСА
Если от небольшого городка Фигерас, расположенною в испанской провинции Каталонии, вы проедете километров двадцать на северо-восток, то непременно попадёте на маленькое плато размером с футбольное поле. На нём увидите добротные строения: придорожную таверну, двор, обнесённый высокой, быть может, даже излишне высокой стеной. У вас тотчас возникает впечатление, что хозяин этого, говоря попросту, трактира делает отличный бизнес, ибо на всех строениях и внутреннем убранстве таверны лежит печать достатка и той хозяйственной заботливости, которая красноречиво убеждает: здесь можно не бояться, что вам подадут плохо приготовленное блюдо или уложат на грязные простыни, если вас потянет вздремнуть после вкусного обеда. А поживи вы в таверне день-два, у вас невольно возникнет множество вопросов и далеко не на каждый вы получите ответ.
Вы многого бы не поняли, и прежде всего — откуда этот достаток? Таверна находится от Фигераса в каких-нибудь двадцати километрах, так что путешественник, едущий из города, ещё не успеет проголодаться и поэтому минует таверну, а если и остановится, то всего на несколько минут — промочить горло вином с водой, как это любят испанцы. Так же поступают те, кто едет не из города, а в город. У них тоже нет оснований надолго задерживаться перед самым городом — каждый, естественно, стремится поскорее добраться домой или в гостиницу.
Правда, в былые времена основным источником дохода здесь были туристы. К удивлению испанцев, они пили неразбавленное вино и в таких количествах, что поражали даже каталонцев. Но после фашистского переворота туристы не посещают Испанию. А те немецкие путешественники, — их ведь даже не назовёшь туристами, — которые теперь снуют повсюду от казармы к казарме, ездят с собственными дорожными буфетами, где есть всё необходимое, чтобы утолить голод и жажду.
Проведя день в таверне, вы бы с удивлением отметили, сколь мал её доход, от силы пять, ну пусть десять песет!
Правда, время от времени к таверне подъезжают крытые грузовики, которые хозяин пропускает прямо во двор, доверяя шофёрам и грузчикам самим распоряжаться в каменных амбарах и погребах. Со двора машины уезжают гружённые ящиками, мешками, тюками. Можно подумать, что здесь расположена не таверна, а какая-то оптовая база.
Да, много странного и удивительного обнаружите иы на плато. Попробуйте в час вечерней прохлады прогуляться по нему, и вы увидите, как тотчас нахмурится хозяин.
— По дороге влево ходить запрещено! — обязательно предупредит он. — За шлагбаумом вас могут ожидлть всяческие неприятности…
И вы вспомните, что налево от таверны и впрямь видели хорошо заасфальтированную дорогу, в самом начале перегороженную полосатым шлагбаумом.
Не стоит расспрашивать хозяина, куда ведёт дорога и почему по ней запрещено ездить.
— Там закрытый пансионат, — буркнет он. До сих пор приветливый и гостеприимный, владелец таверны станет разговаривать с вами с помощью лишь двух слов: «да» и «нет». Ничего больше, никаких пояснений! И по тому, как сердито застучит деревяшка, прикреплённая к его культе на правой ноге, и по угрюмым подозрительным взглядам, брошенным в вашу сторону, вы поймёте: лучше уехать, ибо отношение к вам резко изменилось.
Теперь и сама личность хозяина кажется вам странной. У вас создаётся впечатление, что это бывший военный, привыкший приказывать, но теперь, в связи со сложившимися обстоятельствами, вынужденный командовать лишь тремя помощниками: женой, дородной, в прошлом, наверное, красивой женщиной, глухонемым слугой и двенадцатилетней девочкой. Хозяин казался добродушным, приветливым, как все владельцы частных гостиниц или ресторанов. Теперь вы замечаете его второе лицо: насторожённое и подозрительное, словно, спросив о пансионате, вы собираетесь вырвать у него тайну, которая является единственным источником его существования.
И это второе впечатление куда ближе к истине, нежели первое.
Этот полуресторан-полугостиница на самом деле представляет собой перевалочную базу школы «рыцарей благородного духа», созданной в своё время Агнессой Менендос.
Вдова дона Карлоса уже ликвидировала свои дела в Мадриде, лишилась роскошной виллы в Сан-Рафаэль и вместе с больной дочкой живёт здесь в отдельном особнячке, стоящем за оградой школы, расположенной в бывшем католическом монастыре.
Впрочем, на некоторое время оставим Агнессу и Иренэ и вернёмся к событию, которое так волнует руководителей школы «рыцарей благородного духа» вот уже на протяжении двух недель.
Наш старый знакомый, а ныне начальник этого своеобразного учебного заведения, Иозеф Нунке, две недели тому назад вернувшись из таинственного путешествия, привёз больного, которого никак не удаётся поставить на ноги. Приглашённый в помощь собственной медслужбе школы известный невропатолог из Жероны, профессор Кастильо, уже неделю бьётся над тем, чтобы вывести больного из шокового состояния. И ничего не может сделать. Он даже не обещает улучшения в будущем: сомнительно, чтобы бедняга выкарабкался и стал здоровым человеком.
А Нунке и не скрывает, как важно для него, чтобы в ходе болезни наступил перелом. Он готов удовлетворить любые требования профессора, сколько бы это школе не стоило, он готов обеспечить любой, самый тщательный уход, только бы пациенту стало лучше.
Профессор Кастильо и сам видит, какое значение придаёт Нунке выздоровлению неизвестного молодого человека. Дежурный врач трижды на день должен информировать руководителя школы о состоянии больного, а вечером докладывает сам профессор. И тогда между ним и Нунке происходит почти одинаковый диалог:
— Могу ли я завтра поговорить с ним или хотя бы навестить его? — спрашивает Нунке, выслушав очередное сообщение.
— Боюсь, это лишь ухудшит состояние.
— А может быть, наоборот, выведет из проклятого шока?
— Нет! Я не могу рисковать.
Этим категорическим возражением обычно и заканчивается их вечерний разговор.
На двенадцатый день пребывания профессора в школе (и на девятнадцатый со дня появления в школе больного) вечерний разговор закончился совсем иначе.
— Должен признаться: я не гарантирую молодому человеку выздоровления ни сейчас, ни в ближайшие дни, — устало произнёс профессор — Время в таких случаях единственный врач. Время, уход и покой. Да ещё свежий воздух. Я считаю своё дальнейшее пребывание у вас нецелесообразным.
— Почему?
— Я посоветовал коллеге, — профессор вежливо поклонился в сторону школьного врача, — вынести из комнаты больного всё, что напоминает ему о болезни… Все эти пузырьки, баночки, шприцы — вон! Если вам знакомы прежние склонности вашего подопечного, окружите его привычными для него вещами, дайте то, что он раньше любил. То есть создайте такую обстановку, к которой он привык… Больной любил вино или бренди?
Нунке отрицательно покачал головой.
— Жаль, рюмка вина хорошо тонизирует организм. И она не помешает вашему… ну, скажем, приятелю или знакомому… Загадочный ход болезни — впервые у меня в практике!
— Вы отказываетесь от дальнейшего лечения? уточнил Нунке.
— Не отказываюсь, но говорю об особом случае. Нет оснований злоупотреблять инъекциями, порошками, микстурами, если больной на них не реагирует. Природа с её грандиозным потенциалом часто бывает мудрее нас, врачей.
Нунке отвернулся от окна и несколько мгновений задумчиво смотрел на бывший монастырский сад.
— А зайти к нему, наконец, можно? — раздражённо спросил он.
— Я не знаю, при каких обстоятельствах всё это случилось. Если вы в какой-то мере причастны к пережитому беднягой, я бы советовал подождать. Всё, что напоминает обстановку или причину заболевания, может вызвать тяжёлые осложнения. Если же…
— Хорошо, я это учту, — прервал профессора Нунке. — Спасибо за все хлопоты! Надеюсь, вы не откажетесь принять участие в консилиуме, если в этом возникнет необходимость?
После отъезда профессора в Жерону Нунке ещё долго шагал по кабинету, что-то обдумывая. Наконец позвонил.
— Мундир оберста немецкой армии! — приказал он дежурному.
Надев парадный мундир и прицепив к нему несколько крестов и медалей, Нунке направился в дальний конец коридора. Врач, семеня, спешил за начальником и, когда тот подошёл к двери, забежал вперёд, чтобы отпереть её.
— Я войду один, — остановил врача начальник школы. — Но будьте поблизости: в случае чего я позову вас.
Комнат, отведённых больному, было две. Первая, в которую вошёл Нунке, служила кабинетом и гостиной. Письменный стол, на нём домофон, диван, несколько стульев, круглый столик, стенной шкаф — вот и все убранство комнаты. Окинув долгим взглядом вещи и даже стены, Нунке на цыпочках направился в другую комнату, служившую спальней. Она тоже была обставлена чрезвычайно скромно: широкая деревянная кровать с тумбочкой у изголовья, вешалка для одежды, маленький столик с домофоном. Дверь сбоку вела в туалет.
Если первую комнату щедро освещала пятилампоцая люстра, то в спальне царил полумрак — свет едва пробивался из-под тёмного абажура настольной лампы. Нунке, очевидно, хорошо были знакомы эти апартаменты, потому что он мигом нашёл за дверью выключатель. Под потолком вспыхнул огромный матовый шар. Придвинув стул к кровати, Нунке уселся в ногах больного.
Тот лежал, вытянув руки вдоль туловища, закрыв глаэа, и не реагировал ни на свет, ни на появление посетителя. Одеяло было натянуто на грудь. В этой неподвижности было что-то жуткое: казалось, тело больного уже сковал холод смерти. Несколько минут Нунке пристально вглядывался в знакомое лицо. Удлинённое, обрамлённое маленькой бородкой, похудевшее, оно казалось маской…
Вскочив с места, руководитель школы направился к двери, чтобы позвать врача, но, уже стоя на пороге, круто повернулся и снова подошёл к кровати. Надо самому проверить, есть ли пульс.
Но как только Нунке дотронулся до руки больного, тот открыл глаза и сразу сел на кровати. От неожиданности Нунке отшатнулся.
— Герр оберст? — словно не веря собственным глазам, спросил больной.
— Лежите, лежите! — утвердительно кивнул Нунке и мягко нажал на худые плечи больного.
— И в самом деле кружится голова. Хорошо, я лягу. Но надеюсь, вы не призрак и не растаете в воздухе? Мне ведь надо задать вам несколько вопросов.
В устремлённом на начальника школы взгляде загорелись насмешливые искорки.
— Рад, что вы в сознании и охотно отвечу. Итак?..
— Скажите, доктор, который приходил ко мне в камеру, был от вас?
— От меня, — буркнул Нунке.
— А для чего вы все это сделали, герр Кронне?
— Давайте договоримся: я не Кронне, а Нунке, понимаете? Герр Нунке! Так здесь все меня называют, называйте и вы. А вы не Генрих фон Гольдринг, а, скажем, Фред Шульц. Вы находитесь в одном учреждении, и надо было вас как-то зарегистрировать. Посоветоваться с вами я не мог, пришлось выбрать имя на свой вкус. Итак, вы — Фред Шулъц. Не возражаете?
— Но к чему весь этот спектакль? — в голосе Генриха, отныне Фреда Шульца, чувствовалось неприкрытое раздражение.
— Я, конечно, обязан вам все рассказать. Но вы ещё больны и больны серьёзно. Только сегодня профессор Кастильо, всеми уважаемый и весьма компетентный…
— Герр Нунке, цена вашему уважаемому профессору — три кроны, да и то на лейпцигскои ярмарке. На протяжении двух недель он шпиговал меня, словно рождественского гуся, всякой ерундой, а установить диагноз такой обычной болезни не смог!
— Выходит, вы все чувствовали? — удивился Нунке.
— Ещё бы не чувствовать! Вас бы так покололи!
— И понимали, в каком вы положении?
— Признаться, беседы эскулапов у моего ложа очень меня потешали.
— Напрасно! Суть вашей болезни…
— Она мне известна лучше, чем кому-либо другому.
— В чём же она заключается?
— Си-му-ля-ция! — отделяя слог от слога, произнёс новоокрещенный Фред Шульц.
Нунке долго, хотя и беззвучно, хохотал.
— Ну, теперь мы квиты! Но что вас заставило так странно себя вести?
— Я попал в эти апартаменты несколько необычным путём. Согласитесь, герр Нунке, мне необходимо было время, чтобы выяснить, где я и зачем меня здесь держат.
— И что вы уже знаете?
— Что я в Испании, вблизи города Фигераса. Насколько я помню географию, это где-то на севере Каталонии.
— Так. Дальше…
— Что я в школе со странным названием «рыцарей благородного духа»… Название романтическое, но, боже мой, какое смешное!
— И кто ж ученики этой школы, чему их учат?
— Герр Нунке! Вы, верно, считаете меня желторотым воробышком. Неужто трудно догадаться? Когда из камеры смертников человека везут за тридевять земель, то, совершенно очевидно, делают это не затем, чтобы он изучал нумизматику, ихтиологию или древние китайские рукописи!
— Вы правы, — кивнул Нунке, не уточняя задач школы, в которую он привёз Гольдринга.
— Неясно мне одно — ваша роль в этом, герр Нунке! Почему именно вас так заинтересовала моя персона?
— Начну издалека. О том, что вы попали в лагерь наших военнопленных офицеров, я узнал от фрау Вольф.
— Это она выдала меня патрулю!
— Не сердитесь на фрау. После того, как Эверс застрелился, она так бедствовала! Теперь же у неё есть кусок хлеба: англичане и американцы платят ей по пять долларов за каждого выданного офицера. Ведь она многих знала, и не только в нашей бывшей дивизии Эверса
— Значит, наша с вами встреча в кафе в Австрии не была случайной?
— Ваша увольнительная в город стоила мне пятьдесят долларов.
— А встреча с пьяным американским солдатом?
— Хапуга! Меньше чем на сто пятьдесят не согласился, как я ни торговался…
— А фото, которое фигурировало на суде?
— Владелец кафе старый фотолюбитель.
— А отец Фотий?
— Вот к этому я совершенно не причастен. Его вмешательство было для меня полной неожиданностью. И, должен вам признаться, этот проклятый Фотий чуть не испортил мне все дело. Что вас будут судить после драки в кафе и посланной американскому командованию фотографии, у меня не было сомнений. Но вас должны были везти на расстрел за город, к слову сказать, за это я тоже заплатил двести долларов — и там передать мне с рук на руки. А Фотий спутал все карты. Накануне того дня, когда это должно было произойти, я случайно узнал, что он собирается — ведь вас все равно решено было отправить на тот свет! — устроить публичный расстрел, чтобы напугать непокорных. Уверяю вас, накануне вечером мне пришлось как следует поработать! Обдумать новый план, договориться с тюремным врачом…
— Он знал, какую сигарету мне оставляет?
— Да!
В комнате воцарилось долгое молчание. Нарушил его Фред.
— Итак, во что обошёлся вам весь этот спектакль?
— Школа выплатила мне тысячу долларов. Сюда входят все деньги на постановку спектакля, как вы окрестили эту операцию, плюс транспортные расходы. Ну и, конечно, комиссионные… Кажется, я ответил на все вопросы?
— Нет!
— А именно?
— Вы не сказали, зачем потребовалось столько хлопот.
— Я хотел бы разговор этот отложить до завтра. Хоть вы и бодритесь, но выглядите отвратительно. Возможно, доза снотворного была слишком велика, произошло отравление. Девятнадцать дней вы у нас и до сих пор не приходили в себя.
— Не беспокойтесь, герр Нунке! Через несколько дней я стану прежним…
— Фредом, — подсказал Нунке.
— Пусть Фредом. Но вы не ответили на мой последний вопрос!
— Если вы настаиваете, пожалуйста…
Нунке несколько раз прошёлся по комнате, потом сел на стул и начал:
— Вы помните наш разговор в кафе?
— Очень хорошо, герр Нунке!
— Надо сказать — вы произвели на меня тогда скверное впечатление. Говорили и вели себя, как ученик начальной школы…
— Простите, ещё Талейран сказал: «Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли».
— Вы забыли, что он говорил о языке дипломатов, а не разведчиков.
— Что? Выходит…
— Я не закончил: разведчиков-друзей, хотел я сказать… Но вернёмся к нашей тогдашней беседе. Я говорил вам, что одна война закончилась, надо готовиться к новой. А кто готовит новую войну? Прежде всего дипломаты и разведчики. И вот я, старый опытный разведчик, вижу, как победители грабят мою родину. То, что они забирают машины, ценности искусства, что наши изобретения становятся американскими и английскими, — это меня волнует мало. Наступят лучшие времена, в этом я уверен, и все станет на свои места. Но нас, немецких разведчиков, грабят больше всего. У нас забирают людей! Те кадры немецкой разведки, которые мы готовили десятилетиями, сегодня уже служат или состоят на учёте и, значит, вскоре тоже станут служить разведкам Англии или Соединённых Штатов. Списки нашей агентуры, на которую ни фюрер, ни предшествующие правительства, я уже не говорю о кайзере, не жалели ни времени, ни денег, попали к американцам, часть же, те, кто не пойдёт на это, будут устранены. Сегодня Германия лежит в развалинах. Меня это волнует, но не настолько, чтобы я лишился аппетита и приобрёл хроническую бессонницу, ведь дом или завод построить легче, нежели заново создать разведку. Для этого потребуются не годы, а десятилетия. А вы понимаете, Фред, что это значит? И этот страшный развал разведки происходит у меня на глазах — ведь я не так наивен, чтобы послевоенное время пересиживать в лагере для пленных немецких офицеров…
— Благодарю за комплимент! — бросил Фред, криво улыбнувшись.
— Правда, много наших разведчиков, я бы даже сказал, руководителей служб СС, СД, бежали. Их было немало здесь, в Испании. Но после победы союзников отношение Франко к нам резко изменилось. Франко сам дрожит за свою шкуру, и наши эмигранты, не все, конечно, выехали в различные страны Латинской Америки… Надеюсь, Фред, мы ещё встретимся с ними. Но так или этак, а немецкой разведки сегодня не существует. И это в то время, когда между Россией и её бывшими союзниками уже возникают разногласия, которые, надо надеяться, перерастут в столкновения, а там, дай бог, и в войну. Что для нас самое ценное сегодня? Наш народ трудолюбивый и инициативный. Не пройдёт и двух десятилетий, как мы залечим раны, нанесённые войной, и наши города станут такими же, какими были до войны. Наши женщины никогда не жаловались на бесплодие. Не минет и двадцати лет, как у нас будет полный контингент призывников в армию. Но где мы возьмём разведчиков? Где, я вас спрашиваю?
Фред с огромным интересом слушал того, кто ещё вчера был фон Кронне, сегодня стал Нунке, а завтра, возможно, присвоит себе новое имя. Таким взволнованным он ещё никогда не видел всегда спокойного и холодного оберста. А тот, словно подогревая собственными аргументами самого себя, горячо продолжал:
— Самое драгоценное, что мы должны сберечь сегодня, — это кадры нашей могущественной тайной армии, нашей армии разведчиков. И когда вас задержали как кадрового офицера, я испугался. Ну, ясно же, Гольдринга, такого знатока России, знатока русского языка, немедленно завербуют американцы! И я решил во что бы то ни стало помешать этому, сделать все, чтобы вы очутились в школе «рыцарей благородного духа», начальником которой я являюсь… О ней я расскажу вам впоследствии, да вы и сами узнаете. Теперь же скажу одно: я её превращу в центр, где будут готовить и воспитывать кадры будущей немецкой разведки. Мой план получил полное одобрение руководителей разведки фатерланда, которые находятся сейчас в эмиграции. И мне казалось, что ваше пребывание здесь будет более чем полезно. То, что для всех вы покойник, что все знакомые, в том числе и невеста, узнают о расстреле Генриха фон Гольдринга, пойдёт только на пользу дела. Прошлое умерло в маленьком австрийском городке. Новое возродится для вас здесь, в Испании, возле небольшого городка Фигерас. Вам все понятно, бывший офицер немецкой армии Генрих фон Гольдринг, а ныне просто Фред?
— Все! И благодарю за откровенность.
— На сегодня достаточно… Будем спать. Об остальном поговорим позже. Только не пренебрегайте медициной, набирайтесь сил и как можно скорее становитесь на ноги. Имейте в виду, вам придётся пройти ещё через одну формальность: познакомиться с патронессой нашей школы — доньей Агнессой Менендос.
— А это что за птица?
— Не много ли для одного вечера? Потом расскажу. Впрочем, хочу предостеречь. Очень советую не задевать её религиозных чувств.
— Она католичка?
— Ненавидит всё, что не имеет отношения к католичеству. И так же воспитала свою дочь.
— Если потребуется, я с одинаковым правом могу назваться и магометанином. Конфуций тоже неплохой пророк.
— О, до этого, конечно, не дойдёт… Спокойной ночи!
Но ночь эта не была спокойной для Григория Гончаренко, который в свои двадцать четыре года уже побывал и лейтенантом Комаровым, и Генрихом фон Гольдрингом, а ныне стал Фредом Шульцем.
Рой мыслей, рождённых создавшейся ситуацией, не давал спать.
— А главное, беспокоило то, что не было во всём мире человека, который бы знал, где он, куда попал, и который мог бы помочь.
«Снова — один в поле воин», — промелькнула мысль.
Тревожный сон пришёл только на рассвете.
ТАИНСТВЕННЫЙ ГРУЗ
«Гриша, поди-ка сюда! Гриша, поди-ка! Погляди, как за ночь распустились яблони!» — голос отца доносился откуда-то издалека, и Григорий напрасно старался прорваться сквозь толщу сна, ответить хоть словечко. «Я сей… я сей… я се-й-час!» — выдавливает он наконец и вдруг с ужасом замечает, что в прямоугольнике двери стоит вовсе не отец, а Кронне. На губах оберста насмешливая улыбка, в глазах злорадство.
Обливаясь потом, Григорий проснулся.
Скверно!
Неужто он и впрямь кричал во сне? Не сумел отмежеваться от своего «я» и целиком перевоплотиться в проклятого Фреда?.. А может, это только сон? Так ли, этак ли, а надо усилить контроль над собой. Григория Гончаренко нет — есть только Фред Шульц. Запомни это так, чтобы даже мысленно обращаться к себе как к Фреду.
Итак, Фред, плохи твои дела со всех точек зрения. Но хуже всего — неопределённость положения. Опасность зримая — это ещё полбеды.
Можно было надеяться, что Нунке захочет продолжить начатый разговор и расскажет, как обещал, о школе. Но на следующий день оберст не пришёл. И не только на следующий. До конца недели Фред видел только врача. А тот вёл себя более чем сдержанно. История с симуляцией явно задела его профессиональное самолюбие, он не скрывал обиды и во время осмотра пациента ограничивался сугубо деловыми замечаниями и такими же деловыми вопросами.
— Могу я выйти в сад? — не выдержал, наконец, Фред.
— Пока нет!
— В ваш арсенал не входит такое лекарство, как свежий воздух?
Врач пожал плечами.
— О вас не скажешь, что вы разговорчивый собеседник! О чём вас ни спросишь…
— Все вопросы адресуйте начальнику школы.
— Но я никого, кроме вас, не вижу! Передайте, кому следует, что я подыхаю без свежего воздуха, что мне необходим моцион. Кстати, это входит в ваши врачебные функции… И пусть мне принесут книги.
Промямлив нечто невразумительное о своём невмешательстве в дела, его не касающиеся, врач вышел.
Но не прошло и получаса, как ключ в замке повернулся, и на пороге появился высокий, сгорбленный старик со стопкой книг под мышкой. Отрекомендовавшись библиотекарем, он без каких-либо дальнейших пояснений положил принесённую литературу на стол и, вежливо поклонившись, вышел.
Никогда ещё пальцы Григория так не дрожали, ощупывая переплёты и листая страницы. Одна, вторая, третья книжка, вот уже перебрана вся стопка, а ничего путного нет! В основном немецкая литература времён Гитлера. Внимания заслуживает лишь трехтомный справочник «Россия» на русском языке. Что ж, это любопытно!
Во время пребывания за границей Генриху фон Гольдрингу приходилось видеть множество подобных путеводителей и справочников, но трехтомный в руки не попадал. Понятно, что двойник Гольдринга — Фред принялся именно за него.
Он был уверен, что в комнате установлен аппарат для подслушивания. Не исключено — за тем, кого привезли сюда как Гольдринга, наблюдает и чей-то внимательный глаз. Поэтому Фред всегда вёл себя так, как подобает в подобной ситуации. Но, открыв наугад справочник и прочитав первые строчки, попавшиеся на глаза, он не выдержал и громко расхохотался.
«Для русских сахар — не продукт питания, — ещё раз прочитал он вслух, — а лакомство. Им угощают только самых дорогих гостей».
Все ещё смеясь, Фред взглянул на титульный лист: «Перевод со второго нью-йоркского издания» — значилось там.
Нет, как видно, справочник не зря переводили и переиздавали. Как же иначе мир узнает о всех достопримечательностях русского характера!
Чего, например, стоят такие строки: «Самая дорогая вещь для каждого русского — икона. За неё он готов отдать всё, что имеет».
Или вот это:
«Русская женщина любит, когда муж бьёт её. Побои она принимает как доказательство любви…»
Продолжая наобум перелистывать странички, Фред всё время хохотал так, словно перед ним был не справочник, а остроумнейший юмористический журнал.
Возможно, именно смех заглушил шаги нового посетителя, на появление которого Фред сегодня не рассчитывал. Впрочем, Нунке был не один: вслед за ним пошёл невысокий, дородный, военной выправки мужчина такого неопределённого возраста, когда человеку с одинаковым основанием можно дать и тридцать пять и сорок пять лет: морщин не видно, цвет лица свежий, но лоб переходит в большую лысину, кончающуюся выше темени; серые выпуклые глаза смотрят живо, но под ними уже наметились складки, которые вот-вот превратятся в мешки. Но все это взгляд отметил несколько позже, первое же, что бросилось в глаза, был рот незнакомца — чуть перекошенный большим шрамом, пересекавшим всю левую скулу. Позднее Фред узнал — это памятка от чеха, который во время допроса бросился на следователя с голыми руками и чуть не разорвал ему рот.
— Мой заместитель герр Шлитсен, — отрекомендовал Нунке и, ожидая, когда закончится церемония первого знакомства, приветливо, даже ласково прибавил:
— Рад видеть вас в хорошем настроении, не прочь бы и сам посмеяться вместе с вами. Что это так вас развеселило?
— Вот этот опус, называемый справочником. Если такой чушью набивать головы забрасываемых в Россию агентов, гарантирую им полный провал. В первый же месяц!
Фред запнулся, поняв, что сболтнул лишнее. Ведь чем глупее и лживее подобные справочники, тем лучше! Дезинформация иногда значительно важнее полной осведомлённости. Не зная брода, берегутся, а если брод указан неверно… Надо смягчить сказанное…
— Я не хочу разносить справочник в целом… — начал он, но Шлитсен прервал его.
— Во всякой справочной литературе всегда есть мелкие неточности, это, конечно, неприятно, но существенного значения не имеет, — менторским тоном провозгласил он. — Важно создать общее представление о характере и обычаях нации. Поскольку дело в данном случае касается России, то я уверен: авторы трехтомника сумели наилучшим образом обрисовать русский характер.
— Чем же знаменателен этот характер?
— Прежде всего, русские — дикари. Внешне приобщившись в западной цивилизации, в какой-то мере овладев современной техникой, в глубине души они остались дикарями, способными…
Улыбнувшись, Фред взял справочник, быстро нашёл нужную страничку и вслух прочитал:
— «Если русского разозлишь, он хватается не за современное оружие, даже не за охотничье ружьё, которое, возможно, у него есть под рукой, а за обычную палку и, мастерски ею орудуя, дерётся с врагом…» Вы это имели в виду?
— И это… Я был на Восточном фронте, работал на захваченной нами территории, стало быть, сталкивался с партизанами — только что прочитанное вами лучше всего характеризует русских.
— Как по-вашему, чем нас гнали из России — палками или «катюшами»? А Берлин русские брали оглоблями или танками и артиллерией?
Шрам на лице Шлитсена из бледно-розового стал фиолетово-красным.
— Не преувеличивайте мощь врага. Военные поражения очень часто зависят не от силы победителей, а от ошибок, допущенных другой стороной… иногда просто из-за фатального стечения обстоятельств… Прожив столько лет среди русских, вы подсознательно идеализируете их. Своеобразный гипноз среды, — съязвил Шлитсен.
«Ага, и он знает биографию Голъдринга, — отметил про себя Фред. — Что же, тогда надо держаться с присущей барону независимостью».
— Разведчик, герр Шлитсен, руководствуется не подсознательными ощущениями, а разумом, сознанием возложенных на него обязанностей, — резко бросил он. — Что же касается гипноза среды…
— Гершафтен! Гершафтен! К чему такие страсти! вмешался Нунке. — Зачем ворошить давно прошедшее, когда у нас так много дел сегодня.
— Разрешите не согласиться с вами, герр Нунке! возразил Фред. — Корни современного уходят в прошлое, так же как из современного прорастают корни будущего. Неверная оценка минувших событий сейчас может привести к ошибочным выводам. Боюсь, что герр Шлитсен находится под гипнозом… ошибочных идей. Я разведчик, разведчик по образованию, по профессии. Думаю, что уважаемый герр Шлигсен тоже. А, как разведчики, мы не вправе недооценивать силы врага. Лучше уже переоценить, нежели недооценить…
— Абсолютно согласен с вами, герр Шульц, абсолютно! — Нунке поглядел сначала на Фреда, потом на своего заместителя, взглядом приказывая прекратить спор. — Ведь мы пришли сюда не ради дискуссий, сколь интересны бы они ни были…
— Охотно вас выслушаю.
— Прежде чем приступить к делу, один вопрос: как вы себя чувствуете, герр Шульц?
— Физически совершенно здоров, но морально…
— Понимаю, отлично понимаю. Вы засиделись в четырех стенах, и это вас угнетает. Тогда, может, согласитесь немного размяться?
— Ещё бы! С удовольствием поброжу по саду.
Шлитсен улыбнулся.
— Речь идёт о несколько иной прогулке, чем парк, — многозначительно начал он, но, заметив нетерпеливое движение шефа, оборвал фразу.
— Да, о несколько иной, — подтвердил Нунке. Не хотелось вас торопить, но бывают обстоятельства, когда можно положиться лишь на людей проверенных и абсолютно преданных. К сожалению, я не могу объяснить ситуацию во всём объёме, ибо сам руководствуюсь лишь указаниями сверху. Вы тоже человек военный и понимаете: приказы надо выполнять, а не обсуждать
— Речь идёт о каком-либо задании?
— И очень серьёзном.
— Вы меня удивляете: как можно новичку, человеку ни во что не посвящённому…
— Я знаю вас не первый день и учитываю ваши способности: быстрая ориентировка в сложной обстановке, решительность, смелость. Назначая вас комендантом Кастель ла Фонте, я собрал все необходимые сведения и никогда не раскаивался, что остановил выбор именно на вас.
— Очень вам признателен…
— Таким образом, ваши опасения ..
— Простите, но я хотел бы знать такой пустяк, как, например: чьим приказам я подчиняюсь?
— Вспомните наш первый разговор уже в школе.
— Догадка далеко не достоверность. А вслепую я действовать не намерен. Что собой представляет школа «рыцарей благородного духа»? Так, кажется, называется это богоугодное заведение?
— Всего-навсего вывеска! Дань склонным к романтике испанцам. Ширма, за которой чувствуешь себя удобно и безопасно. Таким, как мы с вами, кого волнует судьба не только Германии, но и всего западного мира, надо тайно копить силы. Пока тайно. Под какой угодно вывеской! — с пафосом воскликнул Шлитсен. — Осознав свою историческую миссию, мы объединим разрозненные силы и тогда…
— Прекрасно сказано, герр Шлитсен, но я хотел бы поговорить о деле, — поморщился Нунке, зная склонность своего помощника к длинным и пышным речам.
— А дело заключается…
Начальник школы замолчал, словно паузой хотел подчеркнуть значимость того, о чём собирался сообщить. Фред, понимая важность минуты, выпрямился на стуле. Шлитсен положил на край пепельницы нераскуренную сигару.
— В прошлый раз мы с вами беседовали о положении, в котором оказалась Германия. Она расчленена, в ней хозяйничают победители. Мы не в силах скрыть от них наши фабрики, заводы, словом, материальные ценности, являющиеся неотъемлемой собственностью нации. Но мы можем скрыть другое наши государственные тайны, сделать так, чтобы глаз победителя сюда не проник. Речь в данном случае идёт о секретных государственных документах. О переписке, которая велась, минуя обычные дипломатические каналы, о списках людей, нужных для восстановления фатерланда… Вы не новичок в таких делах, Фред, и я не стану давать излишние пояснения. Скажу одно: значительная часть этих документов спрятана, и спрятана надёжно. Но есть документы, необходимые уже сегодня, как говорится, для текущих дел… Например, для такой школы, как наша. Понятно?
— Понемногу начинаю понимать.
— Почему именно с вами я затеял этот разговор? Тоже понятно?
— В основном. Очевидно, мне поручается достать ценные документы и препроводить их в надёжное убежище. Так, герр Нунке?
— Вывод логичен. Не правда ли, герр Шлитсен?
— Если это вывод, а не интуитивная догадка, — поправил педантичный Шлитсен. — Прежде чем согласиться с вами, я хотел бы проследить за ходом мыслей нашего молодого коллеги.
— Вы считаете, что это имеет столь принципиальное значение? — нетерпеливо бросил начальник школы.
— Я только ответил на ваш вопрос, герр Нунке, обиделся Шлитсен. — Точность в выражениях, помоему…
— Хорошо, выражаюсь максимально точно: времени у нас в обрез, уважаемый коллега! — в голосе Нунке теперь звучало не только нетерпение, но и раздражение.
Заметный антагонизм между начальником школы и его заместителем в дальнейшем мог сослужить службу Шульцу, но сейчас же Фред не хотел обострять отношения ни с первым, ни со вторым.
— О, мой ответ не отнимет много времени, герр Нунке. В «Логике» одного известного автора есть такое утверждение: чем интеллигентнее человек, тем с меньшими подробностями он излагает виденное, прочитанное или услышанное… Мне не хотелось бы, чтобы герр Шлитсен почёл меня за человека малоинтеллигентного, и поэтому я отвечу коротко: меня предупреждают о серьёзном поручении, сообщают о секретных документах и о необходимости часть из них иметь сейчас в распоряжении школы, так что не трудно догадаться…
— Вы удовлетворены, герр Шлитсен? — едко спросил Нунке.
— Вполне.
— Тогда конкретно о том, что касается Фреда. На днях наш человек привезёт в условленное место секретные документы, а возможно, и ценности. Вам, Фред, поручается получить их и доставить сюда. Доставить любой ценой в целости и сохранности.
— Куда ехать?
— В Мадрид.
— Самолётом, машиной, поездом?
— Самолётом.
— Меня будет кто-то сопровождать?
— Да. Вы ведь не знаете испанского языка, и мы даём вам в помощь проворного и проверенного сотрудника школы. Да и выполнить задание вам будет легче вдвоём.
— Что я должен делать в Мадриде?
— Ждать.
— Весело, чёрт побери! Мне бы хотелось действовать, а не сидеть сиднем.
— Не так долго, как вы думаете: только от шести до семи часов вечера по местному времени. Весь день и после семи вы свободны. Конечно, Мадрид не Париж, но и в нём есть на что поглядеть.
— Значит, моя поездка в столицу Испании будет носить и общеобразовательный характер?
— Надеюсь, это шутка, а не легкомысленное отношение к заданию? — голос Нунке звучал сухо официально. — Миссия, возложенная на вас, исключительно важна для нашей школы, для нашего дела в целом. Повторяю: каждый день от шести до семи вечера вы должны быть в номере гостиницы, ни на секунду никуда не отлучаясь. Когда груз прибудет, вам позвонят и сообщат, как его получить. Всё, что вам скажут, считайте приказом, выполнить который надо абсолютно точно. Не исключена и такая возможность: агенты вражеских разведок каким-то образом пронюхали о документах. Поэтому, получив их, вы, сохраняя максимальную осторожность, в тот же день грузите багаж на самолёт, который вам предоставят, и вылетаете сюда.
— Значит, обратно я вернусь другим самолётом?
— Об этом вас поставят в известность. Всё будет зависеть от обстоятельств.
— Когда я должен вылететь?
— Повторяю: всё зависит от обстоятельств. Завтра, послезавтра, через три дня… Приказ о присылке своего человека мы можем получить в любую минуту. Учитывая это, вы уже сегодня должны начать готовиться в путь.
— Вместе с моим спутником?
— Он бывал в Мадриде, и это нецелесообразно. Познакомитесь в самолёте.
— Хочу обратиться с просьбой.
— Пожалуйста!
— Разрешите выходить за пределы этих апартаментов. Мне хотелось бы…
— Знаю, знаю… Можете свободно гулять в парке. Герр Шлитсен оформит необходимый для этого пропуск!
Твёрдый картонный четырехугольничек с таинственными пометками, дававший право на выход из бокса, полученное задание, перспектива повидать Мадрид пробудили воспоминания о давно пережитом, но ярком, незабываемом…
Впервые Григорий будет шагать по испанской земле, по улицам Мадрида!
Как жаждал он попасть сюда девять лет назад, как мечтал об этом во сне и наяву!
Григорию Гончаренко шёл пятнадцатый год, когда Франко поднял мятеж против революционного правительства Испании. Мальчик в это время закончил семилетку и готовился поступать в техникум. Но разве можно спокойно сидеть над учебниками, конспектами, когда гибнет его детская вера в справедливость, которая непременно должна торжествовать на земле! Григория охватило горячее стремление самому принять участие в великой битве за счастливую судьбу трудящихся всего мира.
Так называемая «будка» — маленький домишко железнодорожного сторожа-обходчика, где жил старый Гончаренко с сыном, находилась в трех километрах от станции. Пассажирские поезда останавливались здесь на одну-две минуты, чтобы высадить немногочисленных пассажиров, сбросить почту и газеты… И каждый день, а то и дважды в день Гриша бегал на станцию, чтобы встретить поезд и как можно скорее получить выписанную отцом газету «Коммунист». Хотелось поскорее узнать о новостях в Испании.
Испания! Тогда слово это не сходило с уст советских людей, карты этой страны висели в каждом доме. Прочитав последние сообщения о боях с фашистами, люди маленькими флажками отмечали места, где решалась судьба испанских патриотов. Была такая карта и в домике обходчика. Извивалась и по ней красная нитка, и когда на каком-либо участке шпильку с ниткой приходилось отодвигать назад, сердце мальчика болезненно сжималось, словно это в него входило острое лезвие.
Беготня на станцию отнимала много времени, и Гриша лихорадочно принялся собирать собственный детекторный радиоприёмник. Иногда ему помогал отец. Он плохо разбирался в радиотехнике, больше мешал, чем помогал. Но отец и сын любили эти часы совместной работы — они порождали радость, вечную спутницу любого творчества, и чувство единства.
Грише никогда не забыть лицо отца, когда, наконец, приёмник был готов. Ничего, что внешне приёмник выглядел неуклюжим, а слова диктора по временам были едва слышны. Но слышны! Теперь уже не на следующий день из газет, а три и даже четыре раза на протяжении дня можно узнавать о последних событиях и Испании.
Поймав новое сообщение, Гриша не в силах был усидеть за учебниками и бежал на участок, где отец осматривал колею, полол траву или подсыпал песок и гравий. Обходчик молча продолжал работать, а мальчик пересказывал только что услышанное, тут же комментировал информационное сообщение, сыпал огромным количеством незнакомых названий испанских городов, рек, старинных крепостей.
Ночью они ему снились. Он видел себя бойцом революционной армии, которая, прорываясь сквозь огонь и дым, с ходу захватывает вражеские позиции, чтобы водрузить над ними алый стяг. Гришу будило биение собственного сердца, и мальчик долго лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к длинным зовущим гудкам паровозов, которые мчались мимо домика. «Ту-да! И-ди!» — кричали они. «Быст-рей! Быстрей!» — выстукивали колеса вагонов.
Живя далеко от станции, Гриша редко виделся со своими товарищами по школе, и все впечатления, накапливавшиеся в его душе, искали выхода в действии. Однажды вечером он сказал отцу:
— Папа, я поеду в Испанию!
Павло Гончаренко серьёзно поглядел на сына.
— А что ты умеешь?
— Драться с фашистами.
Отец даже не улыбнулся.
— Ну, одного, двух, пусть даже десяток уложишь, а дальше? Фашисты во всём мире начинают показывать зубы. Чтобы уничтожить их всех до единого, надо много уметь и много знать.
В тот вечер старый солдат Павло Гончаренко долго беседовал с сыном. Не уговаривал, не кричал просто рассказывал. И Гриша с удивлением отметил: молчаливый, малообразованный отец гораздо лучше его понимает, какая грозная опасность нависла над миром.
— К этому жестокому бою надо готовиться, сынок, таким вот молодым, как ты. Сам же читаешь, что фашисты техникой побеждают — танками, самолётами… А техника вон как шагает во всех армиях мира. Справиться с ней — не на коня вскочить, здесь одной ловкости мало, храбрости — тоже! Умом все надо постичь…
С этого вечера Гриша повзрослел. Интерес к событиям в Испании больше не отвлекал его от учёбы, а, наоборот, подгонял: скврее, лучше!
В 1939 году Григорий Гончаренко был уже курсантом специальной школы. Теперь восемнадцатилетний юноша многое знал — уже мог бы помочь испанским трудящимся в их вооружённой борьбе против фашизма. Но Франко к этому времени стал полновластным диктатором Испании.
И вот спустя много лет Гончаренко всё-таки оказался на испанской земле!
Быть может, даже у стен этого бывшего монастыря несколько лет назад шли ожесточённые бои? Быть может, эта опалённая солнцем земля густо полита кровью лучших сынов Испании, да и не только Испании, а всех тех, кто поспешил сюда, чтобы собственным телом преградить путь фашизму!
Где вы теперь, бесстрашные бойцы революционной испанской армии, где вы, бойцы прославленных интернациональных бригад? Сколько полегло вас здесь, у стен разрушенного в боях монастыря, который после восстановления стал ещё более страшным вражеским логовом, нежели был! Сколько вас томится в тюрьмах Каталонии и Андалузии, Мадрида и Барселоны?
А тот, кто в юности мечтал защитить эту землю от врага, сегодня шагает по ней не как борец за свободу Испании, а как человек, вынужденный скрываться под личиной чуть ли не сторонника ненавистного режима Франко.
Отвратительное ощущение! Словно лицо и в самом деле закрывает пропахший клеем муляж, который хочется сорвать — сорвать даже с кожей.
«Надо как можно лучше ознакомиться с обстановкой, а тогда…»
Что будет «тогда», «там», Григорий представлял очень туманно. Побег? Вряд ли. Не для этого его спасли от расстрела, завезли в такую даль, заперли в клетку, чтобы он так легко выпорхнул из неё. И парк и вся территория школы, конечно, тщательно охраняются. В Мадриде тоже будут следить за каждым его шагом: «помощник», безусловно, приставлен для наблюдения. Его ещё будут проверять и проверять. Итак, надо остерегаться! Излишней поспешностью можно отрезать все пути к свободе. Особенно теперь. До тех пор, пока он не усыпил их бдительность… Да и жаль бежать, ничего не узнав о чёрных планах этих недобитых врагов. По всему видно, немало их спаслось от заслуженной кары! И они снова слетаются в тёмные утолки, подобные этой школе… «рыцарей: благородного духа» — надо же такое придумать!
Невзирая на приказ Нунке немедленно готовиться в дорогу, Григорий всю вторую половину дня бродил по аллеям парка. Бродил вначале наобум, просто так, чтобы изучить территорию. Он обошёл его весь — вдоль и поперёк. Но куда бы он не направился, всюду перед ним вырастала высокая, глухая стена, без единой щёлочки или уступа, на который можно было бы упереться ногой. Подходить к единственным большим воротам не имело смысла — издали бросалось в глаза, как крепко они заперты и как тщательно охраняются. Парк был отличный, тенистый, и тем более поражало безлюдие, царившее в нём. За всё время прогулки никогошеньки. И лишь возвращаясь в бокс, Григорий чуть не столкнулся на веранде с высоким тучным стариком, который прохаживался здесь, заложив руки за спину и что-то мурлыча.
— А-а, мой будущий преемник! Привет, привет! громко воскликнул незнакомец, уступая дорогу.
— Простите, не имею чести…
— Называйте Вороновым или господином генералом… что больше по вкусу! Надеюсь, в ближайшие дни мы познакомимся ближе. А сейчас, извините, мне надо идти. Спокойной ночи!
И старик исчез за дверью. В сумерках Григорий даже не успел хорошенько его разглядеть.
«Русским языком владеет безукоризненно… — засновали мысли. — Но почему он сказал „преемник“? Возможно, он собирался в Мадрид, а посылают меня… Впрочем, хватит забивать себе голову догадками и предположениями. Главное — воз сдвинулся с места, а куда он покатится, об этом надо позаботиться самому…»
На следующее утро у школьного библиотекаря было немало хлопот — позвонил новичок и приказал приготовить все путеводители по Мадриду.
— Все путеводители, герр Шульц? — переспросил библиотекарь, и его мохнатые брови поднялись высоко, чуть ли не до подстриженных ёжиком седых волос. Получив утвердительный ответ, он сокрушённо покачал головой: видно, этот Шульц не имеет представления о том, сколько таких путеводителей. Их не два, не три и даже не десять!
Заглянув минут через двадцать в библиотеку, Фред и впрямь увидал на столике целые штабели книг разной толщины и формата. Пришлось отобрать несколько штук. Изданные в Германии, они поражали обстоятельностью, богатством разнообразных сведений, множеством отступлений и экскурсов в прошлое. Это касалось не только памятников старины, но и всех более или менее известных сооружений. Авторы не только подробно описывали внешний вид и внутреннее устройство, но и перечисляли фамилии тех, кому в различные времена принадлежали эти здания, когда и за какую цену они были проданы, какие пристройки или перестройки были произведены ноны ми владельцами и т.п.
Пропуская излишние детали, Фред читал самое необходимое. Иногда он закрывал глаза, чтобы лучше представить прочитанное. И тогда перед его мысленным взором в мельчайших деталях возникали никогда не виданные здания, оживали целые ансамбли, наполнялись шумом улицы и площади.
После короткого перерыва на обед Фред развернул план Мадрида. Теперь, когда ему были знакомы детали, мёртвая схема словно обросла живой плотью. Начиная от аэродрома, Фред медленно путешествовал по городу, не пропуская ни одной улицы, ни одной площади, придумывая все новые и новые маршруты, комбинируя их так, чтобы не спрашивать дорогу у встречных. К концу вечера план так хорошо запечатлелся у него в голове, что город казался знакомым, словно Фреду и впрямь приходитесь бродить по его улицам, посещать музеи, любоваться памятниками и пейзажами.
Не успел Фред поужинать, как его вызвали к Шлитсену. Начальника школы в кабинете не было, и его заместителю представился отличный случай удовлетворить своё пристрастие к велеречивым спичам. Нудно и длинно Шлитсен разглагольствовал о чувстве ответственности, которым должен проникнуться Шульц, вылетая сегодня в Мадрид, о высочайшей чести, которая ему оказана тем, что такая важная миссия возложена на него, об историческом значении самого факта получения документов.
Неизвестно, сколь долго распространялся бы на эти темы Шлитсен, если бы Нунке не вошёл в кабинет. Этот, к радости Фреда, мгновенно перевёл разговор на деловые рельсы.
— Сколько денег вы берёте в дорогу? — прервал он тираду своего заместителя о чувстве благодарности, которое должно жить в груди каждого немца, если тому…
— Я думал, что вопрос о деньгах…
— Вы должны не думать, а знать: если вам приказано быть готовым вылететь в любой момент, это значит, вы обязаны каждую минуту быть готовым выехать на аэродром.
— Простите, герр начальник! Виноват!
— Возьмите! — Нунке бросил на стол пачку банкнот. — Тратьте экономно, но и не прибедняйтесь: возможно, придётся угостить человека, который привезёт багаж…
Дав ещё несколько деловых наставлений, Нунке вышел, но только Шлитсен принялся упрекать Шульца в беспечности, как начальник школы неожиданно вернулся.
— Чуть было не забыл! Вы хоть немного разбираетесь в гобеленах? — спросил он у Фреда уже совсем другим, дружеским тоном.
— Очень мало!
— Жаль! Что же делать? Ладно, рискну! Понимаете, через несколько дней моей жене исполняется… надцать лет — не станем раскрывать женские тайны! Она очень увлекается гобеленами. А Мадрид, говорят, славится ими. Выберите на свой вкус… Нунке положил перед своим подчинённым пятидесятидолларовую бумажку.
— Я разыщу лучшего консультанта, только бы угодить фрау Нунке.
— Хочу надеяться, что моя жена не будет на вас в претензии… Герр Шлитсен, поторапливайтесь, через четверть часа самолёт должен быть в воздухе!
— Немедленно едем!
Когда Шлитсен и Фред подошли к машине, рядом с шофёром кто-то сидел. Незнакомец, не обернувшись, поднял руку в знак приветствия и тотчас замурлыкал какой-то модный мотив. Это очень раздражало Шлитсена — всю дорогу он мрачно молчал. Даже в момент посадки ограничился лишь коротким напоминанием:
— Герр Шульц! Вы отвечаете за выполнение задания как старший!
Фред молча козырнул в ответ.
Сделав круг над школьным аэродромом, самолёт взял курс на Мадрид.
Только теперь Фред смог разглядеть своего будущего помощника. Это был высокий, но узкоплечий и узкогрудый молодой человек с маловыразительной, однако довольно нахальной физиономией. Во всяком случае держался он развязно и тотчас заговорил фамильярным тоном:
— Надеюсь, герр старший, вы не очень гордый и важный. Давайте по-приятельски: я вам — Фред, вы мне — Гарри. Эти цирлих-манирлих перед путешествием, когда можно гульнуть… Вы не возражаете?
— Если приятельские отношения не помеха служебным делам.
— Вам не понравилось слово «гульнуть»?
— Отчасти. Не хочу быть педантом, но должен напомнить: к сожалению, мы отправляемся не на прогулку, и ждут нас не развлечения, а дела, возможно, даже опасные.
— Вижу тень Шлитсена, стоящую за вами!
— Тогда должен предупредить ещё об одном: я понимаю юмор, люблю шутку, но не переношу, когда переступают дозволенные вежливостью границы.
— Вы неправильно поняли меня, герр Шульц!
— Очень рад, если так. А теперь простите меня, хочу немного вздремнуть. Очень устал за день.
Обиженный Гарри замолчал, а Фред откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Он и впрямь надеялся заснуть, но сон бежал, как ни старался Фред отделаться от назойливых мыслей.
Почему за документами послали именно его? Если они столь важны, опасно давать задание человеку новому, незнакомому с местными условиями, да к тому же не владеющему испанским языком. За документами такой важности следовало бы поехать Шлитсену или даже самому Нунке. Верно, документы не столь уж важны, если их поручено… Тут-то, верно, и зарыта собака! Если же бумаги не такие важные, как о них говорят, то их мог получить и привезти один Гарри, этот недотёпа, которого дали ему в помощники. Вернее сказать, не в помощники, а в наблюдатели. Именно так! Проверка политической благонадёжности Генриха-Фреда или испытание его деловых качеств? Скорее последнее. Хотя… Позорное поражение, вместо мирового господства, отрезвило многих немцев. Такой опытный проныра, как Нунке, не мог не учитывать этого. А Шлитсен и подавно: он, возможно, и не знает о взаимоотношениях Генриха фон Гольдринга с такой важной персоной, как Бертгольд, отношениях, служивших раньше для Генриха, а теперь для Фреда самой надёжной аттестацией, крепким щитом, за которым можно чувствовать себя в безопасности…
Незаметно пришёл сон.
Когда Гарри, уже на мадридском аэродроме, разбудил Фреда, часы показывали четверть одиннадцатого.
По всему было заметно — Гарри в Мадриде не первый раз. Взяв небольшой чемодан, он уверенно пошёл вперёд, время от времени оглядываясь, не отстал ли попутчик. Выйдя с аэродрома на площадь, он так же уверенно свернул налево и подошёл к большой чёрной машине, стоявшей немного в стороне. Небрежно поздоровавшись с шофёром и жестом пригласив спутника садиться, Гарри бросил:
— Поехали!
Он не назвал адреса. Очевидно, водитель знал, куда надо доставить пассажиров.
Восстанавливая в памяти план города, Фред старался угадать, по каким улицам они едут, но машина мчалась с такой скоростью, что дома с ярко освещёнными пятнами окон и ещё более яркими витринами стремительно убегали назад, фонари уличного освещения сливались в одну сплошную линию.
Машина остановилась перед высоким домом в стиле модерн. Гостиницу построили, очевидно, совеем недавно, она, кажется, не значилась в путеводителе. Впрочем, проверять это не было времени.
Гарри издали, как с добрым знакомым, поэдоровался с портье и дежурным администратором и, войдя в лифт, нажал кнопку четвёртого этажа.
А ещё через минуту он уже по-хозяйски, как у себя дома, распоряжался в двухкомнатном номере: аккуратно повесил на плечики чистые рубашки и светло-сиреневый, модного покроя костюм, приказал налить в графин свежей воды, бросить туда лёд и принести бутылку вина.
— Это на всякий случай, чтобы всегда было в запасе, — подмигнул он Фреду и стал переодеваться. — В ресторан пойдём?
— Нет, я не выспался. Хочу отдохнуть.
— Как знаете… А то пойдём? Кусочек остро приправленной рыбы и рюмка бренди плюс хорошенькая певичка сразу прогоняют сон и усталость. Ручаюсь!
— Я, видите ли, после болезни. Всего три дня как поднялся с постели.
— Тогда прислать что-нибудь в номер?
— Очень вам благодарен, Гарри… Кстати, как ваша фамилия? Мы так и не представились друг другу.
— Браун… для таких случаев, как этот, Браун… В школе же нас величают только по имени… Так прислать что-нибудь?
— Ещё раз спасибо, не волнуйтесь!
Минут десять Гарри Браун прихорашивался у зеркала и, наконец, отбыл. Фред расстелил постель и стал медленно раздеваться. Только теперь он в полной мере почувствовал, что отравление сигаретой не прошло для него даром. Видно, не пожалел тюремный человеколюбец этой чертовщины, подмешанной в табак. Чуть не усыпил навеки!
Прохладное прикосновение свежего постельного белья прогнало эти мысли. Так приятно было вытянуться во весь рост и расслабить мышцы. В самолёте сон был тревожным. Перед глазами прыгали страницы путеводителей, словно телеграфная лента, разворачивались строчки чёрных букв. Между словами не было интервалов, и он не мог понять смысла фраз. Теперь же его сморил сон, глубокий, крепкий, без сновидений.
Проснулся Фред поздно ночью, и не потому, что выспался. Его разбудили непривычные для уха звуки. Спросонья он не мог понять, откуда они. Казалось, где-то рядом расположен зоопарк, все его обитатели чем-то взволнованы и проявляют недовольство каждый на свой лад: клёкотом, свистом, хрюканьем, хрипением.
Фред вскочил с кровати и включил свет. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: Браун перебрал в ресторане и теперь расплачивался за это кошмарами, душившими его. О том, что Гарри был сильно пьян, свидетельствовали и разбросанные повсюду вещи: пиджак небрежно свисал с кресла, рубашка и галстук валялись на ковре, одна туфля лежала в проёме двери, ведущей в спальню. Вторую Браун даже не снял, просто расшнуровал, да так и свалился прямо на одеяло.
Тихо выругавшись, Фред направился к Гарри, чтобы разбудить его при помощи нескольких тумаков, но на полпути остановился. Напрасные старания! Ни тумаками, ни кружкой холодной воды, вылитой на голову, Брауна не отрезвить.
Пришлось взять под мышку подушку, простыню, одеяло и идти в другую комнату досыпать на диване.
Но о сне нечего было и думать. Тоненькая раздвижная стенка не могла приглушить звуки, доносившиеся из спальни. Они даже стали громче. Верно, голова пьяного скатилась с подушки, и теперь он то вскрикивал, то стонал.
Набросив на плечи макинтош, Фред вышел на балкон и плотно прикрыл дверь. Сюда разноголосый храп Брауна почти не долетал, но балкон был маленький, ночной ветер продувал его насквозь, а шезлонг за недостатком места не раздвигался — спинка торчала чуть ли не под прямым углом. Пейзаж тоже не радовал: небо над Мадридом закрыли тучи, уличное освещение частично было выключено — фонари горели тускло и лишь кое-где.
Злой, взбешённый Фред сидел в темноте, не зная, куда себя девать.
«А что, если послать письмо Матини на адрес Курта? Собственно, не письмо, а показания по делу бедняги доктора. Самому Матини писать не стоит, он, верно, арестован. А Курт догадается передать показания фон Гольдринга, куда следует…» От этой мысли Григория бросало то в жар, то в холод.
«Рискованно, чёрт подери! Разведчик не имеет права никому писать. Если письмо перехватят и об этом станет известно в школе… Нет, нельзя давать показания. Их могут опубликовать в прессе… и тебе крышка. Тогда уж не выскользнуть. Впрочем, можно проинструктировать Курта, как действовать и кого из товарищей Ментарочи он должен разыскать. Свидетелем может стать и Карл Лютц. Если он жив и Курт поддерживает с ним связь… Письмо надо написать без подписи, спросить только, как ходят часы, которые подарены Курту. Он поймёт, от кого письмо и почему оно не подписано…»
Теперь Фред готов был расцеловать Гарри Брауна за то, что тот напился. Его храп казался Фреду райской музыкой. Прикрыв настольную лампу верхней рубашкой, Фред принялся за письмо, старательно подбирая и взвешивая каждое слово, пересыпая текст намёками, которые мог понять лишь один Курт…
Гарри Браун проснулся в девять часов утра, когда Фред уже побрился и, выпив утренний кофе, сидел в первой комнате, листая иллюстрированные журналы, хмурый и злой:
— Доброе утро, герр Шульц, — с деланной непринуждённостью поздоровался Гарри, приглаживая растрёпанные волосы и массируя опухшие щеки.
— Отправляйтесь ко всем чертям, Браун! Ну и концерт вы закатили ночью. Это даже не назовёшь храпом — никогда не слыхал, чтобы из человеческого горла вылетали подобные звуки. Больше ни одной ночи не проведу с вами в общей спальне.
— Понимаете, герр Шульц…
— К чёрту все оправдания! Я хочу спать, а не торчать ночью на балконе! Поступайте, как хотите: перебирайтесь из номера или переселяйте меня — с вами я не останусь.
— Но…
— Никаких «но»!
— Герр Шульц, уверяю вас, сейчас я всё устрою, растерянно лопотал Гарри, топчась на пороге. — Я мигом.
Браун вернулся в спальню, провозился минут пять и, на ходу завязывая галстук, направился к двери.
Справился он действительно очень быстро.
— Устроил! — весело воскликнул он с порога. — Я иуду жить в соседнем номере, справа.
— А нельзя хотя бы через номер? — улыбнулся Фред.
Эту улыбку Гарри счёл знаком примирения. Выражение униженности и растерянности сошло с его лица, оно снова стало самоуверенным и наглым.
— Может, позавтракаем вместе?
— Я уже завтракал.
— Собственно, о еде я не могу даже подумать. Вот пивка бы… А то в голове после вчерашнего .. Пойду, может, где и набреду на настоящее.
— Отправляйтесь, куда хотите, но от шести до семи сыть в номере!
— Есть!
— Советую припомнить нашу беседу в самолёте.
Чуть ироническая улыбка заиграла на губах Брауна.
— О том, что мы прибыли не на прогулку?
— Вот-вот… И что я буду точно придерживаться данной инструкции.
— Мне такой инструкции не давали!
— Зато дали мне! Как старшему, отвечающему за выполнение задания!
— Уверяю вас, ждать сегодня — это напрасная трата времени. В кои-то веки выбраться в Мадрид и не использовать всех возможностей! Вы как хотите, а у меня на сегодняшний вечер другие планы.
— Меня они не касаются. У меня есть приказ Шлитсена, и я обязан обеспечить его выполнение.
— А если я вам скажу, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра никто не позвонит?
— Откуда у вас такая уверенность?
— Из опыта… и ещё из кое-каких источников.
Фред откинулся на спинку кресла и смерил Гарри Брауна холодным взглядом.
— Так вот, запомните раз и навсегда, — раздельно произнёс он, — приказы не истолковываются, как кому вздумается, не обсуждаются, а выполняются. Ровно в шесть вы будете в номере!
— Быть ровно в шесть. Слушаю, герр начальник! с подчёркнутой вежливостью, в которой звучал вызов, Гарри вытянулся и откозырял.
«Почему он так дерзко ведёт себя? — подумал Фред. — Такими самоуверенными нахалами бывают обычно трусы, они лезут на рожон, лишь когда за их спиной кто-то стоит. И раз этот паршивец отважился… Ничего, ты у меня останешься в дураках!»
Написанное ночью письмо не давало покоя. Листочки, даже не запечатанные в конверт, лежали во внутреннем кармане пиджака. С десяток конвертов лежит на письменном столе, но на всех стоит фирменный знак гостиницы. Было бы неосторожностью использовать один из них. Надо отложить отправку письма до удобного случая. А пока спрятать его как можно лучше. Куда? Под туго накрахмаленный манжет сорочки, осторожно подрезав его с изнанки бритвой. Здесь листочки не зашелестят и будут наготове.
Ветер, налетевший ещё ночью, днём стал сухим и горячим. После контузии, полученной вблизи Сен-Реми, у Фреда в такую погоду всегда болела голова. А тут ещё бессонная ночь! Он решил не выходить. Правда, хочется побродить по улицам города, очутиться в шумной толпе, хоть на время забыть, что ты пленник. Но первый выход в город дело ответственное и подготовиться к нему надо как следует. Спустившись в вестибюль, Фред купил испанский разговорник и расспросил портье, неплохо владевшего немецким, где можно купить старинные гобелены.
— О, сеньор может не беспокоиться! Через полчаса у вас будут адреса всех антикварных магазинов.
— Если я засну, пожалуйста, положите на стол. А это вам за хлопоты.
— Вы слишком щедры, сеньор! Очень благодарен! Считайте, что я у вас в долгу. Любое поручение…
— Да, да, буду иметь в виду…
До пяти часов Фред сидел, склонившись над словарём. Знание французского и итальянского помогало усваивать самые нужные в обиходе слова. Перестраивая их, подставляя вместо одних слов другие, Фред старался составить фразы, которые могут ему пригодиться. Он так увлёкся, что позабыл о времени. До шести, когда могут позвонить, оставался всего час следовало подумать об обеде. Спускаться в ресторан не хотелось. Фред позвонил знакомому уже портье и попросил, чтобы тот заказал ему типично национальные блюда.
— Простите, что снова беспокою вас. Мне хотелось бы пообедать в номере, но я не уверен, поймёт ли меня обслуживающий персонал ресторана да ещё по телефону, а по-испански я знаю лишь несколько слов, пояснил Фред.
— О, сеньор, пусть в дальнейшем вас это не волнует. Наш персонал подобран так, что способен обслужить туристов всех национальностей. А ваше поручение я выполню с особым удовольствием. Разрешите заказать на свой вкус?
— Да. Только кофе закажите покрепче.
— Обязательно, сеньор! В Мадриде сейчас много немцев, и мы знаем, к какому кофе они привыкли.
Усевшись за стол, Фред почувствовал волчий аппетит, но очень скоро ему пришлось отложить нож и вилку: все закуски и горячие блюда были приправлены очень острыми специями. Только кофе немного охладило пылающий рот.
Ровно в шесть явился Браун.
— Прибыл по вашему приказанию, герр начальник! — снова вытянулся он с подчёркнутой выправкой.
— Не паясничайте, Гарри. Эти ваши «герр начальник» и козыряния меня нисколько не трогают. Могли бы хоть из вежливости извиниться за испорченную ночь!
— Если вы настаиваете… то прошу прощения! Хотя мне кажется, между мужчинами такие тонкости излишни
— Надо обладать десятью талантами, чтобы они заменили одиннадцатый — вежливость, — говорят французы.
— Пфе, французы! Должно быть, из вежливости они так любезно предоставили нам свою территорию! Что касается меня, то я мужественно переживу отсутствие этого одиннадцатого таланта и слеза печали не затуманит мои глаза. Правил приличного поведения я не изучал.
— А не мешало бы.
— Послушайте, Шульц! Честное слово, меня удивляет ваше отношение ко мне! Мы почти однолетки, оба были офицерами одной армии, посланы выполнять одно задание… Казалось бы, у нас много общего и мы легче чем кто-либо иной можем понять друг друга, а получается так…
— По вашей вине, Гарри!
— Отчасти и по вашей, Фред! Знаете что? Давайте покончим с этим недоразумением так: я искренне признаю, что прошлую ночь вёл себя как свинья, я вы должны признать, что немного погорячились. Согласны?
«Почему он сегодня так приветлив? Опять выпил и расчувствовался? На определённой стадии опьянения с некоторыми это бывает…»
Глаза Гарри действительно подозрительно поблёскивали, лицо чуть раскраснелось, но всё говорило о том, что он не так уж много выпил, а скорее обеспокоен или взволнован.
Понимая, что перемены в поведении Брауна вызваны более значительными причинами, нежели испорченное настроение, Фред уже мягче сказал:
— Мне самому не нравится, как сложились наши взаимоотношения. Поставим на всём предыдущем крест.
— Ну, слава богу!
Браун швырнул шляпу на диван, расстегнул ворот сорочки и, придвинув кресло поближе к Шульцу, сел.
— В доказательство моего искреннего расположения разрешите открыть вам одну тайну…
— Что вы посланы следить за мной?
Гарри расхохотался.
— Вот почему вы так хорохорились! Откуда вы знаете?
— Из опыта, как сказали вы однажды… Я не первый день в разведке. И догадываюсь — это поручение Шлитсена. Давно с ним работаете?
— С осени сорок первого… Тогда он был иным… Или, может, только казался иным…
— Не смею спрашивать, каков он был, — ведь во взаимоотношения двух боевых друзей вмешиваться не положено.
Фред решил не форсировать событий и не проявлять большого интереса к начатому Брауном разговору.
— Да, когда-то мы были друзьями .. Было да сплыло… Послушайте, Фред! Только откровенно: вами иногда овладевает разочарование, неверие, как вот мною?
— Всякое бывает…
— Майн готт! Какими мы были в начале войны! Фюрер, фатерланд! Райх! Бессмертие героям! Райская жизнь живым!.. Где все, за что гибли наши лучшие солдаты, за что страдали мы? Куда исчезло? Если вспомнить, кем мы были и кем стали…
Разговор все больше интересовал Фреда, однако он, как и прежде, не подавал вида.
— Вы сегодня в плохом настроении, Гарри!
— Только сегодня? Вот уже почти год…
— Вчера вы перебрали, Гарри, сегодня добавили… Когда человек выпьет, всё, что скрыто в тайниках души, вырывается наружу, так как человек ухе не властен над своими чувствами. Это плохо для всех, а для разведчика в особенности.
— Слишком уж все у вас правильно, откровенно говоря. Что же, разведчик, по-вашему, — не человек? Потому и напился, что хочется погасить в себе все человеческие чувства! Я же, как молитву, всякий раз повторял слова фюрера о призвании расы господ, а где очутился? У развалин фатерланда, у могилы собственных мечтаний и надежд. Ибо эфемерными были эти надежды и мечты, вот что я вам скажу! Никто ничего мне не даст, если я сам не вырву свой кусок, сам не позабочусь о том, чтобы стать господином. И плевать мне тогда на всех и вся, на всех шлитсенов и нунке… Да не глядите вы на часы! Говорил же вам
— сегодня никто не позвонит… Сколько до семи?
— Через четверть часа можете считать себя свободным.
— Тогда в нашем распоряжении ещё полчаса. Условился встретиться с одной девчонкой в восемь. Жаль, если кто-нибудь перехватит. Милашка этакая, сами понимаете…
— Догадываюсь.
— Идея, Фред! А не махнуть ли нам вместе? Весьма приличный дансинг, а девочки — пальчики оближешь.
— Нет, меня больше соблазняет вот этот словарик. В чужом городе, не зная языка… Кстати, вы не поможете мне написать несколько цидулок и отправить по этим адресам — портье дал мне список антикваров. Хочу разузнать о гобеленах, чтобы напрасно не ходить.
— Успеется! Напишем завтра утром. Раз уже заговорили откровенно…
Гарри ещё долго сетовал на судьбу, так обманувшую его, на собственную глупость, которая привела его в школу «рыцарей благородного духа», где им понукают, как быдлом, где всем заправляют те, кто забрался наверх и сумел о себе своевременно позаботиться.
— Уверяю вас, Фред, мы только пешки, которые они выбросят из игры, как только достигнут своего. А я не хочу быть пешкой! И вы, я вижу, не из тех, кого можно передвигать по доске, — горячо шептал Гарри, придвигая кресло ещё ближе к Фреду. — Когда раньше меня посылали на задание, пусть самое сложное и ответственное, я шёл не колеблясь. Я верил — это ещё одна ступенька вверх. А теперь? Вот Шлитсен предупредил, что в багаже важные документы, возможно даже ценности. А я вдруг подумал: кому мы их повезём? Фюреру? Родине? Или тем бонэам, что, втянув нас в авантюру, первыми сбежали? Нет у нас с вами ни роду, ни племени! Выходит, мы два офицера, а в сущности двое нищих, должны рисковать жизнью, как делали это не раз, в угоду честолюбию и ради кармана тех, кто нас обманул и будет обманывать впредь, если мы не поумнеем. К нам в руки попадёт настоящий клад, ведь документы — тот же клад, а мы его чудно-мило отдадим Шлитсену и Нунке, которые сумеют нагреть на этом руки! Почему вы молчите, Фред?
— Уже четверть восьмого, и вам пора идти, улыбнулся Шульц, показывая на часы.
Гарри нехотя, словно колеблясь, поднялся с кресла. Он медленно, очень медленно застегнул ворот рубашки, почистил щёткой туфли, поправил перед зеркалом галстук… Фред видел, как напряжённо Браун ждёт ответа или какого-либо замечания.
Но Фред не проронил ни слова. Опустив веки, он задумчиво курил сигарету, как бы мысленно взвешивая все, только что услышанное.
Сокрушённо вздохнув, Гарри не торопясь вышел.
ГОБЕЛЕНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
Любой путеводитель для туристов обычно грешит против истины, рассказывая о той или иной местности. И не потому, что авторы справочника сознательно допускают неточности. Просто, акцентируя внимание на главном, наиболее характерном, они невольно затушёвывают остальной фон, а это нарушает соотношение обычного и необычного.
Когда после разговора с Гарри Фред вышел из гостиницы, несоответствие между действительным и воображаемым наполнило его сердце разочарованием. Он быстро определил, где находится, узнал знакомые по фотографиям и описаниям здания, но их характерные очертания как бы нивелировались в потоке стандартных сооружений, обычных для центра любого большого города. Поступь нового века! Шагая по улицам города, современное безжалостно стирает остатки прежнего, его своеобразие, снисходительно перешагивая кое-где через памятники старины, — в угоду поколению, ещё крепко связанному с прошлым.
Мысли эти промелькнули в голове Фреда и исчезли. Слишком уж много у него сегодня волнений, чтобы им поддаваться. Хотелось поскорее отправить письмо Курту, надо было обдумать, как вести себя с Гарри Брауном, выяснить, насколько тот был откровенен.
Улица, по которой Фред шёл из гостиницы, была людной. Это и затрудняло и облегчало положение. В толпе легче затеряться, но можно и не заметить, что за тобой следят. Фред несколько раз останавливался то у витрины, то у дома интересной архитектуры, чтобы проверить, нет ли хвоста. Наблюдения как будто не было.
Вот и площадь Пуэрта-дель-Соль — «Ворота солнца», как поэтично окрестили её испанцы. Большая, окружённая высокими, ярко освещёнными домами, она пульсировала, словно огромное обнажённое сердце, которое, то сжимаясь, то расширяясь, как бы наполнялось кровью и тотчас разгоняло её по сосудам — улицам. Пуэрта-дель-Соль и впрямь сердце столицы, тот узел, откуда берут начало десять главных улиц, широких и ровных, на которых никогда не прекращается движение. Полюбовавшись фонтаном, Фред свернул на одну из самых оживлённых улиц — Алькола.
Сухой неприятный ветер, дувший весь день, к вечеру стих. Лишь изредка по вершинам деревьев пробегал едва уловимый трепет — последний истомлённый вздох умирающего дня. Прохлада словно струилась с вечернего небосвода, на котором одна за другой зажигались звезды. Отсюда, с земли, они казались едва заметными пятнышками — ведь на улице вспыхивали свои ночные огни. Огоньки пробегали и гасли вдоль фасадов на рекламных транспарантах, загорались в глубине зеркальных витрин, мигали в окнах вечно бодрствующих гостиниц, мерцали над входами бесчисленных ресторанов и кафе. Казалось, люди сознательно хотят ослепить себя искусственным светом, будучи не в силах преодолеть страх перед бездонной пропастью неба.
Пройдя два квартала, Фред, поколебавшись, остановился: очень хотелось пить, надо было достать конверт… Зайти в маленькое кафе, а потом продолжить вечернее путешествие по Мадрид'?
— Может, сеньор офицер желает осмотреть город? — послышалось рядом на ломаном немецком языке.
Фред оглянулся.
Перед ним стоял невысокий, худощавый человек. Берет открывал выпуклый, чуть сдавленный у висков лоб, на который спадала прядь чёрных волос. Глаза, близко поставленные к переносице, лихорадочно блестели в глубоких ввалившихся глазницах. Узкое лицо казалось болезненно измождённым.
— Кто вы и почему решили, что я офицер? спросил Фред не очень приветливо.
— Я водитель такси. Мне показалось, что сеньор впервые в Мадриде.
— Почему же вы назвали меня офицером?
— О, теперь у нас много таких! — Грустная ирония прозвучала в этих словах. Но шофёр, видно, почувствовал, что ведёт себя не слишком учтиво, поспешно добавил:
— Простите… я хотел сказать бывших немецких офицеров.
Теперь голос его звучал совершенно равнодушно, но Фреду казалось, что в глубине глаз быстро промелькнули и погасли насмешливые искорки.
— Вы угадали, я действительно хочу осмотреть город. Что касается чина, которым вы меня наградили, то придётся вас разочаровать.
— Тем лучше!
— Почему «лучше»? — Фред не пытался скрыть доброжелательной улыбки. Ему начинал нравиться этот бедняга, очевидно не питающий особо нежных чувств к бывшим гитлеровским офицерам, которые, спасаясь от заслуженной кары за совершенные злодеяния, теперь толпами бежали в фашистскую Испанию.
— Вы вообще против офицерства или только против нас, немцев?
Водитель вскинул на Фреда внимательные глаза. «Кто ты и почему интересуешься этим? — спрашивали они. Какое тебе дело до того, что думает простой испанский труженик? Не опасно ли быть с тобой откровенным?»
— Я повидал разных немцев, — уклончиво ответил водитель, хотя взгляд незнакомого сеньора и был приветлив. — Я уважаю туристов, которые любуются нашим городом, и не люблю пассажиров, которых надо возить по… домам, не хочется даже называть их…
— Я не собирался сегодня долго путешествовать, но охотно проедусь. Где ваша машина?
— Пожалуйста, на той стороне.
Фред перешёл улицу, сам открыл дверцу и первым сел.
— «Мерседес» тридцать девятого года?
— О, сеньор хорошо разбирается в машинах!
— Немного.
— Не сказал бы. Что касается этой, хочу предупредить — осталась только оболочка. Все новое! Ходит как зверь!
— Ну, заводите своего зверя!
Машина легко тронулась с места и плавно покатила по асфальту. Таксист искоса поглядел на Фреда.
— Чувствуете, какой мягкий ход? Жаль, не могу сейчас развить полную скорость. Вы бы убедились — старушка может ещё посоревноваться с новейшими моделями. Я сам сменил все до последнего винтика. — Сухощавые, огрубевшие от работы пальцы ласково пробежали по колесу руля. — Так куда прикажете ехать?
— А что можете предложить вы?
— Если ехать в этом направлении, то попадём в Прадо.
— Отложим это до завтра. Меня интересует не столько внешний вид музеев, сколько то, что хранится внутри.
— От музея тянутся прекрасные бульвары. Вечером негде яблоку упасть.
— Тогда боже упаси от бульваров! Не люблю людных мест.
— Можно поехать в старую часть города. Увидите королевский дворец, оперу, оружейную палату… А в придачу — сорока четырех королей Испании, Филиппа четвёртого на коне… Туристы особенно восхищаются им.
— Что ж, везите на приём к королям! Мы не нарушим правил этикета, появляясь так поздно? Какойнибудь сеньор Оливарес не снесёт нам головы?
— Страшнее живые временщики, сеньор!
— Метко! По этому случаю закурим. Пожалуйста! Фред вынул пачку сигарет и протянул шофёру.
— У вас самого только три…
— Я думаю, эта беда поправима. Хорошо, что обратили внимание, а то бы я на всю ночь остался без сигарет. Надеюсь, по дороге можно купить?
— Конечно.
— Возьму сразу две пачки! И раздобудьте, пожалуйста, конверт. Совершенно забыл, что мне надо отправить срочное письмо… Дома будут волноваться. Купите несколько марок для иностранной корреспонденции;
— Тогда проедем немного вперёд.
Метров через двести шофёр остановил машину и вышел.
— Постараюсь не задерживаться, сеньор. Сигареты купить такие же?
— Если есть. А нет, возьмите сигары. Хотелось бы попробовать местные…
«А что, если шофёр подошёл на улице Алькола не случайно? — спросил себя Фред, как только тот скрылся. — Он производит впечатление порядочного человека, а впрочем… Глупости, не может быть!.. Проанализируй каждый свой шаг с того момента, как ты вышел из гостиницы».
Шофёр вернулся очень быстро. К этому времени Фред немного успокоился.
— Спасибо за сигареты и особенно за конверт, весело бросил он. — Сейчас надпишу и брошу в почтовый ящик. Жена у меня прекрасная женщина, но у неё один недостаток: ревнива. Стоит мне не написать, и она воображает бог знает что.
— Не один вы, сеньор, страдаете от этого… Мне пятьдесят, на Аполлона, как видите, я не похож, а моя Мануэла… — Смущённо улыбнувшись, таксист махнул рукой и снова взялся за руль.
Опустив письмо в ближайший почтовый ящик, Фред совершенно успокоился и целиком мог отдаться мыслям о разговоре с Гарри, так его встревожившем.
С какой целью Браун затеял эту беседу? Провокация? Вряд ли. На такой примитив ни Шлитсен, ни сам Гарри не пошли бы. Первый слишком опытен, второй
— тоже не лыком шит. В Мадриде он чувствует себя уверенно, значит, посылали его сюда не раз… В голосе Брауна звучали нотки неподдельной искренности — ухо опытного разведчика мигом улавливает малейшую фальшь. Похоже, что внезапная откровенность Гарри вызвана какими-то действительно искренними переживаниями. Именно эти переживания плюс лёгкое опьянение и стали причиной того, что он забыл об осторожности. Какие же чувства могли так овладеть Гарри, что тот решился на откровенность?
В памяти всплыл лагерь военнопленных и страсти, там бушевавшие. В сущности, не страсти, а одна страсть, охватившая всех офицеров: достать денег, любой ценой раздобыть денег! Чтобы бежать, укрыться в безопасном месте, незаметно пересидеть несколько горячих послевоенных лет подальше от мест, где каждый столб, каждая ветка на дереве, кажцый камешек напоминает о миллионах безвинно замученных, расстрелянных, сожжённых. В лихорадочной погоне за деньгами офицеры пускались во все тяжкие. Продать семейную реликвию, пронесённую сквозь все годы войны, обыграть вчерашнего однополчанина в карты, заключить выгодное пари, занять у какого-нибудь простачка, а потом не отдать долг — все годилось, лишь бы давало прибыль… Очевидно, это же непреодолимое стремление обеспечить себе будущее руководило и Гарри Брауном. Перспектива разбогатеть, присвоив посылку с документами и ценностями, лишила его здравого смысла, заставила искать сообщника… Понятно, без помощи Фреда Гарри ничего сделать не может… Если, конечно, не отважится вообще убрать его с дороги.
— Вот и королевский дворец, — прервал шофёр раздумья Фреда. — Остановить?
— На несколько минут. Мне хотелось бы осмотреть памятник Филиппу четвёртому. Говорят, он производит ошеломляющее впечатление.
— Туристам очень нравится.
— А вам?
— Видите ли, сеньор, я в скульптурах разбираюсь плохо. Возможно, он в самом деле очень хорош — не скажу, слишком мы к нему пригляделись. Но меня всякий раз поражает другое: руки человека, способные создать такое чудо. Просто невероятно, на чём держится скакун, на котором восседает всадник. Сейчас увидите сами.
В сопровождении шофёра Фред подошёл к памятнику. Вздыбившийся конь и впрямь опирался на пьедестал лишь задними копытами. Казалось, вся грандиозная, почти шестиметровая бронзовая скульптура висит в воздухе.
Фред обошёл памятник, рассматривая его в различных ракурсах.
— Согласен с вами: невероятно! И подумать только: такой величественный памятник поставлен одному из самых ничтожных королей, который привёл Испанию к политическому и экономическому упадку! Я не оскорбляю ваши национальные чувства?
— Вы ничего плохого не сказали об испанском народе, надеюсь, и не подумали… А короли? Если на минуту оживить каждую из этих скульптур и спросить, сколько они вместе с инквизицией замучили людей, откуда у них роскошные дворцы и необозримые земельные владения… Боюсь, сеньор, небесный свод рухнул бы в тот же миг, а земля разверзлась бы у них под ногами. Когда я проезжаю по площади, где происходили аутодафе, мне кажется, что до сих пор каждый камень там взывает к небу…
— Странно совпадают человеческие мысли: я только что тоже подумал об инквизиции. До мельчайших подробностей вспомнил картину одного художника… Зичи, кажется, которую однажды наш преподаватель истории принёс на урок. Пять «еретиков», приговорённых инквизицией к сожжению. Подножье столба, к которому привязаны осуждённые, уже лижут языки пламени. В густом дыму, который стелется по низу и медленно поднимается, гибнут в корчах трое приговорённых. Словно карающий меч, навис над ними чёрный крест… Но, помнится, меня потрясли не эти ужасающие подробности, а фигура и лицо девушки в центре группы. Вся в белом, она высоко простёрла руки к небу, но и в поднятых руках, и в выражении лица были не отчаяние, не мольба о спасении, а гордый вызов небесному судье. Этот образ так глубоко запал в мою детскую душу, что девушка даже снится мне иногда… Возможно, я чувствовал, что встречу похожую. Да, они были очень похожи, даже лицами… Её тоже уничтожичи изуверы-фанатики, бросив под колёса грузовика.
Фред замолчал. Признание вырвалось невольно счишком уж свежо было воспоминание о гибели Моники. На миг открыв сердце, он почувствовал жгучий стыд.
Но шофёр понял настроение странного ночного пассажира — бывает с человеком, когда на него нахлынут воспоминания. В такие минуты надо молча слушать, расспрашивать нельзя.
— Простите, сеньор, своей болтливостью я навеваю на вас тоску. Нам лучше уехать отсюда. Туда, где много людей. Как видно, я плохой собеседник.
— Наоборот, само провидение послало вас мне сегодня. В чужом городе чувствуешь себя так одиноко. И далеко не с каждым встречным можно так свободно перекинуться словом. Кстати, как вас зовут?
— Хуан Лопес, сеньор! Мне тоже сегодня повезло: очень редко попадается пассажир, который считает тебя человеком и удостаивает разговора.
— Тогда надо закрепить знакомство. Давайте посидим где-нибудь в кафе? Я проголодался, да и вы, верно, не откажетесь немного подкрепиться… Договорились?
Хуан Лопес критически оглядел себя.
— Я в рабочем костюме, сеньор. В более или менее приличное кафе меня не пустят. Да и чувствовать я себя буду неловко среди шикарной публики.
— А вы выберете место, где на нас не обратят внимания.
— Вас не испугает, если там будет полно народу? Да и публика не респектабельная.
— Наоборот, это меня развлечёт.
— Тогда поехали!
Как всегда, воспоминание о Монике нелегко было прогнать. Закроешь глаза
— и она уже сидит рядом в белом платье, которое ей так шло. Каким бы восторгом сияли её глаза, если бы они вместе отправились путешествовать! Он бы сделал все, чтобы печаль ни разу не заволокла её взор. Нет, нет, это не так! Моника не из тех, кто ограничивал свои стремления личным счастьем, они бы вместе прошли по тем местам, где в ожесточённых боях сложили головы бойцы за лучшее будущее Испании. Он повёл бы Монику на площадь, где «святая инквизиция» живьём сожгла тридцать пять тысяч человек из полумиллиона замученных ею, чтобы девушка поняла, как глубоки корни современного фашизма. Теперь фашисты не из религиозных, а из расовых предрассудков обновили методы аутодафе и сожгли уже не десятки тысяч, а миллионы людей. И неизвестно ещё, какие костры они собираются разжечь в будущем.
— Приехали, сеньор!
Машина остановилась. Хуан ловко открыл дверцу, подождал, пока Фред выйдет, и, пропуская его вперёд, вслед за ним направился к бару.
В большом круглом зале, куда они вошли, было многолюдно и шумно. Бочки с олеандрами, пальмами и ещё какими-то вьющимися растениями, отделяющими столик от столика, создавали впечатление ещё большей тесноты, зато служили надёжным укрытием для тех, кто искал укромного уголка для интимной беседы. Заметив свободный столик, Хуан быстро направился к нему
— Простите, что так поспешил. Боялся, кто-нибудь захватит свободные места. Здесь нам будет удобно.
Заказав закуску для нового знакомого и кофе для себя, Фред, как обычно, внимательно оглядел все столики, попавшие в поле его зрения. Вдруг глаза его чуть сощурились.
— Увидали знакомого? — спросил Хуан.
— Нет, только показалось. Этот лысый с тяжёлой челюстью напоминает кого-то. Не могу припомнить кого.
Хуан оглянулся.
— Вы где остановились, сеньор? В гостинице?
— Да, «Гвадаррама»
— Так ведь это владелец бара при вашей гостинице. Странно, что он оказался здесь. Хотя… о нём ходят разные слухи. Человек он любезный, но я бы не советовал доверять ему.
— Что касается еды, то больше не доверюсь. От сегодняшнего обеда до сих пор горит во рту!
Фред искренне рассмеялся, хотя на душе было неспокойно: собеседником бармена был Гарри, сидящий к ним спиной.
Кофе сразу потерял всякий вкус. Почему эти двое беседуют здесь, а не в «Гвадарраме»? Гарри торопился на свидание с девушкой — где же она? И разговор у них, как видно по жестикуляции, не совсем застольный. Лысый на чём-то настаивает, лицо у него насмешливое и раздражённое. Тощий Браун ещё больше съёжился, втянул голову в плечи, склонился к лысому совсем близко, почти лёг на стол… что-то шепчет… Бармен утвердительно кивает головой, ребром ладони трижды бьёт по столу.
Разговаривая с Хуаном, Фред то и дело искоса поглядывал на дальний столик. Беспокойство всё усиливалось. Не о передаче ли документов договариваются эти двое? И не о том ли, как убрать с дороги его, Фреда? Вот лысый двумя кулаками, крест-накрест, ударил по столу и оскалился. Плечи Гарри мелко задрожали от смеха. Спина угодливо изогнулась. Очевидно, пришли к соглашению… Так и есть! Лысый поднялся. Не прощаясь, бросил на стол несколько монет, кивнул официанту и направился к двери у стойки. Может, пошёл в туалет? Нет, он расплатился, больше не вернётся. Вот поднимается и Гарри. Он уже повернулся лицом к двери. Сейчас тоже двинется…
Фред неловко уронил салфетку и быстро наклонился, чтобы поднять её с пола. Из-под локтя он заметил, как Гарри направился к двери. Он шёл как лунатик, скорее инстинктивно обходя препятствия, чем замечая их.
Вскоре поднялся и Фред.
— Что-то разболелась голова, сеньор Лопес. Спасибо за приятно проведённый вечер! С удовольствием поезжу завтра по Мадриду. Вы сможете позвонить в половине одиннадцатого?
— С удовольствием.
— Тогда вот номер. Спросите Шульца. — Фред написал номер телефона на клочке бумаги и протянул Хуану Лопесу. — А теперь в «Гвадарраму».
Через четверть часа, стоя на балконе гостиницы, Фред прислушивался к мурлыканью, доносившемуся из номера Брауна.
— Гарри, вы уже дома?
— Сейчас зайду! — откликнулся тот, выглянув в открытое окно.
Не успел Фред войти в комнату, как дверь без стука открылась и на пороге возникла знакомая долговязая фигура.
— Испаночка так быстро отпустила вас?
— Едва избавился. Вообразила, что я совсем перееду к ней. — Гарри зевнул во весь рот и потянулся. Но я не из тех, кого легко облапошить.
— У вас, верно, и без неё много знакомых? Ведь вы не в первый раз в Мадриде?
— Бывал. Только всегда по срочным делам. Приехал — уехал… Ну, конечно, не без того, чтобы побаловаться с девушкой. Советую и вам не зевать, кто знает, когда ещё удастся вырваться из школы. А может, вы тоже подцепили какую-нибудь сеньориту? Вы ведь куда-то ходили?
— Зря потерял время на эти проклятые гобелены. Но адресам, указанным портье, зашёл к нескольким антикварам. С видом знатока рассматривал поблекшие рисунки, присматривался к фактуре материала, шупал… А купить так и не купил. За то, что кажется хорошим, просят очень дорого, а дешёвые — явная подделка… Придётся звонить Нунке, пусть вышлет деньги. Хочется поскорее избавиться от этой мороки.
— Добавьте свои, потом рассчитаетесь с шефом.
— В том-то и дело, что своих у меня не густо. Нунке сунул сущую мелочь. Может, вы одолжите до завтрашнего вечера несколько десятков долларов? Тогда бы я на свой риск с утра купил гобелен.
— Если выиграю сегодня в бильярде.
— Вы собираетесь выходить?
— Не торчать же весь вечер в номере!
— Тогда спустимся вместе. Я ещё не ужинал.
— Пойду надену галстук.
— А я тем временем вымою руки.
В уборной Фред вынул из бумажника пятидесятилолларовую купюру, записал номер на манжете сорочки. Он сам не знал, зачем так поступает — какой-то ещё не очень ясный план рождался у него в голове.
Бар при гостинице, в отличие от того, где Фред побывал сегодня, поражал своей добропорядочностью и тишиной. Между столиками, за которыми сидело немного посетителей, бесшумно скользили безукоризненно опрятные официанты, оркестр под сурдинку наигрывал приятную лирическую мелодию, свет, приглушённый матовыми плафонами, не резал глаза.
— Здесь неплохо, — похвалил Фред, когда они вместе с Гарри вошли в бар.
Словно осматривая зал, он на миг остановился, придержав за локоть своего спутника. Ему надо было увидеть, как встретятся бармен и Гарри. Но как перный, так и второй словно не заметили друг друга. Владелец бара скользнул по ним холодным, равнодушным взглядом и тотчас отвернулся, отдавая какие-то распоряжения одному из официантов. Гарри даже головы не повернул в сторону стойки.
«Они скрывают знакомство!» — заметил Фред.
Во время ужина он в этом окончательно убедился. Ни единого взгляда, ни единого намёка, что эти двое знают друг друга. Впрочем, Гарри поужинал быстро.
— Простите, что оставляю вас одного, — извинился он минут через двадцать, — пойду попытаю счастья. Бильярд здесь отличный, а игрок я неплохой…
Посидев ещё немного, Фред подозвал официанта.
— К сожалению, у меня только большая купюра. Пожалуйста, разменяйте и приготовьте счёт.
Фред со своего места видел, как лысый бармен считал деньги, как, свернув банкнот, положил его не в кассу, а в карман пиджака. Это было естественно: пятидесятидолларовые купюры выпускаются в ограниченном количестве. А впрочем? Если подозрения Фреда обоснованы?..
Мысль эта не давала покоя весь вечер. Фред лёг в постель, попробовал читать, взялся за словарь, но строчки расплывались перед глазами. Пришлось отложить и журнал и словарик. Закинув руки за голову, Фред снова вернулся к вопросу, мучавшему его весь день, хотя он и не разрешал себе думать об этом.
А что, если он совершил непоправимую ошибку, ничего не ответив Гарри, когда тот завёл разговор об их жалкой судьбе? Возможно, надо было проявить большую заинтересованность, заставить Брауна поставить все точки над «и», окончательно открыть карты? В свою очередь воспользоваться случаем, послать школу, Нунке, Шлитсена ко всем чертям, спрятаться гденибудь — у Гарри, наверно, есть связи, — а потом постараться перейти границу Франции? Хуан Лопес, кажется, порядочный парень, он мог бы помочь…
Выходит, отряхнуть прах с ног, умыть руки, словно Понтий Пилат, мол, меня чёрные намерения «рыцарей» не касаются.. Попасть, можно сказать, в центр событии и спокойненько ретироваться, ничего не сделав? Нет, сейчас бежать рано!
Как же тогда вести себя с Брауном? Действительно ли он отважится на такой рискованный шаг? Уравнение со многими неизвестными… Пока ясно одно: Гарри пришло в голову извлечь из документов пользу. Он почему-то скрывает знакомство с хозяином бара, хотя у них только что был очень важный разговор; сам бармен — человек сомнительной репутации, а если так, он может быть лишь посредником; настоящий вдохновитель, конечно, будет держаться в тени. Для того, чтобы овладеть документами, надо либо договориться с тем, у кого они окажутся в руках, либо уничтожить его. Браун падок до развлечений, а на это нужны деньги. Не похоже, чтобы он привёз из школы крупную сумму… Выигрыши на бильярде? Возможно. Впрочем, не исключено, что его искушают мелкими авансами.
Любопытно, выполнит ли он просьбу Фреда. Обязан выполнить — ему ведь надо усыпить бдительность спутника, даже рискуя некоторой суммой. Если это так, он сегодня же попробует достать кое-что…
Снова и снова перебирая различные варианты, сопоставляя факты, обдумывая линию дальнейшего поведения, Фред не замечал, как течёт время.
К действительности его вернул стук в дверь.
Гарри не вошёл, а ввалился в номер, попыхивая сигарой.
— Алло, Фред! Вы ещё не спите?
— Как видите. Ого, какие сигары мы сегодня курим! С какой радости? Выигрыш?
— Ещё какой! Потому и зашёл. Вот, получите пятьдесят долларов вас устроят?
— Вполне. Очень благодарен. Напрасно вы волновались. Можно было отложить до утра.
— Э, обещание есть обещание! Я человек компанейский. Вот даже бутылочку прихватил, чтобы выпить с нлми за здоровье моего остолопа-партнёра. Условились завтра о реванше. С уверенностью скажу — денежки его уже вот где!
— Гарри похлопал себя по карману. Бренди — первый сорт, налить?
— Чуть-чуть. Я вообще, как вы заметили, не пью. Только по случаю вашего выигрыша.
Браун, однако, наполнил два стакана почти до краёв.
Протянув один Фреду, он уселся верхом на стул и залпом выпил.
— Чёрт побери, как меняется настроение. Чуть повезло — и жизнь словно заискрилась новыми красками. Даже стыдно вспомнить, что я вам наплёл сегодня. Надеюсь, вы не придали значения пьяным бредням?
— На это у меня хватило здравого смысла. Вы были пьяны, но, надеюсь, помните, что я не ответил вам ни словечка. Прими я все за чистую монету…
— Понятно… Не зря я почувствовал к вам такую симпатию. Итак, разговора не было, вы о нём забыли?
— Абсолютно.
— Тогда выпьем ещё за ваше здоровье!
— А не много ли?
— Крепче будет спаться. Да отпейте вы хоть немного!
Фред пригубил стакан.
— С условием, чтобы вы так громко не храпели, как в первую ночь, — пошутил он.
— Не будьте злопамятны! Я ведь сразу пошёл на уступку и поселился отдельно… Вот пойду к себе, упаду на кровать и засну! Спокойной ночи!
Как только Гарри вышел, Фред быстро поднялся, запер дверь и только после этого взглянул на полученный банкнот.
Номер был тот же, что и на манжете!
Фред почти не спал всю ночь. Заснул лишь под утро, а уже в девять зазвонил телефон.
— Фред Шульц? — спросил хриплый голос.
— К вашим услугам.
— Мне телеграфировал герр Нунке по поводу гобеленов.
— То есть?
— Просил помочь вам.
— Прекрасно! Где и когда мы встретимся?
— Ровно в одиннадцать я буду ждать вас на площади Кортесов у памятника Сервантесу. Не опаздывайте! — Голос звучал властно, не похоже, чтобы так разговаривал услужливый торговец.
Ровно в половине одиннадцатого приехал Хуан Лопес.
— С чего начнём наше путешествие, сеньор?
— Мои планы несколько изменились. К одиннадцати я должен встретиться с одним знакомым на площади Кортесов. Подвезите меня и подождите. Надеюсь, долго не задержусь.
— Сколько угодно, сеньор!
— Поезжайте так, чтобы добраться минут за пять до одиннадцати.
— Хорошо, выберу именно такой маршрут К памятнику Сервантесу Фред подошёл минута в минуту. Его уже ждали. Солидный средних лет человек прохаживался возле памятника. Увидав Фреда, он стремительно повернулся и пошёл навстречу.
— Я не ошибаюсь, герр Шульц? — спросил он так, словно встретил знакомого, которого давно не видал.
— Собственной персоной.
— Пойдёмте присядем!
Отойдя от памятника, незнакомец тяжело опустился на скамейку и принялся старательно вытирать носовым платком толстую красную шую, бесцеремонно рассматривая Фреда.
— Припекает, — буркнул он, наконец, пряча платок.
— По-моему, не очень.
— Ну, в ваши годы и с вашей комплекцией. — Незнакомец почему-то сердито поглядел на Фреда и без всякого перехода отрубил: — Дела плохи. Весь план меняется. Гобелен получите завтра утром на аэродроме и немедленно вылетите домой. Все! Больше пусть вас ничто не заботит.
— Простите, вы разговариваете со мной в таком тоне…
— Хотите осмотреть «Эскуриал»?
— С этого и надо начинать! Признаться, меня взволновал ваш телефонный звонок в такое странное время.
— Обстоятельства изменились.
— Не спрашиваю, что именно произошло, но…
— Ваша осторожность мне нравится. Назову и номер банкнота, который дал вам Нунке на покупку гобелена: пятьдесят три, семьдесят два, четырнадцать. Взгляните и проверьте!
Фред медленно вынул из кармана бумажник, ещё медленнее развернул пятидесятицолларовую купюру.
— Напрасно меня не предупредили, что она будет иметь какое-либо иное назначение. Я её чуть не разменял…
— Тогда, возможно, у вас другая?
— Нет, мне надо было проверить одну догадку, и я хорошо запомнил номер, даже записал! Вот! — Фред отвернул рукав пиджака и показал едва различимую надпись на манжете.
— Любопытно! Выходит, у вас возникли подозрения? Расскажите, где именно вы разменяли купюру и как она снова попала к вам. Не упускайте никаких подробностей, это очень важно!
— Подробностей не так уж много: просто я разменял купюру в баре гостиницы, а потом получил её обратно, одолжив деньги у Брауна.
— Что вас заставило записать номер купюры и с какой целью вы одолжили деньги у Брауна?
— В каком-то второразрядном баре я неожиданно стал свидетелем его встречи с барменом нашей гостиницы. Это вызвало подозрение.
— У вас отлично развита интуиция. А каким образом вы сами оказались в этом подозрительном заведении и почему угощали шофёра? Офицеру это не к лицу.
— Он немного знает немецкий и служил мне гидом и переводчиком одновременно. А на мне не написано, что я офицер!
Фреда начинал раздражать допрос, и собеседник заметил это.
— Хорошо, хорошо! — сказал он примирительно. Вообще вы действовали верно и никаких претензий у меня к вам нет. Более того, хвалю за осторожность. Но в дальнейшем поступайте строго по моим инструкциям.
— Это только облегчит моё положение. Слушаю вас, сеньор!
— Так вот, сейчас же возвращайтесь в гостиницу и снова разменяйте эту купюру в баре «Гвадаррама».
— Будет немедленно сделано.
— От шести до семи у телефона пусть дежурит Браун. Один, совершенно один.
— На что я должен сослаться?
— Оставьте для него у портье записку, что немного опаздываете и просите вас заменить. Без каких-либо объяснений. Он с радостью ухватится за возможность подежурить одному. Не стану вдаваться в подробности, но это его вполне устроит.
— Что я должен делать после размены купюры?
— Что хотите. Завтра утром вы улетаете и до этого времени можете быть совершенно свободны. Осмотрите Мадрид, музеи. В гостиницу я попрошу вас вернуться после восьми.
— Как вести себя с Гарри?
— Его вы не увидите.
— Чем я объясню это Нунке?
— Ничем. Сошлётесь на мой приказ и все. А теперь… — Незнакомец поднялся, небрежно приложил к виску два пальца и, не торопясь, пошёл через площадь, как человек, вышедший прогуляться.
Фред, вконец растерянный, посидел ещё с минуту.
«Значит, меня видели вчера в баре с Лопесом, за мной следили, а я этого не заметил!»
Мысль, что он остался в дураках, была нестерпима. Особенно угнетало предположение, что наблюдение было поручено Хуану Лопесу, который так пришёлся ему по душе. Конечно, ничего особенного шофёр рассказать не мог, но было обидно так ошибиться в человеке.
— Я должен вернуться в гостиницу! — сухо сказал Фред, садясь в такси. Лопес утвердительно кивнул. Он видел, что его пассажир вернулся в плохом настроении, и не решался начать разговор.
— Подождать? — только и спросил Хуан, когда машина остановилась.
— Да,с полчаса.
Не поднимаясь в номер, Фред наскоро позавтракал и вторично разменял злополучную купюру. На этот раз бармен взглянул на него с любопытством. Фреду пришлось издали поклониться и развести руками: простите-де, мол, но других денег у меня нет. Владелец бара успокаивающе закивал, давая понять, что с разменом все в порядке.
Эта немая сцена при сложившихся обстоятельствах только рассмешила Фреда. Он радовался, что с него снята ответственность. Теперь можно ни о чём не думать, просто отдохнуть. Отдохнуть, невзирая ни на что!
В машину Фред садился уже не такой хмурый, как полчаса назад.
— Для начала повезите меня куда-нибудь подальше, скажем, на окраину. О центре Мадрида я уже имею кое-какое представление, хотелось бы увидеть город с чёрного хода.
Хуан улыбнулся:
— Знаете, как у нас называют окраины? Терновый венец Мадрида!
— Звучит образно. Не берусь судить, насколько это метко.
— Вот увидите! — Хуан нажал на педаль, повернул руль, и машина помчалась по улицам, проскочила мост.
Пассажир и водитель молчали. Хуан из вежливости, Фреда все ещё злило то, что он мог так ошибиться в человеке, поддавшись первому впечатлению. Наконец любопытство побороло неприязнь.
— Вы ещё долго работали вчера, Хуан? — спросил он, как бы невзначай.
— Нет, благодаря вам я вчера хорошо заработал. От гостиницы поехал в полицию, потом прямо домой.
— В полицию?
— Да, сеньор, чёрный список! После заключения меня обязали каждый день являться и подробно рассказывать, где был и кого возил.
— И вам это нравится? — спросил Фред, не скрывая того, как поразило его такое объяснение.
Хуан Лопес густо покраснел. Руки его, до сих пор свободно лежавшие на руле, побелели в суставах — так сильно он его сжал.
— Вы неправильно меня поняли, сеньор! Я не стукач. Я просто выполняю формальность. Иначе меня лишат работы и перспективы когда-либо получить её Поверьте мне, сеньор! Я мог бы скрыть от вас это, но вы так по-человечески отнеслись ко мне…
Хуан поднял на Фреда глаза, полные такой тоски, что у того сжалось сердце.
«А что, если это признание тоже своеобразный ход? — спросил он себя и, покраснев от стыда, сразу же отбросил такую мысль. — Худо, ох, как худо, когда в сердце закрадывается безосновательное недоверие».
— Простите, Хуан! Слово «полиция» вывело меня из равновесия. Не потому, что у меня с ней особые счёты. Просто не люблю насилия, лицемерия и прочего… О нашей поездке вас тоже расспрашивали?
— Да. Особенно интересовались, почему вы пригласили меня в ресторан. Я объяснил это тем, что вы не знаете языка… Поверьте, сеньор, они не услышали от меня ни одного лишнего слова. Сказал только, куда ездил, и все…
Хуан Лопес был так искренне огорчён подозрением, которое невольно возбудил, что у Фреда отлегло от сердца.
— Э, чёрт с ним! Хватит об этом. Скажите лучше, почему окраины называют терновым венцом?
— Видите ли, из-за климата, зимой холодного и ветреного, летом жаркого и тоже ветреного, да ещё из-за недостачи воды. Мадрид раньше рос очень медленно. С середины прошлого столетия здесь едва насчитывалось двести тысяч жителей. Река Мансанарес мелководна и в жару пересыхает. После постройки канала, который вобрал в себя воды с вершин Гвадаррамы, картина сразу изменилась. Город начал бурно расти. Появилось много парков, роскошные виллы стали появляться как грибы. Поднимались все новые и новые предприятия. Они требовали рабочих рук, много рабочих рук. Люди двинулись сюда лавиной. Строиться было некогда и не на что. Ютились, кто где мог. Вот и образовался венок из лачуг. Верно, ни один большой город не знает таких! Учтите, большая часть предприятий Мадрида — мелкие! Сотни их каждый год терпят крах, прогорают, как говорим мы между собой, и тот, кто вчера ещё был рабочим, сегодня становится безработным. Тут и лачуга уже — недоступная мечта… Город вырос, верно, раз в десять, а о благоустройстве окраин никто не позаботился…
Вскоре Фред убедился, что Хуан не преувеличивает. Из рая, каким теперь казался ему центр, человек попадал прямо в ад. Обитатели окраин действительно ютились — ютились, а не жили — среди мусора, свалок и грязи.
— Я видел окраины Берлина, Парижа, многих других городов, читал о трущобах Чикаго и Нью-Йорка, но такого себе не представлял! — вырвалось у Фреда.
— Здесь ещё не так, а вот на северной окраине ещё хуже, — вздохнул Хуан.
Да, «терновый венец» вполне оправдывал своё название. И носил его распятый, преданный и проданный испанский народ…
Часть дня Фред собирался посвятить музею Прадо, но после только что увиденного отважиться на это не смог. Он знал: все произведения искусства покажутся ему обманом и фальшью. Он просто не сможет их воспринять.
После скромного обеда в небольшом ресторанчике Фред попросил Хуана проехаться вдоль парка Касадель-Кампо и дальше мимо Университетского городка.
— Кажется, здесь велись ожесточённые бои за Мадрид? — спросил он, когда они въехали в зелёную зону.
— Да, велись… — после длинной паузы ответил Хуан Лопес. — Только мне лучше не вспоминать об этом сегодня. Может быть, ещё увидимся, тогда расскажу…
Распрощался Фред с Хуаном поздно вечером, уставший от долгой поездки и массы новых впечатлений. Шофёр такси долго и крепко пожимал руку своего не совсем обычного пассажира.
— Сеньор, ещё раз прошу, не думайте обо мне плохо! Я труженик и не предал ни одного человека.
— Ни капельки не сомневаюсь… камарад! — Фред подчеркнул последнее слово.
Глаза Хуана благодарно засветились.
Прежде чем войти к себе в номер, Фред на всякий случай постучал в соседнюю дверь. Никто не ответил.
Усталось дала себя знать — сон обрушился на него сразу, словно огромная глыба. Когда утром зазвонил телефон, Фреду показалось, что прошло не более часа с тех пор, как он заснул.
Но комнату заливало яркое солнце, телефон, не умолкая, звонил.
— Куда вы, чёрт подери, пропали! — послышался знакомый хриплый голос.
— Просто крепко спал. Извините, не ожидал, что вы позвоните так рано.
— Быстрей спускайтесь вниз! Я жду вас в машине.
Спросонья не сообразив, зачем его так спешно вызывают, Фред быстро оделся и минуты через три уже вышел из гостиницы.
Вчерашний незнакомец ждал его в роскошном «форде».
— Почему без вещей? — не здороваясь, спросил он.
— Слово «побыстрей» я понял буквально. Разрешите вернуться, забрать чемодан и расплатиться?
— Расплатятся без вас! Садитесь! Поехали на аэродром.
Тон приказа был настолько категоричен, что возразить Фред не решился.
Минут десять ехали молча. Незнакомец сперва сердито сопел, потом неожиданно рассмеялся.
— Вот вам за потерянные вещи, — сказал он, вынимая из старомодного бумажника фатальную пятидесятиполларовую купюру.
— С вашего разрешения я передам её Нунке.
— Как хотите…
До аэродрома незнакомец не произнёс больше ни слова. Фред тоже мрачно молчал. С ним обошлись не слишком-то учтиво, и он не скрывал, насколько сильно это его задело.
На этот раз дорога на аэродром показалась Фреду значительно короче. Он удивился, что машина остановилась так быстро. Но впереди виднелись крылья самолётов, угадывалось лётное поле.
Здоровенный шофёр взял под мышку свёрнутый, но не очень тщательно зашитый гобелен и оглянулся, ожидая приказа владельца машины.
— Не выпускать из рук до самого самолёта! — коротко приказал тот.
— Это меня или гобелен? — насмешливо спросил Фред, хотя понимал: с документами надо быть осторожным.
Незнакомец прищурился.
— А знаете, вы мне нравитесь!
— Тогда, может, скажете, куда делся Браун?
— Если вы думали сказать последнее слово у его гроба, то опоздали, — ответил незнакомец.
ВОРОН БЕЗ ГНЕЗДА
На следующий день он проснулся поздно. Было воскресенье, и сигнал побудки, который всегда громко разносился по всей территории школы, сегодня не прозвучал. Да и устал вчера Фред так, что все равно его не услышал бы.
Завтрак уже ждал его на столе. Очевидно, в честь праздника рядом с тарелками и закрытыми судками стоял маленький графин с коньяком. Взглянув на этот «натюрморт», Фред почувствовал, что здорово проголодался. Ведь на протяжении прошедшего дня он почти ничего не ел, а вернувшись в школу, даже не подумал об ужине.
Наскоро проделав несколько гимнастических упражнений и приняв душ, Фред в одной пижаме сел за стол и с удовольствием оглядел кушанья. Ото, как сегодня угощают! Многовато даже при его аппетите: селёдка, варёные яйца, ветчина, куриная ножка с рисовым гарниром… и, конечно, термос с неизменным чёрным кофе.
Но только Фред взялся за вилку, в дверь постучали, и на пороге появилась плотная фигура человека, которого Фред встретил на веранде и который смешно представился Вороновым, Вороном или генералом.
— Вы, молодой человек, конечно, удивлены, что я пришёл к вам в воскресенье и вдобавок без приглашения? Но вы ещё больше удивитесь, увидев вот это!
Воронов вынул из брючного кармана бутылку, завёрнутую в бумагу, не спеша развернул её и торжественно, точно вручая хозяину необычайно приятный подарок, поставил на стол. Поставил так, чтобы Фред сразу смог увидеть этикетку.
— «Русская смирновская водка», — вслух прочитал Фред и с удивлением взглянул на Воронова. — Что-то не слышал о такой!
— Нет, нет, вы прочитайте написанное мелким шрифтом, — настаивал Воронов, довольный признанием Фреда, что тот даже не слыхал о существовании такой водки.
— «Поставщик двора его императорского величества», — читал Шульц дальше.
— Вот в этом-то, батенька мой, и вся заковыка! Поставщик двора! Это вам не на Хитром рынке и не в Охотном ряду торговать!
— Вы что, храните бутылку с дореволюционных времён? — с деланной наивностью спросил Фред.
Воронов расхохотался. Он упал на стул у стола, и его огромный живот затрясся так, словно генерала трепала жестокая лихорадка
— Ха-ха! Вот это сказал — храню с дореволюционных времён! Ха-ха-ха! Да вы, батенька, поглядите на мой нос! Это же вывеска! Самая лаконичная характеристика! Танталовы муки мелочь в сравнении с тем, что мне довелось пережить, откладывая вчера вечером для вас эту бутылку. Даже ночью просыпался! А вы «с дореволюционных времён» .. Это ведь из Англии! Поставщик Смирнов эмигрировал туда и открыл в Англии водочный завод. Славится! Лучшей водки, чем «смирновская», во всём мире не сыщете.
— А «московская»?
— Пробовал! Хороша, ничего не скажешь! Но кто привык к «смирновской», другой пить не станет.
— Тогда давайте позавтракаем вместе! Прошу!
Воронов поднялся, приблизился к домофону и позвонил:
— Это Воронов! Мой завтрак принесите в тринадцатый бокс, — приказал он кому-то и, положив трубку, поинтересовался: — В спальне тоже есть аппарат?
Фред утвердительно кивнул головой.
Воронов молча вытащил вилку домофона из штепселя, прошёл в спальню и сделал то же самое.
— Когда аппарат выключен, чувствуешь себя свободнее, — пояснил он, вернувшись в столовую.
— Меня предупредили, что выключать домофон запрещено.
— Э! Я преподаватель и имею право.. — Генерал отёр ладонью пот, обильно выступивший на его широком с залысинами лбу, и тяжело опустился на стул.
В дверь второй раз за это утро постучали. Пришёл денщик с завтраком для Воронова. Блюда те же, что и у хозяина комнаты, только хлеба в несколько раз больше да на маленькой тарелочке солёный огурец.
— Приготовь постель и всё, что требуется! — приказал генерал денщику.
Тот щёлкнул каблуками и вышел.
— Ведь сейчас утро, зачем вам постель? — удивился Фред.
— Каждый сам себя лучше знает! — весело подмигнул Воронов, кивнув на бутылку «смирновской» и стоящий рядом с ней внушительных размеров графин с вином — видно, утренняя порция генерала.
Воронов налил себе большую рюмку, протянул руку, чтобы налить Фреду, но вдруг остановился:
— У вас нет ничего более пристойного, чем этот напёрсток?
— Господин генерал, вообще я не охотник до водки. Но на этот раз одну маленькую рюмку выпью. Чтобы попробовать «смирновскую» и поблагодарить за такой приятный визит.
— Мне больше достанется, — откровенно обрадовался Воронов. — Будем здоровы! Хоть старая русская поговорка и гласит, что незваный гость хуже татарина, но, надеюсь, вы примете старика с открытой душой так же, как я пришёл к вам.
Провозгласив тост, Воронов залпом выпил стограммовую рюмку, поморщился, словно хлебнул отравы, понюхал хлебную корочку и надкусил огурец.
Фред тоже отпил из своего «напёрстка».
— Ну как, нравится? — поинтересовался Воронов.
— В дегустаторы водочных изделий я бы не пошёл. Коньяк лучше.
Некоторое время ели молча. Паузу нарушил Фред. — Господин Воронов, вот вы говорите об открытой душе, то есть искренности, а меня одолели сомнения. Разве может человек, всю жизнь отдавший разведке, быть до конца искренним?
— Э-э, это вы напрасно, молодой человек! Нет на свете такой живой души, которой бы время от времени не хотелось кому-либо довериться.
— Доверяются друзьям, иногда — просто приятелям, тем, кому безоговорочно верят, тем…
Воронов горько усмехнулся:
— Вы намекаете, что мы не друзья, что вы не верите мне и поэтому надеяться на вашу искренность и дружбу мне нельзя?
— Упаси боже! Ведь я из собственного опыта знаю: друзей не ищут, они сами находятся. Но к дружбе у меня большие требования. Помните у Сервантеса: «Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стоит умереть».
— Не понимаете вы меня, Фред, или не хотите понять! Вот сейчас вы живёте в Испании. Но фактически вы среди друзей, единомышленников. Нунке, Шлитсен, не буду перечислять — все они ваши соотечественники. А я как уехал, вернее — бежал с родины в девятнадцатом году, так и скитаюсь по белу свету. Двадцать шесть лет! Вы понимаете: двадцать шесть! Больше, нежели вы вообще живёте на свете! Вам, кажется, двадцать четыре?
— Двадцать пять.
— Вот видите! Завидую. Просто завидую…
Воронов выпил вторую рюмку, снова понюхал корку и надкусил огурец.
— А не кажется ли вам, господин генерал, что мне нечего завидовать? Вы же отлично знаете — в любую минуту меня могут послать в чужую страну, и кто знает, какая ждёт меня судьба. В лучшем случае жизнь на чужбине, напряжённая, полная тревог, в худшем — девять грамм свинца и «со святыми упокой».
— Сказать, почему я завидую вам? Сейчас скажу, пока не напился как свинья.
— Охотно выслушаю.
— Вы молоды, это первое. Но вы уже, как говорят русские, «стреляный воробей» и обладаете большим опытом в нашем деле. Это два. Вы отлично владеете русским языком, знаете жизнь России. Если вас даже и пошлют туда, возможность вашего провала маловероятна, это три. И не только это. Попав в Россию, вы, как немец, хотя и будете среди чужих, но месть за разгромленную русскими Германию принесёт вам немалое утешение… Не то что я…. Верите ли: во время войны слушаю советские известия, и где-то в глубине души теплится гордость — ага, мол, напоролись на русских! Это вам не Франция! Горечи такого чувства вам не испытать никогда. Это четыре. А пятое — вас вообще никуда не пошлют, а оставят преподавать в школе!..
— Боюсь, вы ошибаетесь!
Фред внимательно следил за выражением лица собеседника. Нет, кажется, ещё не пьян.
— Но, прошу, пусть это останется между нами! Сделайте вид, что вы ничего не слышали. Это я вам выдаю первый аванс на дружбу… Только вот что, не доверяйте судьбе, предательница она, как и каждая баба: сегодня кокетничает с тобой, целуется, а завтра, глядишь, вильнула хвостом и переметнулась к другому… Нет, нет, вы не смотрите на меня так. Две рюмки для Ворона всё равно, что слону ватрушка. Пол-литра в самый раз. Что сверх того — то от лукавого… И со мной в молодости судьба кокетничала. И я, казалось, когда-то держал счастье за хвост. Вырвалось! Вернее, вырвали и наподдали коленкой под зад. Так шуганули, что с Дальнего Востока до самой Франции летел. А я ведь был одним из лучших агентов разведки, а потом контрразведки, и не какой-нибудь, а русской! Вы знаете, что такое царская разведка? Одна из лучших в мире! Не верите? Хотите, я расскажу вам один случай? Даже рюмку отставлю, пока буду рассказывать. Хотите?
— Ещё бы!
— В феврале 1916 года немецкая разведка послала в Россию одного из лучших своих агентов — Альфреда фон Бенсберга. А надо сказать, что этот фон Бенсберг за два года войны четыре раза уже побывал в России и счастливо возвратился домой. Это была, как говорят теперь, восходящая звезда на небосводе кайзеровской разведки. Тогда ему было, кажется, за тридцать. Так вот, на сей раз он прибыл в Прибалтику с документами богатого купца из Сибири, получив задание любой ценой достать план прохода через минные поля в Ирбенском проливе. Немцы знали, наши крейсеры проходят через весь пролив, а все старания немцев проскользнуть по проливу в Рижский залив были тщетны.
В то время штаб русского военно-морского соединения, которое базировалось в Рижском заливе, находился в Пярну. Естественно, что немецкий разведчик прибыл именно туда. Поселился он в лучшей гостинице и зажил на широкую ногу, как и положено богачу. Весь день занимался купеческими делами, а вечером балы, рестораны. Там он познакомился с молодой красивой вдовой, муж которой год назад погиб на войне.
Вдова уже сняла траур и стала выезжать в свет. И где бы она ни появлялась, везде возле неё увивался влюблённый купчик. Он окружал её постоянным вниманием, посылал цветы, дорогие подарки, в общем вы сами знаете, как ведут себя в подобных случаях влюблённые мужчины. Но Елена Дмитриевна, — так звали молодую женщину, — очень сдержанно относилась к новому поклоннику. Дело в том, что у неё был жених, молодой красавец, капитан второго ранга, работавший в штабе соединения. Вы, верно, уже догадались, что именно на него, а не на вдову нацелился псевдокупец. Но как-то так получалось, что познакомиться с капитаном он не мог. Тот был перегружен работой в штабе — ведь шла война! — и мог уделять Елене Дмитриевне считанные часы. В такие дни она запиралась у себя в особняке и никого больше не принимала. И выходило так: когда у Елены Дмитриевны приём — нет капитана, если есть капитан — нет приёма.
А время торопило. В Берлине не хотели, не могли больше ждать. Тогда Альфред Бенсберг решил ускорить ход событий. Он установил наблюдение за особняком молодой женщины и однажды, когда капитан пришёл к ней, полчаса прождав на крыльце, тоже позвонил. Раз, другой, третий… Наконец горничная открыла дверь и, получив от позднего посетителя достаточно крупную купюру, не очень уверенно пригласила его в гостиную.
— Подождите, Елена Дмитриевна сейчас занята.
Альфреду пришлось ждать довольно долго. Он уже начал нервничать, предчувствуя, что и на сей раз ему не удастся познакомиться с капитаном: в гостиную доносились отголоски довольно бурного объяснения. Слов нельзя было разобрать, но беседа велась на верхних регистрах, как говорят музыканты.
— Я полрюмочки, — прервал рассказ Воронов, что-то в горле пересохло.
Он наскоро выпил и продолжал:
— Но все на свете кончается, даже бурные ссоры. И, наконец, Елена Дмитриевна вошла в гостиную. Но в каком виде! Бледная, с опухшими от слёз глазами. Как всегда в таких случаях, влюблённый спросил о здоровье, молодая женщина сослалась на головную боль. Разговор не клеился. А закончилось все тем, что Елена Дмитриевна не выдержала и разрыдалась.
— Вы теперь мой единственный друг, — с тоской вырвалось у неё.
Слово за слово, она поведала ему своё горе: за первого мужа её выдали насильно, она не была счастлива, и в браке единственным её утешением была догадка о нежной, почтительной любви помощника мужа по службе. Она отвечала ему ровной благодарной приязнью. Но оставшись одинокой, полюбила Сергея Викторовича. Они обручились. Впервые Елена Дмитриевна узнала, что такое любовь и счастье. Но сегодня утренняя почта принесла анонимное письмо. Выяснилось — Сергей Викторович женат, у него двое детей. Она вначале сама не поверила, вызвала Сергея с работы. Он пришёл прямо из штаба. Прочитав письмо, очень разволновался, просил прошения, уверял, что давно не живёт с женой и, лишь жалея детей, не выхлопотал официального развода. Понятно, Елена Дмитриевна выгнала капитана. Он ушёл так поспешно, что даже портфель забыл.
Упоминание о портфеле пронзило Бенсберга, словно электрическим током. Он уже видел его: элегантный, кожаный, с блестящими застёжками, с сафьяновым нутром, что таит в себе — нет, не тайну, которой надо овладеть, на это нечего даже надеяться, а хоть частичку этой тайны, намёк на неё, какой-нибудь компрометирующий документ, который можно будет использовать для шантажа.
Альфред старался вызвать чувство обиды у оскорблённой женщины, пробудить в её душе жажду мести.
— Это непорядочность, которую нельзя простить. Потому и развелось так много мерзости вокруг, что все мирятся с ней. Раньше человека, нарушившего правила чести, вызывали на дуэль. Теперь с ним в лучшем случае не здороваются, — возмущался купчик. И вы простите вашего капитана, стоит ему сегодня или завтра зайти за портфелем. Сердце любящей женщины не камень.
— Никогда, ни за что на свете не прощу! Прикажу вообще не пускать!
— Но ведь ему нужен портфель. Возможно, в нём служебные материалы. Я уверен — капитан ещё сегодня опомнится и прибежит за ним.
— Да, да, непременно прибежит. Чтобы выкроить время для свиданья со мной, он часто берет с собой какие-то документы и работает дома. Это запрещено, но так он поступает ради меня, чтобы мы чаще могли видеться. Боже мой, умоляю вас, не оставляйте меня одну! Я не могу, я не хочу с ним встречаться!
— Самое простое — это сейчас же отослать портфель… Ваша горничная ещё не спит?
— Я её кликну.
— Погодите… Удобно ли поручать это прислуге?.. Они народ любопытный, бесцеремонный, а в портфеле, кроме документов, могут оказаться и личные письма. Ваши, к примеру. От жены. Ещё от какойлибо женщины, которую он тоже обманул. Из-за чрезмерного любопытства полуграмотной горняшки, которая толком и не разберётся в прочитанном, станут трепать ваше имя в лакейских, кухнях и передних. Я советовал бы вам проверить содержимое портфеля.
Это почти точный диалог между Еленой Дмитриевной и псевдокупцом. Как видите, намекая на письма от возможных соперниц, он метил в самое больное место любящей женщины.
Затем события разворачивались так. Елена Дмитриевна вскочила и выбежала из комнаты. Через минуту она вернулась с портфелем в руках и лихорадочно принялась в нём рыться. Но руки плохо слушались её, глаза ничего не видели. Не в силах побороть волнение и стыд от того, что она, как воровка, копается в чужих вещах, молодая женщина с отвращением швырнула злополучный портфель на диван.
— Нет, не могу! — простонала она. — Я веду себя, как горничная, о которой вы только что говорили. Лучше уже передать портфель из рук в руки.
— Я не хочу быть навязчивым.. Но если вы доверяете мне эту неприятную миссию, — робко, заикаясь, пробормотал влюблённый купчик, — то я… почту это за честь и доказательство вашей приязни… вы ведь знаете, ради вас я готов на значительно большее…
— Я буду вам бесконечно благодарна! — искренне вырвалось у Елены Дмитриевны.
Она взяла листок бумаги, написала адрес и протянула Бенсбергу. На секунду её печальные глаза повеселели, и в них блеснули лукавые огоньки.
— Это будет моей маленькой местью, — сказала она с горькой улыбкой. — Он очень ревнив и терпеть вас не может…
— Надо ли говорить вам, друг мой, — продолжал Воронов, — что к себе в гостиницу Бенсберг не шёл, а летел. Вы можете представить и то, какова была его радость, когда среди всякого канцелярского мусора он нашёл пакет с надписью «совершенно секретно», а в нём копию плана минных полей в Ирбенском проливе… И, конечно, вы уже догадались, что через каких-нибудь десять минут, а возможно, и меньше, влюблённого купчика не было в Пярну. А через несколько дней в одном из самых фешенебельных ресторанов Берлина Альфред Бенсберг устроил пышный банкет для своих приятелей и друзей. Колоссальное вознаграждение, полученное Бенсбергом от разведки и военно-морского ведомства за выполненное поручение, позволяло быть щедрым.
На этом же банкете Альфреда арестовали.
— Арестовали? — удивился Фред.
— Да… А причиной было вот что: когда корабли немецкого военного флота, руководствуясь только что полученной картой минных полей, двинулись через Ирбенский пролив, чтобы пройти в залив, многие суда подорвались на минах именно в тех местах, где на карте их не было… Затонул даже крейсер «Вильгельм».
Альфреда Бенсберга судил военный суд. Где и когда его будут судить, знало лишь трое или четверо доверенных лиц. Однако в день первого заседания суда на имя председателя почта доставила из Швейцарии письмо. Цитирую на память, оно до сих пор у меня перед глазами:
«Господин председатель! В гибели третьей имперской немецкой эскадры в водах Ирбенского пролива виновен не разведчик Альфред фон Бенсберг, известный под кличкой „Клюг“, а немецкий генштаб, который игнорировал наличие русской контрразведки, когда планировал операцию. Это послужит вам уроком в дальнейшем. Я буду очень огорчена, если моего коллегу и хорошо воспитанного человека Альфреда фон Бенсберга незаслуженно сурово покарают. Он изо всех сил стремился выполнить задание. Елена Дмитриевна».
Воронов налил одну за другой две рюмки и жадно выпил.
— Капитаном второго ранга были вы, генерал? спросил Фред.
С минуту Воронов осоловело глядел на собеседника
— Я этого не говорил… А вообще…
Были когда-то и мы рысаками И кучеров мы имели лихих..
неожиданно свежим для своих лет голосом пропел Воронов. — Понимаете, я того… перебрал. Когда шёл к вам, уже клюкнул. И у этого стола перехватил маленько… Стар становлюсь. Пьянею…
— Это в ваши годы опасно!
— Опасно? Да меня ещё кувалдой не добьёшь. И службе не вредит. Проверяли. Поили как быка. Дрессировка старого разведчика выручает. Ни одного секрета не выдал! Потому и держат… Выдумщик я… И эту историю с вашим полётом в Мадрид выдумал… О, кажется, меня порядком разбирает… Послушайте, Фред! Дайте я вас поцелую… Не хотите? А действительно, кому нужны мои поцелуи?.. Старый одинокий ворон без гнезда! Служу, кому угодно — кто больше даст…
Воронов схватил салфетку, заученно ловким движением перебросил её через левую руку.
— Чего изволите? — изогнувшись, с лакейской угодливостью спросил он.
И тотчас выпрямился.
— Фред! Не сердитесь!.. Хотя… Какой вы Фред! Такой же, как я Воронов… Но кто я на самом деле, никогда не догадаетесь. Не хочу позорить род… Может, перед смертью скажу. Вы в Сибири жили? Люблю Сибирь. Ох, как люблю! Простор! Ширь! Гуляй душа без кунтуша!
Воронов оборвал разговор, силясь что-то припомнить, потёр пальцами морщины на лбу, словно разглаживая их, и махнул рукой.
— Послушайте, дружище! Я не такой уж беспамятный. Я помню… Все хорошо помню. Шеф поручил мне рассказать вам о школе, о её задачах и прочей петрушке. Но я напился… В другой раз прокручу эту шарманку. Воткните этого шпиона, — Воронов ткнул пальцем в сторону домофона, — и скажите тридцать пятому, чтобы забирал отсюда тело старого ворона… А когда меня волочить будут, пойте: «Ныне отпущаюши раба твоего, владыко!»
Фред позвонил.
Воронов ещё что-то бормотал, порывался куда-то идти, но через минуту в бокс явился денщик, на редкость быстро его угомонил, уложив на коляску-кровать. Старик тотчас заснул.
А Фред, отодвинув недоеденный завтрак, подошёл к окну и долго глядел в сад. На голубом небе ни пятнышка. Но перед глазами Фреда маячили два тёмных крыла. Казалось, это кружит и кружит в поисках пристанища большая чёрная птица.
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
— Скажите, герр Нунке, для чего вы привезли меня сюда? На кой чёрт я вам нужен? Именно я, Генрих фон Гольдринг? Отбросим на минутку опостылевшую мне фамилию, на которую я должен откликаться. Кстати говоря, выбирая мне имя, вы не проявили особой изобретательности и вкуса. Смешно, но эта мелочь, да, мелочь, по сравнению со всем остальным, тоже раздражает меня. Словно натянули на меня карнавальный наряд эдакого среднего дурачка… — Фред смял только что зажжённую сигарету и швырнул её в пепельницу. — Предупреждаю, я не привык в роли безмолвной пешки, которую хитроумные игроки двигают по шахматной доске.
Нунке укоризненно покачал головой.
— Пфе, барон, я вас не узнаю! Проявить столько выдержки после появления здесь, обмануть самого профессора… Хотелось бы мне рассказать ему кое-что, а потом взглянуть на его рожу! И вот, доплыть почти до самого берега и вдруг уже на мелком месте утратить спокойствие! Или это новая симуляция, а? Чтобы уклониться от принятия решения, от борьбы? Я знаю многих офицеров вермахта, которые после поражения из волков превратились в побитых псов, поджавших хвосты.
— Я не побитый пёс, но и не из тех, кто держит хвост трубой.
— Тогда я должен себя поздравить. Ибо нам вредны как первые, так и вторые. Может быть, вторые даже больше — они привлекают к себе внимание.
— Вам не кажется, что я уже давно постиг эти азбучные истины и что задерживаться на них не стоит? Может быть, вы объясните, к какому именно берегу я приплыл? Только конкретно, без обобщений. Прежде всего меня интересует то, что непосредственно касается моей особы.
— А я и зашёл к вам, чтобы поговорить о вашей дальнейшей судьбе. — Нунке поудобнее расположился в кресле, давая понять, что разговор будет длинный. Вы уже составили представление о нашем заведении?
— Ни малейшего. Конечно, я говорю не об общей направленности школы, а о структуре, конкретных заданиях. После милой прогулки за документами мне показалось, что я кое в чём разобрался, но с тех пор прошла неделя, а я всё ещё в каком-то неведении, даже более того — нахожусь на положении полуузника.
— То есть?
— Теперь дверь моего бокса не запирают, но, когда я хотел выйти в сад, часовой не выпустил меня, сославшись на какой-то список, в котором нет моей фамилии.
— То, что с вами все ещё обращаются, как с новичком, сознаюсь, для меня новость. Нераспорядительность Шлитсена, не более. Сегодня же, нет, сейчас же исправлю досадную ошибку.
Нунке пододвинул к себе домофон и набрал номер.
— Герр Шлитсен? Это Нунке. Немедленно переведите Фреда на преподавательский режим. Да, я здесь, у него… Если я понадоблюсь, звоните сюда… Да… да… Но я хотел бы, чтобы нам не мешали… Потом, об этом потом… — Нунке положил трубку и, уже обращаясь к Фреду, сказал: — Видите, как все просто!
— Вы сказали на «преподавательский режим»?
— Об этом немного погодя. К сожалению, Воронов не выполнил порученной ему миссии и не проинформировал вас подробно, поэтому в нашей беседе необходимы кое-какие отступления. Начну с вопроса. Вы помните наш первый разговор?
— Очень хорошо.
— И, верно, поняли, что задали мне немало, хлопот?
— Конечно. Только не понимаю, что послужило тому причиной. Почему именно моя скромная персона привлекла ваше внимание?
— Вы слишком осведомлённый в подобных делах человек, чтобы понять: между риском и целью всегда стоит знак равенства. Не станет же начальник школы тратить столько времени, денег и изобретательности только для того, чтобы заполучить для школы ещё одного кандидата в класс «Д», как мы называем класс диверсий. На вас я возлагал и возлагаю куда более серьёзные надежды.
— О!
Нунке замолчал и внимательно поглядел на Фреда. Но тот проявил свою заинтересованность лишь этим восклицанием и теперь вопросительно смотрел на начальника школы.
— Ещё там, в Австрии, узнав о вашем пребывании в лагере военнопленных, я решил: лучшей кандидатуры на воспитателя русского отдела мне не найти. Поняли?
— Пока ещё очень немногое. В общих чертах, как говорится.
— Как по-вашему, кого готовит наша школа?
— По опыту операции «Мадрид», назовём так вашу попытку проверить мою боеспособность, — диверсантов, возможно разведчиков…
— Ставлю точки над «и»: диверсантов, агентов-разведчиков и даже резидентов. Учтите, даже резидентов. В школе есть русский отдел. Кроме преподавателей специальных дисциплин, нам нужен ещё и воспитатель. И я хочу, чтобы им стали вы, Фред Шульц! Что вы на это скажете?
— Я не знаю, что входит в обязанности воспитателя.
— А догадаться, как мне кажется, ничего не стоит, особенно вам.
— Я не люблю браться за дело, руководствуясь лишь догадками.
— Мне нравится ваш деловой подход, честное слоио, нравится! Тогда не станем тратить время на излишние разговоры, а сразу же перейдём к сути дела. Воспитатель, с нашей точки зрения, это не надзиратель, следящий за поведением учеников, а своеобразный художник, завершающий обучение, шлифующий каждого из будущих агентов по заранее избранному для него образцу. Как гончар, изготовляющий посуду различного назначения. В зависимости от внешности, манеры держаться, учитывая, конечно, и умственные способности, мы готовим своих воспитанников к тем амплуа, в которых им придётся выступать в России. Одного, к примеру, на роль колхозника, второго — рабочего, третьего
— мелкого служащего, ещё кого-то — интеллигента-туриста… И, конечно, много значит национальный колорит. Необходимо, чтобы тот или иной агент не только выглядел, как русский, украинец или белорус, но и вёл себя соответственно этим национальным категориям. Малейшая ошибка, малейший просчёт могут привести к неожиданному провалу. Советская контрразведка нанесла нам немало ощутимых ударов. Многие из них можно объяснить лишь нашим пренебрежением к некоторым, казалось бы, незначительным деталям. Вы должны не только тренировать учеников, а сурово и повседневно их контролировать. Даже привычка русских завязывать шнурки на туфлях «бантиком» должна превратиться не в простое копирование, а в настоящую потребность, которая бы вошла в плоть и кровь. Это относится также к одежде, начиная от нижнего белья и носков и кончая кепкой. Кстати говоря, с ней будет всего труднее. Я и сам её ненавижу! С едой у вас тоже будет немало хлопот. Русские употребляют много хлеба. Приучайте к этому ваших учеников. Украинец любит борщ, а русский — щи. Добейтесь, чтобы национальные блюда вошли в обиход. Короче: ваша обязанность состоит в том, чтобы человек, которого мы засылаем в Россию, не там привыкал к местным условиям, а здесь, в школе.
— А не кажется ли вам, что эта работа не по мне?
— Вы, очевидно, недооцениваете её. Как быстро забывается печальный опыт минувшей войны! Не могли же вы не знать о скандальном провале всей нашей агентурной сети в первые же дни вторжения войск райха в Россию?
— Ещё бы! Ну и поиздевались над нами во всём мире, когда узнали, что красные давно держали всю нашу агентуру на длинном поводке! — не удержался от едкой реплики Фред. — Только мы ткнулись хлоп! — и отлично засекреченной сети разведчиков как не бывало! Верно ведь? Я знаю об этих подробностях из третьих рук, возможно потому и преувеличиваю…
— К сожалению, нет! — поморщился Нунке. — В первые же дни войны нам срочно пришлось забрасывать агентов, и эта-то поспешность послужила причиной нового провала. У одного на милицейском мундире были пришиты не те пуговицы, второй не привык ходить в сапогах, третий ел не по-ихнему. И ловили наших агентов не только контрразведчики, но и само население…
— В первые дни войны я был в Одессе и отлично помню, как одесситы волокли по улицам города каждого подозрительного.
— Вот видите! В общем, во время войны наша разведка понесла колоссальные потери. Уже в военное время мы были вынуждены отказаться от предложенных Гиммлером и Канарисом методов разведки. Они хотели заменить хорошо натренированного разведчикаодиночку массовой агентурой и чересчур широко размахнулись. За три предвоенных года мы заслали в Ангглию свыше четырнадцати тысяч своих агентов. Четырнадцать тысяч! Совершенно ясно, что такая масса новых официанток, горничных, парикмахеров не могла остаться незамеченной.
— Покойный Бертгольд говорил мне, что в Голландию было заслано ещё больше людей — кажется, около двадцати тысяч.
— Покойный? Вы сказали «покойный Бертгольц»… Вы в этом уверены? — заинтересовался Нунке.
Фред не заметил, как вырвалось у него это проклятое слово «покойный», и теперь внутренне похолодел. Перед ним с фотографической точностью встала картина его разговора с Кронне в Австрии, где он утверждал, что Берггольд подался куда-то на север Италии и там следы его затерялись… Вот ещё одна ошибка — та мелочь, о которой только что говорил Нунке и на которой он, Фред, может попасться.
— Как это ни печально, но я постепенно приучаю себя к этой мысли. Все мои попытки разыскать его в Италии, как я уже вам говорил, оказались тщетными. Никакого следа, даже намёка на след! Предположение, что Бертгольду удалось незаметно проскользнуть к своим в Швейцарию, тоже пришлось отбросить. Как бы ни сложилась обстановка, он бы подал о себе весточку. А из лагеря военнопленных, окажись он там, и подавно. Я знаю Бертгольда лучше, чем кто-либо другой: нас ведь связывали не только служебные, но и семейные отношения. Приходится предполагать самое худшее!
Как трудно было придать этим словам оттенок сдержанной боли, с которой мужчина мужчине поверяет свои горести.
И Нунке, по всему было видно, поверил в искренность сказанного.
— Не надо терять надежды, — попробовал он успокоить собеседника. — Имейте в виду, многие руководящие работники нашей разведки своевременно бежали и теперь прячутся в самых отдалённых от Германии уголках мира, конечно, под чужими фамилиями. Я уже связался с некоторыми из них и могу запросить о Бертгольде. Возможно, вы преждевременно похоронили его. Оказавшись где-то на чужбине, не так-то легко дать знать о себе. Уверяю вас!
— Буду безмерно вам благодарен. Простите, что отвлёк вас своими личными делами.
— Мы тоже заинтересованы в поисках такого ценного и опытного работника. Но вернёмся к теме нашего разговора. Да, ошибки многому нас научили и против многого предостерегают. Любопытную вещь рассказал мне Воронов из практики русской разведки во время первой мировой войны. Перед самым началом военных действий командующий Одесским военным округой под видом точильщиков заслал в Галицию пять своих офицеров-разведчиков. Те свободно гуляли по стране, точили ножи, ножницы и, собрав все данные о дорогах, мостах, укреплённых пунктах, целёхонькими вернулись домой. Тогда командующий Киевским округом, возможно движимый завистью, решил, как говорят русские, переплюнуть своего одесского коллегу и послал в ту же Галицию уже сто восемьдесят точильщиков. Представляете картину: изо дня в день под вашими окнами горланят: «Точить ножи, ножницы!» Австро-венгерская разведка была не очень проворна, но и она догадалась, в чём дело. Все «точильщики» вскоре оказались за решёткой. Числом в нашем деле бой не выиграешь! Необходим квалифицированный одиночка. Безупречно подготовленный. Чтобы он ничем не отличался от населения той страны, куда его забрасывают.
— До сих пор в русском отделе школы не было воспитателя?
— Был, даже есть сейчас, но…
— Кто?
— Генерал Воронов. Один из самых одарённых работников царской контрразведки. Он, естественно, очень хорошо знал свою страну, её порядки. Подчёркиваю, знал, а не знает. Ибо о новой России у него представления довольно туманные. Эмигрировав, он больше никогда не возвращался на родину. И это привело к досадному провалу. Мы забросили в одну из южных областей Украины нового резидента. Самого способного нашего ученика. Он прекрасно изучил язык, обычаи. Под видом нищего он должен был добраться до Полтавы, где ему была обеспечена явка. Я сам осмотрел его перед полётом, ознакомившись предварительно со множеством образцов русской живописи, где фигурируют нищие. Все точно, хоть картину пиши с нашего разведчика. Воронов даже расчувствовался, так напомнил ему его подопечный типичную для России фигуру. А по дороге в Полтаву — провал! Выяснилось, Воронов не учёл главного, в Советской России нищенство ликвидировано и запрещено. Теперь вы понимаете, почему мы вынуждены устранить Воронова!
— Мне не хотелось бы обижать старика
— О, генерал сам согласился на это. Теперь он будет обучать маскировке
— Разрешите несколько вопросов?
— Пожалуйста!
— За время жизни в России я убедился, что изменения, и не только в экономике, а и в быту, происходят очень быстро. Как с этим ознакомиться преподавателю русского отдела?
— Мы получаем множество журналов и газет, причём не только центральных. Если нас интересует какой-либо определённый район, мы различными путями достаём районную газету, даже многотиражки фабрик и заводов. Кстати говоря, именно в них мы иногда находим особо интересующие нас сведения. По натуре русские люди откровенны, и порой кое-что проскальзывает, как бы они не заботились о бдительности
— А что, если это не откровенность, а ощущение силы? Как говорится, нам нечего бояться, если вы узнаете наши маленькие секреты? Не забывайте, мы ведь почувствовали их силу и их гнев на собственной шкуре.
— Придёт время, и мы возьмём реванш!
— Вы действительно верите в это, герр Нунке?
— Безусловно! Перспективы для этого уже начинают вырисовываться! Учтите, война только закончилась, а дружба между вчерашними союзниками трещит по всем швам. Тает, словно снег на солнце. Я встретился с Борманом — удирая из Германии, он на несколько дней остановился в Испании. Борман тоже согласен со мной. На протяжении всего вечера мы только и говорили, что о неизбежности третьей мировой войны… О, на этот раз Германия не будет одинока!
— Во второй мировой войне она тоже не была одинока. Почти вся Европа…
— В третьей против России выступит Германия и весь мир. Только бы дожить нам с вами, Фред, до этого часа! А имя я действительно выбрал вам скверное! В интимном разговоре даже язык не поворачивается. Впрочем, надо придерживаться железного правила. Я Нунке, вы — Фред. Пока что… Вопросы ещё будут?
— Один
— Я вас слушаю
— Считаете ли вы нужным, чтобы воспитатель время от времени посещал Россию? Боюсь, одних газет и журналов мало для детального изучения обстановки. Я думаю, для настоящего всестороннего изучения…
— Думаю, лично вы не рискнёте поехать, памятуя о заочном приговоре над лейтенантом Комаровым. Так, кажется, произносится фамилия, под которой вас знали в части, где вы служили?
— Произношение у вас безукоризненное. Но почему вы вдруг вспомнили мою фамилию?
— По ассоциации… Я думаю, что вас так же легко могут узнать в России, как узнали в Австрии.
— Это меня самого заставляет задуматься. Я не из трусливого десятка, но сознательно рисковать, да ещё после войны, из которой выскочил целым и невредимым… Бр-р! Что-то не хочется. Приговор «расстрелять» — плохой спутник в дороге. Может быть, в связи с этим вы подыщете другую кандидатуру на должность воспитателя? Как-никак, а линию фронта я перешёл в начале войны. И с тех пор не был в России. Война, разруха, безусловно, все так изменили, что я могу влипнуть в ещё большую неприятность, чем Воронов… А спросят с меня! И вам всё равно придётся искать кого-то другого…
— Не торопитесь с отказом…
— Я хотел, чтобы вы правильно меня поняли. Отказ мой проистекает не от нежелания работать. Просто я мало подготовлен к такой ответственной задаче. Ведь положение моё таково, что я лишён возможности глубоко вникнуть в суть дела.
— Я знаю ваши деловые качества, Фред. Вашу настойчивость, инициативу. В процессе работы что-нибудь придумаем. Поэтому я так отстаивал вашу кандидатуру. Поверьте, мне и здесь пришлось преодолеть кое-какие трудности.
— Даже так?
— Не я один руковожу школой. Есть другие. И не все с таким доверием относятся к вам.
— Основания?
— То, что из южной Италии вы бежали к югославской границе. Это верно?
— Да.
— Почему именно туда?
— Считал это самым простым и безопасным. Там я легко мог выдать себя за русского
— Так я и объяснил Шлитсену. Впрочем, он…
Глаза Нунке впились в лицо Фреда.
— Не доверяет мне?
— Нет, не не доверяет, а не доверял. Хотя это не то слово. Мы не получили никаких сведений о вашем пребывании в Югославии, и это его обеспокоило. Вещь вполне естественная, и обижаться не стоит.
— Я обиделся не столько на него, сколько на вас.
— Правда? — Нунке удивлённо поднял брови. — На меня, на человека, который спас вам жизнь, привёз сюда, хочет предоставить вам интересную и ответственную работу? Ну, знаете, это уж ни в какие ворота не лезет!
— Вы ведь меня хорошо знали. Зачем же было так трепать мне нервы этой мадридской операцией?
— Хотел доказать Шлитсену, что он ошибается. Как начальник школы я мог, конечно, не согласиться на эту операцию. Но сомнения Шлитсена задели меня за живое. Как-никак, а вы моя креатура!
— Могли бы предупредить!
— Зачем? Знай вы, что документы не такие уж важные, вы отнеслись бы к заданию менее серьёзно, а это непременно отразилось бы на результатах. Потом ещё одно: меня радовало, что я хоть немного отыграюсь за те неприятности, которые вы мне доставили, симулируя тяжёлую болезнь. Теперь мы квиты. Не хотел вам этого говорить, но сегодня у нас откровенный разговор. Надо покончить и с этим недоразумением.
«Хитрит ли он, ссылаясь на Шлитсена, или действительно персона фон Гольдринга не вызывает у него ни малейших сомнений, — думал Фред. — Возможно, из-за допущенной мною оплошности в разговоре о Бертгольде он теперь тоже насторожится? Не надо было сегодня заговаривать о необходимости поездки в Россию… Впрочем, чрезмерная осторожность тоже будет подозрительна. Ничем нельзя отличаться от бывшего фон Гольдринга. Я должен держаться с тем же апломбом, действовать решительно, независимо. На таких, как Шлитсен, это особенно действует. А именно его и надо остерегаться…»
Ничто не выдавало волнения Фреда. Выражение лица быстро менялось в зависимости от темы, которой касался разговор, поза была естественна, руки спокойно лежали на ручках кресла.
— Я вижу, вы всё же задумались над моим предложением, — нарушил коротенькую паузу Нунке.
— Нет, меня волнуют взаимоотношения с Шлитсеном. Не очень приятно, когда тебе не доверяют. Это портит настроение, мешает работать.
— О, пусть это вас не тревожит! Шлитсен положен на обе лопатки! Он даже сам выдвинул вашу кандидатуру для выполнения одного очень сложного и ответственного поручения…
— Теперь я буду бояться его поручений, как огня! Не очень-то приятно, когда считают, что тебя легко провести.
— Упаси бог! Поручение совершенно серьёзное.
— В чём же оно заключается?
— Об этом вам расскажет сам Шлитсен, ответственный за это дело. Сейчас я его вызову.
Приказав своему заместителю прийти в тринадцатый бокс, Нунке с улыбкой заметил:
— А вы не очень гостеприимный хозяин, Фред! Разговаривать за чашкой кофе было бы значительно приятнее.
— Я не знал, что имею право что-либо заказывать. Ел, что приносили и когда приносили…
— Опять недосмотр Шлитсена! Как воспитатель, вы имеете на это право.
— Как воспитатель? Разве мы обо всём договорились?
— А разве нет?
— Хотелось бы на свободе взвесить все «за» и «против». Вы можете дать мне день-два?
— Значительно больше. Выполнение задания потребует много времени, и вы сможете все хорошенько обмозговать.
— Это меня устраивает. Ваше распоряжение о смене режима останется в силе?
— Да. Но должен предупредить, существует один строгий закон, неизменный для всех — будь то ученик или воспитатель.
— Какой же?
— Тот, кто попал в нашу школу, выходит отсюда или до конца преданным сотрудником, или…
— Не выходит совсем? — закончил Фред. — Не очень оригинально! Насколько мне известно, подобный закон существует во всех родственных нашему учреждениях.
— Считал своим долгом предупредить…
— Осталось задать один вопрос: почему вы не рассказали мне о школе ещё в Австрии? Я мог бы убежать из лагеря, и вам не пришлось бы…
— Можно было просто выкупить вас из лагеря. Кое-кто из тамошних руководителей делает на этом неплохой бизнес. Но мне не хотелось привлекать внимание американцев к вашей персоне. Знатоков России они ценят на вес золота. Это — первое. Второе: я хотел, чтобы для всех вы были покойником. Так разведчику удобнее.
— А подумали вы, герр Нунке, что у меня есть невеста, которую я люблю и с которой хотел бы повидаться перед новой разлукой? Подумали о том, что Лора может узнать о моей «смерти»? О том, как это тяжело на неё подействует? И в конце концов, не могу же я совсем отказаться от личной жизни, от дорогих мне людей! Фрау Эльза и Лора остались на чужбине, кто, как не я, должен позаботиться об их возвращении домой, устроить их дела? Бертгольд мне никогда бы этого не простил…
— Каюсь. Этого я не учёл. Конечно, семейные обязанности — святая святых. Я подумаю, как это исправить. Возможно, впоследствии мы предоставим вам возможность….
Появление Шлитсена прервало разговор.
Вежливо поклонившись Нунке и едва кивнув Фреду, он остановился у кресла шефа и ждал, пока тот предложит ему сесть.
Глядя на своих начальников, Фред едва сдерживал улыбку. Слишком жалким выглядел Шлитсен рядом с Нунке. Один — вылощенный, подтянутый, в элегантном спортивном костюме, в безукоризненно чистой рубашке. Второй — приземистый, с брюшком. Пиджак был ему узок, полз вверх, от чего лацканы перекашивались и оттопыривались. Лицо Шлитсена, хотя и было тщательно выбрито, тоже казалось неопрятным, возможно, из-за перекошенного шрамом рта. Никому не пришло бы в голову, что такой вот работал следователем гестапо — типичный бюргер, отяжелевший от чрезмерного употребления пива.
Получив разрешение сесть, Шлитсен вопросительно взглянул на Нунке, а когда тот утвердительно кивнул, перевёл бесцветные глаза на Фреда.
— Насколько я понимаю, герр Нунке подготовил вас к тому, что мы хотим поручить вам одно важное дело?
— Да. Но не сказал какое.
— Прежде чем объяснить суть, я хотел бы сделать одно замечание. То, что мы вам поручаем, не входит в круг ваших непосредственных обязанностей. Поэтому за вами остаётся право выбора: можете согласиться или отказаться, если сочтёте задание слишком трудным для себя. Для вашей будущей карьеры лучше согласиться.
— Я считаю, что должен исходить не из соображений будущей карьеры, а из успеха или неуспеха в выполнении задания, — бросил Фред.
— Мне нравится ваш подход к делу, — похвалил Шлитсен, но с видом такого напыщенного превосходства, что Фред едва сдержался, чтобы не ответить резкостью.
— Мы долго обсуждали, на кого можно возложить эту миссию, и пришли к выводу: ваша кандидатура со всех точек зрения самая приемлемая.
— В том числе и вы? — нескрываемая ирония прозвучала в голосе Фреда.
— Почему вас интересует именно моё мнение? делая ударение на слове «моё», спросил Шлитсен.
— Ведь вы однажды уже снаряжали меня в дорогу…
— Я только что похвалил вашу рассудительность, а теперь должен сделать замечание: приказы руководства школы не подлежат обсуждению.
— Приказ выполню. Я человек военный и знаю дисциплину. Но в порядке раэбора проведённой операции имею право высказать своё мнение. Так вот: жаль, когда физические и моральные силы человека растрачиваются зря. Оружие разведчика — это его нервы.
— Я предлагаю перейти к сути дела, — вмешался Нунке.
— Вы правы, — поклонился Шлитсен. — Начну с очень коротенького вступления, чтобы восстановить в памяти известные вам факты. Вы знакомы с политикой нашего правительства, основанной на физическом уничтожении советских военнопленных. Часть из них, конечно незначительную, но представляющую боеспособную силу, мы привлекли на свою сторону и даже вооружили.
— Армия Власова?
— Да, армию генерала Власова. Она дралась против русских и очень упорно. После окончания войны власовцы, как и наши части, были интернированы, но по Потсдамскому соглашению их должны передать в руки советских властей. Большим желанием выполнить этот пункт договора бывшие союзники России не горят. Да и нам не хотелось бы, чтобы это произошло. Ведь таких людей можно использовать.
— Да, о соглашении, заключённом в Потсдаме, я знаю из газет.
— Советские миссии по репатриации шныряют теперь по всей Германии. Союзники всячески препятствуют русским в составлении списков тех, кто подлежит возвращению. Но если миссия имеет списки, то американцам и англичанам приходится уступать, вопреки желанию. Иначе может возникнуть международный скандал. Впрочем, союзникам удалось припрятать от советских властей многих власовцев.
— Герр Шлитсен, ваше коротенькое предисловие перерастает в лекцию для нижних чинов, — резко прервал своего заместителя Нунке.
— Простите, я только хотел…
— Думаю, что Фред уже разобрался в ситуации.
— Тогда только суть: в одном эсэсовском лагере американской зоны скрывается группа из пятидесяти четырех офицеров бывшей власовской армии. Это люди, которые сожгли за собой все мосты и добровольно в Россию не вернутся. Американцы собирались вывезти их в Соединённые Штаты, но неделю назад получили от советской миссии категорическое требование передать из рук в руки всех пятьдесят четыре. Правда, поимённого списка советская миссия не представила, назвав лишь общее число, что и позволило затянуть дело.
— Очевидно, в группе действует советский агент, который не успел или не сумел передать русским список фамилий, — так, кажется, думают американцы, пояснил Нунке.
— Агент раскрыт? — спросил Фред.
— Пока нет. Приняты меры, чтобы прервать всякую связь межяу лагерем и внешним миром. Вряд ли в ближайшие дни список может попасть в руки русских, ответил Шлитсен — Теперь конкретно о вашем задании. Под видом бывшего советского офицера мы хотим заслать вас в лагерь. Американцы согласны передать нам всю группу, если мы сумеем её незаметно вывезти.
— Этим и ограничивается моё задание?
— Второе связано с первым: надо выявить агента русских и ликвидировать его. Без этого опасно приступать к основной операции.
— Ясно.
— На подготовку даём три дня. За это время вы ознакомитесь с вашей новой биографией, разработаете с Шлитсеном и Вороновым план эвакуации группы, продолжал уже Нунке. — Если удастся выполнить задание, эта группа и составит основное ядро вашего русского отдела.
— С заместителем начальника лагеря мистером Хейендопфом можете разговаривать откровенно: он наш союзник, — прибавил Шлитсен.
— Прекрасно! Это значительно упростит дело! обрадовался Фред.
— Итак, о сути задания я вас информировал. Сегодня вечером вы свободны, а завтра приступите к подготовке. В девять часов утра я жду вас у себя.
Почтительно поклонившись Нунке и очень холодно Фреду, Шлитсен удалился.
— Заметно, что герр Шлитсен не испытывает ко мне особых симпатий, — улыбнулся Фред.
— Со временем отношения наладятся. Шлитсен человек желчный. Ну, хватит о нём. Работник он неплохой, но его неопрятный и сугубо штатский вид раздражает меня бесконечно. К тому же манеры у него ужасающие. Особенно за столом. Я предпочитаю обедать у себя, чтобы не встречаться с ним в столовой. Кстати, отныне вы можете ею пользоваться! Вообще, нам надо осмотреть всю нашу школу. А поскольку вам необходим чичероне, я попрошу об этом Воронова или кого-нибудь другого из преподавателей.
— Буду очень признателен.
— Я пришлю вам правила внутреннего распорядка — рекомендую как можно лучше их проштудировать.. До отъезда вам надо будет познакомиться и с патронессой нашей школы — Агнессой Менендос
— Это обязательно?
— Как патронесса, она должна знать весь персонал школы. Каждый новый человек обязан явиться к ней с официальным визитом. Мы считаем это своеобразным посвящением в «рыцари благородного духа».
— Если существует традиция, я не стану её нарушать.
— Завтра или послезавтра вечером я вас представлю. Она живёт недалеко, в особняке.
Нунке ушёл.
Фред не в силах был преодолеть возбуждение.
Итак, он выйдет за ворота школы. Поедет в Западную Германию! А до Восточной, оккупированной советскими войсками, рукой подать.
Было от чего потерять покой.
ЧАСТЬ II
ОБМАНУТАЯ И ОДИНОКАЯ
— На сегодня хватит, солнышко, уже поздно…
Иренэ вколола иглу в тугой атлас, кончиками пальцев провела по выпуклому узору вышивки и недовольно покачала головой.
— От этого ярко-голубого цвета становится холодно. Он напоминает зимнее небо. Поэтому и цвета кажутся неживыми… Словно их вылепили из воска.
Обращённые к матери большие ласковые глаза девочки были полны настоящего отчаяния.
— Ну и глупышка. Так огорчаться из-за вышитого лоскутка.
— Как ты можешь, мама! Это же покров! Мой обет. Моя молитва мадонне! Каждый стежок — маленькая буковка, из которых слагаются слова молитвы… Я тяну шёлковую ниточку и мысленно шепчу слова. И так хорошо слово к слову лепится. А вот здесь…
Солнце, склонившись к горизонту, золотисто-розовыми лучами освещало уголок комнаты, где всегда стояла коляска Иренэ. В этом изменчивом свете возбуждённое личико девочки утратило прозрачную бледность. Казалось, его подсветили изнутри и оно тоже излучает трепетное розовое сияние. Отблеск солнца живым теплом окрасил большие карие глаза. От матери Иренэ унаследовала лишь брови и губы, правда, значительно мягче очерченные. Но и они контрастировали с пастельно-нежным личиком девочки, намекая на скрытую, таящуюся в глубинах существа силу.
Любуясь головкой дочери, Агнесса старалась забыть об её изуродованном тельце. Какой красавицей могла бы она вырасти! Ах, эта машина, эта проклятая поездка, этот трижды проклятый день!..
— Почему ты так странно смотришь на меня, мама? — забеспокоилась Иренэ.
— Просто задумалась… Ты слишком долго занималась вышиванием, и теперь тебе надо погулять.
— Ты побудешь со мной в саду? — обрадовалась девочка.
— Нет, сегодня тебя проводит Пепита. Мне надо похлопотать по хозяйству, у нас завтра гости.
Иренэ разочарованно вздохнула.
— Опять этот противный Нунке!
— Иренэ!
— Ну, я знаю, знаю, что ты скажешь! Что он много для нас сделал, что он умный, что…
— Я хотела бы, чтобы ты это действительно поняла.
— Как же я могу, если знаю, что он злой! Приказал Хуану вывести Россинанта, поднял пистолет и… — на глаза девочки набежали слезы. — А потом ещё на Хуана свалил, будто тот недоглядел…
— Ты же обещала мне! Сколько можно горевать! хочешь, куплю тебе другую лошадь? Или маленького красивого мула?
— Не надо мне другую! Не хочу мула.
— Боже, как ты меня мучаешь! — Эти слова вырвались из груди Агнессы, словно стон. Иренэ мигом притихла.
— Я буду хорошая-прехорошая, только не говори так! Хочешь, выпью лекарство? И позови Пепиту. Я буду долго-долго гулять с ней и не стану скучать по тебе.
Иренэ прижалась щекой к руке матери — молчалиная просьба о прощении.
За долгие бессонные ночи, проведённые у кроватки дочери, Агнесса научилась понимать этот безмолвный язык, безошибочно угадывать все желания девочки, знать точно, когда той лучше или хуже.
Сегодня Иренэ её беспокоит. Не дала сделать массаж, отказалась от прогулки, взялась за вышивание и так торопится, словно её что-то подгоняет. Агнесса догадывается, что именно: вера в чудо, которой и сама она жила много лет.
Одевая девочку на прогулку, молодая женщина снова и снова перебирала в памяти все события своей жизни после автомобильной катастрофы. Собственно, не события, а то нечеловеческое напряжение, которым она держалась.
Да, раньше Агнесса верила в чудо. Ведь святая мадонна тоже была матерью. Не могла же она, великая мать небесная, не обратить свой взор на неё, мать земную! Агнесса не пропускала ни одной мессы, даже у себя дома устроила часовенку. Здесь она могла оставаться с глазу на глаз с мадонной, здесь можно было, отложив молитвенник, по-женски доверчиво и просто поведать ей, что у её малютки снова болит спинка, а на ножки, такие хорошенькие, с ровненькими пальчиками, она до сих пор не становится. Можно было напомнить мадонне, что и она когда-то держала на руках малое дитя и знает, какое это несказанное счастье. Все своё безграничное сочувствие к матери-страдалице, сына которой распяли, можно было выразить словами молитвы, вкладывая в них и свою боль, и свою тоску…
Иренэ несколько месяцев пролежала в гипсе, и спинка у неё выровнялась. Падре Антонио твердил, что это знак, ниспосланный Агнессе небом. Она и сама в это поверила. Отныне все её мысли были направлены на то, чтобы отблагодарить небо за милость и вымолить для дочки полное выздоровление. Именно тогда падре Антонио и поделился с ней мечтой о походе за веру христову. Молодая женщина плохо понимала, что от неё хотят. Она подписывала какие-то письма, сочинённые падре, основывала какой-то фонд для создания союза то ли благотворительного общества, то ли школы. Её воображение пленило само название: «рыцари благородного духа», и Агнесса охотно на все соглашалась. А потом появился Нунке…
Проведя рукой по лбу, Агнесса старалась отогнать дальнейшие воспоминания. Ей казалось, что в комнате стало неимоверно душно, и она открыла все окна… Вырваться отсюда хоть на час! Позабыть обо всём, хоть немного отдохнуть…
Набросив на голову шарф, Агнесса побежала в конюшню.
— Хуан, оседлай Рамиро!
Вороной конь, заслышав голос хозяйки, запрядал ушами, стал мелко перебирать передними ногами. В предчувствии прогулки у него под блестящей шкурой дрожал каждый мускул.
Вставив ногу в стремя, Агнесса сама, без помощи Хуана, вскочила в седло.
— Э-гей! — крикнула она, шевельнув уздечкой.
Конь, словно подхваченный ветром, сорвался с места. И он и всадница слились воедино. Чуткое животное, подчиняясь едва уловимому движению руки, державшей повод, то шло рысью, то неслось галопом, то, распластавшись над землёй, мчалось карьером.
Отдавшись наслаждению быстрой езды, Агнесса на время позабыла о своих тревогах. Каждой клеточкой тела вбирала она предвечернюю прохладу, терпкие ароматы разогретых за день кустов и трав, запах конского пота, который так приятно щекотал ноздри, пробуждая неясные воспоминания о полузабытом детстве.
Вот так бы и лететь свободной птицей, не выбирая дороги, наугад, до тех пор, пока хватит сил, пока не упадёшь на землю в сладком изнеможении, в непреодолимом желании слиться с ней, раствориться в её материнском лоне и прорасти потом бездумным кустиком или диким цветком.
Все чаще в последнее время Агнесса удирала из дома и, вскочив на коня, носилась по каменистым склонам, по извилистым дорогам, по опалённым солнцем равнинам.
В одно из таких путешествий она чуть не наскочила на цыганский табор, расположившийся в овраге, неподалёку от школы. Сдержав коня, женщина замерла на самом краю склона, не в силах пошевельнуться, повернуть назад. Непреодолимая сила тянула её приблизиться, вдохнуть дым огромного костра, разложенного в центре табора. Чтобы побороть это желание, Агнесса украдкой, как-то даже подсознательно пощупала шрам, навсегда оставшийся на плече от кнута старого Петра. Нет, никогда не простит она издевательств, которые ей пришлось испытать.
Агнесса дёрнула было за повод, но вдруг заметила, что к ней мчится толпа детишек. Босые, полуголые, они окружили её голосистой стайкой, выпрашивая подарки. Молодая женщина, словно зачарованная, глядела на грязные, замурзанные личики, горевшие румянцем, на поцарапанные, покрытые пылью множества дорог, но крепкие ножки, на стройные и юркие фигурки. Острая зависть ножом полоснула по сердцу. Сердито крикнув, она рванула коня и помчалась прочь, ненавидя весь мир, ненавидя цыганят, словно это они отняли здоровье у её Иренэ.
Сегодня эта встреча невольно всплыла в памяти Агнессы. Теперь молодая женщина пожалела, что не бросила детишкам пригоршню мелких монет — ведь у неё тогда были с собой деньги! — и с чувством стыда подумала о том, какое у неё стало злое и несправедливое сердце. Не таким оно было прежде, нет! Это жизнь так жестоко поглумилась над нею. Служанка Аделы и Петра, забава Карлоса, пешка в руках падре и Нунке! Все они обманывали её, обкрадывали, заманивали фальшивыми посулами.
На кончике языка вертится ещё одно имя. Даже мысленно его страшно произнести — такое это богохульство. Но и она тоже обманула Агнессу. Лучшая из лучших. Наикротчайшая. Мать всех обездоленных. Верно, слишком высоко ты поселилась на небесах, раз не услышала горячей мольбы, не увидела брошенного к твоим ногам материнского сердца.
Агнессе становится страшно от собственных дерзких мыслей. Нет, она не имеет права осуждать мадонну! Упаси боже, она не хотела этого! Просто сердце изболелось, пересохло от муки, как ручей в жару. Осталось одно русло без живительной влаги.
Как хочется с кем-нибудь поделиться своими сомнениями, иметь рядом человека, который мог бы развеять тоску, дать совет в трудную минуту. На падре Агнесса больше не возлагает надежд — она уже давно догадывается, что не любовь и справедливость несёт он заблудшим.
Странно понимает милосердие падре. Когда Агнесса ещё жила в Мадриде, в самом начале её деятельности по созданию школы, ей как-то довелось увидеть, как из одной тюрьмы перегоняли в другую большую группу арестованных. Пепита, сопровождавшая хозяйку, вскрикнула — среди арестованных она увидела своего племянника и нескольких односельчан. Агнесса, как могла, успокоила старуху, пообещав, что похлопочет о них перед падре Антонио. Ведь односельчане Пепиты были добрыми католиками! Но падре к Агнессиной просьбе отнёсся с непонятной враждебностью. «Это такие, как они, искалечили вашу дочь, — крикнул он гсрдито. — Это они, как плевелы, засоряют ниву господню!» Как ни умоляла Пепита, как ни плакала, а падре и пальцем не пошевельнул, чтобы облегчить судьбу несчастных.
Занятая своими горестями, Агнесса вскоре позабыла об этом случае. А сейчас он возник в памяти так, словно всё это произошло вчера. Перед глазами встали иссушенные солнцем и ветрами морщинистые лица, натруженные руки, согбенные спины. Сколько таких несчастных!.. Может быть, и её родителей вот так же гоняли из тюрьмы в тюрьму за какую-то пустячную провинность, а то и вовсе без вины, до тех пор, пока они не погибли в дороге или в тёмном, сыром каземате?
Всадница совсем отпустила повод, и Рамиро покосился на неё влажным синеватым глазом, не понимая, как себя вести: идти ли ему шагом, бежать ли рысью, мчаться галопом? Конь закинул голову и тихонько заржал.
Словно проснувшись, Агнесса легонько треплет его по шее.
— Пора домой, Рамиро! — говорит она печально.
Солнце огромным шаром нависло над горизонтом Надо спешить. Спустившись с горы возле таверны, Агнесса гонит коня по шоссе. Сегодня оно, как обычно, безлюдно. Асфальтированная дорога, ровная и гладкая, извивается, словно гигантская сытая змея, голова которой уже вползла в ворота бывшего монастыря.
Что происходит сейчас за его высокими стенами? Почему оттуда иногда доносятся выстрелы? Ни Нунке, ни падре Антонио, ни Воронов, ни все те, кто изредка посещает одинокую виллу, никогда не разговаривают с Агнессой об этом. Её дело подписывать счета, в которых она ничего не смыслит, время от времени под диктовку падре отвечать на письма, которые она, откровенно говоря, зачастую вовсе не читает. Большей частью содержание письма пересказывает все тот же падре. За что-то её благодарят, за что-то хвалят, обещают всяческую поддержку.
Как трудно все это понять ей, одинокой женщине, которую капризная судьба ещё в детстве вырвала из привычного окружения трианцев и швыряла по жизни до тех пор, пока не забросила сюда, в этот богом и людьми забытый угол.
ДУМБРАЙТ ИНСПЕКТИРУЕТ
На следующее утро после разговора со Шлитсеном Фреду принесли отпечатанную на машинке «легенду» — биографию человека, в которого он должен временно перевоплотиться. Фред взглянул на первую страничку и прочёл: «Сомов Игнатий Васильевич». Перевернул последнюю: на ней стояла цифра «182». Итак, придётся выучить наизусть сто восемьдесят две страницы текста, чтобы знать малейшие подробности из жизни Сомова.
Кто же он такой?.. Лейтенант 119 гренадерского полка… фольксдойч.
Пока хватит! С чтением можно подождать… Фред швырнул папку с легендой в угол, чтобы она не мозолила глаза.
Как все осточертело! Григорий Гончаренко стал Комаровым, потом Генрихом фон Гольдрингом, теперь ненавистным Фредом Шульцем, который тоже должен перевоплотиться в какого-то Игнатия Сомова. И все это за четверть века жизни. Почему именно ему на долю выпала такая судьба?
Уже на первом курсе института иностранных языков он мечтал о серьёзной научной работе. Его оружием должно было стать слово — самый прекрасный дар природы. Казалось бы, одна из самых мирных профессий! И вот именно лингвистические наклонности послужили причиной резкого поворота его судьбы.
Вместо толстых фолиантов, древних рукописей, он должен теперь изучать биографию Игнатия Сомова!
И изучать надо! Как ни вертись, а надо. Ибо пока это единственный путь, которым можно выбраться из террариума, расположенного вблизи Фигераса, куда он так неожиданно попал.
Отлично, что удалось разрушить стену недоверия Шлитсена. Этот толстяк мог значительно осложнить дело, надолго запереть Фреда в стенах бывшего монастыря. Кстати говоря, надо пристально осмотреть не только самую школу, но и всю её территорию. Неизвестно, как ещё сложатся обстоятельства. Возможно, придётся бежать непосредственно отсюда или во время пути…
Куда же придётся ехать? Кажется, к папке с легендой приложена какая-то карта?
Конечно, вот она! Ага, Бавария… Что говорил мне о ней когда-то Бертгольд? Верно, что-то интересное, иначе смутное воспоминание о каком-то разговоре не сохранилось бы в памяти до сих пор. Так, так, вспомнил: именно население Баварии Гитлер собирался переселить на Украину! Неплохое местечко выбрал фюрер для баварцев… да только из замашки вышла промашка… Ещё помнится, Бертгольд говорил, что на баварских землях предполагают создать заповедники, и в связи с этим там запрещено всякое строительство… Жаль, не расспросил тогда поподробнее…
А может, не придётся ехать в Баварию, а удастся удрать где-нибудь по дороге? Проверить, нет ли хвоста, и улепетнуть… Хвост, верно, всё же прицепят… Если не Нунке, то Шлитсен обязательно приставит какогонибудь паршивенького агентишку, чтобы сопровождал до самой Баварии, а там передал другому… Надо быть начеку…
О том, как он попадёт к месту назначения, тоже не было сказано ни слова. Может быть, самолётом? Это скверно. Лучше бежать во Франции, там найдутся друзья, которые помогут.
А пока надо приниматься за изучение легенды…
…Полтора дня Фред изучал биографию Сомова, все подробности, делающие её правдоподобной. И только сдав экзамен самому себе, позвонил Шлитсену.
— Я готов.
Заместитель Нунке немедленно вызвал его к себе.
— Выучили? — строго спросил он.
— Да.
— Как звали вашу бабушку по матери?
— Эльза.
— Когда вы попали в плен?
— Шестнадцатого сентября сорок первого года, под Киевом.
— Самое любимое блюдо вашего отца?
— Сластёны.
— Чем отличался ваш учитель в сельской школе?
— Он немного заикался, а если выпивал хоть рюмку, говорил так, что его трудно было понять.
— Номер полка, в котором вы служили?
— Я был в отдельном сапёрном батальоне.
Два часа продолжался этот своеобразный экзамен. Фред отвечал лаконично и чётко, силясь скрыть от въедливого Шлитсена усталость. Наконец тот изрёк:
— Теперь я уверен, что вы вызубрили легенду. Где она?
Фред протянул напечатанный текст и карту.
— Надеюсь, никаких записей вы не делали?
— Я не желторотый!
— Отвечайте чётко и ясно: записей не делали?
— Нет. Эти «азы» мне известны — разведчик не имеет права ничего фиксировать.
— Хорошо, кажется, все. Пойдёмте на веранду!
Закрыв дверь, Шлитсен аккуратно защёлкнул задвижки и подошёл к круглому столику. Под большой салфеткой стояло два прибора и бутылка вина.
— Выпьем за ваш, а также наш успех! — проговорил он, торжественно поднимая бокал. — Простите, может быть, вы не любите сухое вино, но я пью только его и только тогда, когда совершенно уверен в успехе операции.
— Это завуалированный комплимент?
— Комплименты говорят барышням. Разведчику начальник, посылая его на задание, должен говорить правду.
— Даже в том случае, если вы не совсем уверены, как будет выполнено задание?
— Тогда бы я не поднял этот бокал. Да, да, у нас, старых зубров, съевших зубы на своём деле, есть чутьё. Вы способны справиться и справитесь с порученной вам миссией. Но хочу предупредить: не будьте легкомысленны. Моя вера в успех не означает, что задание лёгкое. Имейте в виду: среди тех, кто не хочет возвращаться в Россию, наверняка есть советские агенты. Будьте осторожны — они не станут церемониться с вами.
— Разрешите спросить?
— Пожалуйста.
— В какой срок я должен уложиться?
— Самое большое в месяц.
— А если возникнут непредвиденные осложнения и я не смогу справиться в назначенный срок?
— Обязаны справиться! Заместитель начальника лагеря вам поможет.
Неожиданно на веранду быстро вошёл Нунке. Поздоровавшись, он бросил на стол перед Шлитсеном какую-то телеграмму. Тот удивлённо поглядел на шефа и пробежал глазами текст.
— Что это значит?
Нунке пожал плечами, ничего не ответив. Сочтя, что он лишний, Фред попросил разрешения удалиться.
— Подождите, вы будете ещё нужны, — остановил его Нунке.
— Если господин Шлитсен разрешит, я пройду в кабинет.
— Пожалуйста…
В кабинете Фред устроился в самом дальнем углу, но дверь осталась полуоткрытой.
— Почему телеграмма из Никарагуа? — донёсся голос Шлитсена.
— Очевидно, шеф переехал туда… В телеграмме сообщается, что этот Думбрайт позавчера вылетел в Италию. Если и дальше будет лететь, то не сегодня-завтра прибудет сюда.
— Герр Нунке, сама фамилия Думбрайт вам ничего не говорит?
— Дорогой коллега! Если кто-либо приезжает, со специальной миссией в такую школу, как наша, так это не врач, не учитель, не духовник, а птица такого же полёта, как и мы с вами, только рангом повыше. А у разведчика может быть столько же фамилий, сколько волос на голове.
— Ну, что же, ждать придётся недолго. Поглядим, что за фрукт этот Думбрайт.
— Боюсь самого худшего, — раздражённо произнёс Нунке. — Смена резиденции шефа означает и смену ветра. Как бы он не запродал нас всех вместе со школой.
— Неужели вы думаете?..
— Об этом потом…
Разговор на веранде оборвался. Нунке и Шлитсен пошли в кабинет.
— Фред, — ещё с порога начал Нунке, — ваш отъезд откладывается на день-два. Приезжает какое-то начальство, и весь личный состав школы должен быть налицо.
Фред молча поклонился.
Тем временем Шлитсен позвонил в таверну и приказал:
— Вилли! К вам прибудет особа по фамилии Думбрайт… Повторяю, Думбрайт. Будете сопровождать его до самой школы. Все, о чём он станет расспрашивать, запомните и доложите мне.
Думбрайт приехал даже раньше, чем его ожидали. В тот же день вечером к Фреду зашёл Воронов и чуть ироническим тоном сообщил:
— Поздравляю с прибытием высокого гостя!
— Кто же он, этот гость, да ещё высокий?
— Точно не скажу, но мне кажется, я где-то его видел.
— Не спрашиваю, где и когда, потому что догадываюсь о характере встречи.
— Пустое! Дела давно минувших дней, иначе я бы сразу узнал его. Где же именно я с ним встречался? Погодите, погодите, кажется, вспомнил. Точно! Мы встретились с ним осенью 1942 года в Швейцарии, куда я сопровождал князя Гогенлое — он же Паульо для каких-то тайных переговоров с одним влиятельным американцем, который скрывался под фамилией Балл. Обязанности одного из секретарей при тайном посланце дяди Сэма выполнял этот Думбрайт. А ещё говорят, Воронов постарел, у Воронова склероз… Нет, есть ещё порох в пороховницах!
— Жаль, что вы часто подмачиваете его, генерал. Это не может не отражаться на памяти.
— Ко всем чертям память! А что, если я сам мечтаю её потерять? Чтобы забыть, кем я был и кем стал… Но ничего! Ещё год и… — Воронов свистнул, махнув рукой.
— Не понимаю, — вопросительно поглядел Фред.
— Через год кончается мой десятилетний контракт. Получу пенсионное вознаграждение, уеду в Италию или Швейцарию… Выстрою домик в русском стиле, посажу сад и буду спокойно доживать век.
— Ворон мечтает о собственном гнезде в счастливой Аркадии?
— Да! Поэтому и приходится низко кланяться, даже тогда, когда хочется стукнуть кулаком по столу и во весь голос крикнуть — остолопы!.. Вот и ищу утешения на дне рюмки. А теперь принесло этого Думбрайта, провалиться бы ему, и Нунке объявил сухой закон…
— Гость, верно, отдыхает с дороги…
— Какое там! Только прибыл, тотчас заперся с Нунке и Шлитсеном в кабинете, просидели там с час. А теперь ходят, осматривают школу. Заглядывают в каждый уголок.
— У вас уже были?
— Ко мне прибудут позже всех — мои комнаты в конце правого крыла. Зашли бы как-нибудь вечерком! Посидели бы, потолковали… Так и подмывает расспросить, что вы видали в России.
— Грустите всё-таки по родной земле?
— Раньше высмеял бы любого, задавшего мне подобный вопрос. Отряхнул бы прах с ног и трижды перекрестился. А теперь вот сосёт тут и сосёт! И чем ближе к смерти, тем сильнее. Ненавижу, проклинаю, а тянет…
Дверь бесшумно отворилась, и в комнату по-хозяйски вошёл высокий незнакомец, без пиджака, в одной рубашке с короткими рукавами.
— Мистер Думбрайт, которого мы все с таким нетерпением ждали, — представил Нунке.
Лицо Думбрайта было квадратным. Небольшие глаза прятались под густыми нависшими бровями, которые образовывали горизонтальную линию, отделяющую верхнюю часть лица. Нижнюю, с тяжёлым двойным подбородком, пересекал широкий рот.
— Старый наш сотрудник, воспитатель русского отдела, знаток царской разведки, генерал Воронов и воспитатель, который должен его заменить, Фред Шульц, — отрекомендовал Нунке, с подчёркнутой учтивостью обращаясь к гостю.
— Я вам говорил…
Чуть шевельнув рукой, словно говоря «знаю», Думбрайт с откровенной бесцеремонностью рассматривал только что представленных воспитателей.
— Сколько лет? — спросил он Воронова.
— Семьдесят первый. Через год кончается контракт.
— Мечтаете об отдыхе? Рано! Старые дубы покрепче молодых. А если учесть ваш опыт…
— Опыт опытом, а старость старостью…
— Старость? А ну, дайте руку!
Соединив руки в крепком рукопожатии, Воронов и Думбрайт стояли друг против друга не шевелясь. Лишь по тому, как краснели их лица, можно было догадаться, что каждый вкладывает в это пожатие всю свою силу. Вот тела их ещё больше напряглись, лица побагровели. У генерала оно стало багрово-красным, присутствующие были уверены, что он сдаёт. Но произошло неожиданное.
— Ой! — приглушённо вскрикнул Думбрайт и едва не присел от боли.
Глаза Воронова ещё возбуждённо блестели, но в голосе чувствовалась растерянность.
— Простите, ради бога, простите! Мне надо было предупредить, что я этими руками когда-то подковы сгибал, — оправдывался генерал.
На губах Думбрайта впервые появилась улыбка.
— Но ведь вы на четверть века старше меня! Отлично, просто отлично! 0'кей, старина! — Думбрайт снисходительно, как старший младшего, похлопал Воронова по плечу.
— Попробуем и с вами? — повернулся Думбрайт к Фреду.
— Упаси боже! Вы мою руку просто раздавите… Вот на ринге обещаю продержаться минут десять. Вы ведь куда высшей категории… Впрочем…
Думбрайт прищурился и впился глазами в Фреда, словно ощупывал его.
— Фигура тонкая, но скроен ладно… Расчёт на ловкость, молниеносность и меткость удара… Чувствуется натренированность.. — медленно изрекал он фразу за фразой.
Манера Думбрайта разговаривать была чем-то оскорбительна для присутствующих. Он словно совершенно не замечал окружающих, а просто вслух высказывал свои мысли, бесспорность которых подчёркивал категоричностью тона, каким произносил каждое слово, — всё равно, шла ли речь о вещах важных, или о мелочах.
Несколько обескураженные неожиданным поведением гостя, Нунке и Шлитсен переглянулись, словно спрашивая друг друга, как себя вести.
— Я вижу, мистер Думбрайт, вы любите спорт… осторожно начал Нунке.
— Не то слово! Спорт для нас с вами не цель, а способ. Оружие. А оружие должно бить без промаха. Мне нравится, что ваши парни из русского отдела выносливые. Даже старик, а вот молодой… Так, говорите, бокс? А что, если на кулачки? Как Тарас Бульба с Остапом?
— Вы знаете Гоголя? — удивился Воронов.
— «А поворотись-ка, сыну», — без всякого акцента хвастливо процитировал Думбрайт, с насмешливым превосходством посматривая на генерала.
— Не ожидал, никак не ожидал… — развёл руками тот. — Откуда, каким образом?
— Я, мистер Воронов, жил в России со времён Деникина до начала последней войны. Двадцать лет! За такой срок можно изучить не только язык и литературу, а и… — Думбрайт не стал уточнять, что именно он изучал в России, но присутствующим это было ясно и так.
— Может быть, на этом закончим сегодня рабочий день и вы отдохнёте? — предложил Нунке. — Простите, если, не зная ваших вкусов…
— Отдыхать я приучил себя раз в сутки — ночью, остановил его Думбрайт.
— Тогда продолжим наш осмотр?
— Напрасная трата времени! Общее впечатление о вашем заведении у меня уже сложилось.
— О, конечно, конечно!.. Лишняя деталь ничего не прибавит к картине, увиденной опытным глазом… — угодливо согласился Нунке. — Мы, немцы, много теряем из-за склонности к чрезмерной пунктуальности. Есть грань, за которой частности перерастают в свою противоположность. К сожалению, должен сказать это о своих соотечественниках. Озабоченные деталями, они зачастую за деревом не видят леса, не способны к быстрым обобщениям. По мере сил я стараюсь избавиться от этой, так сказать, национальной черты, и мне очень приятно, мистер Думбрайт, что вы не придираетесь к мелочам, а с первого взгляда сумели…
Брови Думбрайта нетерпеливо шевельнулись и снова вытянулись в прямую линию.
— Вам неплохо было бы избавиться ещё от одной национальной черты: многословия, — язвительно бросил он и повернулся лицом к Воронову и Фреду. Рад познакомиться с вами, — сказал он с деловитой сдержанностью, тем самым давая понять, что к первоначальному фамильярному тону беседы возврата быть не может. — Прежде всего, прошу всех сесть, ибо разговор будет длинным.
После небольшой паузы Думбрайт продолжил:
— Мистер Нунке не успел проинформировать вас о тех новостях, которые я привёз из-за океана, поэтому я сделаю это сам.
— Новости всегда лучше узнавать из первоисточника, — попробовал вмешаться в разговор Воронов.
Думбрайт сердито взглянул на старика, и тот сразу стушевался.
— Ваша школа не является ни испанской, ни немецкой, — раздельно произнёс заокеанский гость, акцентируя каждое слово. — Прошу принять это не за констатацию факта, а за исходное положение, из которого будет проистекать все, о чём я скажу в дальнейшем. Повторяю, школа лишена какой-либо национальной окраски… Это прекрасно! Именно это и требуется. Ещё бы! Учреждение, созданное на деньги разнонациональных врагов коммунизма! Лучшей вывески не придумаешь! Как говорится, международное объединение сторонников, крестового похода против Москвы готовит свои кадры… Должен отметить прозорливость и изобретательность мистера Нунке.
Начальник школы щёлкнул каблуками и склонил голову в благодарственном поклоне.
— До сих пор Соединённые Штаты в сонме тех, кто содержит школу, были представлены лишь отдельными благотворителями. Теперь дело меняется. Основные средства, необходимые для существования и процветания школы, будут поступать от нас…
Думбрайт не уточнил, от кого именно: от расширенного ли круга частных лиц или от организации, которую он представляет.
— Вы сказали, что у вас сложилось определённое представление о нашей школе. Можно узнать, какое именно? — нарушил паузу Нунке. После похвалы за прозорливость и находчивость он, очевидно, ожидал новых комплиментов. Но чаяния его не оправдались. Думбрайт обвёл присутствующих тусклым взгтодом и отчеканил:
— Плохое! Понимаю, слушать это неприятно, тем не менее повторяю — плохое!
Чисто выбритое румяное лицо Нунке заметно побледнело. Шлитсен заёрзал на стуле, Воронов невыразительно хмыкнул, Фреду, как новичку в школе, полагалось быть сдержанным, и потому на его лице отразилась лишь глубокая заинтересованность.
Думбрайт ещё раз окинул взглядом всех четверых, как бы стараясь прочесть их мысли.
— Хочу вас предупредить: даже самые неприятные вещи я говорю открыто, не вуалирую сказанное, не прикрываюсь обтекаемыми фразами. Это мой стиль! И если нам выпало на долю работать вместе, давайте привыкать друг к другу.
— Чем обосновано ваше мнение? — глухо спросил Нунке.
— Вас, мистер Нунке, мне рекомендовали как одного из лучших работников немецкой разведки, так неужели вы сами…
— Вы только что сказали, что не умеете и не любите подслащать…
— А я и не собираюсь этого делать. Наоборот! Если у вас, одного из лучших разведчиков, школа в таком состоянии, значит, нам придётся поработать, чтобы поднять её до уровня современных задач.
— А именно?
— Школа плохо оборудована технически. Ваши подслушиватели старой и примитивной конструкции, электроаппаратура — времён кайзера… У вас нет ничего, что для рядового американского детектива, подчёркиваю, обычного детектива, а не профессионального разведчика, было бы новостью.
— Но мистер-Думбрайт! Надо же учесть, что во время войны школа влачила жалкое существование и только теперь…
— Мы не анализируем причин, а говорим о результатах. А они отнюдь не утешительны: отсталость есть отсталость. Что бы её ни породило. Кстати, этот упрёк я бросаю не вам, а высшему руководству школы. Оно было обязано проинформировать вас обо всех новшествах. Впрочем, и это ещё не такая большая беда. Теперь, когда мы объединяемся для борьбы с общим врагом, мы оборудуем вашу школу новейшей техникой… Главное не в этом. Нас не удовлетворяет само направление школы…
— Простите, но направление… мне казалось… — забормотал вконец растерявшийся Шлитсен, — кажется, именно в этом…
— Возможно, я неправильно выразился. Речь идёт не о цели, а о методах, которыми можно достичь цели. Вы живёте старыми представлениями о разведке и её задачах. Вы не движетесь вперёд, не ставите перед собой новых задач.
— Я и мои коллеги хотели бы получить более конкретные указания, мистер Думбрайт! — голос Нунке дрожал от скрытой обиды.
— Здесь не место беседовать на эту тему. Об этом мы поговорим наедине, немного погодя и, уверяю вас, очень подробно. Теперь я хотел бы ограничиться несколькими замечаниями, непосредственно касающимися присутствующих. Так вот, я совершенно согласен с вами, мистер Нунке, что наш общий враг, для борьбы с которым мы готовим кадры, — Советский Союз. Именно поэтому я и начал разговор в присутствии воспитателей русского отдела. Что мы должны делать сегодня в России и против России? Как вы думаете, мистер Воронов?
— Собирать агентурные данные, разведывать… начал было генерал, но Думбрайт, нетерпеливо поморщившись, остановил его:
— Ну вот видите! Иными словами, то же, что и до войны. Нет, тысячу раз нет! — он стукнул ребром ладони по столу. — Во-первых, что касается сугубо разведывательной работы. Здесь количество добываемой информации должно перейти в новое качество: полную осведомлённость о том, что происходит по ту сторону красной границы. На этом чы остановимся в следующий раз, а сейчас я хочу говорить о той новой работе, которую мы обязаны и будем вести. Трудную, куда более трудную и менее заметную, но больше всего необходимую сегодня, — я говорю об идеологическом наступлении на коммунизм! Да, да, именно о наступлении. Развёрнутым фронтом. Во всеоружии форм, способов, методов, которым трудно будет противостоять, ибо они начнут действовать как коррозия, незаметно разъедающая металл.
Квадратное лицо Думбрайта покраснело. Взгляд стал острым — казалось, что из зрачков вот-вот выскочат два тонких буравчика.
Фред, чтобы не выдать своего состояния, опустил веки. Краешком глаза он заметил, как подались вперёд Нунке и Шлитсен. Воронов, сидевший рядом, громко перевёл дыхание.
Довольный впечатлением, произведённым на присутствующих, Думбрайт чуть заметно улыбнулся.
— Я вижу, вы меня поняли, — продолжал он, выдержав маленькую паузу, которая должна была подчеркнуть значительность сказанного. — Да, основное теперь, после войны, — дискредитация самой идеи коммунизма. Самой идеи! Здесь надо учитывать все: начиная от философских идей, преподнесённых как новейшее достижение идеалистической человеческой мысли, и кончая антисоветским анекдотом. Вооружённая борьба закончилась, начинаем войну психологическую.
— С Россией? — спросил Воронов.
— С коммунизмом, — отчеканивая слова, ответил Думбрайт. — С мировым коммунизмом. Ибо после войны он вырос в мировую систему и стал угрозой для всего мира… Над Россией сияет ореол спасителя человечества от фашизма. Этот ореол мы должны развеять. Надеюсь, не требуется объяснять зачем?
— Но роль России в войне… — робко заметил Воронов. — История…
— Её уроки тем и отличаются, что человечество быстро их забывает, сказал один мыслитель. Не помню кто, но сказано очень метко. У человечества действительно короткая память. А нам это очень на руку. Мы заплатим немецким генералам десятки, сотни, тысячи долларов, и они создадут нам мемуары по истории второй мировой войны в нужном нам аспекте. Докажут, что не на Востоке, а в Африке, в Италии и на Тихом океане ковалась победа, апофеозом которой стало открытие второго фронта.
— А как скрыть тот факт, что основные силы немецкой армии были прикованы к Восточному фронту? — поинтересовался Фред.
— Мы должны доказать противоположное. В мемуарах, да ещё военных, события всегда ограничены отдельным участком. Надо выбрать такие события и таких авторов.
— Я мог бы посоветовать несколько кандидатур, вмешался Нунке.
— Буду весьма признателен. Тем более, что нас интересуют воспоминания именно немецких генералов, их трактовка событий. Через несколько дней я лечу в Западную Германию, подготовьте список кандидатур.
— Будет сделано.
— Надеюсь, вы понимаете: только что сказанное не имеет прямого касательства к вашей школе. И если я упомянул об этом, то лишь для того, чтобы стал ясен масштаб наступления, которое мы собираемся предпринять против русских. Ваша же работа касается непосредственно Советского Союза. Россия лежит в развалинах. По подсчётам наших экономистов, русским надо пятьдесят лет, чтобы восстановить населённые пункты, промышленность, сельское хозяйство да и вообще всю экономику в целом.
— Английские экономисты называют меньший срок — тридцать лет, — напомнил Шлитсен.
— Тридцать, пятьдесят.. оба этих срока нас не устраивают. Надо, чтобы русские потратили на восстановление хозяйства в три раза больше времени! Думбрайт стукнул кулаком по столу. — Тут я вплотную перехожу к нашей с вами миссии: помешать русским должны мы. Не только методами диверсий это малоэффективно, не только методами вредительства — вредителей быстро ловят. Нет, не этим! Среди всех народностей, входящих в Советский Союз, измученных войной и нехватками, надо посеять неверие в возможность построения коммунизма не только в ближайшее время, а вообще. Какими путями? Их много. Арсенал этого опасного для русских оружия неисчерпаем. Тут всё зависит от нашей с вами изобретательности. Ревизия их веры — марксизма-ленинизма вот первое, о чём надо говорить. Надо взять на вооружение все течения новейшей философии, отфильтровать их, отобрав на первый взгляд самые невинные, и, прикрываясь щитом материалистической диалектики, которая утверждает, что все находится в движении, все меняется, в зависимости от среды и обстоятельств, стараться протащить враждебные марксизму идеи. Могучим оружием может стать и дезинформация. Величайшие человеческие мысли в области физики, биологии, техники и других наук можно преподнести под соусом идеализма и ещё какого-либо «изма»! Пока разберутся, пока опомнятся, время будет идти и лить воду на нашу мельницу.
— Думаю, что такая деятельность не по плечу рядовому агенту, — с сомнением покачал головой Шлитсен.
— Эту работу мы поручим отборным кадрам. Научным работникам, специалистам своего дела. Не обязательно, чтобы они сосредоточивались в одном какомлибо центре, пусть каждый работает в своей области, но всех таких людей мы должны взять на учёт, чтобы в случае необходимости можно было воспользоваться их эрудицией. У себя на родине мы уже предпринимаем кое-что в этом направлении. Надо и вам здесь знать, на кого и в чём можно положиться.
— Придётся восстановить кое-какие связи среди мадридского общества, — задумчиво проговорил Нунке.
— Непременно! На это вам будут выделены специальные ассигнования… Впрочем, все это высокие материи, перейду к примерам более простым. Человеческая натура такова, что в беде всегда ищет какую-нибудь отдушину: одни цепляются за религию, другие заливают горе вином, третьи ищут забытья в разгуле. Есть люди, горячо берущиеся за работу, считая её лучшим лекарством. Русским сейчас приходится туго. Вдова, потерявшая на фронте мужа… молодая девушка, которую бросил любимый… парень, сразу не нашедший себе места в жизни… — натолкните их на мысль, что они должны уповать на бога, завлеките их в секту, а если таковой не имеется, организуйте сами!.. Славяне любят попеть за рюмкой водки. Напомните им, как отлично они варили самогон во время гражданской войны. Пьяному море по колено, говорят русские. Создайте такое море, и пьяный побредёт туда, куда нам нужно. Русские, украинцы, белорусы склонны к юмору. Поможем им! Вооружим любителей острого словца анекдотами, высмеивающими их настоящее и будущее. Меткий анекдот распространяется с молниеносной быстротой, иногда даже людьми, беззаветно преданными советской власти. У русских есть неплохая поговорка: «Для красного словца не пожалею и отца». Не улыбайтесь, мистер Шлитсен! Вам, немцам, это трудно понять, ибо от ваших отечественных острот всегда несёт казармой. Они могут рассмешить разве только кухарок. А между тем анекдот это великая сила. Мимо одного проскользнёт незаметно, а у другого оставит в сознании тонкий налёт, когорый послужит своеобразным катализатором для всего антисоветского.
У Фреда застучало в висках. Ему показалось, будто он захлёбывается в каком-то липком, вонючем потоке.
«Ничего, последним посмеюсь я, — успокаивал он себя. — Хотел бы я взглянуть на твою рожу, когда ты услышишь наилучший из анекдотов: перед кем ты сегодня раскрываешь свои карты!»
— Вы знаете, — продолжал Думбрайт, — надежда каждой нации — её молодёжь! Мы обязаны сделать так, чтобы эта надежда обманула большевиков. Молодёжь склонна увлекаться, и это надо помнить, подбирая ключи к её умам. Отравляйте душу молодёжи неверием в смысл жизни, пробуждайте интерес к сексуальным проблемам, заманивайте такими приманками свободного мира, как модные танцы, красивые тряпки, специального характера пластинки, стихи, песни… Дети всегда найдут, в чём упрекнуть родителей. Воспользуйтесь этим! Поссорьте молодых со старшим поколением… Я бы мог перечислять и перечислять способы, к которым можно прибегнуть в каждом отдельном случае, но цель моей сегодняшней беседы не в этом. Я хочу доказать одно: мы должны быть такими изобретательными в способах психологической войны с коммунизмом, чтобы коммунистическая пропаганда не поспевала за нами! Теперь понятно, почему я считаю вашу школу отсталой? — обращаясь ко всем, закончил свою речь Думбрайт.
Минуту царило молчание. Уже зная манеру заокеанского инспектора перебивать собеседника, никто не решался заговорить первым.
— Я хотел бы услышать ваше мнение, — нетерпеливо напомнил Думбрайт.
— Грандиозно! — с преувеличенным восторгом воскликнул Шлитсен. — Масштабность задуманного лично меня просто поразила. Конечно, мы и раньше делали кое-что в этом направлении…
— Кустарщина! Теперь я понимаю, настоящая кустарщина! — покачал головой Воронов.
— Рад, что вы это поняли. От вас, как от одного из работников русского отдела, будет многое зависеть. Но ваш отдел очень мал. Его надо расширить, и как можно скорее.
— Я уже докладывал вам, мистер Думбрайт, о том поручении, которое должен выполнить Фред, — поспешно напомнил Нунке. — Это даст возможность…
— Вы имеете в виду группу бывших офицеров армии Власова? Замечательное пополнение! Фред, это задание вы должны выполнить во что бы то ни стало! Понятно?
— Так точно!
— Когда вы должны выехать?
— Послезавтра утром. К поездке всё готово, — отрапортовал Шлитсен.
— Не откладывайте ни на один день. Вы и так потеряли много времени. Как ни хорошо спрятаны власовцы, а советское командование может вас опередить. Есть основания предполагать, что оно уже заслало туда своего агента. Вы предупредили об этом мистера Фреда?
— Да, герр Шлигсен меня об этом проинформировал.
— Надеюсь, вы понимаете, какая нужна осторожность, чтобы вывезти эту группу?
— Конечно!
— Тогда желаю успеха. Что же касается бокса, то мы с вами обязательно подерёмся. Времени у нас будет предостаточно, ибо, вернувшись из Германии, я засяду здесь надолго. Ведь официально я консультант компании «Армстронг», контролирующей производство и экспорт пробкового дерева, а его, говорят, здесь уйма… А теперь ужинать — я голоден как церковная крыса. Так, кажется, говорят в России?
— Беден как церковная крыса, а голоден — как собака, — поправил Фред.
— Мистер Думбрайт, разрешите задать вопрос? неожиданно заговорил Воронов.
— Пожалуйста.
— Вы меня не помните? Вам не приходилось меня видеть?
— Где?
— Ну, скажем, в Швейцарии, осенью 1942 года…
— Погодите, погодите… вы были с князем, не будем уточнять имени!
— А вы сопровождали очень важную особу, скрывавшуюся под фамилией Балл…
— Вы знали, кто он был в действительности? Только «да» или «нет». Опять-таки не будем раскрывать инкогнито.
— Догадывался!
— О, если бы те переговоры закончились успешно, у карты мира был бы иной вид! — с искренним огорчением вырвалось у Думбрайта. — Русские сорвали наши планы.
— У нас у всех было очень туманное представление о цели переговоров, питались одними догадками, признался Воронов.
— Ещё бы! Ведь речь шла не больше и не меньше, как о сепаратном мире. Антигитлеровская оппозиция жаждала развязать себе руки для борьбы на Восточном фронте… Жаль, сорвалось!..
Думбрайт в сопровождении Нунке и Шлитсена направился было к двери, даже не попрощавшись, но тотчас остановился.
— Забыл предупредить, мистер Шульд, мы ещё встретимся с вами в Германии до моего возвращения сюда.
— Простите, я не понял: это будет частная встреча или…
— Возможно, я кое в чём смогу вам помочь.
— Не знаю, как сложатся обстоятельства. Может статься, что выйти за пределы лагеря будет трудно.
— Пусть это вас не волнует. Я найду возможность поддерживать с вами связь.
— Буду очень рад.
«Вот тебе и новое осложнение!»
Нет, никак не радовала Фреда предстоящая встреча с Думбрайтом в Германии.
В КЛЕТКЕ БЕЗ РЕШЁТОК
— Пошли напрямик! — предложил Нунке и, сойдя с асфальтированной дороги, шагнул на едва заметную тропинку, которая, извиваясь среди кустов, вела к двухэтажной, одиноко стоящей на самой вершине холма вилле.
Впервые после поездки в Мадрид Фред вышел за ворота школы. Они захлопнулись так беззвучно и плотно, что, казалось, скрытый тайный мир остался в каком-то ином временном измерении. Непреодолимая жажда свободы охватила Фреда.
«Метнуться сейчас в сторону, и пусть лучше пуля в спину… Единственный, до краёв насыщенный миг свободы, который у меня не отберут, не смогут отобрать! Но что это даст? Нет, не тебе, ибо для тебя это может быть и выход — иногда такое мгновенье стоит всей жизни… Но что это даст другим? Тем людям, братство с которыми ты ощущаешь каждой клеточкой своего тела? Ведь это же на их счастье, на их жизнь замахнулся Думбрайт, против них готовится заговор… Может быть, сама судьба привела меня сюда, чтобы разрушить планы этого сборища хищников? Я ещё не представляю, что смогу сделать и каким образом, но я добьюсь своего или сложу голову. Что-что, а умереть я всегда успею…»
— Почему вы в таком миноре, Фред? — окликнул его Воронов, который шёл позади. — Поверьте моему опыту, в дамское общество всегда надо являться с весёлой физиономией. Печальную они прощают одним только влюблённым.
— В дамское общество? Но ведь речь шла только о патронессе! Да и ту, вероятно, дамой не назовёшь!.. Я встречался с этой разновидностью сушёных вобл, которые так любят всплывать на поверхность всяческих приютов и благотворительных обществ, чтобы покрасоваться хотя бы там! Но чтобы женщина стала патронессой такой школы, как наша, простите, о таком я ещё не слыхал! С кем же я должен познакомиться ещё, кроме неё? С какой дамой или дамами?
Воронов громко расхохотался.
— Коли уже вы ударились в рыбью терминологию, то наша патронесса скорее напоминает прехорошенькую золотую рыбку. С таким, знаете ли, длинным хвостиком-веером. Что касается второй дамы… — Голос Воронова сразу стал серьёзным и неожиданно тёплым. — О второй я вам ничего не скажу.. Она не от мира сего, так что и описать её я не смогу.
— Иренэ — слабость генерала, — иронически заметил Нунке. — Как и у всех его соотечественников, у Воронова болезненная тяга ко всем убогеньким и калекам. У славян это происходит вследствие комплекса собственной расовой неполноценности, таким образом, теория…
— Оставьте, Нунке! — резко прервал его генерал. Последнее слово о полноценности и неполноценности рас сказала война. Вверх тормашками полетели и ваши теории, и… Впрочем, не будем об этом. Есть вещи, в которые лучше не углубляться. Таким вот, как я. Как мы с вами.. Что же касается Иренэ, то просто неблагородно относиться к бедной больной девочке так, как относитесь вы. Именно неблагородно…
— Я бы попросил вас не ставить знак равенства между нами обоими. Надеюсь, не надо пояснять, почему именно? — Остановившись, Нунке повернулся лицом к Воронову и смерил его презрительным взглядом. — И ещё попросил бы запомнить: для вас я не Нунке, а герр Нунке!
Генерал сердито засопел. Даже в полутьме было видно, как краснеет его лицо. Казалось, вот-вот с губ старика сорвётся дерзкий ответ. Но привычка безоговорочно подчиняться начальству взяла верх.
— Так точно, герр начальник школы… — буркнул Воронов. — Запомню.
В последнем слове Фреду послышалась не то ирония, не то угроза. Он пытливо взглянул на генерала, но тот быстро опустил веки и наклонил голову, пряча лицо не столько от Фреда, сколько от Нунке. Шеф, очевидно, ничего не заметил. Не скрывая довольной улыбки от только что одержанной в словесной перепалке победы, он повернулся к своим спутникам спиной и снова зашагал по тропочке. Фреду и Воронову оставалось следовать за ним.
Некоторое время шли молча. Нунке шагал легко и широко, хотя тропинка становилась все круче, но генерал стал отставать. У себя за спиной Фред слышал его тяжёлое дыхание, порой проклятья, когда ветки кустарника били по коленям или когда из-под ног скатывались мелкие острые камешки, которыми усыпана была вся тропинка. Фред невольно замедлил шаг, чтобы дать возможность старику отдышаться.
— А шеф не очень считается с вашим возрастом и моим неумением взбираться на такую крутизну. Может, передохнем?
— Уже не стоит.
Действительно, минут через пять тропинка круто свернула, выскочив на небольшое плато, и вилла, во время подъёма исчезнувшая было из поля зрения, теперь словно выросла из-под земли. Нунке поджидал своих спутников, стоя у живой изгороди из подстриженных кустов, окружавшей сад и дом.
— Хочу вас предупредить, Фред: Агнесса Мененлос — наша покровительница, но во внутренние дела школы она не вмешивается. Поэтому и в разговоре не илдо их касаться.
— Я сам чрезвычайно мало осведомлён.
— Это я на будущее. Время от времени вам придётся посещать донью Агнессу, как делаем это мы с Вороновым; ведь здесь нет иного общества.
— Если так заведено… — вздохнул Фред.
— Напрасно вы поморщились, — живо воскликнул Воронов. — Посещение «холма», так мы называем виллу, вносит разнообразие в нашу жизнь. Днём скучать некогда, зато вечерами… Иногда такая тоска одолевает, хоть волком вой! А у доньи Агнессы всегда найдётся для вас стакан отличного вина, да и поёт она неплохо…
— Я ни разу не слышал, — удивился Нунке.
— При вас она другая. Считает, раз вы начальство — Воронов не закончил фразу, на террасе их уже поджидали.
— Падре Антонио, — отрекомендовался Фреду невысокий худощавый человек в сутане, с чёрными бронями, низко нависшими над глазами. Он широко распахнул дверь и гостеприимно пригласил: — Заходите! Мы давно ждём вас.
— Как Иренэ? — спросил Воронов.
— Как всегда, — вздохнул падре. — К сожалению, донье Агнессе изменяет выдержка. Она потакает всем капризам дочери, и это плохо отражается на лечении: захотела — приняла лекарства, захотела — не приняла. Сегодня даже отказалась от массажа…
Падре Антонио и Воронов заговорили по-немецки, потом перешли на испанский, и Фред вдруг смутился. А что, если патронесса не говорит по-немецки? Как они поймут друг друга? С помощью переводчика? Это скучно и всегда создаёт напряжённую, официальную атмосферу… Возможно, придётся поздороваться, перекинуться несколькими словами, выученными в Мадриде, а потом весь вечер просидеть молча, скучая.
Смущение его усилилось, как только они перешагнули порог гостиной и Фред услышал, что его спутники обращаются к хозяйке по-испански. Улыбнувшись, она поднялась с кресла и, медленно сделав несколько шагов навстречу гостям, остановилась посреди комнаты.
Все в этой женщине было гармонично, стройная, гибкая фигура, посадка головы, здоровый загар на молодом красивом лице.
Пока Нунке и Воронов здоровались с Агнессой, Фред успел хорошо её разглядеть. Широкий спокойный лоб, на котором дугами изгибаются чётко очерченные брови. Ровный с тупым концом нос. Крупноватые, но красивого рисунка губы, которых, верно, никогда не касалась губная помада. На подбородке, тоже тупом, мягкая ямочка. Щеки немного впалые. Это придаёт лицу законченность и выразительность. Особенно, когда женщина поднимает глаза, большие, чёрные, с синеватыми белками.
Одета Агнесса несколько причудливо. На ней блузка золотисто-жёлтого цвета, плотно облегающая талию, и юбка чуть более тёмного тона, широченная, украшенная снизу крупными чёрными оборками. Туалет дополняют несколько нитей ярко-красных кораллов. Но этот наряд к лицу Агнессе. Он оттеняет смуглую кожу, цвет глаз, вьющиеся чёрные волосы, небрежно закрученные на затылке в тяжёлый узел.
Услышав своё имя, Фред понял, что его рекомендуют патронессе, и, сделав два шага вперёд, вежливо поклонился.
Агнесса, смеясь, протянула руку и что-то приветливо сказала. Что именно
— Фред не понял, очевидно, просто поздоровалась. Пришлось и ему промямлить несколько слов по-немецки. Поглядев друг другу в глаза, оба рассмеялись. Фред оглянулся, ища глазами Нунке.
— Как видите, мне придётся разговаривать с хозяйкой дома при помощи мимики. Если вы нам не поможете…
— Да ведь вы знаете итальянский, и донья Агнесса тоже! Некоторое время она жила с мужем в Италии.
Услыхав слово «Италия», Агнесса радостно закивала головой.
— Как это хорошо, герр Шульц! — воскликнула она уже по-итальянски. — Возможно, я кое-что позабыла, но в общем…
— Я тоже, верно, многое забыл. Итак, мы с вами на равных правах: вы будете поправлять меня, а я — вас… Впрочем, я купил в Мадриде несколько словарей и надеюсь в скором времени…
— Боже, как давно я не была в Мадриде! — печально вырвалось у Агнессы.
— Вы так любите этот город?
— Там я не чувствовала себя так одиноко, хотя, правду говоря, друзей у меня было мало. Но когда за стенами твоего дома бурлит жизнь, невольно кажется, что и ты к ней причастна… А вам, герр Шульц, Мадрид понравился?
Фред стал рассказывать о своих впечатлениях от испанской столицы. Агнесса то утвердительно кивала головой, то живо возражала, мешая испанские и итальянские слова. Всякий раз, допустив ошибку, молодая женщина весело смеялась, извинялась, чтобы снова через минуту сбиться с итальянской речи на испанскую.
Это, может, и затрудняло взаимопонимание, но делало беседу весёлой, непринуждённой.
Вскоре к разговору Фреда и хозяйки присоединился и Воронов. Он ругал мадридский климат, а заодно и испанцев, которые выбрали для своей столицы столь неудачное место, противопоставлял Мадриду Рим, где ещё в молодости прожил несколько лет, старался вовлечь в спор с Агнессой падре Антонио и Нунке.
Однако падре и начальник школы были озабочены собственным спором. О чём шла речь, Фред не понимал — они сидели в противоположном углу комнаты и разговаривали вполголоса. Но лица у обоих были недовольные, в тоне чувствовалась неприязнь.
— Уважаемая патронесса, — указал на них глазами генерал. — Эти двое опять что-то не поделили. Ещё недавно были друзьями, а теперь… Что между ними произошло?
— Просто они очень разные. Падре превыше всего ставит потребности духа и поэтому считает, что все дела в мире должна вершить наша святая церковь. А Нунке противник этого. Он утверждает, что заповеди теперь пишут не апостолы и святые, а воины… Сеньор генерал, разве так может быть? Ведь они написаны раз и навсегда. Они едины и вечны, как солнце над землёй!
— Солнце тоже не вечно, милая патронесса! А написанное человеком и подавно. Не стоит ломать голову над разными теологическими тонкостями. Поэтому я предлагаю…
— Тео… логическими? Что это значит, сеньор генерал? — Лицо молодой женщины, недавно такое оживгенное, теперь стало серьёзным, глаза глядели вопросительно и чуть растерянно.
— Пусть вам объясняет это ваш духовник, иначе Шульц подумает, что в этом доме угощают лишь разговорами. А я ведь обещал ему стакан хорошего вина. Если к этому вы добавите и…
— Господин Воронов, прошу вас!.. — остановил его Фред.
— Нет, нет, сеньор генерал прав. Я мигом! Простите, герр Шульц, вы сами были немного виноваты, заговорив о Мадриде…
Быстро поднявшись, Агнесса вышла из комнаты. В коридоре застучали её каблучки, потом послышалось, как она звала:
— Пепита! Пепита!
Склонив голову набок, Воронов с явным удовольствием прислушивался к переливам её голоса.
— Прирождённая певица! Вы только вслушайтесь: слышите, как музыкально звучит каждый слог, словно вздымается вверх, а потом спадает округлая волна. Вот вам и «вобла»! Что скажете теперь?
— Красивая и, кажется, очень милая женщина. Просто не верится, что она занимается политикой.
— Агнесса и политика? — генерал рассмеялся. Да она так же далека от неё, как самая далёкая звезда от нашей грешной земли…
— Чем же тогда объяснить её роль в школе?
— Овечка, которая, спасая своего ягнёнка, неосторожно выскочила из кошары и попала к волкам.
— А что, если с эзоповского языка перевести на обычный, общепринятый?
— Расскажу когда-нибудь наедине. Сейчас не время и не место. — Воронов тяжело поднялся и прошёлся по комнате.
Теперь, когда Агнесса ушла и разговор между ней, Фредом и генералом оборвался, голоса Нунке и падре стали слышнее.
— А я вам говорю, что честолюбие в сутане самый страшный вид честолюбия, — сердито доказывал Нунке. — Ведь человек светский находит развлечение в женщинах, вине, картах, увлекается спортом или охотой… Ему есть куда направить излишек своей энергии. Для особы же духовного сана…
— Нам тоже есть куда направить свою энергию и силы. Например, на дела милосердия и просветительства. К тому же припомните, следом за завоевателями всегда шли миссионеры. Они закрепляли добытое, завоёванное. И разве не естественно, не законно, если они требуют своей доли?
— Доля может быть разной.
— Эта доля должна быть достаточной для того, чтобы приумножить славу церкви и её возможности.
— Славу церкви или славу её служителей?
— А разве у вас, светских, не успехи полководцев прославляют армию?
— Хватит об этом! Повторяю ещё раз: сейчас школа не имеет возможности удовлетворить ваши требования.
Нунке поднялся и открыл дверь на веранду. Солнце уже склонялось к горизонту. Из сада повеяло едва ощутимой прохладой. Сильнее запахли цветы, раскрывая свернувшиеся за день лепестки.
— Может быть, спустимся в сад? — предложил падре. — Наш гость ещё не знает, какой прекрасный вид открывается из беседки.
— Вы идите, а меня воротит от всех этих пейзажей. — Воронов уселся в соломенное кресло на веранде. — Намозолили они мне глаза за всю жизнь. Все эти ваши ландшафты я бы променял на вывеску первой попавшейся корчмы в самом грязном закоулке города.
Нунке вздохнул.
— Я тоже лучше посижу. Моему сердцу милы лишь типично немецкие пейзажи.
Фред и падре спустились в сад. Он был небольшой, немного запущенный. Но повсюду множество цветов, у дома — садовых, дальше в траве — диких.
— Это единственная радость нашей маленькой больной, — пояснил падре.
— А что с девочкой?
— Вряд ли когда-нибудь она встанет на ноги, — печально покачал головой падре, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.
Вообще разговор не клеился. На вопросы Фреда падре отвечал коротко и невнимательно, видно было, что у него из головы не выходит спор с Нунке.
Когда они вернулись с прогулки, на веранде ухе никого не было, а в комнате гостей ждал сервированный к ужину стол. Вокруг него суетилась старенькая служанка, расставляя блюда, и медленно похаживала Агнесса, что-то передвигая и переставляя.
— А почему вы меня не познакомите с нашим гостем? — прозвучал сбоку нетерпеливый детский голос.
Только теперь Фред заметил, что чуть в стороне, в уютном уголке, отгороженном вьющимися комнатными цветами и небольшим экраном, в специальном медицинском кресле-коляске сидит девочка. Несмотря на летний вечер, её светло-серое, украшенное тонкими кружевами платье было застёгнуто до самого горла, а ноги плотно укутаны клетчатым пледом, край которого нервно теребили длинные детские пальчики. Нетерпение оживило её до прозрачности бледное личико, обрамлённое пушистыми белокурыми волосами. Не заплетённые в косы, а только перевязанные лентой, они длинными прядями ниспадали на грудь. Глаза девочки, такие же большие, как у матери, но более светлые, смотрели требовательно, даже чуть сердито.
— Если никто не догадался нас познакомить, давайте сделаем это сами, — серьёзно предложил Фред, подходя к больной. — Как хорошо, что и вы говорите по-итальянски! Вас зовут Иренэ?
— Угу! Только не пожимайте мне руку так крепко, как дедушка Воронов, а то я и с вами начну ссориться.
— О, этого мне бы хотелось меньше всего!
— Почему?
— Потому что у меня нет здесь друзей.
— Вы думаете, что я… что мы… — девочка смутилась и исподлобья недоверчиво взглянула на Фреда.
— Мне хочется на это надеяться…
Иренэ откинулась на подушку, закрыла глаза, но через минуту окинула Фреда благодарным, сияющим взглядом.
— Тогда говорите мне «ты», а я буду называть вас просто Фред.
— С большим удовольствием…
— Ну… а где же ваше «ты»?
— Это не так-то легко сразу, — рассмеялся Фред, опускаясь на маленькую скамеечку рядом с девочкой. — Прежде всего скажи: ты тоже была в Италии?
— Да! Но мы уехали оттуда, когда я была совсем маленькой…
— Откуда же ты знаешь язык?
Иренэ немного наклонилась вперёд, подав Фреду знак сделать то же самое.
— Это страшная тайна, я о ней никому не говорила… Только вам скажу. Вы обещаете, что никому, ни единой душе?.. — прошептала девочка, наклоняясь ещё ниже. — Осенью я поеду на богомолье в Ватикан, вот как!
— И только ради этого ты учила язык?
— Конечно! Как же я стану разговаривать с папой, если не по-итальянски! Латыни я ведь совсем не знаю.
— Иренэ, о чём ты там шепчешься с Фредом? Я сейчас покажу тебе, как заводить от меня секреты! шутя крикнул Воронов с другого конца комнаты.
— Вот сейчас он подойдёт, и я не спрошу вас о самом главном! — ещё быстрее зашептала Иренэ. — Если папа хорошенечко помолится обо мне, как вы думаете, я смогу ходить?
Фред осторожно положил руку на пальчики девочки и почувствовал, как они дрожат от волнения. Верно, нздрагивали и губы, потому что Иренэ прикусила их зубками.
— Ну, почему же вы не отвечаете? — требовательно и нетерпеливо спросила она, внимательно всматриваясь в лицо своего нового друга, словно хотела прочитать его мысли.
«Солгать, поддержать наивную веру в выздоровление? Ведь самовнушение иногда действует лучше всяких лекарств… Но тогда девочка будет уповать только на святейшего папу и его молитвы, — колебался Фред — Сказать „нет“ — значит отнять у неё ту горячую надежду, которой она сейчас живёт?»
— Я верю, поездка в Италию тебе поможет, — заявил Фред убеждённо. — Но ты знаешь, ведь бог помогает только тем, кто сам приложит силы, чтобы достичь цели. Сама рассуди: как он может потакать лентяям? Один сидит, пальцем не шевельнёт, чтобы добитъся своего, только уповает на небо: смилуйся-де, дорогой боженька, помоги! А другой — ищет, борется, бьётся, готов все сделать и все вытерпеть. Кому, потвоему, надо помочь раньше?
— Второму!
— Вот видишь! Так и с тобой…
Иренэ притихла, поражённая новым толкованием небесного милосердия. Губы её плотно сжались, в уголках рта залегли горькие складочки. Личико девочки сразу как бы постарело.
— Почему у нас нахмурены брови? — к коляске подошёл Вронов и тяжело плюхнулся в ближайшее кресло. — Фред, вы плохо развлекаете вашу юную даму! И за это вам придётся платить штраф Иренэ, что мы для него придумаем? Погоди, нашёл! Давай поставим живые шарады, например, такая фраза… Дай ушко! Ладно? Так вот, Фреда мы заставим сыграть роль ДонКихота, а я буду Санчо Панса.
— А Нунке пусть изобразит Россинанта! — воскликнула Иренэ с вызовом.
Генерал хмыкнул.
— Знаешь, оставь его в покое! Вряд ли он согласится напялить на себя шкуру коня, даже аллегорически.
— Я так хочу! Герр Нунке, идите сюда! — позвала Иренэ.
Нунке, который в другом конце комнаты разговаривал с падре Антонио, недовольно поморщился.
— Одну минуточку… — бросил он небрежно.
— Иренэ, не мешай взрослым! У них важные дела. — Агнесса подошла к дочке и положила ей руку на лоб. — У тебя головка горячая, тебе пора в кровать, обеспокоенно сказала она.
— А у меня тоже важное дело! — девочка сердито дёрнула головой, освобождаясь от материнской руки. — Я хочу, чтобы он подошёл сейчас же! Падре Антонио, и вы идите сюда!
Пожав плечами, Нунке подошёл к Иренэ.
— Ты, как всегда, капризничаешь, — проговорил он холодно. — Хорошо воспитанные девочки так себя не ведут
— Простите её, она сегодня с утра нервничает, вступилась за дочку Агнесса.
— Это он должен просить у меня прощения!
— Нельзя говорить «он» о человеке, который находится здесь же, — вмешался падре — Одиннадцатилетней девочке пора бы это знать.
— А обманывать можно? — голос Иренэ звенел от гнева. — Так поступать, как он поступил, можно?
— Может быть, ты объяснишь, в чём дело? — не скрывая раздражения, спросил Нунке.
— Вот тебе и на! — развёл руками Воронов. — Речь шла о шарадах, а обернулось..
— Какие ещё шарады и при чём здесь я? Может быть, хоть вы, Фред, объясните?
— Думаю, что уже не стоит.
— Стоит! Стоит! Стоит! — Иренэ застучала кулачками по подлокотникам коляски. — В нашей шараде вы должны сыграть роль коня Россинанта!
— Что за нелепость!
— Только кто же пустит ему пулю в лоб? — Иренэ подалась вперёд, на её бледных щёчках заиграл румянец, глаза заблестели.
— В конце концов всему есть предел! Донья Агнесса, я попросил бы вас вмешаться!
— Иренэ, умоляю тебя, успокойся! И сейчас же, сию минуту попроси у герра Нунке прощения.
— За то, что он застрелил Россинанта? А потом ещё обманул меня, сказав, что его опоили?
— А-а, вон по какому поводу эта истерика! Да, я убил клячу, которую ты окрестила таким поэтическим именем. И считаю, что поступил правильно.
Глаза девочки изумлённо расширились.
— Правильно? — прошептала она — Да чем же он вам мешал?
— Тем, что не приносил пользы. Старые и слабые не нужны на земле, они только мешают остальным, злобно отрубил Нунке, делая ударение на слове «слабые».
Фред увидел, как побледнела Агнесса — даже губы стали белыми. Воронов засопел и сжал кулаки. Иренэ отшатнулась, словно от удара. Падре Антонио забежал за коляску и схватился за её спинку.
— Я отвезу Иренэ в её комнату, — глухо сказал он, — ей нехорошо…
Но девочка снова выпрямилась. Теперь она выглядела более спокойной.
— Почему же вы не застрелите и меня? Я тоже слабая! — звонко прозвучало в комнате.
Нунке было смутился, но тотчас овладел собой
— Кажется, сейчас мы говорили о лошади, а не о тебе, — сказал он с недоброй улыбкой, снова нажимая на слове «сейчас».
Девочка с минуту глядела на Нунке, жалобно улыбаясь, потом подбородок её мелко задрожал, она вскрикнула и закрыла личико руками.
— Мама, увези меня отсюда… Скорее увези меня отсюда… — захлёбываясь слезами, прошептала она.
Отстранив падре Антонио, Агнесса взялась за коляску и покатила её. Фред забежал вперёд и распахнул дверь.
— Может, вам помочь? — спросил он взволнованно.
Молодая женщина на миг остановилась и подняла опущенные глаза. Фреду показалось, что на него взглянуло само горе. Невольно он схватил Агнессу за руку и крепко пожал её.
— Мне так неприятно, поверьте, так неприятно… Я хотел бы быть вам полезен… и передайте завтра Иренэ…
Он не закончил фразу — коляска покатилась дальше.
— Уведите его! — бросила через плечо Агнесса.
Прикрыв дверь, Фред повернулся лицом к присутствующим. Их словно буря разметала по разным углам. Воронов стоял у окна, всматриваясь в темноту вечернего неба, падре прохаживался вдоль стены, заученным движением пальцев перебирая чётки, Нунке развалился в кресле, вытянув ноги.
«Подойти и дать ему пощёчину?» Мысль эта была настолько соблазнительна, что у Фреда даже руки зачесались. Сдерживая бешенство, он подошёл к Нунке.
— Мы находимся в частном доме, поэтому я разговариваю с вами не как подчинённый с начальником, а как офицер с офицером, — прищурившись, сказал Фред. — Вы били лежачего. Более того — ребёнка! Это мерзко! Запомните, в моём присутствии это больше не повторится!
— Вы сошли с ума! Вы все сегодня сошли с ума! Нунке вскочил.
Воронов быстро отвернулся от окна и шагнул вперёд. Падре, оставив чётки в покое, застыл на месте.
— И в моём тоже! — раздельно произнёс Воронов. — То, что вы сделали, хуже убийства.
— Генерал Воронов! Вы понимаете, что одного моего слова достаточно, чтобы вы… — Нунке сделал красноречивое движение коленом. — Отвечайте, вы поняли меня?
— Я… я… — Воронов под взглядом Нунке сразу сник. — Возможно, я сгоряча… Но согласитесь, что и вы… Э, да что там говорить! Что я могу сделать? Подонок, старая галоша! — и, безнадёжно махнув рукой, генерал пошёл к двери.
ПОЕДИНОК
— Послушайте, Сомов! Какого чёрта вас тогда прислали?
— Меня не спрашивали, хочу я попасть сюда или нет. Так же, впрочем, как и вас наверняка не спросили, нравится вам моя компания или не нравится.
— Предупреждаю: я здесь начальник группы! Понимаете? И если я приказываю…
— Плевал я на ваши приказы!
— Что-о?
Протопопов вскочил так стремительно, будто внутри у него выпрямилась туго скрученная пружина. Кулаками, крепко сжимавшими костяшки домино, он опёрся о стол, подавшись вперёд всей своей приземистой крепкой фигурой. Маленькие чёрные глазки, глубоко сидящие под широким выпуклым лбом, впились в новичка, желваки на скулах выпятились и стали перекатываться под кожей, словно Протопопов силился разгрызть два больших ореха. Его противник спокойно курил сигарету и, чуть улыбаясь, посматривал на него.
Три партнёра Протопопова с интересом глядели на того, кто помешал им играть, а теперь так дерзко себя ведёт. Да ещё с кем? С бывшим заместителем начальника разведки одной из власовских дивизий, который и здесь сумел стать главарём! Его бешеный нрав был хорошо известен многим. Даже высшие чины держались теперь перед ним ниже травы, тише воды. Куда уж этому желторотому, бывшему лейтенанту гренадерского полка гитлеровской армии…
— Да знаешь ли ты…
— Прошу не тыкать! Мы с вами вместе свиней не пасли!
Сомов говорил спокойно-небрежным тоном. Он отлично понимал: Протопопов совершил ошибку, начав разговор в присутствии партнёров и тем самым поставив на карту свой авторитет руководителя. Значит, надо вести себя так, чтобы как можно сильнее пошатнуть этот авторитет. От произведённого сейчас впечатления зависит многое…
Нарочно не глядя на Протопопова, Сомов весёлым взглядом окинул присутствующих, но краем ока заметил, как тот, побледнев и прикусив губу, оторвался от стола и медленно, слегка раскачиваясь, стал приближаться к нему.
Сокрушённо покачав головой и пожав плечами, Сомов швырнул в угол рюкзак и тоже поднялся.
Теперь соперников уже не разделял стол — они стояли лицом к лицу. Точнее, стоял Сомов, а Протопопов, все так же раскачиваясь и слегка шаркая подошвами, приближался.
Сейчас всего каких-нибудь пять шагов отделяли их друг от друга. Присутствующие удивлённо переглянулись. Почему этот юноша не становится в боевую позицию? Думает, Протопопов шутит? Но ведь всем ясно, что он идёт на таран!
И действительно, сделав ещё два медленных шага, Протопопов пригнул голову и, словно бык, ринулся вперёд.
Всё, что произошло вслед за тем, присутствующие осознали только спустя минуту — так короток был этот бой и так неожидан его результат. Они успели заметить только отдельные кадры: Сомов, чуть подавшийся в сторону… ладонь руки, ребром падающая на шею их начальника пониже затылка… тело его, неуклюже распластавшееся на полу.
Протопопов рухнул как подкошенный, даже не вскрикнув. Все ещё ждали продолжения боя. Казалось, сейчас начальник вскочит и вцепится в противника. Потом стало жутко и страшно — так неподвижно было его тело. Партнёры опустились на колени и перевернули Протопопова на спину. Падая, он разбил нос, и кровь теперь заливала все его лицо.
— Доктора! — крикнул кто-то.
— Не стоит, — спокойно раскуривая сигарету, остановил Сомов. — От такого удара не умирают. Плесните на него водой, через пять минут очнётся…
И впрямь через несколько минут Протопопов открыл глаза, очумелым взглядом обвёл присутствэвощих. Увидав Сомова, рванулся, чтобы подняться, но руки тотчас подломились в локтях, голова откинулась назад и глухо стукнулась о мокрый пол.
— Положите его на диван и подложите что-нибудь под голову! — спокойно приказал Сомов, и недавние партнёры Протопопова молча подчинились властным интонациям, прозвучавшим в его голосе.
Подойдя к столу, Сомов, словно невзначай, опусшлся на стул, на котором перед стычкой сидел начальник группы.
— Так вы, оказывается, мастер драться! — не скрывая восторга, прошептал белокурый юноша с погонами старшего лейтенанта на довольно потрёпанном мундире.
— Приходилось! — небрежно бросил Сомов.
Протопопов снова открыл глаза и часто-часто заморгал, словно стараясь разорвать тонкую пелену, мешавшую видеть. Но вот взгляд его остановился на Сомове. Пристальный, полный ненависти. Заметив, что Протопопов старается сесть, присутствующие затаили дыхание. Не может быть, чтобы начальник примирился с поражением, не требуя немедленного реванша! Напрасно Сомов так равнодушно перебирает косточки домино, выкладывая какой-то сложный узор.
Но, ко всеобщему удивлению, Протопопов не спешил расквитаться.
— Пошли ко мне! — неожиданно приказал он двоим из группы — майору и капитану.
Все трое вышли.
Молоденький лейтенант придвинулся к Сомову. Ему не терпелось удовлетворить любопытство и поближе познакомиться с новичком, который держится так независимо, нет, просто дерзко.
— Здорово у вас получилось! — рубанул он ладонью воздух. — Только теперь берегитесь — такого наш Протопопов не простит. Он отца родного убьёт, если тот станет поперёк дороги.
— А я не из пугливых.
— Ещё бы! Так обработать! Только вот не пойму: вы нарочно дразнили его или действительно хотите вернуться в Россию?
— Может быть, раньше познакомимся?
— Охотно! Домантович, Михаил Данилович.
Сомов назвал себя.
— Вас интересует, действительно ли я решил вернуться? Обязательно!
— Ну и ну! Это всё равно, что самому полезть в петлю! Проще сделать это здесь. Меньше хлопот и моментальный эффект!
— А я собираюсь ещё пожить!
— Не пойму, честное слово, не пойму! Полное отсутствие всякой логики! Хотите пожить, а сознательно нарываетесь на опасность. Зачем?
— Там у меня жена, родители, а тут — никого!
— Да вы им и предсмертного поцелуя не пошлёте. Вас расстреляют в первый же день по приезде в Россию. Служба в немецкой армии — и с этим вы хотите вернуться домой?
— Но ведь это служба по принуждению! Меня, полурусского-полунемца, гитлеровцы силой взяли из лагеря военнопленных, чтобы напялить мундир солдата немецкой армии. И воевал я преимущественно на Западном фронте…
— Думаете, вам поверят? Не поверят, а проверять не станут. Если уж своих людей, вернувшихся из плена, посылают в лагеря… — Домантович безнадёжно махнул рукой и через минуту добавил: — Эх, что там ни говори, нам с вами возврата нет!
— А я рассчитываю на психологический момент, возразил Сомов. — Победа рождает у победителя великодушие. Особенно в первые часы после победы. Я не питаю иллюзий, что меня встретят с распростёртыми объятиями, Я виновен, и, конечно, меня накажут. Возможно, на несколько лет лишат свободы. Я даже уверен в этом. Но все это лучше, чем всю жизнь мыкаться на чужбине.
— Почему мыкаться? Наш лагерь посещали представители различных благотворительных и иных обществ Они обещают помощь, работу…
— Святая наивность!
— То вы слишком большой оптимист, то завзятый скептик!
— Нельзя мерить одной меркой различные вещи. А тут… Мне пришлось побывать в Париже, повидать эмигрантов, бежавших из России в начале революции. Им так же, как нам сейчас, обещали поддержку и приют. А чем кончилось? Бывшие графини моют посуду в ресторанах, великие князья служат лакеями. А ведь это же «элита» дореволюционного русского общества, по крайней мере, с точки зрения правящих классов тех стран, где они обрели убежище… Ради чего же цацкаться с нами? В лучшем случае загонят куда-либо на плантации или на шахты в Африку, например.
Сказанное Сомовым, очевидно, подействовало на Домантовича. Он впился глазами в листочек, на котором механически вычерчивал квадратики и треугольники, и рука его замерла.
— Ваша группа поголовно отказалась вернуться домой. Или есть такие, кто хочет вернуться, да боится сказать об этом?
Сомов внимательно следил за выражением лица собеседника, но тот, тряхнув головой, словно отгоняя печальные мысли, снова принялся упражняться в рисовании.
— В чужую душу не влезешь… — сказал он, помолчав минуту.
— А вы сами?
— Как говорится: рада бы душа в рай, да грехи не пускают.
— И большие грехи?
— Немалые! Перед тем как податься к Власову, я служил в харьковской полиции.
— Вон как!
— Понятно, приходилось принимать участие в различных акциях…
— Может быть, в карательных?
— Всякое бывало… Эх, что уж вспоминать! Лучше не будем об этом. Домой мне возврата нет. Вы знаете, где ваша кровать в казарме?
— Ничего не успел. Вы же видели, чем закончилась моя беседа с Протопоповым.
— Бурно, что и говорить! Пожалуй, лучше бы попридержать карты, а не раскрывать сразу, как сделали вы.
— Все равно рано или поздно этот разговор состоялся бы. По крайней мере будет теперь знать: я не из тех, кто позволяет собой помыкать.
— Все это верно, но… Впрочем, на эту тему мы ещё поговорим. А сейчас пошли, я покажу вам койку. Здесь много свободных.
— Ожидается новое пополнение?
— Чёрт его знает! Нас здесь так содержат, что и носа из казармы не высунешь. Сами сейчас увидите.
Двор казармы, куда они вышли, напоминал большой каменный колодец. Его стенами служили четыре одинаковых пятиэтажных дома, составлявших единое архитектурное сооружение. С внешним миром двор соединялся лишь высокими воротами, обшитыми железом, а теперь крепко запертыми. Наглухо была закрыта и арка со стороны улицы, расположенная на северной стороне, прямо напротив ворот. В подъезд арки выхолило несколько дверей, очевидно недавно и наспех сделанных.
На асфальтированном дворе не было ни деревца, ни кустика. Лишь в центре на маленькой круглой площадке, пестрели клумбы, над которыми зонтиком раскинулся туго натянутый тент.
— Место развлечений и отдыха? — улыбнувшись, спросил Сомов.
— Парильня! — скривился Домантович. — От казармы пышет жаром, сверху припекает, сунешься сюда днём — чувствуешь себя как карась на сковородке… Вон единственное место, где можно отдохнуть душой. — Он кивнул головой в сторону подъезда.
— А что там?
— Во-первых, и самое главное — небольшой бар. А вообще целый комбинат бытового обслуживания: лавчонка, парикмахерская, чистильщик обуви, он же сапожник.
— А вы неплохой чичероне
— А я здесь на манер квартирмейстера. Сопровождаю всех новичков.
Комната, в которую Домантович привёл Сомова, производила странное впечатление. Большая и длинная, в два света: вверху, под самым потолком, четыре узких оконца напротив двери и два обычных окна на левой стене.
— Нечто вроде модернизированного каземата, пошутил Сомов.
— Там улица, — коротко пояснил Домантович, глазами указывая на окна-бойницы, и уже иным, деловым тоном спросил: — Вы хотите поближе к окну или подальше?
— Если можно, поближе, всё-таки воздух.
— Тогда занимайте вот эту — первую от входа. Вещи можете положить в тумбочку стола, он полностью в вашем распоряжении… А теперь отдыхайте…
Козырнув, Домантович вышел.
Теперь Сомов мог внимательно осмотреть свою новую обитель. Два ряда коек, выстроившихся вдоль стен, между ними маленькие однотумбовые столики, на каждом чернильница… Бельё и одеяла приличные… Остроумно: спинка кровати в ногах приспособлена под вешалку для одежды… В глубине комнаты у стены круглый стол, верно для общего пользования. Газеты. Несколько брошюр. И все, конечно, о прелестях «свободного мира». А вот и рассказы «беглецов с востока». Здесь думают не только о плоти, но и о духовной пище. Любопытно. Придётся просмотреть все это… Но прежде всего надо привести в порядок собственные мысли. Удачно ли произошло его «приземление» в лагере бывших власовцев?
Тот, кто назвал себя Сомовым, придирчиво обдумывал каждый свой шаг, каждый поступок. Кажется, все правильно. Даже лучше, чем можно было ожидать. Острая стычка с Протопоповым, безусловно, сыграет роль лакмусовой бумажки — поможет распознать расстановку сил, а главное, напасть на след человека, стремящегося вернуться в Советский Союз и, возможно, уже установившего связь с комиссией по репатриации. Вместе им будет легче обезвредить Протопопова, помешать осуществлению коварных замыслов Думбрайта, Нунке и тех, кто за ними стоит.
Решив, что старт взят верно, Григорий разделся и в одних трусах лёг в постель. И только коснувшись головой подушки, понял, как безмерно устал. Несколько часов полёта, сорокакилометровое путешествие на автобусе от Мюнхена, стычка с Протопоповым, нервное напряжение, которым сопровождалось его перевоплощение в Сомова, — все давало себя знать.
Но отдохнуть не пришлось. Не успел он задремать, как кто-то тронул его за плечо. У кровати стоял уже знакомый майор — один из партнёров Протопопова по игре в домино.
— Мистер Хейендопф приглашает вас к себе.
— Как к нему пройти?
— Мне поручено вас сопровождать.
Проходя по двору, мимо арки-подъезда, Сомов мимоходом прикоснулся рукой к щеке. Надо побриться! Как хорошо, что он не взял с собой бритвы. Теперь есть повод лишний раз выйти из казармы. Надо было расспросить Домантовича о распорядке дня, а то майор неразговорчив.
Всё же Сомов попытался завязать с ним беседу.
— Давно ваша группа находится здесь?
— Сопровождая вас, я выполняю служебное поручение, но это не означает, что между нами возможны какие-либо отношения, кроме официальных, — сердито буркнул тот. — Я просил бы это запомнить!
— Вас я, кажется, ничем не обидел… Что касается Протопопова…
— Предупреждаю: моего самого близкого друга!
— Тем хуже для вас.
— Щенок! Так разговаривать со старшим боевым офицером? Да знаете ли вы, что я пять раз ранен, что я… что Протопопов… — захлёбываясь словами, майор вплотную подступил к наглецу.
«Боевой офицер! Пять раз ранен! За кого же ты кровь проливал, мерзавец!» — хотелось крикнуть Григорию, но он холодно сказал:
— А у меня одиннадцать ранений и почти столько же наград! Что такое боевая дружба, я знаю не хуже вас! Только я никому, даже другу, не позволю навязывать мне свои взгляды и убеждения.
Ничего не ответив, майор поднялся на крыльцо у ворот и, пропуская Сомова вперёд, указал:
— Кабинет налево!
Комната, куда секретарь впустил Сомова, меньше всего походила на служебное помещение или даже частный кабинет. Ковры и картины по стенам. Множество столиков, тумбочек и полок, заставленных посудой, статуэтками, старинными часами. Прямо на полу в углу навалом книги в дорогих переплётах. Создавалось впечатление, что через несколько дней в этой комнате откроют антикварный магазин.
Хозяин кабинета, в одной майке, в форменных брюках американского офицера, сидел у старинного письменного стола и с помощью лупы рассматривал какую-то крохотную безделушку.
— Сомов? — на чистейшем немецком языке спросил он.
— Да.
— Мне не очень нравится ваш внешний вид. Хейендопф, отложив лупу, смерил Сомова взглядом с головы до ног, словно и впрямь проверял, все ли у того сделано по форме.
— А мне не нравится ваш вид, — спокойно заметил Сомов, зная, что это пароль.
— Семьдесят…
— И три… — докончил Сомов
— 0'кей! Устраивайтесь хотя бы в том кресле и, пока я разберусь с этой чёртовой геммой, займитесь бутылками. Надеюсь, подберёте что-нибудь по вкусу… Тьфу! Честное слово, ничего не пойму! Снова, кажется, влип! Как вы думаете, это действительно ценная вещь или копеечный сувенир под старину?
Хейендопф протянул Сомову лупу и почти прозрачный прямоугольник дымчато-чёрного агата, словно подсвеченный изнутри красной искоркой. На гладко отполированную поверхность камня была нанесена тонкая резьба.
Сомов пожал плечами.
— Признаться, я не знаток. Слышал лишь, что в Германии, кажется, в Богемии и Саксонии, существовало много фабрик, которые не только шлифовали агаты, но искусно их подкрашивали. Возможно…
— Выходит, влип! Видел же, что старая песочница прячет глаза! Начало восемнадцатого века! Печать самого Фридриха II, великого магистра.
— Здесь действительно вырезано нечто напоминающее масонские знаки: циркуль, угольник, молоток… Цифра 7 или З… Резьба немного стёрлась, а по краю вырезан девиз. Камень со щербинкой .. Странно, щербинка только вверху, именно там, где надпись, хотя следы от снятой оправы видны вокруг всего камня. С раритетами так не поступают.
Взяв обратно агат и лупу, Хейендопф швырнул их в ящик. Губы его обиженно оттопырились, кожа на лице пошла розовыми пятнами.
— Со всей этой рухлядью можно и своего лишиться, — раздражённо воскликнул он, показывая глазами на вещи, украшавшие комнату, и без перехода, уже совсем сердито добавил:
— Передайте вашим, что в любом деле необходима прежде всего точность! Каждое первое и шестнадцаюе, согласно договору, я должен получать награду. Сегодня восемнадцатое…
В дверь постучали.
— Ну? — крикнул Хейендопф недовольно.
Секретарь пропустил в кабинет курьера с почтой, полного низенького негра.
Тот положил на стол несколько газет, кипу писем и маленькое уведомление на получение денег.
— О-о! — обрадовался Хейендопф — Напрасно я волновался, всему виной почта! Будем считать, что я ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Милая тётушка Рози, которая посылает мне эти трогательные знаки внимания, может и обидеться…
— Рози? — удивился Сомов и, тотчас поняв в чём дело, рассмеялся — Насколько мне известно, она дама достаточно пунктуальная.
Кивком головы отпустив курьера, Хейендопф отодвинул в сторону бумаги и склонился к Сомову.
— Чем я могу быть полезен, не в общем плане, а конкретно? — спросил он деловито, когда они остались с глазу на глаз.
— Пока ничем! Надо прежде ознакомиться с людьми и обстановкой
— Но я не люблю получать деньги даром, — возразил Хейендопф. — Что же касается людей, я могу дать исчерпывающую характеристику — сброд. Признаюсь, чем скорее я от него избавлюсь, тем спокойнее будет у меня на душе. Как-никак, а я тоже рискую, если не головой, то положением. Вы с первого же дня повели себя странно. Вместо того чтобы завоевать благосклонность вожака, столковаться с ним, вы… Нет, никак не могу похвалить вас за стычку с Протопоповым!
— Прежде чем вывезти группу, я должен раскрыть советского агента, который надёжно в ней замаскировался. Не забывайте об этом! Моя драка с Протопоповым первый шаг к тому!
— Выходит, вы нарочно спровоцировали её?
— Я рассчитывал только на ссору, но обстоятельства решили за меня! Теперь дичь сама пойдёт на приманку, которой я для неё являюсь!
— Вы не боитесь, что Протопопов вас… того… Хейендопф сделал красноречивый жест рукой, — устранит, мягко говоря.
— Это уже ваша забота — побеспокоиться о моей безопасности!
— Я не могу вам её гарантировать! Троих, которые только обмолвились о возвращении, Протопопов отправил на тот свет… Один умер от каких-то «колик», другой якобы спьяну вывалился из окна, ещё один скончался от внутреннего кровоизлияния.
— Мистер Хейендопф, — голос Сомова звучал холодно и властно. — Вы заместитель коменданта лагеря, и вмешиваться в ваши служебные дела я не имею права. Но я вправе требовать, чтобы вы всячески способствовали выполнению возложенной на меня миссии. Надеюсь, понятно, что заключённый с вами договор считается нарушенным, если со мной что-либо случится? Именно эти переводы от тётушки Рози достаточно красноречивые документы, чтобы скомпрометировать вас?
Хейендопф побледнел, в глазах промелькнул испуг.
— Я, конечно, приму все меры, но… не могу же я все предвидеть… Бывают такие стечения обстоятельств, когда .. Чёрт побери, ну и влип же я!
— Не очень, если хорошенечко обмозговать! У вас в руках власть, надо пользоваться ею разумно! Именно за это мы и платим вам деньги. Кстати, мне поручено передать вам, что в случае успеха вы получите пять тысяч долларов премиальных.
Хейендопф свистнул.
— Неплохо! Они не скупы, ваши парни!
— Мистер Думбрайт звонил вам?
— Полчаса назад! Приказал передать, чтобы вы ежедневно через меня информировали его о ходе дела. Думбрайта беспокоят сведения, полученные в городской военной комендатуре.
— Какие именно?
— Вчера снова пришёл письменный протест советской комиссии по репатриации. Они настаивают на своём утверждении, что ваше командование сознательно прячет группу бывших власовских офицеров. И если первое заявление было необоснованным, то теперь точно указано, что наша группа содержится в районе Мюнхена. Таким образом…
— Вы хотите сказать, что может быть получено третье письмо-протест, в котором уже точно будет указан адрес и фамилии?
— Боюсь, что это может случиться.
— Кто из группы Протопопова имеет связь с городом?
— Выход за ворота лагеря строго воспрещён.
— Переписка разрешена?
— Нет.
— Кто-нибудь из власовцев встречается с людьми, бывающими в городе?
— Тоже нет.
— У кого хранится список группы?
— У меня и Протопопова. Но сегодня утром я приказал сменить фамилии на прозвища. С завтрашнего дня даже в частных беседах все будут обращаться друг к другу согласно приказу.
— Боюсь, что поздно!
— Возможно. Единственный выход — скорейшая эвакуация группы.
— А вместе с нею и того, кто только и мечтает о связи с советскими властями? Ведь он может провалить все дело!
— Вы правы… К сожалению, правы… И всё же надо поторопиться.
— А я, кажется, не теряю времени.
— Вы о Протопопове? — Хейевдопф рассмеялся. Теперь, когда я понял, в чём дело… Да. Здорово у вас получилось! Я прямо в восторге! Люблю парней, которые умеют драться!
— Я думал, вы больше интересуетесь искусством!
— Вы об этом? — Хейевдопф брезгливо поморщился, кивнув на бронзовую скульптуру фавна, стоящую на краешке стола. — У меня уже в печёнках весь этот хлам, меня тошнит от него. Так бы и выбросил все на свалку.
— Тогда я ничего не понимаю!
— Спрос! Проклятый спрос! У нас все прямо с ума посходили — подавай им всяческую старину! Как же тут не воспользоваться ситуацией? Появился шанс чего-то достичь — не зевай! Не брезгуй! Если у тебя маленькая ремонтная мастерская, неоплаченные счета, жена, которая надувает хорошенькие губки, потому что ты не можешь купить ей манто из настоящей норки, — подбирать бизнес по вкусу не приходится.
Хейендопф так искренне жаловался на обстоятельства, заставившие его взяться за немилый сердцу бизнес, что Сомову стало смешно и противно. И вместе с тем он почувствовал облегчение. Чтобы получить пять тысяч долларов премии, такой не побрезгует ничем на свете, не пощадит ни сил, ни времени, только бы как можно скорее и с наименьшим для себя риском достичь цели.
Действительно, воцарившееся вслед за тем молчание не было обычной паузой в разговоре. По всему видно: заместитель начальника лагеря сосредоточенно обдумывал, как приняться за дело, чтобы поскорее его завершить.
— Хорошо! Безопасность я вам гарантирую! Ручаюсь! — сказал он уверенно.
— Инсценирую следствие по делу тех троих, которых он поторопился убрать, и так его прикручу, что Протопопов сам станет вашим ангелом-хранителем.
— Это значительно упростит и облегчит мне работу.
— Чем ещё могу быть полезен? Конечно, вам понадобится список всех, кого вам надлежит вывезти. Я уже приказал…
— Упаси боже, никакого списка! Зачем иметь при себе такой компрометирующий документ? Относительно этого мы с Думбрайтом придерживаемся одного мнения. Но с анкетными данными и характеристикой каждого члена группы я хотел бы ознакомиться. Это поможет в поисках. Вы не возражаете, если я просмотрю их сегодня?
— Каждый час нашего промедления — выигрыш во времени для красных. Останемся тогда оба в дураках. Стоит им предъявить список… достаточно даже того, чтобы он к ним попал. Тьфу! Ну и повезло же мне! Им, конечно, легко загребать жар чужими руками, а в случае чего — отвечать мне…
— Кому им?
Поняв, что у него вырвалось неосторожное слово, чуть бросившее тень на его высшее начальство, Хейендопф с преувеличенной сосредоточенностью стал возиться с сейфом.
— Вот! — сказал он наконец, кладя на стол обычную канцелярскую папку. — Начнём по алфавиту?
— Конечно. Так мы по крайней мере никого не пропустим. С вашего разрешения я запишу некоторые интересующие меня сведения. Я неплохой стенографист, и мои записи не задержат вас. Потом я, конечно, их уничтожу. Или передам вам…
«Анохин, Павел Яковлевич, — прочитал Хейендопф, — тысяча девятьсот шестого года рождения, уроженец села Марковка, Курской области. Был завснабом артели „Кожгалантерея“ в городе Орле. Беспартийный. Осуждён на пять лет за подделку финансовосчетных документов. В армию Власова поступил в 1943 году. Быстро продвинулся по службе от рядового до старшего лейтенанта. Близких родственников на территории России не имеет. Любит широко пожить. К советской власти относится резко отрицательно».
«Антоненко, Василий Свдорович, тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения. Уроженец села Солоне. Днепропетровской области. Там же работал старшим механиком тракторно-ремонтной мастерской. Родители в своё время раскулачены. Сам репрессиям со стороны советской власти не подвергался. В армию Власова завербован в лагере для военнопленных. Войну закончил в чине капитана. За храбрость, проявленную в боях, немецким командованием награждён орденом Железного Креста второй степени и медалями. На территории России остались жена и сын, об их судьбе он ничего не знает, да и не интересуется. Категорически возражает против возвращения в Советский Союз».
«Сорокин…»
Сомов внимательно вслушивался в чтение Хейендопфа, иногда останавливал, иногда удовлетворённо хмыкал, просил повторить. Вскоре заместитель начальника лагеря стал откровенно зевать.
— Может, продолжим завтра? — спросил он, закинув руки за голову и потягиваясь всем телом. — Вчера, знаете ли, подцепил в кабаре эдакую курочку
— она так настойчиво вокруг меня увивалась, что… Короче, заснули мы только около пяти, а в семь я должен был вернуться в казарму. К слову сказать, без гроша в кармане…
— Я могу одолжить вам в счёт премии сотню долларов…
— Э, нет! Никаких долгов! Иначе я вернусь домой с тем, с чем ушёл.
— А как же курочка?
— Пусть убирается ко всем чертям! Пусть ищет других дураков, кого-нибудь из тех, у кого текущий счёт в банке, а за спиной состоятельный папочка… Так отложим до завтра?
— Дайте я быстренько просмотрю список, а завтра вы дадите короткую характеристику на каждого. Того, что есть здесь, явно недостаточно.
— О, пожалуйста! А я пока ознакомлюсь с тезисами доклада сегодняшнего лектора. Черт бы его побрал имеете с его лекцией!
— Вас даже посещают лекторы?
— Все для этого сброда. Какой-то капитан Бломберг, будто бы бежавший из русского плена.
— Выходит, связь между власовцами и внешним миром всё-таки существует?
— Будьте спокойны: этот тип в десяти водах мытперемыт. И поёт словно по нотам. Вечером сами услышите.
…Через полчаса Сомов снова пересекал двор, направляясь к себе в казарму. Под тентом уже толпилась небольшая группа людей в полувоенной, полугражданской одежде. Они живо о чём-то беседовали. Заметив среди них майора, Сомов понял: верно, этот тип создаёт общественное мнение, сколачивает блок против дерзкого «новичка».
Может, подойти? Дать понять, что он считает себя равноправным членом группы и не боится ни майора, ни Протопопова? Наверно, о его утреннем столкновении уже знают все, а это не может не произвести впечатления. Таким, как эти, импонирует грубая сила, они подчиняются ей быстрее, чем доводам рассудка.
Однако не только тело, но и мозг требовал отдыха. Нот сами несли Сомова р дальний угол двора, к двери, за которой ожидал его временный приют.
Вытянуться на кровати! Погрузиться в спасительный глубокий сон! Только он и способен вырвать Григория из этого страшного чужого мира.
То, что в комнате может быть посторонний, не приходило в голову. Память зафиксировала пустую комнату с длинными рядами коек. Такой она и возникла сейчас в воображении. Тем сильнее оказалось разочарование, когда он понял, что остаться одному не удастся.
— О, нашего полку прибыло! — приветствовал его длинный смуглый капитан, лениво спуская с кровати ноги в сапогах и стягивая при этом край одеяла. Рад! Не тому, конечно, что увидел именно вас, а от свойственного двуногой твари злорадства: приятно, знаете ли, видеть, что ближнему повезло не более, чем тебе… — Чёрные колючие глаза с насмешкой впились в Сомова.
— Если мерить этой меркой, поводов для радости у вас предостаточно. Здесь, кажется, собралась большая компания.
— Скорее малая, чем большая. Хотелось бы видеть рядом с собой тех, по чьей вине я влип в эту историю. Проигрыш в игре надо делить поровну.
— Не слушайте капитана Самохина! — вмешался маленький кругленький человечек с такими бесцветными волосами, что они казались просто белыми. Он либо вливает в себя шнапс, джин, виски, бренди, либо выливает на первого, кто подвернётся под руку, излишек желчи! Перманентное состояние!
— А твоё перманентное состояние, остолоп, подхрюкивать каждому, с кем сведёт судьба. Просто так, на всякий случай, — вдруг перепадут объедки.
Тот, к кому относились эти слова, покраснел так, что даже кожа на голове, просвечивающая сквозь короткие и редкие волосы, стала розовой. Между припухшими веками, казалось совсем лишёнными ресниц, сердито блеснули маленькие, узко прорезанные, мутно-серые глазки. Человек действительно напоминал откормленного кабанчика, который, проталкиваясь к кормушке, вот-вот хрюкнет.
Капитан подмигнул Сомову.
— В жизни бывают странные совпадения. Рекомендую. Николай Николаевич Кабанец. Свинство, так сказать, унаследованное от далёких предков и увековеченное для потомков.
— Это… это… чересчур даже для вас… Я офицер, слышите, офицер, и я буду требовать… настаивать… пусть суд чести, да, суд чести… — слова срывались с дрожащих губ Кабанца беспорядочно, он словно захлёбывался ими, брызжа слюной и всхрапывая.
— Завели! — донеслось из глубины комнаты.
Только теперь, когда с одной из коек соскользнуло одеяло, Сомов заметил, что в комнате есть ещё один свидетель разговора. Его гигантская фигура мигом заполнила комнату и потому потолок сразу стал как бы ниже, проход между кроватями уже.
Богатырь стоял насупившись, ни одного слова не сорвалось больше с его губ. Но двое, затеявшие ссору, мигом притихли: капитан снова вытянулся на кровати, Кабанец, втянув голову в плечи, направился к двери.
Немного растерявшись, Сомов подыскивал слова, чтобы как можно проще поздороваться с этим новым соседом по казарме. Но тот скользнул по нему таким отсутствующим взглядом, что стало ясно: трогать его не следует, человек все равно сейчас ничего не увидит и не услышит.
В комнате воцарилась тишина. Капитан вытащил из-под подушки флягу, отхлебнул из неё и, сладко зевнув, закрыл глаза. По тому, как обмякли черты его лица — вся кожа обвисла, словно стекая вниз между складками и морщинами,
— чувствовалось, что сон сморил его сразу, как только он закрыл глаза.
Искоса поглядывая на гиганта, всё ещё стоявшего в проходе, Сомов тоже стал готовиться ко сну. Фигура, высящаяся у него за спиной, чем-то раздражала, сковывала движения. Ну, чего он торчит там посреди комнаты? Уставился глазами в пол, словно хочет чтото прочесть на нём… Ну и вымахал парень! А какие плечи! Недаром у этих гавриков сразу отнялся язык. Такому под горячую руку не попадайся… Всё-таки зачем он стоит? Может, заснул стоя?.. Не очень-то приятно раздеваться, когда кто-то торчит у тебя за спиной!
Сняв туфли, Сомов нарочно изо всей силы швырнул их под кровать! Гуп! Гуп! Чудак, стоявший в проходе, вздрогнул, подобие улыбки промелькнуло у него на губах, плечи чуть опустились.
— Вы того… не обращайте внимания… спите себе! Я тихонько… только посижу минутку, а то голова у меня… А потом тоже лягу… Бывает, зовёшь, зовёшь сон, а его нет как нет… Мне бы хоть вздремнуть… — потирая лоб, здоровяк повернулся и потопал к своей кровати, так и не выпрямившись, бессильно свесив руки вдоль тела.
Укладываясь, Григорий подумал: как часто теперь сон бежит и от него. Раньше такого не бывало. Он мог заставить себя уснуть в любых обстоятельствах, просто как бы поворачивал выключатель и мигом отключался от забот, опасностей, волнений. Ведь сон — тоже оружие, помогающее быть в форме. Неужели он утратил эту способность? Но почему? Потому ли, что оказался один в логове врага? Но ведь так было и тогда, когда, перевоплотившись в Генриха фон Гольдринга, он в одиночку раскрывал тайну подземного завода и много других секретов коварного и хорошо подготовленного к войне врага. Оказавшись во вражеском логове в годы войны, он тоже был совершенно одинок. Так, да не так… Тогда он выполнял поручение Родины и, как далека она ни была, ощущал свою неразрывную с ней связь, считал себя бойцом многомиллионной армии своего народа. Да и был ли он действительно одинок? Тысячи незримых друзей — французских маки, итальянских партизан — протягивали ему руку помощи. А теперь? Нет даже уверенности, что правильно поступил, когда сам, на свою ответственность, вмешался в такое трудное и опасное дело… Без связи с Родиной, без единой дружеской руки! Как отнёсся бы к его решению Титов? Что подумает он, узнав о таинственном исчезновении Григория Гончаренко? Сочтёт его погибшим или, может… — по коже пробежал мороз. Нет, нет, этого не может быть! Слишком хорошо Титов знает его, да и другие сотрудники отдела тоже. Разве не доказал он всей своей жизнью, что во имя Родины, во имя светлых идей коммунизма он готов пройти сквозь самые страшные испытания, преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности, на каждом шагу, каждое мгновение заглядывая смерти в глаза.
Если б была хоть малейшая возможность подать весточку Титову! Проезжая через Мюнхен, он мог обратиться в советскую миссию по репатриации, и теперь всё было бы хорошо. Как ни внимательно стерегли его, а в большом городе всегда можно замести след, незаметно ускользнуть. Но имел ли он право думать только о собственном спасении? Узнав о планах Думбрайта и его хозяев, тихонько отойти в сторону — меня, мол, никто не уполномачивал вмешиваться в это дело? Ведь разумом, сердцем, всем существом своим Григорий чувствовал: он обязан до конца разузнать все о деятельности террариума вблизи Фигераса, найти способ обезвредить это гнездо. То, что один из шпионских центров расположен именно в Испании, во франкистской Испании, безусловно, очень выгодно врагу. Официально к школе «рыцарей благородного духа» придраться нельзя. Католическая организация, проповедующая католицизм в восточных странах, и только. Этот Нунке все предусмотрел. Но аппетит возрастает во время еды. Если раньше он думал только о том, как сберечь кадры бывших фашистских разведчиков для фатерланда, то теперь замахнулся шире: мечтает, что возглавляемая им школа станет международным центром агентурной борьбы с Россией — не менее.
В силу сложившейся ситуации попасть в это логово и бежать? О нет! Григорий не имеет права так поступить. Он будет Фредом Шульцем, Сомовым, чёртом, дьяволом, но весь свой ум, все способности, накопленный опыт употребит, чтобы изнутри взорвать этот змеиный рассадник вблизи Фигераса. Придёт время, он найдёт способ связаться с Родиной, подать о себе весточку, предупредить о планах, которые вынашивают хозяева Думбрайта и Нунке.
Надо только задание с вывозом власовцев выполнить с минимальным вредом для Родины, одновременно укрепив к себе доверие со стороны Нунке и Шлитсена.. Хитрец этот Шлитсен. Перед самым отъездом на аэродроме он как бы невзначай бросил: «Надеюсь, мы ещё увидимся» И улыбнулся. Явный намёк, что Сомов-Фред может не возвратиться.
Вот и просчитался. Григорий вернётся! Обязательно вернётся. Но прежде…
Перевернув горячую подушку, Гончаренко закрыл глаза. Точка! Не смей сейчас думать! В самолёте ты имел право прикидывать так и эдак, составлять планы, обдумывать варианты. Теперь же, когда ты подошёл к делу вплотную, голова должна быть ясной. Давай лучше послушаем, что выстукивают колеса вагона, в котором ты как будто едешь: ты — Со-мов, ты — Со-мов, ты — Со-мов…
Он очнулся. Кто-то бесцеремонно тряс его за плечо.
— Сомов! Слышите, Сомов! Так можно царство небесное проспать, а ужин и подавно.. Благодарите судьбу, что я зашёл за папиросами и увидел вас…
— Я .. это вы, Домантович? Вы, кажется, неплохой товарищ. Неужто я столько проспал? Только сейчас понял, как проголодался…
— Поторопитесь, все наши уже поужинали. А бар из-за этой проклятой лекции тоже закрыт.
Домантович присел на пустую уже кровать капитана и деликатно отвернулся, давая Сомову одеться.
— Я готов… Можем идти. Погодите, а как быть с этим малюткой? — Сомов кивнул в сторону кровати, на которой, отвернувшись к стене, лежал здоровяк… Он, верно, тоже не ужинал? А такому остаться без еды…
Домантович только махнул рукой.
— На Середу опять нашло, — пояснил он, уже стоя на ступеньках. — То парень как парень, правда, мрачноватый и не очень разговорчивый. Но людей не сторонится… А то — просто не подступись, такой бешеный. Повернётся ко всем спиной и лежит, уставившись в стену. Затосковал, верно. С такой силищей, и без дела! Ему бы топор в руки да лес валить… или саблю да в чисто поле… Эх, засунули нас в этот каменный мешок, черт бы их всех побрал, и сиди! Жди, пока тебя ещё куда-то перебросят…
Когда Домантович и Сомов пришли в столовую, там уже было пусто. Остывшие бобы с тушёнкой вязли на зубах, оставляя на небе неприятную плёнку, и Сомов с удовольствием запивал их жидким, но ещё тёплым кофе.
— Ну, что, пошли на расправу? — обратился к нему Домантович.
— Вы думаете, будет расправа?
— А вы надеялись, что столкновение с Протопоповым на этом закончилось?
— Ну, будь что будет! — решительно бросил Сомов и направился к двери.
ВОРОНЬЁ СОБИРАЮТ В СТАИ
Выезжая в Мюнхен, Гончаренко довольно скептически относился к опасениям Нунке, что в группу бывших власовцев пробрался советский агент. Один процент против девяноста девяти, что это так. На то, что Гончаренко удастся с ним связаться, передать сведения о себе и проинформировать о деятельности школы вблизи Фигераса, шансов не больше. Впрочем, он учитывал и этот один процент, обдумывая по дороге план будущих действий, категорически заявив о своём намерении вернуться на Родину, он тем самым как бы подаст сигнал о себе и посеет смятение в группе. Во что бы то ни стало надо расколоть её и не дать школе «рыцарей благородного духа» получить такое значительное пополнение, как эти власовские головорезы.
И теперь, направляясь на лекцию какого-то Бломберга, он радовался, что сможет увидеть всю группу сразу, а возможно, и поспорить кое с кем.
Гончаренко поглядел на северную сторону двора и увидел в открытом окне лицо Хейендопфа.
«Значит, в случае нового столкновения с Протопоповым помощь будет « — промелькнуло в голове.
— Добрый вечер! — поздоровался Гончаренко-Сомов, подходя к толпе.
Ответило только несколько человек. Остальные неприветливо, исподлобья поглядывали на новичка. Тот с беззаботным видом прошёл мимо двух рядов скамеек и уселся на краешек последней.
Пересекая двор, к собравшимся на лекцию приближался Протопопов, пропуская вперёд долговязого человека, одетого в болтающийся, словно на вешалке, штатский костюм.
— Рекомендую, пан Черногуз. Герр Бломберг, выступление которого было объявлено сегодня, не смог прийти, — громко сказал Протопопов и, опустив голову, уселся на один из двух стульев, стоявших возле маленького столика.
Пан Черногуз не принадлежал к числу докладчиков, способных с первых же слов захватить аудиторию, умеющих меткой, к месту сказанной остротой пробудить у уставших слушателей угасший интерес. Он говорил гладко, свободно, но без подъёма. Видно было, что доклад этот он делает не впервые.
Уже после первых слов оратора стало ясно, куда он гнёт: Черногуз приехал вербовать добровольцев в отряды украинских националистов, собирающих силы для «небом благословенной борьбы» с большевизмом.
Докладчик подробно и туманно говорил об успехах, якобы одержанных отрядами, вступившими в борьбу, и всячески расхваливал население Западной Украины, готовое поделиться последним куском хлеба, снять последнюю рубаху ради своих «освободителей».
Сомов внимательно наблюдал за аудиторией. Позы присутствующих, откровенные зевки, приглушённое перешёптывание — все свидетельствовало, что слушают доклад краем уха, а то и вовсе не слушают.
Оживились слушатели только тогда, когда Черногуз заговорил о материальной стороне дела. По его словам выходило, что каждый офицер, в зависимости от звания, будет получать жалование такое же, как в немецкой армии. Половина — в долларах — кладёте на личный счёт в банке, а половина выдаётся советскими или немецкими деньгами прямо на руки. Тем, кто немедленно согласится вступить в отряд, выдаётся поощрительная премия в размере ста долларов.
Этот раздел доклада присутствующие слушали с напряжённым вниманием. Дело в том, что в казармах азартные игры приобрели размеры стихийного бедствия. Играли в карты, в домино, даже в городки и непременно на деньги. Поэтому от когда-то награбленного, а затем проданного, кое-что осталось лишь у немногих «счастливчиков», которым везло в игре. Остальные жили подачками, продажей обмундирования и иным мелким «бизнесом».
А тут обещают сразу же премию за согласие! И целых сто долларов! Было над чем призадуматься.
К концу доклада Черногуэ приберёг самый убедительный аргумент — напомнил о полной бесперспективности для перемещённых устроиться на приличную работу. Ссылаясь на собственный опыт, он рассказал, как во время коллективизации эмигрировал в Польшу, затем во Францию, как в погоне за счастьем объехал чуть ли не весь мир, и всюду его ждали лишь одни невзгоды.
— Что будет с вами здесь, за границей?! — патетически воскликнул Черногуз. — Даже если есть среди вас специалисты, например слесари, токари, возможно, даже инженеры, в лучшем случае они не помрут с голоду, перебиваясь с хлеба на воду. А у кого нет профессии? В Африку? На шахты? Бывал я там, знаю…
И Черногуэ, не жалея красок, описывал жизнь эмигрантов, завербовавшихся на шахты или плантации.
— К вам же счастье само плывёт в руки, — убеждал он. Договор можно заключить на год, на два, на три. Вернётесь, а на счёту у каждого солидная сумма. Год, два можно жить спокойно, закончить институт, изучить язык, а то и открыть небольшую мастерскую или ресторанчик.
— Ну, как, господа офицеры, устроим перекур, а потом приступим к обсуждению? — спросил Протопопов, очевидно привыкший проводить собрания возглавляемой им группы.
— Мы же на воздухе, курить можно и здесь! — сказал кто-то из присутствующих.
По рядам прокатился одобрительный гул.
— Тогда продолжим. Вопросы к пану Черногузу будут?
— Как с обмундированием? — спросил кто-то.
— Формы там не носят. Это ведь не регулярная армия, а подпольные отряды. Одежду придётся добывать самим, одеваться так же, как местное население, чтобы не выделяться, — ответил докладчик.
— Разрешите вопрос? — Сомов высоко поднял руку.
— Спрашивает только что прибывший к нам Сомов, — многозначительно пояснил Протопопов.
Все оглянулись на Сомова.
— Скажите, пан Черногуз, если кто-либо из завербованных погибнет, кому достанутся деньги, лежащие на счёту убитого? Ведь на тот свет их не переведёшь?
Смешок пробежал среди присутствующих.
— Здесь обсуждается серьёзный вопрос. Нам некогда паясничать, — вскипел Протопопов.
— А мы не на панихиде по убиенным — мы только клидидаты в убиенные, — весело бросил Сомов и сел.
— Выходит, регулярного снабжения отряды не имеют, раз вы так надеетесь на помощь местного населения? — спросил Кабанец.
Черногуз вытер вспотевшее лицо, снова поднялся.
— Вы спрашиваете о снабжении. Но ведь на западных землях Украины скота, птицы, молока и творога хватит на целую армию. Это вас не должно волновать… Теперь о деньгах, которые останутся на счёту, если кого-либо, не дай бог, убьют. Нам известно, что вы, бывшие воины армии Власова, все в одинаковом положении. Если и были у вас когда-то в Советском Союзе семьи, то они репрессированы, а может быть, и совсем уничтожены. Таким образом, потомков и наследников ни у кого из вас нет. Поэтому центральное руководство решило: деньги, оставшиеся на счёту погибшего, пойдут на продолжение святого дела, за которое сложил голову герой. Но не станем об этом толковать. Как говорят у нас на Украине: «Живой о живом думает».
— Нет, погодите, — Середа поднялся во весь свой богатырский рост. — Как же получается, ваше центральное руководство заинтересовано, чтобы из завербованных погибло как можно больше? Так?
— Почему? — удивился Черногуз.
— А как же! Деньги получает руководство или как вы там называетесь, на них можно вербовать новых людей . Карусель какая-то!
— Садись! Помолчи! Не твоего ума дело! — зло крикнул Протопопов, стукнув кулаком по столу.
— Почему не моего ума дело? У меня своя голова на плечах! Не маленький, чтобы мной командовали.
Присутствующие, все, за исключением Сомова, были крайне поражены таким, с их точки зрения, дерзким поведением всегда молчаливого великана. Дело в том, что Середа, хотя и носил офицерские погоны, фактически выполнял при Протопопове роль ординарца-телохранителя. Так повелось на фронте, так по инерции шло и теперь. Он кормился на деньги шефа, курил его сигареты, беспрекословно выполняя за это любые поручения и приказы. Он никогда не выражал недовольства, а тем более протеста. И вдруг — Середа взбунтовался! И где? На многолюдном сборище!
Почти все, и прежде всего Протопопов, поняли: эта дерзость — результат схватки Протопопова и Сомова, из которой вожак группы вышел отнюдь не победителем.
— Ну, берегись! Мы с тобой ещё поговорим! многозначительно пообещал Протопопов, сжимая тяжёлые кулаки.
— Ты не куражься, и на тебя нашёлся кулак!
Это уже был прямой намёк на сегодняшнюю драку. Откровенный и публичный. А потому особенно дерзкий.
— Да знаешь ли ты, что я тебе сделаю? Не посмотрю, что такой вымахал…
— шагнул вперёд Протопопов.
— Эй! Протопопов, спокойно! — донеслось сверху Окрик Хейендопфа для присутствующих был ещё более неожиданным, чем бунт Середы. До сих пор Протопопов пользовался полной поддержкой лагерного начальства.
— Хватит болтать! — приказал Хейендопф. — Кто принимает предложение мистера Черногуза, пусть зайдёт ко мне! Протопопов тоже.
Все поднялись, не дожидаясь официального закрытия собрания. Поднялись, но не расходились. Вокруг Протопопова собралась небольшая группа его сторонников, которые о чём-то тихо, но живо разговаривали.
Сомов молча наблюдал за всем, сидя на скамье и покуривая сигарету.
— Не найдётся у вас закурить?
— Пожалуйста! — Сомов протянул Середе пачку сигарет.
— Середа! Сюда! — махнул рукой Протопопов, выходя из толпы и свирепо глядя на своего недавнего приспешника.
— Если я тебе нужен, подойдёшь сам, — спокойно ответил Середа, прикуривая.
— Гляди, пожалеешь! Ты ведь знаешь, я слов на ветер не бросаю! Предупреждаю! — Не дождавшись ответа, Протопопов круто повернулся и, нагоняя Черногуза, быстро направился в комендатуру.
Вслед за ним медленно и неохотно поплелись одинокие фигуры, словно колеблясь, идти им к лагерному начальству или подождать.
— А вы пойдёте? — спросил Сомов, кивнув на окно Хейендопфа.
— Ко всем чертям! Навоевался! На мои век хватит…
Середа говорил отрывисто, с сердцем. Чувствовалось, что война действительно опротивела ему до чёртиков.
— Давно воюете?
— С сорок второго .. шофёр я… начальство всю войну возил… На гражданке возле Брянска на лесозаводе работал…
— А здесь как оказались?
— Из-за этого дьявола! Обманом меня к Власову затащил, а потом уже не было возврата.
— О ком это вы?
— О Протопопове! Вы уже с ним познакомились…
— Имел такую сомнительную честь…
— И в первый же день набили морду! Ха-ха-ха!
— Мне кажется, вы и сами могли это раньше и не хуже меня сделать, — насмешливо заметил Сомов.
Середа поглядел на свои огромные кулаки и густо покраснел.
— Морду набить, конечно, мог, но только меня бы уж на свете не было. Вы не знаете, какая это гадина! Родную мать, если та встанет поперёк дороги, на плаху отдаст. Ещё увидите, ни вам, ни мне он сегодняшнего не простит… Не таков, чтобы забыть!
— Я не боюсь.
— А вы побойтесь! Протопопов не из тех, кто в открытую… Подошлёт кого-нибудь подколоть или петлю сонному на шею накинет… Сегодня он зол на вас, а тут я ещё перцу подсыпал.
— Испугались? — улыбнулся Сомов.
— С глазу на глаз я его не боюсь, а из-за угла, ночью, когда все спят… Послушайте меня, мы с вами в одной казарме, койки рядом стоят. Давайте ночью по очереди спать. Раньше, например, вы, ведь я днём выспался, потом я. А? Не думайте, что я из робкого десятка, просто знаю Протопопова как свои пять пальцев.
— Вы думаете, что он уже этой ночью…
— На том его авторитет держится… Кто возразит или заденет, сразу точка… Конец. Все это знают. Поэтому не решаются спорить. Меня ребята просили вас предупредить.
— С чего бы это? У меня здесь друзей нет…
— Протопопова ненавидят… Большинство.
— Что же, коли так, одну ночь можно и не поспать, — согласился Сомов, поняв, что Середа не стал бы его напрасно пугать.
Но в эту ночь не спал почти весь лагерь.
Те, кто записался в отряды «освободителей Украины», сразу получили по 25 долларов как часть обещанного Черногузом аванса.
Такую неожиданную перемену грех было не «омыть». А поскольку примитивный бар при казарме содержали через подставное лицо Хейендопф и его босс, то на подобное нарушение порядка, установленного в лагере для перемещённых лиц, начальство смотрело сквозь пальцы, даже поощряло.
В казарме, где помещались Сомов и Середа, сразу стало пусто. Только время от времени заглядывал Домантович.
— Вы тоже решили открыть в банке счёт для руководства? — спросил Середа, когда тот первый раз зашёл в комнату.
— Мне ни к чему! Я инженер-электрик. Не пропаду и здесь!
— Значит, провожаете друзей в «освободительный поход»? — не удержался от иронического замечания Сомов, глядя на раскрасневшееся от шнапса лицо Домантовича.
— А почему не выпить, если в кои веки подвёртывается случай?
— А он не из холуёв Протопопова? — поинтересовался Сомов, когда Домантович вышел. — Может, его нарочно послали поглядеть, не спим ли мы?
— Не думаю… Домантович в лагере недавно, а вокруг Протопопова все больше его старые дружки… Впрочем, черт его разберёт… в душу человека не влезешь, а бережёного и бог бережёт.
Сомов и Середа не спали почти всю ночь, и не потому, что так уж боялись. Просто завязался разговор. Сомов рассказывал о своих приключениях, конечно, в соответствии с заученной ещё в школе «рыцарей» легендой. Он надеялся этим вызвать Середу на откровенность и не ошибся.
— Странно, что вы того… Так о себе рассказываете. Мы здесь как волки. Горло готовы друг другу перегрызть. И все таятся. О прошлом — ни гу-гу! Каждый боится этого прошлого, хочет скрыть его даже от самого себя, забыть.
— Вы в лагере давно, очевидно, знаете многих… начал было Сомов, но Середа перебил его.
— Я здесь месяца полтора, все из разных частей, даже по фамилии всех не знаешь, а чтобы заговорить о прошлом…
— Верно, не очень-то оно светлое?
— Чернее чёрного… И у меня, и у Протопопова, да, верно, у кого ни спроси.
— Вы сказали, что давно знакомы с Протопоповым…
— А пропади он пропадом! Пусть бог, если он есть, воздаст ему за все злодеяния, а за меня особо!
Середа замолчал и так стиснул зубы, что откусил кончик сигареты, которую держал во рту.
— Ого! Верно, этот Протопопов штучка.
— Всю жизнь мне испохабил, всю душу искалечил…
— А у кого из нас она не искалечена?
— Обидно, меня словно телка глупого на верёвке в эту пакость затащили. Эх, хоть душу отведу! Или, может, вам неинтересно?
— Послушаешь о чужой беде, и своя меньшей кажется, да и ночь быстрее пройдёт.
Середа прислонился к спинке кровати, долго сосал сигарету и после паузы начал:
— Протопопов появился в наших краях года за полтора до войны. Да и прозывался он тогда не Протопоповым, а отцом Кириллом.
— Поп, что ли?
— Вроде бы поп, только сектантский… Я тогда на лесозаводе работал, зарабатывал прилично, даже жениться решил. Молодуха одна, вернее, вдова бездетная, в душу запала… Всё шло, как у людей… А потом сомнения всякие одолели… Вы ещё молодой, может, у вас так не было, а у нас невесть что творилось… Сегодня назначают нам в лесхоз нового директора, а завтра словно корова языком слизала — сел! Прибудет новый инженер или техник там, покрутится и нет. «Где новенький?» — спрашиваем друг дружку. «Забрали», — отвечает тот, кто видел… В Брянске, куда мы лес возили, не знали даже, к кому обратиться: сегодня начальник, а завтра — враг народа…
— Я то время немного помню, — сказал Сомов.
— То-то!.. Ну, и пошли среди нас, лесорубов, различные толки: что-де, мол, делается? У меня не то чтобы товарищ, а, попросту говоря, напарник был. Мишка… Отозвал он меня как-то в сторону и говорит: «Знаешь, братец, напал я на одного человека, который все как есть объяснить может и совет дать. Хочешь, познакомлю? Он в доме лесника остановился, и много людей к нему ходит! Пойдёшь?» Я согласился, будь проклят тот день! В воскресенье двинулись мы с Мишкой к леснику. Это километров восемь от нашего посёлка. Вышли затемно и пришли только солнце поднялось. А в домике лесника народу полным-полно — яблоку негде упасть.
— И Протопопов среди них?
— А как же? Вначале он вроде службу божью правил, потом проповедь стал читать… Глаза к небу, руки воздел, на глазах слезы. Ну, прямо святой, да и только!.. А говорил: «Спасайтесь, кто царствия небесного взыскует, ибо конец света приближается».
Тут женщины заголосили, некоторые, словно припадочные, попадали, бьются о пол. Я хотел поднять одну, она рядом была, да Мишка хвать меня за руку. «Не тронь, — говорит, — это на неё божья благодать нисходит…» Я тоже почему-то слезы стал утирать, сами катились… Рассказать обо всём, что там было, невозможно — самому надо видеть. Кончилось это… народ разошёлся. А Мишка меня задерживает. «Тебе, мол, надо с отцом Кириллом поговорить.. „ И поговорили, чтоб мне тогда уши заложило!.. Короче говоря, стал я каждую неделю в домик лесника ходить. То псалмы пел, то слезами умывался, то головой об пол бился… У отца Кирилла в Брянске приятель жил, тоже сектант. Бывало, везу лес в город, Кирилл и попросит к приятелю завернуть, свёрток передать, а тот тоже пересылает какие-то письма да книжечки. О женитьбе я и думать позабыл. Где уж там жениться, когда конец света приближается. Весть о войне я так и принял, как начало конца. И не я один. Бросились мы к отцу Кириллу, а он нас ещё больше в этой мысли укрепил. «Это, — говорит, — кара божья надвигается, примите её с покорностью и радостью в сердцах ваших. Не противьтесь и не воюйте…“ Меня при себе оставил, — он в то время в землянку для безопасности перешёл. Многие сектанты тогда в лесу выкопали землянки и попрятались. Да, видать, выдал кто-то. Облава была, захватили нас человек пятнадцать и в суд! Дезертиры ведь! Сидел я в тюрьме, пока немцы близко не подошли, потом, воспользовавшись паникой, бежал, в лесу укрылся, а когда немцы пришли, в город подался.
И знаете, кого я там первым увидел? Отца Кирилла! На машине. Я как брошусь к ней, как закричу. Он услыхал, остановился. Гляжу, рядом с ним немецкий офицер… Присмотрелся и чуть не вскрикнул… Тот самый приятель Кирилла из Брянска, которому я свёртки возил. Расспросил меня Кирилл, записочку написал: «Вот по этому адресу явиться завтра рано утром». И денег немного дал… Пошёл я, чтобы ногам моим тогда отсохнуть! — и… стал шофёром районного начальника полиции. Пропал как швед под Полтавой…
Середа замолчал и почему-то закрыл глаза. Сомов не нарушал молчания. Он понимал, начав исповедоваться, Середа уже выложит все. Ему необходимо выговориться.
И действительно, ещё раз закурив, Середа продолжал:
— Вот и стал я шофёром начальника полиции Юхима Протопопова. Так ведь именовался отец Кирилл… святой да божий! Видели бы вы, что он вытворял!
— И вы всё время были при нём?
Середа утвердительно кивнул головой.
— Не было мне возврата! Напоит, бывало, этот гад и говорит: «Нам теперь одно спасение — конца войны ждать. Тогда от немцев награду получим, а сейчас надо её заслуживать».
— И заслуживали?
— Не спрашивайте — больше ничего не скажу! Даже трясёт меня, когда вспоминаю, что он творил. На совести у Протопопова не десяток, — где там! — верно, не одна сотня людей. Был словно зверь лютый… А потом в армию Власова переметнулся и меня забрал.
— Почему же вы не отказались?
— Преступления связали нас, — сердито бросил великан и замолчал. То ли потому, что уже выговорился, то ли потому, что снова вошёл Домантович.
— Проигрались, верно, за поддержкой пришли? спросил Сомов, заметив, как Домантович роется в своём чемодане.
— Что-то не везёт, — неохотно буркнул Домантович и уже от двери крикнул: — А ты, Середа, чего скис? Пошли сыграем? Да и записаться ещё не поздно.
— Кому жизнь надоела, пусть записывается, а я ещё пожить хочу. Может, грязь с себя хоть немножко смою…
Гульба продолжалась всю ночь и закончилась лишь на рассвете. Сомов улёгся спать. Середа тоже лёг, но, взволнованный воспоминаниями, уснуть не мог. Прошлое стояло у него перед глазами, и сам себе он был неумолимым судьёй.
Уже две недели Григорий живёт в казарме. Две недели фактически ничего не делает. Правда, полный список группы Протопопова у него есть. Он успел не только отлично выучить его наизусть, но и зашифровать. А вот передать шифровку некому. Как ни присматривался Григорий к каждому обитателю казармы, а напасть на след нужного человека не мог. Да и существует ли такой? Если бы был, две недели достаточно большой срок, чтобы выполнить свою миссию. Но пока все спокойно. Думбрайт звонит каждый вечер, он бы предупредил об опасности. Разговор же вертится вокруг проблематичного советского агента. Вообще Думбрайт не доволен ходом дела. Что-то не ладится и у него лично. Фальшивые документы на каждого «туриста» готовы, а вот вывезти их он не решается. Во время последней беседы он даже намекнул, что в планах вывоза группы возможны некоторые изменения. Приказал быть готовым в любую минуту.
Это беспокоит Григория больше всего. Что, если придётся выехать внезапно? Так и не уведомив своих об отряде душегубов, которых собираются переправить в школу для дальнейшего «совершенствования». Если бы ему представилась возможность хоть на денёк вырваться из Мюнхена в Берлин, может, он сумел бы связаться с кем-либо из своих…
Ох, как все трудно в создавшихся условиях! Правда, Григорий вынашивает один план. Но его выполнение требует времени, сделан лишь первый шаг: Григорий предложил Хеиендопфу привести в порядок кучу антикварных вещей, что хранятся у того в кабинете.
— Понимаете, мистер Хеиендопф, — объяснил он, — то, что я часто хожу к вам, может вызвать подозрение у моих соседей по казарме. Надо иметь какой-то убедительный повод. Вам это будет только полезно, да и мне любопытно покопаться в собранных вами древностях. Я начинаю понимать вкус увлечения такими вещами. После войны хочется окунуться в прошлое, полюбоваться красотой старинных произведений искусства.
— О, мистер Сомов! Вы окажете мне величайшую услугу, сам бы я никогда на это не отважился. Ворошить этот старый хлам… Премного благодарен! От пыли истории мне хочется только чихать.. Да, да, я человек трезвого рассудка и живу современным. Над вами, европейцами, слишком уж тяготеет умиляющая нас старина. Поэтому мы и опередили вас во всём. Прошлые столетия для нас лишь удобрения, внесённые в почву, не более… О тех чудаках, которые за всем гоняются, разговор особый. Снобы! А поскольку они богаты, то таким, как я, приходится разбирать эти свалки… Честное слово, мистер Сомов, я буду вам бесконечно благодарен.
Работа по разбору «свалки» оказалась нелёгкой и кропотливой. Приходилось обращаться к каталогам личных коллекций и даже музеев, заводить карточку на каждую вещь, вносить в общий реестр. Среди приобретённого было действительно много хлама. Приходилось, по требованию Хейендопфа, сочинять фальшивые данные, придавая им вид исторического правдоподобия. Так могло тянуться до бесконечности, и Григории решил ускорить ход событий.
Придя в кабинет заместителя начальника лагеря, он, как обычно, тотчас принялся за работу. На этот раз даже с особым азартом.
— Знаете, мистер Хейендопф, — радостно провозгласил он, — через каких-нибудь полчаса вам придётся поздравить меня с успехом. И немалым. Наконец-то я узнал, кто автор этой скульптуры, что стоит у вас на столе. Выясняется, вы сделали неплохое приобретение! Фамилия «Шульце», вырезанная вот здесь в уголке, мне ничего не говорила, но, сверившись с каталогом, я установил: автор «Фавна с соловьём» входит в плеяду классиков немецкой скульптуры. Прочитайте-ка эту справку!
Хейендопф был в восторге.
— Колоссально! Я же теперь могу запросить за этого козлоногого… Погодите, а в самом деле, какую цену можно за него заломить?
— В этом вопросе я не компетентен! Но думаю, что скульптура такого класса должна стоить немало. Я бы посоветовал вам поговорить с искусствоведом.
— Здесь, в Мюнхене? Да ведь если это окажется классикой, они поднимут такой шум…
— Вы можете не объяснять истинной причины вашей заинтересованности, хотя… все искусствоведы связаны между собой, и то, что один из них продал вам «фавна»…
— Вот, вот, плакали тогда мои денежки.
— А что, если съездить в Берлин? Там было много комиссионных магазинов, можно найти кого-нибудь из бывших антикваров… И вообще, я давно собирался спросить вас: почему вы покупаете веши лишь случайные, в большинстве немецкого происхождения? Я слышал, что американцы интересуются старинными русскими иконами. Немцы немало вывезли их из России, и я уверен, что в Берлине…
— Берлин! Берлин… Не стану же я там кричать посреди площади: «Куплю русские иконы… У кого есть русские иконы?»
— В Мюнхене вам, конечно, тоже не пришлось прибегать к такому способу?
— Ну, здесь меня все знают… До сих пор мне стоило только намекнуть одному типу с чёрного рынка, задержанному нашим патрулём..
— В Берлине тоже есть чёрный рынок, на котором, безусловно, можно найти нужного человека. Поручите это мне, я с такими людьми сталкивался, ведь и мне после войны пришлось поддерживать своё жалкое существование… Погодите, погодите, если мне не изменяет память, я встретился в Берлине с однополчанином. Он продавал нечто подобное… Как же его фамилия? Грумгорн… Крумгорн… что «горн» помню, я вот первые буквы… Кажется, всё-таки не Грумгорн и не Крумгорн, а Грюнгорн. Именно так!.. Рассчитывать на то, что он остался в городе, хотя он коренной берлинец, конечно, нельзя, но… каких счастливых случайностей не бывает в жизни. Один раз я его встретил на рынке, другой раз в каком-то баре. Он отрекомендовался завсегдатаем этого злачного заведения, сказал, что принимает здесь свою клиентуру, когда речь идёт о крупном бизнесе… Попробовать отыскать можно.
— Иконы… Вы знаете, это идея! Заманчиво… В конце концов я ничего не теряю! И если ехать, то уж поскорее. Там много наших парней, и не может быть, чтобы никому не пришла в голову мысль… Боюсь, что все сливки уже сняты!
Хейендопф стал вслух обдумывать, как подъехать к начальнику лагеря, чтобы тот отпустил его хоть дня на два в Берлин.
— Сошлюсь на личные обстоятельства, скажу, что у меня там пассия, — наконец решил он. — Полковник сам сейчас ухаживает за одной певичкой и настроен лирически… Сегодня же вечером попробую закинуть удочку. Возможно, завтра и выедем.
— Боюсь, вам придётся совершать путешествие одному! Не думаю, чтобы Думбрайт разрешил ехать мне сейчас, когда вопрос с отправкой ваших подопечных вот-вот должен быть решён.
— Пхе! Проще простого доказать ему, что нам с вами именно теперь необходима его квалифицированная консультация. И повод у меня есть самый что ни на есть убедительный: посоветоваться, как вести себя с теми, кто завербовался в националистические отряды. Начальник лагеря до сих пор ни с кем не согласовал своего решения на вербовку, и, возможно, потеря нескольких человек совсем не понравится Думбрайту.
— Вы правы. Я полагаюсь на вас…
Весь вечер Григорий нервничал, не зная, чем закончится беседа Хейендопфа с начальником лагеря, а затем телефонный разговор с Думбрайтом. И вообще волновала мысль о том, как сложится все в Берлине, даже если ему и разрешат поехать. Удастся ли остаться одному часа на два, на три, чтобы устроить дело, ради которого он придумал эту поездку? Может быть, Думбрайт оставит его при себе, никуда не отпустит? А что, если вообще не удастся проникнуть в восточную зону? Все эти опасения изматывали больше, чем непосредственная опасность, и Григорий наутро поднялся совершенно измученный.
К тому же вечером в казарме произошла драка. Потерпевшие поражение в войне, запертые в глухом лагере, без перспектив на будущее, власовские офицеры жили по-скотски. У кого были деньги, те напивались с утра, несколько часов спали, а затем снова отправлялись в бар и снова напивались. У кого денег не было, прислуживали «счастливчикам» за игрой в карты, бегали за шнапсом, выполняли отдельные мелкие поручения. С появлением Черногуза у многих появились деньги, соответственно увеличилось и количество драк. Вчерашние лакеи, шелестя только что полученными купюрами, с мечтательной радостью старались задеть побольнее тех, кому прежде прислуживали. Тем более, что все они надеялись на скорый отъезд и свою полную независимость от «верхушки» в будущем.
На этот раз столкновение было особенно острым и драка разразилась жестокая. Протопопов, которого Хейендопф в последнее время немного приструнил, словно с цепи сорвался. Он бил, не разбирая «своих» и «чужих», мстил за своё унижение, за неудачи последнего времени, за положение фактического узника, в котором очутился. Григорий ожидал, что Протопопов вот-вот набросится на него, ему даже пришло в голову, что сама драка затеяна с этой целью. В общей потасовке легко спрятать концы в воду, свалить вину на другого. Но, заметив могучую фигуру Середы, выросшую рядом с Сомовым, Протопопов сразу остыл. Он теперь боялся своего бывшего подручного, всячески обходил его, чувствуя, что в драке с бывшим лесовозом один на один он непременно потерпит поражение, которое может оказаться для него фатальным.
На следующее утро Хейендопф сам явился в казарму.
— Сомов, немедленно собирайтесь, мы с вами выезжаем по не терпящему отлагательства делу! — сухо приказал он.
Через пятнадцать минут машина Хейендопфа уже мчалась по направлению к Берлину. Собственно говоря, сказать «мчалась» — значило бы допустить явное преувеличение, так как по дороге из Берлина в Мюнхен непрерывным встречным потоком двигались грузовые машины. Местами шоссе было сильно разбито. Лишь на отдельных очень коротких участках машина летела со скоростью ста километров, чаще же едва ползла.
В Берлин прибыли лишь на следующее утро и в десять были у Думбрайта в какой-то таинственной конторе, расположенной во вновь отстроенном крыле полуразрушенного дома.
Мистер Думбрайт заставил себя долго ждать. Хейендопф не решился, не повидавшись с ним, путешествовать по Берлину, и поэтому прибывшим пришлось терпеливо изучать потолок приёмной.
Явился Думбрайт только в двенадцать часов и, небрежно поздоровавшись, так, словно они накануне виделись, пригласил посетителей к себе в кабинет.
— Вчера по телефону мистер Хейендопф намекнул мне на некие неожиданные осложнения. В чём они заключаются?
Хейендопф, избегая излишних подробностей, рассказал, что под «нажимом» сверху начальнику лагеря пришлось дать согласие на вербовку власовцев для руководства отрядами националистов, которые будут вести подпольную борьбу на территории Западной Украины, и что многие перемещённые уже дали согласие вступить в отряды, даже получили аванс.
К удивлению Хейендопфа, Думбрайт воспринял это спокойно.
— Думаю, что укрепление таких отрядов для нашего дела будет лишь полезно. Оно привлечёт внимание большевиков к западным границам, и нам будет легче действовать в глубоком тылу. Меня предупреждали о таком варианте, и я согласился. Когда думаете приступить к отправке?
— В ближайшие два-три дня.
— 0'кей! А вы, мистер Сомов, что можете мне доложить?
— К сожалению, или, вернее, к радости, ничего нового. У русских есть поговорка о больших глазах от большого страха. Не помню уже, как она звучит и есть ли у нас, немцев, аналогичая, но уверен, что все подозрения о проникновении советского агента безосновагельны. За время, истёкшее после перевода группы под Мюнхен, он бы успел проинформировать о новом адресе, каким-нибудь образом передать списки. Этого не произошло. Ещё до моего приезда, как я уже докладывал, трое из перемещённых погибло. Возможно, среди них был и тот, кто раньше сообщил о группе. На эту мысль меня навело вот что: все трое в большей или меньшей степени враждебно относились к руководителю группы Протопопову, поскольку он категорически запретил всяческие дебаты о возвращении на родину. Да и гибель людей таинственная: она скорее напоминает устранение нежелательных элементов, чем естественную смерть. Думаю, что Протопопов мог бы кое-что сказать по этому поводу
— Ваши соображения достаточно убедительны, похвалил Думбрайт. — Думаю, мы можем без риска приступить к переброске группы. Сколько человек останется после отправки завербованных?
— Из пятидесяти четырех, о которыхшла речь, трое погибли. Осталось пятьдесят один. Из них двадцать три завербовались. Итак, мы имеем двадцать восемь человек, включая руководителя Протопопова, вслух считал Сомов.
— Протопопова не считайте, для него у меня особое задание. Значит, мы должны переправить двадцать семь человек. Будете перебрасывать по несколько душ. Самолёты готовы. На первом из них я сам прилечу в Мюнхен, а вы, Хейендопф, к этому времени должны укомплектовать все группы, чтобы потом без задержки отправить их к месту посадки.
— Я хотел бы, чтобы эту обязанность взял на себя мистер Сомов, — возразил Хейендопф.
— Мистер Сомов, не возвращаясь в Мюнхен, сегодня же… — Думбрайт взглянул на часы, — нет, завтра, ибо сегодня вы, Фред, не успеете! — в четырнадцать двадцать вылетите в Испанию. Самолёт летит через Париж. Во время остановки опустите эту открытку в почтовый ящик аэровокзала. Иностранный штемпель, отправь мы открытку отсюда, может привлечь к ней нежелательное для нас внимание. Предосторожность не помешает. Впрочем, содержание корреспонденции, на первый взгляд, совершенно невинно и вряд ли его смогут расшифровать. Предупреждаю, мистер Сомов, это важное поручение, отнеситесь к нему внимательно… По прибытии в школу немедленно позаботьтесь об изолированных помещениях для вновь прибывших. Нунке на этот счёт даны указания. У меня все! Есть какие-либо вопросы?
— У меня один. И даже не вопрос, а скорее просьба, — откликнулся Хейендопф, — разрешите отправиться в обратный путь не сегодня, а завтра. Я обещал полковнику Гордону вернуться немедленно, но понимаете…
— Хочется развлечься? — впервые улыбнулся Думбрайт.
— Конечно, и это. Если удастся управиться с делами.
— У вас ещё какие-то дела в Берлине?
— Абсолютно личного характера, маленький бизнес.
Думбрайт искренне расхохотался.
— Каждый, оставшийся в оккупированной зоне, мечтает вернуться домой миллионером… Узнаю наших ребят!.. И, признаться, хвалю. Деловая хватка, чёрт побери, это тоже талант… Что же, мистер Хейендопф, быть по-вашему. В случае чего можете сказать добряку Гордону, что задержал вас я. Только обещайте выехать не позже завтрашнего утра.
— Бесконечно вам признателен, мистер Думбрайт!
В наспех восстановленную и до отказа набитую гостиницу Хейендопф вернулся в прекрасном настроении.
— Так с чего начнём, мой добрый гений?
— С разведки, конечно. Если вы подождёте меня здесь часок…
— А может, пойдём на розыски вместе? — робко, даже льстиво предложил Хейендопф.
— Чтобы испортить все дело? Ваша форма привлекает внимание: как-никак, а вы завоеватель. Я же в штатском и по происхождению — вы это знаете немец. Меня не будут остерегаться.
— Так-то оно так… Но я заболею тут от нетерпения! Вы хоть не задерживайтесь больше чем на час… честное слово, я тут места себе не найду!
Сомов не возвратился ни через час, ни через два. Он пришёл к страшно взволнованному Хейендопфу только в восемь часов вечера, ещё более возбуждённый и радостный, чем уходил.
— Все хорошо. Повезло! Получите такие раритеты, что всю жизнь будете меня вспоминать. Вот вам адрес — завтра ровно в четырнадцать вы зайдёте в эту квартиру. Вас встретит старичок, и вы спросите: «Фрау Эльза дома?» Он ответит: «Вы от Карла? Заходите!»
Смело идите за ним в подвал. Иконы я отобрал. Восемнадцать штук, о цене не договаривался, торгуйтесь по поводу каждой, хотя мне кажется, что дорого он не запросит: по всему видно, бедняга в трудном положении. Очень жаль, что мой самолёт вылетает в четырнадцать двадцать. Вдвоём мы бы это дело провернули быстрее… А теперь спать…
На следующий день Хейендопф выехал из Берлина не утром, как обещал Думбрайту, а лишь в пять часов пополудни. Это его немного смущало, но не могло испортить чудесного настроения, на заднем сидении лежали все восемнадцать икон. К счастью, он не знал, что везёт несусветный хлам, наспех собранный друзьями того, кого он знал как мистера Сомова.
А Григорий Гончаренко в это время уже сидел в ресторане аэропорта «Орли» под Парижем, опустив в почтовый ящик открытку мистера Думбрайта с немного подпорченным текстом. Попробуй придерись! Ведь каким только превратностям не подвергается корреспонденция, попадая в руки неаккуратных почтальонов!
БУДНИ ШКОЛЫ «РЫЦАРЕЙ БЛАГОРОДНОГО ДУХА»
Короткое пребывание в Париже выбило Гончаренко из колеи. Прошлое приблизилось вплотную. Словно время перешло в какое-то другое измерение и с бешеной скоростью помчалось вспять, к тому самому дню, когда телеграф принёс весть о смерти Моники.
Текст телеграммы навечно запечатлелся в памяти Григория, но теперь он снова увидал узенький светло-голубой бланк с чёрными, почти выпуклыми буквами, которые прыгали перед глазами, расплывались, снова сливались. А потом текст приобрёл неумолимую чёткость. «Через три часа после вашего отъезда неизвестная грузовая машина сбила на дороге мадемуазель Монику, которая, не приходя в сознание, умерла в тот же вечер, подробности письмом, положу венок вашего имени, Кубис»
Соучастник заранее продуманного убийства положил венок на могилу своей жертвы!
Григорий редко разрешал себе думать о Монике. Не потому, что стал забывать её, а скорее, спасая её образ от забвения. Ему казалось, что воспоминания блекнут, если часто к ним возвращаться, так же, как стирается и блекнет снимок, который всякий раз вытаскиваешь из бумажника, где он хранится.
На мгновение у Григория мелькнула мысль: плюнуть на все наставления Думбрайта и отправиться в Сен-Реми, в тот его уголок, где на холме приютилось тенистое кладбище с маленьким зелёным бугорком, на который второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года он в первый и последний раз положил большой букет роз. И только двинувшись к билетной кассе, Григорий опомнился. Нельзя рисковать теперь, когда он подал о себе весточку Титову, когда надо законспирироваться так, чтобы никому даже в голову не пришло, что у бывшего барона фон Гольдринга, а ныне Фреда Шульца зреют планы относительно школы чёрных рыцарей! Разве так уж важно побывать в Сен-Реми? Моника все равно всегда рядом, где бы он ни был, куда бы ни поехал. Даже не рядом! Он просто вобрал в себя всю её жизнь, такую короткую, но такую прекрасную, и должен теперь продлить её в своих делах, в борьбе за правду и счастье на земле.
Он вспомнил последний вечер — вечер их прощания, когда они стояли, тесно прижавшись друг к другу, у открытого окна, ошеломлённые величием и красотой необозримого звёздного неба. Её плечо чуть вздрогнуло, по щекам покатились слезинки. «Моника, ты плачешь?» — спросил он. Она порывисто обернулась, и глаза её снова засияли. «Нет, нет; ничего! Я плачу от того, что мир так прекрасен, от благодарности, что я в нём живу, что живёшь в нём ты! И чуточку от страха — ведь мы с тобой лишь две маленькие песчинки в гигантском мироздании…» Он тогда до острой боли в сердце ощутил, что они — неотъемлемая часть вселенной и что в их силах сделать жизнь действительно прекрасной.
Но какие испытания, какие муки надо пережить, чтобы достичь этого! Все зло мира, вся его нечисть собирается сейчас, чтобы преградить людям путь к лучшему будущему. И этот террариум вблизи Фигераса — лишь одна точка на оперативной карте врага, маленькая капля концентрированного яда. Просто мутит от мысли, что надо возвращаться туда… Здороваться с Нунке, Шлитсеном, Вороновым, выслушивать наставления Думбрайта… Ух, как тошно! Словно попал в болото и тебя вот-вот засосёт вязкая грязь, задушат зловонные испарения.
А может, и впрямь задушат? Что он может сделать один?
Глупости, не прибедняйся! Один разведчик способен сорвать план целой операции, если он сумеет о нём узнать и своевременно сообщить своим. Один человек может спутать все карты в игре врага, незаметно внеся в неё свои коррективы… Да и остаётся ли человек один даже во вражеском лагере? Силы добра могущественнее сил зла. Действуя осторожно, можно найти и союзников, и помощников…
Утвердиться! Получить разрешение выходить за территорию школы, найти способ связаться с испанским подпольем. Сумел же он добиться этого во Франции, потом в Италии. А если сдадут нервы, если изменит фортуна, если ошибёшься, что ж: сложить голову в борьбе за свою правду — тоже счастье.
Вернувшись в Фигерас, новый воспитатель Фред Шульц с головой окунулся в работу. На протяжении дня он успевал побывать везде: в аудиториях, где проводились теоретические занятия; в спортзале, где обучали боксу, джиу-джитсу и разным другим приёмам борьбы, в лабораториях, где проверялись и практически усовершенствовались теоретические знания по таким специальным дисциплинам, как радиодело, фотография, шифрование; на стрельбищах, в комнатах своих подопечных.
— Как видите, я не ошибся в выборе! Шульц набросился на работу, как голодный на хлеб, — с удовольствием констатировал Нунке на первом же узком совещании руководителей школы.
— Исключительно энергичен, — согласился Шлитсен. — И я бы не советовал отвлекать его для выполнения отдельных поручений, таких, как поездка в Мюнхен. Воспитательный процесс есть процесс непрерывного наблюдения и влияния, малейшее послабление…
— Понятно, понятно, — поспешил согласиться Нунке, не терпевший прописных истин, которые так любил провозглашать склонный к резонёрству Шлитсен.
Вскоре Фред Шульц был в курсе всех школьных дел.
Кроме русского отдела, в школе были ещё отделы: немецкий, венгерский, румынский, польский, чехословацкий, болгарский, в процессе организации был югославский. Строились все они почти по одному принципу, и, если применить школьную терминологию, каждый состоял из четырех классов.
Первый класс — подготовительный — размещался в нескольких домиках, стоящих особняком на окраине Фигераса. Это, собственно, был даже не класс, а контрольно-отборочный пункт. Никаких занятий здесь не проводилось, однако работа начиналась именно здесь, незримая, но непрерывная изучался не только характер будущего кандидата в «рыцари», его вкусы и привычки, но и скрытые наклонности, так сказать, потенциальные возможности.
Привезённого в Испанию иностранца поселяли в одном из домиков, как гостя у гостеприимного и заботливого хозяина, который якобы тоскует в одиночестве, а поэтому и предоставляет приезжему приют. Излишне пояснять, что этот гостеприимный хозяин был самым обыкновенным надзирателем, только надзирателем очень высокого класса. Достаточно образованный, чтобы поддержать интересную беседу, достаточно опытный, чтобы направить её в нужное русло, он постепенно, как говорится, влезал в душу своего нового постояльца, становился его ближайшим другом, товарищем и советчиком, соучастником скромных развлечений. Когда гость начинал скучать, на сцене появлялась какая-нибудь близкая или дальняя родственница хозяина, непременно молодая, красивая и — о счастливое стечение обстоятельств! — богатая. Дальше партия разыгрывалась с вариациями, но как по нотам: мечтательная влюблённость или бешеная страсть, романтические намерения соединить жизнь на веки вечные или взволнованная исповедь одинокой души, ищущей забвения. И, конечно — вино. Как можно больше вина! И когда подвыпивший герой скороспелого романа начинал исповедываться, влюблённая девушка или дама включала незаметно магнитофон… Через определённое время «родственница» вдруг исчезала. Она уже выполнила свои функции.
Этих сирен из школы «рыцарей благородного духа» Воронов прозвал «оселками», это, мол, при их помощи испытывается характер будущих агентов. С лёгкой руки генерала название прижилось.
Все сведения, собранные «оселками», попадали к администрации или к воспитателям, которым надлежало: угрозами и увещеваниями, деньгами и посулами во что бы то ни стало добиться письменного согласия новичка на вступление в тайную армию разведчиков.
Если завербованный давал согласие, его пребывание на контрольно-отборочном пункте заканчивалось и он переходил из подготовительного класса в первый, который в школе обозначался буквой «Д», то есть диверсия.
Если вербуемый не поддавался ни уговорам, ни угрозам, все пути для него были отрезаны. В школу он не попадал, к свободной жизни не возвращался, а становился жертвой автомобильной аварии или случайного выстрела из-за угла. Живым из приветливых домиков выходил лишь тот, кто безоговорочно принимал статус школы. Ученики класса «Д» сами и «устраняли» неподатливых, этот ненужный уже балласт.
В классе «Д» внимание преподавателей и воспитателей было направлено уже на выявление знаний и способностей будущих агентов. Проверяли общеобразевательные знания, полученные когда-то на родине, в школе или в институте, и профессиональную квалификацию, если завербованный её имел, обучали приёмам джиу-джитсу, умению владеть огнестрельным и холодным оружием, пользоваться минами, бомбами, ядами, быстро шифровать и расшифровывать, заметать следы после диверсий.
Тех, кто в классе «Д» достиг наибольших успехов и проявил наилучшие способности, переводили в класс «А», то есть агентурный. Здесь обучение было значительно сложнее. Не перешедшие в этот высший класс на всю жизнь оставались диверсантами — агентами они не становились никогда.
Случалось и так: завербованный попадал в класс «Д», но оказывался бездарным. С таким не возились, но при школе всё же оставляли. Из них, этих неудачников, составляли так называемую «вспомогательную группу» и обучали различным распространённым профессиям: готовили слесарей, швейцаров, стрелочников, парикмахеров… Затем их направляли в Советский Союз, и они выполняли там роль «почтовых ящиков». Какой-либо агент или диверсант вручал такому человеку-ящику шифрованное письмо или условный знак, никогда не называя себя, другой агент приходил и забирал… Впрочем, предпочтение оказывалось тем «почтовым ящикам», которых агенты иногда завербовывали среди местного населения. Кроме «почтовых ящиков» агенты стремились завербовать среди местного населения и «почтальонов». Заметив где-нибудь в дешёвеньком ресторанчике или «забегаловке» завсегдатая, которому перманентно не хватает на сто грамм, агент угостит его стопочкой, а потом поручит отнести, скажем, записочку самого невинного характера, даже не вкладывая её в конверт. В следующий раз это будет уже письмо или пакет. Тут агент или его помощник, если у него таковой имеется, непременно проследит, по какой дороге пойдёт «почтальон», не свернёт ли он куда-нибудь, не прочтёт ли письмо, не заглянет ли в пакет! Если посланец выдерживал экзамен, ему поручали уже передачу настоящей информации. Именно с роли «почтальонов» и начиналась карьера почти всех предателей, которые в случае «добросовестности» и старательности переходили потом в высший ранг диверсантов или агентов.
В классе «А» полученные знания углублялись и расширялись: изучались последние новинки технической мысли, взятые на вооружение разведкой, ученикам давались задания самостоятельно разработать план какой-либо операции, филигранно отработать каждую деталь, а потом осуществить его в условиях, близких к задуманной ситуации. Агенты обучались всем видам агитации и пропаганды: белой — когда пропаганда основывается на достоверных, но тенденциозно подобранных фактах; серой — когда к достоверным фактам добавляются комментарии самого агента, как это часто делает «Би-би-си», и, наконец, чёрной — когда факты выдуманы, лживы и к тому же откровенно враждебно прокомментированы, как это часто делает «Голос Америки». Тут же будущие агенты учились тому, как надо использовать легковерных, слишком доверчивых, не в меру болтливых людей, всяческого толка шептунов, как вербовать среди них себе помощников.
Высший класс «Р» — резидентов — считался привилегированным. Сюда мало кто попадал, и программа обучения тут была особая. Какая именно, Фред Шульц ещё до конца не разобрался.
Домантович вот уже пять дней живёт в уютном домике, спрятанном за таким высоким забором, что даже выглянуть на улицу нельзя. Вдоль забора сплошной широкой полосой высажены деревья. Только один высоченный, раскидистый великан шагнул к дому. Его ветви достигают крыши домика, но под самым деревом словно мёртвая зона — даже трава не растёт.
Расспросить бы хозяина, что это за красавец и почему у его подножья нет ни травинки, ни цветочка, да хозяин глухонемой. Приветливый, гостеприимный, представительный, глаза живые, умные, а с губ срывается какое-то невразумительное мычание, которым бедняга пытается выразить все свои чувства: приязнь, приглашение к столу, огорчение, если у гостя плохой аппетит.
В первый же день за ужином, заметив, что новый квартирант почти совсем не прикасается к еде, хозяин принёс большой кувшин красного вина. Оно было холодное, ароматное и чуть терпкое. В иных условиях Домантович с удовольствием выпил бы, и, верно, не один стакан, но теперь ни отличная еда, ни вино не казались вкусными.
Хоть бы увидеть какую-нибудь газету, журнал или книгу, чтобы угадать, где он очутился! Но ничего нет! Табак есть, сигареты только выбирай, вино — пей хоть из горлышка, еды — вдоволь, а вот литературым — ни клочка печатного. Конечно, это сделано нарочно, чтобы сбить его с толку. Приём, рассчитанный на психологическое угнетение. Дудки! Ничего у вас из этого не выйдет.
Домантович припоминает многочасовой ночной перелёт от Мюнхена, посадку среди горных вершин, чуть маячивших в предрассветной мгле, приглушённые разговоры на аэродроме, в которых ему слышалась то русская, то немецкая речь, поездку в закрытом автомобиле, в сопровождении какого-то дородного молчаливого старика. Лишь несколько слов услышал от него Домантович, и то на прощание.
— Выходить за пределы усадьбы воспрещается! Смерть! — произнёс он на чистейшем русском языке и вышел на крыльцо, даже не оглянувшись.
Единственная вещь в этом доме, которая о чём-то говорила Домантовичу, была явно русского происхождения: икона с изображением Пантелеймона-целителя. Домантович где-то видел такую икону. В правой руке «целитель» держит маленькую ложечку, в левой — большую чашу, верно, лекарство.
Увидев икону, гость знаками спросил глухонемого: мол, кто это? Хозяин дома ударил себя в грудь рукой и широко по-славянски перекрестился. Домантович понял — хозяина тоже зовут Пантелеймоном.
Но Пантелеймон — чисто русское имя! Неужели его привезли в Россию? Нет, этого не может быть! Почему же тогда на аэродроме слышались обрывки немецкой речи? Во время посадки он видел силуэты гор, во дворе растительность похожа на субтропическую… Что же это — Абхазия? Кавказ? Нет, не может быть! Это юг! Но какой? Эх, нечего ломать голову. Придёт время, и все станет ясно! Правда, тоскливо, но что поделаешь. Надо найти какую-либо работу, починить скамью под раскидистым деревом или повозиться в саду. Рукам работа — голове отдых!
Так когда-то приговаривала бабушка, отрывая внука от книжек, чтобы нарубил дров или наносил воды. Вот Домантович и найдёт себе завтра занятие — это хоть немного отвлечёт от назойливых мыслей.
Но всё произошло не так, как он планировал. В половине восьмого утра, а не в восемь, как обычно, глухонемой вошёл в комнату, где поселился Домантович, и открыл жалюзи на обоих окнах. Потом жестом стал приглашать квартиранта завтракать, чему-то радостно и широко улыбаясь.
Домантович плохо спал ночь и тоже жестами попросил хозяина не хлопотать, а поставить завтрак на маленький столик в углу комнаты. Так бывало уже не раз, и глухонемой охотно соглашался. Но сейчас он заупрямился и даже, словно шутя, стащил с Домантовича одеяло. Пришлось подняться и одеться. Да ещё дважды. Хозяин вдруг вышел на минуту и вернулся с шёлковой кремовой рубашкой и ярко-красным галстуком в руках. Рубашка, очевидно, принадлежала глухонемому, она была велика Домантовичу. Пришлось засучил, рукава и расстегнуть воротник. Даже без галстука Домантович теперь выглядел вполне прилично, и в глубине души радовался, что не придётся натягивать старый, поношенный мундир, в котором его сюда привезли.
Вся необычность поведения глухонемого объяснилась, как только Домантович переступил порог столовой: за четырехугольным столом, сервированным сегодня по-праздничному, хлопотала молодая и хорошенькая девушка. Чуть вздёрнутый нос придавал лицу несколько задорное выражение, большие карие глаза глядели на вошедшего приветливо и с любопытством.
— Сестра вашего хозяина, Нонна! — ласково улыбнулась девушка, продемонстрировав привлекательные ямочки на щеках, покрытых нежным румянцем. Говорила она по-русски, с милым сердцу Домантовича оканием.
— Очень приятно познакомиться! — искренне вырвалось у него. За пять дней он впервые услышал человеческий голос и действительно обрадовался, что можно поговорить.
— Я просила брата пригласить вас к завтраку немного раньше, так как очень проголодалась и…
— О, в дороге почему-то всегда хочется есть! Вы приехали издалека? — как бы с обычным в таких случаях любопытством спросил Домантович, хотя сердце у него и дрогнуло в ожидании ответа.
— Издалека, отсюда не видать, — естественно рассмеялась девушка и сразу стала приглашать к столу, ловко наполняя тарелки брата и его квартиранта. Вам вина или, может, коньяка?
— Вообще с утра я не пью, но сегодня по случаю вашего приезда… Вы даже не представляете, как мне было тоскливо! Как…
Лицо Нонны нахмурилось.
— Бедный Паня! С ним, конечно, нелегко. Особенно человеку, который видит брата впервые и ещё не приспособился… Я вас понимаю, не осуждаю, и всё же…
— Простите, я не хотел…
— Я тоже не хотела затрагивать эту невесёлую тему. Как-то вырвалось… А теперь — ни словечка о печальном и неприятном! Договорились?
— Ещё бы! За такой тост я выпью даже коньяка! А что налить вам?
— Сейчас поколдую! — Нонна покрутила руками, закрыла глаза и медленно начала сводить далеко расставленные пальцы. Тоже выпал коньяк! — воскликнула она с деланным ужасом. — Ну и достанется же нам обоим, если я напьюсь!
— А немного опьянеть приятно, так, чтобы чутьчуть затуманилась голова.
— О, услышали б вас у меня дома! Тётка, у которой я живу, непременно решила бы, что вы хотите сбить с пути праведного её крошку! Она никак не может привыкнуть к мысли, что я уже взрослая. Я так просила, так умоляла отпустить меня к Пане!
— А вы надолго приехали к брату?
— Это будет зависеть от того, как меня здесь примут.
— Если бы это зависело от меня.
— А почему бы и нет? — лукаво улыбнулась девушка — Брат, вы же видите, какой, с ним и не поговоришь, и не развлечёшься. Из-за своего физического недостатка он стал настоящим отшельником. А в городе я никого не знаю — я здесь впервые.
— А почему вы с братом не живёте вместе, и как вы, русская, вообще очутились здесь?
— О, это длинная история! К тому же мы договорились не касаться печального!.. Но, чтобы вас не мучить, скажу коротко: родители наши умерли, когда я была ещё совсем маленькой, и меня удочерила богатая тётка. Брата тоже содержит она, но не хочет, чтобы он жил с нами: боится, что её единственная наследница станет мизантропкой, всё время имея перед глазами молчаливого Паню… И больше ни о чём не хочу вспоминать! Лучше выпьем! Только теперь налейте мне вина, а себе — что хотите. Я сегодня устала и никуда не пойду. И хочу, чтобы вы чуть захмелели, чуть-чуть, как вы говорили, ровно настолько, чтобы стать интересным собеседником.
— За интересный разговор!
Когда они чокнулись, тонкое стекло зазвенело, и Домантовичу вдруг показалось, что в лице глухонемо то что-то дрогнуло. Лишь на мгновение, едва уловимое мгновение! Потом оно снова обрело радостновзволнованное выражение.
Поспешно наполнив свою рюмку, глухонемой тоже высоко поднял её, словно провозглашая безмолвный гост. Нонна рывком схватила брата за руку и прикусила губу. Две властных морщинки залегли у неё на переносье. Глухонемой медленно опустил руку.
— Вы слишком суровы, Нонна, — вступился за своего хозяина Домантович. — Совершенно естественно, что брат хочет отпраздновать ваш приезд.
Нонна капризно надула губы.
— От коньяка брат быстро пьянеет. Вообще ему вредно пить.
— За те пять дней, что я живу у него, мы выпили не один кувшин вина, и, уверяю вас, ни разу
— Вино — другое дело… произнеся эти слова, Нонна так укоризненно поглядела на брата, словно он мог слышать её разговор с Домантовичем.
— Ну, сжальтесь же над ним! Разрешите выпить хоть эту уже налитую рюмку! Поглядите, как он погрустнел и смутился под вашим взглядом!
Нонна вскинула на Домантовича глаза, и в них промелькнула какая-то тень не то недовольства, не то тревоги. Однако голос её прозвучал весело и естественно:
— Только, чтобы доказать, что я не так уж жестока. Ладно, пусть выпьет, но с одним условием…
— Заранее принимаю все ваши условия!
— Брат, как только опьянеет, тотчас засыпает, а мне оставаться одной…
— А я?
— Условие в том и заключается, что вам придётся целый день меня развлекать.
— Для этого надо знать ваши вкусы.
— О, они очень просты… Песни…
— А что, если я не умею петь?
— Будете слушать моё пение! С гитарой, как цыганка. Вас это устроит?
— Слушатель из меня лучший, нежели певец. Что ещё?
— Рассказывать мне всякие интересные истории… Конечно, не выдуманные, а из своей жизни. Я любопытная-прелюбопытная, как все дочери нашей праматери Евы!
— Это можно.
— Когда надоест разговаривать, закружиться в танце…
— Здесь я на коне. А когда надоест танцевать?
— Что взбредёт на ум. Вообще же ухаживать за мной, словно вы вот так сразу и влюбились!
— Этого я, увы, не умею!
— Чего не умеете?
— Ухаживать, делая вид, что влюбился! Если уж ухаживать, так по-настоящему…
С братом Нонны, который выпил незаметно не одну, а ещё две новых рюмки, происходило нечто странное: он покраснел и, опершись руками о край стола, качался из стороны в сторону, словно сам себя укачивал.
— Вот видите, я же говорила! Теперь я с ним не справлюсь! Пойдёмте уложим его спать. Потом закончим завтрак.
Нонна и Домантович одновременно подхватили пьяного под руки.
— Уложим его во дворе, под пробковым деревом. Шезлонг можно взять на веранде…
«Пробковое дерево!.. Пробковое дерево! — гвоздём засело в голове Домантовича, пока они с Нонной устраивали постель и укладывали опьяневшего хозяина дома. — Где же оно растёт? Где, чёрт возьми, оно растёт?»
Заканчивая завтрак, разговаривая о том о сём, Нонна как бы ненароком все подливала и подливала и рюмку Домантовича коньяк. Тот уже не отказывался. Пусть девушка думает, что его совсем развезло!
— Ну, где же ваши интересные истории? — капризно воскликнула Нонна, заметив, что её собеседник и сам уже не прочь заснуть. Склонившись к его лицу, она подарила ему самый подходящий для данной ситуации взгляд. Домантович взъерошил волосы, словно силясь прогнать опьянение.
— Истории? Да, истории… Хочешь, девочка, я расскажу тебе одну? Только тсс, никому ни гугу! А может быть, и не надо? Понимаешь, как бывает: я в это гнёздышко свалился прямо с неба! Клянусь! Ну, небо оно небо и есть, по нему как хочешь летай, оно надо всем миром одно… К чему я веду? Ах, да, о гнёздышке, куда свалился! Вот сюда, где мы с тобой сидим и где дерево пробковое… Почему пробковое? Ага, вот я и поймал кота за хвост. Пробковое, понимаешь? Ты же сама сказала! А где растёт это пробковое дерево, угадай!.. Я угадал, я знаю… ещё в школе когда-то учил, где растёт пробковый дуб! В одной стране, знаешь, в какой?.. А ты что, тоже с неба сюда свалилась, с самолёта? Знаешь, оставайся тут! Пусть Пантелеймон-целитель спит под пробковым дубом, а мы здесь… Нет, а всё-таки здорово вышло, что одно словечко сорвалось с твоих очаровательных губок. Ориентир! Понимаешь, есть такой отличный термин. Хочешь, я тебе на краешке салфетки напишу, где мы? Нет, лучше ты напиши, а я угадаю! Не читая! Если проиграю, что хочешь проси, а если выиграю… берегись! Ну, заключаем пари?
Домантович видел, что его быстрое «опьянение» смешало все карты Нонне, выбило её из равновесия. Он прекрасно знал, что пробковый дуб растёт и на Кавказе, и почти во всех странах южной Европы, но ему хотелось сейчас же, немедленно, воспользовавшись растерянностью Нонны и её возможной неосведомлённостью, установить, куда забросила его судьба.
Как жалела потом Нонна, что своевременно не выключила магнитофон! Ведь магнитофонная лента зафиксировала её оплошность: девушка согласилась ни предложенное Домантовичем пари. Взяв бумажную салфетку, Нонна быстро что-то на ней написала, прикрывая написанное другой рукой, потом сложила салфетку вчетверо и засунула за корсаж, как носовой платочек.
— Ну? — отошла она от стола, задорно запрокинув голову.
Домантович прищурил глаза, словно собираясь с мыслями, уставясь в одну точку — на тот угол стола, от которого отошла Нонна. На скатерти его острый взгляд заметил след, выдавленный карандашом, всего две буквы, с которых начиналось слово. «Ис…»
— Испания! — радостно воскликнул Домантович. — Кто из нас, Нонна, выиграл, а кто проиграл? Ой, в голове так шумит, что ничего не разберу!
Девушка на мгновенье нахмурилась, но тотчас звонко и весело рассмеялась.
— Представьте, у меня тоже! Так, словно мотыльки какие-то порхают и порхают… Действительно, кто из нас платит штраф: я вам или вы мне?
Весь день они шутя ссорились по этому поводу и только после крепкого чёрного кофе пришли к выводу, что победил всё-таки Домантович
— Ладно, какой же выкуп или штраф я должна заплатить? Надеюсь, вы не потребуете невозможного?
Домантович на минуту задумался.
— Знаете, Нонна, мне тоже опротивело каждый день глядеть на эти стены. Сделайте так, чтобы мы с нами куда-нибудь сбежали сегодня вечером. В ресторан или бар.
— Не знаю, разрешит ли брат. И потом он до сих пор не проснулся.
— А мы его разбудим ведь он же проспал почти целый день. За это время я успел опьянеть, протрезвиться, влюбиться и от этого ещё раз опьянеть. Видите, сколько событий? А он все спит!
— Ну, что ж, пойду, попробую разбудить и уговорить…
— Уговорить?
— Я привыкла разговаривать с братом мимикой, жестами. Мы отлично понимаем друг друга.
Домантович в окно видел, как Нонна будила глухонемого, трясла его за плечо, как что-то быстро объясняла, манипулирая пальцами, как он жестами отвечал ей.
— Все в порядке! — радостно сообщила девушка, вернувшись. — Только…
— Не пугайте меня! Что только?
— Паня хочет ехать с нами, — словно извиняясь, пояснила Нонна.
— О, он не помешает нашей беседе!
— Тогда я пойду закажу такси или остановлю частную машину.
Поправляя на ходу причёску, Нонна побежала к брату. Тот нехотя поднялся, поплёлся к массивным воротам, ключом отпер калитку и, выпустив сестру, снова запер.
Когда Нонна вернулась, было почти темно.
— Куда же мы едем? — нарочито равнодушно спросил Домантович, заметив, что машина, в которую они уселись втроём, идёт не к центру города, а прямо в степь.
— Тут километрах в двадцати шофёр знает один уютный ресторан. Там мало людей, отличное вино, есть радиола…
— Выходит, всё необходимое для души и тела.
Ехали с полчаса. Домантович все поглядывал в окно, напрасно стараясь рассмотреть окутанную мраком местность. Нонна, прижавшись к своему новому знакомому, верно, задремала. Глухонемой, как и надлежало ему, молчал.
— Ну, вот и прибыли! — сразу оживилась Нонна, как только машина остановилась возле уже знакомой читателю таинственной таверны, служившей своеобразным перевалочным пунктом для школы «рыцарей благородного духа».
Таверна, оказывается, выполняла ещё одну важную функцию: служила местом, где «оселки» испытывали новичков. Многое могли бы порассказать её стены о коварстве, слезах, предательстве и даже крови. Но они молчали и в мягком сиянии вечернего света казались даже приветливыми.
Постукивая деревяшкой, хозяин таверны провёл гостей в самый уютный уголок, отгороженный от зала чем-то напоминавшим ширму. Он по-немецки извинился за скромность обстановки и спросил, желает ли уважаемая фрейлен послушать музыку и какие подать вина и закуски. Проявив редкую для девушки осведомлённость, Нонна все заказала сама.
А дальше всё пошло согласно заранее намеченной программе: надрывалась радиола, пустые бутылки на столе сменялись полными. Нонна все ближе прижималась к Домантовичу, с которым уже в начале ужина выпила на брудершафт, глухонемой все чаще выходил подышать свежим воздухом, иногда вместе с хозяином таверны. Домантович то объяснялся в любви, то лепетал о злой судьбе и исковерканной жизни, порывался петь…
Уже через час пришлось ехать домой, потом полусонного гостя волоком тащили в комнату, укладывали на кровать.
— Нонночка! — позвал девушку Домантович, когда она вслед за братом хотела выйти из комнаты непутёвого квартиранта.
— Что тебе? — сердито откликнулась Нонна.
Домантович приподнялся на локтях, и глаза его блеснули насмешливо и весело.
— Знаешь, Нонна, — совсем трезвым голосом проговорил он, — передай своим шефам, что я уже стреляный воробей, и вся сегодняшняя музыка была ни к чему. А «брату» скажи, пусть не страдает, разыгрывая роль глухонемого. Спокойной ночи, детка!
— У вас здесь как у настоящего монаха! — пошутила Нонна, войдя в недавно оборудованный кабинет Фреда, хотя на душе у неё было совсем не весело.
— А здесь действительно когда-то была келья… Знакомство состоялось?
Нонна утвердительно кивнула головой и молча протянула ленту.
Фред укрепил её на своём магнитофоне и стал слушать.
Когда лента добежала до разговора о пробковом дубе и об Испании, Нонна, чтобы предупредить события, бросила:
— Здесь я допустила ошибку…
— Это не столь важно, хотя вообще вы вели себя неосмотрительно.
— Неосмотрительно? Вообще?..
— Потом скажу, послушаем дальше…
Прослушивание заняло несколько часов. Запись встречи в таверне Фред прослушал дважды.
— Он так быстро опьянел?
— Какое там! Он, как выяснилось, разыграл пьяного, да так, что ни я, ни дядя Паня не догадались.
— Почему вы думаете, что он притворялся?
— Знаете, что он на прощание сказал мне?
— Повторите, только точно.
Нонна слово в слово передала сказанное Домантовичем.
Фред только сокрушённо покачал головой.
— Вот это попалась рыбёшка!
На какую-то минуту он задумался.
— Почему вы считаете, что я вела себя неосмотрительно? — спросила'Нонна.
— Потому что вы сразу начали кокетничать. А надо было выдать себя за девушку скромную, не привыкшую оставаться наедине с мужчиной…
— Но Воронов приказал мне…
— Он просто не учёл душевного состояния человека, изголодавшегося по женскому обществу. Ведь Домантович не видал женщин с самого окончания войны. Активность должен был проявить он. Ну, довольно об этом! Сделайте так: вернувшись в Фигерас, позвоните дяде Пане и скажите, что он больше не глухонемой! Но передайте ему мой приказ: с квартирантом много не разговаривать. Две-три фразы служебного характера в день, и все.
Я приеду через неделю-полторы. Пусть немного потоскует. Попробуем расшифровать и стреляного воробья. Вам у дяди Пани больше делать нечего…
— Выходит, не справилась?
— Просто он опытнее вас, Нонна! Ведь вы ещё так молоды!
— Из молодых, да ранних! — вдруг вырвалось у девушки по-украински.
— Давно не слышал украинского языка.
— А вы бывали на Украине? — почему-то обрадовалась Нонна.
— Где меня только не носило… А почему вы так обрадовались?
— Тоскую по дому… иногда…
Нонна опустила голову и задумалась. Фред незаметно следил за ней, в свою очередь что-то обдумывая. Затем вынул из сейфа папку и стал её просматривать.
— Зачем вам понадобилось моё дело? — спросила Нонна.
— Как вы догадались?
— Узнала свой почерк. Это же моя автобиография..
— Так вы харьковчанка… Переводчица у немцев… Вспомнил. Все в порядке…
— Что в порядке?
— Слушайте, Нонна! Как бы вы отнеслись к предложению недельки на две съездить в Россию? Абсолютно легально, с паспортом, советской визой и всем прочим.
Нонна побледнела.
— Диверсия? — тихо спросила она.
— Мелкое поручение.
— А именно?
— Свой план я обязан согласовать с начальником школы. Скажу вам потом.
— Можно мне подумать до завтра?
— Даже нужно.
— Мне бы очень хотелось побывать дома, но…
— Немного боязно, да?
Нонна утвердительно кивнула головой.
— Это хорошо, что откровенно признаетесь… Поэтому и советую: ещё и ещё раз хорошенечко подумайте. Даже не день. Даю вам неделю срока. Но когда вызову, будьте готовы сказать «да» или «нет». Только откровенно.
— Конечно… Я и сейчас разговаривала с вами откровенно. Да ещё с Мэри
— мы с ней иногда отпускаем вожжи и отправляемся странствовать в прошлое. Но только изредка…
— То-то Мэри частенько напивается! Она полька? Насколько я припоминаю, из-под Лодзи?
— Да.
— Передайте ей, чтобы меньше пила. Возможно, я и для неё что-нибудь придумаю… Но пока это между нами…
НЕОЖИДАННАЯ ЖЕНИТЬБА АРТУРА ШРЁДЕРА
Артур Шрёдер проснулся в прекрасном настроении. Откинув одеяло, он вскочил с кровати и стал посреди комнаты, чтобы заняться гимнастикой, с которой всегда начинал день, но взгляд его упал на карту северной Европы и выразительную черту на ней. Линия была ярко-красная и жирная. Не в силах противостоять искушению, Шрёдер подбежал к столу. Да, все так: Москва — Ленинград — Хельсинки Стокгольм — Осло — Копенгаген… Вот это турне! Обозначены только столицы. А если прибавить все пункты, куда можно завернуть по дороге, чтобы дать по нескольку дополнительных концертов!
Кто бы мог подумать, что все так хорошо обернётся. А как он перепугался вначале, когда мадридские газеты подняли шум вокруг его будущей поездки в Россию!
Что тут скрывать: ведь сам Артур Шрёдер долго колебался — принимать приглашение Москвы или нет! Были у него на то причины, и достаточно уважительные, а впрочем, если поглядеть на все здраво…
Выезжая на гастроли в Испанию, руководитель венского джаз-оркестра так и не решил этот вопрос окончательно. Лишь после настойчивых домогательств импресарио, который в многочисленных телеграммах доказывал, как выгоден этот контракт, Артур Шрёдер решился и телеграфом известил о своём согласии.
Через несколько дней сообщение о турне появилось в мадридских газетах. Как и от кого они все разузнали, было просто удивительно. И в телеграммах импресарио, и в его собственном ответе слова — Россия, Москва, Ленинград, как и было условлено, не упоминались. А между тем газеты обо всём пронюхали, и имя его замелькало на всех полосах.
Боже, какая поднялась шумиха! Чего только тогда не писали об Артуре Шрёдере, в чём его только не обвиняли!
Пришлось молча глотать обиды, стоически переносить грязную ругань прессы, теша себя надеждой, что каждый скандал только способствует рекламе. Но когда одна из самых влиятельных мадридских газет наэиала Артура Шрёдера большевистским агентом, он и впрямь перетрусил.
Боже мой! Артур Шрёдер — и большевистский агент!
В иных обстоятельствах Артур от души посмеялся бы, но сейчас было не до смеха. Отменив утреннюю репетицию, он заперся в номере гостиницы. Проникнуть к нему мог только его ближайший помощник, да и то условно постучав.
Артур Шрёдер проклинал день и час, когда согласился на поездку в Москву. Первой его мыслью было телеграфировать импресарио, чтобы тот расторг проклятый контракт. Но убытки… Чем покрыть убытки? Заплатив неустойку, он с оркестром окажется на мели.
Вечером того дня, когда газеты, бесстыдно оболгав его, назвали большевистским агентом, оркестр должен был выступать в клубе офицеров мадридского гарнизона. Это обстоятельство чуть не доконало Шрёдера.
Может быть, не ехать на концерт? Отказаться? Заболеть или придумать какую-либо иную причину? Пусть дирижирует ассистент… Чтобы офицеры не устроили скандала, можно поручить ему сказать несколько вступительных слов о том, что сообщение газет о гастрольном турне оркестра не соответствует действительности.
Весь день, запершись у себя в номере, Артур Шрёдер обдумывал, как поступить. Лучше всего вообще отказаться от выступления. Но как откажешься, если за концерт уже получен гонорар! Вернуть? О, нет! Об этом не может быть и речи: разве с оркестрантов сдерёшь аванс, выданный именно из этих денег.
Время приближалось к вечеру, а решения не было. Оно пришло само собой и без участия Артура. Офицерский клуб Мадрида прислал уведомление, что он отказывается от концерта джаз-оркестра, которым дирижирует Артур Шрёдер, и требует, как это обусловлено договором, вернуть половину гонорара.
Впервые в жизни Шрёдер охотно собственноручно уплатил довольно солидную сумму, лишь бы не выступать перед слушателями «не по своей вине». Предусмотрительный всё-таки у него импресарио!
Понятно, что после этого не имело смысла оставаться в Мадриде. Артур Шрёдер выехал в Барселону, где ему предстояло дать несколько концертов. Но прошло три-четыре дня, и мадридская история повторилась! По той же программе и с теми же последствиями. Словно один и тот же режиссёр руководил заранее продуманным спектаклем. Шум в прессе, ливень обвинений, расторгнутые контракты…
Артур Шрёдер сел на мель. Крепко и почти безнадёжно. Оркестрантам выдан лишь аванс в счёт долга за два месяца, надо платить за гостиницу, за проезд. Правда, три четверти ранее полученного гонорара предусмотрительно переведены на текущий счёт Артура в Вене, но об этом знает только он. Касса же оркестра пуста. Он думал пополнить её, дав несколько дополнительных концертов в клубах Барселоны, но выяснилось, что не только дополнительных, но даже предусмотренных договором концертов он дать не сможет. Правда, можно попытаться сорвать по этим контрактам неустойку. Но для этого надо судиться! Новые траты! Новые долги! Ведь во франкистской Испании в суд без кругленькой взятки лучше не обращаться.
Было от чего нервничать, злиться, бегать по номеру гостиницы из угла в угол, проклиная Мадрид, Барселону и саму Испанию…
Спасение пришло неожиданно владелец ресторана в небольшом городке Фигерас пригласил оркестр Артура Шрёдера выступить у него. Правда, сеньор де Гомес гарантировал значительно меньшую оплату, чем оркестр получал до сих пор, но это была хоть и синица, зато в руках!
Отправив значительную часть оркестра в Вену, оставив при себе лишь несколько лучших музыкантов, Артур Шрёдер вдруг спохватился.
А что если и в Фигерасе они подвергнутся бойкоту? Стоит ли унижаться до выступления в каком-то ресторане, не обусловив заранее, что гонорар он должен получить сполна при всех условиях.
— Сеньор Гомес, — твёрдо заявил Шрёдер во время последней встречи, — я могу рисковать собой, но судьбой моих оркестрантов — нет! Я счёл бы себя негодяем, если бы не позаботился о гарантии для них. Такой гарантией может быть выплата вперёд хотя бы половины суммы… Вы, верно, знаете, какой шум вокруг моего имени подняли ваши газеты, и поэтому…
У сеньора Гомеса была неприятная привычка всё время жевать. По совету врача жена ресторатора в своё время даже выписала из Нью-Йорка целый ящик жевательной резинки. Сеньор Гомес попробовал её, выплюнул и сердито бросил:
— Плевал я на американцев! Гадость!
На слова Шрёдера он ответил почти так же:
— Плевал я на газеты, не читаю! Гадость!
Отправив в рот здоровенный кусок мяса, де Гомес всецело отдался процессу жевания, и Шрёдер воспользовался паузой.
— О, такая независимость мыслей! Преклоняюсь, честное слово, преклоняюсь. По опыту знаю, для этого надо много благородства и мужества… Если б дело было во мне… Но оркестранты! Эти несчастные, попав в чужую страну, растерялись, как дети! Если мы обозначим в контракте, что вы обязуетесь заплатить наперёд… ну, скажем, семьсот пятьдесят долларов…
Гомес как раз проглотил свою жвачку, но с ответом не спешил. Медленно причмокивая, он отхлёбывал из стакана вино, перегоняя хмельной напиток от щеки к щеке, словно тоже жуя. Только сделав последний глоток,он бросил:
— Пишите полторы тысячи долларов!
Все уладилось, и джаз-оркестр Артура Шрёдера, правда, не в полном составе, прибыл в Фигерас. И именно здесь вчера Артур Шрёдер получил компенсацию за все свои неудачи в Испании.
Прибыл импресарио. Он привёз тьму-тьмущую газет: французских, итальянских, английских, немецких… Казалось, не было страны в Европе, куда бы не долетела весть о злосчастном гастрольном турне оркестра. Одни хвалили Шрёдера, другие бранили, но и в первом, и во втором случае перед до сих пор малоизвестным именем Шрёдера стояло слово «маэстро». Как-никак, а это было что-то похожее на признание.
Но самым неожиданным было множество контрактов, заключённых его импресарио.
Маленький, кругленький, словно бочонок, Адам Розенберг так и сиял от удовольствия.
— И знаете, маэстро, кого мы должны благодарить? Ручаюсь — не догадаетесь. Большевиков! Ведь это после их приглашения поднялся такой шум, а шум в свою очередь создал нам такую популярность, о которой мы и мечтать не смели! Теперь я ставлю условия, а не мне их ставят. Заканчивайте дела в Фигерасе, нужно выезжать в Вену за вещами.
В тот же вечер Шрёдер предупредил Гомеса, что завтра даст в его ресторане десятый и последний концерт. Бедняга хозяин от неожиданности чуть не подавился куриной ножкой, которую в это время жевал. Ещё бы! Слава венского оркестра привлекала в его ресторан такое количество посетителей, какого не бывало даже в самые большие праздники. Один из конкурентов заболел от зависти, другой уже недалёк от банкротства. А если дела пойдут так, как шли до сих пор…
— Побойтесь бога, сеньор Шрёдер! Вы же меня без ножа режете! Может быть, вас не устраивает оплата, — набавлю! Эх, где моё не пропадало! Могу обеспечить вашим парням бесплатное трехразовое питание… Учтите, с вином! Что же касается вас…
Но Шрёдер был неумолим. Он мог теперь быть неумолимым.
Итак, сегодня последний концерт, и — прощай, Испания! Не видать бы тебя никогда! Его, артиста, какой-то Гомес хотел соблазнить трехразовым питанием. Хам! Такие за чечевичную похлёбку готовы продать и брата и свата! Где уж им понять высокое искусство…
Вспомнив о непрерывно жующем Гомесе, Артур почувствовал, что голоден. Он набрал номер ресторана, расположенного в двух нижних этажах гостиницы, и заказал обычный утренний кофе.
— Завтракать буду, как всегда, в двенадцать, — предупредил он старшего официанта.
Пригладив шевелюру, Артур подошёл к большому зеркалу и только теперь заметил, что до сих пор не надел даже халата. Несколько минут он любовался своей фигурой, придирчиво разглядывал каждую чёрточку лица.
Что ж, для своих сорока лет он и впрямь выглядит неплохо; в волосах нет и намёка на седину, лицо чистое, без морщин, под большими чёрными глазами синеватые полукруги, придающие взгляду таинственность и привлекательность. И все это благодаря стараниям мадам Лебек. Это она вернула ему с десяток лет. А регулярные занятия гимнастикой закалили тело. Мускулы эластичны, фигура гибкая, и, главное, никаких признаков ожирения.
В дверь постучали.
— Войдите, — крикнул Шрёдер, поспешно натягивая халат.
— Доброе утро, маэстро, — прощебетала официантка, направляясь к столу.
— Сверх заказанного я захватила два апельсина. Не возражаете? Вы ведь привыкли съедать их натощак, перед утренним кофе.
— Очень мило с твоей стороны, малютка! Я просто позабыл их заказать.
— Я слышала, вы уезжаете от нас?
— Да, сегодня последний концерт. Мы, артисты, словно пташки, никогда не засиживаемся на одном месте.
— Жаль, что вы так мало пели в нашем саду. Верно, соскучились по семье.
— У меня нет семьи. К сожалению, а может, и к лучшему.
— И даже невесты?
— Представь себе, нет. Быть может, потому, что я ещё не встретил такой красавицы, как ты!
— О, сеньор, что же вам тогда мешает остаться?
— А ты бы этого хотела? Ты бы приласкала меня? Вот так!.. Ну, не упрямься, слышишь! Не съем же я тебя!.. Я только хочу… только хочу…
Пощёчина прозвучала одновременно с телефонным звонком, и маэстро, чуть было не поскользнувшийся, мигом пришёл в себя.
— Вы, испанки, плохо понимаете шутки, — промямлил он, потирая покрасневшую шеку.
— Мы, испанки! Выходит, у вас уже была возможность в этом убедиться? — Смеясь, хорошенькая официантка скрылась за дверью, а Артур Шрёдер сердито сорвал телефонную трубку.
— Я вас слушаю… Да, Артур Шрёдер… Важное дело?.. Простите, но у меня совершенно нет времени. И охоты, к слову сказать, тоже. — Раздражённый только что полученным отпором и собственным глупым поведением, Артур хотел было опустить трубку на рычаг, но из неё донеслось решительное:
— Я настаиваю на встрече!
— Но ведь я завтра уезжаю из Испании, надеюсь, навсегда. Какой же смысл…
— Именно о вашем отъезде и будет разговор.
— О, если только об этом, то вопрос решён окончательно. Никакие разговоры…
— Даже если это касается вашего турне?
— Особенно, если это касается нашего турне, чёрт побери! Хватит с меня газетной травли!
— Через минуту я буду у вас
— Через минуту вы будете считать ступеньки! И не ногами, а собственными рёбрами!
— Уверяю вас, вы этого не сделаете!
— Вы плохо меня знаете…
— Наоборот, слишком хорошо. Вопреки вашим ожиданиям — хорошо!
Тон, каким были сказаны последние слова, резанул ухо и пробудил в душе неясную тревогу.
— Что это, предчувствие? Глупости, просто шантаж! Кто-то из его мадридских или барселонских «друзей», узнав, как хорошо принимают оркестр в Фигерасе… Опять-таки очень подозрительно упоминание о турне. Ведь и в Мадриде, и в Барселоне начиналось именно с шумихи вокруг их гастрольной поездки… Вот поразятся все, когда узнают, как обернулось дело! Надо позвать Адама Розенберга, пусть утрёт нос посетителю.
Артур Шрёдер набрал номер телефона своего импресарио, жившего в этой же гостинице, и пригласил того немедленно зайти.
— Послушайте, Адам, вы разговаривали с кем-нибудь в Фигерасе о нашем будущем турне? — спросил он импресарио, как только тот вошёл в номер.
— Да я даже отоспаться после дороги не успел!
— Тут один тип набивается на беседу со мной, намекает опять на турне…
— Может быть, мне остаться и послушать его болтовню?
— Именно об этом я и хотел вас просить. Вдвоём мы скорее избавимся от этого наглеца.
В дверь постучали.
— Войдите! — Розенберг с профессиональной вежливостью широко распахнул дверь.
В комнату вошёл стройный молодой человек среднего роста. Ничего наглого не было в его лице, наоборот, оно даже понравилось Шрёдеру, и он тотчас успокоился. Тем более, что был твёрдо уверен: своего назойливого гостя он прежде никогда не видел.
— Что ж, придётся отложить дела, — сказал Артур примирительно, пододвигая посетителю стул.
— Простите, я хотел бы поговорить с глазу на глаз, — чуть-чуть подчёркнуто ответил тот.
— У меня мет тайн от импресарио, — заносчиво возразил Шрёдер, к которому вернулся его апломб. Все дела оркестра…
— Тайны могут быть у каждого, — приветливо улыбнулся незнакомец. — У меня, у вас, у сеньора Роэенберга… Так, кажется, ваша фамилия?
— Приятно, что моя скромная персона привлекла ваше внимание. Тем более, что я только вчера прилетел в Испанию.
— Из Копенгагена? В восемнадцать сорок? К сожалению, самолёт опоздал на двадцать минут…
— Вы тоже летели в нём? Старею, старею. Всегда так хорошо помнил лица попутчиков, а вот на этот раз вас не приметил. Очень жаль, господин… — Розенберг вопросительно поглядел, ожидая, что ему представятся.
Едва уловимая улыбка тронула губы посетителя.
— Я хотел бы представиться господину Шрёдеру, и притом наедине. О, не потому, что пренебрегаю вашим обществом! Наоборот! Надеюсь встретиться с вами ещё не раз, герр Розенберг… Но сегодня, точнее, сейчас… Как человек деловой, вы должны это понять.
Совершенно успокоившись, Розенберг направился к двери и лишь на всякий случаи, уже стоя на пороге, напомнил:
— Я буду у себя в номере.
Незваный гость и Шрёдер остались одни в комнате.
— С кем имею честь?
— Фред Шульц! — посетитель поднялся со стула и, хотя был в штатском, щёлкнул каблуками, как военный.
Эта, казалось бы, незаметная деталь почему-то снова вызвала у Шрёдера беспокойство.
— Простите, если во время телефонного разговора я был резок, но поймите меня: завтра отъезд, сегодня последний концерт, а все это — хлопоты, хлопоты и ещё раз хлопоты.
— Понятно. И, если бы не важное дело, приведшее меня к вам…
— Боюсь, что смогу уделить вам очень мало времени…
— О, я надеюсь, мы быстро договоримся!.. Итак, завтра вы вылетаете в Вену и тотчас же по получении виз — в Россию?
— Да. Могу теперь говорить об этом, не опуская глаз. Высокое искусство победило чернь, вопившую: «Распять его… Распять!» На долю артиста такая победа выпадает не часто, и поэтому я особенно ею дорожу. Вы, наверное, знаете, какой шум подняли газеты вокруг моего имени. И, представьте себе, это обернулось мне на пользу! Приглашения на гастроли посыпались на нас, словно из рога изобилия. Мой импресарио даже не успевает заключать контракты.
— Знаю, слышал. Это прекрасно. Просто прекрасно! Поздравляю! От всего сердца поздравляю, уважаемый маэстро, с заслуженным успехом! И знаете, что мне пришло в голову? Ваше пребывание в России принесёт пользу не только вам, но и нам.
— Пользу? Кому это «нам»? — удивился Шрёдер. Его начал раздражать фамильярный тон непрошеного гостя.
Тот продолжал, словно ничего не замечая:
— Не будем уточнять. На это потребуется время, а у вас ведь его так мало… Объясню только одно: я разговариваю с вами от имени организации, которая ставит своей целью способствовать всестороннему и самому тесному приобщению населения России к европейской культуре.
— Но ведь наши гастроли и преследуют именно эту цель. Подписав этот первый после войны контракт с русскими, я предвидел, что наш приезд…
— Понимаю, понимаю, — прервал его Шульц. Для русских, которых уже тошнит от классики и песенного жанра, ваши концерты будут настоящим праздником. Все это так… Но вы побыли и уехали, а нам надо, чтобы ваши гастроли оставили по себе глубокий след.
— Артист всегда оставляет след в сердцах людей, которым выпало счастье хотя бы единожды приобщиться к его искусству. Надеюсь, мой оркестр, оркестр первого класса, вполне справится с этой скромной задачей.
Не скрывая раздражения. Шрёдер поднялся, давая понять, что разговор окончен.
Шульц заметил этот манёвр, но не шевельнулся.
— Это все сентенции из плохоньких рецензий, герр Шрёдер. Неужели вы думаете, что они нас устраивают?
Артур Шрёдер вскипел:
— Какое мне дело до того, устраивает это вас или нет! Я дирижёр, слышите, дирижёр! И моё дело руководить оркестром, а не плясать под дудку какой-то сомнительной организации, о которой я не знаю и знать не желаю! В конце концов никто вас сюда не звал, вы просто ворвались ко мне в номер, хотя я и предупредил вас, что у меня нет времени! Я попросил бы оставить меня в покое, иначе…
Шрёдер вскочил с места. Он был готов броситься на посетителя и вышвырнуть его из номера.
Поудобнее устроившись в кресле, Шульц прикурил сигарету и глубоко, с наслаждением затянулся.
— Вы слышали, что я вам сказал? — подступая к нему, Шрёдер уже почти визжал.
И вдруг у него спёрло дыхание.
— Григоре Кокулеску, сядьте! — властно прозвучало из кресла.
Пистолетный выстрел произвёл бы на Артура Шрёдера меньшее впечатление, чем этот окрик. Бледнея и чувствуя, как подкашиваются ноги, он медленно опустился на диван.
В комнате воцарилось молчание. Насторожённое и тревожное, оно было красноречивее всяких слов. Каждое его мгновение Артур ощущал как нечто неумолимо непоправимое. Наконец, до его сознания дошло он допустил ошибку, молчанием подтвердив обвинение.
— Что за чепуха! Какой Григоре Кокулеску?
Шульц поднялся, вплотную подошёл к Шрёдеру.
— Мне некогда нянчиться с вами! Бывший сотрудник румынской сигуранцы, военный преступник, заочно приговорённый к расстрелу, — это вы.
— Я музыкант Артур Шрёдер… С этим вашим Григоре Кокулеску у меня нет ничего общего… Это новая клевета, инсинуация, чтобы помешать гастролям. Если у вас есть какие-то счёты с этим Кокулеску, так вы должны помнить и его внешность .. Присмотритесь ко мне…
Шрёдер бормотал все это скороговоркой, стараясь словами заглушить страх.
— Что касается внешнего сходства, вы правы. Бывший Григоре действительно мало напоминает теперешнего Артура Шрёдера.
— Вот видите! — обрадовался дирижёр, не уловив насмешки в голосе Шульда.
— Конечно, вижу, и даже в восторге. Мадам Лебек сделала вам великолепную пластическую операцию. Полторы тысячи долларов вы уплатили ей не зря.
— Это какое-то недоразумение, фатальное недоразумение.
— А если я напомню вам адрес её института? Париж, улица Сен-Доминик…
Шрёдер не то застонал, не то всхлипнул.
— Хватит… теперь всё равно… Но откуда… откуда вы могли узнать?
— Я вижу, в вашем лице сигуранца потеряла не очень предусмотрительного сотрудника. Неужели вам никогда не приходило в голову, что такой институт не может остаться вне поля зрения французской полиции? Мадам Лебек не только отличный специалист своего дела, но и расчётливая хозяйка, за небольшие льготы, предоставляемые ей при взимании налогов, по требованию полиции, инспектор закрывал глаза на часть её прибылей, — мадам тоже платила небольшими услугами. Тем более, что её дополнительные обязанности были не столь уж обременительными и сложными: незаметно для клиента сделать два снимка — до и после операции и передать их затем в картотеку префектуры.
— Боже мой! Какой же я остолоп! Как я не догадался! — простонал Шрёдер и вдруг перешёл в наступление: — Ну и что? Не забывайте, что мы сейчас в Испании, у которой с Румынией нет никаких отношений.
— Между полициями есть — это во-первых. А вовторых: как только прошлое Григоре Кокулеску станет известно не только мне, ваша карьера дирижёра закончится. На ваш текущий счёт в венском банке будет наложен арест, все контракты, это совершенно ясно, будут объявлены недействительными… Вас устраивает такая перспектива?
— Чем же я могу исправить положение? Насколько я понимаю, у вас есть планы относительно меня
— Вот это деловой вопрос!
Шульц снова сел и придвинул своё кресло так, что колени собеседников соприкасались.
— Вы не ошиблись, исправить положение можно. И совсем недорогой ценой. Просто дружеская услуга, которую вы нам окажете: направляясь в Москву, захватите несколько сот пластинок с записью собственного репертуара, других модных песенок и… чистого текста.
— Вы сошли с ума! Наш багаж проверяют в таможне! Что, если…
— Вы немного растерялись и потому утратили здравый смысл! Разве может показаться странным, что оркестр везёт с собой пластинки со своим репертуаром? О соответствующих ярлыках обещаю позаботиться!
— И я должен распространять эти пластинки… там? — прошептал Шрёдер так тихо, словно уже сейчас боялся, что его подслушают, и делая ударение на слове «там».
— Упаси боже! Вы персона грата, к вам будут прикованы тысячи глаз… Ваше дело провезти багаж, а распространять будет другой человек, который поедет вместе с вами.
— Советскому посольству в Австрии уже переданы списки всех оркестрантов и документы, необходимые для получения виз, так что…
— Не страшно. Перед самым отъездом вы женитесь!.. Вам лично не откажут ещё в одной визе. Что поделаешь — свадебное путешествие.
— Я? Женюсь? Вы шутите? — У Шрёдера даже глаза полезли на лоб от удивления и возмущения.
— Я считаю это наилучшим выходом! Самым безопасным! Советское правительство, безусловно, разрешит такому человеку, как вы, прибыть на гастроли вместе с молодой женой. А она знает, что делать… Брак, конечно, придётся оформить по закону. И как можно торжественнее. Ну, а как только закончатся гастроли, разведётесь. В наше время этим никого не удивишь. Одобряете такой план?
— А кто же эта… моя будущая жена?
— Не волнуйтесь, мы учли ваш артистический вкус: очень эффектная молодая особа. Для вас даже слишком молодая — ей около двадцати.
— И я должен содержать её в дороге, во время гастролей, покупать туалеты?
— А вы не из щедрых! Согласитесь, что мы могли поставить вопрос именно так.
— Я понимаю. Я только хотел…
— Спешу вас успокоить. Деньги мы ей дадим!
Шрёдер, который только что чуть не умирал от страха, снова обрёл уверенность.
— Обращаю ваше внимание, что моё имя как артиста тоже чего-то стоит!
— Я думал, вы им не спекулируете!
— О, герр Шульц, как вы могли такое подумать?! Но кое-какие затраты, связанные с риском…
— На затраты, связанные с риском, — улыбнулся Шульц, мы вам можем выдать самое большее пятьсот долларов.
— Вы думаете — этого достаточно?
— Вы наглец, Григоре Кокулеску!
— Я артист и не разбираюсь в делах!
— Вы бывший сотрудник сигуранцы и отлично знаете, чем пахнут деньги!
— Не возражаю, не возражаю против пятисот.
— Так бы сразу… Кажется, договорились обо всём?
— А задаток?
— Вы больше чем наглец, Григоре Кокулеску!
— Вы в курсе всех моих дел и знаете, в каком я сейчас положении. Поверьте, только это…
— Хорошо! Пишите расписку на двести! Остальные триста вам передаст из рук в руки, и снова под расписку, Нонна уже в Москве.
— Какая ещё Нонна?
— Странно! Вы до сих пор не поинтересовались именем вашей будущей жены. Вы так равнодушны к женскому полу?
— Я должен сначала увидеть свою невесту, а тогда уж решить, стоит ею интересоваться или нет. Когда вы меня осчастливите?
— Очень скоро. Почти тотчас после моего ухода. Сегодня же пригласите её в ресторан. И вообще всячески афишируйте ваше ухаживание. Понятно?
— Придётся.
Едва кивнул головой, Фред Шульц вышел.
Артур Шрёдер аккуратно пересчитал полученный аванс и спрятал его в ящик стола. С минуту он сидел молча, словно собираясь с мыслями, потом вскочил со стула и подбежал к трюмо. Теперь он наклонился к нему так близко, что чуть ли не касался носом стекла.
— Ничего, ничего похожего, если бы не эта проклятая шарлатанка Лебек! — воскликнул он в отчаянии и тотчас прикрыл рот рукой.
В дверь кто-то тихонько, но настойчиво стучал.
Артур Шрёдер быстро пересёк комнату, открыл дверь. Подсознательно он ожидал ещё какой-либо неприятности. Но на сей раз судьба была к нему более благосклонна: на пороге стояла смуглая хорошенькая девушка.
— С кем имею честь?
— Нонна Покко! В будущем Нонна Шрёдер. Вам не кажется, что обручённым давно пора познакомиться?
Ещё не опомнившись от всего пережитого. Шрёдер молча отошёл в сторону.
Легко ступая и весело улыбаясь, Нонна вошла в комнату.
В это время в машине, только что отъехавшей от гостиницы, между двумя её пассажирами шёл разговор:
— Он сразу согласился?
— Шрёдер трус и скупердяй, герр Нунке. Согласился и взял деньги. Вот расписка в получении задатка.
— Вы молодчина, Фред!
— Я тоже очень доволен. Это поможет осуществить весь мой план.
— Дай бог! — искренне ответил Нунке. О, он бы не молил о выполнении плана Гончаренко-Шульца, если бы знал, в чём он заключается.
ОСТРОВОК СРЕДИ ТРЯСИНЫ
Направляясь к вилле Агнессы Менендос, Григорий Гончаренко всякий раз спрашивал себя, не предаёт ли он память Моники. Женщины эти были такие разные, не похожие друг на друга, а между тем — Гончаренко ясно ощущал это — играли в его жизни очень схожую роль.
Когда-то, встречаясь с Моникой в далёкой теперь Франции, Григорий словно очищался от грязи взаимоотношений с такими, как Заугель, Кубис и им подобными мерзавцами.
Именно душевная чистота Моники привлекала Генриха фон Гольдринга.
Конечно, во Франции ему было значительно легче. Он словно обрёл целительный источник, восстанавливающий силы, рождавший вдохновение.
Да и вообще там всё было иначе. Он жил отдельно от своих так называемых однополчан и порой мог отгородиться от них крепкими стенами своей комнаты.
Там у него были друзья: искренний, открытый Карл Лютц, безгранично преданный Курт — настоящий надёжный помощник. Была, наконец, мадам Тарваль, относившаяся к нему с материнской заботливостью… Во Франции Григорий чувствовал у себя за спиной отряды маки, действовавшие поблизости в горах, к которым можно было уйти в случае смертельной опасности. А главное — была Моника. Неповторимая, незабываемая! Здесь, в Испании, у него никого нет. Ни единой живой души. Живёт он в боксе при школе и обязан молча подчиняться суровому распорядку, установленному Нунке: даже дверь держать незапертой, чтобы дежурный мог войти в любую минуту. И заходят, шарят по ящикам, проверяют, не выключен ли подслушиватель, установленный с ведома, но, конечно же, без согласия жильца.
Нунке ввёл своеобразную практику для учеников класса «А»: наблюдать за своими воспитателями и преподавателями. Те были предупреждены о слежке, но кто именно контролирует каждый их шаг, они не знали, и это очень нервировало. Каждый понедельник Фреду, как и всем другим его коллегам, дежурный приносил сводку за неделю, составленную учениками: кто и что делал в такой-то час, куда ходил, с кем разговаривал. Когда Фред впервые выехал один в Фигерас, каждый его шаг был зафиксирован, каждая минута пребывания в городе учтена. Практикант, например, абсолютно точно знал, сколько чаевых герр Шульц дал официанту в ресторане, сколько — чистильщику сапог на улице. Такие сводки разбирались на лекциях и засчитывались ученикам как зачёт. Только во время разбора становилась известна фамилия практиканта, составлявшего сводку.
Во всей школе не было человека, с которым Фреду хотелось бы просто поговорить. Он знал, что ни от кого не услышит свежей, оригинальной мысли о новом в науке, об открытиях в астрономии или физике, об интересной книжке. Всё будет трактоваться лишь с точки зрения потребностей разведки.
Да и можно ли мечтать об интересной беседе, если после одного только рукопожатия Нунке, Воронова и особенно Шлитсена хочется немедленно вымыть руки И только вилла Агнессы Менендос — единственное место, куда можно сбежать и хоть немного отвлечься.
Правда, и с Агнессой нельзя быть вполне откровенным и чувствовать себя свободно. Ведь она тоже враг, пусть не по убеждениям, а лишь в силу собственной неосведомлённости, легковерия, экзальтированности.
Бедную женщину вырвали из привычной среды, опутали сетью ложных идей, обманули, изолировали от мира. Она не любит Россию, считая её безбожной и называя всех русских жестокими и злыми. Её убедили, что это сторонники красных расправились с её мужем, сделали дочь калекой, и Агнесса их ненавидит всем сердцем.
А сердце её так жаждет доброты и милосердия. Воплощением доброты и милосердия для Агнессы являются Христос и мадонна, и женщина свято верит, что, неся слово божье во все уголки мира, можно осушить слезы, утолить скорбь, остановить потоки крови.
Наивная душа! Каждый год в день рождения Иренэ несчастная мать посылает в школу стопки молитвенников, которые Нунке принимает с благодарностью и тут же сжигает, потому что их просто некуда девать.
Правда, последнее время глубокая вера экзальтированной женщины несколько поколебалась. Виной тому отчаяние матери, так и не вымолившей спасения для своего ребёнка. Но Агнесса всеми силами старается приглушить этот голос протеста, отогнать от себя сомнения. Ведь в жизни у неё есть только вера — лишившись её, она потеряет все.
Как хочется Григорию помочь этой женщине обрести действительно крепкую опору, открыть ей глаза, пробудить к подлинной жизни эту свободолюбивую душу, скованную догмами католицизма. Спасти, в конце концов, маленькую Иренэ, которой нужны не молитвы, а систематическое лечение в специальном санатории.
Всем сердцем Григорий чувствует, что Агнесса может стать другом. Она не утратила человечности, обычных чувств нормального здорового человека, она искренна и откровенна. С нею можно разговаривать, не боясь, что завтра сказанное в её доме станет известно Воронову, который тоже часто посещает виллу, или духовнику. Его лицемерие Григорий уже дважды раскрыл перед Агнессой, и теперь она в своих отношениях с небом старается обходиться без посредника.
Агнесса любит ездить верхом и сумела приохотить к этому виду спорта своего молодого друга. Когда Иренэ чувствует себя хорошо, их прогулки бывают особенно приятны. Агнесса в такие дни весела и беззаботна. Дома, чтобы развеселить гостя и дочку, она поёт цыганские песни, иногда даже танцует. Фред с её помощью быстро научился играть на гитаре, выучил несколько цыганских мелодий и выполняет теперь роль аккомпаниатора.
А маленькая Иренэ так и льнёт к Фреду. Он мастерит ей игрушки, изучает вместе с нею итальянский язык, которым владеет ещё слабо.
Нунке, конечно, знал, куда зачастил молодой воспитатель, и строго предупредил Фреда, чтобы тот не разговаривал с Агнессой о школьных делах. Патронесса должна знать о школе не более того, что ей сказали. Что ж, до поры до времени Григорий действительно будет избегать этих разговоров, сославшись на переутомление, на то, что школьные дела ему осточертели. Тем более, что Агнесса охотно согласилась: ни о каких делах во время прогулок не упоминать. Они весело болтали о всякой чепухе, иногда просто молчали, и в эти минуты Фред отдыхал душой и телом.
Агнесса все более интересовала его и как человек, и как женщина с не совсем обычным характером. Внешний лоск, о котором в своё время позаботились воспитатели молодой цыганки в Италии и о котором так пёкся покойный Менендос, с годами не исчез, но и не убил в ней её подлинной сущности. В глубине души Агнесса оставалась цыганкой — свободолюбивой, порывистой. Если на виллу заглядывали Нунке и Шлитсен, их принимала красавица-донья с изысканными манерами, элегантно, но скромно одетая. Когда же приходили Фред или Воронов, их встречала совсем другая женщина.
В ярком, пышном наряде, который так ей шёл, она в такие минуты, казалось, и сама перерождалась. Исчезала скованность в движениях, красивый рот становился ещё ярче от озарявшей его улыбки, глаза сияли неподдельной радостью. От официальной, немного надменной патронессы школы не оставалось и следа.
Агнессе пошёл тридцать первый год, Фреду — двадцать шестой. В таком возрасте разница в пять лет не так уж заметна. Они чувствовали себя однолетками, и это ещё больше сближало их.
— Идя ко мне, не приглашайте Воронова! Пусть приходит, когда вас нет, — вырвалось у Агнессы во время последней встречи. При этом она так поглядела в глаза Фреду, что подтекст просьбы стал бы ясен и человеку, значительно менее наблюдательному, чем её собеседник.
Фред был и обрадован и смущён.
Последний раз он допустил бестактность, окончательно испортившую ему настроение. Фред решил проверить свои успехи в итальянском языке и накануне перевёл с русского одну из песенок Вертинского «Безноженька». Почему-то именно она пришла ему на память, хотя он чувствовал, что текст и музыка сентиментальны и в какой-то мере спекулятивны. Автор старался растрогать слушателей типичной мелодраматической ситуацией: у маленькой бездомной девочки, которая днём просит милостыню, а ночью находит приют на кладбище, нет ног. И каждую ночь она молит «боженьку» дать ей, хоть во сне, ноги здоровые и новые…
В тот вечер, сам себе аккомпанируя, Фред пропел песенку Агнессе и Иренэ. И только закончив, понял, что причинил обеим боль. Ведь Иренэ только для того и изучала итальянский язык, чтобы поехать в Ватикан и умолить папу помолиться за неё.
В комнате ещё не зажигали свет, хотя вечерние сумерки завесили окна и открытую дверь веранды тёмно-голубой вуалью. Долго-долго в комнате царила тишина. Потом с кресла, в котором сидела Иренэ, донеслось тихое всхлипывание. Фред понял: Иренэ верила в чудо, в то, что сможет ещё ходить. А в песенке шла речь о глупенькой калеке, глупышке, которая надеялась на «доброго боженьку», могущего вернуть ей ноженьки. Ноженьки здоровые и новые!
Фреду стало стыдно.
— Простите меня, я не подумал!
Кляня себя, он выскочил на веранду, а вскоре совсем ушёл. Потом несколько дней не приходил на виллу.
И вот сегодня записка от Агнессы:
«Непременно приходите сегодня! Ждём. А.»
Выходя за ворота бывшего монастыря, каждый, даже старый кадровый преподаватель или воспитатель, должен был сообщить Нунке, если того не было Шлитсену, если же отсутствовали оба, дежурному, куда и на сколько времени он уходит. Нарушишь это правило — лишаешься права выхода за ворота на две недели, а то и на месяц.
Получив записку, Фред пошёл к Нунке и предупредил его, куда уходит.
— Идите, идите! Похоже, что вдовушка скучает без вас. Ну, что ж, это хорошо! Нам давно пора прибрать её к рукам, да некому. А вы — кандидатура…
Фред почувствовал, как кровь приливает к лицу, резкий ответ готов был уже сорваться с губ, но он сдержался.
Слова Нунке задели его за живое. Вилла Агнессы стала для него тем островком среди трясины, куда можно было убежать от опостылевшей школы, хоть на час забыть о проклятых «рыцарях». На этом островке он чувствовал себя просто человеком. К тому же, сюда не отваживались лезть «практиканты» — всетаки патронесса, дама.
И вот, оказывается, его визиты к Агнессе и то, что она хорошо к нему относится, Нунке собирается использовать, чтобы окончательно запутать бедную жертву в сетях своих преступных планов. И он, Фред, должен сыграть роль соблазнителя беззащитной женщины! Нет, лучше совсем порвать с Агнессой, чем выполнять это позорное задание!
А жаль рвать эти отношения, даже больно! Он так привязался к маленькой Иренэ. Ведь у Григория никогда не было ни брата, ни сестры, так же, как не было семьи, детей. А чувство отцовства, верно, живёт в каждом человеке. Особенно, когда видишь такое обиженное судьбой существо, как эта милая, ласковая девочка…
Но если быть честным, то не только Иренэ манит его в этот уголок. Фреду приятно, что молодая, красивая женщина так доверчиво заглядывает ему в глаза, так ласково пожимает руку, так нетерпеливо ждёт его.
Григорий Гончаренко не предаст память Моники, Нет! Но… но на виллу Агнессы ему приятно ходить. И он будет ходить…
— Вы совсем нас забыли, — укоризненно воскликнула Агнесса, выходя в сад навстречу гостю.
— Только семь часов. А я всегда…
— Мы ждали вас раньше…
Агнесса часто вместо «я» говорила «мы». Правда, чаще это бывало в присутствии Иренэ, но сейчас девочки не было видно.
— А Фред, верно, нас разлюбил! — послышалось из-за кустов.
Фред раздвинул ветки. То, что он увидел, одновременно удивило и обрадовало его. Девочка сидела в своём «выездном экипаже» — так она именовала свою коляску, а перед ней стоял маленький длинноухий мул, которого Иренэ поила молоком из бутылки. Кувшин с молоком держал смуглый, загорелый мальчик лет одиннадцати.
Мул был совсем малыш. Передние ножки его разъезжались, уши были комично прижаты к голове. Но особенно смешным делал его большой розовый бант, болтавшийся на шее. Малыш время от времени переставал сосать и отдыхал, причмокивая губами, потом снова жадно хватал соску.
— Это мой новый Россинант, Фред! Нравится? Иренэ сияла от гордости. — Пей, Россинант, пей, глупенький! И никогда не бойся Фреда, это мой друг.
Девочка была так возбуждена, что на её худеньких и всегда бледных щёчках появился нежный румянец.
— Откуда он у тебя? А это кто — тоже твой новый товарищ? — Фред положил руку на плечо черноглазому мальчику.
— Это Педро, он теперь всегда будет жить у нас. Правда, Педро, ты не захочешь разлучаться с Россинантом и со мной? Ой, гляди, он уже все высосал! Налей ему ещё молока! Мама, ты ведь обещала сшить ему попонку! Малыш может замёрзнуть ночью…
Агнесса тоже весело, возбуждённо рассмеялась.
— Видите, сколько у нас с Иренэ новостей? Пойдёмте в комнаты, надо дошить попонку, и за работой я вам все подробно расскажу.
Разложив на коленях белый тонкий войлок, Агнесса принялась обшивать его красной тесьмой.
— Понимаете, Фред, как счастливо всё сложилось! Позавчера Пепита поймала у наших ворот этого мулёнка, он уже и на ногах не держался. Потом выяснилось, что рядом паслись мулы и малыш отбился от стада… Видели бы вы, как обрадовалась Иренэ. И вдруг через час, а может, и больше — приходит Педро. Это тот мальчик, которого вы видели. На щеках — дорожки от слёз. «К вам в сад не забежал мулёнок? Я недалеко пас стадо, и он вдруг исчез!» Ну, дело ясное, надо отдать… А с Иренэ чуть ли не истерика! «Чьё, — спрашиваю,
— стадо?» Он сказал. Я — на Рамиро и в таверну…
— В какую таверну?
— Ну, в нашу, что стоит на развилке дорог… Хозяин таверны меня хорошо знает и охотно согласился продать мулёнка, а вот мальчика…
— Что? Вы купили и мальчика?
— Не купила, а пришлось дать отступное. Ведь хозяину таверны придётся искать нового пастушка для своих мулов. Теперь Педро живёт у нас. Пепита приготовила ему угловую комнату в верхнем этаже. Но там он только ночует. Они с Иренэ и мулёнком целый день в саду.
— А родители Педро согласились?
— У него нет ни отца, ни матери. Только дядя в Барселоне — чистильщик сапог, у него самого четверо детей. Он-то и отдал Педро внаймы на пять лет… Даже деньги вперёд забрал. Пришлось и их вернуть трактирщику. Дяде в Барселону я тоже кое-что послала… Ну, а теперь скажите, что вы обо всём этом думаете? Правильно я поступила? И не вздумайте говорить, что неправильно! А то мне станет грустно… Я ведь так рада за Иренэ!
— Это прекрасно! У Иренэ появился друг, а ей так необходимо детское общество! Она не станет больше грустить о Россинанте…
— Представляете, она весь день не жалуется ни на какую боль! Но что с вами, Фред? Вы как будто не рады? У вас сегодня печальные глаза и вообще вы не такой, как всегда…
— Откровенно?
— Надеюсь, мы всегда так разговаривали с вами…
— Я хотел бы, чтобы вы держались подальше от таверны и её хозяина.
— Святая мадонна! Неужели вы думаете, Фред, что я… — Брови Агнессы гневно сошлись над переносьем, и, отложив работу, она выпрямилась.
— Я имел в виду совсем не то, о чём вы сейчас подумали, Агнесса, как такая мысль могла прийти вам в голову! Просто вам не надо появляться в таверне.
— Почему?
— Это — скверное место, поверьте мне… Пообещайте, что станете обходить её стороной и забудете о ней. Дайте мне лучше попить…
— Хотите вина с водой?
— Только холодного-прехолодного.
Агнесса вышла и через минуту вернулась с двумя кувшинами, покрытыми капельками росы. Она изучила вкусы Фреда и всегда держала в холодильнике нужные запасы.
Фред с удовольствием выпил залпом стакан холодного, наполовину разбавленного водой вина.
Агнесса пила медленно, задумчиво прищурившись.
— Не сердитесь, но я хочу спросить… Почему вы сказали, что таверна скверное место? Ведь хозяин её Нунке. И потом — я же сама давала деньги на таверну.
Фред не торопился с ответом. Рано или поздно, а придётся рассказать ей о школе все. Но не рано ли? Может быть, только чуть-чуть намекнуть?
— Не хотите говорить, Фред?
— Мы же условились не разговаривать о школе!
— Но речь не о школе, а о таверне.
— Это все равно.
— Как вам не стыдно, Фред! Школа — заведение, угодное богу, а таверна… — Агнесса искренне обиделась.
— Придёт время, и вы сами в этом убедитесь… Много денег вы даёте на таверну?
— Она очень убыточна. Но Нунке уверяет, что когда в Испанию снова начнут ездить туристы…
— Знаете, что я вам посоветую: перестаньте давать деньги на содержание таверны.
— Раньше я могла легко это сделать, а теперь…
— Что же изменилось теперь?
— Нунке требует у меня доверенность на право распоряжаться моим счётом. Тогда ему не понадобится моя подпись на чеках.
— Почему?
— До весны этого года на моём счёту было триста восемьдесят тысяч долларов. Это Нунке настоял, чтобы я держала деньги в долларах… Месяцев пять тому назад счёт увеличился на миллион долларов. Их прислал какой-то неизвестный покровитель нашей школы из Нью-Йорка.
— Прекрасно! Только при чём здесь требование Нунке?
— Он утверждает, что деньги получены от известного лица благодаря его, Нунке, хлопотам. И этот человек хочет, чтобы все финансовые дела школы вёл Нунке… А если он будет распоряжаться финансами, то сможет тратить деньги по своему усмотрению.
— А вы не давайте доверенности!
— Как же я могу?
— Откажитесь — и всё! Более того, скажите, что приглашаете специалиста бухгалтера, который будет проверять расход школы. Требуйте, чтобы Нунке представил смету.
— А что такое смета? — с искренним удивлением спросила Агнесса. Ей надоел длинный разговор о делах, но в душе зародилась тревога. Ведь дело шло о деньгах, а деньги так нужны для ухода и лечения Иреиэ. Что, если Нунке их обеих обманет? Агнесса испугалась.
— Фред! Милый мой друг! Помогите! Я ничего не смыслю в этих расчётах и доверенностях. Знала лишь одно: подписывала чеки по первой просьбе Нунке и все. Куда уплывали мои собственные деньги, откуда поступали новые… Я совсем запуталась… А теперь чувствую, Нунке меня обманывает, он задумал что-то недоброе! Но что я могу сделать, если я совсем, совсем одна. Только вы можете мне что-то посоветовать и помочь. Может быть, это сама мадонна послала мне иашу дружбу за вее мои страдания Агнесса схватила руку Фреда и прижала её к горячей щеке, потом уголком губ прижалась к ней, словно поцеловала…
Фред отдёрнул руку
— Не надо, Агнесса! Я ведь не ваш духовник…
— Вы для меня больше, чем духовник! Вы для меня… один на свете. Понимаете? Единственный близкий человек во всём мире… А теперь уходите, лучше уходите… Я хочу побыть одна. Мадонна! Как хорошо, что вы есть на свете и что вы рядом со мной…
Фред вздрогнул: именно так сказала когда-то Моника…
— Что с вами, Фред?
— Да так, что-то холодно стало.
— Дать что-нибудь накинуть на плечи? Вечер и впрямь холодный.
— Нет, Агнесса, сейчас пройдёт. Вот пойду и мигом согреюсь. — Фред склонился, чтобы поцеловать руку Агнессы, но она его удержала.
— Фред! Сделайте мне приятное!
— Да я…
— Давайте выпьем вина. Чистого вина, без воды!
— Наливайте!
Агнесса наполнила два стакана.
— За что выпьем, Фред?
— Мне бы хотелось, чтобы сегодня тост произнесли вы.
— Согласна… Я цыганка, Фред! Была, есть и буду! А у нас, цыган, есть такой обычай: если у кого-то в шатре радость — радуется весь табор. Если в шатре горе — весь табор плачет и горюет.
Агнесса замолчала.
— Почему вы замолчали, Агнесса?
— Я бы хотела, чтобы не табор, а вы один, понимаете, вы один, Фред, радовались, когда в этом доме будет радость, и грустили, если его посетит горе.
— Это самый лучший тост, какой вы могли произнести…
Они выпили. Вместе. Залпом.
А когда вышли на веранду, вдруг услышали то, чего до сих пор никогда не слышали — не только Фред, но и Агнесса — заливистый смех Иренэ. Девочка смеялась от всего сердца, беззаботно, по-детски.
На цыпочках они подошли к кустам. Педро пускал мыльные пузыри, потом бежал за ними вдогонку и дул, чтобы они не опускались на землю.
— Уйдём отсюда, пусть играют, — тихо прошептала. Агнесса и после долгой пауэы ещё тише прибавила:
— Вот смотрела я на Иренэ, Педро, на вас, Фред… Мадонна пречистая, как хорошо было бы, если б мы могли не разлучаться!
…Отойдя от виллы метров сто, Григорий лёг на сожжённую солнцем траву, положил под голову руки и долго пролежал так, глядя в небо. Оно менялось на глазах. Глубокая синева перешла в нежную голубизну, растворявшуюся на западе в лимонно-жёлтом закате. Затем небосвод вдруг вспыхнул ослепительно розовым светом, и тотчас его словно присыпали пеплом. Лишь на горизонте ещё пылала узкая красная полоска, но вскоре и она погасла.
Наступила ночь — внезапно, как это бывает всегда на юге. Гигантский чёрный бархатный шатёр неба раскинулся так низко, что казалось — протяни руку и достанешь ближайшую звезду. Григорий вздохнул полной грудью. Заснуть бы здесь под открытым небом, забыть обо всём, что терзает сердце тревогой и беспокойством. Но на это он не имеет права…
Григорий поднялся, отряхнул одежду и медленно побрёл по направлению к школе «рыцарей благородного духа».
ЧАСТЬ III
ГЕРР ШЛИТСЕН ТЕРЯЕТ РАВНОВЕСИЕ
Воронов вошёл в кабинет Фреда Шульца, потирая руки от удовольствия, весёлый, возбуждённый, словно ему неожиданно досталось наследство после покойной тётушки или он получил долгожданную посылку из Англии с двумя ящиками «смирновской».
Фред изучил характер старика: его не надо ни о чём спрашивать, все расскажет сам.
Воронов несколько раз прошёлся по комнате, сел на диван, снова поднялся, выключил телефон.
— Вы не видели сегодня Шлитсена? — наконец спросил он.
— Нет.
— Советую не попадаться ему на глаза…
— Не такое уж он высокое начальство, чтобы бояться столкнуться с ним, даже когда он в плохом настроении.
— В плохом? Не то слово! В убийственном! Ужасающем! Попал как кур во щи. И кто? Шлитсен! Всех учит, всем даёт директивы, указания, а сам..
Воронов хохотал, от непомерного возбуждения топал ногами, похлопывал себя ладонями по бёдрам.
Фред знал — Нунке терпеть не может своего заместителя, Шлитсен очень не любит Воронова, а тот ненавидит Шлитсена и Нунке вместе взятых. И если Воронов сегодня так рад, значит, у Шлитсена действительно крупная неприятность.
Фред поднялся, налил стакан воды, подал генералу.
— Не воду — водку я буду сегодня пить! Напьюсь как сапожник. До зелёного змия!
У Шлитсена было уже несколько очень резких стычек с Шульцем, и каждая только увеличивала их взаимную неприязнь. Воронов это знал и, должно быть, именно поэтому сейчас пришёл.
— Да скажите вы, наконец, в чём дело?
Генерал сел, почти вплотную придвинув стул к креслу Фреда.
— А как же! Помните, перед вашим отъездом в Мюнхен я рассказал вам об операции «Прогулка», подготовленной Шлитсеном?
— Припоминаю в общих чертах…
— Речь шла о засылке большой группы агентов в прибалтийские районы Восточной зоны Германии Висмар, Варнемюнде и Росток. Вспомнили?.. Сославшись на ответственность этой операции, Шлитсен сам готовил ребят, сам снаряжал их в путь. Хотел, знаете, блеснуть, показать высший класс! Вы-де, мол, господин Воронов, олух царя небесного, а вот я… Поглядите, каких орлов отобрал, как их вымуштровал, как хитро составил план засылки… Особенно надёжной Шлитсен, да и Нунке, к слову сказать, считали группу, засланную в Росток под видом освобождённых из русского плена… Документы им дали — пальчики оближешь…
— Да, да, теперь отлично вспомнил… Вы мне тогда подробно рассказывали, — нетерпеливо перебил Фред, которому не терпелось поскорее узнать, что произошло.
— Ко всеобщему нашему удивлению в назначенный час связь с группами не смогли наладить.
— Тоже припоминаю…
— И вдруг недели три тому назад связь была восстановлена. И какая: регулярная, секунда в секунду.
— Вот это для меня новость!
— Шлитсен ходил гоголем! Думбрайту — подробная шифровка. Не знаю, что тот ответил, только Шлитсен ещё больше задрал нос. А «орлам» — все новые и новые задания…
— А что оттуда?
— Шифрованные ответы о том, что все выполнено. Просьба прислать ещё людей, поскольку объём работы увеличивается… Это немного обеспокоило Нунке. Тайком от Шлитсена от перебросил в восточную зону «Чёрного». Знаете? Ну, «Шварца».
— Первый раз слышу.
— Ловкий черт! Побывал во всех трех пунктах… Вчера вернулся.
— И что?
Воронов снова расхохотался.
— Провал! Все провалились, все до одного! Сидят, милашки, как чижики! — Воронов положил два пальца одной руки на два пальца другой — вышло подобие решётки, — и приставил к глазу. — Более того, явочные квартиры, подготовленные ещё покойным гестапо, тоже провалились: все как одна раскрыты. .
— Но связь? Она ведь была регулярной!
— Была. И регулярная. Только её поддерживала… советская контрразведка.
Теперь сдерживался от смеха Фред Шульц, хотя именно он имел полное право и смеяться и радоваться…
— Представляю себе, — комментировал Воронов, — вся агентура сидит в тюрьме, а высокочтимый герр Шлитсен даёт заданием за задание советской контрразведке! Помощь посылает! Чуть ли не пятую часть немецкого отдела школы переправил. Как вам это нравится?
Фред нахмурился.
— Не разделяю вашей радости, генерал, и, признаться, совсем вас не понимаю. Шлитсен, конечно, не тот человек, которому можно сочувствовать, я и сам его недолюбливаю, но ведь речь идёт не о нашем с вами отношении к нему, а о дорогом для нас обоих деле. Ведь это не Шлитсен пострадал, а дело! Как же вы можете…
— Прямолинейность мышления, Фред! Свойственная вам, немцам! А психология человека — вещь сложная. Человеческий мозг со всеми его извилинами это ведь настоящий лабиринт! С перекрёстками, тупиками, неожиданными поворотами направо, налево, назад… Взять хотя бы меня. Ненавижу большевиков? Ненавижу! Лютый враг для меня новая Россия? Непримиримый! Казалось бы, яснее ясного. Вреди, разрушай, взрывай, бей по самым уязвимым местам! Я это и делаю. А мысль, что руководила моими действиями, — скок, и куда-то в сторону! «Наши бесятся, услышав о том-то и том-то, а русские знай себе строят, знай наращивают мощь!» — злорадно шепчет какой-то голос. И при этом, заметьте, ненависть к моим бывшим соотечественникам не уменьшается, а увеличивается. Знаю, что занесу руку для нового удара, мечтаю, чтобы удар был смертелен! Вот и разберитесь в этой раздвоенности чувств. Мне как-то довелось видеть одного убийцу, который замучил собственную мать, а потом заливался слезами над её трупом. Может, думаете, фальшивил? В том-то и дело, что совершенно искренне рыдал.
— Это уже, господин Воронов, какая-то патология.
— А где граница между патологией и нормальным состоянием? В наш век…
В коридоре послышались шаги, и Фред быстро включил телефон.
— Очень обидно, что так получилось, — сказал Шульц, и нотки глубокого огорчения прозвучали в его голосе.
— Такой удар по школе! — вздохнул Воронов.
Дверь без стука открылась, и в комнату вошёл Шлитсен. Куда только делись его высокомерие и надменность. Он напоминал сейчас просителя, которому стыдно поднять глаза на своих благодетелей…
— Вы не знаете, Фред, куда именно и надолго ли уехал Нунке? — спросил заместитель начальника школы, напрасно стараясь скрыть волнение. — Вечером я отлучался и поэтому…
— В Фигерас. Я вчера дежурил, и он сказал, что едет в Фигерас… Когда его ждать, не решился спросить он был то ли взволнован, то ли сердит…
— Так и есть, верно, всё узнал! — вырвалось у Шлитсена, но он тотчас взял себя в руки. — Вас, кажется, зачем-то разыскивал дежурный, — обратился он к Воронову.
И Фред, и генерал поняли: это лишь повод, чтобы остаться с Шульцем с глазу на глаз.
— Неприятность? — осторожно спросил Фред, когда Воронов вышел.
Шлитсен опустился на стул, подпёр голову руками и уставился в какую-то точку на полу
— Большая! — наконец, выдавил он из себя. — Такой не бывало на протяжении всей моей карьеры… И если б действительно допустил ошибку или там небрежность! Перебираю в памяти мельчайшие подробности, малейшие детали и не могу найти ничего такого..
— Простите, герр Шлитсен, но я ведь не знаю, в чём дело!
— Да, да… я ничего не рассказал… Нарочно отослал Воронова, чтобы остаться наедине, и словно лишился дара речи… Прямо язык не поворачивается…
— Вы меня встревожили. Но если вам неприятно говорить об этом…
Прерывая свой рассказ нареканиями на неожиданное стечение обстоятельств, Шлитсен сообщил, что именно произошло. Фред слушал молча, время от времени сочувственно покачивая головой.
— И главное — не допускаю, чтобы кто-то выдал наши планы, — горячо убеждал Шлитсен. — Всю операцию мы планировали вдвоём с Нунке. Только впоследствии привлекли Воронова: работая ещё в царской разведке, он хорошо изучил балтийское побережье. Воронов пьянчужка, болтун, но даже в состоянии полного опьянения о таких вещах не обмолвится ни словечком. Опыт, приобретённый в течение десятилетий, выполняет в таких случах роль механического регулятора… Мы проверяли с Нунке… Итак, Воронов вне подозрений…
— А вы не допускаете мысли, что среди засланной вами группы был двойник, в своё время завербованный советской контрразведкой?
— Нет! — твёрдо возразил Шлитсен. — Все эти ребята проверенные, я знаю их не первый день, ещё со времён оккупации Украины.
— Понятия не имел, что вы были на Восточном фронте, — удивился Фред
— Весь сорок второй год . Нет, даже несколько последних месяцев сорок первого… Начальник зондеркоманды… — на губах Шлитсена промелькнула улыбка, по лицу словно пробежал отблеск далёких воспоминаний. — О, то было время незабываемое и неповторимое!.. Киев, потом Житомир, снова Киев… Тогда мы верили, что это бесповоротно и навсегда…
— Что же, многие немецкие солдаты навсегда остались среди русских просторов… Навеки! А впрочем, им можно позавидовать! Они легли в землю, когда слава рейха была в зените, так никогда и не узнав о позорном поражении, о брошенных под ноги русским знамёнах, о Нюрнбергском процессе…
Шлитсен быстро опустил веки, но Фред успел заметить, что в его мутных бледно-серых глазах промелькнул страх.
— Герр Шлитсен, вы не обидитесь, если я… Фред замолчал, словно колеблясь.
— Вы немец, и я немец! Мы можем разговаривать откровенно, — буркнул Шлитсен.
— Именно поэтому я и позволю себе… Не сочтите это за дерзость, ведь вы старше меня по возрасту, по чину, и что-то советовать вам…
— Повторяю, можете говорить откровенно.
— Видите ли, я исхожу из правила: бережёного бог бережёт. Мы здесь, конечно, все свои, но ведь могут же как-то измениться обстоятельства, ситуация… всегда надо предвидеть самое худшее…
— Хорошо, хорошо, все это понятно… — всполошился Шлитсен.
— Вы только что рассказали мне о своём пребывании на оккупированной территории Украины, в частности в Киеве… Сказали, что занимали должность начальника эондер-команды… Я бы не советовал вам широко это разглашать. В шумихе, поднятой мировой прессой вокруг Нюрнбергского процесса, вокруг так называемых военных преступников, всякий раз упоминается и Бабий Яр. Если сопоставить ваше пребывание в Киеве, время должность начальника зондер-команды… Вы понимаете, какой напрашивается вывод?
Шлитсен поднял глаза на Шулъца. Во взгляде его теперь застыл не страх, а нескрываемый ужас.
— Вы думаете… вы думаете… — заикаясь, бормотал он.
— Да, в ходе процесса могут вспомнить и ваше имя, — неумолимо продолжал Шульц. — Зачем же вам самому излишней болтливостью нарываться на неприятности… Простите, что я говорю так резко, но…
— Глупости! До Испании их руки не дотянутся! почти истерически закричал Шлитсен. — Даже если бы встал вопрос обо мне…
— Конечно! А впрочем…
— Что «впрочем»?
— Именно вчера я просматривал итальянские газеты. Они сообщают… Кстати сказать, вот одна из них! Послушайте! — Фред медленно и раздельно прочитал:
«Как сообщает наш корреспондент из Мадрида, большая часть бывших нацистов, боясь ответственности за совершенные во время войны престуления, поспешила уехать из Испании в страны Латинской Америки…»
— Не пойму! Ведь Франко…
— Бедняга Франко чувствует себя не очень уверенно. Ведь он не просто сочувствовал Гитлеру и Муссолини, а поставлял им сырьё для военной промышленности, его «Голубая дивизия» воевала на Восточном фронте… Ясно, он теперь выслуживается перед победителями…
— И вы думаете?.. — хрипло спросил Шлитсен, не заканчивая фразы.
— Франко понимает: ему сейчас не надо дразнить победителей. Он, не задумываясь, может пожертвовать десятком, двумя так называемых военных преступников, чтобы задобрить союзников и хоть немного реабилитировать себя…
Зазвонил телефон, Фред неторопливо взял трубку.
— Слушаю… Привет! С возвращением!.. Да, у меня. Хорошо!
Шлитсен, подняв брови, всем корпусом подался «перед, прислушиваясь к разговору.
— Вернулся Нунке, — пояснил Фред, кладя трубку — Немедленно вызывает вас к себе.
Опираясь двумя руками о стол, Шлитсен медленно поднялся. Нижняя губа его отвисла и слегка дрожала, на не бритых сегодня и не разглаженных электромассажем щеках резко обозначились морщины.
— Придётся идти, — устало и хрипло произнёс он и, с трудом переставляя ноги, поплёлся к двери.
Глядя на ссутулившуюся спину, бессильно повисшие вдоль тела руки, на полулысый затылок, Григорий на миг представил себе другого Шлитсена: наглого и надменного завоевателя, безжалостного палача, который, презрительно усмехаясь, небрежно поднимает два пальца, давая знак, что можно начинать страшную расправу над тысячами беззащитных людей. Отец подробно рассказывал, что проделывали такие вот шлитсены в оккупированном Киеве! О, тогда герр Шлитсен не думал о возмездии! Он упивался безграничной властью над ранеными красноармейцами, стариками, женщинами, детьми… Гордился своим «превосходством», бравировал равнодушием к слезам, стонам, крови… Надеялся на безнаказанность! Но стоило лишь намекнуть на возможность ответственности, куда девались и самонадеянность и чванливость! Чуть не помер от страха! Вот тебе и «супермен»!
Из задумчивости Григория вывел телефонный звонок. Опять звонил Нунке.
— Берите мою машину и немедленно на аэродром! Приезжает мистер Думбрайт! Извинитесь, что я сам не смог его встретить — у меня неотложное дело.
На поездку к плато, приспособленному под аэродром, ушло минут двадцать. Остановив машину у домика, который одновременно был приспособлен и под служебное помещение, и под зал ожидания, Григорий вышел и с сомнением поглядел на небо. Ветер гнал клочковатые облака, то собирая их в сплошную тучу, то вновь разрывая. Погода была явно не лётной! И действительно, дежурный по аэродрому сообщил, самолёт ещё не запрашивал о посадке.
Не заходя в помещение, Григорий зашагал по кромке лётного поля, радуясь, что может побыть один, вне стен опостылевшей школы. Ветер, правда, холодный, осенний, но он не мешает течению мыслей, рождённых разговором со Шлитсеном, а наоборот, как бы подгоняет их.
Киев… Григорий видит его ещё в развалинах. Каков он сегодня? Газеты, поступающие в распоряжение руководителей русского отдела, пишут о его восстановлении. Каким же будет лицо родного города? Сумеют ли строители гармонично сочетать старое с новым?
Если закрыть глаза и повернуться против ветра, можно представить себе, что стоишь на днепровской круче. Как запечатлелась в памяти каждая подробность открывающегося сверху бескрайнего ландшафта! Неповторимого, присущего только Киеву… Сейчас там, верно, уже зима: ведь кончается ноябрь… А может быть, и нет. Может быть, парки над Днепром все ещё в золоте и багрянце. Ведь Киев славится красотой и длительностью своей золотой осени.
И здесь тоже осень. Чужая осень . Григорий даже не заметил, как она подкралась. Время для него остановилось. Словно измеряется оно иными законами, иными приметами, сделанным и тем, что ещё предстоит совершить.
До слуха донеслось гудение мотора. Дежурный по лэродрому и автомоторист уже бежали по бетонной дорожке. Вздохнув и проведя рукой по лицу, словно отгоняя далёкое видение, Григории тоже направился к середине поля, проклиная в душе пилота за мастерство, с которым тот вёл самолёт на посадку.
— Хелло, Фред! — крикнул Думбрайт, как только ступил на трап, который подкатили к самолёту. По цсечу чувствовалось, что фактический начальник шкогы чем-то взбудоражен.
— Привет, босс!
Пожимая руку, Думбрайт любил похвастать силой, его пальцы, словно тиски, сжимали ладонь того, с кем он здоровался. Зная это, Григории заранее напряг мускулы
— А, боитесь! — улыбнулся Думбрайт.
— Только предосторожность, а это ещё далеко не страх.
— Пхе, Фред! Могли бы сделать приятное своему начальству!.. А впрочем, мне нравится та независимость, с которой вы держитесь! Иногда я забываю, что вы немец… Надеюсь, я не задел ваши национальные чувства!
Григорий, то есть Фред, — сейчас он должен быть только Фредом! — не успел ответить. Рядом послышалось удивлённое, даже немного испуганное восклицание:
— Сомов?
Фред быстро оглянулся. Немного правее трапа стоял не кто иной, как Протопопов! Позеленевший от болтанки в воздухе, с удивлённо разинутым ртом, он выглядел совершенно ошарашенным.
Из рассказа Хейендопфа Думбрайт знал об оригинальном знакомстве Протопопова с Шульцем-Сомовым и теперь от всей души потешался над неожиданной встречей.
— Я знаю, как приятно встретить на новом месте старого знакомого, мистер Протопопов! Поэтому не предупредил вас об этом маленьком сюрпризе, — насмешливо пояснил Думбрайт своему спутнику — Ну, что же вы стоите и не здороваетесь, как положено старым приятелям!
Протопопов заставил себя улыбнуться
— Не скрою, мистер Думбрайт, растерялся.. Когокого, а Сомова чтобы Сомов..
— Коротенькая поправка, — прервал Думбрайт, не Сомов, а Фред Шульц! К слову сказать, ваше ближайшее начальство… А теперь все! Поехали!
Взявшись за руль, Думбрайт кивком пригласил Фреда сесть рядом
— Что нового в школе? — спросил он, как только они отъехали
— Новостей много, но я хотел бы, чтобы вас обо всём проинформировал Нунке.
— А как себя чувствует Шлитсен?
— Не сказал бы, что ему можно позавидовать
— Ещё бы! — Думбрайт в сердцах сильно нажал на педаль, и машина рванулась вперёд.
— Значит, вы в курсе?
Думбрайт не ответил, очевидно не желая продолжать разговор при Протопопове. Да и дорога так петляла среди холмов, что от водителя требовалось напряжённое внимание.
У ворот бывшего монастыря Шульц и Протопопов вышли. Фреду надо было устроить новичка, и это, как всегда, отняло много времени. Пока шли переговоры с дежурным об изолированном помещении для новоприбывшего, Протопопов мрачно молчал, лишь изредка бросая на Сомова-Шульца подозрительные, насторожённые взгляды. Нелегко было бывшему власовскому вожаку смириться с мыслью, что отныне он должен подчиняться этому зазнайке. Когда Шульд передал его с рук на руки дежурному, Протопопов облегчённо вздохнул. Рад был избавиться от неожиданных хлопот и Фред. Ему не терпелось узнать, как разворачиваются события в школе.
Ждать пришлось недолго. Ещё издали он заметил Воронова, который шёл ему навстречу по аллее парка
— Ну, сегодня у Шлитсена бенефис! — прогудел тот на ухо, беря Фреда под руку. — Мы с ним были в приёмной Нунке, когда прибыл Думбрайт, так босс со мной поздоровался, а ему даже головой не кивнул! Много бы я дал, чтобы незримо оказаться в кабинете Нунке
— А почему незримо?
— Вы думаете, от Думбрайта попадёт только Шлитсену? Нет, батенька мой, достанется всем! И Нунке, и мне, и вам.
— За что же нам?
— За компанию и с целью профилактики. Ага, чуть не позабыл! Думбрайт прилетел один? С ним никого не было?
— Один не очень приятный тип, мой старый знакомый. Но откуда вы узнали, что прилетел кто-то ещё?
— Предупредил Нунке. Так, так, выходит — их преподобие прибыли…
— Почему преподобие?
— Так ведь это на мою голову будущий резидент с ограниченными обязанностями.
— Я не понимаю.
— Я должен сделать из него руководителя секты пятидесятников в Белоруссии.
— Значит, он будет работать по специальности?
— Теперь уже не понимаю я!
— Я же вам сказал — это мой старый знакомый. Он и до войны руководил сектой где-то на Брянщине.
— Может быть, присядем на скамейку, и вы подробно мне расскажете? Приятно будет ненароком ошеломить их преподобие своей осведомлённостью.
— Он не из тех, кого легко ошеломить, в прочем…
Но рассказать Воронову, что он знает об «отце Кирилле», Фреду не пришлось. Только они облюбовали уютную скамью, как к ним быстро подошёл взволнованный Шлитсен.
— Уф! — выдохнул он, опускаясь рядом. — Ну и ну! Увидел вас в окне — не выдержал. Слава богу, пронесло!
— Что пронесло? Все уладилось? — в голосе Воронова чувствовалось явное разочарование.
— Не совсем. Не больно уж хорошо, но и не так худо, как можно было ожидать. Нунке отстоял! Остаюсь при школе…
— Разве речь шла о вашей… отставке?
— Представьте себе, герр Шульц! Именно об… отставке. Думбрайт настаивал, чтобы я немедленно покинул школу. И если бы не герр Нунке.. его благородство…
— Благородство? — пожал плечами Воронов. Просто он спасал своего заместителя, боясь остаться без помощника..
— А если я скажу вам, что больше не заместитель Нунке?
Лицо Воронова тотчас просияло.
— Тогда кто же вы?
— Переходу в ваше распоряжение, герр Шульц. Шлитсен поднялся и щёлкнул каблуками.
— В моё распоряжение? — переспросил крайне удивлённый Фред.
— Так точно!
— Но какие обязанности вы будете выполнять в русском отделе?
— Читать совершенно новую дисциплину защита от собак.
Воронов победоносно взглянул на Фреда, но тот отвёл глаза. Он и так едва сдерживался от смеха.
МИСТЕР ДУМБРАЙТ ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ
— Я противник тостов, мистер Думбрайт, особенно при встрече с глазу на глаз. Тосты нарушают интимность обстановки… Но сегодня я хотел бы сделать исключение. Поднимаю этот бокал за вас! Я просто в восторге от вашей энергии и работоспособности! сказал Нунке за ужином и, перегнувшись через стол, чокнулся с боссом.
И действительно, с момента приезда в школу «рыплрей благородного духа» Думбрайт работал не покладая рук. Просыпался босс ровно в семь утра, полчаса уходило на гимнастику, затем он одевался, выпивал чёрный кофе без сахара, но обязательно с сухариками, с вечера побрызганными лимонным соком. Все он делал очень быстро, посматривая на стрелки часов и не разрешая себе потратить ни секунды лишней сверх ассигнованного на то или иное занятие времени.
В половине восьмого Думбрайт быстро выходил из отведённого ему бокса и возвращался в него обратно ровно в двенадцать — завтракать.
За четыре с половиной часа Думбрайт успевал осмотреть несколько десятков боксов, в которых жили воспитанники школы, чтобы лично проследить за подъёмом, туалетом или завтраком, всюду требуя точной регламентации. Потом он шёл в классы, где проводились групповые занятия. Поскольку каждая группа состояла из трех человек, это отнимало немало времени. Тем более, что Думбрайт не просто наблюдал, как будущие диверсанты осваивали борьбу, нападение, разоружение, а и сам активно включался в процесс обучения, демонстрируя отличные навыки в применении различных приёмов.
Из классов босс спешил в так называемый «оружейный зал», где «рыцари» учились обезвреживать д заряжать мины, демонстрировали своё умение закладывать их под мосты, железнодорожное полотно, заводские станки, макеты которых были расставлены здесь же, в бывшей монастырской трапезной. Мистер Думбрайт не гнушался сам подлезать под тот или иной макет, чтобы проверить, правильно ли заложена мина, спорил с инструкторами и преподавателями, критиковал методы обучения, иногда нарочно вносил абсолютно неприемлемые предложения и горячо их отстаивал, чтобы проверить квалификацию того или иного мастера диверсионных дел.
Из «оружейного зала» он направлялся в тир, который находился в бывшей церкви и соединялся с залом длинным коридором без окон.
Здесь обучали убивать.
Мишенями служили искусно сделанные манекены в рост человека. Они двигались по специально сделанным рельсам, иногда показывались над полом или на миг выглядывали из какого-нибудь отверстия. Двигались медленно, быстро, с молниеносной быстротой… Будущие агенты и даже диверсанты обучались здесь индивидуально. По каждому манекену можно было стрелять только раз. После выстрела Думбрайт вместе с инструктором проверял, куда именно попала пуля. Ведь от «рыцарей» требовалось умение попасть в голову или грудь, притом обязательно так, чтобы первый же выстрел можно было считать смертельным.
Сам Думбрайт, к превеликому своему сожалению, стрелял неважно и всячески избегал демонстрировать мастерство убийцы. Бессильный показать высший класс стрельбы, он компенсировал это отборной руганью. Если кто-либо из «рыцарей» промазывал, босс с пеной у рта отчитывал виновного гак, что даже ему самому не хватало слов.
Рядом с тиром, в бывшем правом притворе, отгороженном теперь сплошной каменной стеной, помещался «секретный кабинет». Здесь осваивали новейшую американскую диверсионную технику. Последней «новостью» были электроперчатки и потайные пульверизаторы. Думбрайт наглядно их демонстрировал. По поверхности такой перчатки, соединённой с бесшумным моторчиком, находящимся в кармане брюк, пропускался электроток. Стоило только положить руку в перчатке кому-либо на плечо, и человек терял сознание, иногда на очень длительное время. Пульверизатор клали в верхний карман пиджака, и он выглядывал оттуда, как острый уголок обычного белого платка. Но от этого «платочка» тянулась тоненькая трубочка, конец которой лежал в левом нижнем кармане. Разговаривая, можно было незаметно нажать грушу в конце трубочки, и в лицо собеседника била короткая струя какой-то жидкости. Так же, как и при соприкосновении с электроперчаткой, человек терял сознание.
Для практики в «секретном кабинете» манекены не годились. Практиковались на живых мишенях, то есть на том балласте, который постепенно образовывался в школе из агентов, не сумевших справиться с заданием, из искалеченных во время перехода границы, из шпионов, по тем или иным причинам «вышедших в тираж». Вместо обещанной пенсии две последние категории снова получали новое задание: выполняли в школе роль обслуживающего персонала или подопытного материала. Случалось, что после некоторых опытов с пульверизатором, перчаткой или каким-либо другим прибором эти неудачники так и не приходили в себя. Тогда их тайком хоронили на монастырском кладбище.
Проверив, как осваивается новая техника, Думбрайт ровно в одиннадцать пятьдесят возвращался к себе завтракать. Как и утренний кофе, завтрак всегда был одинаков: варёная холодная баранина, приправленная различными специями и обильно политая уксусом, несколько тоненьких ломтиков сыра со сладким вином и большой апельсин. Завтракал Думбрайт всегда один. Все знали, что от двенадцати до тринадцати беспокоить его не положено: он готовится к самой важной работе — к посещению класса «А».
Класс «А» специального помещения не имел. Кандидаты в агенты обучались в тех же боксах, где жили. Инструкторы, преподаватели, воспитатели приходили к каждому отдельно.
Сейчас все внимание Думбрайта сосредоточилось на тех, кто уже заканчивал обучение или закончил его и вот-вот должен был выехать к «месту назначения». Оно не было известно ни преподавателям, ни инструкторам. Последние лишь отвечали за усвоение теоретического и практического курсов обучения. Всё остальное их не касалось. О месте назначения знал лишь сам новоиспечённый агент, Нунке да ещё воспитатель, роль которого на данном этапе подготовки необычайно возрастала: под его руководством ученики класса «А» изучали условия жизни того района, куда их направляли, его этнографические особенности, экономику, подробный — до мельчайших деталей — план местности и прочее.
Одновременно будущему агенту прививались и все те навыки, которые бы давали возможность в новой среде чувствовать себя свободно и ничем не отличаться от местных жителей.
Последнее время при «освоении местности», как именовалась эта дисциплина в школе, самое большое внимание уделялось систематическому чтению советских газет данного района. Центральные газеты выписывались через различные официальные каналы, а затем поступали в школу. Хуже обстояло дело с районными и особенно с многотиражками — заводскими или институтскими. Их нелегально пересылали через «почтовые ящики» или почтальонов-туристов.
Ещё во время своего первого появления в школе «рыцарей благородного духа» Думбрайт поучал Нунке:
— Газеты советских заводов и институтов — это неисчерпаемый источник необходимой нам информации. Мы должны добиться, чтобы школа получала их как можно больше, чтобы поступали они систематически… Подчёркиваю: имеет смысл только систематическое чтение. Отдельная корреспонденция, заметка или статья могут вам ничего не сказать, а сопоставляя их, подвергая анализу сведения, полученные вчера, сегодня, завтра, можно узнать, какую продукцию выпускаег завод, сколько в нём цехов, как они оборудованы, выпуск какой новой продукции внедряется и т.д.
— Вы совершенно правы, — оправдывался Нунке — Я и впрямь недооценил этот источник. А должен был первым за него ухватиться. Вам известна история с журналистом Якобом Бертольдом?
— Что-то слышал, но сейчас не припомню.
— Это немец, антифашист. Накануне мировой войны он бежал в Швейцарию и опубликовал книгу, где доказывал, что Гитлер готовится к захватнической войне. В подтверждение своего прогноза Бертольд абсолютно точно называл количество наших дивизий, более того — раскрыл всю дислокацию армии фюрера. По приказу Гитлера мы, то есть немецкая разведка, — кстати, я тоже принимал участие в этой операции, — выкрали Бертольда и привезли в Германию. Конечно, допрос, требование назвать имена предателей, выдавших военную тайну. И, представьте себе, Якоб Бертольд наглядно убедил нас в том, что всю информацию о дислокации наших войск он почерпнул из наших газет и журналов
— Вот-вот… А у вас же перед войной цензура свирепствовала. И вообще вы, немцы, более пунктуальны и осторожны, нежели славяне.
На следующий день Нунке дал указание по всей агентурной сети о систематическом изучении советской районной прессы и многотиражек, которыми раньше пренебрегали. В классе «А» ввели специальную дисциплину.
Навещая каждого воспитанника, заканчивающего класс «А», Думбрайт обращал особое внимание на знание такой прессы и «гонял» по ней учеников, как по учебнику. Он требовал, чтобы они назубок знали фамилии всех руководящих работников района или области, имена знатных людей, даты съездов, конференций, интересных собраний, репертуар местных театров и кино. Необычайно интересовала его и самодеятельность. Нунке заметил, что босс с удовольствием выслушивал тех, у кого была склонность к музыке, живописи или литературе.
Вот и сегодня он провёл чуть ли не час в двадцать восьмом боксе, слушая слабенькие стишки одного доморощенного поэта.
— Я даже представить себе не мог, что вы так интересуетесь литературой и особенно поэзией, — удивился Нунке.
— Поэзия? Это вы о том, из двадцать восьмого? расхохотался Думбрайт. — Он такой же поэт, как вы миссионер.
— Тогда почему же вы провели с ним столько времени?..
Думбрайт снисходительно похлопал Нунке по плечу:
— До мая сорок пятого борьба шла вооружённая нужны были автоматы, пушки, самолёты. Сейчас мы начали борьбу умов, идеологий. Иная борьба — иное оружие: философия, живопись, музыка, литература. Уверяю вас, агент, который организует литературный кружок или подпольную выставку картин нужного нам направления, стоит не меньше, чем специалист по активным диверсиям. Вот почему я слушал опусы этого рифмоплёта. Пойдёмте скорее ужинать, хочется прополоскать горло!
«Полоскал горло» Думбрайт лишь вечером чистым бренди, и весьма основательно. Впрочем, пьяным Нунке его никогда не видал. Только краснело лицо да громче становился голос.
В этот вечер он тоже много выпил, хотя и цедил бренди сквозь зубы маленькими глоточками, словно смаковал тонкий букет вина.
Неожиданно для Нунке Думбрайт отставил только что налитую рюмку.
— Съездим на аэродром, поглядим на парашютистов? Хочется на воздух!
— Прыжки начнутся только через час. Может быть, взглянете на карту? Вы приказали приготовить к вечеру!
— Хорошо. Тащите карту!
Нунке долго колдовал возле замка сейфа, наконец, вытащил вчетверо сложенную карту европейской части Советского Союза, испещрённую кружочками, квадратиками, треугольниками, и разложил на столе.
Думбрайт долго и внимательно изучал эти значки.
— Мало! До смешного мало! И это все, на что способна ваша школа?
— Максимум! Но ведь мы не одни, существуют десятки других подобных заведений…
— Мало! Мало! Боже, как мало! — упрямо повторял Думбрайт, продолжая изучать карту.
— Если взять нашу школу в отдельности. Но ведь вы сами сказали, что списки бывшей немецкой агентуры попали к вам! Выходит…
— Этой агентуры не существует, мистер Нунке! Практически она равна нулю! Если и сохранился какой-нибудь неразоблачённый агент, то мы не такие дураки, как Шлитсен, чтоб на него рассчитывать.
— Преувеличение, мистер Думбрайт, уверяю вас! Отступая из России, мы позаботились о том, чтобы оставить там широкую агентуру и хорошо законспирированные явки. Таким образом…
— А вышел пшик! Мы тоже обрадовались, Когда к нам попали ваши списки. Помните, я даже хвастался перед вами! А что получилось на практике? Прошло немногим больше полугодия, и списки эти спокойненько можно выбросить на помойку. Ваша прежняя агентура — сегодня миф! Одни сами пришли в советскую контрразведку с повинной и рассказали всё, что знали, других схватили на месте преступления! Когда ниточка в руках, клубочек разматывается и разматывается… Те одиночки, которые, возможно, притаились, словно мыши в норках, надеются, что о них позабыли… Фактически в России надо все начинать сначала.
Думбрайт сердито отодвинул карту и заходил по кабинету.
— Спрячьте это до завтра! Надо что-то придумать… Кстати, как дела у Воронова и Шульца? Сегодня я их почему-то не видел. Баклуши бьют? Пойдите разузнайте! А я тем временем напишу патрону. Не думаю, что его порадуют наши новости.
— Я только позвоню Шульцу, узнаю — у себя ли он. Вы не возражаете?
Думбрайт вдруг вспылил:
— Надо так поставить дело, чтобы вам докладывали, а не бегать разыскивать своих подчинённых!
— Очевидно, Фред на аэродроме, а Воронов ещё не закончил занятий со своими святошами. Пойду проверю…
Назначенный руководить секцией сектантов, Воронов назвал её классом «Аминь».
— Почему «Аминь»? — удивился Думбрайт, услышав название.
— «Аминь» значит «конец», — хитро прищурился Воронов, возможно, чтобы скрыть грусть, невольно прозвучавшую в голосе. — Мне пошёл семьдесят первый. Думаю, что воспитание кадров пресвитеров, священников и руководителей разных сект моё последнее занятие . Потому и «Аминь»..
Думбрайт, любивший неожиданные названия и прозвища, рассмеялся.
— Только вот что, мистер Воронов, — предупредил он, — не приучайте ваших преподобных к водке! Дай вам волю, так на вас не напасёшься!
— Высокочтимый мистер Думбрайт, и вы, уважаемый герр Нунке! Я не знаю, как обстоят дела в современной России с сектами, церквами и их служителями, но прекрасно помню сеятелей на ниве божьей России дореволюционной — религиозной, суеверной и пьяной. Вы тогда не нашли бы ни одного попа, дьячка, пономаря, который не выпил хотя бы двух рюмок, на крестинах, именинах, свадьбе, поминках, на рождество, на Новый год, на крещение, на масленицу, на пасху, вознесение, троицу, на заговенье перед Петровками, на Петра и Павла, на, на, на… А если сосчитать всех святых да угодников им же несть числа, — не бывало и дня, чтобы поп со своим причтом не пил… Не думаю, чтобы как раз здесь что-либо изменилось! Ведь это даже не новая и старая Россия, а древняя Русь, веселье которой, как сказал равноапостольный князь Владимир, «есть пити»… Аминь!
Последнее слово Воронов пропел во весь голос, и оно эхом прокатилось под сводами школы. Думбрайт зажал уши.
— Колоритная фигура! — сказал он, когда генерал вышел. — Давно работает на вас?
— Лет двадцать.
— А до этого?
— «Интелидженс сервис». Есть основания предполагать, что уже во время первой мировой войны он был связан с английской разведкой, поэтому и эмигрировал в Англию после революции в России.
— Почему перешёл к вам?
— Кто-то из белоэмигрантов выпустил в Париже мемуары, где припомнил и заслуги генерала, который с ведома и по поручению русской разведки ловко морочил голову своим английским коллегам. Воронову дали пинка под зад, и он предложил нам свои услуги.
— Очевидно, генералу есть что вспомнить!
— Ещё бы! Мог бы написать несколько томов любопытнейших воспоминаний: всё-таки прошёл школу трех разведок и знаком с их кухней.
— То-то и оно… — повертел головой Думбрайт.
— У вас возникли какие-то сомнения относительно Воронова? Уверяю вас, он служит нам верой и правдой! Ему больше некуда податься, да и стареть стал.
— Именно это меня и беспокоит.
— Вас волнует вопрос о пенсии?
— Какой пенсии? — удивился Думбрайт. — Ах, это вы об обещанной компенсации при выходе в тираж? Что же, пусть тешит себя этой мыслью, пока способен работать. А потом… потом увидим! Я не сторонник того, чтобы цацкаться с такими , как он. Тот, кто много знает, всегда опасен! Учтите такой психологический момент: разведчик всегда таит в себе чересчур много скрытого от других, и чем больше всего этого накапливается, тем сильнее становится внутреннее давление.
— Простите, я не совсем понимаю, какую опасность это представляет для нас.
— Такие, как Воронов, всю жизнь живут двойной жизнью: внутренней, скрытой от всех, и внешней, которая проявляется в действии, становится доминирующей и угнетает первую. Хороший разведчик прежде всего молчальник. И вот, когда он выходит в тираж, внутреннее давление, не сдерживаемое более внешними обстоятельствами, словно прорывает оболочку, и все, о чём молчалось и что накапливалось годами, вырывается наружу. Вы читали мемуары бывших разведчиков? Всех их словно прорвало, так они спешат выговориться. Они становятся болтунами и рассказывают о таких вещах, которые…
— Не подлежат оглашению, — то ли спросил, то ли подтвердил Нунке.
— Ни при каких условиях! Ибо раскрываются не только отдельные факты, а и сами методы разведывательной работы.
— Но, к сожалению, нет такого закона…
— Законы пишутся для толпы, а не для тех, кто стоит у руля, кто творит политику! Кому это знать, как не вам! Не предполагал, мистер Нунке, что вы так наивны!
— Сейчас не времена диктатуры национал-социализма. Ведь именно ваши газеты поднимут шумиху о нарушении прав и законности.
— А мы их и не станем нарушать… Смерть старого человека вещь вполне естественная…
— Вы говорите о… как бы это сказать… — Нунке замолчал, не зная, правильно ли он понял своего босса.
— Лишь небольшое ускорение событий: своевременная ликвидация, — спокойно пояснил Думбрайт.
— Та-ак… — промямлил Нунке, чувствуя, как по спине побежали мурашки.
Ведь он сам целиком зависел от Думбрайта. И хотя был в расцвете сил, но вдруг понял — неумолимо приближается день, когда и о нём, Иозефе Нунке, возможно, поведут такой же разговор…
Сегодня, направляясь к Воронову, он снова припомнил все сказанное боссом, и что-то похожее на жалость шевельнулось в его сердце. Но усилием воли он приглушил жалость, смешанную с тревогой. Не может быть, чтобы Думбрайт когда-нибудь поставил знак равенства между ним и Вороновым! Чушь! Нервы! Даёт себя знать разлука с Бертой и детьми.
Надо ребром поставить перед ней вопрос о переезде сюда, в Испанию. В конце концов он в таком возрасте, что никакие посещения домика на улице Сервантеса не могут заменить ему родного очага. Изабелла, правда, очаровательна, но её требования в последнее время стали непомерными, а темперамент иногда просто утомляет. Берта же, наоборот, умеет всегда держаться в рамках рассудительной добропорядочности. После сомнительных похождений военного времени это именно то, чего он жаждет… Ганс и Лиз тоже не могут долго оставаться вне его отцовского влияния. Особенно Ганс. Берта слишком мягка с ним, она потакает его увлечению жипописью, забывает, что надо закалять душу мальчика, а не расслаблять её напрасными надеждами на шаткую славу художника. Впрочем, когда Нунке последний раз был в Берлине, дети выглядели прекрасно. Да и разве может быть иначе? У них хорошая наследственность как со стороны матери, так и со стороны отца, так что перемена климата не может сказаться на них отрицательно. Напрасно Берта этого побаивается. Верно, не надо было рассказывать ей об увечье Иренэ. Увечье увечьем, а Берта вбила себе в голову, что в иных условиях, в другом климате… Женская логика! Невзирая на свою рассудительность, Берта вначале немного ревновала мужа к Агнессе. Так и говорила: «твоя гитана»… Хорошо бы он выглядел, связавшись с патронессой! А момент, когда он чуть не влип в такую историю, был! Если бы не брезгливость к Иренэ… и не молчаливый отпор цыганки, которая корчит из себя святошу. Впрочем, не такая уж она святоша! Гольдринг, то бишь Шульц, что-то зачастил туда. Это, конечно, неплохо, так как уменьшится влияние на патронессу падре Антонио, который заупрямился и начал своевольничать. Да и Шульцу полезно на время забыть невесту, дочь Бертгольда. Как он мечтал разыскать её! Сколько раз заводил разговор о поездке в Швейцарию. А последнее время что-то не вспоминает. И очень хорошо. Лора Берггольц, верно, получила кругленькое наследство после отца, так что у неё в руках верный способ удержать любимого. И считай, что Фред Шульц погиб для разведки, — дай ему только почувствовать под ногами твёрдую почву. А получит приданое только его тогда и видели.
Погруженный в эти мысли, Нунке не заметил, как очутился в боксе старого генерала.
Если бы начальнику школы было свойственно чувство юмора, он, верно, рассмеялся бы, увидав «натюрморт», представившийся его глазам: на столе между библиями — одной большой, роскошно изданной, второй — карманной, только недавно присланной из Нью-Йорка, и стопками сектантских журналов, тоже напечатанных в США, в живописном беспорядке расположились две бутылки вина: одна пустая, вторая только что начатая, тарелка с рыбьими хвостиками, головками и косточками, недоеденные куски хлеба.
У стола сидели Воронов и Протопопов, оба чуть подвыпившие.
— Пфе, как у вас грязно! — поморщился Нунке.
— Нормальная обстановка после дружеской беседы и скромного ужина. Человек с фантазией даже сказал бы символическая! Поглядите, как все подходит одно к другому. Хлеб, который преломил наш Иисус Христос с пустыне, вино из Каны Галилейской, рыба — символ христианства, наконец, проповедь слова божьего… Воронов положил руки на библию и на одну из стопок журнала. Все, как полагается священнослужителю…
— Босса интересует подготовка группы «Аминь». Вы сможете составить к утру отчёт? Без разглагольствований, только факты и цифры.
— Конечно! Ещё не было случая, чтобы старый Ворон не выполнил задания. Даже после приёма этих капель, — Воронов постучал ногтями по горлышку бутылки. — Аква вита вдохновляет.
— Как вы думаете, когда можно будет начать отправку людей из группы «Аминь»?
Воронов задумался.
— Сейчас конец ноября… Стало быть, в апреле-мае будущего года.
— Вы в своём уме? На такой срок мы никогда не согласимся!
— Раньше не получится, — Воронов поднялся, его раскрасневшееся, лоснящееся лицо побагровело.
— Но поймите, железо куют, пока горячо, а человеческие души «утешают», пока их разъедает боль и тоска утрат… Именно сейчас нам нужны руководители сект, а не тогда, когда люди придут в себя и с головой погрузятся в водоворот будничных дел. У большевиков их предостаточно, чтобы заставить думать о земном, а не о небесном.
— А о чём вы думали раньше, господин начальник школы? Ткнули мне неучей, которые не могут отличить часослов от евангелия, и требуете, чтобы я за три дня испёк вам трех богатырей! Какие же руководители сект будут из этих прохвостов без соответствующей подготовки? Какие молитвы они понесут людям?
— Думбрайт говорил, что у них при сектах существуют специальные отделы, обрабатывающие новые молитвы и гимны — текст и музыку к ним. Вы обращались к ним?
— Вот вчера прислали несколько таких опусов! Протопопов, что вы скажете о такой молитве? — Воронов раскрыл журнал на предпоследней странице и сердито швырнул его на стол.
— Читал, читал. Смех да и только! Мелодия точнёхонько как в той старой песне, которую выводили, умываясь слезами, обольщённые девушки. Вы только послушайте.
Протопопов вытянул вперёд руку с журналом и пропел:
— «До-о-го-рай, моя лу-чи-и-на, до-го-рю с то-боою я…» А теперь вот: «Се гря-дет моё спа-се-ние, се гря-дет моя за-ря…»
Нунке не мог удержаться от смеха, и это ещё больше рассердило Воронова.
— Вам смех, а мне слезы!
— И всё-таки подготовку надо ускорить, — сразу стал серьёзным Нунке. — Будь что будет. Давайте завтра утром соберёмся у меня и посоветуемся. Предупредите Шульца. Кстати, он давно на аэродроме?
— На аэродроме? Да его и духу там нет! Он у Пантелеймона возится с квартирантом.
— Ах да, вспомнил… Когда он вернётся, скажите, чтобы зашёл ко мне.
Нунке вышел.
А тем временем Фред, возвращаясь из Фигераса, и не думал спешить.
Как хорошо, что в его распоряжении машина без шофёра! Можно ехать, как захочется! Сейчас он сбавит скорость до минимума и поедет медленно, чтобы можно было обдумать все события сегодняшнего дня.
…Часов в шесть Фред подъехал к одинокому домику на окраине Фигераса, где вот уже почти неделю после встречи с Ноьяой живёт Домантович. Собственно говоря, не живёт, а томится, ибо его положение не изменилось: ни одной газеты или книги, ни карандаша, ни клочка чистой бумаги… У глухонемого, правда, «прорезался» голос, но два-три слова, брошенные утром, во время обеда и за ужином, только подчёркивали гнетущее молчание на протяжении всего дня. Оставалось отлёживаться или слоняться по саду под неусыпным оком хозяина, мурлыкать надоевший мотив, привязавшийся с утра, и сдерживать, изо всех сил сдерживать раздражение…
Оно прорвалось сегодня утром. Неожиданно для самого себя Домантович отказался завтракать, заявив, что с сегодняшнего дня он объявляет голодовку:
— Вы, холуй! Скажите вашим хозяевам, что они либо выпустят меня отсюда, либо вынесут ногами вперёд.
«Глухонемой», как мысленно продолжал называть его Домантович, лишь равнодушно пожал плечами и спокойно принялся убирать тарелки.
Обедать Домантович тоже не вышел, хотя ровно в четыре Пантелеймон, со свойственной ему пунктуальностью, накрыл на стол.
Прислушиваясь к звону ножей и вилок, Домантович глотал слюну и зло издевался над собой: «И не отнялся у тебя язык, когда ты это брякнул! Идиот! Вместо того, чтобы набираться сил на курорте у дядюшки Пани, продемонстрировать свою выдержку, так сорваться. Тьфу! А теперь, голубчик, держись! Назвался грибом, полезай в кузов!»
— Обедать! — лаконически оповестил хозяин, появляясь в двери.
— Убирайся! — так же коротко отрубил квартирант.
Отвернувшись к стене, он старался заснуть, но сосало под ложечкой, от непрерывного курения рот наполнился горькой слюной, в голове сновали такие же горькие мысли.
В конце концов его всё-таки одолела дремота. Может быть, пришёл бы и долгожданный сон, но до слуха донёсся шум машины, который внезапно оборвался у ворот. Необычайное событие для этого безлюдного уголка! Лишь дважды здесь появлялась машина: впервые — когда его привёз тучный старик, и второй раз, когда они с Пантелеймоном и его нежной «сестричкой» ездили в загородную таверну.
Может быть, опять приехала Нонна? Даже её Домантович повидал бы с удовольствием — всё-таки человеческая речь и новое лицо! Быстро поднявшись, Домантович подошёл к окну, но разглядеть, кто именно приехал, не успел. Впрочем, шаги, прозвучавшие на крыльце, а потом в комнате, были явно мужские.
Снова лечь и притвориться спящим? Это поможет вьшграть минутку, чтобы сориентироваться и решить, как вести себя с неожиданным посетителем.
Домантович лёг ничком, лишь слегка повернув голову к двери, ровно настолько, чтобы уголком глаза видеть, кто войдёт. Но как только дверь отворилась, вскочил:
— Сомов! Неужели и вы тут?
— Как видите. Только не Сомов, а Фред Шульц.
— Чудеса! Настоящие чудеса! — воскликнул Домантович, возбуждённо пожимая руку Шульцу. Рукопожатие было крепким и искренним, а вот удивление… Фреду показалось, что в нём было что-то нарочитое.
— Не хотелось бы повторять банальных слов о том, что мир тесен, но при нынешних способах передвижения он действительно становится все теснее и теснее. Рад снова встретиться с вами, Домантович!
— Не так, как я, Сомов! Я ведь здесь чуть не одичал!
— Повторяю, моё настоящее имя Фред Шульц.
— Простите, в дальнейшем буду вас так величать. Может быть, присядете?
— Конечно. К сожалению, пришлось прийти к вам не с дружеским визитом, а по делу.
— Вот как? Мной начинают интересоваться? Уже легче… Так в чём же заключается ваше дело?
— Мне поручено подробно ознакомиться с вашей биографией. И не только ознакомиться, но и записать. На плёнку.
— Может, вы скажете мне, как старому знакомому, кому она нужна и зачем?
— К величайшему сожалению, я должен только спрашивать, а вы — только отвечать.
— А если я откажусь?
— Не советую. Вы этим только усложните себе жизнь. Ведь вы лишены возможности не только бороться, а даже подать голос.
— А я так обрадовался, уввдав вас!
— Мне тоже приятно…
— Вести допрос?
— Так уж и допрос! Обычные анкетные данные… Подавали же вы наверняка письменную биографию Хейендопфу. Ведь без этой формальности…
— Хорошо, я согласен, только с одним условием…
— Вы заставляете меня повторять: вы не можете ставить условия.
— Назовём это маленькой просьбой. Вас устраивает такая редакция?
— Если просьба действительно маленькая… — заколебался Шульц.
— Крохотная!
— Чего же вы хотите?
— Чтобы это чучело, — Домантович кивнул в сторону хозяина, — не торчало хоть сейчас у меня перед глазами. Он так опротивел мне, так осточертел, что я готов задушить его сонного.
Лицо Пантелеймона оставалось непроницаемым, словно он и впрямь был глухонемым.
— Ну, это действительно маленькая просьба. Рад, что могу её удовлетворить. Оставьте нас одних, Паня, только будьте поблизости!
— Слушаюсь. В случае чего..
— Как обычно: я позову вас.
Пантелеймон вышел. Домантович весело подмигнул ему вслед
— Что ж, вытаскивайте эту штучку, которая оттягивает ваш карман, и записывайте. Меня уже записывали в этой комнате и ещё в одном месте… Придвинуться поближе?
— Как вам удобно. Аппарат очень чувствителен.
Шульц включил магнитофон. Домантович придвинулся со своим стулом к столу и вполголоса начал:
— «Родился я в Республике немцев Поволжья…»
Когда первая лента закончилась и Шульц вставлял новую, Домантович горелой спичкой нацарапал на коробке сигарет: «Дайте кусочек бумаги».
Фред удивлённо поглядел на него, но выдернул из записной книжки листочек и вместе с карандашом молча положил на стол, одновременно выключив магнитофон. Механически продолжая рассказывать дальше, Домантович написал:
«Чарльз Диккенс так и не закончил роман „Тайна Эдвина Друда“.
Фред чуть не вскрикнул.
Быстро схватив карандаш, он на том же клочке бумаги ответил:
«Аксаков подтверждает, что рукой какого-то спирита из США роман был закончен».
Это был пароль, обусловленный ещё в Берлине Домантович и Григорий Гончаренко радостно переглянулись.
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
Короткая зима обрушилась на Каталонию сильными ветрами, частыми дождями, а по временам и мокрым лапчатым снегом.
Помещения бывшею монастыря продувало насквозь. В боксах ещё было относительно тепло, но в длинных коридорах, высоких залах, в церкви, в тирах, где обучали стрельбе, гуляли сквозняки, сырой воздух пронизывал до костей.
Холод, мрачная полутьма, искусственная изоляция друг от друга, отсутствие каких-либо развлечений, кроме бренди, комиксов и модных пластинок, — все что влияло на «рыцарей», отражалось на их успехах.
Вначале, правда, непогода вызвала даже некоторое оживление в школе. Будущие шпионы и диверсанты, запертые в боксах, жаждали во что бы то ни стало вырваться на свободу, как можно скорее покинуть мрачные монастырские стены. Но постепенно даже самыми старательными учениками овладела апатия. Никто не нарушал установленной дисциплины, но теоретический и практический курс программы усваивались медленно, часто бывали срывы, и это заставляло преподавателей и инструкторов возвращаться к пройденному.
Особенно пал духом Середа, который в школе значился под кличкой «Малыш». Лишь занятия по борьбе на некоторое время выводили его из состояния апатии, но последнее время Середу избегали приводить в спортзал. В запальчивости «Малыш» так дубасил своего партнёра, что того силой приходилось вырывать из его рук, и не всегда успевали это сделать вовремя: одному из тренеров Середа могучим ударом перебил ключицу второго на долгое время вывел из строя, так стукнув о пол, что у того сдвинулся с места какой-то позвонок.
Что же касается теоретических дисциплин, то «Малыш» к ним был совершенно равнодушен.
У Григория относительно Середы были свои намерения, и он попробовал повлиять на всегда мрачного парня.
— Послушайте, «Малыш», — сказал он как-то вечером, зайдя к нему в комнату, — я пришёл не как официальное лицо — ваш воспитатель, а просто как старый знакомый, который относится к вам доброжелательно. Мне хотелось бы…
— Во-первых, у меня есть имя собственное, и собачья кличка ни к чему. Во-вторых, я по горло сыт добродетелями! А такими, как вы, в особенности! — приподнявшись на кровати, Середа с такой ненавистью поглядел на своего воспитателя, что тот понял: бедняга никогда не простит себе откровенности в казарме под Мюнхеном, а Фреду — обмана, на который тот пошёл, назвавшись Сомовым.
— И всё-таки я действительно желаю вам добра! Когда-нибудь вы это поймёте… Но оставим это.. Неприязнь, вражда — это область чувств, а я пришёл для того, чтобы обратиться к вашему разуму.
— Убирайтесь отсюда, господин Сомов! Фреду Шульцу я не имею права это сказать, так спросите у Сомова. Он, безусловно, посоветует вам уйти как можно скорее.
Встретившись на следующий день с Домантовичем, Григорий передал ему разговор с Середой.
— Он не из тех, на ком можно поставить крест. У меня из головы не выходят слова, сказанные им в тот вечер, когда пьянствовали те типы, продавшиеся Черногузу. Помнишь, ты тоже слышал: «Может, хоть немного грязи с себя смою…» Я не могу к нему подступиться, он люто ненавидит меня, считает основным виновником того, что оказался здесь. Тебе будет легче найти с ним общий язык, тем более, что на людях мы с тобой не очень симпатизируем друг другу.
— Хорошо! Организуйте нам встречу!
— Я мог бы поселить вас вместе, но тебя готовят в резиденты, а он проходит по классу «Д». Единственное место — спортзал.
— Ты хочешь, чтоб он свернул мне шею или проломил голову?
— Договорись с ним как-нибудь. Я вызову тренера к себе, и вы сможете побыть вдвоём. Потом что-нибудь придумаем…
— Есть новости?
— Думбрайт что-то часто стал заглядывать во все уголки. Очевидно, к чему-то готовится. Знаменательно и то, что раньше все торопил, а теперь категорически настаивает на углублении знаний и подготовки. До весны — ни одной операции. Лишь засылка двух резидентов с одинаковым заданием: глубоко законспирироваться. Когда будут уточнены даты и места высадки, я тебе передам.
— А пока бить баклуши?
— Выходить в эфир в случае крайней необходимости.
— Можно спятить.
— Мне, думаешь, весело? Я теперь каждую минуту беспокоюсь о тебе.
— Так ведь я для них настоящая находка! Какой аттестат! Ещё до войны работал инспектором наробраза в одном из районов Республики немцев Поволжья и якобы выполнял деликатные поручения немецкой разведки, во время войны перешёл на сторону Власова и там зарекомендовал себя наилучшим образом… Всетаки высшее образование, интеллект и непреодолимое отвращение к посредственностям, которые не давали мне хода на родине. Букетик!
— Ты все шутишь!
— Какое там… Не пошутишь, голубчик, если знаешь, как оборачиваются дела. У наших союзников появилась тенденция ревизовать потсдамские решения. На совещании министров иностранных дел в октябре, в Лондоне…
— Это ты о выступлении Бирнса?..
— Да. И о том, что руководителя делегации США поддержал английский министр иностранных дел Бевен. В этом трогательном единстве взглядов отчётливо видна тенденция объединения против СССР. Ты понимаешь, к какому обострению международной обстановки это приведёт?
— Достаточно взглянуть на Думбрайта, чтобы все понять. Он уже намекал — мы накануне величайших событий, которые распахнут перед нами значительно более широкие горизонты, чем прежде… Но не будем думать об этом и вернёмся к нашим сегодняшним делам. Не теряя времени, возьмись за Середу.
— Назначь его моим партнёром хоть завтра. Только заранее позаботься об йоде, примочках и всяких там припарках… Итак, завтра?
— Если дежурным по залу будет не Вайс…
— Вайс? Этот альбинос? Что ты против него имеешь?
— Чересчур любезен, набивается в друзья, любит задавать лишние вопросы.
— Может быть, просто симпатизирует тебе?
— Вряд ли. Спросит, например, бывал ли я в пивнушке на углу такой-то и такой-то улиц, а во взгляде такое, знаешь, равнодушие… Слишком уж подчёркнутое, чтобы быть естественным. И в мышцах лица чувствуется напряжение… Сдержанное, едва уловимое, но ведь я хороший физиономист… Каждой клеточкой тела ощущаю, что Вайс относится ко мне с недоверием.
— Ты дал повод?
— Ни единого. Здесь, верно, действует интуиция следователя гестапо. Инстинктивно чувствует во мне какую-то враждебную силу.
— Гм… мне это не нравится. Будь осторожен!
— Мне тоже. Что же до осторожности, то не волнуйся. Не впервой!
Успокаивая Домантовича, Григории чуть покривил душой.
С начальством, преподавателями у него установились неплохие отношения, и то, что Вайс, вопреки всем, незаметно следит за ним, рождало тревогу. А что если он действует не по собствемюй инициативе, а, скажем, по приказу Думбрайта? Нет, это отпадает. Босс как раз выказывает особое расположение к молодому воспитателю русского отдела. Он как-то даже сказал, что считает его больше американцем, чем немцем. В устах Думбрайта это наивысшая похвала. Нунке? Не может быть. Этот знает его как фон Гольдринга, а без пяти минут зять такой птицы, как Бертгольд, для Нунке вне подозрений. Тогда Шлитсен?.. Возможно! Он с самого начала отнёсся к Фреду Шульцу насторожённо. Правда, по возвращении из Мюнхена эта насторожённость исчезла, но то, что бывшего заместителя начальника школы сместили с должности да ещё сделали подчинённым человека нового, гораздо более молодого, не могло не породить обиды, зависти, неприязни.
Так или этак, а надо остерегаться, ещё внимательнее контролировать каждый свой шаг, слово, взгляд… Раньше хоть в компании Агнессы и Иренэ он отвлекался немного, отдыхал душой, а теперь…
Теперь Фред Шульц появляется на вилле патронессы не чаще раза в неделю. Не потому, что встречают его неприветливо, а потому, что в его отношениях с хозяйкой дома возникла напряжённость. Агнесса то радостно бросается ему навстречу, то разговаривает сдержанно, так, словно они только что познакомились. Бывает — начнёт по старой привычке живо чтото рассказывать, но вдруг оборвёт на полуслове, помрачнеет и замолчит. Да и остаются они наедине редко: падре Антонио стал чуть ли не постоянным обитателем виллы.
С наступлением холодов Иренэ стало хуже. Укутанная по самое горло в бесчисленные пушистые платки и пледы, она выглядывала из своего гнёздышка, словно смертельно раненый зверёк, ощетинившийся и одновременно совершенно беспомощный.
Все, как могли, старались развлечь маленькую больную, но она лишь досадливо морщилась, а когда ей слишком докучали заботами, просто закрывала глаза, притворяясь спящей.
Лишь Педро мог вызвать подобие улыбки на губах девочки. Неутомимый и непосредственный, искренне преданный маленькой подружке, он не подделывался под её настроение, не говорил с ней взволнованно-жалобным тоном, не избегал разговоров о болезни.
— Пхэ, болит! А знаешь, как мне было больно, когда меня избил этот одноногий черт из таверны? Ни лечь, ни сесть не мог, ни ногой, ни рукой пошевелить. А я плевал на то, что больно, знал — все равно поднимусь. И ему отплачу! Ты на ноги не обращай внимания. Все думай: «Вот сейчас пошевелю ступнёй, пусть болит, а я все равно пошевелю»… Помнишь летом? Когда у тебя словно мурашки по ногам бегали? Говорил тебе — двигай ногами. А ты испугалась и давай плакать. Сказано, девчонка…
— Мне вчера было очень больно, а я не заплакала, вот как! И маме не сказала!
— А есть отказалась. Если нашего Россинанта не кормить, знаешь, что с ним будет? Упадёт на все четыре ноги и не поднимется.
— А ты покормил его сегодня?
— Ещё бы! Он только ушами поводил и поглядывал вокруг,тебя искал.
— Правда, искал?
— Знаешь, как он обрадуется, увидав тебя. Хочешь, я завтра подведу его к окну, насыплю такой холмик, чтобы повыше можно было залезть, и под самое окно… И вы будете завтракать вместе: он под окном, а ты здесь — кто больше съест. Только куда тебе! Знаю, отхлебнёшь немного бульона и скажешь, что пахнет перьями… Не голодала ты, вот что!
— Хочешь — сейчас целую чашку выпью?!
— На пари?
— На пари! На ту книжку, что Фред подарил. А что ты мне дашь?
— Я вырежу из дерева маленькую мадонну и окроплю её святой водой из часовни. Положишь её под подушку, и когда пробьёт колокол к мессе, поверяй ей самое сокровенное желание. Тётка Луиса так всегда делала, и мадонна послала ей хорошего жениха. Не сойти мне с этого места, если лгу.
Иренэ выпила чашку бульону, и Агнесса был на десятом небе от радости, обхаживала Педро, считая, что само небо послало ей этого мальчика.
— Я хочу усыновить Педро, — сказала как-то Агнесса, наблюдая за Иренэ и её маленьким другом.
— Подумайте, сестра моя, прежде чем брать на себя такую ответственность, — предостерёг падре Антонио. — У таких безродных может оказаться плохая наследственность. Сейчас он ребёнок, а когда вырастет? Хватит с вас одного креста, возложенного на ваши плечи всевышним…
— Так это всевышний так покарал меня? За какие грехи? — гневно воскликнула Агнесса. — Недугом маленького невинного ребёнка? Где же тогда его милосердие?
— Пути господни неисповедимы, женщина! — сурово остановил её падре Антонио. — Не богохульствуй и не ропщи на промысел божий. И помни: грехи наши не только в деяниях наших, они рождаются в мыслях. Загляни в собственную душу!
Фред удивился, заметив, как поникла Агнесса. Весь вечер она просидела молча, не прислушиваясь к беседе, завязавшейся между падре и её гостем.
А разговор захватил обоих. Фред проявил интерес к прошлому Каталонии, а падре Антонио с большим знанием дела рассказывал о её сложной и трагической судьбе, начиная от господства римлян, вестготов, арабов, франков, вплоть до объединения испанских земель, когда Каталония, потеряв свою самобытность, постепенно теряла и завоёванные ею права, пока не стала одной из обычных провинций Испании.
Когда наступило время прощаться, падре захотел проводить Фреда:
Вечер был ветреный, хмурый, но в воздухе уже пахло весной: травой, уже пробившейся кое-где на пригорках, набухшими на кустах почками, потеплевшей землёй.
Григорий любил эти дни ранней весны. Душа трепетала в преддверии грядущего чуда пробуждения и возрождения. Впрочем, сегодня он не замечал ничего вокруг. Его мысли всё ещё были там, возле Агнессы и Иренэ.
— Вы слишком жестоки к бедной женщине, падре, — сказал Фред, как только они вышли.
— Душа её в смятении. Мне, как духовнику, надлежит быть суровым.
— А не слишком ли тяжёлый груз вы взвалили на её плечи? Особенно теперь, когда Иренэ так плохо?
— Именно для Иренэ…
Прикуривая сигарету, Фред остановился. Мерцающий свет спички озарил лицо падре, изборождённое глубокими морщинами. Веки он опустил, словно пряча взгляд, а может, просто от огня спички или ветра, бившего прямо в лицо.
— Иренэ… Вам никогда не приходило в голову, что вы жертвуете жизнью малютки во имя обманчивой мечты?
— Цель оправдывает средства, сын мой… И тем, кто стал орудием в руках поборников веры, в свой час воздаётся сторицею.
— Даже если они не достигли того, к чему стремились, как вы, например?
— Я вас не понимаю, сын мой!
— Вы напрасно избегаете прямого ответа, падре! Сейчас я ваш союзник, разрешите не объяснять причин.
— Союзник? В чём? Союзников объединяет единое устремление, а мы с вами люди разные. Вас влечёт земное… А когда скрещиваются земные пути, рождается соперничество, недоверие, коварство.
— Как у вас с Нунке?
Падре Антонио, который шёл впереди, остановился как вкопанный, так что Фред чуть не сбил его с ног. Серп месяца неожиданно пробился сквозь тучу, на мгновение остановился, словно лодка на мели, и вдруг поплыл по широкому разводью разорванных ветром туч.
Оба собеседника остановились. Фред отлично видел, с каким напряжением вглядывается в него падре.
— Вы, сын мой, вспомнили Нунке. Где у меня гарантия, что не он уполномочил вас на этот разговор?
— Моё отношение к донье Агнессе и Иренэ. Вы могли заметить — я не безразличен к их судьбе.
— Вас связывают с ними узы земные, а они непрочны и преходящи. Обманчивая женская красота скоро вянет, земная страсть иссушает человеческое сердце, а там, где вчера был цветущий оазис, завтра мёртвая пустыня. Ни единой капли целительной влаги не обретут ваши жаждущие уста, и вы убежите на край света от того, что только вчера тешила ваш взор. Только живая вера струится неисчерпаемым источником, постепенно превращаясь в могучий поток. Не лишайте бедную женщину этого счастья! Она избрала свой путь и должна идти по нему до конца.
— Аллегории, дорогой падре, хороши, когда за ними хотят скрыть правду. Поэтому мне не нравится их язык. Я предпочитаю говорить откровенно и прямо: донья Менендос была для вас лишь орудием, а бедняжка Иренэ жертвой. Вы же, в свою очередь, стали орудием и жертвой Нунке.
— Вы второй раз упоминаете это имя. Могу я спросить, почему именно мои отношения с сеньором Нунке так вас интересуют? Вы его подчинённый, его дело ваше дело, и было бы весьма странно, если б мотивы сугубо личные толкнули вас на нарушение обязательств чести, которые всегда связывают воинов единой рати.
— Вы, падре Антонио, уклоняетесь от откровенного разговора. Тем хуже для вас. Ведь речь идёт не только об интересах Агнессы и Иренэ, а, прежде всего, о ваших собственных. Забудем, что затеяли этот разговор, и вернёмся к рассказу о кортесах. Вы говорили, что в начале восемнадцатого века кортесы были распущены специальным декретом, но этому предшествовала ожесточённая борьба каталонцев со значительно более сильной франко-кастильской армией. Неужели осада Барселоны длилась почти год, а жители сами поджигали свои дома и кидались в огонь, только бы не попасть в руки врага?
Падре Антонио, погруженный в свои мысли, не ответил. Плотнее закутавшись в плащ из грубого сукна, накинутый поверх сутаны, он быстро прошёл вперёд, словно стремясь согреться, потом круто повернул и сделал два шага навстречу Фреду.
— Хорошо, поговорим откровенно, — сказал он решительно. — Однако поклянитесь мне, что о нашей сегодняшней беседе не узнает ни одна живая душа, даже Агнесса.
— Честное слово, падре!
— К чему вы клоните и почему завели разговор о Нунке?
— Я хочу освободить Агнессу от какой бы то ни было зависимости от вас и своего шефа. Вывести её из тёмной игры.
— Почему тёмной? Повторяю: цель оправдывает средства.
— Вы, падре, не приблизились к своей цели ни на йоту. Мантия архиепископа никогда не украсит ваши плечи, ибо Нунке, которого вы так неосторожно включили в игру, уже сбросил вас со счётов как партнёра. Те небольшие пожертвования, которые с его ведома делала Агнесса, не дали вам возможности повести задуманное дело так, чтобы ваши заслуги признали и оценили. Вы не приумножили ни славы католической церкви, ни её доходов. А теперь, когда встал вопрос о том, чтобы получить у патронессы школы постоянную доверенность на право распоряжаться всем её имуществом и всеми деньгами, поступающими на её текущий счёт…
— Доверенность? Вы, верно, что-то спутали, сын мои? — В ласковом тоне падре послышалась плохо скрытая тревога.
— Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Думбрайт настаивает, чтобы Нунке получил такую доверенность в самое ближайшее время.
— Чем объясняется такая поспешность?
— Думбрайт имеет основания опасаться, что донья Менендос попадёт под влияние человека, который воспользуется её неосведомлённостью в финансовых делах, доверчивостью, наивностью…
— Он назвал эту особу?
— Да. Её духовника.
— С вашей стороны неосторожно говорить мне это. Ведь я могу опередить Нунке!
— При одном условии: если я вам помогу!
Молчание продолжалось всего минуту, но Фреду оно показалось нескончаемо долгим.
— Каковы ваши условия, Фред? — наконец спросил Антонио. — Вы, верно, захотите получить свою долю?
— Да.
— Какую?
— Свободу для Агнессы и Иренэ. Некую сумму, которая обеспечит безбедное существование всей семье, включая Пепиту и Педро.
— Объясните, как это сделать практически?
— Паломничество в Рим, о котором давно мечтают Агнесса и Иренэ, не вызовет у Нунке подозрений, особенно если сослаться на ухудшение здоровья девочки. Вы своевременно позаботитесь о визах для всей семьи. Деньги, необходимые для этого, Агнесса предварительно переведёт в Швейцарский национальный банк. Вы поможете устроить Иренэ в санаторий, а где-нибудь поблизости поселите донью Менендос. После этого Агнесса вам выдаст доверенность на право распоряжаться её имуществом… Грубая схема, конечно, без деталей…
Даже в темноте было видно, как жадно засверкали глаза падре.
— А вы, сын мой? Вы до сих пор ни словом не обмолвились о себе…
— Я уговорю Агнессу уехать, навсегда порвать со школой, «рыцарями» и… простите, с вами, падре…
— Я не имею права нарушать тайну исповеди. Но скажу одно: она ни за что не согласится уехать без вас, Фред!
— Это я беру на себя. Агнесса уедет, и вы сможете получить сан архиепископа за заслуги перед святейшей католической церковью. Всё будет зависеть от вас!
— Вы отказываетесь от женщины, которая вас любит и которую, вероятно, любите вы, избегаете разговора о материальной компенсации. Что же вы приобретаете?
— Больше, нежели вы, падре. Значительно больше… В такие вечера мне все мерещится истинный рыцарь и неутомимый поборник справедливости — Дон-Кихот Ламанчский. И сегодня мне показалось, что я коснулся краешка его плаща. На вашей прекрасной земле я становлюсь романтиком. Вас устраивает такое объяснение?
— Вы живёте в Каталонии, а каталонцы не лишены ни здравого смысла, ни юмора. Здесь, как гласит наша поговорка, даже камни умеют обращать в хлеб.
— Итак, вы согласны на моё предложение?
— Надо подумать, взвесить все за и против… Возможно, и мне придётся надолго покинуть Испанию.
— Это только приблизит вас к Ватикану, к папе, а стало быть и к намеченной цели.
— В принципе я согласен!
— Тогда я приложу все усилия, чтобы отвлечь внимание Нунке от вопроса о доверенности. Как бы все ни сложилось, я советую поторопиться с визами, чтобы они были наготове.
— Может быть, получить визу и для вас?
— Я должен остаться, как это ни печально. А вдруг ещё какой-нибудь камень превращу в хлеб.
— Жаль, что я его не попробую…
— Вам мало того куска, который вы вырвете из-под носа у Нунке?
— Человек ненасытен, сын мой…
«А ты особенно», — подумал Фред, прощаясь с падре. Но, пожимая ему руку, только многозначительно сказал:
— Все дороги ведут в Рим. Помните это, падре!
ЗА СЕМЬЮ ВЕТРАМИ
А пока дороги вели не дальше Фигераса.
Оставив Шульца на окраине города, у домика, спрятавшегося в глубине сада, Нунке и Агнесса направились к центральной улице, где размещались магазины и немногочисленные городские учреждения.
Молодая женщина, такая оживлённая несколько минут назад, сидела теперь неподвижно, уставясь в ветровое стекло машины, и на замечания и вопросы Нунке отвечала коротко, иной раз даже невпопад, полностью сосредоточившись на том, чтобы не оглянуться назад, на таинственный дом, возле которого, ничего не объяснив, чуть ли не на ходу выскочил из машины Фред Кто живёт в этом доме? Почему Фред никогда не говорил, что у него в городе есть друзья? Может быть, спросить у Нунке? Нет, нет! Ни в коем случае! Он не из тех, кому можно разрешить читать в своём сердце. Ещё станет смеяться, подумает, что она…
Слово «ревнует» Агнесса не решилась произнести даже мысленно, пряча от самой себя чувство, разрывавшее ей сердце, туманившее мозг. А ведь ей сейчас надо быть особенно спокойной, рассудительной, чтобы выполнить все приказания падре. Как же избавиться от начальника школы хоть на минутку?
Агнесса искоса взглянула на холёные, но сильные руки Нунке, уверенно лежавшие на руле. Из таких рук не вырваться, они крепко держат то, что в них попало. Будь рядом Фред, он бы помог… а теперь? Агнесса даже не сможет подняться по лестнице в контору, так отяжелели ноги, а руки холодны, как две ледышки кажется, вся кровь отхлынула к сердцу и мозгу. Нет, сегодня она не способна на это. А может быть, и вовсе не решится на такой шаг!.. Верно, так уж суждено ей и бедняжке Иренэ…
И вдруг перед глазами матери возникает лицо девочки. Оно как бы вырисовывается на ветровом стекле: возбуждённое, с сияющими глазами. Каждая чёрточка дорогого, милого личика излучает радость… Надо было молчать, молчать и ничего не говорить, ничего не обещать. Это падре обмолвился неосторожным словом о поездке в Рим. Ох, зачем же ты лукавишь сама с собой! Ведь и ты тогда не выдержала! Словно бурный горный поток, ринулись из твоего сердца и смех, и слезы вперемежку со словами…
Лишить Иренэ этой радости, этой надежды? Никогда! Ни за что! Это значит убить тебя, моя крошечка, собственными руками отнять у тебя жизнь! Ведь невозможно жить без надежды!..
Отчаянное желание спасти своё дитя придаёт Агнессе сил. Снова глаза её блестят, на губах играет улыбка.
— Герр Нунке, — она поворачивает улыбающееся лицо к своему спутнику, — может, мы хоть на полчасика отложим наши скучные дела. Что, если нам немного посидеть в кафе? Я совсем одичала в своём углу! Так хочется побыть среди людей.
Нунке удивлённо глядит на Агнессу, но взор её так ясен, на губах такая милая смущённая улыбка, что ни малейшего подозрения не закрадывается в его сердце. К тому же женщина элегантно одета, хороша собой. С такой не стыдно показаться в городском обществе.
— К вашим услугам, милая патронесса! — говорит Нунке после минутного колебания. — Приказывайте, где остановить машину.
— Вот тебе и на! Спрашивать у меня, затворницы! Я ведь здесь ничего не знаю, только несколько магазинов и контору банка. Распоряжайтесь сами! Конечно, чтобы место было приличное.
— Что же, пировать так пировать, — улыбнулся начальник школы. — Остановим свой выбор на «Эльдорадо», это в нескольких кварталах отсюда. — Нунке самому начинает нравиться эта, как он мысленно называет её, авантюра, и он чуть сбавляет скорость они уже в центре города.
На что надеется Агнесса? Просто хочет оттянуть время? Отдалить ту неприятную минуту, когда они вдвоём с начальником школы войдут в мрачную контору мадридского филиала банка, чтобы урегулировать некоторые финансовые дела?
Нет, действиями молодой женщины руководит сейчас расчёт, хоть и не точный, а всё же расчёт. Она знает: в двенадцать часов весь бомонд города, все модницы высыпают на главную улицу, чтобы пройтись, показать себя, поглядеть на других, встретить знакомых, выпить чашечку кофе с пирожными дона Альвареса, короля местных кондитеров. Верно, Изабелла, пассия Нунке, о которой рассказывал Воронов, тоже не усидит дома этим весенним солнечным днём… Встретиться бы с ней, только бы встретиться!.. Изабелла не из тех, кто позволит своему возлюбленному появиться с другой женщиной.
В кафе и впрямь собралось большое общество. Проходя между столиками, Агнесса невольно оперлась на руку своего спутника. Перед глазами у неё все кружилось, лица расплывались в каком-то призрачном тумане. Сказывалось то, что она действительно давно не бывала среди множества незнакомых людей. Чтобы скрыть смущение, женщина опустила ресницы. Теперь она видела только проход межцу столиками, показавшийся ей неимоверно узким и длинным, да носки своих туфель, и потому не заметила, с каким интересом осматривают её присутствующие: мужчины явно любуясь, женщины с враждебной, едва скрываемой завистью.
Зато Нунке отлично оценил взгляды, направленные на его спутницу, и авантюра с поездкой в кафе показалась ему ещё привлекательнее.
«Появиться в обществе красивой женщины — это поднять собственный престиж, — подумал он. — Полезное можно сочетать с приятным. Напрасно я до сих пор пренебрегал такой возможностью. Правда, с Изабеллой дальше кабаре не сунешься. Как ни старается она выглядеть настоящей сеньорой, но что-то от бывшей певички второразрядного мюзик-холла нет-нет, да и прорвётся. Это как клеймо, навсегда оставляющее след… Странно: посмотришь на патронессу, никогда не скажешь, что Менендос привёз её откуда-то из табора. Статная, горделивая, движения и речь сдержанны и одновременно естественны. Возможно, у цыганок, привыкших к простору, свободе, это в крови. Грациозность дикого животного, вынужденного приспособить каждый свой мускул для самозащиты. И вот такую полудикарку, не испорченную цивилизацией, вырвать прямо из почвы, как сделал это Менендос, и привить ей манеры…»
— Пожалуйста, уважаемый сеньор и глубокоуважаемая сеньора! Здесь вам будет уютно, — прервал раздумья Нунке официант, указывая на свободный столик.
Только опустившись на стул, Агнесса подняла глаза и, пока Нунке заказывал кофе и пирожные, внимательным взглядом обежала лица присутствующих. Никого, похожего на Изабеллу, которую она, правда, никогда не видела, но хорошо представляла по словам Воронова!
«Нашему шефу недостаёт вкуса, — пояснил генерал. — Понимаете, его пассия недурна, только всего у неё сверх меры. Одно слово, сеньора „Чересчур“! Правда, я придумал ей неплохое имя?»
Агнесса тогда посмеялась, не думая, что когда-нибудь придётся воспользоваться этим словесньм портретом, обновлять его в памяти, напрягая для этого все своё воображение. Минуту назад казалось, что она сразу узнает Изабеллу, но теперь в этом людском водовороте…
И вдруг словно электрическая искра пробежала по всему телу, — ещё не разглядев хорошенько, Агнесса уже чувствовала: в дверях стоит она!
Женщине, появившейся между столиками, и впрямь больше всего подходило имя, данное Вороновым. Одета она была чересчур модно, короткие, окрашенные хной волосы казались чересчур рыжими для смуглой кожи и угольно-чёрных бровей, губы — чересчур красными, жемчужины в колье чересчур крупными для нагуральных.
И впрямь сеньора «Чересчур»! Изабелла!
Лишь скользнув взглядом по фигуре Нунке, большие чёрные глаза женщины впились в лицо Агнессы.
— Герр Нунке, посмотрите, какая красавица, и почему-то смотрит на нас… Может быть, ваша знакомая? — Агнесса изо всех сил старалась казаться беззаботной, но в голосе её слышалось замешательство: горячий взгляд Изабеллы пронзал её насквозь.
Рука Нунке с чашечкой кофе замерла у рта. Нунке собирался зайти к Изабелле вечером, как обычно, когда он бывал в городе, и её появление в кафе теперь было для него полной неожиданностью.
— Будьте же внимательны! Если это в самом деле ваша знакомая, пригласите к нашему столику! Иначе она подумает о нас бог знает что! — настаивала Агнесса.
Нунке, растерявшийся было вначале, уже овладел собой. Вскочив с места, он помахал Изабелле рукой и с радостной улыбкой поспешил ей навстречу.
Сойдясь в проходе, оба на миг остановились. Агнесса видела, как Изабелла гневно что-то прошептала, а Нунке, подавшись всем корпусом вперёд, очевидно, извинялся. Затем, пропустив свою даму вперёд и поддерживая её под локоть, повёл к столику.
— Разрешите представить: донья Менендос, патронесса школы, в которой я имею честь служить… А это моя давняя знакомая и добрый друг, донья Изабелла. Счастливый случай неожиданно привёл её в кафе, и я буду очень рад…
— Действительно счастливый случай! Если бы не ваша машина, стоящая у входа, ваша, как вы говорите, давняя знакомая так и не узнала бы, что вы в городе, — едко прервала Нунке Изабелла и, повернувшись к Агнессе, прибавила:
— Нет, нет, только мы, женщины, умеем ценить старую дружбу! Не так ли?
— Я лучшего мнения о мужчинах, — улыбнулась Агнесса. — Мы с герром Нунке тоже давно знакомы, и мне кажется…
— Что же, тогда вам повезло больше, чем мне! нетерпеливо прервала Изабелла, с иронией делая ударение на слове «вам».
— Вы не дослушали меня, — спокойно объяснила Агнесса. — С вашим знакомым мы соседи и часто встречаемся по делам. Уверяю вас, герр Нунке никогда не давал мне повода бояться, что его приязнь… его доброе отношение…
Изабелла метнула гневный взгляд в сторону Нунке и принуждённо рассмеялась.
— О, не будем говорить о добродетелях нашего общего друга! А то может статься, что он и сам в них уверует. Да, да, я знаю мужчин… Им только дай повод, и они зазнаются, станут неблагодарны, невнимательны…
Пододвигая Изабелле кофе и печенье, Нунке попробовал обратить разговор в шутку:
— Вот наглядное опровержение ваших выводов, Изабелла: кажется, ваше любимое, миндальное? Как видите, я хорошо помню вкусы своих друзей…
— Вы собираетесь так легко искупить свою вину? Я же говорила, он зазнается.
— Я готов искупить свою вину и даже понести самое тяжёлое наказание…
— Нунке склонил голову с наигранной покорностью.
— Донья Менендос, какую кару можно мне придумать?
— Женщина должна быть милосердна…
— Но я не из милосердных! А потому, герр Нунке, беру вас на весь сегодняшний день под арест. В плен, как говорится.
— О, это будет сладкий плен.
— Я не шучу, имейте в виду! Сегодня у меня собирается маленькое общество, и вам придётся вместе со мной развлекать гостей.
— Самое большое через час я буду целиком в вашем распоряжении.
— Не забывайте, вы у меня под арестом!
— Герр Нунке, — вмешалась Агнесса, скрывая внутреннее волнение, — а почему бы нам не поступить так: денежные дела я урегулирую сама, а что касается документов, о которых мы с вами говорили, то я попрошу управляющего банком все подготовить и в следующий наш приезд… Когда вы думаете быть в Фигерасе?
— Я хотел бы уладить все сегодня, — неуверенно начал Нунке, но Изабелла капризно воскликнула:
— Вы у меня под арестом, и вашей персоной распоряжаюсь теперь я. Если донья Менендос говорит, что может все сделать одна… Верно ведь? Я правильно вас поняла?
Изабелла повернулась к Агнессе, глядя на неё ещё с недоверием, но уже готовая к примирению, если та ответит так, как надо.
— Конечно, верно. Получить деньги на школьные нужды не такая уж мудрёная вещь. Ну, а обо всём остальном… боже, неужели это столь срочно! Мой покойный муж тоже был деловым человеком, но стоило мне захотеть поехать куда-нибудь или развлечься, он в тот же миг забывал о своих противных делах… И, честное слово, меня это радовало больше, чем подарки и драгоценности, которые муж привозил из Мадрида, когда отлучался туда.
— Решено: вы мой пленник, и я вас не отпускаю! чересчур громко воскликнула Изабелла и захлопала в ладоши.
Заметив, что на них обращают внимание, Нунке поморщился.
— Хорошо. Согласен, согласен. Принимаю все ваши условия, Изабелла! — поспешил согласиться он.
Агнесса поднялась.
— Тогда я сейчас же пойду. Очень рада была с вами познакомиться, донья Изабелла! До скорого свидания, герр Нунке! Надеюсь, в плену с вами будут обращаться не слишком сурово.
Радуясь, что ей удалось, избавиться от начальника школы, Агнесса хотела уйти, но Нунке задержал её.
— Минуточку! Я не могу свалить на вас одну все дела! Это не по-джентльменски, да и опасно: сумма большая, а по городу шатается всякий сброд… Как же быть? Ага! Разрешите оставить вас одних буквально на четверть часа… Пять минут, чтобы заехать за Фредом, пять, чтобы привезти его сюда. Остальное время на непредвиденные в дороге обстоятельства… Только сделав это, я буду спокоен: у доньи Менендос будет хороший советчик, чичероне, защитник…
— Прекрасно! — щеки Агнессы покрылись лёгким румянцем. — С Шульцем я и впрямь буду чувствовать себя увереннее… Донья Изабелла, смилуйтесь над своим пленником и подарите ему пятнадцать минут свободы. Гарантирую, он не сбежит!
— Засекаю время! — подняла руку Изабелла. Сейчас половина первого. Итак, без четверти…
— Даже раньше, даже раньше! — уже на ходу крикнул Нунке.
Только теперь, убедившись, что ей неожиданно повезло, Агнесса вздохнула с подлинным облегчением. Десять-пятнадцать минут она выдержит общество сеньоры «Чересчур», хотя та и рассматривает её как вещь, выставленную в витрине, и, по всему видно, готовится приступить к настоящему допросу, чтобы удовлетворить своё ревнивое любопытство. Как себя вести? Сразу же рассеять её опасения или и впредь держаться так, чтобы сомнения в верности любовника окончательно не исчезли из сердца Изабеллы? Ей жаль, очень жаль эту женщину. Агнесса сама почувствовала сегодня, как остро ранят шипы подозрения. Но ей надо избавиться от Нунке, во что бы то ни стало избавиться от Нунке! И она, отвечая Изабелле, жонглирует словами так, чтобы нельзя было отличить истину от капельки лжи, с чисто женской интуицией находя ту границу, дальше которой заходить нельзя, иначе разговор может закончиться ссорой, а то и открытым скандалом.
К счастью, Нунке вернулся даже раньше назначенного срока, и не один, а в сопровождении Фреда. Церемония знакомства и прощания заняла не много времени
— Боже, как я устала! — вырвалось у Агнессы, как только они с Фредом сели в машину.
— Какая-то непонятная ситуация: вы, наш шеф и эта… дама. В чём дело? Со слов Нунке я понял одно: он приглашён к какой-то знакомой и не может сопровождать вас. Поэтому и поручает это дело мне. Но вид у него при этом был весьма кислый.
Агнесса рассказала обо всём, что произошло в кафе.
— А теперь скорее в банк! Я должна уладить свои дела как можна скорее, чтобы Нунке не успел опомниться.
— У вас появились тайны от Нунке?
— Падре посоветовал перед поездкой в Италию перевести деньги за границу, чтобы я могла не зависеть от прихотей Нунке. Вы поможете мне это сделать?
— Я хотел бы остаться в стороне. По очень важным для меня и для вас соображениям. Потом объясню, в чём дело.
Агнесса укоризненно поглядела на спутника.
— Просто вы рассердились! Потому что Нунке вам помешал… Конечно, обидно, когда проводишь время с друзьями, а тебе на голову вдруг взваливают такую обузу, как моя персона… Только я вовсе об этом не просила, и напрасно вы…
Сняв одну руку с руля, Фред ладонью накрыл пальцы Агнессы.
— Я был не у друзей.. а занимался обычным служебным делом. Таким нудным и противным, что от него просто тошнило. И я счастлив, что теперь от него избавился и сижу рядом с вами…
— Правда? Ну, тогда и я не стану сердиться на вас!
— Значит, вы сердились? За что?
Агнесса покраснела.
— За то, что вы не хотите сейчас пойти со мной, наобум сказала она, холодея при мысли, что Фред может догадаться об истинной причине её волнения
— Не не хочу, а не могу… Впрочем, о том, как лучше все устроить, я охотно вам расскажу. Слушайте внимательно…
Но выяснилось, что падре неплохо разбирается в делах чисто земных и отлично проинструктировал свою богатую прихожанку.
— Видите, не такое уж мудрёное дело самой распоряжаться своим имуществом, — подбадривал Фред Агнессу, останавливая машину возле банка. — Держитесь уверенно, напомните управляющему, что он обязан хранить тайну вкладов и операции, проводимых по распоряжению вкладчика… Я буду ждать вас за углом, в переулке.
Второй раз пришлось сегодня Агнессе играть необычную для неё роль. И вторично скорее инстинкт, нежели разум, подсказывал ей, как вести себя. Волнение, овладевшее ею, когда она отворила массивную дверь конторы, постепенно исчезло. Совершенно спокойно и деловито она отдавала распоряжения, подписывала нужные документы, пересчитывала деньги, которые брала наличными: часть на нужды школы, чтобы не вызвать подозрений у Нунке, часть — для себя, на собственные траты, связанные с поездкой.
И только очутившись на улице, Агнесса почувствовала, как постепенно с неё спадает напряжение. Сознание того, что она сумела отстоять интересы Иренэ, приятное чувство собственной независимости радовали её. Как хорошо, что все испытания сегодняшнего дня позади. Ещё несколько шагов, и она окажется в переулке, где её ждёт Фред. Тогда можно будет целиком отдаться чувству радости, которое пронизывает её всю Не замечая прохожих, Агнесса быстро шла вперёд, как вдруг чья-то рука коснулась её локтя.
— Берегись, сеньора, ай, берегись! Как туча закрывает солнце, так и твоё красивое личико может закрыть печаль. Хочешь — помогу её отвести? — скороговоркой бубнил хриплый голос из-за плеча.
Молодая женщина от неожиданности вздрогнула и остановилась. Перед ней стояла сгорбленная старая цыганка в большой чёрной шали, окутывающей всю её худую фигуру и низко надвинутой на тёмные глаза, обрамлённые воспалёнными верхними и вывернутыми нижними красными веками.
«Алела? — спросила себя Агнесса и тут же ответила: — Да!» Конечно, это её давний враг, Адела, от которой она в своё время получала столько тумаков, прибившись к кочевому табору. Правда, старая цыганка очень изменилась: годы ещё больше иссушили и согнули её, глаза стали совсем больными, появилось множество новых морщин, рот запал, отчего подбородок выдвинулся вперёд, а само лицо словно укоротилось.
Невольно Агнесса отпрянула и огляделась, словно ища зашиты. Но Адела, не узнавшая в этой красивой, хорошо одетой сеньоре свою бывшую служанку Марию, поняла её движение по-своему.
— Молодость и красота брезгует старостью, а богатство — бедностью. Но краса вянет, а деньги уплывают, сеньора! Не заносись! Счастье можно приблизить и отдалить. Наворожить и заклясть.
Последние слова старая цыганка произнесла с угрозой. Схватив Агнессу за руку и повернув её ладонью вверх, она быстро начала приговаривать:
— На руке знак-метка, то судьбы отметка. Повернёшь его направо — придёт счастье и слава, а налево повернуть — несчастливый будет путь. Оставишь, как было, — все станет немило.
Адела крепко сжимала пальцы Агнессы костлявой, холодной рукой и продолжала бубнить присказку, знакомую Агнессе с детства. Сейчас давнее воспоминание всколыхнуло в её душе давно забытые чувства, пробудило непреодолимое желание ещё раз побывать в таборе, почувствовать себя в окружении родных по крови людей.
— Погадаешь мне в таборе? Где вы раскинули свои шатры?
Адела без удивления встретила предложение. За свою долгую жизнь она привыкла к непостижимым капризам богатых сеньор и сеньоров.
— Вон там, — махнула она рукой, показывая на запад.
— Тогда подожди меня здесь, на углу, у этого дома.
Свернув в переулок, Агнесса быстро пошла к машине, которую Фред уже вёл ей навстречу.
— Вы озабочены? Что-то неладно? — обеспокоенно спросил он, как только она села рядом.
— Наоборот. Перевод сделан, деньги при мне.
— Тогда в чём дело?
Агнесса рассказала о своей встрече с Аделой.
— Вы будете смеяться надо мной за то, что мне захотелось побывать в таборе? Так непреодолимо захотелось…
— Машина в нашем распоряжении до вечера. Я сам с удовольствием посмотрю.
— А Аделу можно взять с собой?.. Всю жизнь казалось: никогда её не прощу! И всех остальных тоже. А теперь, когда увидала, как она постарела, какая стала беспомощная… Странно как-то. Все горести вдруг забылись, а помнится только хорошее: бескрайние дороги, воздух, напоённый ароматами трав и горьковатый от дыма костров, звёздное небо, огромным шатром раскинувшееся над табором, тихое ржание стреноженных коней, хруст сена у них на зубах…
— Прошлое всегда мило, Агнесса! Горечь и беды слишком обременительная ноша, чтобы всегда таскать их за собой. И лукавая служанка-память старательно пересевает все давние события сквозь сито, оставляя на поверхности лишь приятное и хорошее. Остальное — запирает в сундук, прячет в самые потайные уголки. Ведь если часто возвращаться к тяжёлым воспоминаниям, не хватит сил жить. Можно согнуться под их тяжестью.
— Возможно, и так! Иначе мне бы не захотелось поехать в табор… А вот и Адела! Остановитесь на минуту!
Старая цыганка нерешительно подошла к машине и вопросительно поглядела на Агнессу.
— Садись, Адела! Скажи, куда ехать…
— Адела? Разве я когда-нибудь уже гадала сеньоре? Где-нибудь в другом месте? Не припомню, чтобы мы бывали в этих краях.
— А я тоже гадалка. Только в отличие от тебя умею заглядывать лишь в прошлое, — пошутила Агнесса. Старый Петро жив ещё?
— Увидишь! — коротко отрубила Адела, забилась в уголок на заднем сиденьи и съёжилась так, словно старалась занять как можно меньше места, хотя рядом с ней никого не было.
За всю дорогу цыганка не произнесла ни слова. Иногда в зеркальце можно было поймать её взгляд, устремлённый на Агнессу: растерянно-насторожённый и вопросительный. Только когда вдали замелькали круглые верхушки шатров, Адела закрыла глаза, то ли устав от езды, то ли удовлетворив своё любопытство и придя к определённому выводу.
Появление машины вблизи табора не вызвало переполоха среди его обитателей, в это время здесь было пусто. Солнце стояло высоко, все взрослое население и старшие дети ещё бродили по улицам и дворам города в поисках поживы. Самые маленькие, игравшие среди шатров и под возами, с весёлым смехом помчались навстречу приезжим, но, увидав среди них Аделу, остановились поодаль, поражённые не столько сердитым окриком старухи, сколько её окружением.
Обежав глазами шатры, Агнесса сразу узнала шатёр атамана. Он был выше и больше всех остальных. Прежний страх сдавил ей грудь. На миг она снова почувствовала себя прежней простодушной любопытной девчонкой, безрассудно переступившей запретную границу. Пришлось оплатить это дорогой ценой. А ведь тогда она была для табора больше «своя», чем сейчас! Не следовало, не следовало сюда ехать, бессмысленно было надеяться, что на сей раз удастся поладить с племенем того народа, кровь которого течёт у тебя в жилах.
— Что же ты остановилась? Пошли! — Адела не оглядываясь пошла вперёд. Фред и Агнесса двинулись следом за ней.
Словно в тумане увидела она, как дрогнул войлок, закрывавший вход в шатёр, и перед ними выросла высокая мужская фигура.
— Мария! — спокойно сказала Адела, словно появление Марии здесь было явлением обычным.
Атаман цыганского табора неторопливо шагнул вперёд. Теперь Агнесса видела не только фигуру старого цыгана, но и его лицо. К её удивлению, оно совершенно не изменилось. Та же самая пышная чёрная шевелюра, без единого седого волоска, так же остро глядят табачного цвета глаза и влажно поблёскивают ровные белые зубы. Только черты лица стали суше и обозначились резче.
— Мария? — переспросил он тоже спокойно, окидывая молодую женщину зорким взглядом с ног до головы. — Что ж, заходи, коли пришла, и вы, сеньор, тоже. Она-то знает, — кивнул он в сторону Агнессы, — а вот вы… — старик насмешливо поглядел на Фреда, вам может показаться в диковинку такое жилище.
— Во время войны многим из нас пришлось привыкать к кочевой жизни, и такой шатёр показался бы нам дворцом.
— Ну, если так… — Атаман закинул войлок на верх шатра и закрепил его специальной планкой.
Солнечные лучи осветли середину шатра и его заднюю стенку, где поверх мешков, набитых всяким скарбом и покрытых попоной, высилась гора подушек. Бросив две из них на тугой брезент, служивший полом, хозяин предложил гостям сесть. Сам же, пренебрегая такими удобствами, опустился прямо на брезентовый пол.
— Много воды утекло с тех пор, как ты уехала от нас, — сказал старый цыган, теперь уже с откровенным любопытством рассматривая Агнессу. — Ты что, действительно сеньорой стала или одной из этих?..
Он не договорил из каких, но молодая женщина отлично его поняла, и щеки её сначала покраснели, потом побледнели.
— С твоей лёгкой руки, атаман, я и впрямь могла стать… такой. Но банкир Менендос женился на мне, — с укором вырвалось у Агнессы.
— Значит ты сеньора, да ещё богатая, — спокойно констатировал Петро. — Зачем же тогда пришла? Покрасоваться?
— Я цыганка. Верно, потому.
— Поздновато же ты об этом вспомнила!
— Так сложилась судьба. К тому же… — те рубцы, которые оставил на моём теле твой кнут, удерживали, — Агнесса невольно приложила руку к плечу и провела по нему пальцем, нащупывая старый шрам.
— Я пришла не одна. И не с пустыми руками. Вот возьми! Всё же ты был для меня хорошим крёстным отцом. — Агнесса вынула из сумочки пачку ассигнаций и протянула их Петру.
Глаза Аделы, присевшей на корточки у входа в шатёр, жадно блеснули, но старый цыган спокойно отстранил руку Агнессы.
— Выходит, и впрямь пришла похвалиться: красотой, деньгами… — насмешливо заметил он. — И его потому привела? Чтобы покрасоваться? — старый цыган кивнул в сторону Фреда.
— А ты не изменился, атаман! Второй раз встречаешь меня кнутом! Не знаю, который больнее.. Я пришла к тебе с открытой душой и то, что дарю, дарю от всего сердца. И не тебе одному, а табору. Хоть и дурным он был для меня домом, а всё же домом… Я думала, я хотела… — голос Агнессы задрожал, и она, оборвав фразу, прикусила губу.
Взгляд старого цыгана смягчился
— Говоришь, от души? Считала табор домом? Тогда дари, а злые слова забудь. Невелики у нас достатки, но встретим тебя как дочку. Э-гей, Адела! Бери Марию и приготовь все, как положено. А чтобы мы с сеньором не заскучали, подай вон тот бурдюк и два больших кубка! И трубку!
Агнесса вскочила и подбежала к полотняной стене шатра, где в петлях торчало несколько трубок.
— Эту? — спросила она, и Фреда удивил её взволнованный взгляд.
Атаман улыбнулся
— Ладно! Давай с длинным чубуком!
Пока Адела вытаскивала из дальнего угла бурдюк с вином, вытирала почерневшие от времени серебряные кубки, такие необычные среди окружающей обстановки, старый цыган набил трубку табаком, раскурил и, глубоко затянувшись, протянул Фреду.
— Не побрезгуй! Таков наш обычай, если человек приходит как друг.
— С удовольствием! — Фред несколько раз затянулся, потом вернул трубку хозяину. — Отличный табак, давно такого не курил, даже не встречал здесь.
— А это особый. Для хороших людей и приятной беседы… Что же ты стоишь, Адела? Слышала, что я приказал? Забирай Марию, и уходите! У нас мужской разговор, у вас — свой, женский.
Адела и Агнесса вышли из шатра. Впервые после приезда в табор молодая женщина вздохнула с облегчением. Осматриваясь, она искала знакомые приметы, которые помогли бы ей вернуться в далёкое прошлое. Все как прежде. Кибшки, шатры, Просто шалаши, шатёр атамана… Остатки большого костра, над которым висит почерневший от сажи пустой котёл… следы других костров среди шатров и возов.. стреноженные лошади… холстины, одеяла, яркие подушки, выброшенные на воздух для просушки.. на них с визгом кувыркаются дети… привязанная ко вбитому в землю колышку коза… натянув до отказа поводок, она роет землю задними копытцами, силясь дотянуться до лакомого кустика . Большой пёс с торчащими рёбрами и впалыми боками, шныряющий под возами в безнадёжных поисках съестного… собаке плохо живётся в таборе тумаков достаётся больше, чем костей, но стоит табору тронуться, как она, высунув язык, побежит следом. Воля ей дороже сытой жизни в конуре…
Все как прежде, а впрочем и не так… Табор уменьшился. Да и лошади не такие сытые, как раньше. Одеяла засаленные и потрёпанные, а подушек, которые служат цыганам всем — мебелью и постелью, — совсем мало.
Сердце Агнессы сжимается от жалости
— Неужто табор так обнищал, что и ты должна ходить в город? — спрашивает она Аделу, чувствуя, что от старой неприязни не осталось и следа.
— Или молодые так обленились?
— Ох, не то… — Адела протестует и скорбно качает головой, но от объяснений уклоняется.
Войдя к себе в шатёр и усевшись на неприбранную постель, она долго молчит, уставившись в одну точку. Лишь покачивается из стороны в сторону, будто стараясь сбросить и со своих плеч груз воспоминаний. На стенах и даже на потолке висит множество мешочков с высушенными травами. У Агнессы слегка кружится голова от их запаха и ритмичного покачивания Аделы.
— У тебя, верно, много внуков, — говорит Агнесса первое, что приходит в голову, только бы нарушить тягостное молчание. — Мигель женился ещё при мне, а Хуан…
— Нет Мигеля, нет Хуана, нет многих, кого ты знала… Вот послушай… В то лето мы ушли далеко за горы и нам поначалу везло. Там живут люди, по говору и обычаям похожие на наших басков. Там у нас всего было вволю, и никогда наша молодёжь так много не пела и не танцевала, как в то лето. Но с давних пор известно: после больших радостей приходят большие беды. И горе свалилось на нас, как гром с ясного неба, словно чума чёрная, о которой мы слышали от прадедов.
Скупо роняя слова, Адела поведала, как бедствовал табор, когда началась война, как перегоняли его с места на место, как немцы, захватившие к тому времени Францию, обрекли всех цыган на уничтожение. Лишь немногим посчастливилось чудом спастись из-за колючей проволоки, да и то после того, как самых молодых и сильных забрали и увезли. Беглецам пришлось пешком переправляться через горы по нехоженым тропкам, устилая их трупами умерших от голода, жажды, слабости…
— Вот где посеяно семя моего рода, где полегли невестки и внуки. А сыновья… говорят, сожгли их вместе с другими цыганами в адских печах, и взвился их пепел к небу вместе с черным дымом…
— Как же ты выжила, старая и немощная? — спросила Агнесса, ошеломлённая рассказом Аделы.
— Надо было спасать остальных. Петро вёл, а я искала съедобные коренья, залечивала раны, заговаривала… Вышло нас около ста человек, а пришла горсточка. Заново пришлось собирать цыган… Если б не Петро…
Адела замолчала, погруженная в печальные мысли, потом махнула рукой и принялась хлопотать среди мешков и узелков, вытаскивая из тайников всё, что было припасено, — большой круг овечьего сыра, кусок копчёного мяса, пресные лепёшки, вязку вяленой рыбы, маслины…
— Давай я, ты лучше посиди, — старалась помочь ей Агнесса, но старуха решительно приказала:
— Сиди! Расскажи, почему никогда не подавала весточки? Искали мы этого господина, который увёз тебя, но говорили, что подался он куда-то за моря и горы. Куда же ты делась?
Впервые Агнесса могла поговорить о себе с женщиной, да к тому ж ещё в какой-то мере причастной к её судьбе. Она начала с того, что больше всего мучило её, — с болезни Иренэ. Агнесса описала страшную автомобильную катастрофу, своё отчаяние, когда у девочки отнялись ноги, тоску по мужу, к которому стала привыкать после рождения дочери, хотя сразу после свадьбы руки хотела на себя наложить, так он был ей немил… Закончила Агнесса тоже рассказом о болезни дочери.
— Она как цветок со сломанным стебельком. Кажется, вот-вот завянет. Ой, Адела, собственные ноги отрубила бы и ей приставила, только бы девочка могла ходить! Всю кровь бы свою отдала!
— Сердце матери всегда одинаково, бьётся ли оно под дорогим платьем, или под такой рванью, как на мне… Жаль, не пришла ты раньше — на рассвете мы снимаемся с места… Может, и помогла бы. Умею я лечить раны, переломы. От чахотки есть у меня разные травы, от холеры — корешок… Есть зелье, чтобы желчь разогнать, и такое, что дурной глаз отводит… От бешенства, приворотное и отворотное, от грудницы и от лихорадки…
Адела, словно в трансе, перебирала названия болезней и трав, которыми она лечит, стараясь найти среди них такие, которые могли бы помочь маленькой Иренэ. Вдруг глаза старухи радостно загорелись. Она бросилась к своим мешочкам, стала их ощупывать и обнюхивать, отбирая нужное.
— Вот из этого, и ещё из этого… от ломоты, чтобы кости не ныли, а отсюда, чтобы спинка не болела, а это… чтобы болезнь личико не желтила… Приговаривая, Адела отсыпала из каждого мешочка на кусок полотна по нескольку щепоток цвету, листьев или корешков, потом завязала все в узелок и протянула Агнессе.
— На, Мария, и внимательно слушай, что я скажу тебе. Заваришь эти травы в семи кружках воды. И семь раз по кружке подливай в купель. А потом всю воду собери, только так, чтобы ни капельки не пролилось, и ровно в полночь отнеси эту воду на самую высокую скалу, где гуляют ветры. Семь раз поклонись ветрам и семь раз скажи: недуг насланный, наговорённый, наворожённый, недуг ветряной, водяной, земляной, огневой, я тебя запрещу, на семь ветров распущу, пади ты с глаз, с плеч, с сердца, с живота, с рук, с ног, с кости да с крови, с семидесяти суставов. Я тебя заколдую, на семь ветров развею. Тут тебе не живать, крови не пивать, вживе не бывать! Зашлю я тебя на моря глубокие, горы высокие, в пропасти бездонные, в чащобы исхоженные, где люди не бродят, колокола не звонят. Там тебе напиться, там накупаться, там нагуляться, с братцами навидаться.
Агнессе стало жутко от горящего взгляда старухи и от торжественного тона, которым она произносила слова заклинания. На мгновение женщиной овладел мистический ужас перед непостижимыми силами, которые правят судьбами людей. Но перед глазами промелькнули картины детства, все эти Марианны и Луисы, которых старая цыганка учила гадать, обманывать легковерных. Кое-кто из цыганок действительно умел лечить травами, но уменье их не простиралось дальше лечения ран или обычной простуды.
«Бедная Адела, ты даже свои глаза не можешь вылечить!» — подумала Агнесса, но, чтобы не обидеть старуху, трижды повторила за ней слова заговора и заботливо спрятала на груди узелок с зельем.
— Спасибо, Адела, что ты меня не забыла, возьми вот это! — Агнесса сняла с плеч белый шарф, который на всякий случай захватила в дорогу. — Он тёплый и пригодится тебе в непогоду.
Огрубевшими, шершавыми пальцами старая цыганка осторожно погладила пушистую шерсть, потом прижала шарф к щеке.
— Мягкий, как горсточка пуха, как дыханье ребёнка. Ай-ай! Кто же поверит, что старая цыганка его не украла!
— Ничего, зимой закутаешь себе грудь и спину. Под кофтой никто не увидит.
Старуха долго ещё бы причмокивала языком, рассматривая подарок, но Агнесса напомнила ей:
— Пойдём, нам пора собираться в дорогу. Да и Петро, верно,сердится.
К большому удивлению обеих женщин, атаман лишь миролюбиво кивнул, указывая, куда поставить принесённое. По всему было видно, что они с Фредом поладили и выкурили не одну трубку. Деньги, оставленные Агнессой на полу, тоже исчезли.
— Угощайтесь, сеньор, и ты, Мария, — со спокойным достоинством сказал хозяин и, разломив лепёшку, протянул гостям, а сам принялся нарезать сыр и мясо.
Ни Фреду, ни Агнессе есть не хотелось, но они понимали, что их отказ обидит атамана, и сделали вид, что в самом деле проголодались. Но аппетит пришёл во время еды. Вскоре гостям все нравилось. Агнесса не могла нахвалиться сыром, душистым и мягким, как масло. Фред с удовольствием обгладывал рыбьи косточки, отложив в сторону спинку — два аппетитных длинных ломтика, снятых с хребта. Рыба очень напоминала тарань, которую так любил отец, и эти воспоминания заставили Григория улыбнуться. Петро, угощая гостей, сам ел мало — ему хотелось затянуть этот импровизированный обед до тех пор, пока не соберётся табор, чтобы молодёжь увидела гостей старого атамана, чтобы на них поглядела и себя показала. Подсознательно он связывал сегодняшнее появление Марии с теми далёкими днями, когда каждый приезд гостей сопровождался буйной гульбой всего табора — большого, богатого, дружного.
— Вот увидишь, сеньор, какие у нас певцы и танцоры! — старый цыган уговаривал Фреда задержаться у них, сам уверовав в то, что сегодняшний вечер может стать переломным, что искра веселья способна зажечь былым огнём души усталых и изверившихся цыган.
— Был бы я таким свободным человеком, как ты, атаман, с удовольствием остался бы. Но к сожалению… — Фред посмотрел на часы, — мы не закончили всех дел в городе. Спасибо за все — за гостеприимство, за ласку, за добрую беседу.
Фред хотел подняться, но атаман остановил его.
— Погоди! Налей ещё по кубку! Чтобы дорога не пылила, как говорят у нас. За тебя, сеньор, пришёлся ты мне по душе… И за тебя, Мария! Утешила моё сердце тем, что не забыла. За деньги, которые дала, от всего табора спасибо. Трудно живут сейчас люди, а цыгане и подавно. Только и сильны единством. Цыган цыгана всегда найдёт и из беды выручит. Я тут дал сеньору адрес. Человек один верный есть у меня в Фигерасе. Если надо будет в чём помочь, к нему обратишься. Скажешь — от Петра, сына Хосе и Терезы, он для меня все сделает. И помни, сеньор, в жизни все бывает…
— Запомню… — Фред крепко пожал руку атаману, вложив в это пожатие всю силу признательности. Иметь своего человека в Фигерасе! Это было то, о чём он так долго мечтал, что могло пригодиться каждую минуту.
На обратном пути из табора в Фигерас клочок бумаги с адресом, засунутый в карман, казался маленьким аккумулятором, излучающим живое тепло, и Фред не сразу заметил, что плечи Агнессы слегка вздрагивают.
— Вам нехорошо? Может, остановить машину? Я никогда не видал вас такой бледной!
— Я немного замёрзла, совсем немножечко… Это, верно, оттого, что я сегодня очень переволновалась. Вы даже не представляете как! Подумайте, решившись урегулировать дела с банком, я словно шагнула в будущее. А в таборе… это был шаг в далёкое прошлое… Я ни минуты не жила сегодняшним днём, он словно совсем выпал из жизни и всё происходило как во сне. И себе самой я тоже кажусь тенью из этого сна… Все это, должно быть, из-за гаданий Аделы.
— Гаданий? Что же она вам нагадала?
— Наоборот, она учила гадать меня! Поглядите, теперь я настоящая цыганка! Вот волшебное зелье, а сейчас я вам скажу заклинание:
«Недуг насланный, напущенный, наговорённый, наворожённый, недуг ветряной, водяной, земляной, огневой…»
Агнесса выговаривала слова так же торжественно, как и Адела, сурово сведя брови на переносье, но вдруг не выдержала и рассмеялась:
— Бедная Адела! Она так старательно отбирала зелье и так искренне верит, что я стану купать Иренэ в настое из этих трав…
Молодая женщина высунула из машины руку с развязанным узелком, и встречный ветер слизал с тряпицы сухие былинки и корешки, а потом подхватил и самый лоскуток.
— Лети за семью ветрами! — прошептала Агнесса.
«Словно шелуха, что отлетает, оставляя здоровое зёрнышко… — подумал Григорий. — Сегодня ты и Нунке пустила за семью ветрами…»
БУРЯ В ТЕРРАРИУМЕ
— Герр Шульц! Зовите Воронова и немедленно ко мне! — голос Нунке звучал взволнованно и почему-то торжественно.
Позвонив генералу, Фред поспешил в кабинет шефа. Тот склонился к радиоприёмнику, напряжённо вслушиваясь в текст передачи.
— Садитесь и слушайте! Только молча!
— Кто говорит? — шёпотом спросил Воронов у Шульца, услышав немецкую речь. Фред лишь пожал плечами, потому что и сам не разобрал, в чём дело.
— Читают речь Черчилля, произнесённую в Америке в присутствии Трумена,
— коротко пояснил Нунке и повернул ручку приёмника, чтобы усилить звук.
Передача продолжалась недолго. Очевидно, Нунке включил приёмник случайно, когда передача уже началась.
Выругавшись вполголоса, шеф бросился к телефону.
— Библиотека! Немедленно сегодняшнюю почту! Сейчас же! Выступление Черчилля в Фултоне напечатано?.. Несколько номеров газеты мне в кабинет! положив трубку, он повернулся к Шульцу и Воронову. — Вы представляете, что значит такая речь? И чья? Черчилля!
— Трудно сразу что-либо сказать — мы слышали только заключительную часть, — уклонился от прямого ответа Фред. — Но из услышанного ясно: речь направлена против России.
— Вы слишком осторожны в выводах. Или не поняли, в чём дело. Фактически это провозглашение наступления на русских. Вот это событие! Поворот на сто восемьдесят градусов! — Нунке широко развёл руками.
Дежурный принёс пачку газет, и все с жадностью накинулись на них. В испанских было лишь сообщение о выступлении в Фултоне с довольно неопределёнными комментариями. Французские газеты напечатали речь полностью на первых полосах.
— Читайте вы! — приказал Нунке Воронову, безукоризненно владеющему французским языком Воронов с годами стал дальнозорок, но старательно скрывал этот дефект и теперь, отставив газету довольно далеко, читал внятно, отделяя слово от слова, иногда ударяясь в патетику, отдельно останавливаясь на непонятных слушателям словах, необычных оборотах. Вообще Воронов чувствовал себя в центре внимания и заметно гордился этим.
По мере чтения речи бывшего английского премьера, который хотя и был уже не у власти, но все ещё играл огромную роль в политической жизни Англии, сердце Фреда, или, вернее, того, кто скрывался под этим именем, болезненно сжималось: вчерашний союзник в борьбе против фашизма, меньше чем год назад так восторженно поздравлявший Советскую Армию с победой, теперь — а ведь не истекло и года после окончания войны! — призывал сколотить англо-американский блок против Советского Союза.
Черчилль не очень-то заботился об оригинальности выдвинутой им идеи и, тем более, оригинальности формулировок и аргументов. Если несколько лет назад фюрер проповедовал, что только арийская раса способна руководить миром, то мистер Черчилль в своей речи в Фултоне доказывал, что миром надлежит руководить нациям английского языка.
— Гершафтен! Поздравляю! Поздравляю с новой эрой… Ну, что вы теперь скажете? — Начальник школы сиял.
— Вы правы, это в самом деле новая эра в международной жизни, — резюмировал Шульц.
— Работки нам теперь прибавится, Дай боже! одобрил Воронов.
— О, наша роль теперь чуть ли не самая главная! поддержал его Нунке. — Жаль, что здесь нет сейчас Думбрайта!
— Он ведь в Нью-Йорке и привезёт оттуда последние новости.
— Да, новостей на сей раз будет много, — задумчиво проговорил Нунке, мысленно прикидывая, как новый курс отразится на делах школы.
Однако новости стали поступать раньше, чем Думбрайт вернулся из Нью-Йорка Первой ласточкой была шифрованная телеграмма, в которой босс приказывал слушателей всех отделов школы, кроме русского, немедленно направить по указанным адресам, преимущественно в Баварию и Западный Берлин. Не успели справиться с этим заданием, как из лагерей для перемещённых лиц стали прибывать новые кандидаты в «рыцари». К удивлению Нунке, здесь были не только русские, украинцы и белорусы, которых он именовал одним словом славяне, но и туркмены, узбеки, таджики, армяне, даже абхазцы и киргизы.
— Что я буду с ними делать? Где возьму воспитателей? — сетовал начальник школы, размещая новых воспитанников.
Всё стало на свои места, когда через несколько дней вернулся весёлый и возбуждённый, чтобы не сказать счатливый, Думбрайт.
— Мы будем готовить агентов для всех республик России. Не станем же мы засылать украинца или белоруса в грузинский аул. В нашей школе должны быть представлены все национальности Советского Союза!
Изменился не только состав слушателей школы, но и утверждённая ранее программа и самый метод обучения.
В боксах поставили телевизоры. В точно указанное время каждый обитатель бокса должен был прослушать лекцию одного из двух профессоров, привезённых Думбрайтом из Нью-Йорка, по так называемой «духовной подготовке». Каждая лекция продолжалась не менее двух часов.
Профессора учили слушателей, как в разговорах с советскими людьми пропагандировать прагматизм, неопозитивизм и особенно неофрейдизм плюс всяческие новоиспечённые «измы», которые вырастали, как грибы, на почве послевоенного неверия в лучшее будущее.
Излагались новые философские теории, естественно, весьма схематично. Но от слушателей требовали, чтобы на следующий день они точно, без каких-либо конспектов, изложили преподавателям прослушанное. Главный же смысл заключался даже не в освоении материала, а в умении дискутировать по поводу прослушанного. Каждую неделю кандидат в «рыцари» встречался с лектором как оппонент известных положений. Ведь агенту или резиденту приходилось теперь не только готовиться к сбору агентурных данных или диверсиям, но и вооружаться идеологически, чтобы стать пропагандистом враждебных Советскому Союзу идей. Диспуты с лекторами были своеобразной тренировкой перед предстоящими спорами с советскими людьми.
Особым вниманием Думбрайта пользовалась группа «Аминь», так как участникам её предстояло действовать именно в сфере идеологической. Всех, кто входил в эту группу, освободили от занятий по борьбе, вооружённому нападению, остались только упражнения по стрельбе — мера защиты на случай провала. Зато особенно много времени уделялось радиоделу, чтобы с этими группами можно было поддерживать постоянную связь и осуществлять необходимое руководство. Значительно усилили и «духовную подготовку». Профессор богословия Брант, маленький сухощавый старик, от одного учащегося класса «Аминь» переходил к другому, проверял, как усвоены сектантские обычаи, молитвы, умеет ли слушатель произнести проповедь на ту или иную тему. Думбрайт охотно сопровождал Бранта, проверяя, насколько быстро и успешно осваивается эта новая дисциплина. Он сверял все с конспектами профессора, собственными записями и, поправляя, делая замечания, всё время предупреждал:
— Не нужно откровенно антисоветских, а так…
Слушатели, знавшие Думбрайта, заканчивали за него:
— С душком! С душком!
Думбрайт хохотал и шёл в следующий бокс.
Впрочем, смех его был искусственен: обстановка в школе его не удовлетворяла.
Думбрайт спешил.
— Я обещал в Нью-Йорке, что через месяц-полтора мы сможем заслать к большевикам несколько десятков отлично натренированных агентов и диверсантов. А бросать слова на ветер не люблю. Доверие базируется на точном выполнении обещаний, в нашем же деле доверие — это не только карьера, а порой и жизнь, пояснял босс Нунке в редкие минуты откровенности.
Прибавилось работы у всех, особенно у Фреда, поскольку он был теперь единственным воспитателем во всём русском отделе, — Воронов был занят только своей группой «Аминь».
— Герр Нунке, — предупредил Шульц начальника школы вскоре после проведённой Думбрайтом реформы. — Я не успеваю выполнять всю ту работу, которую выполнял раньше.
— Почему?
— Численность слушателей русского отделения увеличилась почти в три раза по сравнению с недавним прошлым. К тому же я, как и все преподаватели, обязан слушать лекции по «духовной подготовке» и особенно старательно готовиться к диспутам с профессорами, как человек, призванный помогать другим, служить образцом. Для этого нужно время и немалое. А мои обычные обязанности воспитателя? Ведь от них никто меня не освобождал. Наоборот, требования возросли. Прямо ума не приложу, как уложиться в двадцать четыре часа! О сне и отдыхе я уже не говорю. Если прилягу на часок, чувствую себя преступником, ворующим собственное время.
— А как вам вообще нравятся новые порядки в школе? — неожиданно спросил Нунке, так и не прореагировав на жалобу Фреда.
— Мы с вами старые боевые друзья, и поэтому я буду откровенен: не очень!
— Признаться, только это сугубо между нами, мне тоже. Парадоксальное явление: необходимо как можно лучше законспирировать агентов и резидентов, они должны выглядеть правовернейшими из правоверных и вдруг — пропаганда антибольшевистских идей. Где логика, здравый смысл?
— Меня тоже это удивляет. Даже при максимальной осторожности достаточно одной ошибки — и потянется ниточка к нашему человеку, которого мы здесь готовили так тщательно и старательно.
— Собираюсь написать докладную в Нью-Йорк. Надеюсь, там поддержат.
— Через голову босса?
— Я говорил с ним на эту тему, но ведь вы знаете Думбрайта. Для него существует лишь собственное мнение, собственное настроение, собственные пристрастия…
— Не завидую вам, но иного выхода не вижу… А теперь оставим высокие материи и наши будни. Что вы скажете о моём заявлении?
— Согласен, объём работы значительно увеличился У вас есть предложения?
— Надо назначить ещё одного воспитателя в русский отдел. Проще простого.
— Если есть выбор. А если туго, куда ни повернись?.. Может быть, временно подыщем кандидатуру в класс «А» или «Р»?
— Надо согласовать с Думбрайтом. Ведь он же обещал, что из Нью-Йорка приедут новые преподаватели, новые тренеры. Возможно, среди них…
Фред оборвал фразу, увидя, что в комнату входит усталый и вспотевший Думбрайт.
— Фу-у! — проговорил босс, падая в кресло. — Конец марта, а жара, словно летом. Чёрт бы побрал эту Каталонию! Хотелось бы оказаться где-нибудь в средней полосе.
— Первый раз вижу вас таким усталым, — заметил Нунке, протягивая боссу стакан вина, разбавленного водой. — Испанцы не дураки — это отлично утоляет жажду.
— Достаточно я выпил этого пойла у патронессы.
— Вы от доньи Менендос? — удивился Нунке.
Все финансовые расчёты с Агнессой до сих пор вёл он, и сообщение Думбрайта о визите к патронессе неприятно его поразило.
— С такой хорошенькой женщиной можно просто пофлиртовать, а мне пришлось возиться с препротивным делом. Вот две бумажки, которые торжественно называются посланиями. Одно написал я с Брантом, второе — падре Антонио, чтобы ему черт руки переломал… На основании этих двух текстов надо составить один — соединить оба так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Одно послание, видите ли, не нравится патронессе, а ещё более падре, писанина же Антонио не устраивает меня.
Фред взял два протянутых листочка и стал читать
— Что за послания?
— Нью-Йорк настаивает, — Думбрайт никогда не ссылался на какой-либо конкретный отдел разведывательной службы США, а говорил «Нью-Йорк», чтобы мы, использовав само название школы и историю её основания, от имени патронессы обратились ко всем религиозным организациям с призывом провести в церквах, храмах, костёлах, молитвенных домах богослужения и выступить с проповедями, направленными против гонителей веры христовой. Причём сделать это повсеместно в одно и то же время, чтобы придать движению широкий размах, привлечь мировое общественное мнение к проблеме нашего идеологического наступления на коммунизм. Разумеется, проповеди будут сопровождаться сбором пожертвований на восстановление заброшенных храмов понимай: — в России! — и на нашу школу как на центр миссионерского движения.
— Но Советское правительство наверняка не разрешит принять такие пожертвования, — вмешался Нунке.
— А мы и не собираемся их передавать. Важно поднять шум — большевики, мол, преследуют верующих. Что же касается собранных денег, так они весьма пригодятся нам самим. Учитывая новый объём работы…
— Так почему же два текста?
— Погодите, Фред, кажется, уже прочитал… Уловили, в чём расхождение?
— Уловить нетрудно. Одно, верно, написанное падре, обращено только к католикам. Второе — ко всем верующим, независимо от вероисповедания, и даже к тем, кто откололся от церкви, объединился в секты… Вы предлагаете свести два текста воедино, а потом дать подписать патронессе? — спросил Фред. — А что, если она не согласится?
— Все уже согласовано, по крайней мере с патронессой. Она неплохая бабёнка, но бог мой, как далека от политики! Всем заправляет этот падре. Кстати откуда он взялся и почему так дерзко держится? Вы удивляете меня, герр Нунке! Как можно было допустить, чтобы падре вертелся возле дела, в которое ему даже нос совать не следует?
— Падре Антонио один из учредителей школы. Собственно инициатор её создания. Мне уже потом поручили связаться с ним, потому что вывеска святой церкви, плюс прекраснейшая женщина, потерпевшая от безбожников… В своё время падре сыграл положительную роль и очень нам помог, но в последнее время его влияние на донью Менендос приобретает нежелательный характер.
— И вы не смогли своевременно обезвредить этого падре?
— То есть? — голос Нунке сорвался, прозвучал неестественно хрипло.
— Это звучит как анекдот! — воскликнул босс с издёвкой. — Начальник школы разведчиков не понимает, что значит «обезвредить». Может быть, организовать для вас специальный курс, чтобы вы усвоили, как это делается?
— Вы не так меня поняли… возможно, я неудачно выразился, — побледнел Нунке.
— Неудачно выражается тот, кому нечего выразить, у которого нет собственного мнения… Что же касается того, правильно ли я вас понял, то будьте уверены, я человек дошлый и обладаю здравым смыслом… Даю вам две недели сроку. Чтобы ни на вилле, ни в Фигерасе падре Антонио и духу не было! А если он исчезнет совсем — будет ещё лучше! Этот чёрный ворон слишком много знает о школе и может нам навредить. Да и влияние его на патронессу слишком велико. Подыщите ей нового духовника, который действовал бы в соответствии с нашими указаниями. А лучше всего прибрать её к рукам другим образом!
Шульц и Нунке невольно переглянулись
— Да, да, женщине в её возрасте нужен любовник, а не проповедник морали и добродетели. К слову сказать, неужели никто из вас до сих пор не клюнул на такой лакомый кусочек? Будь у меня время, чёрт подери… Вот вы, Фред? В каких вы отношениях с патронессой? Тоже читаете ей проповеди?
— Раньше был в приятельских, а теперь у меня просто нет времени часто у неё бывать… К тому же падре Антонио…
Нунке улыбнулся.
— Потерять такую прихожанку ему, конечно, жаль. Не удивительно, что он боится, как бы Агнесса не перестала быть вдовою.
— Тем более надо гнать его ко всем чертям!.. Послушайте! Идея! А что если мы поженим Фреда и Агнессу Менендос? Это же прекрасный выход! Мы навсегда сохраним такую удобную для школы вывеску, приберём к рукам все финансовые дела, а у Шульца будет прелестная возлюбленная… Лучшего бизнеса у вас, Фред, не было и не будет. Хотите, заключим контракт, как это принято среди порядочных людей? Дадим Агнессе приличное приданое. А? Что вы скажете? Я понимаю, брать в жёны женщину, хоть и красивую, но с таким довеском, как калека-дочка… Пфе! Это может отравить даже медовый месяц!..
— Особенно сейчас, когда девочке стало хуже, напомнил Нунке.
— Стало хуже? Так ведь это же великолепно! Болезнь можно ускорить. Развяжутся руки у матери и у вас, Фред. Наконец, перестанет мучиться и сама девочка. В таких случаях затяжка летального исхода — свидетельство сентиментальности самого низкого пошиба.
Фреда обдало жаром. Чтобы спрятать вспыхнувшее лицо и не кинуться на босса, который по сути только что вынес два смертных приговора — падре и Иренэ, — Шульц отвернулся к окну. Выдать себя сейчас значит погубить все дело! Но как сдержаться, как подавить гнев, который все нарастает и нарастает?
— Думайте, думайте, Фред! Даю не больше двух недель! За этот срок можно приступом взять самую неприступную крепость, не то что женщину, которая сама упадёт к вам в руки, как созревший плод… Герр Нунке, вы должны обеспечить, чтобы Фред имел каждый вечер по крайней мере два свободных часа!
— В том-то и беда, что этих двух свободных часов не выкроить. Перед самым вашим приходом мы с Шульцем говорили, что русское отделение практически осталось без надлежащего руководства.
— О чём же вы думали до сих пор?
— До сих пор отделение было в три раза меньше.
Нунке рассказал о создавшемся положении и изложил суть беседы с Шульцем.
— Понятно. Отделение надо пополнить преподавателями. Но пока речь может идти только о помощнике. У вас есть на примете кандидатура?
— Может быть, взять Протопопова? — скорее спросил, чем предложил Нунке.
— О Протопопове забудьте! Для вас он умер. Отца Полиевкта — ну и имечко себе выбрал! — мы готовим для великих дел на ниве религиозной.
— Тогда Домантовича? — назвал другую фамилию начальник школы.
— Очень молод, — запротестовал Фред.
— Он же старше вас на целых пять лет, — напомнил Нунке сердито.
— Действительно, это кандидатура, — согласился Думбрайт. — Прекрасно усвоил все дисциплины, сообразителен, перед войной работал нашим агентом в России, насколько я помню его анкетные данные. Имеет награды за выполнение заданий. Не понимаю, Фред, почему вы возражаете против Домантовича?
— У нас с ним почему-то сложились не очень хорошие отношения, и я боюсь, что это может отразиться на работе…
— Глупости! — безапелляционно заявил Думбрайт. — Это только на пользу дела. Мы назначим его помощником, и он будет замечать все ваши огрехи, а вы
— его!.. Я согласен на кандидатуру Домантовича, пока не подыщем кого-нибудь ещё… А теперь к чёрту все дела! Я скверно обедал и ещё не ужинал… И спать хочу, как после трех бессонных ночей. В конце концов, как говорит Воронов, все мы люди, все человеки…
Но поужинать босс не успел. Только что хотел уйти, как зазвонил телефон. Правда, трубку взял Нунке, но задержаться пришлось и Думбрайту.
— Слушаю… Что?.. Пропустите! — Вздохнув, Нунке немного тревожно сообщил: — Зачем-то специальный посланец от испанской контрразведки из Барселоны.
— Странно!
— Я сам ничего не понимаю.
Через минуту в сопровождении дежурного вошёл низенький толстяк с длинными нафабренными усами, торчащими двумя прямыми стрелками. Глаза прибывшего с синеватыми белками быстро оглядели всех присутствующих, ни на ком не задерживаясь дольше чем на миг.
— Сеньор Нунке? — спросил офицер, ни к кому персонально не обращаясь, словно в комнате находился один человек.
— К вашим услугам! — поклонился тот.
Офицер контрразведки вынул из кармана листок бумаги и написал на нём какую-то фразу. Нунке прочёл и тоже написал несколько слов. Офицер утвердительно кивнул, достал зажигалку и сжёг записку над пепельницей.
— Что за комедия? — сердито спросил Думбрайг.
— Пароль, — ответил Нунке, принимая от офицера пакет с несколькими печатями.
Офицер контрразведки, стараясь держаться прямо, козырнул Нунке, затем Думбрайту и, даже не взглянув на Фреда, вышел из кабинета.
— Чем мы обязаны появлению этого типа? Он что, выскочил из юмористического журнала прошлого столетия? — фыркнул босс.
Нунке неторопливо разорвал конверт, вынул из него второй, прошитый шнурком и скреплённый печатями, осторожно срезал их перочинным ножом и вынул маленькую бумажку. На листочке было напечатано всего несколько строчек, однако Нунке читал их долго — должно быть, раз десять пробежал записку с начала до конца.
— Да скажите, наконец, в чём дело? — не вытерпел Думбрайт.
Начальник школы обвёл всех долгим взглядом и глухим, совсем чужим голосом проговорил:
— Этой ночью испанская контрразведка запеленговала в квадрате нашей школы подпольную радиостанцию…
НАД ПРОПАСТЬЮ
Инструктор радиоотдела Вайс лично никогда не разговаривал с боссом. Думбрайт плохо разбирался в радиотехнике, а демонстрировать это перед персоналом школы не хотел. Тем более, что на днях должен был прибыть из Нью-Йорка настоящий знаток, на которого вполне можно было положиться, — ведь не зря же его рекомендовал штаб разведывательной службы США. Лишь в силу случайно возникших обстоятельств пришлось вызвать сегодня этого Вайса, белесого, словно вымазанная сметаной крыса, невольно вызывающего чувство физического отвращения.
Под неприветливым взглядом Думбрайта Вайс тотчас растерялся. Терялся он всегда, когда ему приходилось разговаривать с человеком рангом выше, чем он, бывший лейтенант гестапо.
— По договору между бывшим рейхом и Испанией, — начал докладывать Вайс, запинаясь, — эта территория называется квадратом четыреста тридцать семь и принадлежит нам, то есть школе «рыцарей благородного духа»…
Вайс развернул карту и положил её перед боссом.
— Да не торчите вы перед глазами! Сядьте! — гаркнул Думбрайт.
Вайс ещё больше растерялся.
— Простите, — промямлил он, опускаясь на краешек стула.
— Дальше!
— По четвёртому параграфу договора, о котором я имел честь напомнить…
— А можно короче? Без всяких там «имел честь» и подобного!
— Слушаю! В этом квадрате не имеют права проживать особы испанского происхождения…
— А может быть, просто испанцы, так будет короче?
— Нет. Испанского происхождения, — осмелился возразить Вайс. — Ведь фрау Агнесса Менендос не испанка. А исключение сделано именно для неё, её дочки, экономки и кучера. Имеется пропуск и у падре Антонио. Он…
— Дальше!
— Квадрат четыреста тридцать седьмой пользуется экстерриториальностью: испанская полиция не имеет права вмешиваться в события, происходящие на территории квадрата. Здесь полную ответственность несёт администрация школы.
— Зачем мне вся эта предыстория! Плевал я на неё! Расскажите лучше то, что непосредственно касается дела о радиостанции!
— По договору…
— Вы что, умеете танцевать только от печки? Ясно, что по договору!
— … Школа имеет право на радиостанции — число их договором не обусловлено, — но все они подлежат регистрации в Испании, с точным указанием волн передач и времени.
— Наши станции все зарегистрированы?
— Так точно!
— Волны тоже?
— Так точно!
— Запеленгованная станция работала на каких волнах?
— Прошу взглянуть на акт, тут точно указано. Не на наших. А вот шифрованный текст. — Вайс положил перед боссом акт и текст, переданный подпольной радиостанцией. Он складывался из длинной ленточки цифр.
— Испанская контрразведка пыталась расшифровать текст?
— Когда я сегодня вылетал из Барселоны, расшифровать текст ещё не удалось.
— Они впервые запеленговали радиостанцию в нашем квадрате?
— Так точно, впервые, но…
— Что «но»?
— Разрешите ответить подробнее, коротко я не смогу сформулировать.
— Так и быть, говорите, как умеете, — буркнул Думбрайт.
Вайс немного удобнее устроился на стуле, словно готовясь к длинному рассказу.
— Каждый вечер я работаю с десяти до двенадцати на коротковолновой станции, зарегистрированной под номером десять. Семнадцатого ноября прошлого года в четверть двенадцатого — дата и час абсолютно точные, они врезались мне в память — я, простите, чихнул, и моя рука невольно повернула ручку настройки. В тот же миг я отчётливо услышал цифру шестнадцать дробь два, а затем ещё несколько цифр. Очевидно, это был конец шифрованной передачи, потому что дальше, как я ни прислушивался…
— На какой волне, чёрт побери! — босс стукнул кулаком по акту, лежащему перед ним.
— Немного более короткой.
— Вы или сам невежда, или таковым считаете меня. Выражайтесь точно.
— К сожалению, я ещё раз чихнул и от волнения…
— Болван! Полюбуйтесь своими кадрами, мистер Нунке!
Начальник школы, который до сих пор не вмешивался в разговор, вскочил и вплотную подошёл к побледневшему Вайсу.
— Почему не доложили мне? — спросил он почти шёпотом и так сжал кулаки, словно изо всех сил сдерживался, чтобы не схватить Вайса за шиворот и не швырнуть на пол.
— Погодите! — остановил его Думбрайт.
— Я поймал лишь несколько цифр — конец передачи и думал, что это подпольная антифашистская станция. Их в Испании много…
— А может быть, и запеленгованное вчера принадлежит испанским коммунистам?
— В Барселоне меня заверили: подпольщики используют свои станции только для воззваний к населению, передачи информации и различных сообщений. Все эти передачи идут открытым текстом исключительно на испанском языке или на местных диалектах.
Вайс вспотел, докладывая боссу, но не решался вынуть носовой платок, чтобы вытереть мокрые от пота лицо и шею. Он внимательно вглядывался в лицо Думбрайта, от которого — Вайс был отлично осведомлён о порядках в школе — зависела не только вся его дальнейшая карьера, но и сама жизнь! Единственное, о чём он даже не мог подозревать, заключалось в том, что своей информацией о перехваченной осенью прошлого года шифровке Вайс приобрёл в лице Нунке смертельного врага, а в лице Думбрайта — могучего покровителя.
Запеленгование радиостанции в квадрате школы размежевывало позиции Думбрайта и Нунке ещё резче.
С точки зрения начальника школы, босс допустил непоправимую ошибку, приказав с марта этого года зачислить в школу новое пополнение, завербованное в лагерях для перемещённых, без предварительной проверки на контрольных пунктах в фигерасе. Нунке доказывал, что хотя это и ускоряет подготовку, но при такой спешке в школу может попасть не только ненужный балласт, а даже вражеский агент. Думбрайт в глубине души соглашался с Нукке, но отстаивал свою линию. Не мог же он признаться, что во что бы то ни стало хочет выслужиться перед высоким начальством в Нью-Йорке: выполнить своё обещание и уже на протяжении текущего года заслать в Советский Союз свыше сотни агентов и диверсантов.
Когда запеленгованная радиостанция в квадрате школы стала фактом, Нунке напомнил боссу о своих опасениях. Думбрайт, защищаясь, выдвинул иную версию: в школе мог притаиться давно засланный и хорошо законспирированный агент, который до сих пор молчал, а теперь, когда школа развернула работу, возобновил связь с Россией и, возможно, уже передал план засылки агентуры, который предстояло вот-вот осуществить.
Информация Вайса о перехваченной осенью прошлого года шифровке значительно укрепляла версию Думбрайта и ослабляла позиции Нунке. Впрочем, она не подтверждалась ни одним документом и принадлежала к той категории агентурных данных, которые обозначались двумя буквами «ТП», то есть «требует проверки».
О наличии нелегальной станции в квадрате школы и Думбрайт, как босс, и Нунке, как официальный начальник учреждения, обязаны сообщить в Нью-Йорк. А это опасно. Очень опасно для одного из них.
Если выяснится, что агент пробрался с новым пополнением — хуже Думбрайту. Его немедленно отзовут и накажут, возможно, даже весьма строго.
Если же будет доказано, что вражеский агент законспирировался давно — хуже Нунке. До приезда Думбрайта он один руководил набором слушателей и вообще всей работой, так что спросят с него. Конец карьере! Возможно и худшее. Ведь сам босс в минуту откровенности как-то намекнул, что живыми из разведки не уходят. Да и разговор о Воронове подтверждает это…
Теперь, сидя в кабинете и глядя на вспотевшего Вайса, оба взвешивали свои шансы на спасение. Думбрайт готов был обнять Вайса, Нунке — задушить. И каждому были понятны мысли другого: они дуэлянты, поднявшие пистолеты в смертельном поединке.
— Идите! Пока вы свободны! — после долгой паузы выдавил из себя босс.
— Разрешите одно замечание… — робко подал голос Вайс.
— Что ещё?
— Я советовался в Барселоне… У меня возник план…
— Хорошо, немного погода я вызову вас.
Вайс вышел.
Думбрайт поднялся, нарочито сладко потянулся и вплотную подошёл к Нунке. С минуту они молча глядели друг другу в глаза.
— Вы понимаете, что это значит? — помолчав, спросил босс.
— Конец вашей или моей карьеры. Но предупреждаю: я не из тех, мистер Думбрайт, кто от страха валится на спину, поднимая вверх лапки. Я буду драться до последнего.
— Представьте, я тоже!
— Разрешите привести аргументы, говорящие против вас.
— Пожалуйста!
— По вашему приказу в Барселону за шифровкой поехал не я. Вы послали Вайса, самого бездарного из всех сотрудников школы… Чем вы докажете, что перед поездкой не проинструктировали Вайса, придумав версию о перехваченной осенью шифровке?
— С какой целью я мог это сделать?
— Чтобы скрыть недопустимую ошибку — приказ принимать новое пополнение без всеобщей и основательной проверки.
— Но у меня есть свидетель.
— Кто?
— Вайс!
Нунке расхохотался.
— Мистер Думбрайт, этот свидетель — единственное моё спасение! Да разве Вайс, поймай он в самом деле шифровку, не сообщил бы об этом мне, начальнику школы?
— Всё зависело от заведённых вами порядков… возразил босс не совсем уверенно. Он уже понял, что радость его несколько преждевременна. Вступая в бой с таким противником, как Нунке, надо вооружиться до зубов. А чтобы подобрать оружие, нужно время.
— Что же вы предлагаете? — спросил он примирительно.
— Не топить друг друга… Искать виновного…
— Гм…
— Ибо мы можем потопить и себя, и школу.
— С чего же вы предлагаете начать?
— С сопоставления фактов.
— То есть?
— Просмотрим дневник школы за ноябрь прошлого года. Если произошло нечто, способное заинтересовать агента…
— Понимаю. Хотите сначала проверить свою версию? Что ж, я не прочь.
Нунке подошёл к сейфу, открыл его и вытащил прошнурованную тетрадь с сургучными прошнурованными печатями. На обложке по-английски значилось: «Ноябрь 1946 года».
— Почему по-английски? — придирчиво спросил Думбрайт.
— В это время школа была подчинена уже НьюЙорку. И руководили ею фактически вы.
— Но ведь не я нашёл и привёз в Испанию группу Протопопова!
— Нашёл её я, а приказ об отправке дали Хейендопфу вы! В Берлине, помните?
— Хорошо, не будем полагаться на память, давайте читать дневник.
Нунке и Думбрайт плотнее сдвинули кресла, склонились над раскрытьм дневником и углубились в чтение. Со стороны могло показаться, что это сидят двое друзей, увлечённых интересной книгой. Кресла сдвинуты вплотную, головы почти соприкасаются…
Но, верно, не было сейчас во всём мире двух людей, которые бы так страстно желали друг другу смерти.
Тупым кончиком карандаша Думбрайт водил от строки к строке, боясь пропустить важную запись, на которую Нунке мог нарочно не обратить внимание, быстро перевернув страничку.
Но как ни вчитывался босс в каждое слово, ничего более или менее значительного в начале ноября не произошло. Обычные будничные отчёты об обычных будничных делах. На странице, датированной девятым числом, взгляд его, наконец, уловил нечто, достойное внимания.
«Закончена операция „Кролик“, — прочёл он громко. — Профессор Петерсон принёс статью. Общее впечатление — положительное. Именно то, что нам надо».
В такт чтению Нунке удовлетворённо кивал головой.
— В чём дело? — спросил Думбрайт.
— Имя профессора вам, конечно, известно… В Фигерасе он повёл себя несколько легкомысленно. Мы подослали к нему Мэри и зафиксировали их встречу в достаточно недвусмысленной обстановке. В обмен на компромитирующий негатив профессору пришлось написать статью в аспекте, который нас устроил. Как явствует из дневника, операция «Кролик» завершилась успешно.
— Тема статьи?
— «Кибернетика — величайшее достижение идеалистической мысли».
— Как использована статья?
— Через соответствующие каналы передана агентствам.
— Статья напечатана?
— В Польше и Югославии…
— А в России?
— По агентурным данным — готовится ответ Петерсону в солидном научном журнале. Кибернетика провозглашается лженаукой, выдумкой мракобесов.
— Почему об этом не сказано в дневнике?
— О результатах дезинформации записи будут в декабре, то есть в то время, когда статья появилась в печати.
— Хорошо, листайте дальше!
Последующие страницы вновь пестрели записями, которые касались лишь внутренних дел школы. Думбрайт на миг отодвинул дневник — от напряжённого чтения у него зарябило в глазах.
— Может быть, выпьем по чашечке чёрного кофе? — предложил Нуике.
— Нет, давайте читать дальше. Меня интересуют даты, более близкие к семнадцатому.
Оба снова склонились над тетрадью. Босс ещё медленнее водил карандашом по каждой строке. Нунке, знакомый с текстом, охватывал взглядом всю страницу сразу. Внезапно сердце его сильно забилось. После даты 16 ноября шла такая запись:
«Артур Шрёдер — Григоре Кокулеску вынужден был принять наши условия: взять в Москву в качестве жены Нонну Покко, которой поручено выполнить операцию „Хоровод“.
Через несколько секунд Думбрайт тоже прочитал чту запись и жестом человека,, наконец нашедшего нужное, положил тяжёлую ладонь на дневник.
— Кажется, мы не зря тратили время, — воскликнул он радостно. — Запись датирована шестнадцатым, а Вайс перехватил шифровку семнадцатого! Вот вам и разгадка таинственной передачи!
— Несколько цифр, якобы услышанных Вайсом, когда он чихнул и крутнул ручку аппарата то ли вправо, то ли влево, ещё ничего не значат. Он мог случайно поймать передачу любителя-коротковолновика, которые так и шныряют в эфире. А главное: недели две назад я докладывал вам, что Покко операцию выполнила успешно и просит разрешить ей продолжить турне со Шрёдером. Вы согласились и даже приказали послать им денег.
— Помню, но…
— Какие могут быть «но», когда операция завершена успешно!
Глаза Думбрайга не мигая впились в лицо Нунке где-то повыше переносицы, так, словно он гипнотизировал собеседника.
— А вы допускаете такую возможность: для советской контрразведки личность Покко не представляет особого интереса? Куда важнее разрешить ей передать пластинки, проследить, куда они попадут и тем самым выявить все наши каналы распространения. Допускаете?
— Допускаю! Но предположение ещё не доказательство. «ТП» — требует проверки…
— Кто разрабатывал план операции «Хоровод»?
— Фред Шульц и Шлитсен.
— Кто ещё знал об этой операции?
— О том, что Нонна Покко едет с Артуром Шрёдером в Россию, знал весь город, ибо по нашему требованию он устроил в ресторане пышное обручение. Об этом даже написала местная газета…
— Вызовите Шульца, потом Шлитсена. Только поодному.
Нунке набрал было номер, но тут же положил трубку.
— К Шульцу звонить бесполезно. Он ведь теперь по вашему приказу все вечера проводит у патронессы.
— Тогда позвоните Шлитсену!
Через несколько минут Шлитсен стоял перед начальством. Вызов был неожиданным, и поэтому бывший заместитель Нунке мечтал лишь об одном — не показать виду, что у него трясутся коленки.
— Мистер Шлитсен, вы принимали участие в разработке плана операции «Хоровод»? — голос босса звучал сурово, глаза глядели испытующе.
Но у Шлитсена сразу отлегло от сердца — со слов Фреда он знал: Нонна выполнила задание, ей даже послано денежное вознаграждение.
— Так точно, мистер Думбрайг! — бодро отрапортовал бывший заместитель Нунке. — Принимал, и самое активное.
— Кто вьщвинул кандидатуру этой… как её… Покко для проведения операции?
— Я.
— Шульц сразу согласился?
— Вначале возражал, ссылаясь на её молодость, и предлагал Мэри, но я ему доказал…
— Спасибо, нам надо было уточнить одну деталь. Можете идти.
Шлитсену не надо бьшо повторять дважды — почтительно поклонившись, он мгновенно исчез, лелея в душе надежду, что этот поздний разговор об удачно завершённой операции непременно связан с его возвращением на старую должность.
Думбрайт забарабанил пальцами по столу, как делал всегда, когда что-либо обдумывал. Нунке, поглядев на босса, озабоченно нахмурился.
— Продолжим чтение? — спросил он.
— Погодите! Давайте вернёмся обратно. Кто был дежурным по школе семнадцатого?
— Фред Шульц, вот его подпись.
— Какие записи сделал он в тот вечер?
— Ничего особенного. Разрешите прочитать?
— Только, пожалуйста, помедленнее
— «Я, Фред Шульц, вступил на дежурство в шесть часов вечера, приняв рапорт дежурного Воронова о наличии состава преподавателей и воспитателей. При вечернем обходе, начатом в десять, никаких нарушений дисциплины не выявлено. К ученику из класса „Р“ Домантовичу, который жаловался на острую боль в пояснице, пришлось вызвать доктора Гауфе, и тот оказал ему необходимую помощь. От инструктора Вайса по телефону поступила просьба прислать несколько таблеток аспирина, жалоба на насморк и головную боль. Моё предложение заменить его другим дежурным Вайс отклонил, заявив, что после аспирина он чувствует себя лучше. В десять сорок пять я снова проверил состояние больного Домантовича. После обезболивающих порошков и грелки он спокойно спал. В одиннадцать ноль-ноль позвонил хозяин таверны и сообщил, что ожидаемый груз прибыл. Посты охраны в проходной и вокруг парка, как и положено, проверялись каждый час. Нарушений правил внутреннего распорядка не было».
— Гм… это все?
— Дальше идёт подпись, а под нею, простите, сразу не обратил внимания, приписка: «Поговорить с руководством школы о необходимости медицинского обследования Вайса. У меня сложилось впечатление, что он злоупотребляет аспирином как своеобразным наркотиком».
— Какие выводы вы можете сделать, мистер Нунке, проанализировав эту запись?
— Что из поля нашего зрения выпала таверна. Мы все внимание сосредоточили на школе, а тем временем квадрат четыреста тридцать семь охватывает достаточно большую территорию. Это первое и самое главное.
— Вывод резонный. Мы знаем лишь квадрат, в котором действовала подпольная радиостанция, но не засекли точно, откуда именно велась передача. Без этого все наши домыслы — пустая болтовня. Второе: не расшифровав текста передачи, мы не можем сказать, касается она нашей школы непосредственно или нет. Это обстоятельство я бы поставил на первое место.
— Что вы предлагаете?
— Не полагаясь на шифровальщиков из Барселоны и на упражнения недалёкого Вайса, послать текст, подслушанный семнадцатого, в шифровальный отдел разведывательной службы США. А до получения кода только наблюдать, накапливать факты… Вайс говорил о каком-то плане. Может быть, его ещё раз вызвать и выслушать?
— Не думаю, чтобы он мог предложить что-либо разумное…
— Мы не можем пренебрегать даже мелочью…
Вайс, дважды на протяжении одного вечера вызванный высшим начальством, чувствовал себя именинником. Он вырос в собственных глазах, чувствуя себя персоной, к словам которой прислушиваются. Поэтому он вошёл бодрым шагом, вытянувшись и высоко держа голову.
— Садитесь, — предложил босс. — Вы упомянули о каком-то плане. В чём он заключается?
— Я советовался в Барселоне, и со мной согласились, что надо действовать по методу исключения.
— То есть?
— Заподозрить буквально всех и постепенно отсеивать тех, алиби которых не вызовет ни малейшего сомнения.
— Составьте список со своими комментариями против каждой фамилии.
— Я уже осмелился его начать…
— Подадите, когда кончите.
— Простите, мистер Думбрайт, осмелюсь задать вам один вопрос.
— Придётся простить. Говорите!
— Кто из сотрудников школы знает, что в квадрате нашей школы запеленгована радиостанция?
— Мистер Нунке, я и Фред Шульц.
— Это плохо…
— Берете под подозрение нас троих? — не скрывая насмешки, спросил Нунке.
— Только Шульца, — спокойно поправил Вайс.
— Шудьца? — сорвался с места Думбрайт. — Да у него уже сейчас готовое алиби!
— О том, чего не знаю, судить не могу… Но кое-что в его поведении мне кажется подозрительным.
— Факты!
— Как воспитатель, он часто присутствует на практических занятиях. Меня удивило, что он, человек с большим опытом разведчика, совсем не знаком с радиотехникой. Месяц назад, когда он снова пришёл на станцию, я нарочно сделал несколько ошибок, Шульц меня поправил и даже сказал, что для должности инструктора радиодела у меня не хватает квалификации. Тогда-то я и подумал, что Шульц по каким-то причинам скрывает свои знания…
— Боже, какой тонкий и глубокий анализ! — рассмеялся Думбрайт. — А вы не подумали, что вы и впрямь бездарность, а Шульц вас проверял? Нам необходимы факты, факты, а не ваши домыслы!
Вайс вышел из кабинета в значительно худшем настроении, чем вошёл. Босс требует факты, а где их взять, если сомнения основываются на мелких, почти неуловимых деталях, на интуиции, развившейся у Вайса за время долгой работы в гестапо, как у собакиищейки.
«Просижу всю ночь, припомню всё, что заметил подозрительного в поведении и разговорах Шульца. И впредь стану следить за каждым его шагом. Факты будут! Необходимо лишь время», — думал Вайс, направляясь к своему боксу.
КЛЕТКА ОСТАЁТСЯ ПУСТОЙ
Весна постлала себе под ноги пышный изумрудный ковёр. Всего несколько дней назад она робко коснулась кончиками пальцев земли, а сегодня всё было в буйном цветении, словно вдруг прорвало плотину, и неудержимым потоком хлынула щедрая, могучая сила, затопившая холмы и овраги пышным цветением вновь рождаемой жизни.
Агнесса остановила коня.
— Боже! Какой воздух! Словно настоен на травах, солнце и… свободе. У меня дрожит каждая жилка, так хочется куда-то умчаться.
— Вы и умчитесь скоро, Агнесса, — грустно вырвалось у Григория.
Молодая женщина окинула своего спутника вопросительным взглядом, в позе её чувствовалось напряжённое ожидание.
Но Фред молчал. Последние дни его сердце терзала тревога, и сегодня он особенно остро ощущал, как не соответствует его настроение этому солнечному дню, радостному пробуждению природы.
Станцию запеленговали, над Агнессой и Иренэ нависла беда. Самого Фреда на каждом шагу преследовал насторожённый и подозрительный Вайс. Что может знать этот альбинос? О чём догадывается? Не взял ли он на подозрение и Домантовича?
Григорий углубился в свои мысли и опомнился, лишь заметив, что конь Агнессы понёсся вскачь. Припав к шее Рамиро, молодая женщина все подгоняла и подгоняла коня, и он летел, уже не разбирая дороги, перепрыгивая через кустарник, валуны, обломки скал.
Григорий догнал Агнессу у самой виллы.
— Нет, я вам больше не товарищ! — сердито воскликнул он, когда они спешились. — Так мчаться! Я уверен, когда-нибудь вы свернёте себе шею, свалившись вместе с Рамиро в пропасть.
— Вас бы это огорчило? Это, верно, хорошо упасть и ничего больше не чувствовать! А весной, такой вот, как сейчас, прорасти стебельком или диким цветком. Как вы думаете, из меня вырос бы красивый цветок?
Агнесса выпрямилась, повела плечами и гордо вскинула голову. Григорий невольно залюбовался ею.
— Ну, почему же вы не отвечаете?
— Красивейший! Но я всё-таки предпочитаю иметь дело с живой женщиной. Давайте присядем на веранде, мне многое надо вам сказать.
Агнесса быстро взбежала по ступенькам и упала в кресло. Григорий видел, как высоко поднимается её грудь, то ли от быстрого бега, то ли от волнения. Острая боль сжала ему сердце.
«Бедняжка! Она надеется услышать совсем иные слова!»
На миг ему захотелось не начинать разговор. Просто прижаться горячим лбом к её прохладным рукам, прошептать те слова, которых она так давно ждёт, убежать с ней и с Иренэ, пока есть ещё время, пока можно спастись…
Время… да, время. Именно времени-то у него сейчас в обрез. Он должен сказать ей все сегодня же, немедленно. Пусть Агнесса услышит это не от падре Антонио, который уже достал визы, а от него. Агнессе необходимо выехать уже сегодня вечером… Пока не раздумал и не спохватился Нунке… Пока не раскрылось все с передатчиком…
— Агнесса! — Григорий не слышал своего голоса, но увидел, как испуганно расширились глаза женщины. Должно быть, в его тоне было нечто, вызвавшее у неё тревогу.
— Помолчите минуточку, Фред, мне страшно! Агнесса умоляюще подняла руку, словно инстинктивно защищаясь от удара, который ей вот-вот нанесут.
— Мне тоже страшно… — неожиданно для самого себя сказал Фред. Слова, приготовленные для этого разговора, внезапно куда-то исчезли. Нет, не исчезли, а просто он почувствовал всю их фальшь — ведь Григорий искал их разумом, а не сердцем, подавив в себе живое чувство.
— Что-нибудь очень скверное, Фред? — тихо спросила Агнесса.
— Да, скверное! Очевидно, я виноват, что не подготовил вас заранее. Но как трудно причинять боль тому, кто стал тебе дорог.
Глаза Агнессы засияли.
— Если это действительно так, Фред, то я готова выслушать самое плохое.
— Даже если нам предстоит расстаться?
— О, я пробуду в Риме не больше месяца!
— Вы никогда не вернётесь сюда, Агнесса! Ради Иренэ, ради меня, ради себя…
— Это невозможно! Здесь все, чем я живу. Мой дом, мои друзья, моя школа… Здесь… Скажите, что вы пошутили, Фред! Хотели меня испытать. Не молчите, слышите, не молчите! И не смотрите на меня так, словно, словно… Я не хочу, чтобы вы так смотрели на меня…
— Что ж, помолчим, пока вы успокоитесь…
— Я не хочу молчать! Не хочу ждать! Вы сейчас же скажете мне, почему я должна отказаться от всего!
— Что вы понимаете под словом «все»?
— Я уже сказала: мой дом, моя школа, то дело, которому я поклялась служить!
— Делу убийства, нечеловеческой жестокости, подлейших преступлений?
— Опомнитесь, Фред! Слово божье — это любовь и милосердие!
— А ваши «рыцари благородного духа» его носители?
— Я не понимаю, Фред. Вы сказали это так, словно…
— Вы хоть приблизительно представляете себе, что происходит в стенах вашей школы? В какие походы готовят её «рыцарей»? Сколько крови и слез несут они людям?
— По уставу школы…
— Вывеска, Агнесса! Ширма, за которой скрываются убийцы и провокаторы! Вашим именем прикрывают гнуснейший разбойничий притон. Выслушайте меня спокойно…
Когда Григорий закончил рассказ, лицо Агнессы было белым как мел. Побелели даже пересохшие губы.
— Вам дурно, Агнесса? Принести воды?
— Не надо! От вас я ничего не возьму! Вы тоже предали меня, вы тоже обманывали меня!… Глупую цыганку, выскочившую в госпожи. О, как я вас всех ненавижу! Я возьму Иренэ и убегу в табор! Там обманом выманивают только песеты, но не сердца! Я заработаю на себя и Иренэ! Буду гадать, танцевать, красть, нищенствовать, но больше никто не испоганит мне душу. Но сначала я подожгу школу! Слышите, вашу школу, а не мою! Деньги, которые я взяла из банка, пущу на ветер! Пусть их ловят цыганята и забавляются, делая из купюр петушков. О мадонна, как ты могла так обмануть меня! — заломив руки, Агнесса упала на колени у колонны, забилась о неё головой, выкрикивая проклятия и угрозы.
Григорий встряхнул её за плечи, заставил подняться, силой усадил рядом с собой на ступеньки.
— Я непоправимо виноват, Агнесса, в том, что не открыл вам глаза раньше. Но я только хотел вас защитить. Вы бы не смогли притворяться, зная правду.
— Защитить меня? А может быть, себя?
— И себя тоже! Но не от вас, а от Нунке, Думбрайта и всех прочих. Меня тоже заманили в эту ловушку обманом, и каждая минута — даже не час, может стать для меня последней. Одно то, что я вам все рассказал… Нет, нет, не пугайтесь, никто в школе об этом не узнает… Для меня ваш отъезд тоже будет неожиданностью… Так мы договорились с падре. Официально вы выезжаете в Рим. Нунке в этой поездке тоже заинтересован, — он хочет, чтобы обращение к верующим всего мира поддержали в Ватикане. Нунке не стал бы препятствовать вашему отъезду, а я не торопил бы вас, но Думбрайт задумал убрать падре — единственного человека, который поможет вам укрыться на некоторое время, устроить Иренэ в санаторий…
— Как это «убрать»?
— Я только что рассказал вам о школе и методах её работы. Неужели вы не понимаете? Они боятся влияния духовника на вас, боятся, что деньги, лежащие на вашем счёту, падре пустит на дела церковные. Он стал лишним в той игре, которая затеяна им же.
— Боже праведный! Просвети мою тёмную голову! Ведь падре сам создал школу, они вместе с Нунке… Я, должно быть, потеряла рассудок! Фред!… Я ничего не понимаю! Мой духовник, которому я поверяла каждую мысль, который так заботился о моей девочке… он, что же, знал все?
— Заботился об Иренэ? Он сделал её орудием вашей пытки, вашего порабощения! Вспомните, как всё было! Он надругался над ребёнком, над сердцем матери! Иренэ нужен был хороший врач, а не молитвы, паломничества, пожертвования, вся та ложь, которой он опутывал ваше сердце и усыплял разум.
— Но чем я перед ним провинилась, в чём повинна бедная малютка? Не может этого быть, Фред!
— Вы повинны в том, что унаследовали деньги дона Менендоса…
— Я бы с радостью отказалась от всего… Босиком ушла бы из его дома…
— Для честолюбивых планов падре нужна была богатая сеньора с трагической судьбой, чтобы создать вокруг неё ореол и выдумку о крестовом походе, о школе «рыцарей», сделать её имя источником новых доходов. О, падре рассчитал точно! Ошибся он только в одном, — взяв в сообщники Нунке. Два волка, рано или поздно, а должны подраться из-за добычи.
— Не могу, не могу больше слушать! Помолчите минуту, дайте собраться с мыслями… Они ускользают, голова пустеет, я сама не своя. Словно летишь стремглав в тёмную пропасть и все внутри оборвалось… Фред, только не уходите, не уходите сейчас!… Я должна что-то сделать, но не знаю что… У меня просто нет сил пошевелиться… Помогите мне подняться, надо идти, непременно надо идти… а я… словно из меня высосали всю кровь…
Сжав ладонями виски, Агнесса сидела, тихо покачиваясь, устремив взгляд в одну точку, вновь и вновь повторяя, что она должна идти, что она обязана сейчас же куда-то идти… Это внезапное оцепенение испугало Григория больше, чем предшествовавший ему взрыв отчаяния и гнева…
— Агнесса, опомнитесь, сию же минуту опомнитесь! — крикнул он, отрывая её ладони от висков и крепко сжимая в своих. — А теперь слушайте меня! Вы сейчас же встанете, сейчас же пойдёте и подготовите все к отъезду. Вы уедете сегодня же вечером, как только стемнеет. Оставьте записку Нунке, что внезапное ухудшение здоровья Иренэ заставило вас выехать немедленно. Напишите в записке, что послание для верующих, которое вам приносил Думбрайт, вы захватили с собой, чтобы показать его в Риме. Вторую записку напишите мне. Извинитесь, что не успели со мной проститься, поклянитесь, что вернётесь через две недели. Подпишитесь: «Ваша Агнесса». Если сможете, прибавьте несколько ласковых слов. Это необходимо, иначе Нунке и Думбрайт могут заподозрить, что я причастен к вашему бегству. Деньги есть, визы у падре Антонио. Я его предупредил, и вечером он будет здесь.
— Падре Антонио! — Это имя вывело Агнессу из прострации. Она вскочила.
— И вы смеете советовать мне ехать вместе с ним!
— Это единственный выход! Теперь он будет в ваших руках, а не вы в его. Дадите ему доверенность на право пользования текущим счётом в банке только после того, как он устроит вас с Пепитой, Иренэ и Педро. Конечно, оставите себе то, что принадлежит вам лично. Думаю, этого хватит для скромного существования и лечения девочки. Я знаю, вам будет нестерпимо трудно путешествовать с падре. Переборите себя. Это необходимо ради спасения Иренэ, ради моего спокойствия. Обещайте мне выполнить все, о чём я прошу!
— А вы, Фред? Вы же не бросите меня в совсем чужом мне мире?
Это был тот вопрос, которого Григорий больше всего боялся.
— Если я вырвусь отсюда, я непременно разыщу вас. Не обещаю, что это будет скоро. Ловушка крепко захлопнулась.
— Как же я буду жить, думая, что вы всё время в опасности?
— Одному мне легче бороться.
— Я так боюсь всего, Фред: дороги, жизни в чужой стране, одиночества… Того, что я не смогу искупить зла, которое, не ведая, творила… Если бы вы были рядом…
— У меня в Италии есть друзья. Кстати, один из них врач и работает в Риме, фамилия его Матини, а адрес… Его вы узнаете у одного моего друга…
— Григорий на узеньком клочке бумаги, вырванном из записной книжки, написал несколько слов Курту. Имя и адрес выучите наизусть, а листок сожгите. Курт и Матини прекрасные люди, большие мои друзья и всегда вам помогут.
— Что передать им от вас, Фред? И почему вы вдруг так странно на меня поглядели?
Григорий и впрямь глядел на Агнессу растерянно. Он только теперь понял, что имя Фреда Шульца ничего не скажет ни Курту, ни Матини. Назваться Генрихов фон Гольдрингом? Нет, нет, об этом не может быть и речи! Но именно Курт и Матини, если последний уже на свободе, могут помочь Агнессе, а возможно, даже Иренэ.
— Они знали меня под другим именем, Агнесса! Скажите Курту, что вы пришли от друга из Кастель ла фонте, который когда-то ходил парламентёром к гарибальдийцам. Они поймут, о ком идёт речь. И ещё напомните Матини, что я не забыл его девиз: «Лучше быть жертвой, чем палачом». Это слова одного великого писателя, которого он очень любил… О школе пока не рассказывайте. Скажите просто, что встретили меня в Испании. Я потом сам объясню… Когда приеду в Рим…
— Мы будем ждать вас, Фред, все… Я, Иренэ, Пепита, Педро! Надеюсь, и ваши друзья тоже, — Агнесса отвернулась, пряча слезы, навернувшиеся на глаза.
— Ну, бедная моя путешественница, я не могу задерживать вас дольше. Напоминаю ещё раз: записка Нунке, записка мне. Доверенность падре — только когда всё будет устроено. Тогда же можете высказать ему всё, что о нём думаете. Бумажку с адресом и фамилией моего римского друга Курта Шмидта сожгите… А теперь…
Агнесса отступила на шаг, бессильно прислонилась к дверному косяку.
— Не уходите, одну минуту!
— А я и не собираюсь уходить, не попрощавшись, как положено друзьям. Ну-ка! Я хочу запомнить вас весёлой! Улыбнитесь же и дайте я вас поцелую в глаза, чтобы помнили…
— А с Иренэ, с Иренэ вы не проститесь?
— Нет! Пусть она ничего не знает об отъезде до вечера. Не надо её нервировать, а вот к Пепите я зайду и попрошу её хорошенечко о вас заботиться!
Григорий быстро сбежал по лестнице, боясь оглянуться.
Спас ли он эту несчастную и её дитя или послал на новую погибель?
МЕСЯЦ БОЛЬШИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Май 1947 года для руководителей школы «рыцарей благородного духа» стал месяцем больших неожиданностей и больших неприятностей. Началось с события, неслыханного в практике школы: воспитанник класса «Д» отказался лететь в Россию.
Произошло это следующим образом, когда Шульц рассказал Нунке, как враждебно относится к нему Середа и почему именно, шеф решил разрядить обстановку.
— Передайте его вашему новому заместителю Домантовичу, — приказал начальник школы Шульц охотно согласился. Именно так и было задумано: сблизить Домантовича и Середу.
Середа обрадовался, узнав о таких переменах. Но старания Домантовича вызвать «Малыша» на откровенный разговор были тщетны
— Все вы одним миром мазаны! Хватит! Один раз я уже исповедывался, не хочу остаться в дураках вторично, — отвечал «Малыш» новому воспитателю на все его подходы и вопросы.
Учёба давалась Середе плохо. Успевал он только в стрельбе и боксе
— Что будем делать с ним, мистер Думбрайт? спросил как-то Нунке.
— В другое время я пристрелил бы его как собаку, но нам позарез нужны верные люди. «Малыш» слишком виноват перед соотечественниками, и мы гарантированы, что он не переметнётся к большевикам. Знаете что? — Босс сам обрадовался своему неожиданному предложению. — Передадим его в распоряжение какого-нибудь агента, а потом вместе зашлём в один из пунктов. Например, Домантович, его нынешний воспитатель, должен обосноваться в Киеве как резидент. Пусть «Малыш» летит с ним. На что-нибудь пригодится.
Узнав от Нунке о решении босса, Домантович обрадовался:
— Прекрасно! Такой помощник, как «Малыш», это клад. Сложного задания ему, конечно, не поручишь, но он так боится наказания за прошлое, что положиться на его верность можно вполне.
На ближайшем занятии Домантович сказал своему воспитаннику:
— Готовься! Через две-три недели полетим мы с тобой в Киев, там, брат, заживём! Полетим одновременно и только вдвоём! Что ты скажешь на это?
Середа понурился и после долгой паузы, скорее про себя, чем обращаясь к воспитателю, буркнул.
— Киев… Андрей Первозванный… Там его церковь… — и, повернувшись к Домантовичу, сказал с неожиданной тоской в голосе. — А моего отца мама называла Андрейкой, говорила мне: вырастешь, в Киев во что бы то ни стало поезжай, в церкви святого Андрея Первозванного помолись. Отец тебя очень любил, и его святой заступится за тебя.
— Вот и побываешь в Киеве, помолишься!
— Враньё! Нет Василия Середы! Отец Кирилл, будь он проклят, все отобрал, а вы здесь и фамилию. Нет Середы! Есть Василии Малыш. Все враньё! — Середа с такой силой ударил кулаком по столу, что тот задрожал — Андрей святой не замолит моих грехов! Ты видишь эти руки! Видишь? А я смотреть не могу. На них кровь! Своих людей кровь! Я палач!
Это была истерика, тем более неожиданная, что произошла она с «Малышом», вымахавшим чуть ли не под потолок и славившимся своей силой.
Середа грудью упал на стол и разрыдался.
Домантович молча сидел рядом, не сводя глаз с великана. В припадке бешенства тот мог сорвать зло и на нём.
Прошло минут десять.
Обессиленный и осунувшийся, с отяжелевшими руками, Середа медленно выпрямился.
— Испугались? Ничего, бывает… А вашим начальникам скажите: Середа в Киев не поедет. И ни в какой другой город тоже не поедет. Там его шлёпнут, а он жить хочет… Здесь, у вас, всё, что хотите, стану делать. Мне всё равно не найти покоя на этом свете. Но в Россию не поеду! Лучше здесь пулю пустите. Так вот и передайте. А сейчас уйдите, прошу вас! Я полежу немного…
Нунке был поражён, узнав о происшедшем. Захватив личное дело «Малыша», он направился к боссу.
Тот, выслушав информацию, молча взял из рук начальника школы папку с делом и начал небрежно листать его немногочисленные странички. Дойдя до записанного Шульцем откровенного разговора в лагере под Мюнхеном, босс стал читать медленнее.
— Прикажите привести Протопопова!
— Отца Полиевкта? — деловито поправил Нунке.
— Выполняйте приказ!
В человеке, который вскоре вошёл в кабинет, трудно было узнать Протопопова. Его приземистая фигура стала значительно тоньше, отчего он казался выше. Брови над выпуклым лбом, правда, не без помощи местного косметолога, выгнулись высокой дугой, разрез глаз стал иным. Длинные волосы на затылке и висках вились.
— Звали, господин начальник?
— Объясните ему, что произошло! — приказал Думбрайт начальнику школы.
Нунке подробно рассказал об истерике «Малыша».
— Что это, по-вашему? — спросил босс Протопопова.
— Последствия моего воспитания в прошлом. Обычная истерика покаяния, на том и держится секта пятидесятников. Это как наркотик, без которого, раз к нему привыкнув, уже нельзя обойтись.
— Меня интересуют не причины истерики, а последствия, к которым всё это может привести если его страх перед поездкой действительно вызван раскаянием.
— Господин начальник! Устройте мне встречу с «Малышом»! Только не в школе. И чтобы он был немного пьян. Я приведу его к вам смирным ягнёнком.
— Согласен. Нунке, действуйте!
Тон, которым был отдан этот приказ, да ещё в присутствии Протопопова, болезненно резанул слух начальника школы. Но он сдержал готовое вспыхнуть раздражение и молча вышел.
После памятного для обоих разговора о таинственной радиостанции между Думбрайтом и Нунке установились сугубо официальные отношения, которые — и оба это отлично знали! — могли закончиться лишь поражением одного из них. Но служебной субординации всё же приходилось придерживаться.
Домантович ждал начальника школы в его кабинете.
— Разработайте план встречи «Малыша» с Протопоповым, ведь вы знакомы с ним ещё со времени пребывания в лагере под Мюнхеном. Они когда-то были друзьями…
— Насколько мне помнится, недолго… А последнее время их взаимоотношения вылились в открытый конфликт.
— Возможно, нам это только поможет… Надо, чтобы «Малыш» немного выпил. Но немного. В помощь мы дадим кого-нибудь из штата «оселков». Пожалуй, Мэри. Она полька по происхождению, но вашим языком владеет, правда, разговаривает с акцентом. Вы встретитесь в таверне, где когда-то провели вечер с Нонной. Познакомьте Мэри с «Малышом», дайте ей возможность растрогать его или наоборот — рассердить. Его надо вывести из равновесия. Вот тогда-то и подсядет к вам Протопопов. Когда между ними завяжется беседа, как у вас говорят — «искренняя и задушевная», оставьте их одних. Но будьте рядом. Все.
— Герр Нунке, да ведь вы сами уже разработали весь план! Мне остаётся лишь проследить за его выполнением.
Нунке самодовольно улыбнулся:
— Тем лучше. Итак, условились: завтра выведите этого увальня развлечься.
Приветливый хозяин таверны сердечно принял двух неожиданных гостей и, как было заранее условлено, провёл в знакомый уже Домантовичу уголок, где тот когда-то «гулял» с Нонной. Но ширму не задвинул.
— Сегодня в таверне посторонних нет, а без ширмы — свободнее, — пояснил хозяин. — Что будем пить-кушать?
— Водка у вас есть? Настоящая, не шнапс какойнибудь? — спросил Середа.
— Конечно, есть! На всякий случай припрятал две бутылки «смирновской» из Англии. Лучшая в Европе!
— Гоните сюда!
— Василий! Разрешите называть вас по имени, как окрестила мать! Мы ведь не в лагере и не в школе! Согласны? И ещё одно условие: давайте не очень налегать на «лучшую в Европе». Хочется поговорить откровенно, а если переберёшь…
— Переберёшь? Когда на столе всего две бутылки? Глупости! Бывало, до войны везу лес, дорога — хуже не придумаешь. Холод такой, что хороший хозяин собаку из дома не выгонит. А лес везти надо. Перед дорогой пол-литра опрокинул и пошёл… Руки стыть начинают — ещё столько же! Ну, до Белых Берегов как доехал, тут уже принимаешь полную норму… А вы… две бутылки! На двоих! Смех!
В разгар ужина, когда одну бутылку уже распили, в зал впорхнула Мэри. Увидав Домантовича, она бросилась к нему, как к родному брату. «Малыш» тоже радостно встретил неожиданную гостью. Чересчур радостно. Он пил и пил за её здоровье, смешивая оставшуюся водку с пивом, но, казалось, не пьянел. По крайней мере внешне. Лишь по тому, как все настойчивее Середа уговаривал девушку отказаться от имени Мэри, а позволить называть себя Марией, можно было догадаться, что в голове у него туманится.
— Мария… Прислушайтесь, как звучит?.. Так звали мою мать!
Протопопов вошёл в таверну, когда «Малыш» уже был на взводе.
Середа сидел спиной к двери и не заметил нового посетителя, а Протопопов тоже не спешил показаться ему на глаза. Усевшись возле столика в противоположном углу, он медленно цедил сквозь зубы плохонькое кислое вино, по временам поглядывая на группу, сидевшую в «кабинете», как громко здесь именовали уголок, который можно было отгородить ширмой.
— Почему этот патлатый так внимательно глядит на вас? — рассмеялась Мэри, кивнув в сторону Протопопова.
— А — бельмо ему на глаза! — выругался Середа и, даже не взглянув, кто сидит сзади, поднялся со стула и задвинул «кабинет» ширмой.
Это уже нарушало план, требовало вмешательства.
Через минуту ширма сдвинулась, и Протопопов, не здороваясь, словно был сильно пьян, шлёпнулся на четвёртый стул, «случайно» поставленный тут заботливым хозяином.
— Узнаешь, Василий? — спросил Протопопов через стол.
Середа захлопал глазами и с минуту всматривался в такое знакомое и в то же время как будто незнакомое лицо. Домантович заметил, как покрасневшие от выпитой водки щеки «Малыша» стали бледнеть.
Именно в этот момент заиграла радиола.
— Потанцуем, Мэри? — спросил Домантович.
— С радостью! Пусть старые друзья побеседуют наедине.
Они вышли в зал и закружились в ритме все ускоряющегося модного фокстрота.
Домантович мог не прислушиваться к беседе двух старых знакомых. Он знал: под столом, у которого те сидели, вмонтирован американский подслушиватель новой системы, который позволяет Нунке самому слышать весь разговор Середы и Протопопова от слова до слова.
Хозяин таверны, простучав деревяшкой, подошёл к радиоле и сел рядом на стул, чтобы сменить пластинку.
Теперь зал наполнился мелодичными звуками медленного блюза.
И вдруг в эту мелодию ворвался истошный крик, потом нечеловеческий вопль.
С удивительной для одноногого быстротой хозяин таверны бросился к ширме, на ходу выхватив из кармана пистолет. Но выстрелить он не успел. Середа выскочил из-за ширмы и, столкнувшись с хозяином, схватил его под мышки, высоко поднял и с криком «сволочь!» швырнул на мраморную стойку с такой силой, что тот не успел даже вскрикнуть.
— Падаль! — ревел взбешённый великан.
У Домантовича оружия не было.
— Протопопов быстро его утихомирит! — заверял Нунке. Как он потом жалел, что допустил такую оплошность!
Увидав расправу над одноногим, Домантович схватил за руку Мэри и бросился к выходу. Они со всех ног помчались к школе. Их гнал от таверны грохот, звон разбитого стекла, дикий рёв.
Минут через десять они отскочили на обочину, ослеплённые светом фар. Навстречу мчалась машина.
Она остановилась. Из неё выскочил Нунке.
— Все знаем! Слышали! Возвращайтесь в школу, мы его задержим. Скажите…
Конец фразы заглушил страшный взрыв.
Высокий столб пламени поднялся там, где несколько минут назад стояла таверна.
— Быстрее, Нунке! — послышалось из машины. Домантович узнал голос Думбрайта.
Машина рванулась с места.
Теперь было видно, что пылала не только таверна.
Внешне всё шло по-прежнему: занятия в боксах, специальных кабинетах или залах, два часа «духовной подготовки», ночью тренировки парашютистов. Как и раньше, точно по расписанию, в котором были указаны часы и минуты, Думбрайт носился по боксам, давал указания, изредка хвалил кого-нибудь, но чаще ругался.
После смерти Протопопова Воронов продолжал занятия с группой «Аминь». Но узнав, что босс окончательно решил послать его вместо покойного в Минск, старик осунулся, утратил своё всегда бодрое настроение.
Дела шли, как и прежде, но во всём чувствовалось напряжение, возникшие в жизни школы какие-то подводные течения. Причину этого знали только Думбрайт, Нунке и, как это ни странно, Вайс.
Его план раскрытия подпольной радиостанции Думбрайт и Нунке одобрили и немедленно принялись осуществлять.
Метод исключения, предложенный Вайсом, заключался в том, что каждому учителю, инструктору, воспитателю различными способами подсовывали «новую секретную, самую достоверную» информацию.
Шульца проверяли трижды. В первый раэ — поручили сопровождать на аэродром какого-то особо засекреченного агента, тот должен был лететь в Мюнхен, оттуда в Москву с важным заданием. Затем вместе со специалистом-инструктором по диверсиям на железных дорогах Шульц разрабатывал план взрыва моста через Днепр в районе Крюкова. Наконец, в третий раз он сопровождал до самой французской границы группу, состоявшую из трех человек. На лицах у них были маски, между собой они почти не разговаривали, только у одного «вырвалась» неосторожная фраза он-де боится поездки в Москву. Спутник, сидевший рядом с «болтуном», так саданул его локтем под ребро, что тот застонал.
Примерно такими же методами проверяли всех сотрудников школы, всех воспитанников классов «А» и «Р».
Пеленгаторы в эти дни работали круглые сутки. По распоряжению Думбрайта их установили столько, что малейший радиосигнал в квадрате школы был бы пойман.
Но таинственная радиостанция молчала.
Через несколько дней после того, как сгорела таверна, Нунке принёс боссу материалы окончательного расследования причин пожара. Накануне вечером он докладывал о найденных обгорелых трупах: один, без ноги, безусловно хозяина таверны, второй, с проломленным черепом — Протопопова, третий, женский жены хозяина. Труп Середы нашли возле склада с горючим, а девочка и слуга остались живы. На следующий день, закончив расчистку, нашли пятый труп, обгоревший до неузнаваемости, но, как утверждали эксперты, — мужской.
Думбрайт внимательно выслушал сообщение, насупился и нервно зашагал по кабинету.
— Вас взволновала эта новость?
— Да.
— А меня обрадовала. Ведь именно в таверне мог под видом туриста поселиться радист. Теперь понятно, почему вдруг умолк передатчик.
— Но радисту кто-то давал сведения о школе. И, возможно, не раз.
— Я думал об этом, и поверьте мне, — в голосе Нунке звучало искреннее убеждение, — у нас не будет более удобного времени, нежели теперь, для отправки всей агентуры.
— Почему вы так думаете?
— Допустим самое худшее: в нашей школе скрывается вражеский агент, передававший радисту в таверну информацию. Радист погиб. Агент без связи. Он не может сообщить об отправке агентуры. Вывод: к отправке надо приступить немедленно… Возможно, среди тех, кто будет отправлен, окажется и проблематичный агент. Он может провалить группу из трех человек, в которую попадёт сам. Остальные группы уцелеют. Ведь никто не знает места их назначения.
Начальник школы говорил долго и обстоятельно.
Думбрайта его соображения убедили.
— Только вот что, мистер Нунке! Сделаем так: всем, кто будет отправлен, каждому персонально, под большим секретом, сообщите, что вылет откладывается на неопределённое время. Возможно, на очень длительное… А тем временем всё должно быть подготовлено: оружие, радиоаппаратура, деньги, снаряжение. Вы ведь сами знаете, что нужно.
— Все давно готово!
— Тем лучше! Беру на себя транспортировку. Будем отправлять группами по три человека, но так, чтобы в аэропортах во время пересадок они не встречались. Дату отправки сам назначу позже. Резидентов отправлять по одному.
— Имейте в виду, надо отправить двадцать четыре человека! Успеем за ночь?
— За одну ночь можно усадить в самолёты и перебросить с одного конца Европы на другой целую дивизию.
— А как с пеленгаторами?
— Сократить наполовину, но пусть работают круглые сутки. Только отправив последнюю группу, снимем усиленное наблюдение за эфиром.
Шульц и Домантович встречались по служебным делам каждый день, даже по нескольку раз в день. Нунке нравилось сталкивать их. Они оба вели себя, как петухи… Не было случая, чтобы Домантович поддержал предложение Шульца, и наоборот. Как воспитателям русского отделения, им полагалось вместе с будущими резидентами или агентами разрабатывать план операций. Но обычно они к соглашению не приходили, и тогда Нунке выступал арбитром. Шеф потирал руки от удовольствия: он воочию убеждался, что Домантович не хуже Шульца разбирается в делах и может успешно конкурировать с ним в знании жизни современной России. А то, что воспитатель и его заместитель враждуют между собой, никогда не навещают друг друга в свободные часы, — это только к лучшему: можно не волноваться — ошибка одного не останется не замеченной другим.
Служебные обязанности зачастую вынуждали Шульца и Домантовича оставаться с глазу на глаз. Приходилось уточнять детали операций, утверждать модели одежды для тех, кто должен был в это время отправляться в тот или иной район России.
Даже наедине они так же горячо спорили по поводу малейших деталей. Думбрайт и Нунке не раз в этом убеждались, используя новейшее достижение диверсионной техники — усовершенствованный подслушиватель. Подключённый к телефонному проводу и соединённый с кабинетами Нунке и Думбрайта, он позволял слышать, что делается в том или ином боксе и других помещениях. Именно такой подслушиватель и дал возможность Нунке услышать не только разговор в таверне, а и предсмертный вопль отца Полиевкта, то бишь Протопопова. Вскоре должны были усовершенствовать и телевизионную систему, чтобы не только воспитанники могли видеть своих лекторов, а босс и шеф школы могли наблюдать за тем, что происходит в боксах.
К счастью Шульца и Домантовича, пока такой возможности у начальства не было. Друзья могли с пеной у рта спорить по поводу какой-либо мелочи и тут же вести переписку совершенно иного характера.
Одну такую «настольную» переписку приведём целиком, — она поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в школе за последнее время.
— «Мишка! Идиот! Какого чёрта тебя понесло в эфир?»
— «А что мне оставалось делать, если твой крёстный отец (так Домантович называл Нунке) заявил: „Проявите себя на работе, возможно, утвердим вас на постоянной должности воспитателя“. Должен же я был предупредить, чтобы на всякий случай каждый день на протяжении двух недель ждали от меня интересной информации?»
— «А знаешь, что ты натворил своим выходом в эфир?»
— «Догадываюсь. И очень жалею, что запеленговали. Теперь будет труднее…»
— «Передатчик там же, где был?»
— «Нет! Что же я буду носиться с ним, как дурак с писаной торбой».
— «Мне кажется, тебя не оставят при школе. А раз ты поедешь в Киев, нет необходимости использовать передатчик. Проинформируешь из первых рук».
— «Открыл Америку!»
— «А если тебя всё же оставят при школе?»
— «Информацию о засылке большой группы диверсантов я передам, даже если мне придётся одной рукой отстреливаться, а другой выстукивать текст».
— «В таком случае у тебя будут ещё и две мои руки».
— «Не бывать этому, Гриша! Иметь своего человека в таком логове и потерять возможность следить за шайкой…»
«Ну нет! Сложим наши головы, но предупредим о двадцати четырех диверсантах. Это тебе не коробочка с ваксой! Кстати, почему ты меня не предупредил, что выходишь в эфир?»
— «Обстановка была слишком удобна, а ваша милость в это время была у цыганочки. Ты знаешь, Гриша, отныне я стану именовать тебя „цыганским бароном“. Добро?»
— «Ко всем чертям!»
На этом переписка оборвалась. Зазвонил телефон.
— Вам письмо, — сказал Нунке, протягивая маленький с рисунком конверт.
«Бежала!» — промелькнула в голове мысль. По лицу невольно расплылась счастливая улыбка. Но Фред тотчас овладел собой. По мере чтения письма лицо его мрачнело…
— Дело не в том, что она уехала неожиданно.
Фред молчал. Мобилизовав все свои актёрские данные, он разыгрывал оскорблённого влюблённого, хотя ему до боли в ладонях хотелось дать Думбрайту пощёчину. Тот, даже не спросив разрешения, взял письмо Агнессы и внимательно прочитал.
— Вы знали, что она уезжает в Рим?
— Я знал, что это ей разрешили, но уехать она должна была через неделю.
— А уехала сегодня ночью! Мадридский филиал только что известил, что все деньги она перевела в римский частный банк, — в сердцах сообщил Думбрайт, швырнув письмо на стол.
Как и полагалось влюблённому, хотя и обиженному, Фред спрятал листок в карман.
— Что вы думаете об этой выходке с банком?
— Узнаю, как бы это сказать, почерк падре Антонио.
— Вот что, Фред! У нас нет времени на обсуждение. Мы потеряли кругленькую сумму, которой хватило бы не на один год существования школы. Мы можем потерять и вывеску, такую нужную и удобную. Вы — невесту и приданое. Напоминаю — солидное, так тысяч около ста долларов, если считать и наследство Менендоса. — Назвав сумму, босс внимательно поглядел на Шульца.
На лице того отразились и радость и тревога. Фред отлично знал, что от наследства Менендоса остались лишь рожки да ножки, и в душе потешался над неуклюжими уловками босса.
— И все это можете вернуть только вы!
— Как?
— Немедленно, не позднее завтрашнего дня, вылететь в Рим, разыскать Агнессу и вернуться с ней сюда!
— Согласен, Фред? — улыбаясь, спросил Нунке.
— Согласен! — радость в голосе Шульца на сей раз была неподдельной.
— Вместе с вами полетит Вайс. Его задание — в случае необходимости ликвидировать падре Антонио.
«И наблюдать за мной», — мысленно прибавил Фред.
— Собирайтесь: позаботьтесь о гардеробе, возьмите побольше денег. Распоряжения на этот счёт даны. Самое лучшее, если ваше обратное путешествие с Агнессой станет свадебным, — Думбрайт говорил о браке Фреда с Агнессой, как о деле окончательно решённом.
Шульц повернулся, собираясь идти, но вдруг вспомнил:
— А задания, которые я должен был выполнить? Передать Домантовичу?
— Домантович повредил ногу, прыгая вчера с парашютом. Он пролежит долго, — сказал Нунке.
— О каких заданиях идёт речь? — поинтересовался Думбрайт.
— Проверить знание фамилий местных руководителей и обстановки у пяти слушателей группы «А», пояснил Шульц.
— Это Домантович может сделать и лёжа в постели. Скажите ему, кого именно он должен проэкзаменовать, и пусть сообщит собственное мнение о каждом, — решил босс.
— До свидания!
— Счастливого пути! Помните: в вашем распоряжении три дня. Информируйте Вайса каждое утро, а он обеспечит связь с нами. У вас и без того будет достаточно хлопот.
Прямо из кабинета Нунке Фред поспешил к Домантовичу.
Тот лежал в кровати, взгромоздив правую ногу на большую подушку.
— Понимаете, Шульц, маленький камешек — и вот…
— Надо больше тренироваться, опираться на носки…
— Вы пришли в качестве инструктора парашютного спорта?
— Я пришёл не как инструктор, а по делу…
Григорий заговорил о тех пятерых, которых должен проэкзаменовать Домантович. А в это же время шла живейшая переписка:
— «Вылетаю в Рим, вернуть Агнессу, которая убежала. Информацию оттуда передам».
— «Счастливый! Дураком будешь, если вернёшься сюда. Так и передай от меня полковнику Титову».
— «Это решит он».
— «Категорически требую передать ему, что я справлюсь один».
— «Прощай, Мишка! Помни адрес старого цыгана».
— «Ещё бы!»
— «Береги себя, дружище! За это время ты стал мне роднее брата».
На последнюю фразу Домантович не ответил. Он притянул Григория эа руку к себе и крепко поцеловал.
Григорий рывком поднялся, хотел уйти, но, что-то вспомнив, вытащил новый листок бумаги и написал:
— «Что передать твоим?»
— «Адрес у Титова. Если удастся, поезжай к маме, она в Минске. Расскажи, что можно…»
Первый листочек прожевал Григорий.
Второй — Михаил.
Очевидно, глотать бумагу было неприятно и трудно. У обоих на глаза навернулись слезы.
НАД МОРЕМ
Как только самолёт оторвался от земли, Григорий в изнеможении прислонился к спинке кресла и закрыл глаза. Тяжёлая усталость словно вдавила его в сиденье. Так наваливаются на пилота перегрузки при смене траектории полёта на больших скоростях. Эта аналогия промелькнула и исчезла, ибо усталость уже сковала мозг.
Не думать! Ни о чём не думать! Сейчас можно не думать!
Григорий так и не понял, был это сон или короткое забытьё, исцеляющее не продолжительностью времени, а самой своей глубиной. Но вернулся он в действительность, словно омытый в семи купелях.
Самолёт набирал высоту. Ослепительно белые облака проплывали над крылом. По временам они утончались, становились совсем прозрачными, потом вновь громоздились, создавая фантастически-сказочные пейзажи, словно возникавшие из хаоса первозданности.
Из этого эфемерного, изменчивого мира, с заоблачных высот на грешную землю Григория вернуло отвратительное хрипение, послышавшееся сзади.
Григорий повернул голову и увидел Вайса. Позеленевший, с выпученными, покрасневшими, словно у кролика, глазами, он блевал…
Гончаренко передёрнуло от отвращения. Эта гадкая фигура словно олицетворяла теперь всю мерзость мира, из которого он только что вырвался.
Мерзость! Да, да, мерзость — все думбрайты, нунке, вороновы, вайсы, стремящиеся опоганить землю.
Он и Домантович сделали всего лишь небольшую часть того, что надо сделать, чтобы очистить мир от нечистот, извергаемых глотками этих подонков человечества. Бр-р, как это гадко и трудно. А впрочем…
Что ж, на долю санитаров всегда выпадает немало грязной работы! Но цель её благородна: оздоровить окружающий мир. Смыть с земли всю грязь и нечисть. Выскрести её так, чтобы не осталось уголка, где могла бы плодиться всякая погань.
Миша, дорогой! Как трудно тебе, и как ты сейчас завидуешь мне! Если б не этот глупый несчастный случай с вывихом, ты бы мог уже быть дома…
Подумать только: от какого-то маленького камешка, случайно попавшего под ногу, зависит успех или провал задуманного, а возможно, и судьба человека!
А вот мне под ноги попался этот проклятый Вайс Что же меня спасло? Тоже случай? История с Середой, который сжёг таверну и этим навёл Думбрайта и Нунке на ложный след? Бегство Агнессы? Как хорошо, что я увижусь с ней и сведу её с надёжными людьми.
На всякий случай они послали со мной Вайса… О, в Риме, в Италии, я найду возможность от него избавиться!
Курт, Матини, гарибальдийцы — настоящие друзья, целая армия людей доброй воли! Я знаю, вы мне поможете во всём, ибо хозяева земли вы, а не вайсы…
Нет, не случай спасает нас, ведёт к победе! Всем сердцем я ощущаю закономерность победы добра над злом.
Достигаешь этого в муках, но, политый потом, слезами и кровью, путь этот ведёт к победе. Он тянется все вверх и вверх, и им идут миллионы… А с высоты, с вершины горизонты перед людьми, двинувшимися в поход за правду, все расширяются и расширяются…
И словно в подтверждение этого самолёт прорвался сквозь тучи. Яркая, пронизанная солнцем голубизна неба и моря слились в единый безбрежный простор.
А впереди замелькали очертания земли.
Всегда прекрасной земли, на которой родился и утвердился человек.