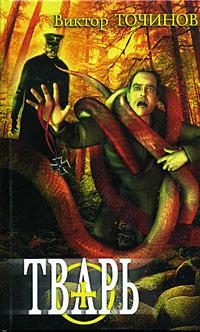
Виктор ТОЧИНОВ
ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ
Светлой памяти моего отца, Павла Сергеевича Точинова, чье детство прошло в местах, описанных в романе.
Предуведомление автора
Роман полностью основан на реальных фактах. Имена персонажей, названия некоторых организаций и населенных пунктов изменены. Также автором в нескольких случаях сдвинуты даты имевших место событий.
ПРОЛОГ
Гробокопатели. 18 июня 1988 года
Честно говоря, была в их оборудовании и снаряжении одна несообразность. И Коля Лисичкин, для которого этот сезон оказался первым, опасался: вдруг найдется поблизости кто-нибудь глазастый да вдумчивый, — заметит и сделает выводы об их малозаконной деятельности? И — позвонит куда надо?
Несообразность состояла в следующем: на «Беларуси» с экскаваторным ковшом — главным орудием раскопок — имелись большие красные буквы, извещавшие, что принадлежит сие чудо техники не кому-либо еще, а именно СУ-13, то есть строительному управлению с таким вот неудачным номером. На небольшом же вагончике-бытовке, наоборот, была надпись, из которой следовало, что владельцем передвижного жилища является структура, именуемая «Главсвязьмонтаж» — хотя эти буквы терялись среди потеков ржавчины. Зато огромная аббревиатура ДРСУ-5 на спинах их спецовок виднелась издалека…
Вот Лисичкина и терзали сомнения: за кого же их должны принимать случайно проходящие мимо люди? За строителей? За связистов-монтажников? За дорожников?
Последний вариант отпадал сразу. Долина Славянки здесь широкая, километра три, но с очень пологими склонами. Дороги через неё проходили — связывали в нескольких местах расположенные наверху, вдоль берегов громадного оврага деревни… (Или не оврага? Или каньона? Коля Лисичкин слабо разбирался в топографии, но для оврага имевшая тут место деталь ландшафта была крупновата.)
Беда в том, что упомянутые дороги возникли много десятилетий назад самочинно, накатанные сначала крестьянскими телегами, а впоследствии тракторами и прочей совхозной техникой — картофельные и другие поля занимали изрядную часть оврага-каньона. Летом кое-как можно было проехать по этим грунтовкам на легковушке, осенняя распутица делала подобное мероприятие более чем рискованным… Дорожные же службы не баловали своим вниманием магистрали, отсутствующие на их картах и схемах. Игнорировали их существование. Поэтому огромные буквы ДРСУ на спине раздражали Лисичкина.
Но Стас Пинегин — организатор и руководитель экспедиции — держался с уверенным спокойствием.
— Не ссы, Лисилидзе, — покровительственно говорил он. — Здесь, слава аллаху, Ленинградская область, а не Адыгея какая-нибудь. Это там, не успеешь к кургану на бульдозере подъехать, тут же подбегут: кто такой, да есть ли бумага разрешающая, да не хочешь ли ты часом скифское золотишко втихаря замылить… А тут: роют себе люди в спецовках траншею — никто и не почешется. Роют — значит надо. Понятно?
Лисичкин кивал: понятно. Но сам продолжал сомневаться. Он завидовал непробиваемой уверенности Стаса. И многому другому в нем завидовал, в особенности же двум вещам: успеху у женщин, которого Стас добивался как-то на удивление просто, как-то вроде и не прилагая к тому стараний; и легкости, с которой тот расставался с деньгами, — и тем не менее никогда не испытывал в них недостатка.
С семнадцати лет Лисичкин, не избалованный избытком финансов и женским вниманием, уговаривал двоюродного дядьку взять его в дело. (Именно такие родственные отношения связывали их со Стасом, хоть и был тот всего на восемь лет старше.) Уговаривал, уговаривал, — и уговорил-таки этим летом.
Но все оказалось не так легко и романтично, как представлялось по рассказам родственника, от которых захватывало дух у юного Лисичкина. Рассказы те никак не передавали липкий, ползущий по хребту холодок страха. Не передавали постоянного подспудного ожидания, что вот-вот на плечо склонившегося над раскопом Коли опустится тяжелая ладонь и сухо-казенный голос поинтересуется: а чем, собственно, они тут занимаются?
Но пока — уже третий день — никаких эксцессов не происходило, Стас оставался непробиваемо спокоен, а третьему и последнему члену их маленького коллектива, Скобе, всё, похоже, было по барабану.
Скоба — это не кличка, но законная, от родителей унаследованная фамилия. Ею обладал рыжеволосый парень лет тридцати, с белой кожей, к которой никак не хотел приставать загар. Скоба, отличаясь крупными габаритами, казался при этом не мускулистым и даже не жирным — но каким-то рыхлым. Рассыпчатым… Вид у него вечно был сонный и ко всему на свете равнодушный. Но дело свое Скоба знал и длинным языком не отличался — недаром работал у Стаса четвертый сезон, а болтуны у того не задерживались.
Дело в том, что зарабатывал на жизнь двоюродный Колин дядька профессией весьма специфичной. Она отнюдь не числилась в Едином тарифно-квалификационном справочнике, охватившем, казалось бы, все мыслимые и немыслимые специальности…
Стас Пинегин был черным следопытом.
В чем-то дело его жизни роднилось с черной археологией. Именно среди черных археологов Пинегин начинал свою карьеру. Но достаточно быстро сменил специализацию, убедившись, что власти ведут самую жесткую борьбу с любителями самочинных раскопок — проводить лучшие годы за колючкой не хотелось.
Хотя многие черные следопыты тоже ходили под угрозой пары-тройки статей УК — те из них, кто промышлял сбором, восстановлением и продажей оружия, долгие десятилетия пролежавшего в земле на местах былых сражений. Стас же оружием не баловался. Ну, почти не баловался. Изредка, конечно, случалось — особенно в последний год или два, когда спрос на стреляющие и взрывающиеся предметы вырос неимоверно — на окраинах Союза вот-вот грозили вспыхнуть локальные войны, стыдливо именуемые «межнациональными конфликтами», а вокруг крепнущего кооперативного движения вдруг зароились спортивного вида стриженые парни. (Как их называть, пока ещё шли споры — не то рэкетиры, не то рекетёры…) Но специально за старыми автоматами, винтовками и боеприпасами Пинегин не охотился.
Он специализировался на вещах, в УК не упоминаемых, но за которые коллекционеры выкладывали хорошие деньги. Награды, пряжки, бляхи, прочие детали амуниции, нагрудные знаки, даже помятые котелки давали стабильный доход. Обычная солдатская пряжка с готической надписью «С нами Бог!» могла принести вполне реальные деньги — если знать, куда и к кому обратиться. Стас знал.
Но это всё были семечки.
Настоящие дела начались в перестроечные годы — когда Михал Сергеевич, казалось, не спал ночами, думая, чем бы ещё порадовать своего «друга Гельмута» и прочих заграничных друзей. Одним из подарков канцлеру ФРГ стало открытие в Москве и Ленинграде филиалов германских организаций, до сих пор занимавшихся розыском соотечественников, канувших в войну на российских просторах. Теперь каждый советский гражданин мог туда обратиться — предъявить пластиковый цилиндрик «смертного медальона» немецкого солдата, указать на карте, где найдены останки — и получить законную награду. Пятьсот немецких марок.
Понимающие люди сразу сообразили, какой это Клондайк.
Конкуренты Стаса и его коллег — клубы «красных следопытов», проводившие раскопки в местах боев с ведома и благословения властей, сразу начали обращать куда меньше внимания на засыпанные в старых блиндажах и окопах скелеты красноармейцев. С тех какой доход? Приедут какие-нибудь старички, положат цветы на холмик ушедшего в сорок первом на фронт отца или брата, поблагодарят со слезами в голосе, — и всё. Конечно, далеко не всем затуманили глаза и совесть дойчемарки — многие «красные следопыты» продолжали делать свое нелегкое дело, не гонясь за вознаграждением. Но и поддавшихся «медальонной лихорадке» хватало.
Следопыты же черные, и до этого особым патриотизмом не отличавшиеся, поголовно начали форменную охоту за мертвецами вермахта. В местах Ленинградской области, где гитлеровцев пропало без вести особо много — в Синявинских болотах, например, — царил небывалый ажиотаж гробокопателей. Как всегда бывает в подобных случаях, конкуренция приводила к стычкам между следопытами. Дело порой доходило до стрельбы из старого, любовно восстановленного оружия…
Стаса Пинегина перспектива схлопотать пулю из какого-нибудь древнего ППШ или М-38 не привлекала. И он решил поискать удачу в стороне от объятой алчностью толпы коллег. Тем более что этой весной у него появилась интересная наводка…
…Недобрые предчувствия Коли Лисичкина сбылись. Неприятность случилась на третий день работ — хотя и оказалась несколько иного плана, чем он опасался.
Всё шло как обычно. Скоба восседал за рычагами «Беларуси», манипулируя ковшом. Траншея медленно удлинялась, ползла вниз по очень пологому склону — туда, где сквозь кусты едва проглядывала узенькая ленточка Славянки. Стас двигался следом за трактором, уверенными движениями профессионала прощупывал дно длинным металлическим щупом — портативные и чувствительные металлоискатели оставались пока ещё мечтой для черных следопытов (да и интересовал Пинегина сейчас не металл).
Лисичкин шагал за «Беларусью» поверху, внимательно следя, не вывернет ли ковш что-нибудь интересное. А заодно опасливо вертел головой по сторонам.
В общем, рутинный трудовой день черных следопытов. Хотя не совсем, — насколько Лисичкин понял из слов Скобы и Стаса, использование тяжелой техники стало новым словом в методике раскопок, обычно приходилось довольствоваться шанцевым инструментом да средствами малой механизации. Но здесь, в густонаселенных местах, Пинегин решил пойти в ногу с веком, — посчитав, что землекопы с лопатами вызовут куда больше подозрительного недоумения…
— Стой!!! — Истошный вопль Лисичкина перекрыл шум двигателя.
Ковш повис неподвижно. Стас одним прыжком оказался наверху. Подошел торопливо.
Это была авиабомба. Судя по всему, небольшая — впрочем, —из-под заполнявшего ковш суглинка виднелись только погнутый стабилизатор да часть ржавого бока. Лисичкин с дрожью смотрел на смертоносное железо и с трудом удерживался от спринтерского рывка — всё равно куда, лишь бы подальше от находки.
— Ну, с крещением тебя, Лисельсон, — сказал Стас. Никакого волнения в его голосе не слышалось.
— «Полусотка», — констатировал вылезший из кабины Скоба. И спросил Стаса: — Потрошить будем? Или обратно прикопаем?
Судя по тону, ему было ровным счетом наплевать, какое решение примет начальник. Потрошить так потрошить, прикопать так прикопать…
Равнодушие коллег благотворно подействовало на Лисичкина. Задать стрекача хотелось уже не так сильно. Но голос ещё подрагивал, когда он спросил:
— Н-надо ведь куда-то сообщить, да? Минеров вызвать?
Соратники посмотрели на него как на полного идиота. И не удостоили ответом.
Лисичкин смутился, поняв, что ляпнул не то. Но слушать рассказы Стаса об извлеченных из земли и укрощенных ржавых монстрах — это одно, а смотреть вот так на затаившуюся пятидесятикилограммовую смерть и ждать, что она в любую секунду превратится в ослепительную безжалостную вспышку— и станет последним зрелищем в твоей жизни… это, знаете ли, совсем другое. Лисичкин нервно сглотнул. Ему чудилось, что там, под изъеденным ржавчиной металлом, что-то постукивает. Тикает проснувшийся от сотрясения часовой механизм? Но то был всего лишь панический, отдающийся в ушах пульс Лисичкина.
— На хрен нам она? — после короткого раздумья сказал Стас. — Сколько из нее там ни вытопишь — даже бабки, что с меня за эту хреновину слупили, не отобьются…
Он кивнул на «Беларусь», где-то арендованную им на недельный срок за немалые деньги. За неделю предстояло с помощью трактора выполнить главную задачу: найти искомое и снять сверху полтора-два метра земли — и затем доделать остальное лопатами.
— Отбегите подальше и прикиньтесь ветошью, — скомандовал Стас и полез в кабину трактора.
Лисичкин вжался всем телом в небольшой пригорок, притиснулся лицом к траве — и каждую секунду ждал, что по перепонкам ударит убийственный грохот, а сверху начнут падать комья земли. И куски железа— рваного, перекрученного, с острыми хищными краями…
Скоба лежал на боку спокойно, лениво поглядывая на траншею и трактор. Выдернул стебелек тимофеевки, откусил мягкий белый кончик, остальное использовал как зубочистку…
— Не дрейфь, Лисица, — сказал он, зевнув. — Видал, стабилизатор погнут? — значит, с неба …нулась. Тогда не рванула и щас не рванет…
Стас выложил содержимое ковша рядом с траншеей ювелирно — без малейшего сотрясения. При нужде он смог бы колоть этим громоздким приспособлением скорлупу орехов, не повредив ядра — несколько лет, до того как податься в следопыты-профессионалы, работал именно на «Беларуси». Потом подозвал подчиненных.
— Бегом за лопатами! Насыпьте сверху курганчик не меньше метра высотой. Мало ли что…
Лисичкин выкладывал землю на растущую кучу не дыша, и думал, что еще одна-другая подобная находка, — и первый его сезон станет последним. Скоба орудовал лопатой со всегдашним своим равнодушием.
Неприятности имеют поганое обыкновение ходить стаями. Или косяками, или табунами, — в общем, не в одиночку. И вторая не заставила себя ждать — как-то незаметно возникла за спиной у Скобы и Лисичкина. И встала у траншеи, опираясь на тяжелую суковатую палку.
— Дорогу починяете? — проскрипела неприятность, выглядевшая как высокий и грузный старик в более чем старомодном костюме из белой парусины.
Вопрос был задан совершенно серьезным тоном, но содержание его казалось издевательским. За пару минут молчания старик самым внимательным образом рассмотрел и двоих дорожников-связистов-строителей, и их технику, и, не исключено, мог даже прочитать надпись на вагончике — шёл с той стороны. Они предполагали, что с той, из-за их спин, — поскольку подхода старика не заметили.
— Кювет роете? — уточнил незваный визитер. Прозвучало это у него как «кувэт».
Второй вопрос оказался не лучше первого. Принять объект их трудов за дорожный кювет можно было, только страдая сильной близорукостью, осложненной старческим слабоумием — признаков же ни того, ни другого во внешности гостя не усматривалось.
Лисичкин почувствовал, как спина покрывается холодным потом. Мелькнула паническая мысль: он всё видел! Видел бомбу!!!
— Что начальство скажет, то и копаем… — сказал Скоба, лениво орудуя лопатой. — Прикажут — хоть тебя закопаем, гы-гы…
В глупой его шутке прозвучала нотка угрозы.
Идиот! — мысленно ахнул Коля. Козел, привык к беспределу в глухих лесах, где милицию кричи — не докричишься…
Подошел Стас — недалеко отлучившийся по малой нужде. И с ходу оценил обстановку. Старик показался ему представителем породы ярых общественников, не знающих, куда девать не растраченные к пенсии силы, и сующих нос в любую щель.
— Чё за базар, старче? — заговорил Стас, стараясь походить речью на работягу, дослужившегося до бригадира (при нужде он мог изъясняться и более культурным языком). — Чё волну гонишь? Не врубаешься, зачем тут канава? Так брякни в управление, поспрошай— они те все растолкуют. Если ты, понятно, спрашивать права имеешь. Или в депутатский совет запрос накарябай, пришлют те казенную бумагу с полным разъяснением… А к нам не подкатывай. Что в наряде написано, то и выроем.
Зачем он так много говорит? — тоскливо думал Лисичкин. Зачем так долго отвечает на две короткие фразы старика? Настоящий работяга послал бы коротко на три буквы… А так старик точно что-нибудь заподозрит…
Но Стас знал, что делал, подробно подсказывая «общественнику» способ возможных действий. Игра была беспроигрышная. Даже если старикашка быстро сообразит, куда обратиться с запросом, и даже если его банально не отфутболят— все равно никто так вот сразу не попрётся в поля выяснять происхождение и назначение неведомой канавы. Если же упорство старого хрыча сдвинет дело с мертвой точки — Стас и компаньоны к тому времени закончат все дела и исчезнут.
Впрочем, на случай поверхностного любопытства облеченных властью товарищей Стас заготовил более серьезные объяснения. И кое-какие документы, — из которых следовало, что кооператив «Строитель» проводит по договору с совхозом мелиоративно-дренажные работы на арендованной технике. Понятно, что никто из руководства совхоза и действительно существовавшего кооператива тех бумаг в глаза не видел — и лежали они у Стаса надежно спрятанными, на самый крайний случай.
На старика речь Стаса не произвела никакого впечатления. Стоял, смотрел на них выцветшими глазами, молчал. Потом медленно проговорил:
— Ройтесь, ройтесь… Такое отроете, что сами не рады будете.
— Бомбу? Снаряд? — пискнул набравшийся смелости Коля.
— И они попадаются… — Старик перевел тяжелый взгляд на Лисичкина. Тот не понял: неужто может попасться что-то хуже бомбы? Старик медленно кивнул головой, как будто услышал невысказанный вопрос. Надо полагать, жест этот совпал с мыслями Коли чисто случайно.
— Не время сейчас в земле копаться, — сказал старик. — Подождите маленько. В конце месяца закончите.
Чего подождать? — опять не понял Лисичкин. Тут что, ожидается разминирование местности?
— Ага, подождём. Прям бегом свернемся и ждать усядемся, — саркастически ответил Стас. — А ты, старче, нам из своей пенсии аккорд за работу выплатишь… Шёл бы ты к своей старухе, а?
Старик впервые широко улыбнулся, словно шутка Стаса оказалась необыкновенно удачной. Улыбка была неприятная. Похожая на оскал. Он знает всё, понял вдруг Лисичкин. И кто мы, и что ищем… Старик снова уставился на Колю, и Лисичкин понял другое — что боится этого старика. Боится не того, что тот может куда-то позвонить или кому-то рассказать — боится его самого. Вроде никакой прямой угрозы от старика не исходило, но… Бомба в ковше «Беларуси» тоже выглядела бы вполне мирно — если ничего не знать о её начинке. Что внутри у старика есть нечто не менее опасное, чем древний тротил, Лисичкин уже отчего-то не сомневался.
— Кто ищет, тот всегда найдёт. Но не всегда то, что ищет, — сказал старик после тяжелой паузы.
Он развернулся и неторопливо зашагал обратно в гору, в сторону Спасовки. Похоже, то не был случайный прохожий. Старик приходил специально для этого не слишком внятного разговора. Либо планы его кардинально изменились после встречи со следопытами.
— Ну что встали? За работу, живо! — скомандовал Стас. Но сам продолжал следить взглядом за удаляющимся стариком. И сказал негромко: — Вот ведь старый козел…
Траншею они закончили на следующий день, ближе к вечеру. Дальше копать было некуда — упёрлись в край невысокого земляного обрыва.
Именно тут весной случился оползень — длинная полоса берега, подмытого вешними водами Славянки, сползла к реке. Тогда же бывшие здесь на загородном пикнике студенты — костер, шашлык, много пива — нашли поблизости несколько старых черепов… Валялись там и другие кости, но молодых придурков заинтересовали лишь эти детали скелета. Надели черепа на палки и пугали присутствовавших на пикнике девиц. А один из юнцов вознамерился сделать себе шикарную пепельницу и притащил находку домой. Ошарашенные родители в штыки встретили перспективу совместного проживания с этакой деталью интерьера — и отзвук скандала дошел до живущего на той же лестничной площадке Стаса. А уж тот живо заинтересовался местом и обстоятельствами находки.
По странному стечению обстоятельств Стас Пинегин как раз в то время пытался привязать к местности упоминания об одном военном захоронении. Обычно немецкие кладбища, сровненные с землей победителями, не слишком интересовали черных следопытов, охотящихся за «смертными медальонами». Похороненные там солдаты пропавшими без вести не числились, а убитых офицеров рейха вообще старались при любой возможности доставить на родину. Можно, конечно, и в таких местах разжиться золотыми коронками или обручальным кольцом, но о пятистах марках с каждого покойника мечтать не стоит.
Но кладбище, бесследно сгинувшее где-то в долине Славянки, было особым. Стас прочитал о нём в мемуарах немецкого полковника, бывшего военного коменданта станции Антропшино.
Прочитал, кстати, в оригинале, на немецком, — книжка та не переводилась. (Почти не владея разговорной речью, Стас Пинегин самостоятельно выучился читать по-немецки и по-фински, читая именно военные мемуары — охота пуще неволи. По военной тематике он — при своих десяти классах — не уступал знаниями иному выпускнику истфака.)
…Во время блокады станция Антропшино стала крупным транспортным узлом в ближнем тылу осаждавших Ленинград гитлеровцев. Через неё шло снабжение фронта — и через неё же в тыл уходили отходы гигантской мясорубки — раненые и то, что десятилетия спустя начнут именовать «грузом двести»… Когда в сорок четвёртом, при снятии блокады, советские танки рвались к станции, среди прочих забот коменданта оказалась изрядная партия пресловутого двухсотого груза. Проще говоря, мертвецов. Разбираться с ними и похоронить как полагается не успели. И солдат, и офицеров вповалку свалили в три спешно выкопанные ямы и засыпали землёй. Опознанием, изъятием смертных медальонов и оповещением родных никто, естественно, не озаботился. Комендант, если верить его писаниям, надеялся, что атака русских носила локальный характер. И думал ещё вернуться в Антропшино… Не сложилось.
Прочитав всё это, Стас понял: вот он, его шанс, который выпадает раз в жизни. Где-то совсем рядом лежали в земле деньги. Очень большие деньги. Вероятность, что о них узнают коллеги-конкуренты, казалась ничтожной — штудированием иностранных военных мемуаров они не занимались.
Но квадрат возможных поисков был чересчур велик. Находка студента-некрофила позволила определить место с большой долей вероятности… Состав экспедиции Стас свёл до возможного минимума — во избежание утечки информации к конкурентам. Взял лишь Скобу, не раз доказавшего умение держать язык за зубами, да салагу-родственника, знакомств среди следопытов не имевшего.
…Они стояли у конца вырытой траншеи, над самым обрывом. Мрачно курили. Настроение было пакостным. Бомба оказалась первой и последней находкой. Больше ничего не нашлось. Ни единой косточки.
Возможных объяснений имелось немного. Всего два.
Либо они промахнулись, не зацепив траншеей ни одну из трех ям.
Либо находка студентов никак не относилась к делу. Какие-то случайные, левые мертвецы. О таком варианте, грозящем ему финансовым крахом, Стас предпочитал не думать. Когда понурая троица вернулась к вагончику, он выдал следующую директиву:
— Завтра начнем по новой. Будем копать вот так… — Он показал рукой. Предполагаемая траншея образовывала с имевшейся некое подобие буквы «V» и должна была выйти к обрыву метрах в трестах левее.
— А на сегодня объявляю отдых, — продолжил Стас. — Отправляйтесь-ка в Питер. Смоете трудовой пот и грязь, подрыхнете на нормальных кроватях. Но завтра к девяти быть на месте.
До Ленинграда ехать было недолго — сорок минут на электричке от Антропшино.
— Трактор местные за ночь на детали растащить могут, — сказал Скоба. Судя по выражению лица, эта перспектива его не пугала. А предстоящее увольнение не радовало.
— Я остаюсь. Думаете, так просто вас отпускаю? Ко мне Нинка вечером придет. До утра. Понятно?
Лисичкин завистливо вздохнул. С Нинкой, разбитной грудастой продавщицей здешнего сельпо, Стас познакомился не далее как позавчера, закупая вдвоем с Колей продукты для экспедиции. И вот поди ж ты…
Скоба отправился в бытовку — переодеваться. Лисичкин собрался последовать за ним, но Стас вполголоса сказал:
— С дороги вернешься. Под любым предлогом. Скобе ни слова.
Нинка придет не одна, обрадованно понял Лисичкин, с подругой… И я её… Я с ней… Потом он усомнился — слишком напряженное лицо было у Стаса.
— Что застыл? — сказал тот. — Иди, иди…
…Предлог Колька выдумал простейший. Многолетний опыт борьбы с преподавателями школы (а затем и ПТУ) научил: самой незамысловатой лжи верят всего охотнее. Подходя к станции, Лисичкин остановился и стал ощупывать карманы.
— Черт… Ключи от квартиры не захватил. А родители на даче. Придется назад бежать… Подождёшь?
Скоба отреагировал, как и ожидалось:
— Я за твой склероз не в ответе. Туда-обратно — почти час набежит. Один поеду. Пока.
И он пошагал к платформе. Лисичкин поспешил обратно.
Тропа вилась по прибрежному лугу, цветущее разнотравье нагрелось на солнце и пахло одуряюще, деловито жужжали шмели, где-то неподалеку завёл свою надрывную песню коростель… Было хорошо. Колька подумал: пожить бы вот так, на вольном воздухе, без всякого нервирующего ковыряния в земле… Палатка, котелок над костром, бутылка портвейна, косячок… Что ещё надо для счастья? Разве что не помешает отзывчивая деваха в той же палатке. От этих мыслей Лисичкин разомлел и почти уверил себя, что нечто похожее ему и предстоит. Конечно же, Нинка придет с подругой, фиг бы его иначе Стас оставил, молодец он всё-таки, выбрал именно родственника, а не придурка Скобу компаньоном в таком деле…
Стас оборвал мечты подошедшего к бытовке Лисичкина короткой фразой:
— Иди выспись, Лисоян, ночью придется повкалывать…
Коля не понял или не захотел понять, цепляясь за свои надежды. Сказал где-то слышанное:
— Вкалывают в вену, а в бабу — хе-хе — втыкают! А кого Нинка с собой приведёт?
Стас посмотрел недоуменно, потом сообразил:
— Не будет никакой Нинки. Это так, для Скобы… Работать будем, без дураков.
Двоюродный племянник разочарованно понурился. Потом вновь оживился.
— Нашел, да? А Скобу — на хрен? Всю захоронку вдвоем возьмём?
— Не трынди. Захоронку будем брать — если найдём — как договаривались, втроём. За ночь с ней и взвод не управится… А в том, что я в траншее нащупал, Скоба доли не имеет. Это, Ли Сын Ман, ящик. — Последнее слово он выделил голосом.
Уже до китайцев дошел, без особой обиды подумал Лисичкин, слыхом не слыхавший о корейском диктаторе с таким именем. И спросил:
— Ящик чего?
— Ящик, — произнес Стас с прежним нажимом и посмотрел на Лисичкина совсем как недавно, после предложения вызвать специалистов по разминированию.
Коля вспомнил кое-что из давнишних рассказов родственника. Найти ящик всегда — по крайней мере до «медальонной лихорадки» — было заветной мечтой любого черного следопыта. Конечно, в откопанном ящике могла оказаться протухшая десятки лет назад тушёнка или еще какая-нибудь никому не нужная ерунда, но чаще всего ящики, заваленные некогда в разрушенных траншеях и блиндажах, хранили в себе оружие или боеприпасы. Консервационная смазка на найденных таким образом винтовках или автоматах, естественно, за годы высыхала и каменела — но удалив её, вы получали вполне работоспособные машинки. Не нуждавшиеся в дорогостоящем восстановлении, в отличие от побывавших в деле и пролежавших затем долгие десятилетия в земле. За партию таких смертоносных игрушек можно было выручить приличные деньги.
И Лисичкин стал терзать Стаса расспросами: сколько в военные времена стандартная заводская тара вмещала ручных гранат? винтовок? автоматов? — и каковы на них сейчас цены черного рынка? Пинегин отвечал с неохотой и в конце концов директивно отправил родственника спать, сказав, что нечего делить шкуру неубитого медведя. Колька долго ворочался на сколоченном из досок топчане (впрочем, матрас и чистое бельё на нем имелись). Ворочался и не мог уснуть, думал о ящике. А приснился ему вчерашний старик с толстой суковатой папкой. Подробностей Лисичкин по пробуждении не вспомнил. Осталось только чувство, что творилось в том сне что-то мерзкое. И страшное.
…Ящик оказался велик. Под двадцатисантиметровым слоем суглинка на дне траншеи находилась лишь часть его, остальное уходило в сторону, под боковую стенку.
Лисичкин считал, что истлевшее дерево будет рассыпаться в руках, — и ошибся. Доски оказались на удивление крепки, не иначе как их в своё время пропитали чем-то, препятствующим гниению. Гораздо больше пострадало железо — толстые полосы, охватывавшие в нескольких местах находку, петли, пробои и три (!) замка крышки.
Стас хмурился, по мере того как трофей открывался больше и больше. И конструкция, и неподъёмные габариты никак не походили на стандартные грузы военной поры. Что же тут за чертовщина? — думал он. Деталь от Большой Берты?
Пришлось изрядно повозиться, осторожно обкапывая ящик по сторонам — к утру, к возвращению Скобы, предстояло надёжно замаскировать все следы сверхурочных земляных работ. Почва словно сроднилась за полвека со своим содержимым — и ни в какую не желала размыкать цепкие объятия. Добраться до дальнего конца находки можно было, соорудив шурф чуть не с Саблинскую пещеру размером. Скоба наверняка заметит поутру следы, глаз у него намётанный.
Выход нашел Стас. Притащил буксирный трос, пропустил его сквозь два металлических кольца на боковых стенках, явно служивших для переноски ящика — на виду их было четыре, и земля скрывала ещё два, как минимум.
Движок-пускатель «Беларуси» затрещал так, что Лисичкину показалось — услышат их не только во всей округе, но, пожалуй, и в Питере. Услышат и наверняка заинтересуются: какому это тут трактористу-стахановцу не спится ночами? Потом треск смолк, заработал дизель, уже значительно тише, и Лисичкин немного успокоился.
Трос натянулся струной — и выдернул ящик, упёршийся в противоположный срез траншеи… На вид всё вышло легко — будто обвязанный ниткой молочный зуб выскочил изо рта у ребенка. Стас подал немного назад, слегка повернул трактор и новым рывком окончательно освободил находку. Теперь она целиком лежала на дне траншеи. Гробокопатели стояли наверху и задумчиво чесали в затылках.
Дело происходило как раз в те два-три часа белой питерской ночи, которые с некоторой натяжкой можно считать тёмными. На дне траншеи почти ничего разглядеть не удавалось. Но фонарь Стаса, привезённый из-за границы, оказался хорош. Длинный и толстый, похожий на дубинку, с мощным рефлектором, он рассекал темноту ярко-белым галогеновым светом на изрядное расстояние. Но сейчас Пинегин поставил сменный жёлтый светофильтр, дававший свет мягкий, рассеянный, почти незаметный со стороны.
Никаких надписей или маркировки на почерневших досках не виднелось. Ящик казался великоват для винтовочного или снарядного — метра два длиной и чуть меньше метра шириной и высотой. Характерные пропорции навели Лисичкина на догадку:
— Слу-у-ушай, а это не гроб ли? Может, зацепили-таки захоронку? По самому-самому краешку?
— Не похоже… — сказал Стас неуверенно. Впервые на памяти Кольки он что-то говорил неуверенно. — Их тут… там… без гробов кидали, вповалку… Разве что…
Он не договорил и спрыгнул в траншею. Лисичкин за ним.
Проржавевшее железо петель и замков быстро уступило напору двух фомок. Прежде чем открыть крышку, Стас несколько секунд помедлил. Потом резко откинул её в сторону.
— фу-у-у… — разочарованно протянул Лисичкин. — Мышиное дерьмо какое-то откопали.
Ящик доверху наполняла труха непонятного происхождения. Непонятного — для Лисичкина. Стас определил сразу:
— Стружка. Сгнила вся… Что стоишь, давай выбрасывай! Да не лопатой, руками!
Запах от растревоженной трухи пошел нехороший. Подозрительный запах. Лисичкин всегда думал, что гниющее дерево пахнет по-другому, иногда даже приятно — например, в лесу, где запах гниющих ветвей и листьев называют отчего-то «грибным»… Сейчас же чувство возникло такое, будто он держит голову над кастрюлей с каким-то мерзким варевом, в самом пару. Голова кружилась, воздух казался наполнен множеством мелких жгучих кристалликов, терзающих не только нос — дышал Колька уже широко распахнутым ртом, — но и бронхи, и легкие.
Старик! — похолодел Лисичкин. Не об этой ли находке говорил подозрительный старик? О находке, которой они совсем не обрадуются… И Коле захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда.
— Есть! — нащупал что-то Стас. — Твердое! И длинное!
— Винтовка? — радостно спросил Колька. Он враз позабыл о своих панических мыслях. Никак не мог старик видеть на два метра вглубь…
— Да нет, не винтовка, похоже на… — Стас недоговорил. Но тут Лисичкин и сам докопался.
…Это оказался всё-таки гроб, лежавший в ящике под слоем истлевшей стружки. Самой стандартной формы, но металлический. Никаких украшений на гробу не было. Стеклянное окошечко в передней части тоже отсутствовало.
Странное дело — они нашли то, к чему так упорно стремились, но Колька ни малейшей радости не почувствовал. Лишь тревожное ожидание чего-то гнусного. И тон заговорившего Стаса был мрачен.
— Неужели генерал какой? — сказал он задумчиво. — Так вроде не гибли тут генералы в сорок четвертом… Может, другая важная шишка? Чиновник, скажем, из рейхскомиссариата восточных территорий… Да ещё тут рядом испанцы квартировали, «Голубая дивизия»…
Сквозь тревогу Лисичкина пробилось удивление. Впервые он видел Стаса таким. Прежний Пинегин — решительный и не знающий колебаний — уже орудовал бы подходящим инструментом, вскрывая загадочную домовину.
И тут рассуждения Стаса прервал крик. Громкий, надрывно-тоскливый. Донесся он слева, от Спасовского кладбища — настоящего кладбища, с крестами и оградками.
Лисичкин издал тонкий писк и присел на дно траншеи. Крик не повторился. Стояла прежняя тишина, кажущаяся сейчас зловещей и опасной.
— Ш-ш-што это? — прошипел Лисичкин еле слышно.
Его испуг, как ни странно, помог Стасу взять себя в руки.
— Козодой это, Лисаяма-сан, обычный козодой. Они любят жить на деревьях старых кладбищ…
Разве у нас они водятся? — хотел спросить Лисичкин. И не спросил. Козодой, конечно же козодой… Колька выпрямился и почувствовал, что трусы и брюки в районе ширинки немного мокры. Совсем чуть-чуть. Он смущённо повернулся боком, хотя в свете фонаря Стас едва ли мог разглядеть крохотное темное пятно.
— Ладно, вскрываем, — сказал Пинегин.
— Может, не надо? Днем бы, со Скобой… Ты же сам говорил…
— Вскрываем, — отрезал Стас. — Чует моя задница, что это не то. Не захоронка… — Он нагнулся над гробом, провел пальцем по поверхности. — Что-то не пойму, что за металл. И не свинец вроде и не цинк… «Болгарка» бы не помешала, да подключить не к чему…
Непонятный металл оказался весьма мягким сплавом. И не толстым. Нож Стаса легко пробил его. Раздался легкий свист воздуха — гроб был герметичным. За пару секунд наружное давление уравнялось с внутренним. Под ударами молотка нож быстро продвигался по периметру крышки. Через несколько минут шов достиг достаточной длины.
Стас откинул крышку и издал странный звук — не то поперхнулся, не то задавил на корню матерную тираду.
В гробу лежал не скелет в клочьях истлевшего тряпья, как того стоило ожидать. Мертвец, чей покой они потревожили, выглядел похороненным несколько дней назад — хотя Лисичкин, конечно, лишь умозрительно представлял, как мертвецы выглядят там спустя несколько дней после похорон… Но и живым — уснувшим — лежавший в гробу не казался. Желтоватое лицо — высокий лоб, шрам на щеке, щегольская ниточка усов, закрытые глаза — казалось принадлежащим не спящему человеку, но персонажу музея восковых фигур. Награды на груди поблескивали, словно последний раз их начищали отнюдь не полвека назад.
— Как живой, — констатировал Стае очевидное. — Забальзамировали так уж забальзамировали.
— И мундир забальзамировали, да?! — истерично выкрикнул Лисичкин. — И ордена?
И он сделал шажок по дну траншеи — от гроба. Потом ещё один.
— Сам видел — штука герметичная. Может, этот мундир только тронешь — трухой и рассыплется. Меня больше цацки интересуют… Надо понимать, в Германии, на настоящих похоронах, их бы отвинтили — и на подушечки, чин по чину…
Стас слегка нагнулся над гробом и стал разглядывать награды и знаки, комментируя вслух:
— Это эсэсман, оберштурмбанфюрер — типа подполковника по-армейскому… Но с обычным подполковником никто бы так не стал возиться. Непростая была пташка. А иконостасик интересный… Железный крест, два Рыцарских, один из них с подвесками… Золотая булавка для галстука с монограммой фюрера… Так… Знак «Пятнадцать лет в НСДАП», а выглядит мужик моложаво… А это что? А-а, висюлька за Дюнкерк, давно уже воевал. Странно, в сороковом черных эсэсманов на фронт не больно-то гоняли… Но мне особо вот этот иностранный орденок глянулся…
— Какой? — спросил Лисичкин, не делая попыток приблизиться к гробу.
— А вот… — Стас кивнул на левую сторону груди мертвеца. — Если это не рыжьё с брюликами, то я ничего не понимаю в цацках. Удачно мы копнули, Лисман! При деньгах будем! А если у него ещё гайки на пальцах остались… Сейчас поглядим…
Лисичкин, вовсе не интересуясь наличием у покойника перстней и прочих украшений, медленно пятился по траншее. Взгляд его не отрывался от лица трупа. Фонарь в руке Стаса двигался, и казалось, что губы мертвого эсэсовца слегка шевелятся. Как будто он пытается сдержать ехидную усмешку. Сдержать до той поры, когда резким движением сядет в гробу, и…
От Спасовского кладбища вновь донесся крик козодоя — если, конечно, это был козодой.
Колька понял, что его не влечет карьера гробокопателя. Абсолютно. Сегодняшняя ночь последняя. И денег за золото с бриллиантами ему не надо. Есть другие способы заработать.
Пинегин склонился над мертвецом, протянул руку… И упал внутрь.
Кольке показалось — за долю секунды до падения что-то метнулось к Стасу оттуда. Снизу. ИЗ ГРОБА.
Лисичкин хотел закричать — и не смог, в горле засел липкий ком — ни проглотить, ни выплюнуть. Хотел развернуться и побежать — тоже не смог, ноги словно вросли в мягкую землю.
Всё произошло за считанные секунды — но для Кольки они тянулись целую вечность. Вечность Стас ворочался в гробу, нелепо дергая торчащими наружу ногами. Вечность издавал хрипящие, задавленные звуки.
А потом вечность кончилась.
Стас выпрямился, стоя в гробу на коленях.
Глотки у него не стало. Просто не стало — рваная дыра, мешанина из кровавых ошметков. Кровь тугими толчками выплескивалась из разорванной артерии. Грудь Стаса бурно вздымалась, рот раскрывался широко, как при истошном паническом вопле — но звуков не было. Лишь в такт немым крикам из кровавого провала горла вылетали алые капельки.
Затем Стас тяжело рухнул обратно. В гроб.
Тогда Лисичкин заорал. И побежал.
Он нёсся по траншее — быстро, неимоверно быстро. Несмолкающий вопль Кольки рвал на части ночную тишину — и больше ничего он не слышал. Сейчас, сейчас проклятая траншея кончится, он кубарем скатится по обрыву, и так же стремительно понесется вверх, к людям. К живым людям.
Хрусткий удар в затылок швырнул Лисичкина вперед. Он рухнул, ударился лицом о землю — и та раздалась, расступилась, приняла его в себя, он погружался глубже и глубже, странно, но залепленные суглинком глаза всё видели — вокруг белели мертвые кости, много костей, черепа глумливо скалились его появлению, в их глазницах копошились мерзкие скользкие черви, а между рёбер болтались заветные солдатские медальоны; вот же она, захоронка! — зачем-то обрадовался Колька, проваливаясь ниже, в совсем непроглядную черноту…
Потом не стало ничего. Даже темноты.
Часть первая
КРОВАВЫЕ МАЛЬЧИКИ
(26 мая 2003 г., понедельник — 31 мая 2003 г., суббота)
Глава 1
26 мая, понедельник, утро, день
1
— Твой комп скоро можно будет продать как антиквариат, — сказал Пашка-Козырь, пристыковав разъём к засунутому под стол системному блоку. Без особого осуждения, впрочем, сказал. — Я-то думал, что у известного писателя что-нибудь этакое, навороченное…
— Ну уж, какой известный… Разве что в перспективе. Перевалю тираж в сто тысяч — куплю сразу последний «пентиум», — пообещал Кравцов. — Хотя в принципе ни к чему. В игрушки я не играю, даже стандартного виндовского «минера» стер. Траектории баллистических ракет не рассчитываю. А для функций текстового процессора 386-го вполне хватает.
Он вставил штепсель в розетку, щелкнул клавишей. Не произошло ничего.
— Чёрт, растрясли все-таки, — встревожился Кравцов.
— Погоди, выключи. Я думаю, просто пробки вывинчены…
Паша вышел в соседнее помещение — крохотную кухоньку. Какая-нибудь излишне упитанная хозяйка вполне могла застрять там между тумбочкой с электроплиткой, холодильником и фанерным подобием буфета. Но Козырь, сухощавый и стройный, легко проскользнул в дальний конец помещения, к электрощиту и довернул две пробки. Холодильник тут же трудолюбиво заурчал.
— Включай, всё в порядке, — вернувшись в «бригадирскую», сказал Паша. Именно здесь, на столе, они собрали главное орудие труда Кравцова — поскольку выписывать наряды и заполнять табеля тому не предстояло. Размерами «бригадирская» напоминала купе спального вагона — даже откидная койка казалась позаимствованной из «Красной Стрелы». Была она одна — ибо любому начальству, пусть и самого невеликого ранга, надлежит выдерживать дистанцию между собой и подчиненными. Остальные спальные места располагались в третьем и последнем помещении, самом большом по площади, — но туда Кравцов заглянуть ещё не успел, озабоченный вопросом: как перенес дорогу компьютер? Конечно, все нужные тексты дублированы, но…
386-й загудел, на темном экране замелькали цифры.
— Ну вот, а ты боялся, — удовлетворенно сказал Пашка. — Я уж вёз, как музейный сервиз. Любимую тещу так бережно не вожу.
Наконец на экране появилась майкрософтовская картинка.
— Долго грузится, — констатировал Козырь. — Поменяй хоть «мамку»… Ну что, продолжим осмотр апартаментов?
Они продолжили. Третья комната тоже напоминала о железнодорожном вагоне — но о плацкартном. Впрочем, ничего удивительного, дело как раз происходило в строительном вагончике. Хоть катался он и не по рельсам, но специфика наличествовала.
Койки, числом шесть, располагались в спальне для работяг в два яруса и оказались гораздо жёстче бригадирской. Впрочем, имелось тут усовершенствование, для МПС никак не характерное, — две верхние койки были сняты со своих законных мест и помещены на самодельных подпорках между двумя нижними. В результате образовалось обширное ложе. Просто мечта эротомана.
— Кто же тут такой траходром отгрохал? — удивился Пашка. — Раньше не было… Не иначе как Валька Пинегин сексуальную революцию в Спасовке готовил, да не успел…
— Это который спился?
— Нет, который кирпич на макушку схлопотал, — помрачнел Пашка. — И зачем его на эти руины понесло ночью?
— Кстати, как он?
— Врачи говорят — жить будет. Скорее всего. Разве что заикаться станет да слюни пускать — опасаются, что кое-какие функции головного мозга нарушатся… Ладно, не будем о грустном. Продолжим.
И он продолжил экскурсию.
— Ну где холодильник и плитка, ты видел. Вон та дверца — бионужник на одно посадочное место. Постельное бельё под твоей койкой, четыре комплекта. Если не пойдёшь по стопам революционера-Пинегина, проблема визита в прачечную пока не встает. Вот тут — два масляных радиатора, на случай холодных ночей. Посуда — одноразовая, кстати, — в буфете на кухоньке, там же электрочайник. Телевизора, извини, нет.
— Я не смотрю телевизор. Разве что выпуск новостей раз в неделю.
— Тем проще. А то я уж подумывал — до встречи с тобой — прикупить антенну да приделать на крышу, и привезти какой-нибудь ящик — чтобы у сторожа от вечерней скуки рука к бутылке не тянулась… Но тебе, как я понимаю, скучать не придется. — Паша кивнул на компьютер.
— Не придётся, — подтвердил Кравцов. И понадеялся, что не солгал. За последние месяцы он не написал и пары страниц.
— Ну что тут еще тебе показать? Хозяйство несложное, сам во всём разберешься… Да, вот что… Смотри: этот лист внутренней обшивки сдвигается, под ним — пульт сигнализации. Тумблер вниз — включена, вверх — выключена. Не забывай, пожалуйста, уходя включать, а в течение минуты после прихода отключать.
— А красная клавиша зачем? — поинтересовался Кравцов, изучая незамысловатое устройство.
— Тревожная кнопка. Нажмёшь при чрезвычайной ситуации. Тогда не вохра с фабрики прибежит, а очень серьёзные люди приедут. Очень.
— Круче, чем в стройбате? Знаешь, какая у тех присказка, если дело до разборок доходит? Говорят: нас драться и стрелять не учили, мы сразу в землю закапываем…
— Ты же, помнится, не в стройбате служил? Но присказка к месту. Ты уж понапрасну кнопку не дави…
— Не буду, — пообещал Кравцов. Он не представлял себе обстоятельств, при которых ему потребуется тревожная кнопка. Тогда — не представлял.
Через пару минут они оказались на улице — Кравцов сам запер дверь, осваиваясь с незнакомыми замками.
Погода стояла отличная. Весна в этом году запоздала, начало и середина мая были холодными, но в конце месяца природа, казалось, решила вернуть все недоимки по ясным и солнечным дням. Окружающие деревья — огромные столетние липы, оставшиеся от едва ныне угадываемого графского парка, — стремительно оделись зеленью, спеша наверстать вынужденную задержку. Молодая, яркая трава в два-три дня вытянулась и скрыла старую, пожухлую. И вода в пруду — не успевшая еще зацвести и подернуться ряской — выглядела теперь как-то иначе, не рождая у стоящих на берегу чувство стылости … В общем, пейзаж разительно изменился по сравнению с тем, что увидел Кравцов неделю назад, заскочив сюда проездом с Пашей.
Красно-серая громада графских развалин тоже смотрелась не так мрачно, как тогда. Двухэтажное разрушенное здание приоделось в зеленый наряд, на нём кое-где росли маленькие деревца и кустики — цеплялись корнями за почву, нанесённую ветром за годы в щели карнизов, торчали из зияющих проёмов окон, в том числе и второго этажа, — очевидно, найдя пристанище на чудом уцелевших фрагментах перекрытий.
Кравцов окинул взглядом подопечную территорию и спросил:
— Всё-таки: что я здесь буду охранять? И — каким образом? От ограды, по-моему, меньше половины уцелело…
На памяти Кравцова это была не первая попытка восстановить разрушенный дворец (понятное дело, воспоминания его касались лишь тех лет детства и юности, когда ему случалось подолгу жить в Спасовке). Ограда из серых бетонных плит осталась от какой-то очередной несостоявшейся реставрации — и, будучи в течение двадцати лет сооружением совершенно бессмысленным, помаленьку приватизировалась жителями Спасовки и соседнего поселка Торпедо на свои личные надобности.
— Придёт время — и ограду подлатаем. А пока не завезли остальные материалы, объект, достойный охраны, тут один. Во-о-он, видишь, два штабеля?
Кравцов посмотрел — вдали громоздились положенные одна на другую бетонные плиты, на его взгляд мало отличавшиеся от своих собратьев, вертикально установленных в ограде.
— Это заготовлены перекрытия, — пояснил Козырь. — Обошлись они, между прочим, на порядок дороже обычных плит — нестандартные размеры, пришлось открывать спецзаказ на заводе ЖБИ… Со всеми вытекающими отсюда финансовыми последствиями. И если кому-нибудь тут придет в голову идея выкопать погреб с бетонной крышей, а выламывать плиту из ограды покажется хлопотно… Обидно будет. В общем, задача у тебя на настоящий момент простая — днём делай что хочешь: пиши, гуляй по окрестностям, езди в Питер… Но ночевать возвращайся сюда. Бдеть по ночам не стоит, такую махину без крана и грузовика не скоммуниздить, будут шуметь — проснешься наверняка. И нажмёшь красную кнопку. Вот и вся работа. За семь тысяч в месяц, по-моему, просто курорт. Дом творчества. Кстати, не забыть бы записать твои паспортные данные — в следующий раз привезу заполненный договор.
Кравцов удивился. Цифру «семь тысяч» он услышал впервые. Как-то не всплывала она в двух предыдущих разговорах.
Паша посмотрел на часы.
— Слушай, старик, с Порецким, здешним муниципальным советником, я уже поговорил — но в четырнадцать ноль-ноль у меня деловая встреча в Царском Селе, в городской администрации… То есть два часа мне абсолютно нечего делать — ехать в город, а потом возвращаться бессмысленно. Нет светлых мыслей, как провести время? Можем заехать в мою халупу… Но там, честно говоря, хоть шаром покати. Вот начнутся каникулы — жена пацанов сюда на июнь вывезет. В июле-то, наверное, к морю двинут.
— У меня есть другая идея, — сказал Кравцов. — Давай прокатимся по Спасовке — по всей — потихоньку, не спеша? Лет пятнадцать ведь не был… Заодно расскажешь, что и как сейчас со старыми знакомцами…
— Нет проблем. Но маленькая просьба — если кого из знакомых встретим, не называй меня при них Козырем, о'кей? По имени-отчеству не стоит, но здесь и для них я давно не Козырь.
Вот оно как, подумал Кравцов. Что-то меняется в мире и в Спасовке тоже… Козырем Пашу прозвали отнюдь не за любовь к азартным играм. «Козыри» — наследственное, семейное прозвище, уходящее корнями в далекие предвоенные годы и постепенно вытеснившее в обиходе фамилию (когда кто-нибудь из приезжих спрашивал, где дом Ермаковых, то односельчане долго с удивлением чесали в затылках, потом вспоминали: а-а-а, Козыри! — и показывали дорогу).
— Понимаешь, — объяснил Паша, — вот у твоего отца, к примеру, прозвище было Сверчок. Ты это знал? Вот то-то, что и не знал. Как он в город подался да начальником стал — большим, по здешним меркам, начальником — никому и в голову не приходило к нему обратиться, когда приезжал: «Эй, Сверчок!» — даже приятелям стародавним. Сергей Павлович — и только так. Тут свой этикет, деревенский…
Зачем он это так подробно объясняет? — подумал Кравцов. Мог бы просто попросить… Может, ощущает себя прежним Козырем, несмотря на все успехи в бизнесе? По нынешней неписаной табели о рангах Паша, пожалуй, перегнал Кравцова-отца, упорным трудом, без каких-либо интриг и протекций поднявшегося до поста начальника монтажного управления…
Они подошли к машине Паши — тёмно-тёмно-вишнёвому «саабу». Кравцов спросил полуутвердительно:
— Недавно у тебя этот красавец?
— Три недели. А что?
— Да смотришь на него, как на молодую жену в медовый месяц…
— Знаешь, я никогда не шиковал, любые излишки в дело вкладывал. Ох и тяжело деревенскому пареньку вверх ползти… Был бы твой отец жив — подтвердил бы. Я еще три года назад на «мерседесе» ездил — на трехсотом. Зверь-машина двадцатилетней давности. Салатного цвета, пару раз битый, в общем сплошная «Антилопа-Гну». Но движок мощный, приемистый, работал у меня как часы… И подвеска для наших дорог куда пригодней, чем у современных моделей. А потом пришлось пересесть на более авантажную. Особенно как с англичанами по этому проекту связался… — Паша кивнул на руины дворца. — Иначе со мной они и разговаривать бы не стали.
Кравцов снова заметил — по писательской своей привычке замечать всё — маленькую странность. Достаточно подробно (зачем?) расписав свою «Антилопу», Козырь ни словом не упомянул, на чем он ездил последующие три года — до покупки «сааба». Интересно, почему?
Тьфу, — мысленно сплюнул Кравцов. Ну ездил, ну не сказал… Ерунда какая в голову лезет. Вот что значит работать в жанре криминально-мистического триллера.
Но когда «сааб» выехал с полуогороженной территории бывшего дворца графини Самойловой и открылся прекрасный вид с Поповой горы на зеленеющую долину Славянки, Кравцов осознал и вторую странность: место действительно шикарное, зарплата тоже — если учесть почти полное отсутствие обязанностей. Почему же тут за несколько месяцев не удержались пятеро сторожей? Четверо банально и подозрительно быстро спились, пятый словил кирпич на голову… Ну ладно, несчастный случай можно отбросить, случайность есть случайность, — но первые четверо? Паша не похож на человека, принимающего на работу заведомых алкоголиков… Загадка.
Обстоятельства, которые привели на эту работу его, Кравцов предпочел в тот момент не вспоминать. Не хотел безнадежно портить настроение.
2
С Пашкой-Козырем они встретились тоже случайно, месяц назад.
Причём, что удивительно, — не в Спасовке и даже не в Питере, а в Москве, на Звездном бульваре. Вот уж случайность так случайность.
Пашка приехал в столицу по своим делам — проекту восстановления усадьбы «Графская Славянка» надлежало получить одобрение на федеральном уровне.
У Кравцова, честно говоря, особых дел не имелось. То есть, конечно, официально предлог для поездки существовал: зайти в издательство, где готовились к выпуску сразу три его книги — третья, четвертая и пятая. Последнюю он закончил полгода назад, раньше Кравцов писал очень быстро. Зайти, попробовать выцарапать хоть одну корректуру — дело практически нереальное для писателя, не живущего постоянно в Москве. По каким-то тайным законам книжного бизнеса (или только этого издательства) корректуры появлялись в редакции на считанные дни, автору давались без права вынести на срок и того меньший — их можно было лишь бегло, вполглаза просмотреть. Кроме того, стоило поговорить со штатными художниками, попенять на обложки первых двух, уже вышедших книг и высказать пожелания к оформлению следующих. Тоже достаточно бесплодное занятие. Никто и ничего специально рисовать для нераскрученного автора не станет, возьмут первую же хоть отдаленно подходящую картинку из слайдотеки — в лучшем случае. В худшем же обложка ничего общего с содержимым книги иметь не будет…
Короче говоря, Кравцов понимал, что бронтозавра издательских джунглей — «АСТРОН-ПРЕСС» — его визит никак не собьет с избранного пути работы с начинающими писателями. Всё будет идти — вернее ползти — своим чередом. Не в Америке живем, где Стивен Кинг издал свой первый роман — и проснулся знаменитым. Вполне можно было воздержаться от поездки.
Но Кравцов поехал — в глубине души надеясь что-то переломить в себе этим вояжем. Свернуть с рельсов, ведущих в никуда, в пустоту…
Поехал — и встретил Пашку-Козыря.
Оба спешили — но проговорили, стоя на улице, минут двадцать. Не наговорились, вопросов друг к другу за годы накопилось изрядно. Выяснив, что оба возвращаются сегодня, но разными поездами, Паша уговорил Кравцова сдать билет — а на его «Стреле» проблем со свободными местами не возникало.
Потом было эсвэшное купе, мягкий стук колес, много коньяка (пьянели оба медленно и туго). И много разговоров. Оказывается, Пашка читал книги Кравцова. Все — то есть обе. И все журнальные публикации. Зацепился как-то взглядом за знакомую фамилию на лотке, купил, — понравилось. Еще бы, подумал тогда Кравцов, ведь половина действия первого романа проходила в некоем поселке, как две капли воды напоминавшем родную Пашину Спасовку. И Козыря весьма интересовало: как же детского приятеля угораздило попасть в писатели? Очень просто, сказал Кравцов: окончил институт, работал в оборонном НИИ — зарплата маленькая, перспективы туманные; ездил в командировки на объект в Казахстан — там уговорили послужить по контракту, звание лейтенанта после военной кафедры у него имелось; просидел на «точке» четыре года, делал то же, что и на гражданке, но получал куда больше — за должность, за звание, пайковые, за пустынность и безводность, за повышенное излучение гигантского суперрадара, за что-то ещё… Козырь поинтересовался: а как это излучение на будущее потомство влияет? С потомством всё в порядке, сказал Кравцов, — двое, мальчик и девочка, вполне нормальные и здоровые… При этих словах он помрачнел, и Пашка это заметил. Там же, на службе, начал и писать, продолжил Кравцов, в основном от скуки; кроме пьянки да блядохода, развлечений никаких не было… Писалось медленно, тяжко, теперь смешно читать те опусы. Потом демобилизовался — тоска заела, с двух сторон соленое озеро, с двух других — колючая проволока, а за ней пустыня, и так год за годом. На гражданке попробовал себя в бизнесе, вроде получалось, но писать хотелось всё сильнее и сильнее… Пошел на литературные курсы к одному известному писателю… — Кравцов назвал фамилию Мэтра, и Пашка закивал: знаю, знаю… Через пару лет слепил из нескольких своих повестей забойный романчик, отправил в издательство — не «самотёком», понятно, кое-какие знакомства в тех кругах уже наработал, спасибо покойному Мэтру… Он умер? — удивился Козырь. Недавно вроде новая книжка вышла… Да, умер, — снова помрачнел Кравцов. А книжка — ерунда, Мэтр их строчил со скоростью швейной машинки, ещё года три выходить будут; или дольше — если наймут пару литературных негров под известное имя. Посмертные, мол, рукописи… В общем, роман Кравцова приняли, и всё завертелось.
Звучит как повесть со счастливым концом, сказал Пашка. Но что-то вид у тебя, дорогой друг, не счастливый. Даже наоборот. Словно за спиной у тебя что-то страшное, и оглядываться совсем не хочется…
Он, Козырь, всегда, с детских лет, отличался какой-то интуитивной проницательностью.
Кравцов медленно и сжато рассказал о Ларисе. О блондинке с синими глазами — её он не разлюбил за десять лет брака и именно ей посвящал свои книги. Она тоже любила Кравцова, а еще — машины, риск и скорость, и судьба ей благоволила… Но этой зимой Ларисе не повезло — в первый и последний раз. Одна огромная несправедливая компенсация за все былые удачи… И Кравцов остался вдовцом с двумя детьми. Дети сейчас у тёщи, и он оказался на положении субботнего папы, надеется, что ненадолго, — но пока что писать и приглядывать за двумя ребятишками одновременно не получается… Вот чуть подрастет старшая… Ладно хоть живут рядом, в трех остановках… А вообще он серьёзно подумывает о том, чтобы найти на лето место егеря — есть же в области пустующие кордоны — хочет вырваться из квартиры, где буквально всё напоминает о Ларисе. Плохо там отчего-то пишется… Да и зарплата егерская не помешает. В нашей стране профессиональный писатель может сносно прожить на гонорары не от изданий, а от переизданий, — а до этого Кравцову пока далеко…
Правдой это было отчасти. В городской его квартире писалось не просто плохо. Вообще никак.
Пашка задумался. Потом начал издалека: помнишь развалины в Спасовке? На горе, за Торпедовским прудом? Кравцов кивнул. Знаешь, что там было? Кравцов покачал головой. В детстве как-то не интересовался — графские развалины, и всё. Дети вообще не страдают любопытством к некоторым вещам. Хотя и обожают совать нос во все дыры — в том числе и в пресловутые руины, зачастую становившиеся в минувшие годы местом опасных игр их с Пашкой компании. Такой вот парадокс.
Козырь стал объяснять с гордостью человека, недавно приобщившегося к новым и несколько чуждым для себя знаниям — и торопящегося ими поделиться. Развалины, оказывается, — исторический памятник. Загородный особняк графини Самойловой, возведенный в 1831 году по проекту Александра Брюллова — брата известного живописца, того самого, что написал «Последний день Помпеи»…
Кравцов слушал с удивлением. По его воспоминаниям, интересом к истории и архитектуре Пашка не отличался.
Козырь продолжал: в войну дворец разрушили. Сам помнишь, что уцелело, — покореженные стены, ни одного целого перекрытия. А сейчас запущен проект по восстановлению «Графской Славянки» в виде туристического комплекса. С привлечением иностранного капитала. И раскручивает его с российской стороны не кто иной, как Павел Филиппович Ермаков. Проще говоря — Пашка-Козырь. И есть у куратора проекта интересное предложение к писателю Кравцову. Потому что на лесном кордоне — потаскав воды, да порубив дрова, да справив кучу других дел по хозяйству (это не считая прямых обязанностей) — время для писательства не больно-то выкроишь.
Вот так всё и началось.
3
В то же солнечное утро, когда Пашка-Козырь вводил Кравцова в служебные обязанности, сержант милиции Кеша Зиняков пребывал в настроении самом пакостном.
Его не радовал ясный день, встающий над северной столицей, раздражала толчея питерских улиц — особенно мерзкая после тихого провинциального Себежа, откуда Кеша прибыл три дня назад в составе сводного отряда псковской милиции.
Но особенно недовольство Зинякова вызывал покойный император Петр Первый. Того вообще многие не любили — как современники, так и их потомки: и казнимые стрельцы, и притесняемые раскольники, и обличающие тлетворное влияние Европы славянофилы, и чокнутый профессор Буровский, и даже буревестник контрреволюции — писатель Солженицын.
У Кеши претензия к Петру имелась одна, но глобальная. На хрена царь-реформатор заложил столицу тут, на невских болотах? Мог бы и в Москве поцарствовать. На худой конец, мог бы затеять дурацкую стройку лет на тридцать позже. Тогда Кеша уж точно не попал бы на идиотское трёхсотлетие, неизвестно для кого задуманное — скорее всего, для гостей из пресловутой Европы, в которую император пытался проникнуть методом вора-форточника…
До кульминации торжеств оставалась неделя.
Значит, ещё целую неделю четыре курируемых Кешей уличных торговца в Себеже будут выплачивать небольшую, но ежедневную дань непонятно кому, а то и попросту прикарманивать. И целую неделю осаду сердца красивой девушки с гордым именем Аэлита будет единолично вести Кешин лучший друг и злейший конкурент в амурных делах — сержант Вася Сиротин, капризом то ли судьбы, то ли начальства не угодивший в питерскую командировку.
Конечно, уличных торговцев и красивых девушек здесь тоже хватало. Но за первыми, обоснованно считал Кеша, уж кто-нибудь да надзирает. А на вторых Зиняков только посматривал издалека с провинциальной робостью…
В общем, он шёл по своей зоне ответственности — небольшой площади между Витебским вокзалом и метро «Пушкинская» — с чрезвычайно мрачным видом, меланхолично поигрывая дубинкой. Агрегат сей, кстати, был модернизирован Кешей собственноручно — во внутренней полости перекатывались и ударялись друг о друга два больших шарика от подшипника. При любом, даже самом слабом ударе дубинка имитировала приятный уху треск ломающихся рёбер…
Но в нынешней командировке применять «демократизатор» пока не пришлось. Чёрт их знает, этих столичных, кого тут можно метелить, кого нельзя. А от заведомых ханыг, в отношении которых сомнений не возникало, град Петра в преддверии юбилейных торжеств изрядно почистили.
Вдруг Кеша остановился и насторожился, как сеттер, почуявший дичь. Мимо него шел мужчина — чем-то подозрительный. Чем — Зиняков сразу и не понял.
Ему и его коллегам ежедневно напоминали о бдительности в отношении террористов, о том, какая лакомая для тех мишень съезжающиеся в Питер главы государств и правительств, — результатом накачки стали постоянные проверки документов и досмотры больших сумок у лиц кавказской национальности, а также у лиц прочих национальностей, имевших несчастье родиться жгучими брюнетами.
Но идущий по площади к вокзалу человек не был ни кавказцем, ни брюнетом. И багажа, способного вместить хоть десяток килограммов гексогена, с собой не имел.
Зонт! — внезапно понял Кеша. Зачем в этот погожий денек огромный старомодный зонт с длинной резной ручкой, торчащей над правым плечом мужика? Зонт, висящий за спиной на пересекающем грудь шнурке? И тут же Зиняков осознал вторую странность. Способствовала этому детская, ныне заброшенная, любовь к чтению.
В полузабытой книжке помогло разоблачить одного мужика то, как болталась у него винтовка, висящая на перекинутом через шею ремне. Слишком легковесно болталась. Винторез оказался муляжом, а тот мужик — каким-то оборотнем…
Сейчас ситуация повторялась с точностью до наоборот. Зонт должен был болтаться в такт ходьбе по куда большей амплитуде. И никак не должен был шнурок зонта так глубоко врезаться в плащ на плече мужика…
В ЗОНТЕ СПРЯТАНО НЕЧТО ТЯЖЁЛОЕ.
Снайпер, похолодел Зиняков. А за спиной — ствол от снайперки, под плащом — приклад и другие детали, бывают такие разборные системы, им говорили на информациях…
Кеша оглянулся. Никого из коллег рядом не виднелось. Пришлось действовать в одиночку. Он быстро догнал и обогнал подозрительного типа.
— Сержант Зиняков. Попрошу ваши документы.
К кобуре Кеша не стал тянуться. Стрелок из него аховый. Зато дубинкой Зиняков владел виртуозно. И приготовился пустить её в ход при любом опасном движении. Даже при первом намеке на такое движение. Врезать так, что мало не покажется.
— Паспорт на обмене, — сказал владелец зонта каким-то бесцветным голосом.
Был он высок ростом и худ. Лицо — тоже худое — обрамляли длинные пепельно-седые волосы, схваченные на лбу кожаным шнурком. Несмотря на седину, стариком предполагаемый снайпер не выглядел. Хотя его возраст определялся достаточно трудно. Да Кеша и не пытался, он внимательно следил за движениями типа, готовый отреагировать на любой угрожающий жест.
Ответ — «паспорт на обмене» — казался вполне правдоподобным. Обмен паспортов в разгаре. И все же, глядя в глаза мужику, Кеша шестым чувством понял: ошибки нет. Волк, матёрый и опасный… Нехорошие были глаза, как у готового к броску зверя.
— Тогда у вас должна иметься квитанция и любой другой удостоверяющий личность документ с фотографией, — стоял на своем Зиняков.
— Да, конечно… — сказал седоголовый так же тускло. Рука его медленно поползла за отворот плаща.
Кеша увидел, как глаза противника сузились хищным прищуром. И мгновенно понял — пора. Потом будет поздно. Лучше уж пострадать за неправомерное применение спецсредства, чем… Мысль осталось незаконченной.
Впоследствии, коротая время на больничной койке, Кеша не раз в деталях и по фазам вспоминал произошедшее — искал свою ошибку. И убеждался, что некоторых движений он тогда не увидел, слишком уж всё происходило быстро…
Он успел первым. Дубинка ударила со страшной силой — она должна была встретить на пути локоть левой руки мужика, и сломать руку, и заставить позабыть обо всём от болевого шока…
Руки на пути у дубинки отчего-то не оказалось.
Удар пришелся по ребрам. Вернее, примерно туда — но по чему-то твердому, не подавшемуся, как подается ломаемая кость.
Тут Кеша увидел чёрное и длинное, летящее к нему справа. Потом-то он понял, что это был зонт — надо понимать, нижним концом очень слабо прикрепленный к шнурку и выхваченный из-за плеча за рукоять.
Тогда Зиняков не успел понять ничего — лишь вскинул дубинку инстинктивным защитным жестом. Тонкий конец зонта ударился об нее слабо и почти невесомо, и зонт остановился — но нечто, укрытое доселе в нем и более короткое, продолжило движение — нечто, тускло и мгновенно блеснувшее у самого живота Кеши.
В ту же секунду мужик развернулся и побежал. Кеша — за ним, на мгновение машинально опустив глаза к животу.
Ах ты сука! — наискось новой формы тянулся бритвенно-тонкий разрез. Чуть кровь не пустил, гад! Ну бля…
Кеша наддал — но тут же сбавил обороты, остановленный резкой болью. Снова опустил глаза. И не сразу понял, что откуда-то взявшиеся розово-серые загогулины, свисающие с живота, — кишки. Его кишки. Кровь отчего-то не текла…
Через несколько минут врач «скорой», по счастью проезжавшей мимо, изумленно качал головой — длинный разрез, сделанный словно острым скальпелем, аккуратнейшим образом вскрыл брюшную полость и не зацепил ни одной кишки. Повезло.
Милиционеры — и псковские, и питерские — пытались организовать погоню по горячим следам. Но их сбивали с толку показания ничего не успевших понять свидетелей. Одни утверждали, что преступник нырнул в метро, вторые — что скрылся в недрах вокзала, третьи — что быстренько остановил тачку, катившую по Загородному проспекту, и уехал. Четвертые клялись и божились, что никуда он не уезжал, а нырнул в щель между двумя стоявшими в конце площади грузовыми фургонами и исчез из видимости (как выяснилось много позже, правы оказались именно эти последние). Столь же расходились описания внешности и одежды лиходея… Сам Кеша пребывая в состоянии шока и ничего вразумительного сообщить пока не мог…
Тем временем человек, превративший его в живое пособие по анатомии, быстрым шагом шел по безлюдным задворкам вокзала. По дороге избавился от плаща, запихав его в мусорный контейнер.
Туда же последовала черная нейлоновая ткань с торчащими из неё спицами. Предмет, чья рукоять изображала ручку зонта, лежал теперь в брезентовом чехле для удочек. Там лежал и второй предмет, покороче, который скрывался ранее под одеждой и спас своего владельца от перелома рёбер.
Камуфляжный полувоенный костюм, обнаружившийся под плащом, в сочетании с пресловутым чехлом придавал человеку вид мирного рыболова, направившегося на пригородный водоем. Длинные волосы были тщательно спрятаны под кепи, тоже камуфляжной расцветки.
Человек обошел платформы поездов дальнего следования и прямо по путям направился к тем, от которых отходили пригородные электрички. У толпившихся на перронах пассажиров его траектория никакого любопытства не вызвала — с той стороны появлялись многие «зайцы», желающие обойти установленные на вокзале турникеты.
«Заяц»-рыболов неторопливо вошел в первый вагон электрички, отправлявшейся через две минуты (его безнадежно отставшие потенциальные преследователи только-только приступили к опросу свидетелей).
Электропоезд следовал до станции Вырица. Человек с чехлом для удочек планировал сойти раньше — в Павловске или Антропшино. Точных и подробных планов человек строить не любил, полагаясь на удачные экспромты.
Такие, как сегодня.
Едва ли, впрочем, Кеша Зиняков и его коллеги считали последний экспромт особо удачным, но их мнение человека в камуфляжном костюме не интересовало.
4
За пятнадцать лет Спасовка изменилась — и сильно.
Раньше её пятьсот с лишним дворов тянулись двумя рядами вдоль шоссе, соединявшего бывшие пригородные императорские резиденции — Павловск и Гатчину. Такая — двухрядная и длинная, около трех верст — планировка Спасовки повелась со времен императрицы Елизаветы Петровны. И пятнадцать лет назад оставалась примерно той же.
Теперь всё стало иначе.
Поодаль от шоссе — там, где раньше задворки плавно переходили в совхозные поля — поднялись и выросли новые двух— и трехэтажные дома. С дороги они были прекрасно видны, возвышаясь над куда менее высокими деревянными жилищами коренных спасовцев. Впрочем, кое-где и те домишки сменились добротными кирпичными особнячками — без объяснений Пашки Кравцов мог делать выводы: как у кого повернулась жизнь за пятнадцать лет, перевернувших страну вообще и Спасовку в частности. Кое-кого жизнь явно била без всякой жалости. Потому что встречались избы сгоревшие, но так и не восстановленные. Покривившиеся, покосившиеся, — натуральные Пизанские башни, подпертые еловыми лесинами и только потому не падающие… По-разному складывалась жизнь у людей в постсоветское время.
— Новые русские подселяются? — кивнул Кравцов на колоритный, под замок стилизованный особнячок поодаль от дороги.
— Нет, — сказал Паша сухо и неприязненно. — Не новые русские. В основном старые цыгане…
— Хорошо живут «люди нездешние»… — удивился Кравцов.
— Да самые здешние, коренные… — поморщился Козырь. — Вырицкие цыгане сюда перебрались, с Александровки некоторые… А «нездешние» — это таджики-люли. Те действительно бедствуют. Стоял их табор года два назад не так далеко. Знаешь, перед Царским Селом, если от Питера электричкой ехать, — платформа «21-й километр»? Вот там и стояли, где вдоль железки два ряда тополей растут — полоса снегозащитная. Натянули между ними веревки, стенки навесили, крыши, — из выброшенной пленки парниковой, тряпья разного… Нищета страшная, дети почти все больные, грязь, антисанитария…
— И что потом? — заинтересовался Кравцов. — Вселили их куда-нибудь?
— Как же… Подъехали как-то ночью три джипа да микроавтобус с ребятами стрижеными, проорали в мегафон: «Съебывайте, пять минут на сборы!» Потом пальбу начали. Из помповушек. Сначала-то пластиковой картечью… Но у цыган — у молодых — тоже пара-другая стволов имелась… В общем, форменная битва народов при Лейпциге получилась.
— А милиция что?
— Присутствовала, а как же… Едва цыгане свои дедовские пушки вытащили — саданули менты по ним из табельного на поражение. В общем, откочевал тот табор в неизвестном направлении, вместе с ранеными и убитыми. Лишь веревки между тополей остались да пара тряпок забытых.
— Зачем всё это? И за что?
— Ну как же… Подворовывали по окрестностям, понятное дело. Пойдешь воровать, когда дети с голоду дохнут, куда денешься. А совсем неподалеку, на 21-м километре, поселок новорусский отгрохали — зачем им такие соседи. Ну и…
— А ты себя новороссом не считаешь? — спросил вдруг Кравцов.
— Какой же я «новый»? — искренне удивился Паша. — Здесь и отец мой, и деды, и прадеды жили — и когда-то вполне справными хозяевами были, едва от раскулачивания спаслись… Просто всё и всегда на круги своя возвращается, только и всего.
Кравцов в очередной раз удивился — теперь уже не так сильно. «Битва народов», «на круги своя»… Всё меняется, и Пашка-Козырь тоже.
5
— А это что? — спросил Кравцов. Они с Пашей почти закончили ностальгический вояж и возвращались обратно, к «Графской Славянке». Но когда полчаса назад ехали к дальнему концу Спасовки — водную гладь, сейчас привлекшую его внимание, Кравцов не заметил.
Пятнадцать лет назад небольшого, почти идеально круглого озера не было. В этом Кравцов не сомневался. Мальчишками они обследовали все до единого местные водоемы.
— Озеро-то? Кстати, это действительно интересно… Давай подъедем… — Паша свернул с шоссе на грунтовую дорожку — она и ей подобные, разделявшие подворья и уходившие в сторону полей, издавна именовались спасовцами «прогонами».
Озеро и вправду оказалось любопытным. Даже не столько само оно — достаточно заурядное, не более четырехсот метров в диаметре, разве что берега слишком ровные — ни бухточки, ни заливчика, ни зарослей камыша. Но больше привлекала внимание окружавшая озерцо почти по урезу воды сплошная ограда из подернутой ржавчиной металлической сетки. По верху ограды змеилась колючая проволока — тоже ржавая. Фортецию украшали многочисленные плакаты: «ЛОВИТЬ РЫБУ ЗАПРЕЩЕНО!», «КУПАТЬСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!», «ПОДХОДИТЬ К ВОДЕ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ!» И еще что-то, полустершимся мелким шрифтом, — про штрафы и прочие санкции.
— И что всё это значит? — спросил Кравцов, выйдя из «сааба».
— Природная аномалия, осложненная катаклизмом, — сказал Пашка, тоже выйдя из машины и закуривая. Кравцов отметил, что это первая сигарета почти за четыре часа, причем «суперлайтовая» — это у Козыря-то, в оные времена не выпускавшего из зубов то «Приму», то «Беломор»…
— И что у вас тут стряслось?
— Кастровый провал. Ухнуло в одночасье.
— Тут ведь вроде дом стоял какой-то…
— Дед Яков жил. Всё подворье затонуло. Кое-что, правда, всплыло — доски, бревна… Сам-то дед к тому времени умер, внук его все унаследовал, из городских. Да не долго владел. Ученые, кстати, говорят: для наших мест — уникальный случай. Якобы под кембрийскими глинами не может быть больших полостей — в теории. Наш водоемчик — на такой почве — единственный в Европе, между прочим. Вроде в Америке есть еще два похожих — и всё.
— Отчего же этот забор? Почему интуристы не роятся, фотоаппаратами не щелкают?
— Знаешь, дурное какое-то место. Неприятное. Да и случаи нехорошие были. Сначала ведь ученые понаехали, феномен изучать — и погибли из них четверо. Трое среди бела дня на резиновой лодке утонули. Четвертый — подводный спелеолог — нырнул с аквалангом и не вынырнул. Тут ведь якобы под нашим озерцом — подземное, куда большее. Вода туда-сюда перетекает через какую-то горловину, очень опасные водовороты случаются. Тех четверых так и не нашли, кстати…
После таких рассказов Кравцову и в самом деле озеро показалось зловещим. Не хотелось в нем купаться, ловить рыбу, даже просто подходить к воде, — и угроза штрафов была здесь ни при чем…
— Поехали отсюда, — сказал Паша. — Придет время — будут тут и туристы с видеокамерами, обещаю…
И они поехали.
— А вон моя халупа, — сказал Козырь через несколько минут. — Узнаешь?
Узнавалось родовое гнездо Ермаковых-Козырей действительно с трудом. Пашка не стал сносить родительский дом, используемый им ныне как загородная дача (отец и мать переехали в Гатчину, в купленную сыном трехкомнатную квартиру). Не стал возводить на его месте трехэтажную громадину. Но обложил со всех сторон белым кирпичом, разобрал ветхие дощатые сараюшки — вместо них появились аккуратные пристройки, тоже кирпичные. Под коньком крыши торчала спутниковая тарелка.
— Приглашаю в гости. Не сейчас, через недельку, как жена с отпрысками переедет…
— А про жену ты, между прочим, ничего мне не рассказывал… Она из здешних? Я её знал?
Козырь улыбнулся и ответил коротко:
— Наташка. Архипова.
— Наташка-а-а… — протянул Кравцов. — Она же всё с Игорем-Динамитом ходила. Думал, с ним и…
— Динамит погиб, — мрачно сказал Паша. — Тринадцать лет назад.
Первый Парень — I.
Динамит. Лето 1990 года
Летом девяностого года первым парнем на деревне был, конечно же, Динамит.
А это не совсем то, что первый парень в классе или первый парень в городском дворе.
Чтобы понять разницу, стоит самому пожить в деревне в нежном возрасте от десяти до семнадцати. Пусть даже в такой, как Спасовка: пятнадцать минут до Павловска на автобусе, оттуда двадцать минут на электричке — и пожалуйста, северная столица перед вами. Почти пригород, а не тонущая в грязи сельская глубинка Нечерноземья, что уж говорить.
К тому же Спасовка — по крайней мере официально — деревней не числилась. Да и Спасовкой, честно говоря, тоже. На картах и в официальных документах везде стояло «село Спасовское» [Отличие тут простое: в селе церковь есть, в деревне — нет. ]. Но в разговорах именовали попросту: Спасовкой и деревней.
Вроде живущие здесь и одевались точно как в городе, и в магазине лежали те же продукты, и до Невского проспекта добраться быстрее, чем с иной городской окраины, с какой-нибудь Сосновой Поляны, — но народ другой. Это не понаехавшие отовсюду в отдельные квартиры жильцы многоэтажек — здесь не просто все знают всех, здесь корни — отцы знали отцов, и деды знали дедов, и прадеды прадедов…
Стать первым парнем тут ой как нелегко, зато если уж если стал — то ты Первый Парень с большой буквы. Здесь не город, кишащий скороспелыми дутыми авторитетами; здесь мнения складываются годами, а живут десятилетиями…
Первым Динамит был по праву, и первым во всём.
Самые крепкие кулаки и самая отчаянная голова во всей Спасовке — это важно и это немало, без этого не станешь Первым Парнем.
Первым отчаянно вступить в драку, когда противников втрое больше. Первым сигануть в речку с высоченной «тарзанки». Первым среди сверстников затянуться сигаретой под восхищёнными взглядами. И первым, скопив всеми правдами и неправдами денег, купить подержанный мотоцикл и пронестись ревущей молнией по деревне (ровесники бледнеют от зависти, и верные двухколесные друзья-велосипеды вызывают у них теперь раздраженную неприязнь).
Но не единственно это делало Динамита Первым Парнем. У него был свод собственных правил, соответствующих его положению. И он не отступал от них никогда, чем бы это ни грозило: поркой ли, полученной от отца, застукавшего с сигаретой; жестокими ли побоями, когда противников оказывалось слишком много и вся сила и всё умение не могли помочь; бесконечными ли конфликтами с учителями, грозящими выдать вместо аттестата справку с ровным рядочком двоек и характеристику, способную напугать самое отпетое ПТУ…
Главных правил имелось немного: не лгать, выполняя любой ценой обещанное; не бояться никого и ничего; не отступать и всегда бить первым.
Библейские заповеди: не убий, не укради и т.д. сюда не входили. Жестоким Динамита назвать было трудно — чужая боль не доставляла никакого удовольствия. Можно сказать, что он жил по самурайскому кодексу бусидо, суровому к себе не менее, чем к окружающим.
Слава первого драчуна и первого сорвиголовы вышла за пределы Спасовки. Динамита знали и в окрестных поселках, иные только понаслышке; он любил со смехом рассказывать, как какие-то павловские парни в словесной разборке, предварявшей очередную баталию, ссылались ему на то, что знакомы «с самим Динамитом»…
И конечно, его девчонкой была Наташка.
Да и кому ещё гулять с такой красавицей под завистливыми взглядами не смеющих приблизиться соперников?
Конечно, Первому Парню.
Любой иной вариант стал бы насмешкой и издевательством над так щедро наградившей её природой. Да и Динамит внешне был Наташке вполне под стать: не слишком высокий, со складной, не убавить, не прибавить, фигурой, со спокойным и мужественным лицом — правда, зачастую украшенным синяками и ссадинами.
Девчонки, кладущие глаз на Динамита, завистливо поглядывали им вслед и шептались, что вся щедрость матери-природы к Наташке ушла на грудь и ножки, а так дура дурой, что он в ней нашел… Врали, безбожно и завистливо врали, обаяния хватало, и ума тоже — чтобы не афишировать тот факт, что нашёл не он, это она нашла и выбрала, подчиняясь древнему как мир женскому инстинкту — стремлению быть женщиной победителя …
Первым Парнем нелегко стать, но остаться им надолго ещё труднее.
Обычно карьеру Первого Парня обрывает служба в армии. Первый Парень и вузовское (или, хуже того, по состоянию здоровья) освобождение от службы — суть вещи несовместные.
Но по возвращении начинают выясняться непонятные вещи: у сверстников входит в цену не умение сбить противника на землю одним ударом, или с гордо поднятой головой послать на три буквы школьную учительницу, или единым духом, не поморщившись, опрокинуть стакан обжигающего горло «шила», или нырнуть с высоченного дерева в опасном месте у разрушенной плотины, — сейчас вчерашние друзья и соратники всё больше думают об образовании и о хорошей работе; нет, они ещё не забыли твоих недавних подвигов, но начинают вспоминать о них уже без восхищения, не глядя на тебя как на героя и полубога — с какой-то ноткой снисхождения, как о забавах ушедшего детства, и, покурив вместе и повспоминав былое, куда-то спешат по своим делам, в которых тебе не осталось места… А за звание Первого Парня уже бьются молодые, вчерашние сопляки, считавшие за честь сбегать для тебя в сельмаг за пачкой сигарет, а теперь — заматеревшие волчата с подросшими клыками…
И девчонки-подружки, повзрослевшие и кое-что уже понявшие в жизни, не мечтают сесть к тебе за спину на сиденье старой «Явы» (длинные волосы развеваются из-под потертого шлема, сквозь кожу куртки чувствуется прильнувшая к спине упругая девичья грудь — и даже не знаешь, что возбуждает больше: это ощущение или пьянящий азарт гонки по ночному шоссе) — как средство передвижения девчонок куда больше начали привлекать «мерседесы» или, на худой конец, «жигули» последней модели…
А мать, когда рассеивается сладкий дурман шумно отпразднованного возвращения из армии, всё чаще намекает, что неплохо бы устроиться на работу — и выясняется, что придется вставать к деревообрабатывающему станку на местной фабрике спортинвентаря, поднимаясь в шесть утра каждый божий день по мерзкому звону будильника, и вытачивать до одурения перекладины для шведских стенок и кии для бильярда — другой работы нет, а какая есть — не возьмут. Сам ведь, парень, выбирал профессию? — да кто же думал, что этим придется действительно заниматься, что это надолго, может навсегда, — просто тогда вконец осточертела школа и дуры-училки, а в ту путягу ходили старшие кореша, крутые парни (куда ж они подевались?), с которыми так клево оттягивался, закосив занятия — первый стакан, первая сигарета, первый мажущий помадой поцелуй с разбитной девчонкой, про которую говорят, что её — можно…
Где всё это? Ушло, исчезло, развеялось, хотя и много, очень много лет спустя поседелые дружки будут вспоминать: «Игорёха-то? Да-а, первый парень был на деревне…»
…Но в то лето Динамит ни о чем подобном не задумывался.
Он был в расцвете своих девятнадцати лет (осенью заканчивалась пэтэушная отсрочка от армии) и в зените своей славы — был, когда закадычный друг-приятель Пашка-Козырь произнес равнодушно, как бы между прочим, одну фразу.
Фраза изменила всё. И для самого Пашки, и для Динамита, и для многих других, — и не только на то лето, но и на долгие годы вперёд.
Динамит всего этого не знал и о большей части последовавших событий не узнал никогда.
Потому что жить ему оставалось меньше недели.
Глава 2
27 мая, вторник, ночь, утро, день
1
Он не знал, отчего проснулся — но не сам по себе, это точно. Была какая-то причина, какой-то внешний толчок, вырвавший его из сна без сновидений.
Кравцов открыл глаза и не понял: где он? что с ним?
Темнота вокруг казалась чужой, незнакомой. Не пробивалась сквозь шторы ставшая привычной за годы полоска света от уличного фонаря, не слышалось столь же привычное тиканье настенных часов. Вместо него доносилось слабое журчание.
Через секунду-другую Кравцов вспомнил всё — он спит в вагончике, в «Графской Славянке», первая ночь на новом месте… Но что-то всё равно было не так.
Он поднялся, подошел к двери — понадобилось для этого ровно два шага. И пока Кравцов их делал, чувство: всё не так! — усилилось.
Пошарил рукой справа от двери, потом слева, нащупал выключатель. Щелчок — темнота вокруг осталась прежней. Журчащие звуки стали громче. Кравцов щелкнул выключателем ещё два раза, на что-то надеясь, — с тем же результатом.
Отключено электричество. Странно, Пашка говорил: со светом в Спасовке, слава Чубайсу, проблемы крайне редки… И что тут, чёрт возьми, так журчит?
Он толкнул дверь, — и она, и стена, по которой перед этим шарил Кравцов, отчего-то показались неправильными. Шагнул в крохотный коридорчик. Босые ноги сразу угодили во что-то мокрое и холодное. Журчало теперь, казалось, над самым ухом.
Прошел ливень? И каким-то образом затекла вода? Ерунда, вагончик снят с шасси и стоит слишком высоко, никак дождевой воде сюда не попасть. Значит, что-то иное…
Он нагнулся, макнул пальцы в лужу под ногами, поднёс к лицу. Ничем особенным не пахло. Вроде вода… Ладно, сначала свет, потом всё остальное.
Должны же быть тут где-то свечи, но искать их ощупью, не зная, где лежат, — не вариант. Фонаря нет. Зажигалка? Пожалуй, больше ничего не остаётся…
Он дернулся было обратно, взять зажигалку, — и остановился, вспомнив. Аварийное освещение! Пашка говорил — питается от того же аккумулятора, что и сигнализация.
Кравцов приподнял лист обшивки, дернул тумблер на пульте. Свет загорелся — точнее, едва затеплился. Две крохотные лампочки — в коридорчике и в бригадирской — превратили непроглядную тьму в мутный сумрак.
Читать при этом свете было бы невозможно, но источник журчания Кравцов разглядел. И оторопел.
Из-за двери лилась вода! Не под дверь — отовсюду! Проникала через почти незаметные щели у косяков, у притолоки и сбегала вниз, пополняя растущую под ногами лужу. Очень быстро растущую. Сквозь скважину замка била — именно била, не сочилась, не капала — настоящая струйка, напоминая странную пародию на известный фонтан «Писающий мальчик». Падая в лужу, струя издавала то самое, услышанное Кравцовым, журчание…
Что за чертовщина?! Наводнение?! На холме?!
Он машинально опустил глаза, чтобы оценить скорость подъема воды — и понял, что за неправильность встревожила его чуть раньше, ещё в темноте. Пол стал не горизонтальным! Наклон казался невелик, градусов десять, самое большее. Но вся вода собиралась у дальней от его ложа стены. Вот почему стена, отклонившаяся от вертикали, показалась даже на ощупь какой-то не такой…
Кравцов бросился обратно в бригадирскую, отдёрнул занавески, — уже догадываясь, что увидит. Сквозь щёлки окна тоже сочилось — ручейки сбегали по полу к порожку, образовав на линолеуме другую лужу, небольшую. А за стеклом… За стеклом виднелось лицо — бледное, искаженное — лишь через несколько секунд Кравцов узнал собственное отражение.
Он прижался к окну, прикрываясь ладонями от света лампочки-лилипутки — и увидел.
Увидел что-то вроде густого коричневатого тумана — частицы его двигались в хаотичном танце, изредка среди них попадались какие-то более крупные соринки…
ЗА ОКНОМ БЫЛА ВОДА. МУТНАЯ ВОДА.
Кастровый провал, — понял Кравцов внезапно. Ещё один кастровый провал. Воды подземного озера в другом месте подмыли свод громадного резервуара — и на дне просевшей воронки оказались и графские руины, и липы старого парка, и эксклюзивные Пашины плиты…
И он, Кравцов.
Внезапно стало трудно дышать. Воздуха не хватало. Он пытался широко раскрытым ртом ухватить исчезающий кислород… Клаустрофобия — понял Кравцов, такое с ним случилось один раз в жизни, в третьем классе, когда застрял между этажами лифт — освещённый точно такой же еле живой лампочкой. Забытый детский ужас выполз из дальних закоулков памяти.
Мысли метались: конец… стеклопакеты пока выдержат… и воздух может остаться, скопится под потолком… и что — медленная смерть от удушья… спасатели?.. да какие тут, к чертям, спасатели… разве что «тревожная кнопка»?… но пройдёт ли сигнал сквозь толщу воды?…
За стеклом, на которое он продолжал оцепенело смотреть, почудилось какое-то движение. Кравцов вгляделся. Темный силуэт медленно выплывал из коричневого тумана — и оказался рыбиной, здоровой, толстобрюхой, карасем или карпом… Торпедовский пруд тоже затянуло, понял Кравцов. Рыбина почти уткнулась мордой в стекло, жаберные крышки медленно приоткрывались и закрывались. Неморгающий глаз смотрел тупо и равнодушно. Потом рыба сделала неуловимое движение хвостом и исчезла.
Кравцов провел рукой по лицу, стирая холодный пот. Он понял.
ЭТО СОН. ПРОСТО СОН.
Надо проснуться — и всё. Крепко закрыв глаза, он сказал вслух: «Просыпаюсь!» — и снова открыл их.
Не изменилось ничего. Так же — или сильнее? — журчала вода. Так же клубился за окном коричневый туман.
Кравцов поднес левую руку ко рту и сильно стиснул мякоть ладони зубами. Боль пришла, настоящая, резкая, — но кошмар не развеялся.
Зато утихла паника и вернулась способность спокойно и трезво мыслить.
Не бывает такого, сказал себя Кравцов. Не потому, что не бывает никогда — в жизни всякое случается, — а потому, что противоречит элементарным физическим законам. Вагончик деревянный, лишь снаружи обшит кровельным железом. Плавучесть у него наверняка положительная. На временный фундамент он поставлен краном. Если закон Архимеда до сих пор действует, то при подобном катаклизме временное жилище Кравцова просто обязано было всплыть. Всплыть и покачиваться сейчас на поверхности возникшего водоема. Другое дело, если имелась бы жёсткая связь, скажем, с вбитыми в землю сваями — но чего нет, того нет.
Понимание абсурдности и невозможности происходящего ничего в нем, происходящем, не изменило. Вода продолжала прибывать. Тусклый свет мигнул — но загорелся снова. Как показалось Кравцову — ещё более тускло.
Задыхаться или тонуть не хотелось. Даже во сне.
Мы часто завидуем легкой смерти умерших во сне, подумал Кравцов. Говорим: счастливый, не мучился, заснул — и не проснулся. Возможно, это ошибка. Кто знает, что за кошмарные вещи творились с теми уснувшими в мире их сновидений и почему они на самом деле не проснулись…
К тому же всегда существовала крохотная вероятность просчета. Он мог что-то не учесть — что-то очень маловероятное. Например, полуметровый слой свинца под полом — говорят, именно такой вагон-неваляшку построили для императорской семьи после крушения на станции Борки.
Надо выбираться, понял Кравцов. Сон это или дикая явь, — надо выбираться. Но как?
Выход оставался один. Набрать побольше воздуха, распахнуть дверь, подождать, пока вода заполнит вагончик и встречный поток ослабеет — и плыть к поверхности.
Для сна — вполне реальный способ. Наяву — если и не зацепишься за что-то, выплывая, и не захлебнёшься, — то кессонная болезнь при мало-мальски приличной глубине обеспечена. Но выбирать не из чего.
Он отодвинул засов, глубоко подышал, вентилируя легкие, насыщая кровь кислородом. Набрал полную грудь воздуха — и толкнул дверь. Она не дрогнула. Навалился плечом — тот же эффект. Вода под ногами дошла до щиколоток…
Всё правильно. Наружное давление слишком сильно. Кошмарный сон оставался логичным. И неправдоподобно — для сна — точным в деталях.
Значит, окно. Достаточно стеклу чуть треснуть — и давление довершит всё само. Кравцов вернулся в бригадирскую. Поискал взглядом, чем шарахнуть по стеклу. Ничего подходящего… Ладно, во сне сойдёт и кулак.
Он помедлил, в последний раз пытаясь проснуться без занятий подводным плаванием.
Потом обмотал кулак полотенцем — и с размаху ударил…
…Теперь он понял сразу, отчего проснулся — от резкой боли в правой кисти.
Вспоминать: где он? что с ним? — не пришлось, кошмарный сон стоял перед глазами. По всему судя, только что — ещё не проснувшись — Кравцов от души саданул кулаком по стенке…
Было темно. Остатки сна рассеивались, становились воспоминанием, но какая-то деталь кошмара упорно продолжала оставаться здесь…
Журчание!!!
Кравцов застонал. Опять??!! Всё по кругу??!!
Вскочил, бросился к двери, снова стал искать выключатель и снова поначалу не с той стороны — дежа-вю! — нашёл, щёлкнул клавишей…
Свет загорелся. Нормальный, достаточно яркий свет круглого плафона под потолком. Но журчание никуда не исчезло.
Кравцов опасливо выглянул в коридор. Лужи не было. Замочная скважина не изображала «Писающего мальчика». Журчание, похоже, доносилось из кухоньки.
Он прошел туда, включил свет. Из крана текла тоненькая струйка — чуть отошла прокладка, не иначе. Кравцов туго завернул его — струйка исчезла. Воду следовало экономить — водопровода тут не имелось, на стене висел двухсотлитровый плоский бак из нержавейки.
Он глянул на часы — половина третьего. Спать расхотелось совершенно. Он прошел в дальнюю комнату, присел на край «траходрома», закурил. И подумал, что если вдруг подобные — до жути похожие на действительность — сны будут здесь повторяться, то семь тысяч при почти полном отсутствии обязанностей не покажутся таким уж подарком… И реальных выходов останется два. Либо выпивать на сон грядущий бутылку водки, страхуясь от сновидений. Либо спать днем — где-то в ином месте. А ночью сторожить, бодрствуя. От скуки можно будет чем-нибудь заняться. Пойти полюбоваться луной на графских развалинах, например. Только стоит надеть на голову строительную каску, памятуя о печальной судьбе Вали Пинегина.
Остановитесь, товарищ писатель, — оборвал он сам себя. Уймите писательское воображение. Хватит выстраивать сюжет для нового триллера из случайного сна и никак с ним не связанной текучки среди сторожей…
Боль в отбитом правом кулаке помаленьку слабела, и Кравцов почувствовал то, что она, боль, раньше не позволяла заметить — что и с левой кистью не совсем всё в порядке. Он взглянул на ладонь.
На мякоти виднелась дуга из красных вмятинок.
След его зубов.
2
Уснуть он смог лишь засветло. И проспал почти до полудня — без каких-либо сновидений.
Разбудило пиликанье мобильника. Звонила Танюшка.
— Папка, привет! Ну как ты там на новом месте?
— Нормально, — ответил Кравцов заспанным голосом. Не рассказывать же дочери о ночном кошмаре, в самом деле.
Танюшка тараторила дальше, похоже, не услышав его ответ:
— Слушай, папка, у меня к тебе дело на миллион рублей!
— Куда подойти за деньгами? — спросил Кравцов, окончательно проснувшись.
— У-у-у… — После секундного раздумья дочь не стала реагировать на шутку. — В общем, мне нужна сказка.
— Название и автора помнишь? Или народная?
— Да нет же! Мне надо написать сказку! Последнее задание по литературе перед каникулами. Поможешь?
— Так помочь или написать за тебя?
— Ну папусик… Ты же всё понимаешь… У меня экзамены на носу, а тебе это — раз плюнуть. Ты ведь у нас писатель…
В голосе её определенно появились льстивые нотки. Раз плюнуть… Недавно, действительно, так и было. Ладно, уж на уровне пятого класса писатель Кравцов даже в нынешнем своем состоянии что-нибудь из себя вымучит.
— На какую тему? — спросил он.
— Сказка о предмете. О любом. Какой первым на глаза попадется. Но чур небольшую — на пару страниц. А то ж я тебя знаю — войдешь во вкус да как размахнёшься…
— Послезавтра я буду в городе. Если успею сочинить — занесу. Устраивает?
— Вполне. Папусик, ты прелесть! Ну всё, я побежала, большая перемена заканчивается. Чао!
В трубке запищали короткие гудки.
Он встал, оделся, широко раздёрнул занавески. Окно выходило прямо на графские развалины. Провалы окон словно смотрели заинтересованно: что за новый человечек появился и копошится тут? Причём напоминало это взгляд не глаз, но пустых глазниц черепа. В принципе дворец и был сейчас скелетом — с которого содрали плоть безжалостные люди. Кравцову стало неуютно — и он задёрнул занавески. Неприятное всё-таки здание. Хотя в детстве вроде так не казалось…
Если предположить, думал Кравцов, что у зданий, особенно у старинных, есть какое-то подобие души — некий совокупный отпечаток мыслей и чувств строителей и обитателей, то у этого разбитого и изувеченного дворца душа маньяка-убийцы.
Редкий год он не мстил изуродовавшим его людям, не разбирая правого и виноватого. В основном гибла молодежь — спасовские подростки и молодые парни; так уж они устроены, что бурно растущий организм требует адреналина, толкая, особенно на глазах у сверстников, на самые рискованные подвиги, порой просто глупые, порой даже криминальные…
А залезть, невзирая на все запрещающие таблички, по отвесной стене, цепляясь за неглубокие выбоины и едва заметные выступы, да ещё намалевать краской, крупными буквами в самом недоступном месте, своё имя (кто постарше — писали имена любимых девушек) — это был поступок, позволяющий долго ходить с высоко поднятой головой. Если, конечно, всё заканчивалось благополучно.
Чаще всего такие шалости сходили с рук, но порой торчащий из стены обломок перекрытия на неоднократно пройденном маршруте вдруг обрушивался под ногой очередного скалолаза… И мало кто из неудачников отделывался легкими травмами от падения на груды битого кирпича.
Иные из этих трагедий были очень странными.
Например, на памяти Кравцова погиб парень — не из их компании, лет на пять старше. Сорвался на глазах у сверстников, пытаясь освоить новый маршрут — на доступных участках стен чистых мест для автографов почти не осталось. Упал, ударился затылком, умер через полчаса, не приходя в сознание.
Немедленно начались строгие беседы с пацанами, требования клятв не приближаться к проклятым развалинам, очередные обещания обнести наконец забором зловещее место (бетонная ограда тогда еще не стояла). Участковый несколько месяцев, проходя мимо, заглядывал к руинам и гонял даже ребятню, мирно игравшую поодаль от дворца…
Но ровно через год, день в день, младшего брата погибшего (было их два сына-погодка у матери-одиночки) нашли случайно на том же месте — полез на ту самую стену, в одиночку, без свидетелей… А ведь до того целый год и близко к развалинам не подходил, даже разговаривать о них не хотел. Младшего до больницы довезти успели, там он ночью и умер…
Изредка жертвами становились игравшие внизу, среди разбитых стен, ребятишки, и приезжие любители полазать в развалинах. Дворец различия между своими и чужими не делал, потемневшие кирпичи падали сверху непредсказуемо, но регулярно.
Вот и в этом году пострадал незнакомый Кравцову Валентин Пинегин. Точно ли незнакомый? Среди спасовских жителей такая фамилия не припоминалась, но было чувство, что где-то и когда-то Кравцов её уже слышал…
…Поздний завтрак совсем истощил скудный запас продуктов. Собираясь сюда, перегружать себя провиантом Кравцов не стал, рассудив, что прошли времена, когда в единственном на всю Спасовку сельмаге имелись в продаже лишь два сорта крупы да возвышались затейливыми пирамидами баночки с салатом из морской капусты, а рекламный плакатик повествовал о великой её пользе.
Предстоял визит в магазин. Кравцов собрался, взял деньги, запер дверь, не забыв включить сигнализацию. Спустился с лесенки-крылечка — и на этом его путешествие застопорилось.
Потому что неподалеку стояла девушка в белом платье. И судя по всему, ждала именно его.
Наверное, поклонница, подумал Кравцов скептически. Простояла, бедная, всё утро, ожидая своего кумира. А тот позорно продрых до полудня. Ой, как стыдно…
На самом-то деле на улицах его, конечно, не узнавали и автографов не спрашивали, — обе книги вышли без портрета автора. Давней, из юных лет, знакомой гостья тоже быть не могла — слишком молода. Оставался один вариант — увидела Кравцова вчера во время его автопрогулки по Спасовке — и влюбилась с первого взгляда. И теперь мается и стесняется, не зная как подойти. Ну и бог с ней, Кравцов облегчать ей задачу не собирался.
Равнодушно скользнув по девушке взглядом, он двинулся мимо.
И тут же выяснилось, что Кравцов ошибся в гостье. Робостью и стеснительностью та не страдала.
— Леонид Сергеевич! — позвала она уверенным голосом.
Он обернулся, посмотрел на неё внимательно.
Девушка была молода и красива — лет девятнадцать, много двадцать, золотистые волосы, синие глаза, точеная фигура…
Но Кравцову вовсе не от этого показалось вдруг, что из мира исчез весь воздух — абсолютно весь, до последней молекулы. И не от этого захотелось крикнуть ей: тебя нет! нет!!! сгинь! развейся! Он не крикнул ничего, бесполезно кричать в безвоздушном пространстве…
Девушка что-то говорила — губы беззвучно шевелились. Он попытался ответить — и ничего не получилось, но, наверное, девушка умела читать по губам, потому что добавила что-то ещё — так же беззвучно. Затем она улыбнулась.
Кравцов понял, что сходит с ума. И обязательно сойдёт, если только раньше не задохнется.
А еще он понял, что отнюдь не проснулся, когда в своём кошмаре ударил кулаком в окно погребенного под толщей воды вагончика. Всё последовавшее — и звонок Танюшки, и завтрак, и поход в магазин — было всего лишь сновидением.
Кошмар продолжался.
3
Впервые это случилось два года назад.
В своём первом опубликованном рассказе Кравцов изобразил реально существовавшего человека, к которому, так уж получилось, испытывал более чем неприязненные чувства. Фамилию не упоминал, ни настоящую, ни чуть измененную; внешность в подробностях тоже не описывал.
Просто в один из начальных моментов работы понял, что некий, до тех пор безликий, персонаж — не вызывающий симпатии и обречённый в финале погибнуть — тот самый человек. И продолжил писать, уже зримо представляя знакомое лицо и фигуру, подставляя знакомые поведенческие реакции в рожденные своей фантазией повороты сюжета…
Персонаж, как планировалось, погиб. От удара ножом в горло — Кравцов предпочитал круто замешанные сюжеты. Рассказ долго валялся без дела, а потом его принял один «толстый» журнал и напечатал в первом номере следующего года.
Номер ещё готовился к печати, когда Кравцов, обзванивая и поздравляя в предновогодний вечер друзей и знакомых, услышал дошедшую до него с большим опозданием весть: человек, послуживший прототипом убитому в рассказе, умер. Умер в тридцать восемь лет. Умер от рака гортани.
Кравцов отчего-то не спросил: оперировали его перед смертью? Наверное, побоялся узнать, что оперировали, что отточенная сталь коснулась именно горла, что попадание оказалось стопроцентно точным. Вместо этого выдавил из себя: когда? Минувшим летом, в июне, ответили ему. Июнь ни о чём Кравцову не сказал. Рассказ к тому времени был уже полгода как написан, но, кроме двух-трёх человек, его никто не читал, даже в журнал Кравцов отправил рукопись позже. И чёрт дернул его спросить: когда обнаружилась болезнь? Собеседник, так уж получилось, помнил это с точностью до дня. И назвал дату, когда участкового врача посетили первые подозрения. Потом он говорил что-то о направлении на исследование и о его результатах… — Кравцов не слышал ничего. Торопливо скомкал разговор, торопливо загрузил компьютер, открыл нужный файл… И долго смотрел в экран невидящим взглядом. Дата под тем самым рассказом разнилась с только что названной ему на ОДИН ДЕНЬ.
Первые признаки рака обнаружились через сутки после того, как Кравцов поставил финальную точку.
Это могло быть совпадением. Это, чёрт возьми, и было совпадением! — как уверил он себя позднее. Но, как выяснилось, это стало не последним совпадением…
Два последовавших, впрочем, чересчур роковыми и кровавыми не показались. Просто Кравцов описал два события, достаточно случайных, — которые и произошли спустя какое-то время. Мелочи. Но в сочетании с первым фактом — заставившие задуматься мелочи…
Хотелось с кем-то поделиться. Посоветоваться. Но с кем? Жена, рационалистка до мозга костей, вполне была способна натолкнуться на десяток идущих подряд невозможных совпадений — и легко объяснить каждое из них случайностью. Прочие материалисты-рационалисты тоже помочь не могли. К гражданам же, всерьёз подвинутым на всевозможных парапсихологических теориях, Кравцов относился с легкой брезгливостью. Он сам использовал мистику и бесовщину в своих триллерах, — но как элемент игры, не принимая всерьез.
Единственным человеком, с которым Кравцов мог бы (и хотел) посоветоваться, был сибирский писатель Сотников. Дело в том, что в своих книгах этот известный фантаст тоже порой угадывал. В частности, описал смерть в авиакатастрофе знаменитого на всю страну политического деятеля — за три года до реальной катастрофы и смерти.
Но ехать в далекий Иркутск не хотелось (да и как объяснить с порога такую цель приезда?), телефон отпадал по тем же причинам…
Проблема разрешилась легко. Сотников приехал сам. Не на время — совсем переехал в Питер. Так уж совпало… И к тому времени, когда его шапочное, в литературной тусовке завязавшееся знакомство с Кравцовым перешло в чуть более близкое, — у того возникла новая проблема.
…Сотников тоже оказался материалистом и скептиком. Объяснял всё просто: совпадения. Да, выдернутые из миллионов исписанных страниц и миллионов произошедших событий, — ошарашивают. Но если сравнить с. числом никак не сбывшихся строк… Хотя допускал: талантливые писатели могут лучше прочих граждан чувствовать тончайшие нюансы настоящего и гораздо удачнее — скорее всего, подсознательно — экстраполировать будущее. Неуверенное предположение Кравцова, что написанное слово может будущее творить, отмел с порога. И все-таки что-то он недоговаривал… Потому что Кравцов заметил: в последних книгах Сотникова практически перестали гибнуть главные герои. Да и вообще смертность среди персонажей уменьшилась в сравнении с прежними романами. В разы уменьшилась. На порядки… Тогда он спросил о конкретном: что делать с очередным опусом? Застрял в нем, как топор в сучковатом полене. Разладилось что-то в голове… Вымучиваю страницы, выдавливаю… Да ещё проблема обнаружилась — в детском лагере, послужившем прообразом для места действия, неприятность случилась: что-то обрушилось, кое-кто из детей пострадал… А у меня в финале там рушится и горит всё … И гибнут дети. Стоит ли дописывать? Материалист и скептик Сотников был краток: лучше отложи. У меня тоже много… отложенного. Опять Кравцову показалось — что-то осталось недосказанным.
Он отложил. И в тот же вечер взялся за другой роман. Тут же выяснилось — писательская машинка у него в голове вовсе не разладилась. Строки, абзацы, страницы шли легко — единственным ограничением стала собственная скорость печатания… Работал, как учил в свое время Мэтр, — до упора, до упаду… Выходило почти по авторскому листу в сутки… Кравцов радовался. Дурак…
Главным персонажем стала женщина. Вернее, беспощадно-красивое НЕЧТО, принявшее женский облик. Женщина-Воин, Ночная Лучница, посланная побеждать, — любой ценой. Не знающая жалости к себе и другим. И в финале платящая жизнью за шанс победить… Погибающая.
Она поначалу виделась Кравцову похожей на Ларису… Так, как бывает похожа младшая сестра или давняя фотография. Кравцов видел её четко и ясно, в малейших деталях… Но постепенно облик героини менялся — и перед мысленным взором вставало другое лицо, другая фигура, другая пластика движений — хотя большое сходство с Ларисой оставалось.
Он отстучал объемистый роман запоем, за двадцать дней. Ночная Лучница погибла, так и не победив… Через три дня погибла Лариса.
С тех пор писатель Кравцов написал — выдавил, вымучил — две или три страницы. Не от тоски, не от грусти потери, — наоборот, считал работу лучшим лекарством от безнадёги. Очень хотел писать — и не мог. Не видел того, о чем собирался поведать миру. Перед внутренним взором стояла искореженная «нива», как кровавые мальчики Бориса Годунова…
Писать по-другому — не видя — он не умел.
4
Теперь он стоял перед собственным персонажем. Смотрел на лицо, которое представлял до мельчайших черточек в те странные и шальные три недели. И хотел крикнуть:
ТЕБЯ НЕТ! НЕТ!! НЕТ!!!
Не крикнул.
Наверное, в душе его уживались две ипостаси — мистик и скептик, иначе не смог бы Кравцов на полном серьёзе и даже вполне правдоподобно описывать похождения восставших мертвецов и оборотней. И пожалуй, скептик был все же главнее. Сейчас он отодвинул коллегу в сторону и призвал, по примеру Сотникова, на помощь материализм, рационализм и парочку других «-измов», — помогло, и достаточно быстро. Рассуждал скептик примерно так: можно, конечно, предположить, что перед нами стоит плод авторской фантазии, неизвестно как материализовавшийся… Можно. Но почему бы, в порядке бреда, не допустить другую версию: Кравцов просто видел девушку когда-то раньше. Видел не мысленным писательским взором — обычно, глазами. Запомнившийся образ отложился где-то в дальнем-дальнем уголке — будто и нет его. А в нужный момент — когда Кравцов пускал в ход все ресурсы и неприкосновенные запасы мозга, проводя по двадцать часов в сутки над клавиатурой, — этот образ пошел в дело.
Браво, товарищ писатель. Делаете успехи. Сотников может вами гордиться.
Этот внутренний монолог промелькнул у него быстро, за считанные секунды, — к тому времени, когда наваждение ослабело, девушка успела сказать совсем немного. Кравцов начал слышать её на полуслове, словно забывчивый звукорежиссер в студии хлопнул себя по лбу и торопливо включил микрофон, стоящий перед диктором.
— …подарил по двадцать экземпляров здешней библиотеке. Так что вы теперь в Спасовке писатель, многим известный.
Это она про Пашу, догадался Кравцов. Ну спасибо старому дружку, удружил, — появилась его стараниями первая поклонница. Похоже, нездешняя, — иначе сказала бы «нашей библиотеке»… Но общение с ней всё равно что-то не вдохновляет — слишком уж похожа на Ларису и на ту, другую…
Он натянуто улыбнулся, ничего не ответив. Девушку его молчание не смутило.
— Скажите, пожалуйста, — сказала она, — у вас в «Битве Зверя» Заруцкий, он же Азраэль, — ангел Света или всё-таки Тьмы? Там, в конце можно понять и так и этак…
— Так оно и задумано, — снова улыбнулся Кравцов, уже вполне искренне. И стал объяснять, что и как у него задумано…
Чего бы ни хотела девушка от Кравцова, подход она выбрала безошибочный. Хочешь свести более близкое знакомство с ребенком — спроси о его любимой игрушке. С женщиной — спроси о её ребенке. Писателя, особенно начинающего или вконец исписавшегося, надежнее всего спрашивать о его книгах.
Короче говоря, вскоре обнаружилось, что Кравцов идет рядом с девушкой — но отнюдь не к магазину, а в противоположную сторону — по дорожке, ведущей к Спасовской церкви. И с большим жаром продолжает начатые объяснения…
Потом разговор перешел — Кравцова удивило, с какой лёгкостью и плавностью — на более общие литературные темы. С ней вообще всё получалось на удивление легко — не с литературой, с девушкой… С литературой у Кравцова в последнее время отношения складывались непростые.
Когда сквозь зелень лиственниц показалось жёлтое здание церкви, Кравцов понял: пора знакомиться. Знать, судьба такая. Спорить с судьбой он давно отучился.
— Не стоит говорить мне «вы», — сказала девушка, как будто прочитав его мысли. — Меня зовут Аделина, только не надо называть меня Линой, не люблю это имя. Лучше просто Ада.
В этот момент та часть натуры Кравцова, что искала связи и закономерности в любых случайностях, если было их больше одной, — эта его часть просто-таки остолбенела и застыла на месте. Имя девушки почти полностью совпадало с именем той, рождённой его писательской фантазией… Второе «я» — Кравцов-скептик — толкнул незримого коллегу локтем в бок: что, мол, челюсть-то отвесил? Если ты её уже видел — и забыл, то с тем же успехом мог услышать её имя, достаточно редкое, — и тоже забыть. А потом использовал в романе. Только и всего.
Короткая и невидимая миру схватка закончилась решительной победой Кравцова-скептика. И на слова девушки ответил именно он:
— Согласен, Ада. Но тогда ответная просьба: и вы зовите меня на «ты» и по фамилии, Кравцовым.
Он говорил и сам удивлялся себе — обычно переход на «ты» занимал у него куда большее время. Даже с молодыми симпатичными девушками.
— Вы тоже не любите… — начала было Ада, но быстро перестроилась: — Ты тоже не любишь своё имя?
— Полное — Леонид — ещё ничего, — вздохнул Кравцов. — Так ведь все тут же начинают сокращать: Лёня, Лёнчик, Леон, Лео… Тьфу.
— Хорошо. Клянусь и обещаю: никаких Лёнчиков! — Она засмеялась. — Кажется, по такому поводу полагается выпить на брудершафт?
Прозвучало это полушутливо. Но лишь полу-.
— Увы, здесь не наливают, — в тон ответил Кравцов, кивнув на церковь.
Она сказала неожиданно серьезно:
— Мне вообще не по душе этот храм… Какой-то он… Похож на лебедя с ампутированными крыльями.
Кравцов кивнул. Сравнение ему понравилось — точное и емкое. Писательское.
Церковь в Спасовке стояла когда-то красивейшая, знаменитая на всю округу — высокая, с девятью устремленными ввысь куполами, за много верст видными в хорошую погоду. И ныне, глядя на её остатки, становилось ясно: архитектурный памятник был незаурядный. Но осталось после Великой Отечественной немного — всю верхнюю часть, все купола-маковки срезало как ножом снарядами. Потом, после войны, прилепили на скорую руку сбоку, на самом краю крыши один куполок под скудную звонницу — так он и стоял уж сколько десятилетий; и выглядела бывшая красавица-церковь странно и неприятно — действительно как лебедь с ампутированными крыльями… Точнее не скажешь.
— Тогда тебе придется пригласить меня в «Орион», — вернулась к теме Ада. — Единственное подходящее место здесь. Остальные — для иссыхающих от жажды пролетариев сохи и сенокосилки. А пить на брудершафт разливной портвейн — даже с известным писателем — совсем не романтично. Значит, кафе «Орион». Найдёшь, где это? — спросила она, не давая Кравцову времени на раздумья.
— Найду, — ответил он с легким сомнением. В трафаретном сценарии знакомства Ада играла явно не свою роль. Мужскую. Времена… Или у поклонниц это общепринятая тактика?
— Тогда в семь вечера, у входа. Договорились? — Она улыбнулась так, что легкое сомнение Кравцова стало невесомым и бесследно рассеялось в околоземном пространстве.
— Договорились.
— А сейчас мне пора, — сказала Ада. — Надо немного побродить по кладбищу в одиночестве. Знакомые — когда узнали, что еду сюда на все лето — просили разыскать могилу одного предка. И привезти им фотографию.
— Может, поищем вдвоём?
— Не стоит… Место тут такое, что не стоит.
Сформулировала она не особо внятно, но Кравцов понял. Спасовское кладбище — спускающееся по склону к Славянке величественным амфитеатром — было старое, красивое и напоминало парк куда сильнее, чем уцелевшие возле графских развалин липы. Но прогулки с девушками здесь действительно казались неуместными…
…Глядя, как мелькает среди зелени, удаляясь, белое платье, Кравцов подумал: а ведь меня только что «сняли». Или «склеили». Впрочем, неудовольствия эта мысль не вызвала.
5
Вернувшись в вагончик, Кравцов первым делом загрузил в холодильник купленные продукты из двух полиэтиленовых пакетов. Затем прошел в бригадирскую, увидел компьютер — и вспомнил про обещанную Танюшке сказку. Учитывая его нынешнюю скорость письма, начать стоило прямо сейчас.
Кравцов включил свой раритет, уселся перед экраном, задумался. Сказка о предмете… Что бы этакое сочинить не слишком банальное? Описать клинок, дремлющий в музейной витрине и вспоминающий о былых сражениях? Не больно-то оригинально, кто только не живописал поток сознания колющих и режущих предметов. Стоит взять что-нибудь более современное… Пулю, например. Сочинить, как она уныло сидит в обойме, стиснутая шейкой гильзы, в окружении точно таких же товарок. Но она, в отличие от них — тупо и неохотно ждущих своей очереди отправиться в первый и последний полет, — она видит сны о прекрасном солнечном мире, и мечтает познать его, и мечтает вырваться — пусть с болью и кровью — из тесного плена. А потом — выстрел! И она летит, и успевает исполнить мечту за короткие мгновения полета — и разлетается на куски в конце его не от сидящей внутри капельки ртути — но просто от счастья. В финале можно добавить всего одну фразу — что взорвалась она, попав в голову парнишки-срочника при первом штурме Грозного…
Идея неожиданно понравилась, он даже потянулся к клавиатуре, но вовремя опомнился, представив такой опус в тетради пятиклассницы. Вообще-то тёща жестко редактировала его «помощь» Танюшке… Но тут случай клинический, редактура бессильна.
Другой небанальный предмет в голову не приходил. Банальные же вызывали скуку. Он кинул взгляд вокруг. Ничего интересного.
И тут замурлыкал телефон.
Танюшка? — подумал Кравцов. Вот пусть и конкретизирует задание.
Но это оказался Пашка-Козырь.
— Паша, назови первый пришедший в голову предмет, — тут же попросил его Кравцов.
— Э-э-э… Кравцов, у тебя всё в порядке? Может, мне подъехать? — В голосе Паши слышалась тревога.
— Назови, назови, мне для работы надо.
Козырь успокоился мгновенно:
— Так бы и сказал… Ну карандаш.
— Почему карандаш? — удивился Кравцов.
— А я его в руках держу… Слушай, я вообще-то по делу…
Дело у Козыря оказалось следующее: в пятницу он приезжает в Спасовку, Наташа с детьми приедет в субботу или воскресенье — а пока они не подъехали, есть мысль сходить на охоту. Да он и сам знает, что весенняя закончилась, но у него есть разрешение на отстрел с научными целями. Нет, какие там лоси-медведи и большие компании, — скромно, вдвоем, пострелять по вальдшнепам на тяге… Короче: брать ружье для Кравцова? А-а, свое есть и к пятнице подвезет? Тогда всё, пока.
Закончив разговор, Кравцов набрал большими буквами через весь экран обретенное с Пашкиной помощью название: «СКАЗКА О КАРАНДАШЕ», подумал и приписал сверху «Татьяна Кравцова». Пусть будет такой псевдоним…
Начало родилось на свет с изумительной легкостью: «Жил-был Карандаш…» А потом.
Потом он увидел. Увидел этот самый карандаш, и как он жил, и кем он был, и какие у него случились проблемы, и как он с ними боролся…
Он не видел текста, стремительно возникающего на экране. Не видел клавиш. Он оказался там. Внутри. В глупой сказке о глупом предмете…
Когда на экране появились слова «Тут и сказке конец», Кравцов медленно, походкой сомнамбулы, добрался до холодильника и достал припасенную на всякий случай поллитровку… Он прозрел ! Сто наркомовских грамм принять по такому случаю полагалось… Он не задумывался о возможном качестве родившегося текста, и о том, что вернувшийся дар может и не коснуться создания триллеров, и о том, что карьера детского писателя-сказочника никогда его не привлекала… К чему задумываться? Только что, сию секунду прозревшему человеку всё равно, что перед глазами — картина Рафаэля или панорама городской свалки, важен сам процесс…
Он выпил законные наркомовские и стал читать — медленно, вдумчиво. Потом — ещё медленнее, внося необходимые правки. Тёща, понятно, не оставит от сказки камня на камне… Не суть. Процесс пошёл!
Кровавые мальчики исчезли из глаз.
Надолго ли?
Татьяна Кравцова
СКАЗКА О КАРАНДАШЕ
Жил-был Карандаш. Жил в стакане, что на столе у Сережки. Их там много жило, карандашей. Но все были острые, а этот — тупой. Обидно.
Другие дразнились:
Тупой — геморрой!
Тупой — рот закрой!
Тупой — штаны с дырой!
Тупой! Тупой! Тупой!
Он хотел объяснить:
— Я не тупой, я просто незаточенный…
Куда там… Дразнили пуще прежнего, вовсе уж неприлично. Так жить нельзя. И Карандаш пошёл к Точилке. (Карандаши часто гуляют, когда их никто не видит. Порой забредут куда-то — вовек не отыскать. Так и приходится идти в школу — без них.)
— Добрый день! Поточите меня, пожалуйста!
Карандаш был тупой, но очень вежливый. По жизни это помогало, хотя не всегда.
Точилка оказалась китайской. Красивая, в виде собачки. Морда у собачки-точилки улыбалась. А карандаши ей засовывали… В общем, с другой стороны.
— Сиво-сиво? — сказала Точилка по-китайски. — Мая-твая не панимай…
Вежливый Карандаш объяснил:
— Уважаемая Точилка! Разрешите мне засунуть, то есть засунуться, в общем, залезть вам в…
Он сбился и замолчал. Карандаш был молод и застенчив. И в первый раз имел дело с точилками.
Но Точилка поняла.
— Сунь-сунь? Эта мозина… — сказала она по-китайски. И добавила на чистом русском:
— Деньги гони!
Денег у Карандаша не было.
— А без денег никак?
— Сиво-сиво? — снова сказала Точилка. — Мая-твая не панимай…
Карандаш отправился к Рублю. Тот давным-давно закатился в щелку и лежал там, никем не замеченный.
— Уважаемый Рубль! Не могли бы вы дать… дать мне… в общем, дать мне себя, чтобы…
Карандаш опять сбился. Но Рубль всё понял, он был очень умный. У него даже имелась голова — большая, лысая, изображенная в профиль.
— Вег'нуться в г'ыночные отношения… — вздохнул Рубль. — Заманчиво, заманчиво… Увы, батенька, увы. Я неденоминиг'ован и сг'едством платежа послужить вам не смогу.
Карандаш не знал таких слов. Но понял, что ему опять отказали.
Рубль наморщил лысину и добро прищурился.
— Но дам вам совет, батенька. Тут недавно пг'олетал Доллаг'. Падал… Очевидно, на пол. Попг'обуйте договог'иться с ним…
— Спасибо, уважаемый Рубль. До свидания.
Доллара на полу Карандаш не нашёл. Наверное, тот снова поднялся. Доллар надолго не падает.
В стакан Карандаш не вернулся. Ну их, этих острых, что считают себя умными. Грустный и несчастный Карандаш лежал на полу. Пыльно и скучно, зато не дразнят.
Там его и нашла Танюшка. И тут же радостно прокричала эту новость:
— Я нашла карандаш!!!
— Это мой! Отдай! — восстал Сережка против наглого передела собственности.
Счастье — это быть кому-нибудь нужным, подумал Карандаш, когда с двух сторон в него вцепились четыре руки. И стал счастлив.
Он счастлив до сих пор. Вернее, они — две половинки карандаша. Никто не дразнит их тупыми, обе заточены. Обе при деле: пишут, чертят, рисуют, подчеркивают, ковыряют в ухе… Регулярно навещают Точилку. Правда, после каждого визита становятся короче. Скоро совсем кончатся. Тут и сказке конец.
Глава 3
27 мая, вторник, вечер
1
Романный герой — если уж не получилось умереть с любимой женой в один день — просто обязан хранить верность усопшей супруге в течение хотя бы десятка глав после похорон. Закон жанра.
В романах писателя Кравцова действовали другие герои — да и сам он был другим. Нельзя любить мёртвых, и невозможно изменить мёртвым, — можно лишь хранить о них светлую память. По крайней мере, Кравцов считал всегда именно так.
Короче говоря, новая женщина в жизни Кравцова появилась через два месяца после гибели Ларисы. Появилась и быстро исчезла. Потом появилась вторая, третья — и тоже не задержались. После расставания с четвертой он понял — да, мёртвых любить нельзя. Но попасть в ситуацию, когда заменить тебе ушедшую любимую никто не может, — вполне реально. Что, собственно, с ним и произошло.
Не то чтобы у него так уж свербело уложить кого-то в неостывшую супружескую постель… Нет, скорее хотелось заполнить хоть чем-то огромную зияющую дыру, появившуюся в его жизни. Чтобы самому не свалиться туда…
К пятой своей попытке — произошла она совсем недавно, месяц назад — он подходил аккуратнейшим противоторпедным зигзагом. Не хотел, если что не сложится, портить жизнь хорошей девчонке.
Но казалось — на этот раз сложится всё. Во-первых, была Жанна умной женщиной, а с дурами, на какие бы чудеса они ни оказались способны в постели, у Кравцова дольше недели романы не затягивались. Во-вторых — общность профессиональных интересов. Она занималась всем понемногу — переводила с английского, редактировала, писала критические статьи, — и всё вполне успешно… Пробовала силы и в беллетристике — здесь результаты оказывались немного хуже, самостоятельно выстроить сюжет у Жанны не получалось, но в соавторстве была способна сработать неплохую вещь. Чем не подруга жизни для писателя? Наконец, в-третьих, Кравцов считал, что разница в возрасте у них идеальная для супружеской пары: ему тридцать три, ей двадцать шесть. Все шло своим чередом, ни он, ни она не торопили события, но и не медлили, и казалось…
Потом рухнуло всё.
Это случилось в тот вечер, когда Жанна впервые пришла к нему. Речь не шла о надуманном предлоге, и о настойчивых уговорах, и о не менее настойчивом псевдосопротивлении, и о словно бы вынужденной капитуляции, и о первом торопливом акте в полураздетом состоянии… — просто два взрослых человека по обоюдному согласию решили перевести свои отношения в новую плоскость.
Она приняла душ и направилась в спальню, он зашёл в ванную вторым, когда вышел — Жанна уже лежала на кровати, не погасив свет, совершенно обнажённая, никакого суперэротичного белья на ней не было… Лежала на боку, опираясь на один локоть. Наверное, Жанна считала эту позу самой выгодной для одновременной демонстрации и груди, и бедер, — и обоснованно, грудь и бедра оказались у неё действительно прекрасные, но…
Потом Кравцову казалось, что всё у них хрустнуло и пошло мелкими трещинками как раз в ту секунду — когда он увидел на её бедре прыщик. Обычный прыщик — небольшая красная припухлость и вовсе уж крохотная белая головка, ерунда, мелочь, через два дня пройдёт без следа… Но именно тогда всё кончилось, не начавшись. А может, тот злосчастный прыщик был ни при чем, просто взгляд на него совпал с моментом, когда Кравцов осознал окончательно: если всё пойдет, как идет, эта женщина часто будет лежать здесь и в этой позе. А Лариса — не будет никогда. Даже призрачная, даже сотканная его воображением из разрозненных нитей воспоминаний — не будет. Потому что призраку женщины нет места рядом с другой женщиной, живой и реальной…
Нет, он не предложил ей одеваться и не сунул стольник на такси. Он лег рядом, и — внешне — все пошло, как и было задумано… Но будущего, общего будущего, у них не стало, — и Жанна чутьем, присущим всем женщинам, и умным и не очень, поняла это сразу.
Разошлись друзьями — в расставаниях с умными женщинами есть свои преимущества.
2
Обо всем этом Кравцов вспомнил, коротая время, оставшееся до встречи с девушкой Адой. Аделиной…
С девушкой, ворвавшейся сегодня утром в его жизнь совершенно неожиданно — при этом тем же способом, каким он сам привык появляться в жизни женщин.
С девушкой, немного похожей на Ларису. И — на другую женщину, созданную им самим из ночной тьмы и лунного света, на Лучницу, никогда не промахивавшуюся… Почему-то Кравцов-мистик был уверен — при нужде Аделина не промахнётся тоже.
И не мечтай, старый хрыч, подал голос Кравцов-скептик, незачем ей такая дичь, есть у нее наверняка молодой щенок, не избавившийся от юношеских угрей, но способный часами дергаться под оглушающую как-бы-музыку молодежного ночного клуба… Потешит свою гордость, появится на публике под ручку с писателем, — и адью, мсье Кравцов.
Ну это мы ещё посмотрим, поставил точку в споре Кравцов главный и единственный. Его, по большому счету, порой можно было взять «на слабо»…
От этих мыслей или еще отчего Кравцову захотелось опять прочитать свою сегодняшнюю сказку. Но включить снова компьютер он не успел. В вагончике погас свет.
И сразу стало темно, хоть вечер был и не поздний — графские руины прикрывали сторожку от заходящего солнца. Да и окна в ней — кроме одного, в бригадирской — оставались закрыты ставнями.
Кравцов чертыхнулся, прошёл к пульту — совсем как в недавнем сне. Дернул рубильничек. И остановился. Замер…
Такого не могло быть — и тем не менее было.
Дело в том, что, осматривая домик с Пашей, он не заметил крошечные лампочки-аварийки среди многочисленных отверстий потолка, обшитого перфорированной картонно-асбестовой плиткой. Потом он их тоже не видел, тем более включенными… Наяву не видел.
ЛИШЬ В НОЧНОМ КОШМАРЕ.
Теперь — впервые — аварийное освещение зажглось в самой натуральной реальности.
Загорелись ДВЕ лампочки.
На ТЕХ ЖЕ местах.
И с ТОЙ ЖЕ еле-еле теплящейся яркостью.
Детали кошмара повторялись наяву со стопроцентной точностью. Такого не могло быть — и тем не менее было.
Спокойно, сказал себе Кравцов. Хватит на сегодня мистики. Все очень просто — я всё-таки заметил эти крохотные стекляшки. Запомнил их местоположение — чисто подсознательно. Так же подсознательно вывел из размера возможную мощность. И — задвинул всю эту информацию на дальний угол чердака.
А потом…
Потом мозг лепил тот кошмар из обрывков реальных воспоминаний — из Пашкиного рассказа о кастровом провале, из историй о медленно затопляемых отсеках подлодок — после «Курска» их появилось предостаточно. И всплыла неосознанно запомнившаяся информация. Так что никакой мутной мистики.
Легче от логичного и здравого объяснения Кравцову не стало. Слишком много подобных объяснений требовалось в последнее время. Что ни шаг — ломай голову над рациональными причинами странного …
Впрочем, это не повод, чтобы сидеть при аварийном освещении и сажать аккумулятор. Кравцов прошёл на кухоньку — днём заметил там стеклянную банку с полуоплывшей свечой, стояла она наверху, на фанерном как бы буфете.
На кухне аварийную лампочку посчитали излишней. Оно и правильно, нечего при ЧП шастать по холодильникам. Свет горит у начальника — потому что он начальник. И над выходом — на всякий случай.
Кравцов приподнялся на цыпочки, зашарил пальцами по изрядному слою пыли, покрывавшему буфет. И почти сразу нащупал — но не банку со свечой, а нечто плоское и широкое… Достал не то тетрадь, не то большой блокнот, в темноте не разобрал. Продолжил поиски — и через минуту в бригадирской затеплился дрожащий жёлтый огонек.
Вторичное чтение Танюшкиной сказки отменилось. Забытую кем-то тетрадь тоже стоило посмотреть при нормальном свете. Ну а переодеться и собраться можно и при этом прадедовском освещении.
Если бы Кравцов тогда знал, как всё повернется и чем всё закончится — сел бы читать тетрадь немедленно, плюнув на темноту и предстоящее свидание — хоть при свече, хоть при лучине, хоть при зажигаемых одна за одной спичках…
Но он не знал.
3
У девушек считается хорошим тоном помучить кавалера перед первым свиданием, опоздав минут на двадцать-тридцать, и Кравцов ожидал чего-то подобного, — но Ада пришла вовремя. Они с Кравцовым подошли к «Ориону» одновременно, с завидной английской точностью.
Он украдкой скосил глаза на «Командирские» часы — без одной семь. Не опоздал.
Ада, однако, этот взгляд перехватила. И ответила на невысказанные мысли Кравцова:
— Опаздывать на свидания стало дурным тоном в конце прошлого, двадцатого века. Современная бизнес-леди идет на свидание минута в минуту: в деловом костюме с галстуком, с ноутбуком и мобильным телефоном, в ходе трапезы просматривает по пейджеру котировки валют, а в конце ужина расплачивается — за себя — пластиковой карточкой «Маэстро»…
Кравцов заинтересовался её трактовкой имиджа современной деловой девушки. Себя Ада, похоже, к таковым не относила. Костюм с галстуком и ноутбук не наблюдались — белые брючки в обтяжку, белая же блузка, туфли на низком каблуке. Впрочем, крохотный мобильник висел на шнурке — кулон технократичного века.
— А что бывает после ужина с бизнес-леди? — спросил Кравцов. — Ради чего всё затевается? Смотреть валютные котировки и расплачиваться за себя можно и в одиночестве.
— После… После, я думаю, деловой костюм всё же снимается. Но включённый пейджер лежит рядом с подушкой — вдруг доллар резко поднимется?
Они засмеялись. И зашли в кафе «Орион». Вернее, прошли сквозь дверь, над которой имелась вывеска с таким названием. Само заведение таилось где-то в глубинах здания — повинуясь стрелкам-указателям, они пересекли зал-вестибюль с запертым гардеробом, прошли длинным коридором, оказались во втором зале — судя по низенькой эстраде с допотопными гробообразными колонками и отполированному подошвами полу, по уик-эндам в нем проходили дискотеки. Далее путеводные стрелки провели их через второй коридор — над выходящей в него дверью вновь висела вывеска «Орион», чуть поменьше уличной. Из-за двери доносилась музыка.
Кафе оказалось уютней, чем ожидал Кравцов. Все из дерева — деревянные панели на стенах, деревянная мебель, деревянная стойка бара с одеревеневшим от скуки барменом. Столы стояли двумя рядами вдоль стен достаточно большого помещения, оставляя посередине обширное пустое пространство. Очевидно, здесь тоже танцевали, но не сейчас, хотя бодрый голос Расторгуева из магнитофона призывал мальчиков как раз танцевать и любить девочек.
Впрочем, девочки как объект любви наличествовали — в составе разнополой компании, сдвинувшей два стола у самого входа. Компания казалась не особо шумной и в меру трезвой. Кравцов скользнул по ним беглым взглядом — молодые, незнакомые. Других посетителей в кафе не обнаружилось.
— И что мы будем пить? — спросил Кравцов, подходя к стойке. И не добавил: «на брудершафт».
— Смотря что они могут нам предложить, — ответила Ада как-то рассеянно. И оглянулась на компанию у дверей.
Кравцов изучал прейскурант в течение минуты, а когда повернулся к Аде с конкретными идеями по поводу заказа — увидел оказавшегося рядом с ней парня. Парень поглядывал на него с нехорошим интересом.
Кравцов не отвел взгляд. Проведя в Спасовке немалую часть детства и юности, он неплохо разбирался в тонкостях сельского этикета. И знал: если чужак — а за пятнадцать лет он им стал — появится здесь с девушкой и хоть на мгновение покажет слабину — дело труба. Он стоял и внимательно смотрел на парня.
Если бы у того ноги соответствовали прочим пропорциям тела, он наверняка превзошел бы ростом Кравцова. Но они, ноги, оказались на редкость короткие и кривые, — и парень был на полголовы ниже. Зато размахом плеч, пожалуй, не уступал, а размерами кулаков — превосходил. Надежд на то, что это еще один поклонник, не осталось, — люди с такими лицами читают лишь этикетки на дешевых бутылках, и то по складам.
Ада сделала два шага в сторону. Здешняя она или нет — но этикет соблюдала.
Немая сцена затягивалась, и парень её нарушил:
— Эт'кто ж ты такой, что наших девчонок кадришь, а?
Начало, затертое до банальности, подумал Кравцов. Хотя вопрос был сформулирован предельно четко, отвечать на него не следовало. Он ответил, как должно, смешав в тоне нужную пропорцию спокойствия, холодной угрозы и некоторой даже ленцы:
— Ты заблудился, мальчик. Это бар для взрослых. Пепси-колу продают за углом.
Парень выглядел чуть постарше Ады — двадцать один, двадцать два… Но не стал обижаться и вступать в перепалку, когда его определили в сопляки.
Он радостно осклабился и начал отводить кулачище для удара — медленно и далеко, куда-то за спину.
Пока он это проделывал, человек с хорошей реакцией успел бы купить коктейль, выпить его, перекурить — и затем нанести парню телесные повреждения легкой или средней тяжести — по выбору.
Кравцов за то же время прокачал ситуацию. Это мог оказаться одинокий дурак, ищущий на свою голову приключений. Но мог быть и посланник окопавшейся у дверей компашки. Судя по тому, как откровенно подставляется, — верно второе.
Он не ударил парня. Быстро толкнул двумя руками в грудь — не слишком сильно. И одновременно наступил на носки обеих кроссовок противника.
Подобный приём не описан в учебниках по карате-до, но в разборках сельских парней применяется часто. Цель тут не покалечить, а сделать смешным. Когда на тебя смотрят, второе бывает порой важнее. Кравцов надеялся, что от «городского» никто такого приема не ожидает, — так и вышло.
Устоять было невозможно. Парень рухнул на спину. Падать он умел — мгновенно подогнул голову к груди и успел выставить локоть — но всего один, опереточный замах правой сослужил дурную службу.
В общем, парень явно знал толк в драках — жестоких, дворовых, без правил и ограничений. Он чувствительно приложился правым боком, но стремительно откатился в сторону. И лишь там, вне досягаемости для возможных ударов ногами, быстро поднялся — грамотно прикрываясь при этом.
Кравцов следил за ним внимательно. Раньше никто в такой ситуации за нож хвататься бы не стал. Сейчас времена другие, и возможно всё.
— Атас!!! — яростно выкрикнул магнитофонный Расторгуев, и песня смолкла.
В наступившей тишине прозвучал голос, полный уверенности, голос человека, не привыкшего повышать тон, — все и так будут прислушиваться.
— Это кто же тут обидел моего ненаглядного Гномика? Уронили Гнома на пол, оторвали Гному лапу…
Кравцов повернулся, не выпуская из вида парня — надо думать, известного как Гном.
Компания у двери на удивление быстро рассортировалась — мальчики отдельно, девочки отдельно. Девочки остались за столами, а мальчики неторопливо двигались к стойке, перекрыв проход. Было их семеро, на вид — ровесники Гнома. Впрочем, один, уверенно идущий по центру и чуть впереди остальных, выглядел на несколько лет старше. Именно ему принадлежали слова про обиженного Гнома.
Улыбки на лицах семерки кривились самые паскудные. Дверь оказалась за их спинами. Выход был перекрыт.
4
Жил бы тринадцатилетний Васёк Передугин в Санкт-Петербурге, то наверняка получил бы от сверстников прозвище «Спелеолог». Или «Диггер». Но поскольку жил он в деревне Поповка — еще даже меньшей, чем Спасовка, то и прозвали его попроще: «Вася-пещерник». И неспроста. Васёк не просто любил лазить по всевозможным пещерам и подземельям. Он их строил. Вот и сейчас он направлялся к берегу, чтобы… Впрочем, все по порядку.
Если вы вдруг поедете на автобусе от Спасовки в сторону Павловска, то через пару километров женщина-кондуктор обязательно объявит: «Остановка ВИР! Кто вошел, предъявляем карточки, оплачиваем проезд!» Если же карточки и денег у вас отчего-то не окажется (всякое в жизни бывает), то зловредная кондукторша наверняка вас высадит, наябедничав водителю. Но не расстраивайтесь, оказавшись в одиночестве на унылой остановке. Вокруг достаточно интересного.
Можно отправиться к ВИРу — к питомнику Всероссийского института растениеводства — если вас интересует покупка саженцев экзотической японской сливы или банальной российской яблони. Если же шесть соток не висят тяжким камнем на вашей шее, если вы турист, изучающий родной край с бескорыстным интересом, то вам стоит спуститься к протекающей поблизости от остановки речке Поповке. Она — приток Славянки, в чем нетрудно убедиться, пройдя берегом недалеко вниз по течению.
Но вам лучше отправиться в другую сторону, к одноименной речке деревне, и вот почему.
Поповка абсолютно не похожа на свою старшую сестру, Славянку, — случается с сестрами такое. Славянка течет медленно, неторопливо пропуская воду из одного неширокого, но глубокого мутноватого омутка в другой, и на перекатах зеленые ленты водорослей колышутся лениво от едва заметного летом течения. Поповка же речушка мелкая, быстрая, с идеально прозрачной и даже в жару холодной водой, позволяющей увидеть на дне каждый камешек. Весьма разнятся и берега рек. Долина Славянки огромная, пологая, покрытая полями и рощицами, — способная вместить реку чуть не с Неву размером, она напоминает тем, кто забыл, о временах, когда таяли покрывшие Европу ледники и огромные потоки заполняли только-только возникающее Балтийское море. Поповка возникла тогда же и тем же образом, но на пути её русла попались куда более твердые породы. И поток, не растекаясь, как ножом прорезал Пяйзелевскую возвышенность — получился относительно узкий и глубокий каньон с отвесными стенами. Открывается для взгляда он совершенно неожиданно. Можно идти себе по полю, не ощущая ни малейшего понижения местности — и вдруг обнаружить под ногами отвесный скальный обрыв. Напротив — другой. А глубоко под ногами по плоскому дну каньона змеится речонка, которую ну никак не заподозрить в свершении столь титанических земляных и горнопроходческих работ…
Так что если вы ещё не передумали пройтись по окрестностям и взяли с собой корейский фотоаппарат-мыльницу, то можете привезти домой интересные снимки скалистых берегов. И ваши знакомые будут гадать, где же они сделаны: Урал? реки Сибири? каньон Рио-Колорадо? — но вовек не догадаются, что сей пейзаж имеет место в тридцати верстах от Петербурга. Но старайтесь, чтобы в кадр не попал стоящий на краю обрыва парничок или сарайчик-развалюха — берега Поповки населены достаточно густо. А если вы пройдёте ещё выше по течению, то… Впрочем, достаточно. Отправляйтесь и осмотрите всё сами. Пора вернуться к Васе Передугину — он преодолел уже половину расстояния от своего дома до речки.
Прошлой осенью Васёк (тогда еще не «Пещерник») побывал со своим классом на экскурсии в Саблино. Знаменитый Саблинский водопад Васю разочаровал — невысокий, воды падает мало. Но пещеры — огромные, с тысячами перепутанных коридоров и подземных залов — привели в восторг. Зануда-училка, понятное дело, не дала осмотреть и сотой доли подземных красот. Спускались в пещеру группами по десять человек, совсем неглубоко и под её присмотром — ежеминутно считала по головам и чуть ли не держала за шиворот. В общем, через три дня Вася Передугин вновь приехал в Саблино — с двумя приятелями, фонарем, свечами и тайком позаимствованной дома полуторакилометровой бухтой нейлонового шнура…
Вернувшегося заполночь Васю — по уши грязного и тащившего огромный перепутанный ком столь же грязного шнура — отец нещадно выпорол. Однако — не помогло. Васёк заболел страстью к пещерам. Но обнаружилось препятствие — объект страсти находился слишком далеко. Поблизости подобных чудес природы не было. Лишь на уступе обрывистого берега Поповки, примерно на половине его высоты, имелась крохотная даже не пещера — выемка. Сверстники Васи часто разводили там костер и устраивали подростковые посиделки. Там его и осенила идея — весьма нетривиальная. САМИМ ВЫРЫТЬ ПЕЩЕРУ!!! Именно здесь — готовый вход для неё уже есть. В конце концов, если верить экскурсоводу, Саблинские пещеры тоже рукотворные. Много десятилетий там добывали сырьё для стекольной промышленности.
Мысль была не столь абсурдная, как казалась на первый взгляд. Берега Поповки образовывала мягкая порода, легко крошащаяся от слабых ударов.
Вася, не откладывая, поставил контрольный опыт — результатом недолгих манипуляций с топориком стала ямка с футбольный мяч размером. Приятели смотрели с интересом.
Как часто бывает, новая идея захватила многих. Начинались даже яростные перепалки: кому первому долбить? — растущий забой не вмещал желающих. Пришлось сделать развилку на два хода, что очень нравилось Васе. Ему хотелось построить лабиринт. Что за радость в одном, заурядном как прямая кишка, тоннеле?
Как бывает ещё чаще, первоначальный энтузиазм погас быстро. С увеличением пещер ежедневный прирост становился всё менее заметен. И у землекопов начали появляться реальные и выдуманные предлоги пропустить смену… Темп строительства катастрофически падал.
Кончилось тем, что последние месяцы стройку посещал один Вася. За что приятели его и прозвали «Пещерником». Недоброжелатели добавляли: «Чокнутый Пещерник», что являлось форменной клеветой. Всё на свете он ради этого увлечения не забросил. Но не реже раза в неделю появлялся в заброшенной пещере и проводил три-четыре часа за упорной работой. Им двигала какая-то мрачная гордость. Будут рано или поздно Поповские пещеры! Ну поменьше Саблинских, конечно… Но все будут знать, что воздвиг это чудо ОДИН ЧЕЛОВЕК! Он, Василий Передугин.
…Васёк двинулся, низко согнувшись, от развилки влево. Здесь, совсем близко от входа, медленно рос довольно обширный зал. Именно над его расширением Вася трудился последние месяцы, отложив до лучших времен правый ход, узкий и короткий.
Он просунул голову в зал, подсвечивая фонариком с изрядно севшими батарейками. И сразу понял: что-то не то. Пещеру он знал до мелких деталей. Нечто, темневшее у дальней стены, никак не должно было там находиться. И в другом месте зала — не должно. В пещере появилось что-то чужеродное.
Вася сделал три маленьких, опасливых шажка вперед. И тяжело вздохнул. Куча тряпья, рядом что-то поблескивает, наверняка осколки стекла.
Все, конец великому начинанию. Бомжи присмотрели подходящее для логова местечко. Сколько интересных подвалов ими уже изгажено…
(До пещер Васёк увлекался именно подвалами и часто бывал в подземельях расположенной не так далеко крепости Бип, но два года назад перестал, после вызвавшей серьезное нервное потрясение находки, сделанной весной им и приятелями в дальнем, полузасыпанном каземате крепости. И целый год — до Саблино — не спускался под землю.)
Васёк в сердцах ударил ногой валявшийся обломок. Он улетел в полутьму. И тут куча тряпья зашевелилась. И села. И оказалась человеком.
Человек откинул тряпьё и повернулся к Васе. Луч фонаря после полной темноты должен был слепить человеку глаза, он не мог ничего видеть — но, похоже, видел. Он должен был щуриться и прикрывать глаза ладонью — но не щурился и не прикрывал.
Вместо этого начал подниматься — молча. Нечто, поблескивавшее рядом с ложем, двинулось за рукой человека. Это оказалось не стекло. Это оказался нож, или даже…
Васек не стал заканчивать мысль. Он уронил фонарь, взвизгнул и бросился к выходу. Никто другой в темноте не смог бы развить такую скорость. На рефлексах, ничего не видя, он пригнул в нужном месте голову, с другом поднял выше ногу, не споткнувшись и не упав. Топот страшного человека грохотал сзади — такой же быстрый.
Вася выскользнул наружу, чуть не кубарем скатился по крутой осыпи каменных обломков. Не обращая внимания на намоченные ноги, перебежал речонку и лишь на другом берегу рискнул обернуться. Погони не было. Но… что-то шевельнулось в темном жерле пещеры. Васек побежал снова. Через десять минут, попетляв по кустарнику, исцарапав лицо и руки, он перешёл на шаг. И только тогда заплакал — молча, зло, без всхлипываний. Шел, размазывая по лицу грязь и слезы. Пропал фонарь. Пропал мешок с инструментами, он не помнил, где и когда уронил его, — и за пропавшие зубило и кувалду отец без долгих слов возьмётся за ремень…
Рассказывать кому-то о происшествии не хотелось. Да и что тут расскажешь? Напал, дескать, бомж с мечом? Или с саблей? Повертят пальцем у виска — свихнулся парень в своей пещере. Где вы видели бомжей с мечами? Финка еще туда-сюда. Но Вася не сомневался, что ножом это быть никак не могло, даже самым здоровенным, мясным или хлебным, — не могло…
…Человек, столь напугавший его, в погоню не бросился. Даже внутри пещеры — за его топот перепуганный Вася принял эхо собственных панических шагов. Человек двинулся к выходу чуть погодя и успел увидеть лишь исчезающую в кустах спину Передугина. Тогда он вернулся обратно. Двигался в темноте человек не менее уверенно, чем Вася, — очевидно, довольствуясь доходящими снаружи отсветами. Он присел на свое импровизированное ложе, положил поперек колен холодную сталь, надолго задумался. На улице стояло летнее тепло, но здесь было более чем прохладно. Человек не замечал этого. Холод его не пугал. Слабым местом человека был крепкий сон — и он предпочитал для ночлега укромные места. Это оказалось не столь уж укромным. Он-то думал, что если и сунется пацанье — то шумной компанией, издалека слышной… Но проклятый парнишка возник бесшумно, как привидение… В одиночку. Вернется с кем-нибудь? Или навсегда забудет сюда дорогу? Об этом стоило поразмыслить. Уходить с удобного для его целей места не хотелось…
…Вася Передугин возвращаться не собирался. Ну и пусть, ну и пусть не будет никаких Поповских пещер, пусть живут в этой дыре поганые бомжи и пусть она рухнет им на головы!
Но постепенно злость и обида за пропавшие труды начали менять его настрой. У Васи стали появляться некие смутные планы…
5
Кравцов свои шансы не переоценивал.
Он имел немалый опыт в практикуемых здесь боях без правил, да и на службе кое-чему научился, особенно в последний год, когда пришлось сменить должность командира ВРОБа (взвода ремонта и обеспечения) на несколько менее мирную, дабы осталось что ремонтировать и обеспечивать.
Но именно поэтому он знал — у одного шансов против семерых (считая Гнома — восьмерых) нет и не бывает. Если, конечно, дело происходит не в Голливуде и противники услужливо не подходят к мастеру кунг-фу поодиночке. Даже три-четыре не страдающих дистрофией пэтэушника могут отметелить любого черного пояса — кто-то зайдет сзади, собьет с ног…
Вариантов было два.
Попробовать решить дело словами, напирая на то, что обиженный Гном жив, здоров и трудоспособен. В лучшем случае дело могло закончиться двумя-тремя минутами позора и проставлением выпивки для всей компании. В худшем — парой выбитых зубов.
Либо, не обращая внимания на остальных, свалить, если удастся, вожака — благо тот за чужие спины не прячется. Повезёт — шакалы после этого разбегутся. Не повезёт — лучше и не думать, что будет, но парой зубов не отделаешься…
Семерка приближалась.
Решать стоило быстро.
Он быстро взглянул на Аду. Она прижалась к стене, смотрела на него. Кравцову показалось — оценивающе.
Он двинулся навстречу вожаку — не торопясь, усилием воли согнав напряжение с лица — не спугнуть, не насторожить раньше времени. И сам внимательно вглядывался в лицо противника, в глаза — мало кто способен не выдать взглядом и микромимикой удар за долю секунды до его нанесения.
Расторгуев за спиной грянул про Аляску. Вожак недовольно взглянул через плечо Кравцова на бармена — музыка вмиг смолкла.
В этот момент Кравцов ударил — легонько ткнул вожака в живот. Тот не остался в долгу — с размаху, звучно хлопнул ладонью по плечу. Затем они обнялись — не забывая, впрочем о похлопываниях. Потом отодвинулись, всматриваясь друг в друга.
— Алекс!
— Тарзан! Х-хе… Не узнал ведь, почти до конца меня не узнал… Да и я не сразу… Заматерел, заматерел…
— Почём помидоры, Алекс?
— Одна кучка — вся твоя получка!
Оба радостно захохотали.
Едва ли кто-то из шакалов понял, в чем смысл и соль их стародавней подколки, но все дружно заулыбались. Впрочем, шакалами они теперь не выглядели — так, обычные парнишки.
Лишь Гном глянул на Кравцова волком, массируя правый бок.
Алекс — глаза у него на затылке, что ли? — как-то заметил и взгляд, и движение. Повернулся, нахмурился.
— Извинись перед писателем, Гном. А потом пойди домой и займись онанизмом. Не порти вечер встречи.
А ведь Алекс-Сопля, пожалуй, Первым Парнем на деревне стал и до сих пор остается… никому другому такие слова непозволительны… — думал Кравцов, пока Гном мялся перед ним, выдавливая слова извинения:
— Ну… ты, это… не знал я… извини, в общем…
…Алекса старшие ребята, ровесники Кравцова, прозвали когда-то «Соплей» не за подверженность частым насморкам. Просто он предпочитал проводить время в их компании, будучи лет на шесть или семь младше, — и оказался единственным там сопляком-маломерком. Тем не менее занял в ней свое место, закрепился, получил какой-то статус… Не самый почетный, понятно, — часто приходилось выполнять роль мальчика на побегушках. Но «Соплей» тем не менее звали его лишь за глаза, и то не часто. В один из дней Сашка Шляпников решил, что будет он не Шуриком и не Саньком — но именно Алексом. И не сразу, но добился своего. Самым простым способом — никак не реагировал на любые иные обращения. Даже голову не поворачивал. Порой бывал бит за такое — авторитетные старшие пацаны сами решают, как кого кликать, — но стоял на своём. А за «Соплю» сразу лез в драку — с любым противником. Все в компании были сильнее и крупнее его, но предпочитали не связываться. Человек тоже крупнее разъяренной кошки, а поди, подступись. Драку взбешённый Алекс прекращал, только когда не мог уже подняться с земли. И вот, пожалуйста, — Первый Парень на деревне, причём в возрасте, когда почти у всех к этому титулу добавляется слово «бывший»…
— Не поверю, что писатель Кравцов в детстве раскачивался на лианах и бил себя кулаками в грудь с дикими воплями… Почему Тарзан? — спросила Ада спустя полчаса. Они сейчас втроем сидели через два стола от покинутой Алексом компании.
— Было одно дело… — туманно пояснил Кравцов.
— Да не канай ты под скромного, — сказал Алекс. — «Тарзанка» у нас оборвалась как-то. Высоченная, над Торпедовским прудом. Один пацан полез привязывать — и сверзился. Гнилой сучок подвернулся. Ладно хоть не поломал себе ничего. Ну остальные зассали. Меня подначивали — мол, самый легкий. А я им что, мартышка? Ну а Лёнька залез — и стал Тарзаном.
— А я боюсь высоты, — сказала Ада. — Могу живыми мышами жонглировать и змею вместо ожерелья носить, а едва какой обрыв или хотя бы балкон в высотке — всё. В глазах темнеет, сердце чуть не останавливается, дышать нечем…
— Бывает, — кивнул Алекс. — У нас вот один чувак не может штепсель в розетку всунуть или вынуть. Бздит двести двадцать огрести. Знает, что изоляция, — всё равно бздит.
С Адой он держался как со своей знакомой — не слишком близкой. Но пару раз Кравцов заметил обращенные на нее взгляды Алекса, значения которых не понял.
— Лады, пойду я к своим, — сказал наконец Алекс, поднимаясь. — Выведу их прошвырнуться, засиделись. А вы посидите, готовка здесь клёвая. И народу мало.
— Попробуем, — кивнула Ада. Поднялась тоже, сделала несколько шагов к стойке, стала изучать прейскурант горячих блюд.
— У Гнома с ней что-то было? — вполголоса спросил Кравцов.
— Эта кошка ходит сама по себе, — сказал Алекс, посмотрев на Аду тем же непонятным взглядом. — А Гном за девками вообще не бегает.
— Неужто голубой? — усомнился Кравцов.
— Не знаю. Не замечен. Так, пустой базар, — сухо сказал Алекс. — Может, в детстве не в тему со стога сиганул — елдаком на вилы? Но чувак душный… — И он повысил голос: — Гномик! А ты что тут отираешься? Я, кажется, сказал тебе куда-то пойти и чем-то заняться?
Гном, приткнувшийся к компании с краешка стола, поднялся и поплелся к выходу, опустив плечи.
— Шли по лесу гномики, оказались гомики! — глумливо выкрикнул в спину кто-то из парней.
Гном не обернулся.
Динамит себе такого никогда бы не позволил, подумал Кравцов, вспомнив лидера их компании. Так ведь и не расспросил о его гибели Пашку…
Мысль мелькнула мимолетная, почти случайная, ему и в голову не пришло позвонить прямо сейчас, не откладывая, Козырю и выспросить подробности той старой трагедии… Зачем, в самом деле?
Потом Кравцов часто жалел об этом.
Но было поздно.
6
Над Спасовкой светила луна — почти полная, лишь чуть-чуть пошедшая на убыль. Декорация для прогулок с девушкой самая романтичная.
Теоретически Кравцову надлежало уже бдить на посту, — но он надеялся, что гипотетические похитители ненаглядных Пашкиных эксклюзивных плит ночь для своих чёрных замыслов выберут безлунную. И заявятся попозже, заполночь.
Они (не похитители, Кравцов с Адой) шли по улице — главной и единственной, прогоны не в счёт, — и говорили о чём-то, Кравцов сам не очень понимал — о чём. Происходящее было сродни писательству, когда он не осознавал, что пишет, когда порой приходилось читать только что набитый текст, как увиденный впервые. Наверное, он говорил именно то, что надлежало сказать, разговор не ломался, тек легко, не прерываемый тяжёлыми паузами, но…
Но большая часть сознания Кравцова в нём не участвовала. Она холодно и отстранённо анализировала события этого вечера. А именно — поход в кафе «Орион».
ТАМ ВСЁ БЫЛО НЕ ТАК.
Вполне возможно, что обычному человеку все показалось бы достоверным, но не Кравцову. Ему часто приходилось разбирать по косточкам, по деталькам собственные сюжеты, ища и находя нестыковки, несообразности, неправильности.
Навык оказался вполне применим в реальной жизни.
Первой неправильностью стал Гном. Здоровый парень, явно не дурак подраться. Для заводки, для провокации выпускают обычно вперёд совсем других — тщедушных, на вид — соплей перешибёшь. Чтобы потом вступиться с полным осознанием своей правоты: маленького, мол, обидели! В компании Алекса такие — мелкие — имелись. По меньшей мере двое. Так почему Гном?
Далее. Алекс дал понять, что узнал Кравцова буквально за несколько секунд до того, как тот узнал Алекса. Что поднялся из-за стола и пошел навстречу неизвестному городскому лоху. Допустим. Но не так уж Кравцов неузнаваемо изменился за годы — и если Алекс знал, что писатель Кравцов в Спасовке, то должен был узнать его раньше. Они с Адой вошли, что уже привлекает внимание, шли к стойке под светильниками, по самой освещенной части зала… Если же Алекса никто о появлении Кравцова и о том, чем тот занимается, не известил, — отчего он почти сразу потребовал от Гнома извиниться перед писателем? Алекс и библиотека, Алекс и чтение книг — вещи несовместные.
И еще. Кравцов хорошо чувствовал речь, как письменную, так и устную, — и ему показалось, что, сидя с ними — с Кравцовым и Адой — за одним столиком, Алекс намеренно упрощал и огрублял свой лексикон. Слегка наигранными звучали его «елдаком на вилы», «зассали», «бздит»… Немного раньше — к Гному и к стоящему у стойки Кравцову — Алекс обратился чуть-чуть иначе.
Все эти построения могли объясняться обычной мнительностью.
Или — всё произошедшее было срежиссированным спектаклем.
Но никто не готовит спектакль, не расставляет декорации и не собирает актеров, не зная — придёт или нет единственный зритель…
Зрителя в нужную точку пространства-времени привела девушка Ада.
Наверное, та часть его сознания, что поддерживала легко текущий разговор, тоже отвлеклась на эти рассуждения. По крайней мере в какой-то момент он понял, что Ада молчит. И — что она остановилась. Он тоже остановился, повернулся к ней… И замер.
Девушка Ада исчезла. Просто исчезла.
Не было её в этом ракурсе и в этом освещении.
Подняв лицо к лунному диску, стояла его жена.
Кравцов смотрел на неё молча и оцепенело. В голове крутились обрывки одной мысли: кладбище… сегодня днём… я проводил её до кладбища…
А потом случилось то, что он видел лишь в кино и считал режиссерским изыском: когда персонажи ведут диалог, не раскрывая рта, не шевеля губами — но слышны их закадровые голоса. Но звучали голоса в голове Кравцова.
Зачем ты пришла?
Ты ведь звал, ты ведь сам хотел этого…
Но как… каким образом?!
Надо хотеть, надо очень хотеть, надо тянуть туда руку, чтобы за нее можно было ухватиться…
И… что там?
Там ничего… Пустота… Бездна…
Что мне делать?! Что мне сделать, чтобы…
Он не слышал ответа. Невидимая нить истончалась, грозила лопнуть. Она — Ада? Лариса? — чуть повернула голову, и он увидел, что…
Ты не Лариса!!! Ты… ты… Адель-Лучница?
Ответ не прозвучал. Лишь что-то вроде далекого «а-а-а-а-а» …
Наваждение исчезло так же неожиданно, как и явилось. Окончательно его развеял обыденный до банальности звук — начальные такты популярного шлягера, которые испустил мобильник, висевший на шее Ады. Именно Ады, — сейчас ни с кем другим спутать её было невозможно.
«Алло? Та-а-ак… Мы же договаривались, Даниил, — в половине одиннадцатого быть дома!.. Ну пеняй на себя…»
Она отключилась, не попрощавшись. И сказала Кравцову, хоть он ни о чём не спрашивал:
— Брат. Несносный ребенок…
Он молчал.
— Позвонил, сказал, что… — Она сбилась, посмотрела на него. Спросила другим тоном: — Что-то случилось?
Да, случилось, подумал Кравцов. Много чего случилось. Но тебе, дорогая, этого не понять. Потому что ты не то призрак моей жены, не то персонаж моего же романа… А если честно, то писатель Кравцов просто свихнулся, так что вызови, пожалуйста, спецмашину, раз уж трубка в руке…
Внезапно он разозлился — на все эти загадки. На всю эту начинающую медленное кружение вокруг бесовщину. Но одну из чертовых загадок он разгадает. Здесь и сейчас.
— Зачем ты меня привела в «Орион»? — спросил он жёстко.
— Как… ведь мы же…
Он отчеканил, бессознательно подражая одному из своих героев:
— Зачем. Ты. Меня. Туда. Привела.
— Потому что я хотела посмотреть на тебя! Да! Тот ли ты крутой мужик, что так и лезет из каждой твоей страницы?! Или похож на импотента, пишущего порнографию?!
Она замолчала. Дышала тяжело, прерывисто.
— Посмотрела? Как увиденное? Слабовато против финала «Битвы Зверя», правда? За целый вечер — ни одного трупа, каюсь. Если завтра пригласишь еще куда-нибудь, постараюсь исправиться. Прихвачу пару запасных обойм, и…
Он осекся, остановленный её движением. Думал: обиделась. Но она улыбалась. И стояла очень близко. Потом сказала тихо:
— Там, в кафе, был вкусный салат… Правда, с луком, и я отказалась… Может, зря? Кравцов, ты вообще-то собираешься целовать меня сегодня?
Ну что тут можно ответить? У писателя Кравцова — редкий случай — слов не нашлось. Да они и не потребовались.
Шли по лесу гномики — I
Учёные-психологи считают, что все люди делятся на экстравертов и интровертов. Говоря упрощённо, первые жить не могут без компании, а в одиночестве скучают, хиреют, не знают, чем заняться, и испытывают склонность к суициду. Интроверты же, наоборот, на любом шумном сборище норовят забиться в дальний угол, сидеть там, не высовываясь, и быстренько уйти по-английски. А вот одиночество никак и ничем их не тяготит.
Андрей Гносеев, с малых лет известный как Гном, всех этих научных тонкостей не знал. И наверное, поэтому не был ни экстравертом, ни интровертом. Либо наоборот— был ими одновременно, в равной степени.
Он вполне уверенно чувствовал себя в мальчишеской компании. Не стал там, правда, заводилой и душой общества, но наравне со всеми, ничем не выделяясь, участвовал в затеваемых другими развлечениях.
Но точно так же мог проводить целые дни в одиноких играх.
Игры у него были странные.
— Пошли ко мне, — зачастую говорила его мать случайным собутыльникам (тогда Марьяна Гносеева пила еще не в одиночку). — Пошли, пошли, мой выродок до ночи на пруду с сачком просидит.
Любовь к сыну её не тяготила.
Восьмилетний Гном часто сидел на пруду с сачком. У многих жителей Спасовки на задах участков, граничащих с полями, имелись небольшие прудики — для полива да и чтобы ребятишки не убегали слишком далеко искупнуться или поудить карасиков. У одних— большие, от войны оставшиеся воронки, другим водоемы выкапывал совхозный экскаваторщик, нанятый за бутылку.
Сетка сачка, сделанная из старого тюля, скользила среди подводных джунглей и захватывала в плен их обитателей. Пленных ждала незавидная судьба. У Гнома незаурядная изобретательность сочеталась с полным отсутствием детского умиления щеночками-котятками-птичками-рыбками. Что уж говорить о тритонах, водяных жуках и личинках стрекоз,
В сумерках наступала кульминация ловли. Гном снимал крышку с алюминиевого бидона-тюрьмы и приступал к судилищу. Возможный приговор существовал один, но способы его исполнения самые оригинальные. Поначалу механические, с использованием всевозможных оставшихся от отца инструментов, и огненные — мать и соседи без удивления и тревоги смотрели на пылающий у пруда костерок, мальчишки любят живой огонь, далеко от строений — и ладно.
Позже Гном открыл существование великой науки химии — не считая труда, лишь по этому предмету он прилично успевал в школе. Знания его простирались куда шире школьной программы. Едкие кислоты и щёлочи, примененные к пленникам как внутренне, так и наружно, оказались гораздо забавнее банального расчленения. Использование самодельного термита придавало огненным казням новое качество.
Странно, но Гном как-то разделял интро— и экстравертивные стороны жизни. И ни разу не предложил в компании коллективно заняться своими одинокими играми. Конечно, мальчишки-сверстники тоже порой практиковали жестокие развлечения с животными, но достаточно случайно, нерегулярно, не делая из этого целую науку. Гном старался держаться от дилетантских опытов в стороне. Может, поэтому никогда не был схвачен за руку.
С годами хобби прогрессировало. Жуки и тритоны остались в прошлом. Появились мыши — Гном нашел на свалке мышеловку-клетку, не убивающую пленниц, и сделал по её образцу несколько таких же. Потом птицы — для их поимки живьем он разработал целый ряд оригинальных конструкций — две или три оказались вполне работоспособными.
Свою первую кошку он сжёг на тринадцатом году жизни. Обдумав предстоящую операцию медленно и обстоятельно (быстротой мышления Гном не отличался), он просчитал всё: и способ ловли; и метод казни — не слишком быстрый, чтобы всё хорошо рассмотреть и запомнить; и укромное место. И всё равно чуть не попался. Не учел звуковые эффекты. Мышиный писк или истошное птичье чириканье не привлекают подозрительного внимания, тритоны и жуки вообще безгласны. Кошачьи же вопли разносились по округе так долго и с такой пронзительностью, что Гном сквозь них в самый последний момент услышал треск кустов и встревоженные голоса людей. Ноги удалось унести чудом.
Проблема требовала решения — оборванное на самом интересном месте развлечение понравилось Гному. Разрешил он её глобально, с размахом, потратив на это несколько месяцев.
За полем, примыкавшим к их огороду, километрах в четырех, находилось место, называемое пацанами иногда «болотцем», иногда «леском», — торфяник, кое-где пересеченный отводящими воду канавами. По обширной территории густо росли невысокие, чахлые деревца, и поблескивали зеркалами воды небольшие водоемы-карьерчики — раньше на «болотце» добывали торф, потом забросили. Глубина карьерчиков казалась невелика, редко больше метра, но в дно, состоящее из торфяной жижи, длинная жердь уходила почти без сопротивления.
Люди — и пацаны, и взрослые — в «леске» бывали редко. Клюква здесь не росла, из грибов попадались лишь сыроежки — рыхлые, водянистые, почти сплошь червивые. Караси же — тёмные, почти чёрные, обитавшие в карьерчиках, на удочку отчего-то не клевали, а от надвигавшегося бредня немедленно зарывались в топкое дно.
Но Гном решил застраховаться и от случайных пришельцев. Свою базу он оборудовал на островке. С трех сторон его окружала вода самого большого карьера, с четвертой — непроходимая топь.
Именно через неё Гном проложил узкую и извилистую гать — проложил с умом, скрытно. Доски и бревна совершенно не выступали над болотной жижей. К началу гати Гном подходил каждый раз новым путём — чтобы не натоптать тропинку. Не зная секрета, на Кошачий остров попасть было невозможно.
Возведённый на острове капитальный шалаш и любовно оборудованное место казни с весьма замысловатыми устройствами скрывались за кустами, в самом центре полянки. Отходы предполагалось топить в болоте. Оставалась проблема бесшумной поимки и транспортировки кошек на остров. Здесь на помощь пришла старая добрая химия. Вернее сказать, действовал Гном методом алхимиков, последовательно пробуя на соседской кошке содержимое аптечки…
К августу подготовительные работы завершились. Кошачий остров ждал первую жертву. Но ещё до того, как она появилась, в жизни Гнома произошло нечто, придавшее новый смысл его развлечениям.
Глава 4
30 мая, пятница, утро, вечер
1
Кравцов не хотел, совсем не хотел приближаться к руинам — из-за старых мрачных историй и из-за свежего происшествия с Валей Пинегиным, — но зачем-то пошел туда. Пошел утром, часа через два после рассвета.
На утреннем небе творилось нечто непонятное.
Затяжной дождь шел позавчера весь день, и Кравцов провел его безвылазно в своем вагончике, за компьютером, — сочинил, для разминки и тренировки, небольшой, около авторского листа объемом, триллер о летучей мыши-мутанте. Тренировка прошла более чем успешно. Писалось легко, как встарь. Тем более что Кравцов знал — уж этого персонажа повстречать в реальной жизни не придется. Летучие мыши, к слову, в графских развалинах не гнездились — надо думать, из-за отсутствия перекрытий.
Следующий день — вчерашний — выдался сухим, хотя тяжелые тучи ползли по небу, собираясь разродиться дождем, но так и не разродились, Кравцов съездил в город и вернулся обратно посуху.
Сегодня же тучи побледнели, больше не выглядели налитыми влагой, кое-где в них появились белесые разрывы.
Сквозь один из таких разрывов пыталось светить солнце. Само оно не виднелось, но его лучи, проходя через сероватую небесную пелену, приобрели неприятный желтый оттенок — и как-то передавали его всему, на что попадали. Неуловимая желтизна примешивалась ко всем окружающим краскам.
Казалась, что мир снят камерой с установленным светофильтром — и Кравцов смотрит сейчас кино. Немое кино — звуки в этой странной желтизне вязли не менее странным образом. Они должны были доноситься до руин — рев грузовиков, штурмующих шоссе, взбирающееся на Попову гору; шумы фабрики «Торпедо», где началась уже смена; прочие звуки рано просыпающегося села, — но не доносилось ничего.
Похоже, весь мир существовал сегодня чуть в другом измерении, чем графские развалины, — и акустические колебания не могли преодолеть желтоватый разделительный барьер. Люди тоже — Кравцов не видел никого на дорожках и тропках, протоптанных через бывший парк.
Он подошел к дворцу почти вплотную — но почему-то не решался ступить на груду, спрессованную из суглинка, битого кирпича, еще каких-то мелких обломков, — по ней можно было легко войти внутрь через зияющий проем не то боковой двери (остатки портика главного входа находились в стороне), не то громадного окна.
Здание выглядело спокойным и мирным. А может быть, просто выжидающим. Кравцову казалось, что он слышит негромкий голос: ну что же ты остановился? не бойся, заходи, сюда заходят многие, и некоторые даже выходят обратно …
Он сделал шаг, второй, третий… — и оказался внутри. Почти внутри — остановился в нише окна (или все же двери?) — как на последнем рубеже, с которого можно повернуть обратно. И внимательно смотрел в чрево каменного монстра — словно надеялся разом увидеть там ответы на загадки последних дней.
Всё внутри походило на то, что сохранилось в его воспоминаниях, и в то же время выглядело иначе. Кравцов прекрасно знал, что в детстве предметы и места кажутся всегда больше и обширнее, чем увиденные позже, глазами взрослого.
Люди смотрят и удивляются: неужели эта лужайка двадцать лет назад представлялась им широким полем? Неужели эта смешная оградка была таким высоким и непреодолимым препятствием?
Он знал это — и всё равно поразился тому, как выглядели изнутри графские развалины.
Дворец казался БОЛЬШЕ ПРЕЖНЕГО.
Кравцов готов был поклясться, что мальчишкой, встав на цыпочки, мог дотянуться до свода оконной ниши, где сейчас стоял. Теперь не стал и пытаться проделать это с вымахавшим до размеров двери окошком…
Проем увеличился, разрушаясь? Сохранив ту же правильную форму?
Ерунда.
Скорее он просто перепутал вход. Хотя казалось, что в детстве они лазали именно через это отверстие. Конечно, перепутал, пятнадцать лет прошло всё-таки… Впрочем…
Он поднял глаза. Перекрытий над головой не было, он скользил взглядом по стене второго этажа — там, как и на первом, участки с сохранившейся желтовато-белой штукатуркой чередовались с красно-черными пятнами обнажившегося кирпича. Кравцов прекрасно знал, куда надо смотреть, но не спешил перевести взгляд. Неторопливо вглядывался в надписи, сделанные краской. И старые, с трудом читаемые, и новые — эти, по всему судя, делались баллончиками-распылителями. Полезное новшество, карабкаться наверх с банкой и кистью труднее и опаснее…
Граффити оказались достаточно убористые — особо не размахнёшься, стоя на крохотном уступчике и цепляясь за едва заметную выбоинку… Но на чистом месте — очень высоко, почти под гребнем — в гордом одиночестве темнели шесть больших, широко расставленных букв.
НАТАША
Изобразил их, конечно же, Динамит… Никому другому пороху на это не хватило бы, — мысленно скаламбурил Кравцов, но не улыбнулся — даже мысленно.
Сомнений у него почти не осталось. Но все же он перевел взгляд чуть левее. Там надпись была поменьше, поуже, но располагалась так же высоко.
ТАНЯ
84 г
Сделал её Кравцов — не зря его прозвали Тарзаном. Ему было четырнадцать, а Танька стала первой девчонкой, с которой он целовался и чуть не потерял девственность — не сложилось лишь вследствие глубочайшей неопытности обоих…
Ностальгических воспоминаний надпись не вызвала. Но доказала: никакой ошибки нет. Место то самое.
Кравцов поднял голову. Полукруглый свод оконной ниши навис высоко над головой. Свод, до которого в детстве он мог дотянуться рукой. Раствор выкрошился из щелей между кирпичами — они казались почерневшими, гнилыми зубами во рту старика, готовыми в любую секунду выпасть…
Тишина терзала уши.
На секунду он пожалел, что не запасся строительной каской. Но остался стоять, где стоял, вновь переведя взгляд внутрь. Большая комната — или небольшая зала — явно стала длиннее и шире за минувшие годы. И — выше. В те давние времена приходилось изрядно постараться, чтобы найти чистое место для автографа, — если недоставало смелости или дурного азарта лезть на самую верхотуру с риском сломать шею. Сейчас промежутков хватало. Притом что многие старые надписи поблекли, выцвели, но никто их не стирал, — наоборот, появились новые. Но свободных мест СТАЛО БОЛЬШЕ.
Кравцов мог дать руку на отсечение — что её, руки, раньше вполне хватало, чтобы дотянуться от его граффити до буквы «Н» в слове НАТАША. Ныне их разделяло не менее двух метров.
ДВОРЕЦ ВЫРОС.
Невидимое солнце неожиданно нашло новую прореху в тучах, руины залила давешняя желтизна — как парадная иллюминация в честь возвращения долгожданного владельца. Почему-то в этом освещении перестали быть видны валяющиеся кое-где пластиковые бутылки и пивные банки, еще какой-то мусор… Заходи, заходи, вот ты и вернулся, и здесь всё готово к встрече… Заходи!!!
Он ждал меня все эти годы, понял Кравцов.
ЖДАЛ И РОС.
Спокойно, сказал Кравцов-скептик. Память — вещь менее прочная, чем кирпичные стены. Здесь всё так и было. А ты просто забыл. Забыл за эти годы…
Кравцов-мистик откликнулся напряженным и звенящим внутренним голосом: уходим отсюда, немедленно уходим.
Скептик, вопреки обыкновению, не стал спорить.
Кравцов развернулся, спустился с глинисто-кирпичной насыпи и быстро пошел. Причём не кратчайшим путем к вагончику — не по тропинке, ведущей вдоль фасада. Стал проламываться сквозь молодые, в половину его роста деревца, подступающие к развалинам. Кравцову хотелось немедленно оказаться как можно дальше от этого места.
Но далеко он не ушел.
Далеко уйти ему не дали.
2
В мир ворвались звуки — громкие, хриплые, яростные. Кравцов не сразу понял, что это воронье карканье.
Огляделся — ворон вокруг собралось множество. Некоторые птицы сидели на ветвях старых лип, на земле, на выступах дворца. Но большей частью вороны кружились в воздухе. Прямо над головой Кравцова. И все орали.
Он остановился. Знал, что ворон здесь гнездится много — и на липах парка, и поблизости, на деревьях кладбища. Но до сих пор они вели себя достаточно незаметно.
Одна из птиц перешла в крутое пике — направленное, казалось, прямо в лицо Кравцову. Он инстинктивно пригнулся, но метрах в четырех ворона круто взмыла вверх. Через секунду вторая повторила тот же маневр. Третья оказалась наглее — пролетела совсем низко над головой, он даже почувствовал движение воздуха от крыльев.
Кравцов опустил глаза, решив подобрать несколько кирпичных обломков. Вороны — птицы умные и осторожные. Порой достаточно сделать вид, что нагибаешься за камнем, чтобы стайка встала на крыло и отлетела на безопасное расстояние.
Мелкие обломки сквозь густую растительность не виднелись. За ними надо было возвращаться к дворцу. Кравцов сделал туда два шага — и отдернулся от яростной атаки четвертой вороны. Эта прошла вообще впритирку. Он подумал: коллективный привет писателю Кравцову от Дафны Дюморье, Стивена Кинга и Андрея Лазарчука… Подумал со слегка растерянной шутливостью, страха не было, он увидел наконец сквозь траву несколько камней и понял, что сейчас разгонит этот птичий базар.
Не успел.
Не успел поднять камень с земли — сильный удар обрушился сзади и сбоку. Резкая боль за ухом разъярила.
Проклятая тварь!
Карканье казалось торжествующим. Очередную ворону, налетающую спереди, он ударил кулаком — так бьёт футбольный голкипер по летящему в ворота мячу. Почувствовал, как хрустко подается птичье тельце, но результатов удара разглядеть не успел — с двух сторон атаковали сразу две птицы. Одну Кравцов зацепил легонько, лишь скользнув по перьям. Вторая, напуганная его резкими движениями, отвернула.
Но за камнями не нагнуться, не рискуя получить новый удар клювом в затылок.
Если бросятся все разом — заклюют, понял Кравцов. Точно так же, как заклёвывают беспомощных молодых зайчат… И понял другое — не бывает. Не должны эти хитрые осторожные птицы так нападать на человека.
ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ КОШМАР.
Он не просыпался, не вставал и не совершал прогулку к развалинам. Он спит в своём вагончике. И неплохо бы поскорее проснуться…
На поиски выхода из кошмара времени не оставалось — птицы атаковали. Хорошо еще, что по одной-две, не всей кучей. А если сменят тактику?
Затылок продолжал болеть, Кравцов коснулся его — пальцы оказались в крови. Проклятые твари…
Сон это или явь — надо отступать под прикрытие развалин.
Но не хотелось.
Громкий крик — откуда-то сзади — перекрыл вороньи вопли.
— Пригнись!!! Ниже голову!!!
Боевые команды Кравцов привык выполнять, не задумываясь. А обстановка вокруг, честно говоря, напоминала боевую. Атака с воздуха, в которой он не слишком успешно играл роль зенитного дивизиона.
Нагибаться, подставляя затылок, не стал, но мгновенно присел, продолжая сканировать воздушное пространство.
Над головой что-то свистнуло — и ударило в пикирующую ворону. Птица закувыркалась, теряя перья. Но вышла из штопора и полетела в сторону, неуклюже переваливаясь. Если можно лететь, хромая, то летела она именно так.
Кравцов оглянулся, не приподнимаясь. И увидел черноволосого мальчишку с рогаткой. Тот, быстро натягивая резинку, выстрелил еще три раза. И дал три промаха по быстро летящим целям, хотя снаряды проходили достаточно близко от ворон. Похоже, первое попадание стало счастливой случайностью.
Но птицы налетать перестали — поднялись выше, кружили над головами, не прекращая орать.
Мальчишка подбежал к Кравцову, торопливо зашарил взглядом вокруг. Потом воскликнул:
— Вот он! Прикройте!
Кравцов хотел спросить: «Кто — он?», но в руки ему уже совали рогатку и несколько увесистых шариков от подшипника. Рогатка оказалась интересная — не деревянная, но металлическая — удобная, ухватистая, с тугим плетеным жгутом. Причём не заводская, хотя такое оружие — для уничтожения крыс и как раз ворон — появилось в последние годы в охотничьих магазинах.
Мальчишка нырнул в заросли прошлогоднего бурьяна, где — Кравцов только сейчас заметил — имело место какое-то копошение. А господин писатель с мстительной радостью открыл огонь.
Три первых шарика ушли в никуда. Похоже, навыки стрельбы из подобного оружия он растерял. Хотя в детстве владел рогаткой неплохо. Кравцов чертыхнулся, промазав в четвертый раз, — он уже пристрелялся, но проклятая ворона словно уловила телепатический сигнал и резко сменила курс. Вложил в кожанку рогатки последний снаряд и стал целиться неторопливо и тщательно, используя охотничьи приемы стрельбы по летящей дичи… Опыт офицера ПВО тут помочь не мог, стальным шарикам не хватало самой малости — блока телеуправления или самонаводящейся головки.
Мальчишка вынырнул из бурьяна. В руках его трепыхался крупный воронёнок. Кравцов наконец понял, что произошло.
Никакой мутной мистики.
Воронята растут быстро и покидают родное гнездо, ещё не научившись летать. Передвигаются по земле, но добычей кошек и других неприятелей становятся крайне редко. Стоит вороненку издать особый тревожный крик — и не одна его родительница, но все окрестные вороны мчатся на помощь. И порой нападают при этом на людей, в особенности на детей. Видимо, торопливо отходя от дворца, Кравцов чуть не наступил на воронёнка… Необычным оказалось разве что число прилетевших на его крик ворон. Похоже, расплодились они тут в количествах, превышающих все экологические нормы…
Серый пленник в руках мальчишки вопил истошно, и его взрослые собратья вновь стали налетать, но теперь куда более осторожно. Кравцов прицелился в пикирующую на него ворону. Дождался, когда угловое смещение стало нулевым и птица казалась неподвижной, лишь растущей в размерах, — и выстрелил.
Есть! Попал! Ворона со сломанным крылом закувыркалась вниз. Больше снарядов у Кравцова не осталось.
— Швырни его подальше! — крикнул он мальчишке. — Иначе не отстанут!
Вместо этого паренёк коротким движением свернул воронёнку шею. Тот бешено захлопал крыльями и затих. Только тогда серый комок перьев был брошен обратно в бурьян.
И сразу все кончилось. Мстительностью и злопамятностью вороны не отличались. Призыв о помощи смолк — и они немедленно стали разлетаться по своим птичьим делам.
— А вы не любите животных, сэр Герасим, — процитировал Кравцов. Возможно, фраза, сказанная в адрес собственного спасителя, прозвучала излишне резко. (Ну почти спасителя. Немалые шансы в схватке с пернатыми у Кравцова еще оставались.) Но больно уж легко и хладнокровно мальчик убил воронёнка.
— Животных я люблю, — возразил паренек. — Самых разных. И слепого щенка, которого нашел тут на прошлой неделе, люблю. По-моему, он меня тоже. Но эти гадины выклевали ему глаза. Он никогда меня не увидит. И зовут меня не Герасим, а Даня. А вы писатель Кравцов? Есть в вашей сторожке аптечка? Кровь вам уже на воротник течёт.
3
Через полчаса они вышли из вагончика. Волосы вокруг ранки на затылке Кравцова были аккуратно выбриты, а сама она тщательно продезинфицирована и заклеена пластырем. Без помощи ворошиловского стрелка Дани, на ощупь, он едва ли справился бы так удачно.
Юный друг животных сказал:
— Я заметил — у вас ведь там ружье в чехле стоит?
Кравцов кивнул. Дробовик он привез вчера из города не для охраны Пашкиных плит — для предстоявшей вечером охоты.
— Пойдемте, покажу местечко, где стоит пострелять, если заваляется пара лишних патронов, — сказал Даня. — Это рядом. Я туда и шёл, когда вас увидел.
Они обошли дворец, немного спустились по косогору. И Кравцов сам, без пояснений, понял, что за местечко имел в виду Даня. Это оказались растущие неправильным ромбом четыре громадные липы, похожие на те, что высились у фасада дворца. Но лишь похожие. Те, в парке, уже полностью оделись молодой листвой — у этих ветви только-только подернулись зеленой дымкой. Которая никак не мешала рассмотреть уродливые сооружения, просто-таки облепившие деревья.
Вообще-то, проводись между птицами архитектурные конкурсы, даже обычное воронье гнездо — неряшливое бесформенное вооружение из ветвей — не имело бы там никаких шансов. Но эти…
Перед Кравцовым предстала база атаковавших его воздушных агрессоров. Похоже, вороны гнездились здесь много десятилетий. Их постройки сливались в огромные темные комья, под которыми буквально прогибались толстые сучья. Птиц вокруг виднелось множество — правда, не агрессивных. Пока не агрессивных…
Плохо, что «Графская Славянка» расположена на территории пригородного заказника, где охота запрещена, подумал Кравцов. В охотничьих хозяйствах в последнее время вновь стали поощрять активно сдающих вороньи лапки охотников — льготными лицензиями, например. Чересчур уж расплодились пернатые разбойники — безжалостно уничтожают гнезда других птиц вместе с яйцами и птенцами, заклевывают зайчат, бельчат, других зверюшек… Здесь же с летучей чумой никто не борется. А зря.
Даня, впрочем, как раз собирался побороться. Достал из кармана новую пригоршню шариков.
— Будете?
Кравцов покачал головой:
— По-моему, бесполезно. Здесь их столько…
— Сам знаю, что бесполезно… Но нужно же что-то делать! Спилить бы к чертям эти липы… Так ведь на другие переселятся. Я в одной книжке читал: мол, надо гнезда вороньи не разорять — всё равно они новых яиц нанесут; надо, дескать, их яйца — прямо в гнезде — иголкой проколоть. Тогда ворона будет их до упора насиживать, а новых не снесёт… Хорошо бы того умника сюда привести и иголку в руки дать. Пусть слазает, попробует. Насмерть ведь заклюют…
Мальчик безнадежно махнул рукой и стал натягивать рогатку.
Кравцов поднял голову, ожидая результатов выстрела. Скрипучий голос раздался сзади неожиданно:
— Охотитесь? Мясом запасаетесь?
Голос был знаком. Дурацкая манера задавать вопросы — тоже. Кравцов обернулся. За их спинами, опираясь на толстую палку, стоял старик — высокий, крепкий, костистый.
— Птичек божьих убиваете? — снова спросил старик.
— Здравствуйте, Георгий Владимирович, — вежливо приветствовал его Кравцов.
И подумал: Ворон пришёл вступиться за ворон, дурной каламбур какой-то…
Именно такую фамилию — Ворон — носил пришелец, хотя Ленька Кравцов в детстве много лет думал, что это прозвище, как и у большинства деревенских. Ворон был старинным приятелем Кравцова-отца. Не то чтобы другом, а… Честно говоря, Кравцов-сын до сих пор не разобрался в подоплеке тех давних отношений. Дальних родственников у Кравцовых в Спасовке хватало, но тесных связей отец ни с кем не поддерживал. Зато с Вороном — когда наезжал в Спасовку — общался часто. В основном по поводу рыбной ловли — старик досконально знал все водоемы и водоемчики в не слишком богатой рыбой округе; хорошо изучил, где, когда и чем ловить. Рыбалка с ним всегда бывала успешной — по меркам здешних мест, понятно. Но попытки Кравцова-отца, страстно увлеченного этим занятием, вытащить Георгия Владимировича куда-нибудь на дальние и богатые рыбой водоемы — на Ладогу, Вуоксу или Чудское озеро — успеха не имели. Отчего-то старик не желал покидать Спасовку даже на два-три дня…
Леньке Кравцову казалось — и тогда и теперь, — что рыбалкой отношения отца с Вороном не исчерпывались, что было между ними и что-то еще, чего он по малости лет не мог понять и уразуметь…
Сам Ленька старика не любил. Именно за такую вот манеру неожиданно появляться за спиной в разгар их мальчишеских игр и задавать такие вот дурацкие вопросы. Потом Ворон (не слушая ответов или встречных вопросов) изрекал что-нибудь мрачное и малопонятное, звучавшее не то советом, не то пророчеством, — и уходил, не прощаясь. Впечатление от его визитов всегда оставалось неприятное — зачастую продолжать игру уже не хотелось.
Как выяснилось, Ворон за пятнадцать лет не забыл Кравцова.
— Смотри, Ленька, — проскрипел он. — Смотри внимательно по сторонам, когда вверх стрелять будешь. И за спину поглядывай.
Развернулся и пошел вверх по косогору, к дворцу. Манеры старика ничуть не изменились за прошедшие годы.
Даня, присутствие которого Ворон проигнорировал, сделал вид, что натягивает рогатку, метясь в спину уходящего. Сказал вполголоса:
— Ворон здешних мест… Ходит, каркает…
Лицо у него стало жёсткое, недоброе. А лексика и манеpa разговора — как Кравцов давно уже отметил — казались больше подходящими для взрослого человека, чем для мальчишки лет тринадцати — именно на столько Даня выглядел.
Интересно, что вырастет с годами из этого паренька, недрогнувшей рукой и без тени жестокости свертывающего головы воронам? — подумал Кравцов, всматриваясь в черты лица Дани, в глаза редкого синего цвета, контрастирующие с черными волосами. И вдруг увидел — не глазами, а внутренним писательским взором — его взрослым. Увидел невысокого, худощавого человека, опасного, как лезвие бритвы; безжалостного, но уверенного в необходимости и правильности всех своих поступков… Цыц! — прикрикнул Кравцов на своё писательское воображение. Потом спросил, внутренне сетуя на себя за недогадливость:
— Скажи, пожалуйста, Даня — это сокращение имени Даниил?
— Его самого, — подтвердил несносный мальчишка. — Сестра про меня рассказала?
Кравцов кивнул. Хотел спросить, где она, сестра, сейчас — с Аделиной в течение двух дней после памятного визита в «Орион» Кравцов не встречался. Пару раз попробовал дозвониться — её мобильник оказался отключен.
Но ничего спрашивать Кравцов не стал. Сначала стоило определиться в своём отношении к девушке Аде.
…Вернувшись в вагончик, он снова вспомнил про Ворона. И озадачился вопросом: сколько, интересно, лет старику? Когда-то тот казался старше Кравцова-отца лет на двадцать, а то и больше. Теперь — если бы отец не умер три года назад — они, скорее всего, выглядели бы ровесниками…
Хорошо законсервировался старый хрыч. Что бы значило его заявление про стрельбу вверх и поглядывание по сторонам?
Кравцов был уверен, что слова старика относятся именно к утренней эпопее с воронами. О предстоявшей вечером охоте на вальдшнепов он как-то не подумал…
Да и откуда Ворон мог о ней знать?
4
Тяга вальдшнепов — крупных лесных куликов — начинается за полчаса до заката и завершается с наступлением полной темноты, так что выезжать слишком рано не стоило.
Темнело в конце мая поздно, но Кравцов собрался загодя — и правильно сделал. В половине восьмого за окном раздался звук двигателя.
Кравцов удивился — «сааб» Пашки подъезжал и отъезжал практически неслышно. Выглянул в окно и увидел старый «мерседес» салатного цвета. Неужели та самая «Антилопа-Гну»? Точно, за рулем сидел Козырь в камуфляжном охотничьем костюме.
— Не смог в свое время со старушкой расстаться, — пояснил Паша пару минут спустя, тронувшись с места. — Поставил здесь, в Спасовке. На всякий случай. Выручить за неё три года назад можно было гроши, и… Знаешь, первая машина — как первая женщина. Только первую свою женщину, женившись на другой, в гараже не поселишь…
Пашка улыбнулся и помолчал несколько минут, продолжая улыбаться. Наверное, вспомнил первую женщину. Кравцов наконец понял, отчего так изменилась улыбка Козыря. Раньше тот, улыбнувшись, тут же характерным жестом — указательным пальцем у переносицы — поправлял очки. Похоже, подражал одному из персонажей «Неуловимых мстителей», культовой кинокартины их детства. Да и очки выглядели точно как в фильме — небольшие круглые линзы, тонкая проволочная оправа. Близорукость у Пашки была слабая, мог бы и обойтись без этого оптического прибора, — надевал, пижоня.
Ныне очков он не носил. И глаза не поблескивали характерно, как у людей, вставивших контактные линзы. Надо думать, сделал операцию по коррекции зрения, или близорукость прошла сама собой — с годами почти все люди становятся немного дальнозоркими. Кравцов подумал, что Пашка, расставшись с очками, наверное, ещё долго подносил палец к пустой переносице… Характерный штрих, неплохо бы куда-нибудь вставить…
Козырь тем временем вернулся к автомобильной теме:
— А с твоей тачкой что? В город небось электричкой мотался?
— Говорят, через несколько дней закончат. Правда, неделю назад говорили то же самое…
— Будешь на ней ездить? Или…
— Не знаю, — сумрачно сказал Кравцов. — Возможно, придется продавать и брать новую…
Он действительно не знал. Не знал, сможет ли сидеть за рулем машины, в которой погибла Лариса.
— У меня есть предложение. Бери ключи от гаража и от «Антилопы», пока со своей не разобрался, а доверенность я на неделе подвезу. Я ею все равно раза три-четыре в год пользуюсь, чаще на охоту-рыбалку не получается выбраться… А машина, которая не ездит, куда быстрее портится; езда по гололеду, солью посыпанному, не в счёт, понятно… Помнишь, как батька твой говорил? — саблей рубиться надо, а то в ножнах заржавеет.
— Вообще-то он это про другую «машинку»…
— Какая разница, принцип тот же… Согласен?
Кравцов согласился, хотя излишней нужды в машине не испытывал. Но мало ли что случится… Ключи и доверенность карман не протрут. Да и «Антилопа», честно говоря, ему понравилась. Её просторный салон отчего-то напомнил 21-ю «Волгу», на которой ездил Кравцов-отец лет тридцать назад (малыш Ленька сидел впереди, на «штурманском» месте). Весьма отдалённо напомнил, конечно.
Но и в той и в другой машине чувствовалась какая-то капитальность, основательность, — и не было доведенного до абсурда рационализма, просчитанной на компьютере безлико-идеальной правильности… Эргономики — меньше, индивидуальности — больше. Ход же машин не стоило и сравнивать. Восемь цилиндров — это все-таки восемь цилиндров, не важно, что движку двадцать с лишним лет.
«Антилопа» тем временем свернула на одну из улиц поселка Торпедо, граничившего со Спасовкой. Вернее, не совсем граничившего — разделяла их одноименная поселку фабрика спортинвентаря. Несмотря на столь близкое соседство, поселок и село относились к разным субъектам федерации — к Санкт-Петербургу и Ленинградской области соответственно.
Надо сказать, что жизнь в Царскосельском пригородном районе Питера и в Гатчинском районе Ленобласти различалась — и не в пользу спасовцев. В торпедовские дома горячая и холодная вода, отопление и газ попадали по трубам. В Спасовке — колодцы и колонки, печи, приткнувшиеся к домам железные шкафы с газовыми баллонами. У жителей Торпедо стояли телефоны с городскими семизначными номерами, а в Спасовку приходилось дозваниваться через межгород.
Естественно, торпедовские и спасовские парни — по крайней мере, во времена юности Кравцова — не слишком-то ладили. Хотя справедливости ради надо сказать, что с жителями Антропшино — деревни тоже областной, протянувшейся по противоположному краю долины Славянки — юные спасовцы враждовали куда более ожесточённо, дело доходило до драк стенка на стенку. Но корни той вражды уходили во времена, когда и фабрики, и поселка Торпедо в природе не существовало.
…Улица, по которой они катили, вырвалась из поселка на простор полей, асфальт под колесами исчез. Километра через полтора Паша свернул на пересекавшую их путь бетонку — старую, заброшенную, с пробивающейся сквозь трещины бетона зеленью.
— На полигон едем? — только сейчас догадался Кравцов.
— Туда, туда… Не забыл еще дорогу? Военные с того места лет десять как ушли. У меня, честно говоря, есть по поводу полигона большие планы…
То, что они именовали «полигоном» — огромный кусок пересечённой местности, обнесённый колючей проволокой с вышками и запретками, со щитами, запрещающими проход и угрожающими стрельбой на поражение, — был муляжом, фальшивкой. Надо думать, люди в высоких штабах и с большими звёздами на погонах считали, что потенциальный противник, увидев на сделанных спутниками снимках взлетно-посадочные полосы с изредка выкатываемыми на них макетами самолетов, емкости ГСМ, бетонные коробки зданий и сооружений, — решит, что здесь имеет место база стратегической авиации. И в случае серьезного конфликта понапрасну истратит пару-тройку боеголовок.
Впрочем, чтобы не впасть в заблуждение, заморским супостатам достаточно было внедрить своего агента в компанию, к которой принадлежали Кравцов и Пашка. Пацаны не раз тут бывали и досконально знали, что есть и чего нет на «секретном объекте». Несмотря на грозные плакаты, пролезали они сквозь пестревший прорехами периметр беспрепятственно — взвод, имитировавший людское копошение на лжеаэродроме, нес свою службу более чем небрежно.
— И что же у тебя за планы? — спросил Кравцов. — Насколько я помню, земля там никудышная, лес тоже — в основном осина, да и не сплошной — островами, рощами. Совершенно бесперспективное место. Разве что — как мы — весной на вальдшнепов поохотиться.
— Вот именно! — воодушевился Пашка. — Именно охота! Ты знаешь, что перед Первой мировой войной министерство императорского двора положило глаз на «Графскую Славянку»? Я ещё не рассказывал? Тогда слушай.
Краем уха пацан-Ленька слышал об этом в детстве — старики говорили, что одно время владел графским дворцом последний император. Но никаких подробностей Кравцов не знал.
По словам Козыря, к началу двадцатого века заповедник Гатчинской императорской охоты, несмотря на тщательную охрану, количеством дичи несколько истощился — и бывшее владение графини Самойловой решили приспособить под «охотничий домик» для семейства Романовых, поближе к более богатым зверьём и птицей угодьям, на которых ныне находится как раз полигон. Полностью задуманную реконструкцию «Графской Славянки» (вернее, «Царской Славянки» — переименовали в середине XIX века, когда графиня продала имение «в казну») так и не закончили. Даже большой пруд в графском парке ( прозванный позднее Торпедовским), выкопанный в форме вензеля «S», — не успели переделать на «R» — помешали Первая мировая и революция… Так что писатель Кравцов обитает сейчас не где-нибудь, а почти в императорской резиденции, — последний самодержец хоть и не был, подобно иным монархам, в охоту влюблен самозабвенно, однако несколько раз новоприобретенную недвижимость посещал, причем вместе с семейством.
И если уж возрождать руины, то именно в этом — охотничьем — качестве.
— Понятно… — протянул Кравцов. — Неплохо задумано. До сих пор валютные охотничьи туры организовывали в глубинке, у чёрта на куличках, а тут можно включить в программу той же турпоездки и красоты императорских загородных резиденций… Сегодня какой-нибудь новозеландец осматривает, разинув рот, фонтаны Петродворца; назавтра палит на бывшем полигоне по жуткому русскому медведю, которого только что, за кустами, выпустили из клетки; послезавтра любуется Павловским дворцом-музеем. Поздравляю, неплохо придумано. Особенно если учесть, что стрелки из туристов обычно хреновые, а медведи — звери живучие…
— Ничего ты не понял, — сухо сказал Козырь. — И, по-моему, просто пересказал одну дебильную комедию. Не по твоему сценарию снимали? У меня план другой. Те туристы, что шляются с видеокамерами по Петродворцу и тащатся от Монплезира и «Самсона, склоняющего льва к оральному сексу», — дешёвки. А в Европе есть очень богатые люди. Я вовсе не собираюсь устраивать здесь отель туркласса с большой проходимостью. Нет, тут будет всё как полтора века назад. И гостей дворец сможет принять человек пять-семь, как при графине Самойловой. Не считая их обслуги, разумеется. Но это будут очень богатые гости.
— Где же ты найдешь таких? — скептически спросил Кравцов. — Это какой-нибудь клерк из Брюсселя, просматривая рекламы перед отпуском, увидит, что тур в Питер куда дешевле, чем в Венецию, — и прилетит. С представителями высшего света такой номер не катит.
— Для того мои английские партнеры и существуют, — не смутился Козырь. — Ты в курсе, что не так давно их парламент запретил на территории Британских островов традиционную охоту — скачку за лисицей? Ты вообще представляешь, что это такое?
Кравцов кивнул. Развлечение действительно самое великосветское. На иные проводимые в Англии подобные охоты не мог стать пропуском банковский счет с цепочкой нулей любой длины. Требовалась не менее длинная родословная.
— В континентальной Европе, — продолжил Козырь, — им проводить такие развлечения тоже ни за что не позволят, по крайней мере в Западной и Центральной. Там скученность и плотность населения большая, а для этой охоты нужен простор — скачка тянется не одну милю. У нас есть все шансы перехватить дело. Какой-нибудь наш председатель бывшего колхоза, а ныне товарищества пайщиков, — рад будет, когда по его полям пронесется свора псов и кавалькада всадников, — если получит в виде возмещения пачку долларов. Плюс традиционная русская псовая охота — тоже развлечение для высших классов. И о медвежьей охоте, что бы ты ни говорил, можно подумать. Даже о соколиной, чёрт возьми!
Кравцов хотел возразить, что пять или семь гостей графского дворца излишне длинной кавалькады не составят, гонка за лисицей собирает общество куда более многолюдное. Но не стал — в конце концов, Питер под боком, и все его интуристовские структуры к Пашиным услугам…
К тому же они приехали.
Бетонку перекрывали железные ворота, неимоверно ржавые. Судя по виду, протаранить их было проще, чем провернуть намертво схватившиеся петли… Козырь подтвердил подозрение Кравцова:
— Выходим. Дальше пешком…
Они вышли из машины, собрали ружья — штучной работы бюксфлинт Паши и непритязательный «Иж-18» Кравцова. При виде его Козырь осуждающе покачал головой:
— Сказал бы, что с таким пойдёшь — я прихватил бы для тебя что-нибудь получше. Шестнадцатый калибр, один ствол — фу.
— Профессионалы-охотники в Сибири, — парировал Кравцов, — считают двустволки 12-го калибра забавой городских дилетантов, не умеющих толком стрелять. Сами же пользуются 28-м, а то и 32-м [Калибр охотничьих ружей исчисляется не в миллиметрах или дюймах, но по числу круглых пуль данного калибра, которые можно отлить из одного английского фунта свинца. Соответственно чем цифра калибра больше — тем меньше диаметр дула ружья. ]. А ружей у меня четыре штуки, и есть не хуже твоего. Просто подумал: сезон закрыт, налетим вдруг на егерей, конфискуют, — не так жалко.
— Думаешь, я тебя браконьерствовать позвал? Вот ещё!
Пашка достал из бардачка машины несколько распечатанных на принтере листков бумаги с печатями.
— Это выданное моей конторе разрешение от областного Охоткомитета на… — Козырь зачитал по бумаге: — На «проведение исследования возможности создания охотничьего хозяйства» на полигоне. Где оно тут… Вот, пункт четвёртый: «…в том числе контрольного отстрела дичи в сроки, не предусмотренные правилами охоты». А это — договора, поручающие означенный отстрел Кравцову Л.С. и Ермакову П.Ф. О том, что контрольно отстрелянную дичь нельзя жарить, — ни слова. Теперь твоя совесть чиста? Тогда пошли стрелять.
И они пошли.
…Первый вальдшнеп появился, когда солнце только коснулось вершин деревьев. Летел вдоль поросшей мелколесьем просеки, тихонько посвистывая. Как говорят охотники: «цвикал » — призывал самку. Летел низко, медленно, Кравцов хорошо мог рассмотреть его.
И — залюбовался.
Кулик был красив — пестрое оперение казалось красным в лучах заходящего солнца, головка с очень длинным клювом поворачивалась вправо-влево: не откликнется ли подруга на негромкий призыв?
Кравцов не выстрелил: Даже не поднял ружьё. Вальдшнеп протянул дальше — вправо от Кравцова, туда, где шагах в тридцати стоял Пашка-Козырь. Там грохнул выстрел, за ним второй. Неудачные — судя по тому, как ругался Пашка.
— Ты что, уснул, Кравцов?! — кричал он сквозь кусты. — Почему без выстрела дичь пропускаешь?! Я ведь не жду оттуда, твой сектор!
— Прости! — крикнул в ответ Кравцов. — Больно уж красивый! Пусть живёт — на племя!
— Кончай гринписовские штучки! Я Наташке дичь обещал! Она на завтра шикарный ужин планирует!
На этом попреки прекратились — Козырь боялся распугать других вальдшнепов.
Кравцов внял дружеской критике — и занял позицию, всерьез готовый к стрельбе. Стоял он так, что от подлетающих слева птиц его прикрывало деревце, невысокое, но достаточно густое, — а летящие справа все равно будут напуганы выстрелами Паши…
Охота на тяге такова, что все время приходится смотреть вверх — порой вальдшнепы появляются неожиданно, без предупреждающего цвиканья. И предмет, видневшийся сквозь листву деревца-укрытия, Кравцов не увидел. Не взглянул в ту сторону почти до самого конца охоты.
Предмет, прикреплённый к коре на уровне его глаз, был невелик. И для леса казался совершенно чужим и инородным.
Именно чуждость и зацепила взгляд, когда Кравцов уже закончил стрельбу и перестал вглядываться в наливающееся темнотой небо. Краски дня погасли, но темнеющий на стволе нарост показался слишком правильной формы.
Протянув руку сквозь ветви, он вытащил воткнутый в ствол нож — небольшой, складной, с несколькими лезвиями. Хмыкнув, Кравцов сунул находку в карман. Всё равно нет шансов, что бывший владелец безделушки вспомнит, где её утратил. Осин на полигоне много…
5
Тяга оказалась не особенно обильная, но трёх вальдшнепов они всё-таки добыли — Паша двух, Кравцов одного.
На обратном пути — ехали уже в темноте, с включенными фарами — Козырь говорил, как тут всё переменится, когда он получит полигон в долгосрочную аренду: появятся фазаны, другая специально выращенная в питомниках дичь, — но с фазанов и прочих пернатых как-то незаметно свернул на излюбленную тему: скачку за лисицей богатых английских лордов.
Кравцов не выдержал:
— Извини, Паша, но у меня назрел нескромный вопрос: каким образом владелец нескольких предприятий по производству стройматериалов — то есть ты — завел знакомства в высшем британском свете?
Козырь чуть смутился.
— Идея не только моя. Был у меня знакомый… паренёк на редкость хваткий. В двадцать семь лет стал вице-директором здешнего филиала «Бритиш интерконсалтинг» — а это, я тебе скажу, должность … Хотя сам тоже из деревни, откуда-то с Севера. Вот у него завязки с англичанами имелись на самых разных уровнях…
— Был? Он что, умер от профессиональной бизнесменской болезни — от передозировки свинца, осложненной контрольным выстрелом?
— Да нет… Там что-то странное вышло. Родом он из старообрядческой семьи, хоть сам неверующий, и… Не знаю: может, гены взыграли, может, перетрудился и умом поехал… В общем, плюнул на карьеру, на всё остальное, — и уехал на Север. Живет полным отшельником в какой-то вымершей деревушке. Совсем один, лишь с женой и приемным ребенком. Подвёл он меня крепко, проект завис на несколько месяцев. Но сейчас дело пошло на лад. Вот-вот будут подписаны бумаги о передаче «Графской Славянки» англо-русскому СП. А то ведь сам знаешь наши власти — как собака на сене. Сами за шестьдесят лет не восстановили и другим не дают…
Кравцов молчал, задумавшись. Что-то в последних словах Козыря было не так. Что-то не стыковалось с ранее сказанными… Но что? Он не мог понять и злился — и на себя, и на Пашку, облагодетельствовавшего здешним курортом. И на все непонятности минувших нескольких дней.
Пашка не замечал его настроения и рассказывал о практикуемой среди коллег-бизнесменов охоте, от которой его с души воротит. Кравцов почти не слушал. И только когда Козырь свернул на новорусскую коллективную рыбалку, на которую как-то чёрт дернул его поехать (море спиртного, взвод блядей, из всех снастей — ящик динамита) — тогда Кравцов перебил:
— Подожди, Паша, потом опять забуду. Ты ведь мне так и не рассказал про Динамита. Как он погиб?
— Точно, ты ведь и не знаешь… Это через два года после твоего отъезда стряслось…
(В восемьдесят восьмом году Кравцов-отец получил повышение — был переведён в аппарат Минспецмонтажстроя. Последующие пять лет семья провела в Москве.)
— Там история долгая и мрачная, — сказал Козырь. — А мы уже подъезжаем… Завтра расскажу, не забуду. Только прошу — при Наташке ни слова. Её та трагедия тоже зацепила.
Через пару минут он высадил Кравцова у вагончика.
— Ну ладно, заступай дрыхнуть на пост. Или сочинять будешь? А мне, возможно, еще прогуляться по деревне придётся…
При последних словах Паша нахмурился.
— Что за прогулки? Помощь не нужна?
— Да нет, пройдусь по задворкам, Чака поищу, если до сих пор не вернулся. Я приехал, дверцу открыл — он выпрыгнул и был таков. Засиделся. Молодой кобель, годовалый, кровь в жилах играет. Сейчас небось породу местных жучек где-нибудь улучшает…
Он уехал, Кравцов отпер вагончик, отключил сигнализацию. Стал перекладывать лежавшие в карманах охотничьей куртки мелочи — и нащупал недавнюю находку. Складной ножичек.
Он внимательно рассмотрел трофей. Лет ножику немало — сделан еще в давние советские времена, на потертом зеленом пластике накладок выпуклая надпись: «2р. 40 к.». Два лезвия, открывалки для банок и бутылок, шило, штопор… Когда-то у юного Леньки Кравцова была похожая игрушка, подаренная отцом. Но, конечно, давным-давно потерял. А кто-то вот сохранил, сберёг. Большое лезвие вполне в рабочем состоянии — от частого контакта с точилом стало вдвое уже, но идеально наточено.
Он выдвинул из рукоятки все металлические приспособления, нож лежал на ладони, как диковинное растопырившееся существо… А Кравцову всё сильнее казалось, что много лет назад он владел не просто похожей безделушкой, но именно такой …
Точно, он вспомнил: на металлическом оголовке его ножа были изображены две такие же рыбки, изогнувшиеся затейливым образом, словно собирались заняться нерестом в позе «69». В принципе ничего удивительного. В те годы заводы, выпускавшие ширпотреб, изобилием ассортимента не баловали — и если уж начинали что-то штамповать, то миллионами штук. Наверняка такие ножички лежали на всех прилавках от Камчатки до Калининграда.
Странно другое — какой удивительной цепочкой совпадений вернулся предмет, крайне похожий на утерянный пятнадцать лет назад… Порывшись в памяти, Кравцов вспомнил: посеял он отцовский подарок в последнее своё лето в Спасовке. Причём вроде бы как раз на полигоне, во время сбора грибов — подосиновики под тамошними осинами росли в сезон весьма густо.
Конечно, смешно думать, что нож пятнадцать лет дожидался владельца — металлические части давно съела бы ржавчина. Но все равно совпадение интересное…
Он машинально перевернул ножичек. И замер…
На пластике рукояти оказались нацарапаны две буквы — неровные, полустёртые. «Л» и нечто вроде завалившегося на бок «Y» — на самом деле незаконченное «К».
Надпись начал выцарапывать Ленька Кравцов пятнадцать лет назад.
НОЖ БЫЛ ТОТ САМЫЙ.
Кто-то его нашёл, неуверенно подумал Кравцов. Кто-то, постоянно ходящий на полигон за грибами… Нашёл, чтобы потерять спустя полтора десятилетия. Потерять ровнёхонько под приезд былого владельца. Забыть воткнутым в кору именно того дерева, под которым означенный владелец остановился пострелять вальдшнепов…
Он поморщился.
В любую из своих книг он такую случайность вставлять бы не стал — слишком невероятная. Скорее уж другой мальчишка имел те же инициалы. А память Кравцова сыграла дурную шутку, и никаких букв на пластмассе он не выцарапывал.
Наверное, так оно все и получилось. Вспомнить обстоятельства, при которых начал украшать рукоять своей монограммой, Кравцов не смог, как ни старался. Ложная память… Он сложил лезвия, сунул нож в карман… Но где-то глубоко засела уверенность:
НОЖ ТОТ САМЫЙ.
6
Прекратив ломать голову над находкой, Кравцов подошел было к компьютеру, но потом решил организовать себе поздний ужин, аппетит от прогулок на свежем воздухе разыгрался не на шутку. Поставил сковороду на плитку, плеснул растительного масла, распахнул дверцу холодильника…
И отдернулся.
Постоял несколько секунд, борясь с приступом рвоты, — и выскочил из вагончика.
Луна только что взошла. Старые липы отбрасывали в её свете длинные тени — черные, уродливые, шевелящиеся. Графские развалины громоздились безмолвным призраком.
Кравцов глотал прохладный ночной воздух, стараясь дышать размеренно. Спокойно, говорил он себе, спокойно… Четыре удара сердца — один вдох. Спокойно… Сейчас я вернусь, открою холодильник — и там ничего не будет, кроме оставшихся у меня продуктов… НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Лишь продукты…
Собравшийся взбунтоваться желудок успокоился. Но Кравцов не спешил возвращаться и открывать холодильник. Постоял ещё, выкурил сигарету. Потом решительно прошёл внутрь. Взялся за ручку холодильника, потянул — и уже не отпрянул при виде громадной оскаленной пасти…
…Собачья голова стояла на его собственной одноразовой тарелке, та была маловата для толстенной шеи ротвейлера — и часть продуктов оказалась загажена капавшей кровью. Суда по всему, кошмарный подарочек подкинули совершенно свежим, только что отрубленным. Но достаточно давно. Надпись, сделанная на дверце морозилки (которую Кравцов заметил не сразу), успела засохнуть. Сделанная кровью надпись.
Неровными буквами там было выведено одно слово:
УБИРАЙСЯ
Масло на перегревшейся сковороде отчаянно чадило, но Кравцова это радовало — никаких других запахов он не чувствовал. Едва ли голова успела засмердеть, но проверять не хотелось. Это просто кусок мяса, сказал он себе, — и достал из холодильника тарелку с её содержимым. Руки почти не дрожали.
Ошейник, залитый кровью, оставался на своем законном месте. Странно, подумал Кравцов, должен был свалиться с короткого обрубка шеи. Даже нет, судя по кровавым следам, находился он ниже раны, отделившей голову от тела… Похоже, его специально надели после … Зачем?
Кравцов чуть повернул собачью голову — и увидел на ошейнике поблескивающую сквозь спекшуюся кровь металлическую табличку. Надо думать, координаты владельца… Он счищал кровь с гладкого металла, уже зная, что там выгравировано…
Достал мобильник, но набирать длинный федеральный номер с таблички не стал — тот и так хранился в памяти трубки Кравцова.
Пашин Чак нашелся.
7
— Ты уверен, что включал сигнализацию, уезжая? — спросил Козырь. В тоне его не звучало ни малейших эмоций. И это мрачное спокойствие — в такой момент — производило впечатление куда более сильное, чем любые истеричные выплески энергии.
— Голову на плаху не положу, — сказал Кравцов. — За четыре дня стал включать-выключать уже автоматически, не запоминая. Но пришел — была включена, это точно.
Пашка подошел к единственному окошку, не закрытому ставнями. Размерами соответствуя железнодорожному окну, оно отличалось от него конструкцией. Сверху — во всю ширину — шла откидывающаяся наружу форточка, Кравцов ввиду теплых дней её не запирал, держал открытой. Отправляясь на охоту, не запер тоже. Этим путём мог пролезть ребенок — малолетний или не особо упитанный. Или взрослый — но на редкость худой. По крайней мере Кравцов был уверен, что он-то застрянет тут всенепременно.
Козырь вернулся на кухоньку, без всякой брезгливости взял в руки голову Чака, перевернул.
— Посмотри, — сказал он. — Отрублено ровненько, как бритвой отрезано. Я знаю — когда-то знал — в Спасовке лишь одного человека, который так ловко управлялся с острыми предметами…
— Кто?
— Долгая история… Ты спрашивал про Динамита? Придется рассказать сейчас. Водка есть?
Кравцов кивнул.
— Доставай. И присядем где-нибудь…
Первый Парень — II.
Динамит. Сашок. Лето 1990 года
В то лето Динамит был в расцвете своих девятнадцати лет и в зените своей славы — был, когда закадычный друг-приятель Пашка-Козырь произнес равнодушно, как бы между прочим, одну фразу.
Козырь сказал:
— Знаешь, говорят, Наташка в пятницу после дискотеки с одним чуваком ушла…
Если Динамит был Первым Парнем, то Пашка-Козырь — вторым, никак не меньше.
Пашку никто не назвал бы красавцем — длинное и узкоплечее, но мускулистое тело венчала голова с круглым кошачьим лицом; нос-пуговку украшали очки с круглыми стеклами в тонкой проволочной оправе — и казались они у Козыря неуместными и чужеродными, как пышный бюст на сухопаром теле манекенщицы. Впрочем, обзавелся этим оптическим прибором Пашка вовсе не от излишней любви к чтению; зрение подсело в четвёртом классе, после того как Козырю (тогда еще Козыренку) случайно пробили лоб камнем, изображавшим гранату в детской игре в войну… Дразнить Пашку очкариком желающих не находилось, в драке он был силён и увёртлив, гибок как змея и так же опасен.
— С каким таким чуваком? — Динамит постарался, чтобы слова прозвучали столь же равнодушно, как и у Козыря.
Но Пашка, занятый, казалось, исключительно извлечением застрявшей в старой «Весне-205» кассеты (разговор происходил в заброшенном школьном саду, давно ставшем местом вечернего отдыха молодежи) — внешне безразличный Пашка изучал его реакцию незаметно, но очень внимательно. И ему послышалось, что обертоны (хотя термина такого Козырь тогда не знал) в голосе Динамита звучат совсем иначе, чем только что. Но может, он просто принял желаемое за действительное.
— С Сашком, что у фабрики живет, за Толькой-Свином. Ты должен его знать, в зеленой строевке сейчас ходит… — ответил Козырь, вынув наконец злокозненную кассету и осторожно расправляя зажеванную пленку.
Динамит наморщил лоб в попытке вспомнить — и не вспомнил, Спасовка деревня большая… Пашка стал объяснять дальше:
— Ну помнишь, фанатом был таким, все в солдатики играл в школе…
— А-а-а… — нехорошо протянул вспомнивший в конце концов Динамит. — И что он?
— Да ничего, пацаны говорили, что с Наташкой вместе с дискотеки ушел, довольно рано…
Динамит задумался. Отношения с Наташкой понемногу начинали тяготить его, эта недотрога ничего такого не позволяла, сколько можно целоваться и тискаться сквозь платье? И часто стала вскользь делать намеки о будущей семейной жизни, переводить которые в шутку становилось всё труднее… Кроме того, у Динамита недавно появилась пока скрываемая подружка в Павловске, на четыре года старше, с которой можно было всё… У неё он и гостил тогда, в ту ночь на субботу, не пойдя на дискотеку— а Наташка, похоже, не поверила в ночную рыбалку на Ижоре с незнакомыми ей парнями. И, надо понимать, решила отомстить, произведя эту демонстрацию… Динамит ни на секунду не усомнился в том, что «говорили пацаны» — новость идеально укладывалась в сложившуюся ситуацию и полностью соответствовала характеру Наташки.
Отчасти Динамит был благодарен малознакомому Сашку, повод для назревшего расставания подворачивался подходящий. Но вот какая закавыка: у Первого Парня девушка никак не должна уходить не пойми с кем, разбивать сердца — его прерогатива. И уж всяко не должны об этом «говорить пацаны»…
— Ноги ему поломаю — не будет на дискотеки ходить. — Он сообщил это совершенно будничным тоном, и Козырь удовлетворенно кивнул; знал: как Динамит сказал — так и сделает.
— И её поучу для порядка…
— Может, не стоит? Женщина всё-таки, — осторожно усомнился Пашка. Он сказал «женщина», а не «баба», как обычно, но Динамит не обратил внимания.
— Легонько — стоит. А то дальше хуже будет. — Динамит почти уверил себя, что никакое «дальше» им с Наташкой не светит, но в любом случае все решения должен принимать он.
Козырь не стал спорить.
…Сведения Пашки о негаданном сопернике Динамита устарели. Коллекционирование солдатиков — ручной работы, раскрашенных с исторической точностью — осталось в прошлом. Теперь восемнадцатилетний Сашок (заканчивающий техникум по специальности «Кузнечное дело») увлекался старинным холодным оружием. Не просто собирал о нем книжки, не просто срисовывал, простаивая часы у музейных витрин, хотя и это было… Но и Динамита, и Пашку-Козыря его увлечения не интересовали.
Первый парень не стал подстерегать Сашка у ночной околицы в компании рослых приятелей. Такое никак не укладывалось в его кодекс чести. Он подошел субботним утром к стоявшему на автобусной остановке Сашку (тот собирался в город, в Эрмитаже открылась индонезийская выставка, на которую, послухам, привезли интересные образцы крисов с волнистыми, извивающимися как змея лезвиями).
Динамит подошел и спокойно сказал, кивнув в сторону:
— Пошли, поговорим?
И они пошли, обогнув ограду из поставленных торчком бетонных плит, окружавшую графские развалины. Когда изгиб забора скрыл их от глаз стоявших на остановке, Динамит остановился и повернулся к Сашку. Он не собирался вызывать его на честный поединок или романно предлагать защищаться.
— Зря ты это сделал, — почти печально сказал Динамит — и ударил.
Удар был резкий, неожиданный, взрывной — один из тех ударов, за которые Динамит заслужил свое прозвище. Рот Сашка засолонел кровью от разбитых губ, он припечатался спиной к бетонной ограде и, как каучуковый мячик отскочив от нее, контратаковал. Динамит уклонился несколько даже лениво и ударил снова — в корпус.
Парни, гонявшие неподалеку по утоптанной лужайке мяч, забросили игру и пододвинулись поближе; два возвращавшихся с речки юных рыболова застыли на дорожке с удочками в руках. Вмешаться никто не пытался — раз Динамит кого-то бьёт, значит, так и надо.
Сашок не был пацифистом, подставляющим другую щеку. Сашок дрался как мог и умел, но где уж ему было устоять против лучшего бойца Спасовки и окрестностей…
Динамит бил сильно и точно, но без злобы, без боевого азарта — словно торопился закончить неизбежную и неприятную работу; и сопровождал каждый удар советами-нравоучениями: от довольно мирного пожелания сидеть вечерами дома и играть в солдатики — до грубого наказа заняться извращенным сексом с собственной задницей…
Когда Сашок перестал подниматься ему навстречу, Динамит тут же остановился. Бить лежащих он считал ниже своего достоинства. Посмотрел на ворочавшееся в пыли тело, сказал спокойно (даже дыхание у него не сбилось):
— Больше так не делай.
И ушел размеренными твердыми шагами.
…Через неделю Игоря Сорокина, больше известного под прозвищем Динамит, хоронили.
Хоронили в наглухо закрытом гробу — работники морга наотрез отказались попытаться сделать с телом что-либо, позволяющее выставить его на обозрение. Позднее в предоставленном в суд заключении экспертов говорилось, что Динамит получил девяносто три колотых и рубленых ранения.
Вполне может быть, что судмедэксперты и сбились со счета — пах, грудь, лицо Динамита, да и другие части тела были в буквальном смысле слова превращены в фарш бритвенно-отточенным клинком.
Оружие обнаружили на месте преступления. Оказалось оно великолепной боевой имитацией драгунской шпаги образца 1747 года — широкой, тяжелой, недлинной, больше похожей на меч. Шпагу сжимал в руке стоявший над кровавым месивом Сашок. Он ничего не отрицал…
Дело выглядело — для следствия — совершенно простым. И совершенно непонятным — для окружающих. Испокон веку бывал мордобой между парнями из-за девчонок, изредка шли в ход и колья, и свинчатки, и финские ножи. Не всегда такое кончалось лишь больницей, случались и смерти. Но чтобы вот так …
Мать Динамита, рыдая и срывая ногти, пыталась открыть на кладбище приколоченную крышку гроба, билась в истерике, — осторожненько оттащили, вокруг захлопотали родственницы в чёрном, капая в стакан остро пахнущие капли…
Наташка на похороны не пошла, вызвав легкое удивление подружек.
На поминках говорили много и хорошо — не льстили и не врали, сами были свято уверены в тот момент, что потеряли самого умного, доброго, талантливого. Друзья-приятели, чуть ли не в первый раз пьющие водку открыто, рядом и наравне со взрослыми, — сидели с мрачно-торжественными лицами, больше помалкивали. Но выйдя перекурить, собрались тесной своей кучкой, обсуждали вполголоса страшное и небывалое событие; впрочем, жизнь продолжалась и выпивка делала своё дело, на втором перекуре, слегка захмелев, повеселели, кто-то рассказал анекдот, не смешной, — но дружно похихикали, тягостное чувство невозможности и нереальности происходящего помаленьку отпускало…
Глава 5
30 мая, пятница, ночь
1
— Ты думаешь — это он? Сашок? Вернулся? — спросил Кравцов с большим сомнением. — Я так понимаю, что вышку он получить не мог, тогда уже мораторий действовал. Отсидел своё или сбежал… А теперь вернулся, чтобы мстить всем, кто имел хоть какое-то отношении к той истории?
Слабым местом версии казалось то, что ни сам Кравцов, ни уж тем более бедняга Чак никак в трагедии тринадцатилетней давности не участвовали. Да он и не поверил догадке старого друга. Обсуждал её отвлеченно — примерно как обдумываемый поворот сюжета в романе…
— Срок он не получил, — сказал Козырь. — Угодил в психушку. Судя по всему, пожизненно, — с таким прошлым не выпускают никогда, хоть ты десять раз вылечился.
— Мог сбежать…
— В том-то и дело, что не мог, — вздохнул Пашка. — Я недавно навел о нем справки. И получил ответ: Зарицын Александр Евгеньевич скончался три года назад. В Саблино, в областной психиатрической больнице.
— Хм… Кстати, а детей у него не было?
— Мордаунт мстит за миледи? — сразу понял Козырь. — Достал из тайника отцовскую сабельку и давай рубить головы? Едва ли… Сашку девятнадцатый год тогда шел. Если и успел нагулять ребенка на стороне — тот об отце ничего помнить не может. И я не думаю, что мать про такого папашу рассказывать стала бы. Скорее сочинила бы байку про погибшего летчика-испытателя или про сложившего голову в Афгане интернационалиста…
— А ведь ты что-то недоговариваешь, друг дорогой, — понял Кравцов. — Темнишь. С чего это вдруг ты стал узнавать о судьбе Сашка столько лет спустя? Признавайся: случилось еще что-то?
— Да… — неохотно сказал Козырь. — Потому я Чака и завел — не для себя, для сыновей и Наташки…
— И что это было? Тоже голова? Надеюсь, не человеческая?
— Да нет… Машина. Новый «мерс», на который я после «Антилопы» пересел. Изуродовали его капитально. В полном смысле слова кузов изрубили. Не топором старались и не ножницами по металлу — чем-то длинным и очень острым рубили. Потому я тогда про Сашка сразу и вспомнил… Проверил — и выбросил его из головы. А сейчас засомневался. Я его мертвым не видел. И могилы — не видел. Лишь ответ на запрос. Мало ли бюрократической путаницы бывает…
Кравцов с сомнением покачал головой. Путаницы в этой стране, конечно, хватает. Но больно уж маловероятно, что сбежавшего и устроившего ампутацию собачьей головы человека — именно его и никого другого — по ошибке объявили мертвым. Впрочем, проверить недолго — Саблино не дальний свет…
Всё равно Пашка что-то недоговаривает, подумал Кравцов. Роль Козыря в рассказанной им давней истории десятая — нет особых поводов для мести, А у Пашки нет причин — уже в наше время — тут же вспоминать о парне, увлекавшемся когда-то длинными и острыми предметами… Откуда тому знать, что именно разговор тет-а-тет Козыря с Динамитом стал косвенной причиной всего? Надо понимать, кое-что дорогой друг намеренно оставил за кадром. Скорее всего — тайную от Динамита любовь Сашка и Наташки Архиповой, не просто проводы с дискотеки. Односторонняя была та любовь или обоюдная — уже не важно. Дело в другом — тогда и только тогда последовавшая спустя пару лет свадьба Козыря и Наташки вполне могла стать поводом для мести, тем более что крыша у вероятного мстителя съехала. Могла стать, если бы пресловутый мститель не умер три года назад. Все укладывается в схему, кроме его смерти. Даже нежелание Козыря лишний раз напоминать Наташе о той истории…
Ничего из этих мыслей Кравцов вслух не сказал. Но сформулировал все пришедшие в голову повороты сюжета (к обсуждаемому он по-прежнему относился как к литературной версии):
— Если Сашок мёртв, то мне тут видится два варианта. Либо всё — просто совпадение… (При этих словах писатель Кравцов вздохнул — количество совпадений вокруг превышало все предельно допустимые нормы.) Совпадение, никак с той давней историей не связанное. Мало ли кому ты мог перейти дорогу со своим проектом века. Мечей-новоделов в продаже появилось предостаточно, кузнечное ремесло осваивать не надо. Клубы исторического фехтования тоже расплодились, да и в некоторых тусовках «ролевиков» учатся махать железками на полном серьезе… Короче говоря, способ убийства, который тринадцать лет назад был уникальным, сейчас стал куда более вероятен. Второй вариант — за десять с лишним лет в психушке Сашок завел себе друга-приятеля. Всё ему рассказал — даже о том, где спрятано оружие. Как я понимаю, остальную коллекцию у него не изъяли, лишь ту штуку, что держал в руках?
Козырь кивнул.
— Ну вот, — продолжил Кравцов. — В экстремальных условиях психушки дружба двух психов может вылиться во что угодно, мне кажется. В том числе и в этакого «Графа Монте-Кристо — II». Месть погубителю лучшего друга и соблазнителю его невесты…
— Да какая она… — возмутился было Козырь, но Кравцов не стал слушать.
— В рассказах сбрендившего человека Наташа могла выглядеть его верной и чистой возлюбленной, а вы с Динамитом — черными злодеями-разлучниками. И я думаю, сидеть сложа руки не стоит. Не нравится мне эта манера — сносить головы одним ударом.
— Думаешь, в несколько приемов приятнее? — мрачно поинтересовался Пашка. — Но откуда приятель — а не сам Сашок — может так ловко махать мечом или саблей?
Кравцов не смутился:
— За десять лет — тренируясь на палках — можно любого до кондиций Коннора Мак-Лауда натаскать.
— Ловко ты всё разложил по полочкам… — сказал Козырь уважительно. — Раз-раз, и готово…
— Работа такая, — скромно ответил Кравцов. — Когда пишешь, постоянно приходится собственные сюжеты по полочкам раскладывать, все шаги персонажей просчитывать.
Он слегка лукавил — и персонажей, и их шаги он видел, а логику пускал в ход лишь потом, обрабатывая и шлифуя записи увиденного.
— В милицию думаешь обращаться? — спросил Кравцов.
— С убитой собакой? Не смешно… У меня, думаю, заявление об этом примут — есть знакомства среди начальства РУВД. Но зачем ребятам отчётность портить? Ведь землю носом рыть никто не будет… С машиной дело серьёзнее было, и всё равно никого не нашли.
— А эти твои знакомцы, что круче стройбата?
— Там другие отношения… Если какой наезд по бизнесу — тогда пожалуйста. Да и на кого, как они выражаются, предьяву гнать ? На гипотетического дружка давно умершего человека?
— Тогда придётся самим. Предлагаю разделить усилия по двум направлениям. Ты займись своими вероятными конкурентами. Попробуй вычислить среди них человечка с достаточно специфичным хобби. А я позвоню в Саблино, возможно даже оседлаю твою «Антилопу» — и съезжу туда. Так уж совпало (это слово начинало вызывать у Кравцова легкий рвотный рефлекс ), что я несколько лет назад водил знакомство — достаточно шапочное — с тамошним главврачом. Не в качестве пациента, само собой. Может, он уже не работает, мужик и тогда в годах был. Но всё равно, какая-то зацепка, не просто любопытствующий с улицы… Потолкую с его преемником, узнаю что смогу: дружил ли кто с больным Зарицыным, выписывался ли кто после его смерти…
Он говорил это, чтобы успокоить Пашку, почти уверенный, никуда ехать не придётся. Деревня не город, все всех знают, кто-нибудь да видел расправу с Чаком… Проще всего будет завтра навести справки через Алекса, а потом разобраться с живодером, чтоб неповадно было…
Но Пашка успокаиваться не желал. То есть внешне эмоции не проявлялись, но, судя по лицу и тону, отнесся Козырь к произошедшему как к опасности — реальной, зримой, требующей немедленных ответных мер.
— Правильно, нечего ждать, надо перехватывать инициативу, — сказал он и неожиданно сменил тему: — У тебя лицензия на газовик есть?
— Есть. И стволов дома максимально возможное количество лежит — пять. Тоже своего рода коллекция… Тебе нужен?
— Да и у меня этого добра хватает. Советую выбрать пушку помощнее — и носить с собой. С ружьём-то по городу — да и по деревне — открыто не походишь… У меня эта надпись «УБИРАЙСЯ» из головы не выходит… С той историей ты не пересекался, с моими конкурентами тем более. Есть подозрение, что финальный акт этой пьески наш «икс» планирует здесь, в Спасовке. И решил убрать со сцены лишнего статиста — то есть тебя. Оставить меня одного. Попробовал напугать — не вышло, может продолжить то же самое — другим способом. Стоит подстраховаться.
— Газовик, конечно, сможет помочь… — сказал Кравцов с большим сомнением (не слишком всерьёз, подыгрывая ). — Но пока газ хорошенько подействует — раза два-три вполне рубануть можно. Разве что холостыми стрелять, с близкого расстояния… Есть у меня газовый револьвер сорок пятого калибра— так в инструкции прямо написано: выстрелы в голову с расстояния меньше метра смертельно опасны. Улетит голова — не целиком, кусками. Только вот меч — в руке — все равно длиннее…
— Всё-таки не голыми руками за клинок хвататься. Сточи надфилем перегородку в стволе и купи на толкучке патроны с мелкой дробью, — посоветовал Паша. — Думаю, если что, — за такую незаконную доработку претензий не будет, учитывая обстоятельства… А я попробую узнать, как можно срочно оформить документы на боевое. Устроимся вдвоём, если надо, фиктивно на службу в охранное агентство…
Кравцов понял, что за минувшие годы законопослушность Козыря выросла. Раньше, угодив в подобную ситуацию, тот бы уже размышлял — где бы и как бы раздобыть левый, незаконный боевой ствол. Тем более что в Спасовке откопанные и восстановленные пушки кое у кого имелись — и чересчур далеко не запрятывались. Трудно жить в деревне без нагана.
Вполне можно приобрести или взять напрокат пистолет у хорошего знакомого. Впрочем, если вдруг всё окажется всерьёз, если Кравцов или Пашка разузнают что-то особо поганое — может дойти и до этого варианта… Подумав про это — почти уже серьёзно, — Кравцов решил: идеи-фикс всегда заразны. Эта тоже.
А Козырь тем временем снова сменил тему:
— Кстати, раз так дело повернулось — можешь наш трудовой договор аннулировать в любой момент. И уехать. Я в претензии не буду. В конце концов, тут всё в мои проблемы упирается, а ты, в общем-то, ни при чём.
— Нет уж. Когда мне говорят или пишут: убирайся! — с места не стронусь. Вот если бы тот дебил написал вежливо: уезжайте, пожалуйста…
Шутка не получилась. Даже тень улыбки у Паши не промелькнула.
…Когда Козырь наконец уехал (держа на переднем сиденье бюкефлинт с вложенными в стволы картечными патронами), Кравцов понял странную вещь. За долгую беседу они перебрали всевозможные меры предосторожности и противодействия неведомому противнику. Лишь об одном Пашка не заикнулся: о том, чтобы отменить завтрашний приезд сюда жены и детей. Почему?
2
В полночь — когда в вагончике Кравцова ещё горел свет и долгий разговор с Пашей был далёк от завершения — поздние прохожие, невзначай прогуливавшиеся у обнесенного оградой озера-провала, вполне могли бы заметить несколько теней, мелькнувших в лунном свете. Но прохожих не оказалось — место популярностью для прогулок при лунном свете не пользовалось. При дневном, впрочем, тоже.
Всё подготовили заранее — сетку, приваренную к толстому уголку опоры, разрезали по самому краешку. Разрез прихватили в трех местах стяжками из мягкой алюминиевой проволоки, окрашенной в видах маскировки железным суриком, напоминавшим по цвету окружающую ржавчину. Заметить лазейку даже вблизи было нереально.
Даня открутил стяжки и аккуратно сложил в карман — еще пригодятся. Пролез первым и стоял у лаза, придерживая отогнутый край сетки. За ним проник на запретную территорию Васька-Пещерник, двоюродный Женькин брат, живущий в соседней Поповке. Потом девчонки — Альзира проскользнула шустрой змейкой, Женька чуть менее ловко, но тоже уверенно. А Борюсик — самый сильный и в то же время самый толстый и неуклюжий в их компании — застрял. Зацепился рубашкой за что-то остро-ржавое, шёпотом ругался, отцепляя.
Наконец все пятеро оказались внутри, Даня отпустил край сетки — проход вновь стал невидим стороннему взгляду. Только после этого Даня повернулся к водоему.
Луна отражалась на зеркально-гладкой поверхности — ни рябь от ветра, ни всплески рыбы её не нарушали. По разведданным вездесущих мальчишек, рыбы тут не водилось.
Озерцо не поражало воображение каким-то чересчур мрачным видом, но неприятное впечатление от него возникало и постепенно усиливалось всё время нахождения на берегу. В чём тут дело, никто не понимал. Может, в знании того факта, что у водоёма практически нет дна — вернее, находится оно на непредставимой глубине. Или давили воспоминания об утонувших? Как бы то ни было, с недавних пор переплыть озеро — особенно ночью, в темноте — стало среди спасовских подростков не менее славным подвигом, чем автограф на самой верхотуре графских руин.
Пожалуй, такое свершение считалось даже более почетным. Опасность развалин была старая и давно известная, многие поколения юных спасовцев — платя порой жизнями и здоровьем — выработали относительно безопасные методы и приемы стенолазания. Озеро появилось недавно — и закономерность появления в нем водоворотов не смог пока вычислить никто.
Порой можно было долгими неделями пялиться на ничем не возмущаемую поверхность. Но изредка вода по два-три раза на дню приходила в движение. Вращаясь, начинала медленно понижаться в самом центре водоема наклонными стенами воронки. Вращение убыстрялось, стенки становились всю круче; казалось, что водяная шахта ведет в неизмеримые глуби и — тоже казалось — что провал этот зовет, подманивает, искушает: нырни и увидишь напоследок то, что никто и никогда не видел…
Потом всё заканчивалось.
Уровень воды после того ощутимо не понижался — ученые, известное дело, имели на всё происходившее в озере свои глубоко научные объяснения, а среди мальчишек и девчонок ходили страшилки — сидит, дескать глубоко-глубоко жуткий и громадный Проглот-водохлеб, проголодавшись, втягивает пастью воду — затем выпускает обратно, отцедив и сожрав все живое. Никто, понятно, байкам этим всерьез не верил, разве что совсем мелкая малышня.
Сегодня компания Даньки решила переплыть озеро в полном составе. Почти в полном — ещё двое под какими-то предлогами, казавшимися им вескими, отказались. И все пятеро чувствовали — прежнего единства в компании уже не будет, навсегда проляжет между ними эта черная, отражающая лунные блики вода. Может, придется им еще играть вместе — но невидимая преграда останется.
Женька скинула босоножку, макнула пальцы ноги в воду, шепотом сказала:
— Б-р-р-р…
Даня пощупал рукой — нормальная водичка, плыть можно. В безветренные дни поверхность неплохо прогревалась. Но нырять, конечно, не стоило — более глубокие слои оставались обжигающе-ледяными.
Надо понимать, Женькино «б-р-р-р» относилось не к температуре воды — к общему впечатлению от озера и их затеи.
— Не знаете, когда тут в последний раз крутило? — негромко спросил Борюсик, и голос его показался тоньше обычного.
— Недавно, — обнадежил Даня, расстегивая рубашку. — Теперь не скоро повторится.
Это было не так, никакой регулярности и закономерности в появлении водоворотов не наблюдалось — и все про то знали. Но спорить никто не стал. Сомневаться и отказываться стоило раньше.
В общем, с точки зрения статистики риск не чрезмерный. Водоворот крутился минуты две-три, не больше. К тому же появление воронки предвещали некие признаки — поверхность воды приходила в движение…
У Женьки под платьем обнаружился закрытый купальник. Альзира же, как втайне и подозревал Борюсик, собралась плыть в одних трусиках, ничего похожего на бюстгальтер она не носила — цыганские девушки, да и женщины, этой деталью туалета чаще всего пренебрегают. Борюсик почувствовал в плавках знакомое с недавних пор шевеление — и смущенно отвернулся от её маленькой груди — сильно торчащих сосков и небольших припухлостей вокруг. Бедра и грудь Женьки были развиты больше, но именно Альзира, и никто другой, вызывала в Борюсике смутные желания… Недавно она, не смущаясь, рассказала ему в доверительном разговоре, что скоро, после первых дней, выйдет замуж — и уже знает, за кого. Борю эта перспектива не порадовала, Альзиру тоже — она имела талант к рисованию и неплохо успевала по другим предметам, хотела бы учиться дальше и поступить в художественную школу, но… Но цыганские женщины крайне редко имеют больше четырех-пяти классов образования.
Первым в воду зашел Даня. За ним — гурьбой, держась поближе друг к другу — остальные. Борюсик взял Альзиру за руку, ладошка у нее была маленькая, крепкая, с бугорками мозолей — и отчего-то очень приятная на ощупь…
Вода оказалась холоднее, чем представлялась с берега. Но выдержать можно — без риска застудиться или схватить судорогу. Даня махнул поначалу размашистыми саженками, оторвавшись от остальных, но тут же сбавил темп, поджидая.
Альзира плыла быстро, бесшумно рассекая воду. Рядом, стараясь не отстать, пыхтел и плюхал Борюсик, — и все равно помаленьку отставал. Напоминал он тюленя, которого родители-тюлени отчего-то забыли научить толком плавать.
Вася-Пещерник плыл брассом — уверенно, обстоятельно, не особо быстро, — он всё и всегда делал так.
Хуже всех держалась на воде Женька — дышала, по мнению Дани, слишком торопливо и совершала массу ненужных движений. Плыла она последней. Даня пристроился рядом, как флагман, приноравливающий ход к самому медленному кораблю эскадры. Но унизить предложением помощи решил в самом крайнем случае. Он подозревал, что слегка влюблен в Женьку.
Берег, от которого они удалялись, понемногу исчез в темноте. Противоположный пока не появился. Время шло, Женька явно уже уставала, но впереди виднелась лишь гладь, отражающая звезды и луну. От движений плывущих поверхность колебалась — казалось, что звезды не то приплясывают от возбуждения, не то дрожат в испуге…
Они плыли и плыли — берега не было. Женька дышала все тяжелее. Что за ерунда? — подумал Даня. Словно бег по несущейся навстречу дорожке тренажера. Создавалось впечатление, что они сбились с курса, что наматывают бессмысленные круги вокруг центра озера…
Он высунулся из воды как можно выше и разглядел-таки красные точки среди желтых звезд — фонари, обозначавшие вершину трубы фабрики «Торпедо». Трубу еще на берегу он выбрал ориентиром. Плыли они правильно, может самую чуточку сбившись влево.
Но берега не было.
Он старательно давил в себе панику. Берег, конечно, никуда не делся, и плывут они, как надо. Он смотрит на выбивающуюся из сил Женьку — и оттого кажется, что время тянется бесконечно. Нужно мерно двигать руками и ногами, не думая ни о чем, — и берег рано или поздно появится.
Но берег не появлялся.
Озеро как будто издевалось над ними — заставляло утомиться, выбиться из сил, чтобы закрутить потом безвольные тела в смертоносном водовороте…
Прошла вечность до того момента, когда Алька, так и плывущая в авангарде, негромко крикнула:
— Берег!
Даня облегченно вздохнул. Все ускорили движения. Даже у Женьки, похоже, открылось второе дыхание.
Борюсик выбрался на поросший травой склон вслед за Альзирой, оглянулся. Васёк был совсем близко, Даня с Женькой сильно отстали — их освещенные луной головы смутно виднелись вдали, гораздо лучше Борюсик видел производимое ими колыхание поверхности. И вдруг…
Вдруг ему показалось, что за ними ПЛЫВЕТ КТО-ТО ТРЕТИЙ.
В первую секунду Борюсик решил, что один из двоих отказавшихся в последний момент передумал, и пришел, когда они уже плыли, и пустился вдогонку… Он тут же отогнал эту мысль. Третьей головы над поверхностью не было. Просто колыхание воды…
— Данька!!! — завопил истошно Борюсик. — Быстрее!!! Начинается!!!
Алька и Пещерник, еще стоявший по колено в воде, обернулись. И тоже увидели.
— Женька! — выкрикнул Васёк. — Давай! Жми!
Альзира молчала, широко раскрыв глаза. Потом дернулась обратно к воде. Борюсик ухватил её за руку, она молча и сильно вырывалась.
— Стой! Все равно не успеешь! Пока ты к ним — уже до мели доплывут!
Алька обмякла и отвернулась от озера — не могла смотреть на зрелище гонок со смертью. Неожиданно прижалась всем телом к Борюсику, уткнулась лицом в его необъятное плечо. Он почувствовал кожей холмики её грудей и, несмотря на столь напряженный момент, — а может, благодаря ему тоже, — ощутил мощную эрекцию.
Женьке крики сил не прибавили. Скорее наоборот. Зашлепала она руками и ногами по воде уж вовсе бестолково, еще больше сбросив скорость.
Данька одним рывком одолел разделявшее их расстояние. Рявкнул что-то неразборчивое, схватил за запястье. Перевернулся на спину, поплыл, мощно загребая другой рукой. Ноги работали быстро и сильно, как поршни не знающего усталости механизма.
Хватать утопающих за руки не рекомендуется — ответно вцепившись, могут утопить спасателя. Но Женька пока не тонула. И, несмотря на испуг, головы не потеряла — изо всех сил помогала Дане.
На мелководье они выскочили со скоростью гидроцикла, потерявшего седока.
Настоящий испуг Даня почувствовал лишь на берегу — даже не столько испуг, сколько какое-то яростное возбуждение, заставляющее трепетать все тело. Сердце билось бешено, кровь кипела адреналином.
Они смотрели на поверхность, колышущуюся все сильнее — словно там плавал кругами разъяренный водяной монстр, упустивший жертвы. Смотрели и ждали, когда начнется.
НЕ НАЧАЛОСЬ НИЧЕГО.
Волнение помаленьку успокоилось, звезды и луна на зеркальной поверхности вновь застыли неподвижно.
Вася-Пещерник разочарованно вздохнул — ему ещё не случалось своими глазами видеть воронку, только слышал рассказы.
Как-то разом все почувствовали холод, который до этого не замечали, — и припустили бегом вокруг озера. Ни одного слова после выхода из воды не прозвучало…
Когда они одевались, Борюсик первым нарушил молчание:
— Странно все-таки… Почему не закрутило? И почему начиналось не на середине, а почти у берега?
Никто не ответил. И Борюсик выбросил эти странности из головы — вспомнив, как прижималась к его груди Алька. Ведь бросилась при опасности не к кому-нибудь, а именно к нему! Он решил, что в самое ближайшее время наберется-таки духу и поцелует её…
Вася-Пещерник, не увидев редкого зрелища, разочаровался. Он единственный, одеваясь, продолжал поглядывать на водоем. И — ему показалось — что-то увидел.
— Смотрите, смотрите! Опять начинается?
Все долго всматривались в ночь. Вроде действительно колыхалось — но скорее срабатывал эффект внушения и самовнушения… Как и в первый раз, до воронки дело не дошло.
Решили, что Пещернику померещилось. Тот настаивал:
— Точно что-то баламутилось… Может, утки?
— Не бывает здесь уток, — чуть снисходительно пояснил Борюсик. — Никогда.
— Почему? — удивился Вася.
— А кто их знает… Не залетают. Может, тут лягушек нет, или что там они еще жрут… — Борюсик говорил уже совершенно равнодушно, какие-то там утки занимали его куда меньше Альзиры.
У Пещерника отец любил охоту, иногда брал с собой сына, и Вася знал о жизни и привычках диких уток немного больше. В частности, знал тот факт, что на подходящих водоемах утки останавливаются вне зависимости от наличия там лягушек — просто отдохнуть на воде.
Но и Вася не стал озадачиваться. Не залетают, так не залетают. Эка невидаль — утки! Вот воронку бы посмотреть вблизи…
Он не знал, что водоворот ему придется ещё увидеть.
Близко. Очень близко.
Тот, кто сидит в пруду — I.
Леша Виноградов. Лето 2000 года
На участке был пруд — надо думать, в войну угодила в огород здоровенная бомба, линия фронта проходила совсем рядом. А дед Яша засыпать не стал, благо земли хватало. И получился небольшой, метров шести в диаметре, живописный водоем идеально круглой формы.
На зеленом берегу пруда и сидел сейчас Лёша Виноградов — к воде его тянуло с раннего детства. Еще карапузом нежного детсадовского возраста в начале каждого лета он клянчил у матери сачок для ловли бабочек, самый простой: палка и проволочный обруч с пришитым конусом из яркой марли. Стоило все удовольствие тогда не то тридцать, не то сорок копеек, — мать покупала, втайне радуясь, что чадо не требует чего-нибудь подороже.
Но бабочки, стрекозы и другие насекомые могли спокойно порхать, опылять цветочки и заниматься прочими своими делами — маленького Алёшку представители отряда чешуйчатокрылых непривлекали. Вооружившись сачком и стеклянной банкой, он шел к ближайшему ручейку, прудику, болотцу или попросту к большой луже (к глубоким водоемам мать, понятное дело, не подпускала) и долгие часы охотился на загадочных подводных обитателей.
Гребенчатые тритоны казались ему древними и обмельчавшими потомками динозавров — не вымерших, а просто скрывшихся в таинственно-прозрачных глубинах; шустрые водомерки восхищали своей удивительной способностью бегать, не проваливаясь, по водной поверхности; а уж если в сачке запутывалась оплошавшая крохотная рыбешка — это был невиданный праздник, тут же бежал к матери с идеей немедленной покупки аквариума. Ныне увлечения раннего детства вызывали улыбку, но полноценным он считал лишь отдых у воды: рыбалка и байдарочные походы. Но вот Ирина…
* * *
Несмотря на скромные размеры водоема, рыбешка в нем водилась — вдоль края темно-зеленых водорослей, под самой поверхностью прогретой солнцем воды, почти неподвижно стояли стайки мальков.
Караси, лениво подумал Лешка, наверняка карликовая форма, большие в таких ямах никогда не вырастают — тесно, пищи мало… А пересади их в просторное озеро — ого-го, больше килограмма вымахают. Ну и ладно, зато теперь не будет проблем с живцами на рыбалку…
Подумал и удивился: пока он тут взвешивал все за и против, подсознание его, похоже, решило единолично — унаследованный в Спасовке дом не продавать.
Он и сам склонялся к такой мысли, но жена… но тёща… о-о-ох, нелегко будет отстоять свое решение… Если вообще удастся отстоять.
Близился вечер. Надо было вставать и уезжать обратно в город, но Лёша продолжал полулежать на берегу пруда, благодушно поглядывая, как медленно ползут по небу два одиноких в безбрежной синеве облачка, — домой совсем не хотелось.
Синебрюхая стрекоза-коромысло, обманутая его неподвижностью, простодушно уселась прямо на кончик Лёшкиного носа, крепко вцепилась крохотными шершавыми лапками. Он дернулся от неожиданности, спугнул негаданную постоялицу и проводил глазами её полет. Далеко стрекоза не улетела, села шагах в трех от него — над самой водой на длинную травинку, свисающую с берега, и застыла, широко расставив прозрачные крылья…
Глаза еще машинально следили за стрекозой, и Лёша видел произошедшее с ней, но толком ничего не рассмотрел, слишком быстро всё началось и закончилось: что-то длинное, чуть длинней указательного пальца, но тонкое, очень тонкое, метнулось из воды вверх — плохо различимое, смазанное быстротой движения. И стрекоза исчезла. Не улетела — мгновенно, почти без всплеска исчезла под зеркальной поверхностью пруда.
Лягушка… — слегка удивился Лёша, приподнимаясь в безуспешной попытке разглядеть под водой удачливую охотницу. Редкий, однако, случай — увидеть такое, а подробностей вообще без рапидной съемки не разберёшь — язык у пучеглазой выстреливает и втягивается обратно за доли секунды…
О том, что ещё в мае, отметав икру, все лягушки выбрались на сушу, где сейчас и охотятся, — об этом Лёша тогда не подумал…
Но участок хорош, что говорить. По документам значилось восемнадцать соток, на деле оказалось гораздо больше — участок крайний в поселке, с трех сторон поля, — и дедуля, выставляя заборы, не особо церемонился. На наследственную территорию таким образом, на самых задах участка, угодил даже небольшой лесок. Ну не совсем лесок, скорее рощица — десяток старых толстых берез по самой границе и, между ними и домом, поросль молодых тонких осинок. Гряды, плодовые кустарники и деревья разделяли широкие полосы некошеной травы, кое-где сливавшиеся в обширные лужайки.
Для Лёши, привыкшего к дикой скученности шести соток в их с матерью садоводстве, зажатых между уделами таких же малоземельных огородников, где не найти пятачка травы, способного вместить разложенный шезлонг, — для Леши такое приволье казалось чем-то небывалым и расточительным.
Просторный участок стал, пожалуй, главным доводом, удержавшим от немедленной продажи нежданно привалившего наследства. Эх, хорошо бы тут, на травке, да шашлычки, да с семьёй…
Дом, правда, подкачал — похоже, покойный дедушка Яша воздвиг сие строение в тяжёлые послевоенные годы действительно в одиночку, собственными руками. Но, к сожалению, то не были руки профессионального плотника либо строителя — дом получился надёжным и, как оказалось, долговечным, но каким-то больно уж корявым.
Умершего полгода назад и оставившего наследство деда Лёша Виноградов никогда в жизни не видел, Он и с отцом-то встречался в сознательном возрасте раз пять-шесть, не больше, и последняя встреча состоялась семнадцать лет назад, а ежемесячные переводы, как выяснилось, присылал со своей ветеранской пенсии опять же дед, испытывавший чувство неловкости за непутевого сына. Хороший был мужик, судя по всему, дедушка Яша…
Лёша наконец поднялся с травы и массировал затекшую левую руку (и сам не заметил, как успел отлежать). К нему, радостно виляя хвостом и подпрыгивая словно резиновый мячик, подбежал лохматый песик неизвестной породы. Дедуля, похоже, его в своё время подкармливал, и теперь кобелёк продолжал по старой памяти визиты на их участок. Лёша познакомился с ним в позапрошлый приезд, легко подружился и, не мудрствуя лукаво, окрестил Бобиком.
Бобик привык к его посещениям и весело припустил к машине впереди Лёши, рассчитывая на очередное угощение.
— А что, Бобик-бобырик, — сказал ему Лёша, достав из салона потрепанной «четверки» припасённый кусок колбасы. — Вот поселимся мы с Иркой здесь, на лоне природы — пойдешь к нам в сторожа? Служебную жилплощадь предоставим — будку сладим со всеми удобствами, паек выделим, раз в неделю выходной, зимой — оплачиваемый отпуск… Не возражаешь?
Песик торопливо доедал угощение и никаких возражений не высказывал. Леша даже огляделся вокруг, прикидывая, куда лучше поставить конуру, он почему-то представил её очень зримо — небольшую, уютную, сколоченную из свежеструганых сосновых досок… Потом так же зримо представил, как отреагирует на его идею Ирина, — вздохнул уныло, сел в машину и завёл двигатель…
* * *
— Алексей, вы ездили вчера в агентство? — Елизавета Васильевна всегда проводила в жизнь пришедшие ей в голову идеи с неторопливой целеустремленностью асфальтового катка, управляемого глухонемым водителем — спорить, возражать и пытаться изменить направление движения абсолютно бесполезно. Хотя, возможно, это ещё не самый худший из возможных вариантов тёщи — по крайней мере, с зятем общалась с холодной корректностью, звала всегда Алексеем и исключительно на «вы»…
— Ездил… — безрадостно подтвердил Лёша. И добавил, не дожидаясь следующих вопросов: — Ничего хорошего… агент назвал примерную цену— мало, на однокомнатную никак не хватает… В лучшем случае на комнату в малонаселённой коммуналке.
Сейчас самое время сказать, что гораздо лучше молодой семье жить в своём доме, чем ютиться в коммуналке, пусть и малонаселённой; что эти двадцать пять километров от города при наличии машины сущая ерунда, даже работу им менять не придётся; что дом не так уж сложно расширить и перестроить, что в ближайшие два года обещают дотянуть ветку с горячей и холодной водой…
Он не сказал ничего.
Сидел, понуро ковыряясь в тарелке с завтраком — жутко полезные для здоровья овсяные хлопья, залитые молоком, Лёша тихо ненавидел. Он начнет этот разговор, но не теперь, попозже, надо постараться и как-то перетянуть на свою сторону Ирку, и тогда…
А несокрушимый каток надвигался:
— Ничего, мы с её отцом (кивок в сторону дочери) тоже не с отдельных хором начинали… Тут ведь главное — самостоятельная жизнь, я и сама понимаю, что вам, молодым, жить со старухой совсем не сахар.
И тёща картинно сгорбилась, изображая, какая она старая и немощная. Кокетничала, конечно — для своих сорока пяти сохранилась на удивление. А последний её пассаж надлежало понимать так: уматывайте-ка, дорогой Алексей, с моей законной жилплощади и дочь непутевую забирайте, коли уж приспичило ей выскочить за недоумка, не способного к двадцати семи годам заработать на квартиру — и это в наше время, когда деньги вокруг текут ручьями и потоками. Пускай поживет в коммуналочке, может, образумится, поймет, что жизнь еще не кончена и можно начать всё сначала. Уматывайтесь и не мешайте строить личную жизнь в отсуженном у бывшего мужа двухкомнатном кооперативе.
Благоверная, понятное дело, тоже не смогла остаться в стороне от разговора:
— Я узнавала — в бюллетене недвижимости объявление с цветным снимком четыре на четыре стоит всего сотню. Но говорят, что лучше пригласить их фотографа, чтоб выбрал самый выгодный ракурс, они на этом деле собаку съели…
Лёша тоскливо думал: как, какими словами предложить Ирине поселиться в пригороде — дитя асфальта, к свежему воздуху и красотам природы она равнодушна, а к рыболовно-туристским увлечениям мужа относится в высшей степени подозрительно, свято уверенная, что единственная их цель — попить вдали от жены водку и завалиться в палатку с разомлевшей от песен под гитару девицей… В лодочные походы все три года брака Лёша не ходил, а от трофеев редких рыбалок Ирина воротила нос подчеркнуто брезгливо, презрительно именуя рыбу всех пород «селедками». Самое удивительное — жену Лёша любил и верил, что стоит им отделаться от вконец опостылевшей опеки тёщи — и всё наладится само собой.
— Алексей, — заявила тёща в конце завтрака, — я в пятницу уезжаю на неделю в Грузино — подготовьте, пожалуйста, машину…
Это звучало отнюдь не как просьба — как приказ, простой и ясный.
— Хорошо, Елизавета Васильевна.
— Ириша меня проводит и останется на уик-энд. Останьтесь и вы если хотите.
— К сожалению, не могу, Елизавета Васильевна, я обещал съездить к матери в Тихвин на эти выходные, — не моргнув глазом соврал Лёша, вдохновленный перспективой остаться наконец в одиночестве. Но потом с грустью подумал, что до пятницы придется посвятить женщин в свои планы — иначе оправдать недельное бездействие в продаже недвижимости будет просто нечем.
* * *
Воспользовавшись нежданной свободой, в субботу он опять отправился в Спасовку, предстояло поправить кое-что в старом доме — не важно, для продажи или для собственного житья.
Заменил прогнившую и развалившуюся ступеньку крыльца — получилось, кстати, кривовато, вовсе не красивее, чем у дедушки; с четвертой или пятой попытки вставил стекло взамен потемневшей от непогоды фанерки — у деда перед смертью руки до всего этого явно не доходили; тоскливо прикинул, какие материалы нужны для ремонта ветхого, разваливающегося сарая — в общем, до обеда время пролетело незаметно.
В доме обедать Алексей не захотел — вытащил на улицу легкий столик и табуретку, установил в самом живописном месте, под яблоней у пруда.
Привезенные с собой котлеты оказались на диво вкусными, уж что-что, а отлично готовить Елизавета Васильевна дочку научила. Под такую закуску и после такой ударной работы не грех и принять сто грамм — Лёша крутанул винтовую пробку с четвертинки «Столичной» — выпил, закусил ароматной поджаристой котлеткой, мысленно похвалил жену и тут же погрустнел, вспомнив вчерашний разговор перед своим отъездом из Грузино.
…Разговор получился тяжёлым. Ирина немедленно встала на дыбы, не желая слушать никаких доводов — поддержала Лёшу, как ни странно, теща — впрочем, достаточно вяло. Надо понимать, Елизавете Васильевне по большому счёту всё равно, куда выпихнуть дочку с зятем, а процесс продажи дома и покупки другого жилья мог затянуться.
Но и при поддержке тёщи добиться удалось немногого: договорились через неделю приехать втроем в Спасовку, осмотреть как следует дом с участком и принять окончательное решение — и он предчувствовал, что это будет за решение.
Он обвёл взглядом сад, старые березы, начинающие зеленеть ряской берега пруда — похоже, не судьба пожить в приглянувшемся месте… Стал наливать вторую стопку, и тут произошло то, что напрочь вымело из головы всё мысли о грядущей семейной баталии.
…Всё повторилось один к одному. Лишь на месте стрекозы теперь оказалась птица — крохотная трясогузка, разгуливавшая по краю обрамлявшей берег ряски. Мгновенное, почти неразличимое движение, всплеск, — и растопырившая крылья птичка исчезла под водой, не успев ничего сделать, не издав ни звука…
Алексей ошалело глядел на то место, где только что суетилась серая длиннохвостая попрыгунья, и не замечал, что водка льется мимо пластиковой стопки; снял очки, стал протирать и сразу нацепил обратно — почти на то же место села другая трясогузка, точная копия первой. Или та самая? Он ведь не следил за ней специально, скользил по берегу рассеянным взглядом…
Затаив дыхание, Леша смотрел, как птичка шустро пробежала по чуть прогибающемуся под ней ковру ряски, клюнула пару раз каких-то личинок-козявочек и…
И улетела.
Вполне можно списать исчезновение первой на банальный обман зрения, если бы… если бы не характерное возмущение поверхности, небольшой такой бурунчик точно в момент взлета второй птицы — словно что-то собралось метнуться за ней, не успело и в последний миг остановило стремительное движение…
Он отходил от пруда медленно, задом, не отрывая глаз от поверхности и не замечая, что в правом кулаке судорожно, как оружие, стиснута вилка. Опрокинутая четвертушка и две бумажных одноразовых тарелки так и остались на столе,
…Лишь подъезжая к дому (перспектива встречи с автоинспектором и анализатором алкоголя показалась приемлемей ночевки в деревне), он понял все и облегчённо рассмеялся своему опасливому недоумению, да что там — просто страху.
Уж!
Самый обычный водяной уж!
Попал случайно и оголодал, наверное, бедняга, в таком крошечном водоёме… Надо выловить и отпустить в ближайшую речку, а то ведь изведёт последних карасиков. А хищные лягушки-мутанты пусть остаются там, где им и положено быть — в малобюджетных фильмах ужасов. Вот так.
* * *
Казалось, детство вернулось — он опять стоял на берегу и орудовал сачком. Правда, теперь снасть выглядела солиднее: четырехметровая жердь, согнутый из толстой арматурины обруч и капроновая сеть, скроенная на скорую руку из найденных в сарае не то картофельных, не то капустных сеток.
Бобик, только что потребивший очередную сардельку, тоже принимал самое активное участие в охоте на обитателя пруда — вертелся под ногами и приветствовал звонким тявканьем извлекаемый из воды сачок, а потом обнюхивал вытряхнутые на берег кучи водорослей с копошившейся в них всякой водяной мелочью.
Трепыхающихся карасиков Лёша отпускал обратно, а на жуков-плавунцов, неуклюжих личинок стрекоз и скользких тритонов не обращал внимания — сами до воды доползут, не маленькие.
Вода замутилась и стала совершенно непрозрачной, прибрежные водоросли изрядно поредели, но главный объект охоты оставался для огромного сачка недоступен. Леша подозревал, что причина тому в подводном рельефе — берега воронки круто уходили вниз, и на середине достать до дна никак не получалось. Через полчаса он прекратил бесполезные попытки.
— Ну что, Бобик-бобырик, — сказал Лёша, откладывая сачок. — Чёрт с ним, пусть живет. Будет своя достопримечательность. Как в Лох-Несском озере. Ладно хоть пруд почистили, а то совсем зарос бы за лето…
Он говорил и сгребал пахнущие илом водоросли в кучу — высохнут и можно сжечь, зола — отличное удобрение… Истошный лай, непохожий на недавнее добродушное тявканье, заставил резко обернуться.
У них был гость.
Это оказался не уж, по крайней мере таких ужей Лёша никогда не видел. Такого он никогда и нигде не видел — из воды вертикально поднималось нечто. У основания оно было толщиной с руку и равномерно сужалось к тоненькому кончику, поднявшемуся высоко над водой — на полметра выше головы Леши. Больше всего это походило… чёрт, да ни на что оно не походило — гладкий отросток глянцево-серого цвета не то с розоватым, не то с сиреневым отливом.
Мизансцена длилась секунд двадцать — Лёша молчал, онемевший и парализованный — не страхом, страха он не чувствовал, к месту приковывала дикая нереальность происходящего; нечто возвышалось тоже молча и неподвижно, а Бобик захлёбывался паническим, срывающимся на визг лаем. Надо что-то сделать, надо что-то немедленно сделать, но…
Нечто упало, со свистом резанув воздух. Так падает меч в смертельном ударе — стремительный, беспощадный и невидимый глазу. Упало на берег и исчезло, мгновенно втянувшись под воду. Вместе с ним исчез Бобик, не успевший даже взвизгнуть… Вода взметнулась в шумном всплеске, несколько крупных капель упали на лицо Лёши — он развернулся и бегом бросился к дому.
И заорал…
Глава 6
30 мая, пятница, ночь
1
На этот раз сон оказался похож на сон, и никаких сомнений в его природе с самого начала не возникало.
…Кравцов после отъезда Паши не ложился еще долго: сидел, размышлял о сказанном, пытался вспомнить лицо Сашка — и не смог, были они почти ровесниками, но с их компанией Сашок никогда не тусовался…
Лег спать поздно, уже после того как Даня и его друзья покинули ночной водоем, — но, естественно, ни об их приключениях, ни о странном возмущении поверхности озера Кравцов не знал. Но приснилось ему именно оно, озеро.
Впрочем, не совсем так. Сначала снилась Спасовка — почему-то с высоты птичьего полета. Не видя и никак не ощущая своего тела, Кравцов парил над ночным селом — некий бесплотный взгляд сверху. По всему судя, ночь стояла уже глубокая, Спасовка давно спала — шоссе замерло пустынной лентой, ни единой машины, ни одного прохожего. На всем протяжении села светились лишь три или четыре окошка.
Скоро Кравцов почувствовал, что может управлять своим бесплотным полетом — менять скорость и направление, снижаться и подниматься. Но опуститься ниже определённой высоты не получалось. Ну и ладно, сон есть сон, полетаем пока без посадки…
Интересного внизу происходило мало. Вернее, не происходило ничего. Кравцов решил было направить свой полет к фабрике «Торпедо» — издалека он видел её ярко освещенную проходную. Но пролетая мимо круглой ограды озера, заметил за ней какое-то шевеление. И с ленивым интересом повернул туда.
По воде ходили волны, довольно высокие, — при полном отсутствии ветра, ни единая травинка на берегу не шевелилась.
Странные волны — вода беспорядочно перекатывалась туда-сюда, словно под поверхностью пришло в движение нечто огромное, бесформенное, неуклюжее…
Потом Кравцов увидел шевеление уже на берегу. Поначалу не мог разобрать, даже снизившись до предела, что же такое копошится в траве. Но потом увидел — потому что это прибывало.
Щупальца!
Из воды на берег тянулись щупальца, беспорядочно и слепо шарили по нему и высовывались из озера всё дальше и дальше. Одновременно их основания, торчащие из воды, утолщались — последовательно становились с палец, с запястье ребенка, с руку взрослого… Кончики щупальцев, всё ближе подползавшие к ограде, были тоненькие, подвижные, по всему судя, очень чувствительные.
Казалось, что в озерцо не пойми откуда заплыла — и, оголодав, ищет пропитание на берегу — целая стая громадных не то осьминогов, не то кальмаров — одну такую тварюшку Кравцов помнил по блокбастеру его детства «Тайна двух океанов». Скоро берег весь, до ограды, покрылся извивающимся переплетением. Основания диаметром напоминали уже толстые бревна.
Железная сетка какое-то время служила преградой — коснувшись металла, гибкие кончики просто меняли направление движения. Но потом последовала короткая успешная атака — по всем направлениям одновременно. С треском рвался металл сетки, выдранные из земли столбы-опоры падали прямо на отростки — те небрежно отбрасывали их в сторону.
Наверное, наблюдая все это с земли, Кравцов чувствовал бы себя не лучшим образом — не важно, что полностью отдавал себе отчет: дело происходит во сне.
Но с безопасной высоты невиданное зрелище не пугало — лишь интриговало. Желая рассмотреть все подробности расправы с оградой, он опустился как можно ниже. И тут же выяснилось, что безопасность его относительная. Одно из щупальцев выстрелило вверх со скоростью распрямляющейся пружины. Прямо в Кравцова.
Он тоже рванул вверх — поздно среагировав и явно опаздывая. Отростку не хватило длины, он рухнул обратно и затерялся среди собратьев. Кравцов поднялся еще выше и с любопытством стал следить за развитием событий. Должна же быть какая-то цель у этого небывалого нашествия?
Цель выяснилась скоро.
Равномерное — во все стороны от озера — распространение отростков прекратилось. Отростки в сторону полей больше не вытягивались, некоторые, до того самые шустрые, втянулись обратно. Основная же масса извивающейся плоти поползла к спящим домам. К спящим людям.
Кравцову это не понравилось. Бездействовать — даже во сне — он не любил. Но все попытки крикнуть, как-то еще поднять тревогу — ни к чему не привели. Он мог лишь смотреть…
Внизу всё ускорилось неимоверно. Щупальца ползли уже со скоростью бегущего человека — и продолжали наращивать скорость и удлиняться. Впрочем, так действовали те, что выбрали своей целью самые дальние дома. Другие обследовали ближние строения неторопливо и тщательно. Как ни странно, ни одна из дворовых собак никак не отреагировала на вторжение непонятных существ. (Или все же одного существа?)
Кравцов кинул взгляд на озеро. Вода там почти не была видна — поверхность покрывали основания щупальцев. Основания, кстати, больше свою толщину не наращивали, достигнув, очевидно, предела. Между ними порой возникали новые, пока крохотные, отростки — и торопливо устремлялись на берег. Не то опоздавшие, не то резерв… Проникновение началось одновременно — в каждый, без исключения, дом Спасовки.
Послышался звон выдавленных стекол, треск ломаемых дверей. В одном доме — в том, где горел свет — раздался вопль, истошный и быстро смолкнувший.
Что творится внутри, Кравцов не мог видеть. Но представлял, что сейчас будет: проклятые твари потащат к своему логову людей — может, отчаянно отбивающихся, может, безвольно обмякших.
Он ошибся.
Щупальца возвращались из жилищ без добычи. Возвращались и начинали стремительное отступление к озеру. Втягивались они гораздо быстрее, чем выползали. Вскоре поверхность озера успокоилась. О вторжении там напоминала лишь поваленная ограда.
Гнусная тварь убивала не для пропитания! Просто так! — подумал Кравцов и вновь ошибся.
Потому что на улицах появились люди. Много людей — похоже, все жители Спасовки, вплоть до глубоких стариков и крохотных младенцев, покинули свои дома.
Одеться или обуться никто не подумал. Кравцов увидел полный ассортимент ночного белья: пижамы, бесформенные ночнушки на столь же бесформенных женщинах и изящные комбинации на стройных девушках, трусики-маечки на ребятишках… Некоторые — в основном молодые парочки — оказались полностью обнажены. Кое-кто, впрочем, был одет не в бельё — очевидно, уснувшие в одежде или не спавшие в момент вторжения.
Люди выходили из домов молча. И так же молча начинали тыкаться в стороны в каком-то бессмысленном броуновском движении. Кружили на месте, наталкивались друг на друга. Малыши ползали под ногами, на них иногда наступали — они не издавали ни звука.
Снизившись до предела, Кравцов понял, в чем причина.
ЛЮДИ СПАЛИ.
Глаза на мертвенно-бледных лицах оказались закрыты.
Он метался над селом, узнавая знакомых и отчаянно думал: что же сделать, как разбудить этих лунатиков? Казалось, если не разбудить, произойдет что-то совсем уж жуткое. Но он ничего, абсолютно ничего не мог сделать…
Кравцов узнавал многих — почему-то он прекрасно различал лица, невзирая на высоту и темноту.
Вот Алекс бессмысленно тычется по улице — совершенно голый; рядом с ним, но сама по себе, кружит тоже голая девица — вроде из их встреченной в «Орионе» компании… Вот Пашка-Козырь вышел из дома, украшенного знакомой спутниковой антенной, — этот был как раз полностью одет. Продавщица из магазина, имени которой он не знал, но лицо запомнил, безуспешно пыталась пройти насквозь низенький заборчик, не замечая рядом калитки. Ещё одно полузнакомое лицо — по приезде Кравцов его не видел, но память подсказывала: кто-то из их детской компании, выросший и возмужавший. Шнурок? Точно, Шнурок, но почему он лишь с одной рукой? Несчастный случай? Или побывал на одной из необъявленных войн?
Кравцов метался из конца в конец Спасовки, надеясь и одновременно опасаясь увидеть Аду. Не увидел. Не ночевала здесь в эту ночь? Дани тоже не было видно…
Зато он обнаружил еще одного знакомого. Ворона. И поразился.
СТАРИК НЕ СПАЛ.
Двигался вполне целеустремленно. Глаза поблескивали в лунном свете — Кравцову показалось даже, что чересчур ярко, как будто горел в них собственный внутренний свет.
Там, где проходил — очень быстро проходил — Ворон, бессмысленное шевеление прекращалось. Люди начинали двигаться в одну сторону — так и не проснувшись. Казалось, старик беззвучно командует всей этой спящей армией. Впрочем, скорее это напоминало дирижера, управляющего оркестром. По крайней мере толстая, с детства памятная палка старика, мелькающая в его руках указующими жестами, вызвала у Кравцова именно такую ассоциацию.
Люди шли. Не все. Некоторые, судя по всему, глубокие старики или беспомощные больные, передвигались на четвереньках, а то и ползком на брюхе. Но достаточно быстро, не отставая от идущих. Равно как и младенцы — матери не обращали на них ни малейшего внимания.
Скоро Кравцов понял, куда направлено это безмолвное, все ускоряющееся шествие. К «Графской Славянке».
Он устремился туда же, обгоняя спящую толпу; Ворон теперь размашисто шагал во главе её.
Свет в вагончике не горел, но сквозь окно бригадирской виднелся слабый отсвет экрана. Кравцов стал выбирать в вышине точку, угол зрения с которой позволил бы увидеть, что происходит внутри.
Выбрал. Увидел.
За компьютером сидел человек. Сидел неподвижно, лишь рука чуть двигалась, манипулируя «мышью».
Кравцов узнал себя.
Безмолвная незрячая толпа меж тем уже начала заполнять бывший графский парк — люди шли напрямик, не ища дорожек.
И стало ясно, что стремятся они не к руинам дворца. И не к пруду. И не торопятся пройти дальше, к церкви и кладбищу…
ШЛИ ОНИ К ВАГОНЧИКУ КРАВЦОВА.
Он — парящий в высоте — пытался дозваться, дотянуться не звуком, так хоть мыслью до себя же — сидящего перед экраном.
Не получилось.
Кравцов-за-компьютером остался в той же позе.
Ворон воздел свою палку, указывая на вагончик. Спящие потопали туда. Походка их заставила Кравцова-в-воздухе подумать не о сомнамбулах.
О восставших трупах.
Он заорал изо всех сил, в последний раз пытаясь расколоть, разнести на части свой невидимый кокон, пропускающий звуки лишь в одну сторону. Ему, кажется, это удалось. Отчаянный крик пронесся над парком, отразившись эхом в графских развалинах. Спящие подняли вверх мертвые лица и…
…И тут он проснулся.
Вскочил очумело, бросился к двери (не забыв подхватить заряженный дробовик). Открыл дверь, чуть помедлив, — чудилось, безмолвная толпа стоит там, а Ворон все продолжает указывать им цель своей палкой. Но открыл.
Никого там, конечно, не было. Луна освещала пустой парк. Развалины — на фоне свежих воспоминаний об озере и его кошмарных жильцах, о шествии спящих — казались безобидными и мирными.
Кравцов стоял, медленно приходя в себя. О человеке, бродящем где-то в ночи с длинным и очень острым предметом в руках, он в тот момент не вспомнил.
Позабыл о нем совершенно.
2
На станции Купчино было пустынно. Немногочисленный народ, ожидающий последнюю, в час ночи отходящую электричку, кучковался под светом редких фонарей.
Гном темноты не боялся и стоял в дальнем, неосвещенном конце платформы. У него сейчас шел важный умственный процесс. Гном обдумывал идею, впервые мелькнувшую у него больше полугода назад.
Но его размышления грубо нарушили со стороны.
Подвалили трое щенков и нагло попросили закурить. Гном — сам в юности баловавшийся подобными штучками — набычился и ответил подслушанной где-то фразой:
— Курева нет. Зато пиздюлей — полные карманы. Поделиться?
Если честно, то ему было по барабану — отвалят молодые педрилки или полезут на рожон. На всякий случай он прикинул, как сделает двух наиболее деловитых и шустрых: одного, самого не то наглого, не то глупого, — ногой по яйцам, второго — пальцами в глаза… А третий, на вид бздиловатый, сбежит сам. Если, конечно, Гном его отпустит.
Педрилки тему прорюхали. Ничего не ответив, свалили в темноту. Правда, один из них — тот, что счастливо избежал пальцев, воткнутых в глазные яблоки, — попытался повыкаблучиваться. Но два других мудачка быстренько его оттащили. Гном проводил их равнодушным взглядом, без нужды агрессивным он не был.
Подгрохотала электричка — почти пустая, в каждом вагоне два-три человека, не больше. Гном мирно вошел, плюхнулся на пустое сиденье.
Ехал он с работы. Гном украшал своей персоной охрану большого, круглосуточно работающего продовольственного магазина, расположенного неподалеку от метро «Купчино». И числился, надо сказать, на хорошем счету у начальства.
С коллегами, правда, не ладил. Начальник охраны, косящий под братка Женя Бородин, сразу по приходу начал Гнома втягивать. Дело у него было поставлено на широкую ногу, все подчиненные оставались ему должны и выполняли не столько служебные инструкции, сколько приказы Женьки, зачастую с этими инструкциями идущие вразрез.
Но с Гномом у Бородина дело как-то не выгорело. Первая попытка напоить его стала и последней — пил Гном лишь пиво, причем взбодренное водочкой отодвинул — дескать, горькое; а налившись до краев любимым напитком, стал мрачным и апатичным — вот и все последствия. От косячка отказался бесповоротно, у Гнома пила запоем и курила, как паровоз, мать, которую он ненавидел. Подбить его на такие дела не стоило и пытаться. Сетей азарта тоже избежал. Посаженный за накормленный автомат, равнодушно сгреб выигрыш, но при первом же проигрыше встал с вращающейся табуретки: хватит.
В общем, ко двору не пришелся.
Такие у Женьки не задерживались, и через три дня Гнома подставили. Предстояло ему покрыть убытки от чужой покражи и с позором уволиться, алгоритм был отработан, но с Гномом дал осечку. На следующий день побледневшая продавщица пригласила директора и вице-директора в комнату охраны, где за столом сидели в напряженных позах Гном и некто Пузырь, правая рука Женьки Бородина. Означенный Пузырь немедленно и с подробностями поведал крайне интересные вещи — начиная от механизма появления многих недостач и заканчивая тем, каким образом оказался подставлен Гном. Когда ошарашенное нежданными откровениями начальство вышло, Гном напоследок от души — будто колол ладонью два грецких ореха — стиснул мошонку Пузыря, которую держал под столом в течение всего разговора.
Охрану перешерстили, половину уволив, и в конце следующей смены Гнома уже поджидали четверо уволенных, настроенные весьма решительно.
Честно говоря, это оказалась не лучшая их идея. Гном понятия не имел о джентльменских правилах боя, вообще о каких-либо правилах. Вызванная доброхотом-прохожим милиция спасла не деревенского бычка, но его противников. Гном тоже получил повреждения, но с уроном глупой четверки они в сравнение не шли. Ладно, поломанные кости срастаются практически бесследно, но разорванная до уха щека одного из дурачков осталась вечной отметиной… Начальство Гнома тут же зауважало и отмазало от милицейских разборок. Ему даже предлагали занять опустевшее Женькино место — он отказался, не чувствуя призвания командовать кем-либо…
…Поезд подходил к Павловску. Гном ненадолго задумался: сойти сейчас или проехать ещё одну остановку, до Антропшино? При втором варианте предстояло пересекать пешком и в темноте долину Славянки — часа полтора ходьбы до жилища Гнома. Но автобусы от Павловска уже не ходили, а ночные рейсы последней маршрутки — дело труднопредсказуемое.
Поезд начал притормаживать. Гном направился в тамбур. Решил всё-таки выйти. Найдутся уж, надо думать, на всём паровозе двое-трое желающих до Спасовки, скинутся с ним на тачку… В вагоне не осталось никого, Гном был последним пассажиром.
В тамбуре, однако, стояла баба. Точнее, бабища — необъятная и гнусная, донельзя напомнившая Гному его мать. Даже дыхание оказалось похожим до одури — с каким-то побулькиванием-похлюпыванием. Не иначе как жирная дура страдала хроническим насморком, но о существовании носовых платков не подозревала… Так и ходила, втягивая сопли обратно.
Гном, закаменев скулами, почти прижался лицом к стеклу, ожидая, когда двери откроются. Они всё не открывались — поезд, как выяснилось, притормаживал не у платформы, а в полукилометре от неё, на семафоре. Бабища мерзко хлюпала в самое ухо. Гном развернулся к ней и сказал, с трудом сдерживаясь:
— Ещё раз швыркнешь — убью.
Рот жирной жабы недоуменно приоткрылся. И тут же она хлюпнула носом — вдвое громче прежнего.
Гном ударил. Кулак глубоко утонул в жировой подушке груди. Бабень распахнула зевалку во всю ширь — не от боли, что она там могла почувствовать через свой слой сала? — скорее от изумления. Вторым ударом он врезал прямо в распахнутый хавальник, чтобы заткнуть рождающийся где-то в жирной утробе вопль.
Почувствовал, как пальцы ободрались о выбиваемые зубы. Бабища отлетела к противоположным дверям тамбура. Гном бил её ногами с чувством гадливости, словно пинал здоровенную кучу дерьма, мягкую и податливую.
Тронувшийся поезд снова затормозил, теперь уже у платформы. Баба ворочалась на заплеванном полу раздавленной огромной лягушкой. Гном подпрыгнул и приземлился обеими ногами ей на грудную клетку. Под армейскими ботинками что-то мерзко хрустнуло. Из хрипящего рта полилась кровь.
Двери распахнулись, Гном выпрыгнул на перрон, всматриваясь в других вышедших пассажиров — было их на всю электричку десятка полтора, не больше. Поезд укатил дальше в ночь.
Гном увидел-таки два знакомых лица — парня и девушку, поспешил к ним, растягивая губы в улыбке. Вместе всё веселее будет добираться…
Про валявшуюся в тамбуре падаль он почти уже позабыл. Предстояли три дня отдыха (работал Гном день через два, но поменялся сменами с напарником), и неприятный эпизод испортить хорошего настроения не мог. Пятна крови на армейских ботинках не были видны в свете перронных фонарей. Улыбаясь, Гном сказал парочке:
— Привет! На тачку скинемся?
Шли по лесу гномики — II
Свою мать Гном убил через месяц после того, как ему исполнилось восемнадцать. Ровно через месяц, день в день.
Но мысль вынашивал давно, лет с четырнадцати, пожалуй. Обдумывал неторопливо, день за днём, обкатывая в уме детали и подробности — так речная вода долго обкатывает угловатую гальку, превращая в идеально гладкие камни-голыши.
Годам к пятнадцати план созрел — безупречный план, не сулящий своему исполнителю никаких неприятностей. Но — пришлось отложить. По одной веской причине.
Причиной этой стала судьба переехавшей в Спасовку семьи Рыбаковых. Переехали они (вернее, сбежали) из терзаемого войной Таджикистана, родни или знакомых здесь не имели, просто увидели табличку «ПРОДАЁТСЯ» на покосившемся, изрядно подгнившем домике, и купили за сущие гроши. Жили Рыбаковы — отец, мать и двое детей — небогато, всё за годы нажитое кануло при бегстве. Но старались изо всех сил, Рыбаков-отец работал на двух работах, все свободные минуты посвящая восстановлению захиревшего хозяйства; мать — на одной, но тоже не знала отдыха, заваленная домашними хлопотами; дети помогали чем могли. И казалось, дело пошло на лад, а потом всё рухнуло в одночасье. Мать слегла с сердечным приступом — надорвалась, не выдержала бешеного ритма жизни. Отец, измотанный и переживаниями, и банальной бессонницей, — бросить ни ту, ни другую работу не мог — утром шел от жены, из Коммунарской больницы. Шел, надо думать, на полном автопилоте. Не видя ничего, шагнул на проезжую часть — прямо под мчащийся «жигулёнок». Умер он на месте, мать — спустя два дня, на больничной койке. У осиротевших детей — девочки пятнадцати лет и мальчика шести — родственников, способных взять под опеку, не нашлось. Приговор комиссии по делам несовершеннолетних (несмотря на все уверения Маши Рыбаковой, что сможет вести хозяйство и присмотреть за братом) был прост: детдом. Вернее, два разных детдома. Маша после приезда сюда тусовалась с той же компанией, что и Гном; заведение, куда она попала, оказалось неподалёку, и как-то, недели через две, они её навестили. Больше всего Гнома поразили не Машины некогда шикарные волосы, теперь коротко и неровно остриженные, и не свежий синяк на скуле, а её глаза. Мертвые. Так же мертво звучал голос, когда она говорила: выдержит ещё несколько дней, не больше, потом сбежит или вскроет вены… Не сбежала. В Спасовке, по крайней мере, не появилась. Что с Машей делали в детдоме, Гном не знал и знать не желал, но понял: сиротой до восемнадцати лет ему становиться нельзя. На то, что опеку над ним в случае смерти матери отдадут единственному родственнику — дядьке-алкоголику, живущему в Волосово, никакой надежды не было.
Его мать осталась жить. И прожила ещё три бесконечных для Гнома года.
А началось всё, когда ему исполнилось тринадцать (или ещё не исполнилось? — Гном не помнил). Началось ночью — и продолжалось ночами. Началось, когда он лежал на своей жесткой койке — пружины неимоверно растянулись, сетка провисла чуть не до пола, пришлось подложить деревянный щит. Бока на этой твердокаменной конструкции отлеживались безбожно, и Гном всегда спал на спине. Спал беспокойно — всё чаще по ночам охватывало непонятное томление, а однажды утром Гном даже испугался, что обмочился во сне, но быстро понял, что трусы испачканы чем-то другим, липким и непонятным. Об этом маленьком происшествии Гном не сказал никому — он вообще ни с кем и никогда не делился своими проблемами — и остался в блаженном неведении. В общем, это ему нравилось — чувство нарастания внутри какой-то неясной силы… И нравились интересные сны, снящиеся всё чаще.
Именно такой сон он видел — и осязал! — той ночью, когда понял, что происходящее с ним — не только и не просто сновидение. Это была рука — чужая рука, — нырнувшая и под его одеяло, и под резинку трусов, и оказавшаяся там, где назревавшая в Гноме сила искала выхода… Он замер, не открывая глаза и ничем не выдавая, что проснулся. То, что делала рука, казалось приятным, очень приятным, но всё удовольствие шло мимо мозга. В мозгу царила паника. Гном понял, что рука принадлежит его матери. Он слышал её дыхание — учащенное, хрипловатое, с легким побулькиванием внутри при каждом вдохе. Чувствовал запах перегара и чего-то ещё — неприятного, затхлого. Она спятила! — подумал Гном. Но не решился отбросить её руку, даже открыть глаза… Ему было приятно и противно — одновременно.
Потом рука убралась, одеяло отлетело в сторону, — и мать, закряхтев, взгромоздилась на него. Сын весил тогда раза в два меньше её и тонко вскрикнул от навалившейся тяжести, уже не притворяясь спящим. Затем стало легче — она широко раздвинула свои бесформенные колени, упершись в жесткое ложе по бокам от Гнома. Рука вновь зашарила между его мальчишескими бедрами и неохватным задом матери — нашла, ухватила член (Гном чувствовал, что тот сейчас лопнет от избытка давления, треснет вдоль, как переспелый гороховый стручок) и вставила в…
Гном к тринадцати своим годам представлял (чисто теоретически), куда положено вставлять подрастающую у него штучку, но с позой «наездницы» знаком не был и вообще считал, что это бывает совсем по-другому, и не сразу понял, что произошло. Показалось — вляпался во что-то мокрое, горячее, мерзкое … Мать начала приподниматься и опускаться, убыстряя темп. Лишь тогда он наконец открыл глаза. В горнице оказалось темно, даже обычный ночник погашен. Мать была голая. Её большие отвислые груди смутно белели во мраке — колыхались, подскакивали, казались какими-то самостоятельными живыми существами, донельзя отвратительными. Гном снова крепко зажмурился.
Кончил он быстро, но не кончилось ничего. Мать продолжала подпрыгивать на нём, и короткий миг удовольствия быстро сменился крайне неприятными ощущениями. Внизу живота и в мошонке завязался узел боли и стягивался всё туже. Гном застонал и попытался дернуться в сторону. Мать вцепилась в его плечи, пригнулась к нему и ускорилась ещё больше. Болтающиеся груди шлепали его по лицу. Гном поскуливал от боли в паху и думал, что сейчас умрёт. Ритм её движений стал просто бешеным, побулькивание при дыхании слилось в сплошное клокотание. Потом она вдруг отпустила плечи, выпрямилась, осела на него всей тяжестью… Гном почувствовал какую-то судорогу в оседлавшем его теле и услышал протяжный стон матери — ему отчего-то почудилось, что это стон боли. Приступ! Может, помрет?! — в этой мысли Гнома слились страх и радость. Не умерла. Слезла с сына, с койки, пошлепала босыми ногами в «зимний» сортир — Гном лежал и слушал, как за фанерной перегородкой шумно и бесконечно долго падает струя мочи… Потом прошлепала к своему дивану — пружины взвизгнули — и вскоре негромко захрапела. Он в ту ночь больше не уснул. Со страхом ждал утра. Как она посмотрит ему в глаза? Что скажет?
Утром мать не сказала ничего. Почти ничего — брякнув на стол тарелку с завтраком, буркнула: «Ешь!» Поведение её ничуть не изменилось. Словно и не было никакого ночного визита. Словно Гному привиделся странный и страшный сон. Может, со временем он и сам начал бы так считать…
Но следующей ночью она пришла снова.
И всё повторилось.
Часть вторая
ЧЕРТОВА ПЛЕШКА
(31 мая 2003 г. — 03 июня 2003 г.)
Глава 1
31 мая, суббота, утро
1
Мысль о собственном сумасшествии пришла к Кравцову где-то на границе поздней ночи и раннего утра последних суток весны.
Она — мысль — не походила на банальное «Я сошла с ума!», мелькающее в голове замужней дамочки, набравшейся духу и впервые согласившейся зайти после работы к сослуживцу попить кофе и послушать музыку. Или на столь же банальные «Ты сошёл с ума!», которые слышит со всех сторон сорокасемилетний вдовец, женящийся на двадцатилетней знакомой собственного сына.
Нет, мысль оказалась вполне буквальная и учитывала все объективные и субъективные факторы сложившейся обстановки.
Нормальные, не сходившие с ума люди не ведут диалоги со своими умершими жёнами и не встречают материализовавшихся персонажей собственных романов: не принимают реальные события за ночной кошмар и не видят кошмаров, практически неотличимых от действительности. Они — не сходившие с ума — открыв холодильник, находят там колбасу, сыр и масло, а не оскаленную собачью голову — которую, судя по некоторым признакам, отрубил человек, умерший несколько лет назад; не обнаруживают, что старые здания — камень, кирпич, штукатурка, ничего более — могут мстить людям, и способны вести с ними неслышимые разговоры, и даже расти ; не приходят к выводам, что друзья детства затевают у них за спиной какие-то непонятные интриги с тайными целями…
Наконец, нормальные люди спят ночами крепким и здоровым сном.
Кравцов после сегодняшних своих ночных бестелесных полётов так и не уснул. Сел к компьютеру, потыкал пальцами в клавиши и бросил бесплодное занятие…
Именно тогда, куря сигарету за сигаретой, он и задумался всерьез о состоянии собственной психики. Выводы оказались неутешительными. Если допустить, что писатель Кравцов остается в здравом уме и не страдает по меньшей мере странно-избирательными провалами памяти, то придётся поневоле признать, что его в общем и целом материалистические воззрения гроша ломаного не стоят, а в Спасовке правит бал какая-то бесовщина… Либо надо вставать в позу страуса — зарыть голову в песок и тупо твердить: случайность, совпадение, случайность, совпадение…
Честно говоря. Кравцову казалось проще — хоть и не хотелось — признать психом себя, чем так вот взять и разнести в клочья сложившуюся за тридцать три года картину мироздания. Но и на позиции страуса, верящего в идущие сплошной чередой совпадения, он больше оставаться не мог.
Непросто думать о таких вещах в одиночестве, в предрассветный час и на трезвую голову. Водка, оставшаяся от разговора с Пашкой (выпили они тогда совсем немного), провокационно стояла на столе. Кравцов потянулся было к ней — непорядок для русского человека оставлять недопитую бутылку, — но отдёрнул руку. Не стоит. Этим путем уже ходили четверо предшественников…
Стоп!
Стоп, господин писатель! — сказал он себе. Сумасшествие — дело сугубо индивидуальное. Как говорил один не ваш персонаж, с ума всем коллективом не сходят. С ума сходят поодиночке.
Значит, остаётся либо констатировать очередную случайность и очередное совпадение: Пашка-Козырь, в людях разбирающийся неплохо, взял на работу четырех алкоголиков — одного за другим. Либо надо допустить, что у этой четверки тоже возникали проблемы — именно здесь и именно по ночам, — а избавлялись сторожа от них традиционным русским способом. И к состоянию психики писателя Кравцова здешние странности отношения не имеют.
Наверное, стоит поискать разгадку, не удаляясь слишком далеко в дремучие дебри метафизики. Предположив, что всё происходящее и даже кажущееся имеет свои причины и не нарушает законов природы. Возможно, эти причины основаны на каких-то процессах, науке пока не известных либо толком не изученных. В конце концов, ученые мужи не раз объявляли в старые времена шарлатанством месмеризм, сиречь животный магнетизм, а ныне он под именем гипноза изучен официальной наукой и признан вполне соответствующим научным представлениям о человеческом мозге… Не исключено, что в недалеком будущем нечто схожее произойдет с телепатией или ясновидением. В конце концов, самые великие знатоки человеческой психики не раз признавали, что ничего не знают о скрытой от глаз работе мозга, а имеют дело лишь с её результатами…
Так что хватит самокопания, господии писатель. Представьте, что вы герой собственного романа; тем часто приходилось распутывать всякую бесовщину. Приступайте.
За окном медленно светлело. Кравцов вышел на крылечко. Утро наступало чудесное, торчать в прокуренной клетушке не хотелось. Недолго думая, он вернулся в вагончик за удочкой-телескопом, которую привёз вместе с ружьем из города. Лучше всего ему размышлялось на рыбной ловле — когда рыба не баловала поклевками. Или на сборе грибов — когда те попадались не часто.
Через полчаса он уже шел по росистой траве берегом Славянки, присматривая подходящий омуток. Графский (он же Торпедовский) пруд, конечно, ближе, но ловить там Кравцов не стал. Не оставляло ощущение взгляда, направленного в спину из развалин…
…Поплавок неподвижно застыл на воде, течения почти не было. Клева тоже, но он пришел не с целью пополнить запасы провизии свежей рыбой… Кравцов неторопливо, анализируя каждую мелочь, размышлял о странностях последних дней.
Первое, что он понял: непонятное началось задолго до его приезда сюда. И дело не только в загадочной текучке среди его предшественников. Вопрос в другом: зачем здесь вообще в течение нескольких месяцев находились сторожа?
Дворец охранять сейчас бессмысленно. Всё, что можно утащить и разрушить, утащено и разрушено. А особняк графини Самойловой в конце концов не римский Колизей, куда еженедельно ночью привозят и рассыпают пару грузовиков мелких камней, дабы стада туристов не растащили на сувениры историческую развалину по камешку (камни, впрочем, из тех же каменоломен, где брали стройматериалы для Колизея, так что никакого обмана). Спасовка не Рим, и туристы тут стадами не ходят.
Пашины плиты? Эксклюзивные и потому очень дорогие?
Хорошо. Допустим.
Но тут же возникают еще два вопроса. Во-первых, почему предприниматель Ермаков, он же Пашка-Козырь, изготовил и завез сюда эти плиты как минимум за полгода до подписания пакета документов по «Графской Славянке»?
Ладно, пусть он считал в ту пору, что дело на мази, что не хватает лишь нескольких закорючек, и не хотел зря терять время. А потом его негаданно подвел партнер-старовер, так некстати ударившийся в религию предков… Но тогда Паше проще и дешевле было увезти плиты на один из своих складов, чем содержать здесь охрану.
Загадка. И расспрашивать о ней Козыря можно, но стоит ли? Кравцов сомневался. После случая с отрубленной собачьей головой — весьма сомневался.
Почему Паша не посчитал кровавый сюрприз в холодильнике делом рук кого-то из своих нынешних спасовских неприятелей? Почему немедленно, почти мгновенно, вытащил на свет стародавнюю историю о Сашке, Динамите и драгунской шпаге? У него что, нет тут никого, кто завидует новоявленному «буржую» и готов при этом на любую гадость ради восстановления социальной справедливости? Простая идея — перестать пить водку и попробовать заработать столько же — таким людишкам в голову обычно не приходит. А вот отрубить голову безвинной собаке — это запросто.
Но Козырь ни на секунду не стал рассматривать эту версию. Якобы потому, что именно Сашок, и никто иной, способен отделить одним махом голову от тела… Кравцов тогда, к концу разговора, поддался уверенному напору Пашки, а сейчас вновь засомневался. В любой деревне всегда хватает специалистов забить скотину и аккуратно разделать — не рубя несколько раз по одному месту. Инструментарий тоже соответствующий имеется, нет нужды в мече или сабле. В конце концов, недолго потренировавшись с топором для разделки туш, такое мог сделать любой не страдающий физической немощью мужчина…
«Пашка, например… — вкрадчиво сказал внутренний голос, вроде как и не Кравцову принадлежащий. — Легко. После обеда тебя пару часов не было, и в холодильник ты потом до возвращения с охоты не заглядывал. У Козыря ведь наверняка есть запасные ключи, и тайничок с пультом сигнализации ему известен…»
«А мотив? — холодно спросил Кравцов у внутреннего клеветника. — Избавиться от меня, заставить уехать? Проще было сюда не приглашать».
Клеветник посрамленно замолк, но посеянные им сомнения остались. Что ни говори, а имелось у Пашки-Козыря за душой что-то, чем он не торопился делиться с другом детства.
Что происходит с его поплавком, Кравцов за всеми этими размышлениями видел плохо. И не сразу сообразил, что тот куда-то делся. Впрочем, что значит: куда-то? Обычно поплавки полетами по воздуху самостоятельно не занимаются. Гораздо чаще тонут, увлекаемые подводными обитателями.
Кравцов взмахнул удилищем и вместо подводного обитателя увидел чистый и голый крючок. Вздохнул, насадил другого червя, но занятый новыми мыслями, смотрел на поплавок тем же невидящим взглядом.
Объектом размышлений на этот раз стала девушка Ада.
2
Как ни странно, но и Александр Шляпников, много лет всем известный как Алекс, имел повод усомниться в своём психическом здоровье — примерно в то же время, что и писатель Кравцов. Такое уж, видно, утро выдалось.
Алекс не усомнился. Он был малосклонен к сомнениям и рефлексиям. Но повод тем не менее имелся.
Проснувшись, Алекс услышал голос. Негромкий, что-то монотонно произносивший и долетавший откуда-то издалека. Ни одного слова толком не разобрал, но отчего-то казалось, что они, слова, не русские.
Происходи всё в городе, создалось бы полное впечатление, что за стеной, в соседней квартире, кто-то гоняет аудиокассету, трудолюбиво постигая премудрости иностранного языка. Но дело происходило в Спасовке, и Алекс ни на секунду не допустил, что в его хлеву или дровяном сарае засел с магнитофоном какой-нибудь фанат Илоны Давыдовой.
Известно, кому слышатся наяву непонятные голоса — святым либо психам.
Но Алекс не заподозрил у себя ни умственного расстройства, ни растущего нимба. Честно говоря, он вообще проигнорировал голос. Гораздо большее влияние в первые секунды после пробуждения на Алекса оказал иной раздражитель. А именно — дикая жажда.
Алекс чувствовал, что всё у него внутри — от губ до кишечника — иссохло и покрылось трещинами, как дно испарившегося в пустыне солёного озера. Над пустыней и озером при этом дул ветер, но не освежающий и прохладный — сухой, горячий, густо пропитанный водочным перегаром. На фоне такого катаклизма, грозящего усыханием организма до состояния египетской мумии, казались смешными пустячками раскалывающаяся голова и ноющая боль в паху (с чего бы? — мимолетно подумал Алекс). Что уж тут говорить о каком-то далёком иностранном голосе, абсолютно не угрожающем жизни и здоровью.
Алекс выскочил из постели, которую не собирался покидать еще несколько часов, и голышом пошлепал в сени. Зачерпнул доверху литровый ковш из ведра с водой и выдул одним махом. Показалось мало. Второй ковш Алекс пил с толком и расстановкой, получая изрядное удовольствие от ирригации своих знойных солончаков.
Как порой случается в пустынной местности, полное безводье сменилось наводнением. Алекс устремился на крыльцо и долго мочился с него на растущий поблизости куст чертополоха, только-только распустивший лопухи-листья. Он регулярно поступал так каждое лето, надеясь, что зловредное растение засохнет. Однако то ли сорняк попался на редкость упорный, то ли жгучее удобрение шло ему лишь на пользу, но он каждый год вырастал именно на этом месте, впоследствии мстительно норовя нацеплять колючих шариков на брюки проходящего мимо Алекса.
Мерный шум струи почти заглушил далекий голос, но по окончании процесса он зазвучал снова. Алекс опять его проигнорировал, чутко прислушиваясь к другой возникшей функциональной потребности организма— желанию вновь принять горизонтальное положение. Оказавшись же в койке, привычно водрузил руку на грудь посапывавшей там голой девахи и немедленно уснул под мерный бубнёж…
Проснувшись вторично — одновременно с подружкой, — никаких голосов он не услышал.
Позже Алекс будет пытаться вспомнить, когда он впервые стал слышать.
Но этот похмельный рассвет ему на память так и не придёт.
3
С девушкой Адой, размышлял Кравцов, тоже всё обстоит не так просто.
Собственные странные ассоциации, возникающие в отношении её, Кравцов пока оставил в стороне. Дойдёт и до них очередь.
Попытался разобраться с мотивами её поступков. Ведь что ни говори, действовала Ада по веками проверенному алгоритму. Мужскому алгоритму, позволяющему свести как можно более близкое знакомство с девушками. Действовала в мужской роли.
Зачем? Ей-то зачем?
Явно не для того, чтобы соблазнить и затащить в кровать невинного и доверчивого писателя Кравцова. У мужчин, извините, механизмы возбуждения и торможения несколько по-другому устроены. С ними долгие церемонии ухаживания разводить незачем.
Кравцов уже в памятный вечер посещения «Ориона» был готов на всё. И не просто готов, но и проявлял инициативу…
Но — не сложилось. Девушка Ада продолжала разыгрывать свою партию как по нотам. Поцелуями всё ограничилось. Более того, даже до дому проводить не позволила. Свернув с дороги на темный прогон, сказала, что почти пришла, ещё что-то сказала про родителей, про злую дворовую собаку, поцеловала на прощание и ушла в ночь.
Вот только тот прогон Кравцов, так уж получилось, запомнил хорошо — росли рядом два приметных дерева. И имел возможность потом рассмотреть его при дневном свете. Место выглядело нежилым. Справа — пепелище сгоревшего дома, огонь пощадил там полторы стены да печь. С другой стороны оказался дом вполне целый, но на вид необитаемый, окна закрыты ставнями, огород зарос бурьяном, ни звука, ни движения… Во втором, не сплошном пока ряду домов виднелся чуть левее огромный белого кирпича домина, принадлежащий, судя по рассказам Пашки, если не цыганскому барону, то уж баронету или сэру по меньшей мере.
Если отбросить версии, что Ада бомжует в нежилых строениях или тайком прибегает на свидания из баронетского гарема, то получалось, что слова «почти пришла» девушка истолковала весьма вольно. По тропе, идущей задами деревни параллельно шоссе, могла она отправиться куда угодно. И место жительства кавалеру выдавать не желает.
Номер своего мобильника, впрочем, на бумажке написала. Но дозвониться по нему не получалось. Сама тоже не позвонила.
Хотя, если Кравцов просчитал все верно, — позвонит она обязательно. Именно сегодня. Как утверждает на основании многочисленных экспериментов наука обольщения, два-три дня — оптимальный срок, который стоит пропустить после первого свидания. Интерес партнёра к тебе, подогреваемый сомнениями: вдруг всё не так? вдруг всё закончилось, не начавшись? — за это время достигнет пика. Затянув паузу, можно добиться обратного эффекта…
Значит — сегодня. Пресловутую науку Ада, похоже, изучила в совершенстве. Но и у Кравцова не вчера пушок на щеках пробился. И он попробует сыграть свою игру. С простой целью — выяснить намерения Аделины. Для чего он ей понадобился? Не замуж же собралась, в самом деле… В любовь с первого взгляда Кравцов с легким скепсисом, но верил. В аналогичное стремление к браку — не очень.
Помаленьку из размышлений Кравцова начал вырисовываться план действий.
Пункт первый. Узнать у Пашки имена спившихся сторожей-предшественников, встретиться с ними, поговорить. Возможно, если им тут что-то виделось, то не все окажутся склонны откровенничать на эту тему. Но хоть одного из четверых Кравцов разговорить надеялся.
Пункт второй. Аналогично — найти в больнице непьющего Валю Пинегина. И, если его состояние позволит, расспросить о подробностях несчастного случая во дворце. И о том, что этот случай предваряло.
Пункт третий. Визит в областную психиатрическую больницу. И если догадка Паши о том, что Сашок не умер, но сбежал или выписался, — чисто случайно окажется правдой, то со старым другом предстоит серьезный разговор. Возможно, неприятный.
Пункт четвёртый. Аделина. Когда — если — она позвонит, стоит сделать неожиданный ход. Сойти в сторону с накатанной дорожки, по которой его ведут. И посмотреть на реакцию.
На этом составление плана несколько застопорилось. Пока речь шла о людях, Кравцов чувствовал себя достаточно уверенно. Но что можно предпринять в отношении каменного монстра, насылающего неприятные видения, он не представлял.
Наконец в муках родился Пункт пятый. Узнать о прошлом развалин как можно больше. Рассказ Козыря был краток и неполон — он пересказывал чужие слова, и, похоже, сам многого не знал. Почему особняк считается дворцом «графини Самойловой»? А где, пардон, жил её граф? В те года эмансипированных самостоятельных дам, надо полагать, ещё не существовало. И чем эти граф с графиней знамениты? Не случалось ли в «Графской Славянке» каких зловещих событий?
Конечно, бегущий с изменившимся лицом к пруду призрак некогда замурованной в стене графини — чушь и ерунда. И роковые лилии на Торпедовском пруду не цветут, — утопленных графских жен стоит поискать в водоемчике, вырытом на шести сотках артиста Смехова. Но тем не менее…
Неспроста ведь по всему миру ходят рассказы о местах, где случалось в старые времена нечто жуткое и которые до сих пор несут отпечаток старой трагедии. Несут и передают ныне живущим. Понятно, все эти байки надо делить на шестнадцать, но какой-то процент невыдуманных историй в сухом остатке всё равно обнаружится.
Заодно, кстати, стоит узнать, как дворец дошёл до нынешнего состояния. «В войну» — ответ уж больно расплывчатый. Когда-то в детстве Лёнька Кравцов слышал рассказы об этом от стариков, но сейчас ничего не вспоминалось. Да и то сказать: кто из пацанов внимательно слушает и запоминает стариковские занудные истории? Значит, расспросить ещё раз. Очевидцев событий военных лет, конечно, стало с тех пор поменьше, но должны еще оставаться…
И заодно уж стоит…
Тут мысли Кравцова оборвались. Он вновь обнаружил исчезновение поплавка. Потянул и ощутил на конце лески незначительное сопротивление. Крохотная плотвичка выскочила из воды. Презрительно глянула на Кравцова красным глазом, разжала губы, шлёпнулась обратно. По всему судя, висела она на кончике червя. Ладно, не рыба и была.
Стоит пополнить план подпунктом Пять-бис, — закончил мысль Кравцов. Раздобыть сведения обо всем странном, бывавшем в Спасовке, пусть с развалинами и не связанном. Легенда, мотивирующая подобное любопытство, — сбор материалов для нового триллера. А почему, собственно, легенда? Можно и на самом…
— Напрасно, Лёнька, стараешься, — проскрипело сзади. — Ничего не добудешь.
Кравцов резко обернулся. Слова Ворона на какое-то мгновение показались издевательским комментарием к обдумываемым планам.
— Здравствуйте, Георгий Владимирович, — холодно сказал Кравцов.
Старик стоял за спиной, опираясь на палку, — такой же, как всегда. Такой же, как двадцать лет назад. И так же проигнорировал приветствие. Но как он умудряется каждый раз подходить незаметно и неслышно? Ниндзя-черепашка какой-то…
Одет был Ворон в парусиновый летний костюм — когда-то белый, но принявший с годами несколько сероватый оттенок. Всегда, сколько помнил старика Кравцов, одевался тот по летнему времени именно так. Поэтому ничего удивительного, что в ночном кошмаре Ворон дирижировал сводным ансамблем не то спящих, не то мертвецов в этом костюме. И всё же…
И всё же у Кравцова так и вертелся на кончике языка вопрос: а чем вы занимались минувшей ночью, Георгий Владимирович? Может, сны какие интересные видели?
Чушь, конечно, полная, и ничего спрашивать Кравцов не стал. Хотя поговорить со стариком — в рамках родившегося плана — стоит. Наверняка тот, коренной спасовец, знает много. Но вопросы должны созреть. Недаром говорится, что правильно поставленный вопрос содержит две трети ответа.
Ворон сегодня оказался чуть более разговорчивым. Продолжал:
— Говорил я тебе, Лёнька: по сторонам поглядывай! А ты… Вон там рыбка-то держится, у броду… — Старик указал в сторону своей палкой, тоже древней, как само время. — Только в воду не суйся, холодна ещё…
У Кравцова явно росла и развивалась мнительность — и тон, и фразы старика опять казались на что-то намекающими.
Но в любом случае Ворон сегодня держался не совсем обычно. Сказав пару-тройку фраз, не развернулся и не зашагал без прощаний обратно. Стоял и смотрел на Кравцова. А тому не захотелось поворачиваться лицом к речке, а затылком к старику. И — если уж начистоту — к его увесистой палке. После сегодняшнего сна — совсем не хотелось. Кравцов, пожалуй, позабыл вставить шестым пунктом своего плана: как можно серьёзней отнестись ко всем своим предчувствиям, к подспудным желаниям и нежеланиям. Прислушался бы повнимательнее к внутреннему голосу во время первого, за неделю до вселения в вагончик, визита в Спасовку — глядишь и не вляпался бы во всю здешнюю мутную мистику.
Он еще не знал, что внутренние голоса бывают разные. Очень разные.
В общем, под пристальным взглядом старика Кравцов подхватил удочку, сунул в карман коробочку с червями, попрощался и отправился к указанному броду.
Ворон не произнёс в ответ ни слова и следом не пошёл, остался на том же месте. И то ладно.
Брод оказался неглубоким речным перекатом, к которому с двух берегов подходила накатанная тракторами и грузовиками грунтовка — полуразмытые следы колес виднелись и на дне. И выше и ниже брода было мелко, дно везде просматривалось. Никакой рыбы Кравцов не увидел, кроме стайки шустрых мальков. К тому же, пока он приглядывался, к броду подгромыхал раздолбанный и грязный «зилок», пересек его с шумом, плеском, замутив прозрачную воду.
Похоже, Ворон решил разыграть незамысловатую деревенскую шуточку над «городским». Раньше он над Ленькой Кравцовым так не издевался, и советы его порой помогали вернуться с хорошим уловом. Кравцов обернулся, но старика уже не увидел. Слишком далеко уйти за это время тот не мог, очевидно скрылся из виду за какой-то складкой местности. А может, наблюдает исподтишка, как будет тут позориться глупый писатель?
Кравцов собрался было уйти, но тут за спиной плеснуло. Он обернулся. Ниже брода, куда снесло поднятую «зилком» муть, расходились круги. Только что там сыграла рыба, и не мелочь. Старик над «городским» не издевался.
Понятно. Машины взрывают дно, как плугом; выкопанных ими червей, личинок и прочих беспозвоночных сносит ниже, и осторожная рыба подходит туда на кормежку, отвыкнув пугаться шума и плеска. Ай да Ворон! Профессор рыбных дел.
Кравцов выставил малую глубину и пустил поплавок по течению, вдоль кромки свисающей в речку прошлогодней осоки — именно там, по его разумению, таились подводные обитатели в ожидании порции угощения от очередной машины.
Догадка подтвердилась. Хорошо видимая в прозрачной воде тень метнулась к насадке. Но на этом всё и закончилось. Поплавок плыл дальше беспрепятственно.
После третьей безуспешной попытки Кравцов понял, в чем дело. Раскрашенная яркой флуоресцентной краской вершина поплавка пугает рыбу на глубине в четверть метра…
Он снял и поплавок, и грузик, оставив лишь крючок. Отломил кусочек стебля сухой полыни, захлестнул на нём петлей леску. Получившаяся конструкция ничем насторожить хитрую рыбу не могла. А воду стоит замутить самому.
Кравцова, пока он взмучивал дно валявшейся неподалеку доской, охватило чувство сродни дежа-вю: вновь у него напоминающая детство немудрёная снасть, и вновь он готов последовать совету старого Ворона…
…Обломок полыни резко исчез под водой. Гибкое удилище согнулось, в воде блеснул бок увесистой рыбины. Кравцову показалось, что тащит он крупного карася — встречались в Славянке такие одинокие рыцари, закованные в латы из крепкой чешуи (медлительную карасиную мелочь, кишевшую в окрестных прудах, в речке быстро подъедали окуни и щуки).
Но это оказалась красавица-плотва весом не менее полукилограмма. Ни садка, ни иной тары он с собой не захватил, абсолютно не рассчитывая на улов. Подвесив плотвину на сделанный из прутика кукан — опять как в детстве! — Кравцов торопливо насадил нового червя… Все подозрения и хитроумные планы улетучились под напором рыболовного азарта.
…Лишь поднимаясь в гору к графским развалинам (руку приятно оттягивала связка рыбы), Кравцов вновь вернулся к своим невеселым мыслям. Надо сразу позвонить Паше, наверное уже проснулся…
Звонить Козырю не пришлось. Он поджидал Кравцова у запертого вагончика — с напряженным, злым лицом.
В руках Пашка-Козырь сжимал двухстволку-бюксфлинт.
4
Бог свидетель, что не Гном стал инициатором сегодняшнего утреннего конфликта — и многих других событий, для которых тот конфликт послужил причиной. По крайней мере, сам Гном считал именно так, — совершенно искренне.
Этот кусок сала на ножках первым докопался до него, когда Гном тихо и мирно шел в направлении магазина. Шёл задворками, срезая по небольшому лугу в сторону шоссе — дорога здесь изгибалась дугой, и так идти было короче.
Что делал там кусок сала, неизвестно. Может, пасся, нагуливая новый жирок. Как бы то ни было, жиро-мясо-комбинат двинулся в сторону Гнома и довольно нагло к нему обратился (не подходя, впрочем, слишком близко):
— Эй, Гном! Ты куда дел мою Кутю?
Гном был настроен миролюбиво. Шикарное утро, два выходных впереди, денег вполне хватает, чтобы заполнить объёмистую сумку полуторалитровыми бутылками с пивом… — никаких конфликтов Гному не хотелось. К тому же он знал: чем старательнее оправдываешься, тем меньше тебе верят. У односельчан порой — за семь лет и не могло сложиться иначе — мелькали подозрения в причастности Гнома к исчезновению мяукающих любимцев. Но подозрения чисто умозрительные — поскольку Гном пользовался репутацией «странного парня».
Гном сказал:
— Какую такую культю? По-моему, твои окорока в полном комплекте.
Жирняга (Гном вспомнил, что друзья зовут его Борюсиком, а прочие — Боровом) продолжал настаивать:
— Нашу кошку — Кутю! Женька видела, как ты её колбасой кормил!
— Отшароёбься, — сказал Гном, собираясь продолжить свой путь.
И тут Боров произнес то, что ему никак не следовало говорить:
— Погоди, всё равно узнаю, зачем ты на «болотце» шляешься!
Последние слова меняли дело. О Кошачьем острове не должен знать никто. Тем более никто не должен догадаться, что Гном уже около полугода обдумывает идею о новом его использовании.
— За это ты будешь жрать говно, — сказал Гном негромко и спокойно.
Борюсик — хотя благоразумно стоял в десятке метров — услышал. Но все же допустил ошибку. Все знали, что на своих коротких кривых ногах Гном бегает медленно — и Борюсик знал. С другой стороны, он сам — несмотря на более чем внушительные габариты, — разогнавшись, мог выдать неплохую скорость.
Но Борюсик оказался обманут видимым равнодушием, с которым Гном произнёс последние слова. И не учёл характеристику, которую автомобилисты называют приёмистостью…
Гном выпустил сумку из рук и рванул с высокого старта, как ракета с пороховым ускорителем.
Пока Борюсик реагировал на увиденное, пока разворачивался, пока медленно начал набирать крейсерскую скорость… Резкий удар по почкам заставил его крякнуть и сбиться с темпа. Тут же нога запнулась за армейский ботинок Гнома. Выброшенная назад правая рука оказалась в цепком плену — и собственная инерция сыграла с Борюсиком роль дыбы.
Начав падать вперед, он повис на заломленной Гномом руке. Боль пришла страшная — прокатилась обжигающей волной от кулака до плечевого сустава. От перелома Борюсика спасло только то, что набранная Гномом скорость оказалась направлена в ту же сторону.
Он упал на колени. Получил удар ногой под копчик. Затем сгусток огненной боли, в который превратилась рука, стал пригибать Борюсика к земле.
На земле — прямо перед лицом — лежала коровья лепешка. Луг, служивший выгоном для скота, был усеян ими. Эта оказалась старой, засохшей, истыканной клювами птах, искавших в помете личинок.
— Жри! — приказал Гном.
Мыча от боли, Борюсик помотал головой.
Гном не стал угрожать, что сломает ему руку. Просто начал ломать — очень медленно.
Боль сводила с ума. Боль вымела из головы все мысли. Боль заставляла — чтобы хоть как-то уменьшить её — сгибаться ниже и ниже.
…Гном себя садистом не считал. И его патологическая ненависть к жирным женщинам на мужчин и мальчиков схожей комплекции не распространялась. Но проучить Борова он посчитал необходимым.
Борюсик уже не выл — хрипел. Может быть, сломайся рука, — ему бы стало легче. Потерял бы сознание и избавился от пытки. Но Гном такой возможности не давал. Сломалась не рука. Сломался Борюсик — через две минуты, показавшихся ему двумя веками.
…Закончив экзекуцию, Гном столь же равнодушно сообщил, что если поймает Борова на «болотце», то проверит, сколько тот сможет сожрать торфяной жижи. Пнул на прощание и ушёл.
Почти сразу Борюсика стошнило — коричневым, мерзким. Он рыдал, подвывая. Боль в руке оставалась, лишь уменьшившись, — но гораздо больнее стало внутри. Боря думал не о себе и не о Гноме — об Альзире. О том, что НИКОГДА не сможет теперь поцеловать её. О том, что во рту на всю жизнь останется омерзительный привкус. Его стошнило снова.
А Гном отправился в магазин, затарился пивом. У прилавка встретил Алекса с какой-то лахудрой из его подстилок — запоминать их имена Гном не считал нужным.
Алекс поинтересовался довольно необычной вещью: не видел ли Гном сегодня каких странных снов? Гном покачал головой.
Снов он не видел давно.
После первого визита Марьяны в его койку.
5
— Крафцоф-ф-ф-ф, — прошипел Пашка как рассерженная гадюка, которую схватили за хвост, приняв за безобидного ужика. — Ты почему, гад, мобильник в вагончике кинул? Я сюда прискакал, тебя нет, звоню — а он внутри пиликает… Думал — может, и ты там, на куски разделанный. Стою, не знаю — не то дверь самому ломать, не то ребят вызывать сразу…
Кравцов сделал самое виноватое лицо и молча продемонстрировал увесистую связку плотвин. Оправдаться было нечем — собираясь на рыбалку экспромтом, действительно забыл взять телефон.
Козырь смягчился не сразу.
— Рыбку он удит, пис-сатель… Паустовский номер два. Лучше бы ты как Тургенев — по полям за дичью, с ружьём в руках оно всё спокойнее…
Кравцов подумал, что Пашка прав, — когда он азартно таскал одну рыбу за другой, его мог легко и просто заколоть консервной открывалкой пятилетний ребенок. Да и раньше, над омутком… Не услышал ведь прихода Ворона.
Но мысли пугающими не казались. Кравцов мало опасался гипотетического любителя махать старинным холодным оружием. И не единственно потому, что у того оснований для мести Кравцову не имелось. Нет. Таким основанием для маньяка может послужить что угодно, любой пустяк, порой лишь выдуманный. Но и рука, и оружие в ней были опасностью вещественной и осязаемой, с которой можно бороться и которую должно победить. Которая не заставляет сомневаться в целостности собственной психики…
Пашка-Козырь, как оказалось, заехал, чтобы оставить Кравцову обещанные ключи — от «Антилопы» и гаража. Доверенность обещал привезти вечером, когда вернется вместе с семейством. Кравцов подумав, что ехать ему в Саблино придется послезавтра, в понедельник. В воскресенье, к тому же совпавшее с кульминацией празднования трёхсотлетия Питера, никого из дурдомовского начальства наверняка на месте не будет. Пытаться же что-либо выудить из поддавших по случаю торжества санитаров не стоит.
К реализации первого пункта своего плана он приступил немедленно. И немедленно план дал трещину.
— Они все нездешние, кроме последнего, — сказал Козырь в ответ на вопрос о сторожах-предшественниках. — Рабочие из Молдавии. Где их сейчас найти, понятия не имею. Сам знаешь, прописки местной у них нет, начинается где-нибудь новая стройка — туда откочёвывают.
Зато Валя Пинегин — заодно выяснилось, что был он студентом, решившим подработать летом, — находился неподалёку. Лежал в Царском Селе, в больнице, с диагнозом ОЧМТ (открытая черепно-мозговая травма). Паршивый, честно говоря, диагноз.
Потом Кравцов вспомнил одну деталь своего ночного кошмара и спросил:
— Слушай, помнишь Шнурка? С нами в те годы тусовался?
— Помню… А что?
— Да вот видел мужика издали, показался смутно знакомым, не знаю: он? не он? — соврал Кравцов, напряженно ожидая ответа Пашки. Однорукого Шнурка он видел не издали, очень даже близко… Но отнюдь не наяву. И надеялся, что тот ныне обитает где-то за тридевять земель, мало ли куда могла зашвырнуть жизнь человека за пятнадцать лет… А еще хотелось надеяться, что с руками у Шнурка всё в полном порядке.
— Наверное, он, — безмятежно сказал Пашка. — Шнурок ведь тут, в Спасовке, ошивается. Раньше-то всё на Север мотался, на лесоповал, вахтовым методом…
— А почему перестал? — спросил Кравцов, надеясь, что в голосе ничего не дрогнуло. Он уже знал ответ.
— Да попал под бензопилу по пьяни… Ну и вернулся с одной рукой. И всё горе заливает, остановиться не может…
Кравцов, уже больше для проформы, уточнил, какую руку оставил Шнурок в далекой республике Коми. Выяснилось — правую. Именно правой не хватало у персонажа сегодняшнего сна…
Пашка уехал. Кравцов сходил на пруд, с плотика-мостка почистил рыбу, — машинально, думая о Шнурке и его потерянной конечности.
Кравцов ожидал, что его скептически настроенное альтер эго заведет знакомую песню: дескать, ты от кого-то слышал про жизненную драму Шнурка, слышал и забыл, а когда мозг генерировал образы сновидения, то…
Но скептик молчал. Надо думать, что такое количество совпадений и забытых, а затем внезапно всплывших фактов оказалось и для него избыточным.
Кравцов вернулся в вагончик, запихал добычу в морозилку… Дверцу холодильника, кстати, открывал с готовностью к любым сюрпризам. Обошлось.
Потом он решил сделать приборку в своём рабочем кабинете — проще говоря, в бригадирской. И почти сразу натолкнулся на толстую тетрадь в черной коленкоровой обложке — лежала на краю стола, спрятавшись под распечатанным черновиком триллера. Кравцов совсем про нее позабыл, не сразу вспомнил даже, где отыскал её, когда погас свет, — на верху украшавшего кухоньку фанерного подобия буфета. Открыл он тетрадь без особого любопытства, не рассчитывая найти ничего более интересного, чем записи какого-нибудь прораба по учету выданных брезентовых рукавиц…
На титульном листе стояло: «В. Пинегин, гр. 339». И название какого-то предмета, густо зачёркнутое, Кравцов разобрал лишь первое слово: «Основы…»
Примерно пятой части страниц в начале не хватало. Понятно. Не отличавшийся особым прилежанием студент Валя Пинегин начал вести конспект и забросил нудное занятие, выдрав использованные листы, — с широким внедрением в быт ксероксов конспектированием занимаются ныне один-два студента из группы…
Дальше шли исписанные страницы — около двадцати. Там могло быть всё, что угодно. Черновики писем к любимой девушке и мысли по поводу прочитанных книг, полное собрание эротических сновидений и роспись личных доходов и расходов… Но Кравцов, ещё не начав читать, был уверен, что ухватился за кончик нити. Куда она приведет, непонятно; больничная койка и диагноз ОЧМТ не самый ещё худший из возможных вариантов. Но всё-таки лучше, чем блуждать в темноте на ощупь…
Через несколько минут Кравцов понял: он с ума не сходил.
Валя Пинегин, очевидно, тоже.
А если они оба все же спятили, то с подозрительно схожими симптомами.
Шли по лесу гномики — III
Тогда — восемь лет назад — Гном и сам не понимал до конца, как он относится к ночным визитам матери в свою койку.
Страх прошел — трудно бояться того, что наступает с регулярной неизбежностью, как заход солнца (критические дни для Марьяны Гносеевой препятствием отнюдь не служили, и даже если она валялась пьяной в лежку — приходила под утро, чуть оклемавшись).
Боль — если он заканчивал раньше матери — оставалась. И если заканчивал намного раньше, то весьма сильная. Но постепенно он научился сдерживаться — широко раскрыв глаза, смотрел на её нависшее тело, старался дышать размеренно и редко, и думал о чём-нибудь особенно неприятном, случившемся минувшим днём и ожидаемом завтра. Нередко это помогало. Открыв (с помощью старших товарищей) существование мастурбации, Гном вообще снял остроту проблемы. Одного вечернего сеанса обычно хватало, чтобы избежать оргазма, лежа под матерью, и избавиться от последующих неприятных ощущений.
Страх и боль ушли. Осталось лишь отвращение. Оно-то как раз росло и крепло с каждым месяцем. Вполне вероятно, что если бы Марьяна испытывала к сыну любовь, пусть кровосмесительную, если бы попыталась привнести в то, что между ними происходило, хоть какие-то элементы ласки и нежности, — всё пошло бы совершенно иначе. Но мать, возможно, мстила «выродку» за его отца, прожившего с ней три года и использовавшего её примерно так же, как она Гнома, — словно купленный в секс-шопе инструмент для снятия сексуального напряжения. А может, ни о какой мести Марьяна и не думала, просто удовлетворяла похоть тем, что подвернулось под руку. Подвернулся, на свою беду, Гном.
Его отвращение, густо приправленное ненавистью, могло принять тогда, спустя год после начала ночных игрищ, любые формы. Могли начаться проблемы со здоровьем — по вечерам на Гнома все чаще нападали приступы беспричинной рвоты, явно психосоматического происхождения. Он мог удариться в бега, пополнив армию бродячих подростков — в тёплые месяцы ему часто удавалось уклониться от своих «обязанностей», заночевав с компанией на чьем-нибудь сеновале; и мысль о побеге и вольной жизни порой закрадывалась Гному в голову.
Но всё получилось иначе.
В тот год, когда ему исполнилось четырнадцать, где-то в августе, Гном как раз закончил подготовительные работы на Кошачьем острове. И принес туда первую кошку — домашнюю, толстую, ленивую. Против путешествия по «болотцу» она отнюдь не возражала, успокаивающий порошок не потребовался, — сожрав кусок колбасы, уютно устроилась на руках у Гнома и продрыхла всю дорогу. И, вероятно, удивилась, когда её двумя быстрыми, отрепетированными движениями прикрутили к жаровне… Замяукала скорее недоумённо, чем испуганно.
А с Гномом произошла странная вещь. Он понял, что эта кошачья толстуха — вылитая его мать.
— Как тебе понравится это, мамочка? — сказал он вслух, поднося спичку к растопке. Ему казалось, что кошачью мордочку искажает гримаса, полностью копирующая Марьяну; и даже задышала кошка, как его мать, — с побулькиванием и похлюпыванием.
Костерок он сложил с умом — пламя, поначалу слабое, лишь лизнуло кошачьи лапы.
Отчаянный вопль резанул по ушам Гнома, ноздрей коснулась вонь горелой шерсти.
— Тебе хорошо, мамочка? — спросил он, чувствуя сильнейшую эрекцию.
Пламя потихоньку разгоралось. Жирная кошка извивалась, ни на мгновение не прекращая оглушительных воплей. Непонятно, когда и как она успевала набрать новую порцию воздуха, но Гнома это не интересовало — он мастурбировал с каким-то яростным ликованием.
Костер заполыхал в полную мощь, Гном стоял слишком близко, ощущая лицом — и тем, что торчало из ширинки, — опаляющий жар. Но не сдвинулся ни на шаг.
— Вот так, мамочка, вот так!!! — орал он в экстазе.
Белые тягучие капли не вытекли, как обычно у него случалось, — но резко и далеко вылетели, угодив в костер. Гном наконец отступил и обессиленно опустился на траву. Так хорошо ему никогда не было — ни под тушей матери, ни во время торопливых вечерних упражнений в дровяном сарае…
Отныне любая кошка — даже самая тощая — стала для него мамочкой. А оргазмы, получаемые при их казнях, похоже, только усиливались раз от раза.
После седьмого или восьмого аутодафе (огненная казнь понравилась больше всего и вытеснила остальные) Гном вдруг отчетливо понял и сформулировал мысль, давно укоренившуюся в его подсознании:
ОН ДОЛЖЕН УБИТЬ МАМОЧКУ.
Не кошачий эрзац.
Живую.
Настоящую.
Убить.
За последующий год он убивал её — в мыслях — десятки раз, пока не остановился на окончательном, простом и надёжном варианте. Некоторые придуманные Гномом способы были оригинальны и остроумны, некоторые могли поразить чудовищной жестокостью, но в реальности произошло всё буднично — правда, ждать пришлось ещё долгих три года.
Еще до восемнадцатилетия Гнома его отношения с матерью претерпели значительные изменения. Он стал уже не тем щуплым парнишкой, которого она могла притиснуть к кровати своим весом — и делать с ним, что пожелает. С раздавшимся в плечах и заматеревшим Гномом такие штучки пройти не могли. Марьяне пришлось искать другие пути, чтобы получать привычное удовольствие. Она подпаивала сына — что было не так легко, ничего крепче пива он в рот не брал, — зато, налившись под завязку пенным напитком, вытягивался на койке и позволял делать с собой что угодно. Она подкупала его — после тех ночей, когда трезвый Гном, почувствовав её руку под одеялом, не отшвыривал её, но позволял Марьяне пройти весь ни на йоту не изменившийся за пять лет алгоритм, — наутро он неизменно обнаруживал на обеденном столе, под сахарницей, несколько оставленных матерью червонцев…
Что характерно, ни одного слова о том, что происходило между ними по ночам в эти годы, Марьяна сыну не сказала. Ни одного. Дневная жизнь и жизнь ночная — совершенно безмолвная — существовали сами по себе, никак не пересекаясь.
За пять лет ненависть Гнома могла выдохнуться и утратить остроту — но не выдохлась и не утратила. Он был подобен камню, брошенному кем-то вертикально вниз с большой высоты, ускоряющемуся и набирающему убийственную энергию с каждой секундой полета — а земли всё нет и нет, земля куда-то подевалась, полет длится и год, и два, и три… — уже не вспомнить, кто бросал и в кого при этом метился, скорость падения невообразима и набранная энергия чудовищна, и нет уже силы, способной отклонить полет…
Он убил её просто.
Сунул в один из своих тайников — из тех, о которых знала Марьяна и регулярно их проверяла — литровую бутылку палёной водки со своими тщательно стертыми отпечатками. Содержимое емкости уже само по себе могло убить двоих-троих непривычных к такому пойлу людей. Но он отлил оттуда около пятой части псевдоводки, пополнив дефицит изопропиловым спиртом и остатками соляной кислоты, уцелевшей со времен жуков и тритонов. Что терзаемая жаждой Марьяна не обратит внимание на сорванный поясок пробки, Гном был уверен. Да и задумываться пропитанным алкоголем мозгом: зачем непьющему сыну водка? — едва ли станет.
Подготовив все, он ушел на вечерний променад.
Когда вернулся — она была жива. В бутылке оставалось на донышке — но Марьяна была жива. Валялась на полу, хрипела-побулькивала, бессмысленно дергала головой и конечностями. Судя по всему, она уже ничего не видела и не понимала.
Гном зажёг сложенные в печь растопку и дрова — июнь стоял на редкость холодный, топить приходилось регулярно. Подождал, пока прогорит до углей, до конца задвинул печную заслонку — и ушёл снова. Из печки медленно пополз угар, превращая избу в газовую камеру…
Глава 2
31 мая, суббота, день, вечер
1
В том, что касалось Ады, предположения Кравцова подтвердились. Она позвонила.
Позвонила около полудня, сказала, что уезжала на два дня, и намекнула более чем прозрачно, что совсем неплохо бы им увидеться.
И тут Кравцов сделал то, что и собирался.
— Извини, но я сегодня занят, — холодно сказал он. — Пишу. Не оторваться, вдохновение накатило. Если хочешь, позвони завтра.
Пока Ада пыталась найти ответ, он распрощался и отключился.
Не слишком, конечно, вежливо. Зато живо расставит все точки на их законные места: над «i», над «ё» и в конце предложения. Если Аделина действительно ведёт свою непонятную игру — позвонит завтра, никуда не денется. Если нет — тогда лучше держать её от всей здешней бесовщины подальше…
Солгал ей Кравцов лишь отчасти. Действительно был занят. Но не писал — изучал оставшуюся от Вали Пинегина тетрадь. Это оказался дневник. Хроника пребывания Вали в должности сторожа «Графской Славянки».
Но дневники, как известно, бывают двух родов. Дневники первого рода люди пишут для того, чтобы их кто-либо когда-либо прочёл (а то, чем чёрт не шутит, и опубликовал). Подобные писания отличаются правильным с точки зрения грамматики строением фраз, а также стараются осветить наиболее полно всемирно-историческое значение личности писавшего. И чаще всего написаны вполне разборчивым почерком.
Дневник Пинегина принадлежал к другому роду. Записи он вёл исключительно для себя. Причём, по всему судя, даже не рассчитывал с умилением перечитывать в старости. Понятные только автору сокращения и ссылки на только ему известных людей и события; отдельно написанные ключевые слова — явно для того, чтобы не забыть какую-то важную для писавшего мысль… Многое густо зачеркнуто — пункты в списках каких-то не то вещей, не то запланированных дел… Плюс ко всему Валя обладал трудночитаемым почерком. Но некоторые — самые важные? — слова Пинегин писал крупными печатными буквами. И порой обводил в рамочку. На исчерканных и покрытых затейливой вязью страницах они сразу бросались в глаза.
Сомнения Кравцова: стоит ли читать сей, возможно интимный, документ? — рассеялись быстро. При беглом просматривании на четвёртой или пятой странице он зацепился взглядом за пресловутую рамочку — от края страницы до края. В ней тщательно было выписано:
ОПЯТЬ СНОВИДЕНИЯ!!!!!!!!!!!!
Длинная цепочка жирных — кружок и заштрихованный овал над ним — восклицательных знаков завершала фразу.
Кравцов заподозрил, что речь идет отнюдь не об эротических снах скучающего в одиночестве студента. О снах-кошмарах. Но ничего похожего на описание пресловутых сновидений на этой странице не нашлось.
Зато через два листа Кравцов обнаружил новую рамочку, окончательно рассеявшую сомнения.
СНОВА ПОТОП — написал Пинегин, причём уже без восклицательных знаков. Что студент сделал таким образом памятку о весеннем разливе рек где-нибудь в далекой Якутии, — подобную вероятность Кравцов отмёл сразу. Стоило признать: его предшественнику снились кошмары с теми же сюжетами. По крайней мере, кошмар с потопом…
Кравцов достал несколько чистых листов из принтера и стал тщательно расшифровывать пинегинские закорючки, записывая результаты нормальным почерком.
Через час выяснилось, что займёт это немало времени. Относительно читаемый вид приобрела лишь одна страница из двадцати четырёх.
Выглядела она — в изложении Кравцова — примерно так:
«11.04.03
Ос-к: 2 эт, пер. нет.
Кирпичи
Где-то [два слова неразб.] отец. Сев. склон снег. Траншея?
Церковь. Фриз гл к-ла. Кто помнит?
Пр-ти:
— [слово густо зачёркнуто, видна последняя буква — «ь»]
— [два слова густо зачёркнуты]
— [слово густо зачёркнуто]
— [два слова густо зачёркнуты]
— [два слова густо зачёркнуты]
— КАСКА
Аванс, 300 р. — Антохе за [неразб.]
Маринка — если согл. [два слова неразб.] кровать.
Проезд вых. д. 27 р.
Схема пер-ть»
Да-а, Шерлок Холмс быстрее справлялся с пляшущими человечками. А ведь это отнюдь не самая густо исписанная страница. К тому же кое-что оказалось нечитаемым в принципе.
Но остальное — прочитанное — вызвало заинтересованное любопытство Кравцова. И массу вопросов.
Сюжет, в общем, ясен. Парень приехал, расположился, бегло осмотрел окрестности. Составил список, что привезти из города. Вычеркнутое, очевидно, привез.
Но слово «КАСКА» в сочетании с другим — «кирпичи», написанным чуть выше, заставило призадуматься. Выходит, Валя Пинегин с первого посещения учёл опасность роняющих кирпичи развалин… Почему тогда все же словил кирпич макушкой? Не смог раздобыть каску? Ерунда, тут даже не обязательно нужна строительная или шахтерская, подошла бы любая — пожарная, военная… Хоккейный шлем, в конце концов, в любом спортивном магазине их навалом… Не нашлось денег на покупку?
Он оторвался от записей и прошел в третье помещение вагончика — то самое, с «траходромом». (Судя по записям, изготовил эту чудо-кровать именно Пинегин для неведомой Маринки. Надо думать, молодым людям просто негде было встречаться.)
Кравцов осмотрел единственное место, до сих пор избегнувшее его внимания. И нашёл, что искал, — под откидной боковой койкой, составлявшей часть «траходрома». Там лежала каска. Строительная, новая, ярко-оранжевая. Рядом лежал налобный плоский фонарик аляповато-китайского вида — наверняка в комплект каски не входивший. Кравцов включил его — батарейки сели, лампочка едва затеплилась… Вот так.
Каска у Вали Пинегина БЫЛА.
Никаких же причин гулять без нее по ночным развалинам не было.
Подозрения от этого рождались достаточно гнусные. Ведь кирпичу, чтобы раздробить затылок, не обязательно выпадать из рассыпающегося карниза… Всё могло произойти совсем в другом месте и другим способом. Достаточно оттащить тело в развалины и положить рядом окровавленный кирпич, и ни у кого не мелькнет альтернативная версия случившегося, к жертвам дворца все давно привыкли…
Понятно даже, почему Пинегина оставили в руинах ещё живым. Для пущего правдоподобия. Удар должен был оказаться единственным, стены контрольных кирпичей обычно вниз не швыряют… Если всё происходило именно так, как сейчас нарисовало воображение Кравцова, то неведомый преступник наверняка рассчитывал, что до утра студент не протянет… Но Пинегин оказался крепче, чем представлялось.
Стоит завтра же навестить его в больнице…
Что ещё есть важное на расшифрованном листке?
Северный склон (долины Славянки?), траншея… Подробнее об этом знает, похоже, лишь сам Валя. Ну, может быть, еще упомянутый рядом некий (его?) отец.
А вот фраза о церкви наводит на размышления. Главного купола — как и прочих — на ней нет шесть десятков лет. Судя по всему, Валя собирался разыскать тут кого-нибудь, кто помнил, как выглядела церковь в далекие годы… Зачем, интересно? Связано ли это с проблемами Кравцова?
Дальше на странице всё относительно понятно, но не интересно.
За что собирался отдать Антохе триста рублей Пинегин — совершенно не важно. Маринка с её «траходромом» тоже… Стоп! Не спешите, товарищ писатель… Если нынешнее состояние студента разговоров с ним не допускает, а его девушка здесь ночевала, от нее можно попробовать узнать кое-что…
Двадцать семь рублей стоил проездной билет выходного дня до Павловска, это понятно. А вот что собирался сделать Пинегин со схемой (чего?) — неясно. Передать кому-то? Переделать? Переслать по факсу? Тёмный лес…
Очевидно лишь, что полная расшифровка рукописи сил и времени отнимет немало.
Кравцов решил пока выписать все ключевые слова, изображенные печатными буквами.
Обнаружилось их на двадцати четырёх страницах пятнадцать, причем некоторые были объединены в короткие фразы: «КАСКА», «ОПЯТЬ СНОВИДЕНИЯ!!!!!!!!!!!», «СНОВА ПОТОП», «КЛАДБИЩЕ — ДАТЫ», «ГДЕ ЦАРЬ???????», «АРХИВАРИУС», «ХОД ИЗ КАБИНЕТА???», «ЛЕТУЧИЙ МЫШ» (именно так, в мужском роде, без мягкого знака).
Под словом «АРХИВАРИУС» стояли семь цифр — их Пинегин писал достаточно разборчиво. Номер телефона. Судя по первым двум — «47» — жил абонент неподалеку, в Царском Селе.
Архивариус… Похоже, мысли Вали Пинегина шли в том же направлении, что размышления Кравцова. А именно — что стоит побольше разузнать о прошлом старого дворца.
Но прошлое, как выяснилось, не терпит любопытствующих.
И бьёт их по головам.
Кирпичами.
2
Прошлым летом — спустя два года после смерти Марьяны Гносеевой — в жизни Гнома исподволь наметилась проблема. С покойной матерью, на первый взгляд, прямо не связанная — смерть той была единодушно признана естественной и вполне закономерной. Но корни проблемы уходили в прошлое. В годы, проведённые Гномом под нависшей тушей матери.
Произошло следующее: постепенно Гном перестал «ловить кайф» от аутодафе на Кошачьем острове. Сжигаемые кошки уже не казались ему Марьяной — ни жирные, ни тощие. Три или четыре раза — в том числе с похищенной у Борюсика домашней пушистой Кутей — Гном не смог кончить… Необходимо было как-то исправлять положение.
Преодолевая отвращение, он попробовал начать половую жизнь с девушками, выбирая самых подтощалых. Красотой и обаянием Гном не блистал, но с тремя партнершами — по очереди — у него дело заладилось. Поначалу…
Никакого удовлетворения Гном не получил. Если и случались оргазмы, то проходили крайне болезненно, точь-в-точь как под Марьяной. А от желания задушить третью партнершу он вообще удержался с огромным трудом. Та, ничего не подозревая, без предупреждения оседлала его в позе «наездницы»… На этом гетеросексуальная жизнь Гнома завершилась.
Не возбуждало теперь Гнома даже маленькое невинное удовольствие — прийти в вечернем сумраке на кладбище и помочиться на могилу матери. Уже несколько месяцев он не совершал этих походов.
Гном и сам не подозревал о том — а расскажи ему кто-нибудь, ни за что бы не поверил, — но ему не хватало Марьяны. Бывает и так. Иногда сексуальность основывается не на любви — на ненависти… Других подходящих объектов для ненависти у Гнома не нашлось, кошек он давно перерос.
Полгода назад у него мелькнула смутная вначале идея, которая постепенно становилась всё более реальной и к концу нынешней весны окончательно оформилась.
Гном решил вновь попробовать свои силы с девушками.
Но иначе, не на унаследованном от матери диване и не прежним способом.
На Кошачьем острове.
Как с кошками.
3
Если хочешь набраться незабываемых впечатлений, то гулять по кладбищу лучше в районе полуночи.
Но в минувшие дни впечатлений Кравцову хватало. И он отправился на прогулку после обеда.
На погосте — вопреки всем мрачным представлениям о подобных местах — оказалось тихо, спокойно, красиво. Умиротворенно. Оградки и кресты (каменных памятников здесь стояло мало) спускались вниз по крутому склону, старые деревья шелестели листвой — молодой, нежно-зеленой — и словно шептали: выше голову, старина, смерть не такая уж мрачная штука…
Удивляла большая скученность старого кладбища. На крохотных семейных участках торчало столько крестов, что поневоле закрадывалось подозрение: не иначе как гробы тут закапывают торчком, вертикально… Но Кравцов знал, что это не так. Хотя порой домовины зарывались на разных уровнях не то что впритирку — внахлест. Дело в том, что грабительские расценки на кладбищах Питера — и официальные, и теневые — заставляли спасовцев зачастую хоронить на деревенском погосте живших и умерших в городе родственников. В Спасовке, например, могилу до сих пор копали патриархально, по старинке — за бутылку казенной…
Прогулку Кравцова вызвало не желание поклониться могилкам родственников. Его заинтересовала фраза из тетради Пинегина: «КЛАДБИЩЕ — ДАТЫ». Кравцов решил, что речь идет именно о Спасовском кладбище. Сейчас он ходил по узеньким наклонным дорожкам и машинально, не глядя на фамилии и портреты, записывал все подряд даты с крестов на лист бумаги: рождение-смерть, рождение-смерть, рождение-смерть…
Ладно хоть свидетелей у его странного занятия не оказалось — пусть и выходной день, но Пасха прошла, а до Троицы еще далеко… На дальнем конце кладбища, впрочем, кто-то возился на могиле — но туда Кравцов не подходил.
Работа шла механически, и мысли были заняты другим. Другой записью в пинегинском дневнике, на той же странице, что и фраза про кладбище: «ГДЕ ЦАРЬ???????»
Вопрос сформулирован без кристальной четкости. Но Кравцову считал, что знает, о чем речь.
Дело в том, что недолгое соседство с последним императором — прикупившим «Графскую Славянку» для охотничьих забав — породила потом массу легенд среди спасовских обывателей.
Например, в двадцатые годы, когда Гражданская война уже отгремела, а коллективизация еще не грянула, жил в Спасовке мужичок с простым таким прозвищем: «Царь». Прозвище еще полбеды, так он и лицом походил на Николашу, благо внешность последнего монарха народ хорошо помнил, хоть и изъяли царские портреты к тому времени отовсюду… Понятное дело, ползли слухи, что один из великих князей любил ходить на сторону, причем, извращенец этакий, предпочитал именно крестьянок фрейлинам да дворцовой прислуге. Мужичок тех сплетен о покойной своей мамаше никак не подтверждал, но, что характерно, бороду и прическу стриг точно так, как носил покойный император. И на прозвище Царь откликался. Может, то было просто безобидное чудачество, которое могло скверно закончиться в бурные тридцатые годы.
Но Царь до великих чисток не дожил, скончавшись скоропостижно и весьма странно — пообедав, пожаловался на боль в животе, которая все усиливалась и усиливалась, и к вечеру умер в страшных мучениях, «скорой помощи» тогда и в помине не было… Вскрытием, понятно, тоже никто не озаботился. Старики, рассказывавшие Лёньке Кравцову про смерть довольно молодого Царя, утверждали, что случился с ним заворот кишок, произошедший от съеденных очень наваристых, жирных щей с убоиной, запитых ледяной колодезной водой. Может, так оно и было, дело темное… Кравцова история эта коснулась по простой причине: Федор Павлович Кравцов по прозвищу Царь приходился ему родным прадедом… Когда Лёньке исполнилось шестнадцать, в стране происходил бурный ренессанс монархической идеи — наряду с множеством других напрочь позабытых идей. Люди вытаскивали из тайников давно там пылящиеся родословные (или хорошо платили за составление новых) — возводящие их род к Гедеминовичам, Рюриковичам, а то и к самим Романовым… Тогда Кравцов посчитал весьма лестным числить себя потомком, пусть и внебрачным, императорской фамилии. Юношеская дурь, конечно, — но рассказы стариков о Царе он слушал куда внимательнее, чем прочие их пропахшие нафталином байки…
Естественно, вся история Царя-Кравцова была стародавним деревенским приколом, — даже даты никак не совпадали, «Графскую Славянку» министр императорского двора Фредерикс присмотрел уже после рождения Кравцова-прадеда. Но Лёнька однажды потратил два дня, облазив всё кладбище до последней могилки — искал погребение «монархического предка». Не нашёл. Это показалось странным. Стояли там и более старые, заботливо подновляемые кресты — когда люди из поколение в поколение живут на одном месте, в таком сбережении памяти о предках мало удивительного. Но могила Царя не сохранилась. Могла, конечно, в войну угодить бомба или шальной снаряд… Но отчего потом не восстановили? Кравцов-отец, как ни странно, тоже ничего о месте захоронения своего деда не знал и, задумавшись, сам удивился: как-то не принято было в семье ходить на могилу Царя… В общем, маленькая семейная загадка. Интерес к ней Вали Пинегина — если запись в дневнике истолкована правильно — Кравцова по меньшей мере удивил…
…Три листа почти сплошь покрылись написанными от руки датами. Сжимавшие ручку пальцы не слушались, не хотели сгибаться, — последние годы для письма Кравцов почти исключительно пользовался клавиатурой компьютера.
Хватит, осматриваю последний участок, выборка достаточная, — решил он. И аккуратно записал даты с двух последних крестов. Чем-то эти цифры показались странно знакомыми: 11.07.1967 — 18.06.1984 и 03. 05.1968 — 18.06.1985.
Кравцов взглянул на имена и портреты. Ну точно, братья-погодки Федосеевы — погибшие на графских руинах в один и тот же летний день, но с перерывом в год… Могила ухожена, верно мать жива ещё… Вот уж не позавидуешь такой старости.
Следующий час он занимался довольно тупой и нудной работой — переносил цифры с листов на компьютер, в программу, позволяющую статистически обрабатывать большие массивы цифр.
Первые же три сортировки, выведенные в виде диаграмм, принесли крайне интересные результаты.
Даты рождений спасовцев по годам имели два четко выраженных пика — послевоенные годы и начало шестидесятых; насколько знал Кравцов, эта статистика характерна и для всей остальной страны. Второй пик, собственно, был заметен только на фоне семидесятых и восьмидесятых годов — большинство представителей «шестидесятников» еще живы.
Месяца рождений у семидесяти процентов спасовцев старшего поколения приходились на промежуток между маем и августом. Тоже понятно — зачинали их в относительно свободные от крестьянских дел месяцы, наломавшись до упаду в страду, о продолжении рода-племени меньше заботишься. Чем дальше, тем закономерность эта становилась менее очевидной.
Числа рождений были разбросаны по месяцам абсолютно хаотично.
Со смертями всё обстояло иначе. Голодные тридцатые, сороковые и пятидесятые собрали свою обильную жатву — в том числе и среди детей. (Кстати, тридцать седьмой и тридцать восьмой, столь горько оплаканные в перестроечные годы, ничем на общем фоне тридцатых не выделялись.) Но к этим вполне ожидаемым пикам прибавлялись и другие, не столь явные, но ни с какими историческими событиями вроде не завязанные. Например, странный рост смертности наблюдался в восемьдесят восьмом…
Статистика по месяцам показала: чаще всего умирали сиасовцы в феврале и июне-июле. Вроде с медицинской точки зрения вполне объяснимо. Конец зимы — авитаминоз, дефицит ультрафиолета и общая усталость организма косят стариков. Лето — гипертоники и сердечники мрут от жары и скачков давления, молодые тонут при купаниях, разбиваются па мотоциклах, падают с графских руин… Именно так думал Кравцов, пока не посмотрел статистику смертей по дням, ожидая, что картина будет аналогичная рождаемости — хаотичная и бессистемная.
Увиденное шокировало.
Он вышел из вагончика, не выключив компьютер, торопливо вновь направился к кладбищу — благо ходьбы минут пять, не больше. Хотелось увидеть подтверждение вычисленному не с бесстрастного экрана…
Дорогой в голове билось: НЕУЖЕЛИ НИКТО ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЛ?! СОВСЕМ НИКТО?!
Он прошел в тот конец погоста, куда не добрался со своей выборкой и где, по смутным воспоминаниям, были участки нескольких семейств клана Сорокиных… Не сразу, но нашел могилу Динамита.
Так и есть.
Игоря Сорокина по прозвищу Динамит убили 18 ИЮНЯ 1990 года.
В тот же летний день, что погибли — на шесть и пять лет раньше — братья Федосеевы.
В день, указанный в смертных датах многих стариков — наверняка в большинстве своем умерших от естественных и вполне уважительных причин. В смертных датах молодых — многие из них наверняка погибали отнюдь не от болезней. И дети, и люди средних лет, и мужчины, и женщины, — роковая дата не делала ни возрастных, ни половых различий.
С точки зрения статистики такое было НЕОБЪЯСНИМО. Девяносто процентов июньских покойников расставались с жизнью в этот день.
18 ИЮНЯ.
4
Как выяснилось, жарить вальдшнепов Наташка Архипова умела замечательно. То есть, конечно, лишь Кравцов её мысленно именовал по-прежнему, а на деле она давно уже стала не Архипова, но Ермакова, — в деревне как-то не принято, выходя замуж, сохранять девичью фамилию.
Впрочем, на её кулинарных талантах смена анкетных данных никак не отразилась. Вальдшнепы оказались — под аппетитнейшей золотистой корочкой — мягкими, сочными, буквально тающими во рту, никакого сравнения с напичканными комбикормами и гормональными ускорителями роста бройлерными цыплятами.
Жаль только, что бройлеры выигрывали это заочное соревнование по единственному параметру — по размерам. В результате гвоздь меню исчез с тарелок почти с той же скоростью, с какой улетали живые вальдшнепы после неудачных выстрелов Кравцова и Пашки.
— Метче стрелять надо, — улыбнулась Наташка, глядя, как мужчины обгладывают последние косточки.
— Это всё Кравцов, эколог несчастный, — наябедничал Пашка, разливая остатки «Рыцарского замка» — рейнского вина, идеально, по его мнению, сочетающегося с российской дичью. — Специально ведь мазал — красивые, дескать, слишком…
— И правильно, — снова улыбнулась Наташка. — Сережке и Андрюшке, когда вырастут, ты по воронам в парке стрелять предложишь?
Упомянутые Ермаковы-младшие были представлены гостю и получили от него в подарок книжки с дарственной надписью автора — хотя мать заметила, что кравцовские триллеры читать им рановато. Сейчас отпрыски уже спали, вечер стоял поздний. Застолье старые приятели продолжали втроем.
— Так что пусть птицы пока полетают, ребят подождут, — продолжала Наташка. — У нас и без того есть что на стол поставить. — Стол, действительно, ломился от изобилия закусок.
Кравцов же, за всеми тостами и беспорядочными воспоминаниями минувших дней, внезапно понял — спустя пятнадцать лет — странную вещь: оказывается, он тогда был влюблен в Наташку Архипову. Вот так. Наверное, нельзя было быть с ней знакомым и не влюбиться хоть капельку. Как теперь понял Кравцов-взрослый, юный Ленька в те годы не просто ничем не выдал своих чувств, но и сам себе не отдавал в них отчета. Надо думать, срабатывал некий внутренний тормоз: это девушка Динамита. Ныне, вероятно, такое препятствие его бы не остановило, но тогда… А вот Пашка-Козырь…
Кравцов резко оборвал мысль. Смутное чувство — что от трагедии, разыгравшейся между Сашком, Динамитом и Наташей, выиграл лишь Козырь — оснований подозревать в чем-то старого друга не давало.
Наташка осталась той же красавицей. Пожалуй, на вкус Кравцова, стала ещё привлекательнее. Исчезли девичья порывистость и совсем легкая, пришедшая из детства угловатость, Наташка чуть-чуть располнела и сейчас являла собой тот тип русской красоты, от которой теряли голову поэты и художники российского золотого века…
И писатели, товарищ Кравцов, и писатели, добавил он мысленно.
Это казалось чудом. Ему часто приходилось наблюдать внезапную метаморфозу, столь характерную для сельских женщин: как вчерашняя бойкая девчонка, первой из сверстниц выскочив замуж и родив ребенка, буквально на глазах превращается в бесформенно-целлюлитную матрону, — что особенно заметно на фоне её подружек, чуть повременивших с замужеством.
И — всё вернулось. Только вместо девушки Динамита перед ним была жена Пашки-Козыря…
Хорошо, что Паша не владеет телепатией, подумал Кравцов. А вот Натали… Говорят, что такие вещи женщины понимают без слова и жестов, по флуктуациям мужского биополя…
Застолье тем временем приближалось к логическому концу. Козырь поднялся, собрал на поднос излишки закусок, добавил непочатую бутылку (как отметил Кравцов, с самым малоградусным содержимым). Сказал, направляясь к двери:
— Снесу ребятам, пусть и они отпразднуют…
Наташка едва заметно поморщилась. Встретив Кравцова, она после первых приветствий сказала примерно с таким же, как сейчас, выражением лица:
— У нас в семействе прибавление…
«Прибавлением» оказались двое плечистых охранников, демонстративно державших поясные кобуры на виду, под распахнутыми пиджаками. Правда, чересчур гориллообразными они не выглядели. У одного было даже вполне интеллигентное лицо. Напоминал он студента университета, на досуге — чисто как хобби, без ущерба занятиям — увлекающегося вольной борьбой. Надо понимать, при выборе этой парочки внешние данные сыграли для Пашки не последнюю роль. Но Натали не оценила его стараний. Она понятия не имела об истинной судьбе «убежавшего» Чака, о подозрениях и догадках Кравцова и Паши. И злилась на непонятно зачем притащенный в Спасовку конвой… Впрочем, чтобы заметить следы этой злости, надо было очень внимательно всматриваться. Ум Наташи не уступал красоте — ни тогда, ни теперь.
Пашка вышел. Они остались вдвоем. Кравцов не знал, что сказать.
Наверное, в рассказах о шестом женском чувстве есть доля истины. Возможно, что-то такое Наташка ощутила… И не стала продолжать звучавший легко и непринужденно (втроем!) разговор об их юных годах. Но и повиснуть неловкому молчанию не дала. Задала беспроигрышный вопрос — о творческих планах Кравцова.
Чем вывела его из слегка обалдевшего состояния, возникшего от осознания того, что юношеская влюбленность пятнадцать лет провела в тщательно замаскированной засаде, чтобы нанести удар в самый негаданный момент.
Творческие планы у Кравцова, честно говоря, пока не оформились. Не успел составить — слишком недавно вернулась сама возможность писать. Зато имелся другой план.
Почему бы, собственно, не начать с неё? — подумал он. Как источник информации, Наташка не хуже любого иного, коренная спасовка. Заодно не будет лезть всякая дурь в голову…
— Задумал большой роман, — сказал Кравцов непринужденно (так, по крайней мере, ему самому казалось). — Нечто в духе Стивена Кинга, но с поправкой на российскую действительность. Почему в каком-нибудь крохотном городишке штата Мэн может существовать изнаночная жизнь — мистическая, загадочная, страшная, а в нашем селе — нет? В общем, сейчас собираю материалы обо всяких страшилках и пугалках из сельской жизни. Обо всем таинственном и необъяснимом… Ты никаких подобных историй не помнишь? Местных, оригинальных, спасовских?
— Страшилки… — медленно повторила она. — Знаешь, когда Светка Лузина — помнишь, подругами мы были? — сидит на седьмом месяце, ждет четвёртого, а старшие трое растут в обносках и впроголодь, и в день получки её муж приходит без копейки денег, но с канистрой бодяжного спирта, и Светка с горя к той канистре плотно прикладывается… — вот это действительно страшно. На этом фоне какой-нибудь оживший покойник — чушь и ерунда.
На «чушь и ерунду» Кравцов слегка обиделся.
— Я пишу про оживших покойников, — сказал он, — именно для того, чтобы немного отвлечь от действительно мерзкого. Потому что все понимают: игра, не всерьёз, понарошку…
Она обиду уловила — мгновенно.
— Извини, я не про твои романы… Они действительно увлекают, интересно написаны, Паша мне давал. Но ничего таинственного и необъяснимого мне как-то не вспоминается. Разве что Чёртова Плешка…
Из глубин памяти Кравцова тут же всплыло это, слышанное в детстве, название. Но подробностей он не помнил. Знал только, что «плешкой» здесь зовут не лишённую волос часть черепа, но место, где по каким-то причинам ничего из земли не растёт или растёт очень плохо. Встречаются такие места порой в еловых или смешанных лесах — на земле лишь слой опавших листьев или хвои, ни травинки, ни былинки, даже грибов не бывает. И на полях случается: на каком-то участке точно так же сеют, как и на остальной площади, — а не вырастает ничего. Одно слово — плешка.
Наташка рассказала, что в детстве часто бывала у родственников в Антропшино — одна ветвь семейства Архиповых жила там. Порой приходилось возвращаться затемно. Не одной, чаще всего с подругами. Ну и пугали друг друга по пути страшилками о Чёртовой Плешке. Дескать, если пересекать ночью долину Славянки — из Спасовки в Антропшино или обратно — можно совершенно непредсказуемо попасть на такое место, где ничего не растёт и где ориентация абсолютно теряется. Местность горизонтально-ровная, не понять, вверх или вниз идешь по склону. Всегда при этом на землю опускается ночной туман — ни звёзд, ни светящихся вдали окон домов не видно. Никаких ориентиров. И люди там пропадают. Рассказывают — в легендах — об этом путники, заспорившие с пропавшими о правильном пути — и разошедшиеся с ними. Спасшиеся, проплутав всю ночь, обычно обнаруживали себя на рассвете в двух шагах от спасовских или антропшинских огородов. Спутники их исчезали навсегда — никто и никогда их больше не видел, даже мёртвыми. В общем, история вполне подходящая для ночной дороги, — заставляет шагать быстрее и внимательнее присматриваться к смутно видимым ориентирам.
Вернувшийся с пустым подносом Козырь услышал окончание рассказа жены и внёс в него свою лепту. Оказывается, во многих вариантах легенды фигурирует нечто белое и движущееся. То смутно видимая в тумане белая лошадь, куда-то бредущая. То белый автомобиль, тоже смутно и издалека видимый, бесшумно и медленно куда-то катящий. Причём — характерный штрих — навсегда исчезали как раз те люди, которые устремлялись по направлению, указанному этими белыми проводниками. Ушедшие в другую сторону находили в конце концов дорогу.
Кравцову показалось, что на протяжении рассказа мужа Наташа хочет что-то сказать — но не говорит.
Закончив свой вариант страшилки, Паша сказал, что сходит запереть гараж и пристройки. И тут же добавил:
— Ты только не прими это за намёк: мол, пора и честь знать. Посидим ещё, мы и десятой доли всего друг другу не рассказали…
Когда он вышел с большой связкой ключей, Наташа проводила его удивленным взглядом. Очевидно, в загородном доме Ермаковых так тщательно запираться не было принято. Тем более в присутствии двух охранников.
Потом она сказала — как-то неуверенно, словно уже говоря, всё еще сомневалась — стоит ли:
— Знаешь, Паша тебе не всё рассказал… Дело в том, что однажды… В общем, мы тоже… Шли из Антропшино, от Архиповых, водила Пашу знакомиться перед свадьбой… Вроде тропа сто раз хоженная — но заплутали. Не знаю уж, на Чёртову Плешку угодили или нет — трава росла, но коротенькая, как свежескошенная… Но едва ли там косить бы кто стал — кочка на кочке. Идём, идём, туман вокруг, вроде и прямо держаться стараемся, а все равно кружим. Лошадей, правда, белых не встречали. Машин тоже.
Кравцов заинтересовался. Это уже не десятый пересказ, где основу трудно отличить от фантастических наслоений.
— И как выбрались? Так до рассвета и кружили?
Она ответила ещё более неуверенно:
— Нет… Я от девчонок слышала, что если парень с девушкой… ну, с действительно девушкой, то можно… А мы ещё… И раньше я… В общем, первый раз мы — там.
— Помогло?
— Не знаю. Плохо помню, как потом шли… Но дома оказались задолго до рассвета, потому что…
Вернулся Козырь, и она на полуслове сменила тему, заговорив громче:
— Ты ведь еще фотографий наших не видел! Никаких, с самой свадьбы! Ермаков, доставай… А вы, господин писатель, пожалуйте сюда, на диван…
Кравцову — впервые за вечер — послышались в её голосе легкие нотки фальши. А может, ему просто хотелось их услышать.
5
Тёмный сад у дома Ермаковых слабо освещали три источника: луна в небе, горящий в отдалении у дороги фонарь и окно, за которым друзья детства отмечали встречу. Каждое дерево и каждый куст в результате отбрасывали по три тени разом — сад тонул в их переплетении. Некоторые тени медленно двигались — порождавшая их луна ползла по небу.
Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что одна из теней — большая, бездонно-черная — движется иначе, чем другие. Но два человека, сидевшие на неосвещенной веранде (в темноте светились лишь огоньки их сигарет), к числу таковых — очень внимательных — наблюдателей не относились. И не замечали ничего.
Может, оно и к лучшему. Потому что — опять же внимательный наблюдатель — мог приблизиться почти вплотную к подозрительной тени и успеть разглядеть, что это человек, затянутый в обтягивающий черный комбинезон. Но скорее всего, никто и ничего толком разглядеть бы не успел, умерев секундой раньше, — а трупы ни внимательностью, ни наблюдательностью не отличаются.
А так охранники сидели на веранде и медленно, растягивая удовольствие, допивали вино. Тихонько разговаривали. Вообще-то полагалось бодрствовать одному из них, а второму спать вполглаза, не раздеваясь, с оружием наготове… Но тут уж сам принципал, проставивший угощение, был виноват в нарушении инструкции.
Тень — та самая, большая и опасная — продолжала бесшумное и почти незаметное глазу движение. И спустя какое-то время расположилась напротив крылечка веранды. Чтобы оказаться рядом с беспечными охранниками, тени требовалось две секунды. Чтобы убить обоих — еще одна. Но тень застыла неподвижно.
Непогашенный окурок прочертил ночь трассирующей пулей и упал к ногам человека в черном комбинезоне. Ступени крыльца заскрипели под грузными шагами. Один из охранников вышел в сад, остановился, постоял, всматриваясь в темноту. Человек в чёрном мог снести ему голову, не сходя с места, — полоска воронёной, не дающей отблеска стали в его руке как раз дотянулась бы до горла. Но человек стоял молча и неподвижно.
Охранник прошагал обратно. Не присаживаясь, потоптался на веранде, договариваясь с напарником о времени смены. Потом ушёл в дом. Второй остался на вахте.
Человек в саду казался высеченной из антрацита статуей — ни один, пусть самый архивнимательный наблюдатель не уловил бы теперь ни малейшего движения.
Человек умел ждать. Он ждал много лет.
И был готов подождать ещё.
6
У Кравцова тоже оказались с собой фотографии. Будучи в городе, отобрал в отдельный альбом самые, по его мнению, интересные — именно в ожидании сегодняшней встречи.
— Э-э, брат, да ты, похоже, у рыболовов со всего берега улов собрал для этого кадра… — подколол Пашка, рассматривая снимок: на нём стоявший на берегу молодой Кравцов согнулся под тяжестью двух баснословных связок здоровенных рыбин.
— Вот еще, — возмутился Кравцов. — Это Казахстан, Паша. Казахи рыбу испокон не ловили и не ели. Почти непуганая. Тем более — охранная зона военного объекта. Рыбный Клондайк, Эльдорадо. Там ловят не покуда клюет, а до тех пор, пока улов унести могут. И без сетей, на крючок — всё равно излишки не продашь, в каждой семье свой рыбак есть… Раков тоже немеренно — руками, без всяких ловушек, с фонариком, полные ведра набирали.
— А это — море? Арал или Каспий? — показал Пашка на обширный — до горизонта — водоем за спиной у молодого Кравцова.
— Озеро. Балхаш. Но от моря мало отличается — большое, солоноватое. В принципе летом — курорт. Если приехать на две недели и точно знать, что на четырнадцатый день полетишь обратно…
— А ты не пробовал сейчас — именно так, на недельку, порыбачить? Нынче ведь многие закрытые городки открыли для въезда….
— Пробовал… — протянул Кравцов, удивившись Пашиной догадливости. — Год назад попробовал, благо все допуски и подписки еще в силе оставались… Мне, дураку, надо было взять билет в Казахстан, а на объект попросту, через дыру в периметре, благо знал их наперечёт… Но я, как умная Маша, официальное заявление написал на посещение…
— И что?
— До сих пор икается… Пригласили в Большой Дом — якобы заполнить бумажку какую-то. И четыре с половиной часа на допросе продержали.
— Зубы напильником пилили и требовали признаться, что на ЦРУ работаешь?
— Ну это ты «Арбатских деток» начитался… Я и сам толком не понял, что их интересовало. Гоняли по кругу: с кем рядом служил, да чем занимался, да не замечал ли чего странного… А в чем дело, так и не сказали. У меня впечатление сложилось — стряслось там что-то нештатное колоссальных размеров. Словно бы рвануло так, что уже не найти крайних и виноватых, даже по кусочкам не собрать. Но официально ничего не сообщали, да и нечему там вроде так взрываться…
Наташа в этом разговоре не участвовала. Её служба на затерянных в степи объектах и всевозможные рыбные Клон-дайки не интересовали. Но когда пошли снимки более свежие — сделанные на литературных тусовках — активно присоединилась. В современной литературе популярных жанров она разбиралась неплохо. Зато теперь больше молчал Пашка.
Кравцов, впрочем, в комментариях был скуп:
— Одно скажу про пишущую братию: пьют ничуть не меньше офицеров.
— А это кто? — показала Наташа на изображение человека с глубоко посаженными глазами и тяжёлым лицом. Тот стоял в самом центре группового снимка, единственный из присутствующих держа в руке зажжённую сигарету. Среди обступивших человека с сигаретой находился и Кравцов — ничем почти не отличающийся от сегодняшнего.
— Это Мэтр, — сказал Кравцов и назвал фамилию. — Я у него проходил нечто вроде литературного ликбеза. Циничный оказался мужик до ужаса. Говорил прямо: главное писать не хорошо, но продаваемо… Хотя наука его пригодилась.
— Знаешь, я читала его вещи… — медленно сказала Наташа. — Да и кто их не читал… По книгам он примерно таким и представлялся, с таким взглядом. Странные книги… Если бы у Терминатора — того, из первого фильма — прорезалась страсть к писательству, то получилось бы нечто похожее.
Кравцов коротко согласился. Не хотел развивать тему. Свежи были в памяти странные обстоятельства, предшествующие смерти Мэтра; говорили о них между своими шёпотом, на ухо…
…Наконец вечер воспоминаний, плавно перешедший в ночь, завершился. От предложения заночевать здесь — никуда, мол, эти плиты не денутся — Кравцов отказался. Перед уходом он ненадолго остался с Пашкой наедине.
— Возьмёшь одного из моих лбов в попутчики? — спросил Козырь. — Наташке скажем, что я что-нибудь в вагончике позабыл…
— Дойду сам, не маленький… — сухо откликнулся Кравцов. — И кажется мне, что зря ты от неё эту историю прячешь. Так или иначе выплывет… Да и мне, дорогой друг, по-моему, ты далеко не всё рассказал.
Он посмотрел Пашке прямо в глаза. Тот выдержал взгляд, не смутившись. И ответил так, что Кравцов ему почти поверил:
— Брось, ничего я за душой не прячу… А что история не полная, обрывочная, так извини, я и сам ведь многого не знаю…
…В последней фразе Пашка-Козырь не лукавил. Многого он действительно не знал. Например, не знал, что первый удар, нанесённый Сашком Динамиту, в переводе с японского именовался очень красиво: полет ласточки над вечерним морем…
Первый Парень — III.
Сашок. Лето 1990 года
…В переводе с японского это звучало красиво: полет ласточки над вечерним морем. Но воздух рассекла не быстрокрылая птичка — холодная сталь клинка.
Удар должен был отсечь руку — правую кисть. Не отсек. Рука метнулась навстречу — не то надеясь отвести или остановить безжалостное лезвие, не то просто рефлекторно. Два пальца упали на землю. Указательный и средний. Кровь не ударила струей— в последовавшие несколько секунд. Так всегда и бывает — спазматическое сжатие сосудов.
А потом уже стало не понять, откуда хлещет и льётся красное.
Самое страшное было— звуки. Вернее, почти полное их отсутствие. Один умирал, другой убивал — и оба молчали. Тяжёлое дыхание. Стон рассекаемого воздуха. Шлепки стали о плоть. Скрежет — о кость. Наконец — уже не крик — булькающий клекот — неизвестно какой по счёту удар рассек горло.
После этого все кончилось — для Динамита — довольно быстро. Но Сашок Зарицын рубил и рубил неподвижное тело…
…За неделю до этого ему и в кошмарном сне не могло привидеться, что он убьёт человека.
Сашок совсем не был, вопреки мнению Козыря, инфантильным оболтусом, до сих пор играющим в детские игры.
Четыре года назад его двоюродный брат, живший в городе, предложил подзаработать надомной работой — раскрашиванием оловянных солдатиков. Кустари в полуподпольной конторе на Васильевском острове с сомнением посмотрели на двух пареньков (предпочитали они девушек, как более аккуратных и обязательных), но всё-таки выдали краски и оловянные фигурки — самые простые, так называемые сувенирные, не требовавшие особой исторической точности и слишком тщательной прорисовки деталей.
Кузен вскоре отказался от внешне несложной работы — времени она отнимала больше, чем думалось поначалу, а расценки на «сувенирку» оказались мизерные. А Сашок втянулся, у Сашка обнаружился талант, Довольно скоро он перешел к коллекционным солдатикам, выпускаемым на наш рынок ограниченными партиями (большая часть шла за рубеж). Работа усложнилась — каждая деталь амуниции и старинной формы, причудливой и пестрой, прорисовывалась тщательно и в полном соответствии с исторической правдой. Крохотные воины не были, как в сувенирке, некими усредненными «русскими гусарами» или «французскими гренадерами» — мундиры на коллекционных фигурках точнейшим образом соответствовали своему времени и своему полку, вплоть до самого внимательного подбора оттенка изображавших ткань красок…
Но и оплачивалась коллекционка соответствующе. Мать (Сашок рос без отца) поначалу отнеслась к занятию сына негативно — вонь от красок шла изрядная. Однако когда вдруг обнаружилось, что плоды двухнедельных трудов Сашка оценены примерно в размере её месячной зарплаты, получаемой в совхозе, — мнение матери о «баловстве» сына изменилось мгновенно. Она расчистила заваленный всякой ерундой рабочий стол покойного отца и повесила сверху яркую лампу. И уже не норовила, как прежде, отправить сына принести воды или окучить картошку, застав его за раскрашиванием…
Спустя полтора года он перешел на новую ступень — стал рисовать образцы коллекционных фигурок, по которым работали художники, готовившие модели для отливок. Теперь приходилось самому рыться в исторических книжках и проводить долгие часы у музейных витрин, делая эскизы мундиров, амуниции и оружия.
Именно оружие привлекало его больше всего. В пятнадцать лет Сашок сделал свою первую копию гусарской сабли. Оружие являлось чистейшей воды бутафорией, годной лишь украшать ковер, — тщательно выполненная рукоять крепилась к пустым ножнам.
Это было неинтересно, он стал ходить за шесть километров в совхозную кузницу — научиться работать с металлом.
Ничего не вышло, сельские кузнецы вымирали как класс, и таланты местного кузнеца дяди Андрея лежали в основном в области истребления несметного количества пива. Но увидев кузнечное дело в списке предлагаемых одним питерским техникумом специальностей, Сашок не стал сомневаться, где продолжать среднее образование.
А где-то глубоко росла и крепла мечта, потихоньку переходя в уверенность — мечта об историческом факультете ЛГУ. Ни мать, ни знакомые не поняли бы такого выбора — историк в их списке уважаемых или хотя бы приемлемых профессий никак не значился. Но окружающие давно существовали в каком-то параллельном измерении, а Сашок жил в мире, где ревели трубы, и гулко бахали медные бомбарды, и хоругви панцирных гусар на всем скаку врубались в ряды ощетинившейся багинетами пехоты…
Интерес к изготовлению оружия поневоле породил интерес к приемам владения им. Историческим фехтованием в Ленинграде середины восьмидесятых можно было заниматься единственным людям и в единственном месте — каскадерам на киностудии «Лен-фильм»; любители-неформалы пребывали в глубоком подполье, под вечной угрозой статьи об изготовлении и хранении. Попробовав записаться в фехтовальный клуб «Мушкетер», Сашок ушел, едва поглядев на первое занятие — тыканье жалким псевдооружием показалось смешной и постыдной профанацией…
Пришлось до всего доходить самоучкой, кое-что придумывая самому, но большей частью осваивая фехтовальные приемы по книжкам — старым, с желтыми ломкими страницами (солдатики не были заброшены, просто ушли на второй план, доходы от них позволяли посещать букинистов). На то, чтобы выучить по книге, без живого учителя, какое-нибудь простенькое движение «ин кварте — ин секста», уходили долгие часы тренировок. Сашок осваивал всё без разбору — школы всех стран и народов, приемы для всех видов холодного оружия. Многое отбрасывал — казавшееся надуманным и ритуально-смешным. В результате у него сформировался некий собственный стиль, во многом напоминающий дворовую драку, с приемами, не рассчитанными на внешние эффекты, жестокими и действенными. Философскую составляющую восточных боевых искусств Сашок пропускал, не читая… Рыцарские принципы западных школ — тоже.
Один — но на редкость эффективный — прием показал, как ни странно, старик Ворон, неслышно возникший за спиной, когда Сашок осваивал «рубку лозы». Взял шашку, показал, ушел — все молча. Клинок в узловатой руке старика странным образом — словно законы физики, касавшиеся массы и инерции, его не касались — мгновенно менял траекторию, и боковой удар обрушивался уже сверху. Сашок удивился такому умению: неужто старый успел послужить в Первой Конной? Да нет, едва ли, скорее в Отечественную у Доватора… Но прием запомнил и с немалым трудом выучил.
Поначалу он любил тренироваться на графских развалинах — место навевало подходящее настроение, да и бывало обычно безлюдным. Сашок облюбовал выступающий из стены остаток какой-то металлической несущей конструкции, подвешивал на него обрубок бревна и до седьмого пота отрабатывал удары. Когда рука начинала неметь, а глаза застилала усталость, ему чудилось, что он слышит голоса, далекие и неразборчивые. Наверное, тех, кто жил здесь много лет назад, когда шпаги и палаши служили не только музейными экспонатами… Тех, кто знал, как поет в руке сталь, рассекающая воздух и плоть, — а теперь наблюдал за Сашком из непредставимого далека, пытаясь помочь советом… Потом — в одночасье — его визиты во дворец прекратились. Показалось — странные вещи могут померещиться в долгие часы одиночества, — что один из голосов перешел от слов к делу. Что движения сжимающей клинок руки — не совсем его. Что направляют удары два разума и две воли… Бред, конечно, — но тренировки Сашка продолжились за домом, на задах участка. Там никто не толкал под руку. Но голоса (или голос?) изредка продолжали звучать…
…Их седой и одышливый участковый, явный прототип киношного Анискина, случайно проходил мимо. И увидел Сашка, упражнявшегося с точной копией самурайской катаны. Объектом отработки ударов служил подвешенный к старому турнику толстый чурбан. Участковый подошел поближе, задумчиво покачал головой, глядя на лихие удары, — половина чурбака уже белела щепками на земле; похвалил отделку эфеса и лезвия.
Потом долго беседовал с матерью, просветив её в некоторых разделах уголовного кодекса, касающихся изготовления, хранения и ношения… Сам участковый, впрочем, опасным увлечение Сашка не считал. Повидав на своём веку немерено самодеятельных оружейников, он куда сильнее опасался тех, что ладили заточки из напильников и делали финские ножи с наборными пластмассовыми ручками.
Он тоже подошел к Сашку со спины, вот в чем еще дело. Если бы увидел лицо и глаза в момент расправы с безвинным бревном — может, отнесся бы ко всему немного иначе…
Как бы то ни было, клинки к лету девяностого года из дома Сашка исчезли (ну, если уж совсем честно, просто не мозолили глаза окружающим); он заканчивал техникум и все размышлял, как же сообщить матери, куда сын собирается подавать документы… Ничего сообщить он не успел. Солнечным субботним утром к стоявшему на автобусной остановке Сашку подошел Динамит.
…Сломанный в шейке зуб болел нестерпимо, ребра отзывались острой болью при каждом вздохе, один глаз заплыл огромным фингалом, да и вторым Сашок мало что видел вокруг (он спрятался от всех в своей маленькой мастерской, оборудованной в сарайчике) — слезы обиды и боли превращали знакомые предметы во что-то новое, незнакомое, искаженное — и падали на книжку, раскрытую на старинной гравюре. Изображенный там немецкий мушкетер в коротеньких штанах и обтягивающих шелковых чулках улыбался беззлобно и целился в кого-то из старинного фитильного мушкета…
Целился, чтобы убить.
И Сашку вновь послышался голос, — ясный, громкий, четкий, непохожий на те, — далекие и неразборчивые — что доносились откуда-то на развалинах. Возможно, голос принадлежал именно мушкетеру. По крайней мере, слова были не русские, — но Сашок, как ни странно, понимал всё. Голос говорил, что мужчины после такого не рыдают… Они берут холодную сталь и убивают.
Сашок поверил голосу без колебаний.
…Суд состоялся выездной — в зале сельского Дома культуры. И это было хорошо. В переполненную камеру районного следственного изолятора голос пробиться отчего-то не мог. Сашок слушал его советы прямо со скамьи подсудимых. Слушал и следовал им.
Он говорил на суде без эмоций. Сухо и подробно перечислял, дополняя слова аккуратными жестами, последовательность и красивые названия ударов и выпадов. И еще более подробно — их результаты, называя отсекаемые части тела совершенно по-научному, словно имел перед глазами анатомический атлас человеческого тела.
На середине перечисления раздался глухой звук, какой издает бильярдный шар, падающий на пол (настоящий шар, из слоновой кости, не керамическая или пластиковая подделка), — это мать Динамита, позеленевшая, нетвердыми шагами идущая к выходу из зала, рухнула в проходе…
В конце концов и судьи не выдержали методичного, спокойного и кровавого перечисления. Объявили перерыв в заседаниях и послали Сашка на повторную психиатрическую экспертизу (первая признала его дееспособным и обязанным нести за все ответственность).
Процесс так и не возобновился.
Сашка упекли в областную психушку, что на станции Саблино, — знающие толк люди говорили, что это куда хуже зоны, любой срок когда-то кончается, а лечить, причем весьма болезненно, могут всю оставшуюся жизнь…
Впрочем, защитник посчитал такой исход полной своей победой. Конфиденциально называл матери Сашка сумму, за которую её сын через три года может вернуться на волю. Называл и другую, значительно большую, гарантирующую освобождение буквально через пару месяцев обязательных процедур.
Она слушала цифры в долларах, мелко трясла головой и смотрела на адвоката ничего не понимающими глазами; а потом начинала рассказывать, каким замечательным был Сашок в детстве (на возрасте примерно семи лет воспоминания резко обрывались, стертые последними событиями).
…А Первым Парнем на деревне стал Пашка-Козырь, получив в качестве приложения к почётному званию еще и Наташку. Многие удивлялись, некоторые открыто попрекали её короткой памятью и странным выбором — она не вступала в споры и не оправдывалась, а, обнимая длинное и нескладное тело Пашки, смотрела на него влюбленными и верящими глазами…
Он её веру вполне оправдал, стал исключением, не повторив обычного пути Первого Парня: устроился в Гатчине на завод с бронью от армии, через год поступил в институт на вечерний; вставал в четыре утра, чтоб поспеть к смене, уставал жутко, но шел к диплому уверенно и неуклонно — и неожиданно, но вовремя бросил учебу на четвертом курсе (Наташка ждала второго ребенка); ринулся в набирающий обороты российский бизнес — удачно; поднялся по этой крутой и скользкой лесенке; еще через три года купил квартиру в городе, приезжал к родителям в Спасовку пусть на трехсотом, но «мерседесе» — никто, даже былые дружки-погодки, не звал теперь Пашкой-Козырем, исключительно Павлом, а порой уже и Павлом Филипповичем…
Да и то сказать, был он среди всех Козырей самым цепким, и знающим, чего хотеть, и никогда не ошибающимся…
Глава 3
01 июня, воскресенье, ночь, утро, день
1
Призраки, чтобы напугать как следует — до дрожи, до икоты, до желудочных колик, — должны появляться неожиданно и желательно поблизости от объекта, которому адресован их визит.
Смутный силуэт, белеющий сквозь черноту графского парка, Кравцов увидел издалека, едва прошел через пролом в бетонной ограде. И соответственно за гостя из мира иного не принял. Хотя возвращался от Ермаковых поздно, когда ждать каких-либо визитеров в «Графской Славянке» не приходилось…
Призрак при ближайшем рассмотрении оказался Аделиной. Она сидела на большом валуне неподалеку от вагончика, поджав ноги и обхватив руками колени. Вид имела грустный — точь-в-точь сестрица Аленушка, чей парнокопытный братец ускакал в ночь, полную волков и опасностей.
— От великого писателя пахло имеретинским вином и молодым барашком, — печально приветствовала она Кравцова. — А камень, между прочим, такой холодный… Как я ни пыталась его согреть, ничего за три часа не получилось. Не только с писателями такое бывает, с минералами тоже…
— Извини, но…
— Знаю, ты сегодня очень занят. Но вообще-то завтра уже наступило, и довольно давно…
Он обнял её за плечи и почувствовал: Ада не кокетничала — действительно сильно озябла.
— Простудишься ведь… — виновато сказал Кравцов. — Пойдём, срочно напою тебя горячим чаем.
— Все вы, мужчины, с чая начинаете, — вздохнула Аделина. — А потом оказывается, что у вас жена и трое детей…
— Не бойся, у меня всего двое, — утешил Кравцов, отпирая дверь. И ни слова не сказал о том, что овдовел полгода назад. Он подозревал, что про это Аделина знает. И не только про это. К тому же после сегодняшнего (вернее — вчерашнего) нежданного открытия он действительно хотел напоить её чаем — не более того.
— Хоромы… — протянула Ада, оказавшись внутри. — Мечта хозяйки. Сорок минут — и генеральная уборка закончена. А это что? Кухня? Можно зайти?
— Типовой пищеблок ПБ-7, товарищ генерал! — бодро отрапортовал Кравцов, включая электрочайник (алюминиево-антикварного вида, со свистком). — Предназначен для приготовления пищи в полевых условиях для бригады численностью до семи человек, а также для отогревания горячим чаем примерзших к минералам девушек! Докладывал дежурный по пищеблоку старший лейтенант Кравцов!
— Вольно! — скомандовала Ада, с трудом проскользнув в пищеблок и оказавшись зажатой в тесном треугольнике между Кравцовым, плиткой и холодильником. И добавила, привставая на цыпочки:
— Вообще-то примерзших девушек иногда отогревают и другими способами…
После этого довольно долго не говорила ничего.
Нельзя сказать, что писатель Кравцов так вот сразу взял и потерял голову от поцелуев двадцатилетней девушки, позабыв обо всем на свете. Отнюдь нет. Например, когда надрывный свист чайника стал совсем уж раздражающим, он вспомнил-таки, зачем они тут, и вслепую, за спиной, нашарил штепсель и выдернул из розетки… Но кое о чем, без сомнения, позабыл. Например, о намерении ограничиться чаем.
Он повлек её в сторону пинегинского «траходрома», мимолетно подумав: вот уж не ждал, что пригодится эта конструкция… Потом связных мыслей не осталось, и не осталось мешавшей им одежды, и губы ласкали губы, а руки — тела, и всё было замечательно. Но когда его рука скользнула вниз — Ада резко оттолкнула и руку, и её владельца.
Кравцов почувствовал, как напряглось её тело, и почти физически ощутил леденящий холод, словно неосторожным движением раздавил колбу с жидким азотом. И всё кончилось, так и не начавшись.
Он приподнялся на локте и спросил:
— А зачем, собственно, ты всё затеяла?
Хотел, чтобы прозвучало холодно, но получилось обиженно и разочарованно.
Она прижалась к нему, провела пальцами по лбу, по щеке, по шее, по груди… Зашептала:
— Не хмурьтесь так, господин писатель. Даже в темноте чувствуется, какое у вас каменное лицо… Я сделала это, потому что очень хотела. И не подумала, что сразу зайдет так далеко. Поверь, что целомудренные барышни встречаются не только в романах позапрошлого века…
Кравцов не поверил. Тем более что её пальцы, наглядно опровергая слова, сползали все ниже и уверенными движениями взяли в плен наиболее разочаровавшуюся часть тела и немедленно заставили её исполниться новых надежд…
— Но на дворе двадцать первый век, и тургеневские девушки кое-чему научились… — шепнула Ада.
Ее губы скользнули вниз, вслед за пальцами, и Кравцов скоро понял, что тургеневские барышни научились за полтора века весьма даже многому… Потом пришел его черед доказать, что и мужчина может доставить немалое удовольствие своей девушке, желающей и далее оставаться девушкой. Потом выяснилось, что удовольствие можно доставлять обоюдно и одновременно. Потом…
Много чего было потом.
Но главный порог они так и не переступили.
2
Алекс вновь проснулся на рассвете. И вновь услышал голос — причем услышал не окончательно проснувшись, а на той тонкой границе сна и яви, когда тающие обрывки сновидения сплетаются воедино с вытесняющей их реальностью.
В этом полусне голос звучал громко, отчетливо. И хотя язык оказался незнаком, Алекс отчего-то прекрасно понимал всё, что ему говорят, — вернее, приказывают. Привыкший наяву приказывать сам и давненько уже не плясавший под чужую дудку, он тем не менее был готов выполнить эти приказания и знал, что не только готов — но и сможет. Что совсем уж странно: это знание доставляло Алексу радость — тихую, спокойную, умиротворенную.
Потом он проснулся — вернее, не открывая глаза, перешел в некую стадию, где сна почти не остается, хотя и бодрствующим человека назвать трудно.
Но всё исчезло — и понимание, и готовность, и радость.
Лишь голос остался. Где-то очень далеко кто-то еле слышно бубнил какие-то непонятные слова… Алекс не обратил внимания, посчитав их остатками сна, немного задержавшимися в реальности.
Он протянул руку — сонным, вялым движением, чтобы привычно нащупать мочалку (кстати, с которой из них он вчера завалился?) и привычно устроить ей утреннюю прочистку труб, благо инструмент для этого уже пребывал в полной боевой, только вот привязалась легкая, ноющая боль в паху, не первое утро, пока ничему не мешает, но…
Рука поднялась и опустилась, скользнула по простыне, по одеялу, — впустую. Мочалки не было.
Тут он рывком поднял веки — и проснулся окончательно.
МОЧАЛКИ НЕ БЫЛО.
Алекс тяжело поднялся и столь же тяжело протопал по своим апартаментам, не слушая бубнеж голоса.
Слабая надежда, что подстилка готовит завтрак на крохотной кухоньке или мажется-прихорашивается в соседней комнатушке, исчезла. За перегородкой, на родительской половине мочалке (да кто же она — сегодняшняя?) делать нечего. Туда и сам Алекс уже несколько лет не казал носа…
Если же тёлка УШЛА от Первого Парня, до того как он ей сказал: ступай! — то это значит, что… Что это значит, Алекс придумать не успел — у него забрезжили первые смутные воспоминания.
Голос по-прежнему что-то и откуда-то бубнил. Алекс махнул рукой, отгоняя его словно надоедливую муху, — чтобы не мешал собрать воедино бессвязные обрывки в единую причину беспрецедентного факта: одинокого пробуждения.
И он вспомнил.
Точно. Все так и было. Мочалка пришла новая. Имя её так в памяти и не всплыло, да и не важно. Привел её Колька-Шпунт. С него, значит, и спрос. Потому что проклятая девка решила повыкобениваться и проигнорировать порядки, установленные Алексом в их компании. Первым должен быть он — всегда и во всём. С любой мочалкой — тоже. Потом — пользуйтесь, не жалко, пока Первый Парень вновь не обратит на подстилку своё благосклонное внимание.
Но вчера что-то сломалось. То есть поначалу всё шло путем — мочалка, изрядно уже поддатая, пошла с ним и даже позволила хорошенько проверить, что у неё наросло за пазухой, но потом… Да, всё произошло на крыльце — Алексу отчего-то взбрело в голову впендюрить ей прямо там, на свежем воздухе. Короче, чтобы не вспоминать мерзкие подробности, кончилось вот чем: стерва убежала в ночь, Алекс же остался — с полуспущенными штанами и с руками, вцепившимися в пах — именно туда угодила ногой поганая лярва.
Покончив с воспоминаниями, Алекс задумался об ответных мерах. Бубнящий голос — и до того вспоминать отнюдь не помогавший — вконец распоясался. Думать приходилось, прорываясь сквозь размеренные, бьющие по вискам слова… Совершенно неразборчивые и непонятные слова.
Кое-как Алекс постановил следующее: Первому Парню поднимать руку на какую-то лахудру — значит терять лицо. Отмудохает её для вразумления Шпунт, о чем сегодня же получит приказание. Отмордует легонько и объяснит, что в любом коллективе живут по правилам. В смысле — кто их выполняет, тот и живет. Вот. А ночью Алекс проверит, как до мочалки дошло внушение.
План действий был незамысловат, что и говорить.
Но то оказался последний план, составленный Алексом самостоятельно.
И даже его он воплотить не успел…
Голос продолжал долбиться не то в уши, не то прямо в мозг. Отдельные слова — по-прежнему непонятные — звучали уже достаточно отчетливо.
3
А поутру, как поётся в песне, они проснулись.
Вернее, проснулся Кравцов. От запиликавшего за стенкой — в бригадирской — мобильника. Он быстро и бесшумно, чтобы не разбудить Аду, устремился туда.
Звонил Пашка. За окном рассветало.
— Слушай, сколько на часах-то? — спросил Кравцов сонным голосом. На его руке измеряющего время прибора не обнаружилось. Честно говоря, на нем — не только на руках — вообще ничего не обнаружилось. Как у Адама до (или после?) грехопадения. Наверное, всё-таки после.
— Не важно, — отрезал Козырь. — Приходи. Срочно.
— Что случилось? — мигом стряхнул остатки сна Кравцов.
— Приходи. Увидишь.
В трубке запиликал отбой.
Разбудить Аделину? Ладно, пусть поспит. Телефон у нее с собой, если что — можно позвонить…
Кравцов написал коротенькую записку, оставил на видном месте и стал торопливо — но по-прежнему бесшумно — одеваться. Уходя, дверь не запер — изнутри без ключа её было не открыть.
…Паша поджидал его поодаль от дома — у самого поворота с дороги на Козыревский прогон (неофициально эти мини-улочки носили в Спасовке имена, а чаще прозвища владельцев расположенных на них домов). Рядом с Козырем переминался с ноги на ногу охранник — тот самый, с лицом студента-борца.
— Всё в порядке? Наташа? Дети? — спросил Кравцов первым делом.
— В порядке… Пойдем.
Повел его Паша не к дому — на участок. Студент-тяжеловес потопал сзади.
Участок Ермаковых резко отличался от соседских. После того как родители переехали в Гатчину, Козырь решительно ликвидировал все грядки с капустой-морковкой, парнички и прочие компостные кучи. Плодовые деревья и ягодные кусты, правда, уцелели, и в дополнение к ним появился перед домом небольшой альпинарий. Большую же часть бывшего огорода ныне занимала обширная не то лужайка, не то газон, — с парой затейливо выгнутых мощеных дорожек и небольшим декоративным водоемом.
Именно на эту лужайку-газон и показывал Пашка:
— Смотри! Во-он там, у ограды, начинается…
Это был след. Из мягкой черной земли лужайки едва пробивались — не совсем по сезону — зеленые ростки травы. И цепочка смазанных отпечатков получилась вполне отчетливая. Неведомый гость шел не по прямой траектории, но и извилистые дорожки проигнорировал. Ближе к дому, где мягкая земля заканчивалась и начинался обычный здешний суглинок, след обрывался.
Увиденное Кравцова не шокировало.
— Ну и что? — сказал он. — Полюбопытствовал кто-то из соседей, как ведет хозяйство бизнесмен Ермаков. Наверняка за тобой тут многие наблюдают исподтишка, и весьма пристрастно…
— По ночам?
— Этому следу вполне может быть дня три-четыре — с последнего дождя. Ты давно сюда в последний раз заглядывал? А заглянув — мог и не заметить.
— В том-то и дело, что заглядывали мы сюда вместе с Наташкой вчера вечером, буквально перед твоим приходом. У меня тут никак газон путевый не получался — все бурьян лез, лопухи… Пришлось какую-то специальную травку выписывать, канадскую, якобы растет густо, плотно, не вытаптывается и при этом не вырастает выше семи сантиметров, никакие косилки не нужны… Нынешней весной засеяли — вернее, Наташка занималась, а вчера вместе смотрели, что получилось… Не было следа. Голову на плаху кладу.
Это меняло дело.
— Думаешь — он? — спросил Кравцов вполголоса, чтобы не услышал держащийся в нескольких шагах телохранитель.
— Думаю, да… — так же тихо сказал Козырь. — Посмотри, где через ограду перелез — и от фонаря далеко, и из соседских окон не видно. И к дому шел не прямо, а зигзагом, от укрытия к укрытию…
Только что взошедшее солнце заливало сад, и цепочка следов не казалась чем-то загадочным или страшным.
Кравцова, спавшего сегодня мало, взбодрила пешая прогулка на рассвете. Странность произошедшего он заметил сразу. И тут же решил её прояснить:
— Паша, ты ведь мне позвонил, когда лишь светало… Не понимаю: ты что, едва забрезжило, вышел сюда для утренней проверки газона?
— Именно так, — согласился Козырь. — Потому что…
Он объяснил: встал сегодня рано, наметил кое-какие дела в городе, хотел пораньше выехать и пораньше вернуться. Пока закипал кофе, решил расставить по местам альбомы с фотографиями — вчера, восстанавливая порядок после застолья с Кравцовым, положил их стопкой у шкафа. Одного альбома в стопке не оказалось. Был — и не стало. Лежал в стороне, на подоконнике. Причем раскрытый… В доме кто-то побывал.
— Ты не ошибся? У вас ведь этих альбомов…
— Тот приметный, единственный, — старый, в кожаной обложке с тиснением. Девяносто первый и девяносто второй годы. Ну когда мы с Наташкой уже… А заканчивается нашей свадьбой. Хорошо помню — лежал он в стопке, внизу.
— Может, Наташа…
— Я лег последним. Спим мы вместе. Ночью она не вставала.
Кравцова неприятно резанули последние слова Пашки. Хотя спать вместе женатым людям вполне естественно… Про детей и охранников он не стал и спрашивать — и те и другие могли, конечно, не пойми зачем заняться глубокой ночью изучением фотографий, а потом не признаться в этом, — но как тогда объяснить следы в саду? То есть сам-то Кравцов отнюдь не уверовал в воскресшего маньяка, охотящегося на Пашку с холодным оружием, и мог бы придумать массу объяснений и следам, и оказавшемуся не на месте альбому, и даже убитой собаке… Но Козырь зациклился на своей навязчивой идее — и слушать эти объяснения не станет. У него уже есть готовый ответ, и все сомнения он толкует в его пользу. Кравцов и не собирался разубеждать Пашу. Вдруг действительно… Лучше перебдеть…
— Что думаешь делать? — спросил Кравцов, решив условно принять Пашин постулат. И кивнул на «студента», который стоял поодаль, подставив лицо солнышку и положив руку на кобуру. — На твоих орлов, как я понимаю, надежды мало? Проспали, небось?
— Не похоже… Я встал, на вид все в порядке: служба идет, парень на посту, носом не клюет, сменились вовремя, ничего подозрительного не видели, не слышали… А что думаю делать…
Козырь помолчал — похоже, окончательно обдумывая какое-то решение. И сказал:
— Привезу из города одного человека. Профессионала. Профессионального охотника на людей. Влетит оно, конечно, в копеечку, он и так-то берет за свои услуги безбожно, а если еще придется срочно бросать какой заказ… Но дело того стоит. Пора кончать с этим ночным ниндзей.
— Надеюсь, «охотник» — это не киллер мафии?
— Скорее наоборот. Ничего о бывшей своей службе не говорит, но по некоторым обмолвкам можно догадаться — служил в подразделении, занимавшемся очень опасными людьми. Такими, кого предпочитают уничтожать при первой возможности, не возясь с арестом, следствием, судами и адвокатами… Привезу его сегодня же. Полдня мои с охраной посидят дома, не высовываясь. Я думаю: днем, при свете, против двух стволов никакое умение махать железками не поможет. Если что — в решето превратят.
Как выяснилось позже, Пашка-Козырь преувеличивал превосходство огнестрельного оружия над холодным. Очень сильно преувеличивал.
4
Обратно в «Графскую Славянку» Кравцов возвращался на «Антилопе-Гну» — Паша, как и обещал, привез доверенность.
Машина — с водительского места — понравилась еще больше. Привыкая к управлению, он проехал до дальнего конца Спасовки, развернулся… Обычного чувства неловкости, которое испытываешь за рулем незнакомой машины, не возникало. На обратном пути Кравцов не удержался — притопил, благо утреннее шоссе было совершенно пустынным, и…
И резко нажал на тормоз.
Всё повторилось, как в прошлый раз. Озеро-провал из-за какой-то неровности виднелось лишь с этой стороны дороги. Но теперь выглядело по-другому.
ОГРАДА ИСЧЕЗЛА.
Исчезла снесенная чудовищными щупальцами в его сне-кошмаре ржавая сетка, исчезла колючая проволока, исчезли запрещающие плакаты.
Кравцов свернул с шоссе, подъехал поближе. Фу-у-у… Несколько пролетов всё же стояли, но были новыми, большими по высоте и не из проржавевшей сетки — из достаточно толстых прутьев. Поблизости застыл неподвижно автокран «Ивановец» и несколько штабелей аналогичных новых пролетов. Ограду просто меняли. Ржавых остатков прежней поблизости не виднелось.
Кравцову хотелось бы услышать, что происходит замена оттого, что старая ограда пришла в совершенную негодность. А вовсе не потому, что её одной прекрасной ночью развалили и буквально разодрали на части несознательные граждане…
Но услышать это было не от кого. Рабочие отсутствовали, и ожидать их появления сегодня не стоило — мало того что воскресенье, так еще и последний — кульминационный — день затянувшегося юбилея города.
Тот, кто сидит в пруду — II.
Леша Виноградов. Лето 2000 года
— Я сошел с ума, — констатировал Лёша Виноградов совершенно очевидный ему факт. Прозвучало это почти даже радостно.
Он сидел дома (то есть в квартире Елизаветы Васильевны), за столом, украшенным довольно затейливым натюрмортом: литровая бутылка водки, на треть уже пустая, литровый же пакет томатного сока, два стакана, куча книг и журналов — от толстенных томов Брема до запыленных, вытащенных из дальних недр кладовки номеров «Юного натуралиста».
Брем был открыт на странице, изображающей щупальце гигантского кальмара — толстое, со множеством присосок, снабженных мелкими крючками. Пролитые на рисунок красные капли сока придавали щупальцу зловеще-натуральный вид, но с сегодняшним видением оно не имело ничего общего.
Лёша опрокинул еще стаканчик, запил и со вкусом повторил:
— Я болен, я сошел с ума. Сбрендил, свихнулся, тронулся крышей.
Мысль успокаивала.
Если ты болен — значит можешь вылечиться. Вылечиться и без всякого страха подходить к колодцам, или к наполненным мыльной водой ванным, или к прудам-воронкам — подходить, не опасаясь, что оттуда высунется не то червяк-переросток, не то чье-то щупальце, обовьет тебя и утащит к себе в глубину…
Он выпил еще, благостно улыбнулся и никак не отреагировал на звук отпираемого замка входной двери.
— Ты сошел с ума, Виноградов! — Ирина, оставив сумку в прихожей, стояла на пороге кухни. В минуты раздражения она называла мужа исключительно по фамилии.
— Ага, я сошел с ума, — покладисто согласился Лёша, не делая никаких попыток оспорить самоочевидный факт.
— Вот и отлучись на два дня… Пить водку в такую жару, и без закуски, и в полном одиночестве… Да ты алкоголик, Виноградов! Тебе лечиться надо!
— Ага, мне надо лечиться, — опять не стал спорить Лёша, сам только что пришедший к аналогичному выводу.
Добротный семейный скандал никак не желал разгораться. Ирина достаточно хорошо знала мужа, чтобы ясно представить, что произойдет дальше: будет так вот сидеть, глупо улыбаться и соглашаться со всеми обвинениями и попреками. А то еще и уснет на середине фразы — замолчит на полуслове, прислонится к стенке и самым преспокойным образом захрапит.
— Мы с тобой завтра поговорим, Виноградов! — зловеще пообещала она и вышла, хлопнув дверью кухни — тещина посуда в тещином буфете противно задребезжала.
— Поговорим, — сказал в пустоту Лёша и опять потянулся к бутылке.
Нет ничего и никогда не было — ни пруда, ни его хищного обитателя — эта заполненная водой и тиной яма ему привиделась, а на участке там ровное и гладкое место… И исчезнувший в глубине Бобик тоже никогда не существовал в действительности — просто Лёша разговаривал сам с собой, а воображение нарисовало помахивающего хвостом маленького слушателя…
Вполне может быть, что все вокруг тоже плод больной психики: и это наследство, и эта опостылевшая квартира, и Ирка, якобы сидящая в дальней комнате. А на самом деле он лежит сейчас…
Где он сейчас лежит, Лёша Виноградов придумать не успел — уснул, опустив голову на «Жизнь животных» Брема.
* * *
— Вы, Алексей Николаевич, не совсем ясно представляете суть психотерапии. Я никак не могу дать вам таблетку, которая в одночасье снимет все ваши проблемы. Я не психиатр, я психоаналитик, Это они — психохирурги, даже психомясники — колют пациентам убойные снадобья, терзают электрошоком и упаковывают в смирительные рубашки. Психоанализ — долгая и кропотливая работа с человеком, у которого в мозгу никаких патологий нет. Который может и должен сам решить свои проблемы — с моей профессиональной помощью. Корни проблем часто лежат глубоко — в далеком прошлом, в почти забытых отношениях с родителями, и самостоятельно разобраться…
Зачем я сюда пришел? — подумал Лёша, чувствуя, что перестает понимать смысл мягких, обволакивающих слов доктора Саульского, толстого и важного, как метрдотель «Астории».
Красиво-закругленные фразы (наизусть что ли учит, по бумажке?) мало соответствовали тому, что Лёша считал своими проблемами. Зачем сюда пришел… А куда еще идти? Несмотря на вчерашний пьяный кураж, мысль приземляться где-нибудь на пряжке с диагнозом «белая горячка» энтузиазма не вызывала. Корни проблемы действительно лежали глубоко, по крайней мере четырехметровая жердь сачка до них не достала, вот только профессиональная помощь мозгоправа в этом вопросе вызывала серьезные сомнения…
Лёша собрался с силами и снова попытался вникнуть в рассуждения труженика психоаналитической кушетки, продолжавшего разливаться соловьем.
— Символизм ваших видений для опытного взгляда специалиста вполне очевиден — воронка, отверстие, из которой исходит смертельная опасность, — достаточно конкретный символ женщины. Возможно, таким образом подсознание реагирует на вашу жену или тёщу. А может быть, в ваших отношениях с матерью было нечто, сейчас прочно позабытое, что порождает подобный образ. Необходима долгая и тщательная работа — с моей помощью вы сами осушите до дна свой пруд и сами уничтожите всех притаившихся на его дне чудовищ…
— Осушить пруд? — неожиданно оживился пациент. — Это интересная мысль! Осушить… Спасибо, доктор, вы мне очень помогли…
И Лёша стал прощаться, невзирая на все возражения получавшего почасовую оплату эскулапа, настроившегося уже на долгую и вдумчивую беседу.
* * *
Рекламное объявление не лгало, цена на агрегат оказалась на самом деле символической. Доставка в Спасовку — и та обошлась дороже. А ремонт и вправду требовался небольшой, прямо скажем, пустяковый ремонт — Лёша заменил свечу да прочистил карбюратор — и четырехсильный одноцилиндровик, выпущенный треть века назад, добросовестно затарахтел.
Завертелся пропеллер воздушного охлаждения и зачавкал поршень-диафрагма насоса — за издаваемые характерные звуки сие чудо техники именовалось в просторечии «лягушкой». Прозвище придумали строители, осушавшие затопленные котлованы подобными устройствами.
Скажу, что нашел здесь, в сарае… А то узнает Ирка про такую покупку — мало мне не покажется, подумал Леша, заглушая двигатель. И так постоянно пилит, что работу совсем с этим домом забросил…
Работу он действительно забросил, но отнюдь не по своей вине — июнь, жара, полный застой: потенциальные заказчики греют косточки на пляжах и смывают трудовой бизнесменский пот в теплых морских волнах…
За всю неделю на электронный адрес пришел единственный заказ — короткое письмо на итальянском, которое он перевел за десять минут, почти не заглядывая в словарь. Но жене и теще объяснять ситуацию бесполезно — по их мнению, оправдать мужчину, не носящего в дом деньги мешками, не может ничто…
Лёша вздохнул и навалился на тронутую ржавчиной станину насоса. Литые катки-колеса, казалось, приросли к осям, но затем с огромным трудом и жутким скрипом провернулись — «лягушка» медленно покатила к пруду.
А потом он увидел деда Серёгу, единственного из соседей, с кем был более-менее знаком. Тот пролез сквозь прореху в кустах крыжовника, разделяющих их участки, и направлялся прямо к Лёше, явно заинтригованный видом здоровенного громоздкого насоса — в округе для полива и прочих надобностей использовали чаще всего портативные погружные «Малыши».
Лёша остановился и торопливо прикрыл промасленной ветошью лежавший на поддоне «лягушки» топор. Орудие это он отыскал в сенях и наточил до бритвенной остроты. Галлюцинации галлюцинациями, а с топором приближаться к пруду как-то спокойнее…
— Ты, никак, Лёха, яму выкачать задумал? — первым делом спросил дед Серёга, протягивая для рукопожатия широченную ладонь. — Правильно, я давно Якову говорил: надо чистить, ил вычерпывать. Ил прудовый-то для грядок пользительней любого навоза… А так зазря на дне лежит, только комарье в нем разводится. Вроде и место у нас сухое, высокое, а комары вечером так в окна и летят… Ну давай, помогу что ли…
И он пристроился с другого края насоса — невысокий, мощный, жилистый, с коричнево-загорелой лысиной, похожий в свои почти семьдесят на старый дуб, не поддающийся ни ветрам, ни грозам, ни времени…
Вдвоем они быстро докатили агрегат до берега.
Пока Лёша пристыковывал толстый гофрированный шланг и укладывал жестяные желоба, долженствующие отводить в ближайшую канаву выкачанную воду, дед Серёга уселся на березовый чурбак в тени яблони. И завел неторопливый разговор о том о сём: о безбожных ценах на рынке, о непонятно почему переставшей доиться козе, которую придется резать (не надо ли, кстати, мяса по дешевке?), о тле, опять напавшей на смородину…
Лёша слушал вполуха и отвечал коротко, постоянно посматривал на неподвижное зеркало воды и старался не поворачиваться к пруду спиной.
Как он в глубине души и подозревал, тот, кто сидит в пруду, ничем себя не проявил.
Хотелось спросить деда: не видал ли он, случаем, со своего участка чего-нибудь подозрительного? Ну, например, вставшего на дыбы навозного червя ростом с хорошую оглоблю?
Но дед Серёга выглядел абсолютно приземленным материалистом, способным после такого вопроса лишь посоветовать плотнее закусывать (не надо ли, кстати, сала по дешевке?). И Лёша не спросил ничего.
Потом он дернул за шнур стартера, движок заработал, и разговаривать стало трудно. Дед еще раз пожал ему руку и неспешно отправился обратно. Лёша печально проводил его взглядом, но повода попросить остаться так и не придумал… Теперь, никуда не денешься, надо ждать гостя. Скромного такого гостя, не любящего шумного общества. И являющегося, только когда хозяин скучает в одиночестве.
Всё шло по плану — двигатель ровно трещал, насос поквакивал, вода бодро журчала по наклонным желобам. Леша стоял в отдалении от воды — топор в правой руке. Поглядывал то на поверхность, то на «лягушку»: его беспокоил приводной ремень, старый, обтрепанный, с торчащими в стороны махрами ниток — порвется, пойди сыщи подходящую замену.
Заметной убыли в пруду не наблюдалось. Стоило, наверное, воткнуть в дно у берега палку с делениями, но что-то совершенно не хотелось подходить слишком близко и наклоняться над водой. Производительность у «лягушки» около четырех кубов в час, ну, если сделать скидку на износ, то поменьше… Сколько воды может быть в этой яме? Если принять воронку за правильный конус с диаметром основания шесть метров и глубиной… ну пусть будет тоже шесть… Чёрт, есть ведь какая-то школьная формула для объема конуса… Вроде половина от объема соответствующего цилиндра… или нет…
Лёша (всегда «плававший» в точных науках) не успел сделать даже грубый расчет и прийти к неожиданному для себя и неприятному выводу о том, что выкачивать яму досуха придется около трех суток… — ровный звук работающего насоса сменил тональность.
Он встревоженно посмотрел на агрегат — вроде все двигалось как положено, но вместо полноводного потока по желобу катилась тоненькая иссякающая струйка. Перевел взгляд на исчезающий в воде шланг — ага, так и есть, сжимается в такт кваканью насоса, чем-то забился, надо вытащить и прочистить..
…Рывок оказался направлен не по оси шланга, но вбок и вглубь — и семидюймовая, армированная стальной проволокой резиновая труба не соскочила с металлического патрубка насоса — с громким треском порвалась и тут же исчезла в глубине. Но пруд не успокоился обманчивым зеркалом, как бывало раньше; что-то там продолжало ворочаться, поднимая теперь отнюдь не рябь и не легкие буруны.
Хотя и большими волнами это не было, в крошечном водоёме нет места для их разбега. Бурлящая вода перекатывалась от одного берега к другому, как при полоскании белья в корыте — ударялась о берега, обливая все вокруг, вставала почти вертикально и устремлялась обратно.
На долю секунды промелькнул, оказавшись на поверхности, перекрученный шланг с разодранным, разлохмаченным концом, но тут же скрылся, и другой его конец исчезал в смутно виднеющемся сквозь пузыри и перепутанные струи… в чем? непонятно, в чем-то большом, движущемся, округлом и меняющем форму. Звуки водяной катавасии не слышались — всё заглушал завывающий вхолостую двигатель.
Лёше казалось даже, что подрагивает земля под его подошвами. Но может быть, просто дрожали ноги, медленно, шажок за шажком, пятящиеся от пруда.
Он споткнулся о чурбак деда Серёги, с трудом удержался от падения, развернулся, готовый припустить к дому и…
Истошный вой движка смолк резко и неожиданно.
Против воли он глянул через плечо: агрегат оставался на месте, что происходило на поверхности (или под нею) — отсюда уже не увидеть, по крайней мере через берега вода не выплескивается. Но… возможно, ему и почудилось, но высокая и густая, никем не кошенная в это лето трава между ним и «лягушкой» шевелилась и сгибалась гораздо сильнее, чем её мог согнуть сегодняшний легкий ветерок — и эпицентр шевеления явственно и довольно быстро продвигался в сторону Леши…
Таких результатов в спринте он в жизни не показывал, Леша всегда недолюбливал спорт, — но понесся с олимпийской прытью, не глядя под ноги, напрямик, напролом; под ступнёй что-то подалось, он сбился с бега и, конечно, не удержался на такой скорости, упал лицом в молодую, всю в белых цветах, крапиву — не чувствуя жгущих листьев.
Цап! — что-то пружинисто и цепко ухватило за лодыжку.
Лёша не закричал — заверещал пронзительно и тонко, как попавший в капкан заяц, как поросенок, почувствовавший яремной веной первое касание отточенной стали.
Тут же замолк и рванулся с утроенной, с удесятеренной адреналином силой — ничто и никто, казалось, не выдержит такого рывка: или отпустит, или оторвётся ступня — не оторвалась и не отпустило. Ногу потянуло обратно. Вокруг щиколотки сжалось кольцо боли.
Какая-то, совсем малая, часть мозга еще боролась, еще не поддалась древней животной панике: топор, где топор?! выронил его сейчас?! или раньше?! где-е-е??!! — он лихорадочно шарил в крапиве, под руку попались обломки трухлявых, осклизлых досок, еще какое-то зловонное гнилье — нету, нету топора! — пальцы ухватили что-то небольшое и твердое, выдернули из сплетения стеблей— длинное зеленое горлышко винной бутылки, «розочка» с острыми краями. С этим пустячным оружием он извернулся назад с отчаянием схваченной крысы — и замер.
Кромсать, резать, рвать ногтями и грызть зубами оказалось некого — ногу охватывала петля заржавленной проволоки. Целый клубок её валялся тут, на заброшенной мусорной яме, куда впопыхах влетел Лёша, проломив деревянную прогнившую крышку.
Он высвободился из силка и торопливо заковылял к дому сквозь бурьян и крапиву, обходя теплицу и сарай с дальней, неудобной, самой удаленной от пруда стороны.
Очки остались где-то позади, куда он не вернулся бы и под дулом пистолета; не замеченная вовремя притолока входной двери в очередной раз врезала по макушке — Лёша зашел в сени, ничего не почувствовав.
Тряслось все: и руки, и ноги, и губы, и все внутренние органы. Он щурясь, ощупью поискал на столе стопку, не нашел, припал губами к горлышку припасенной бутылки — и не отрывался долго, зубы стучали по стеклу, пролитая водка стекала с подбородка, к которому прилипла какая-то бесформенная гадость — не то напрочь сгнившие картофельные очистки, не то еще что-то…
Глава 4
01 июня, воскресенье, утро, день
1
Аделина, пока Кравцов отсутствовал, проснулась. Мало того, успела привести себя в порядок, следы бессонной ночи бесследно исчезли под легким утренним макияжем — фокус, легко возможный в девятнадцать лет, но чем дальше, тем более трудный. Мало того, Ада уже хлопотала на кухне — готовила завтрак.
Кравцов вздохнул. Ему давно никто по утрам не готовил…
Холодильничек — на вид ровесник карибского кризиса — шумел и даже подергивался, словно увидел себя во сне аэропланом или самобеглой коляской. Сковородка шкворчала. Кравцов подошел к Аде, надеясь сделать это неслышно, примерился было неожиданно поцеловать — и едва увернулся от удара ложкой, направленного прямо в лоб.
— Не приставайте к голодной, но невинной девушке, господин писатель! Обещанным чаем так и не напоили… И вообще, покиньте, пожалуйста, пищеблок— завтрак будет готов через десять минут.
Кравцов снова вздохнул — с некоторым облегчением. И покинул пищеблок. Самым трудным в общении с женским полом он считал утро после первой ночи. Но сегодня трудности, похоже, не грозили…
Десять минут он использовал с толком. Позвонил Рябоконю — старому приятелю, одному из первых русских обитателей Интернета — у того сейчас как раз завершалась рабочая ночь. Продиктовал телефонный номер, указанный в записях Пинегина под словом АРХИВАРИУС. Стоило узнать имя этого человека. Возможно, придется обратиться к нему, — если состояние Валентина к посещениям и беседам не располагает…
Компьютерный ас перезвонил через пять минут: в базе частных абонентов телефон не значился. Поискать по организациям? Не стоит, решил Кравцов. Нужна фамилия, а не название архива или библиотеки… Ладно, понадеемся, что Валя способен к разговору. И что пожелает его вести.
— Кравцов! — позвала Ада. — Ты со всеми своими девушками потом так обходишься? Я лично не согласна…
Ничего не поняв, он вернулся на кухню.
Аделина стояла у раскрытого буфета с одноразовыми тарелками в руке. К раскрытой дверце, изнутри, кто-то пришпилил фотографию. На снимке девушка высоко раскачалась на деревенских — можно только стоять — качелях. Улыбающееся лицо, волосы развеваются, юбка вздулась колоколом, обнажив стройные ноги…
Штопор — валявшийся ранее здесь же, в буфете — оказался вкручен в изображение девушки. Прямо в лицо.
Ада пыталась сказать еще что-то, шутливое, — и осеклась. Кравцов ничего не слышал. Медленно, с каменным лицом, протянул руку и так же медленно стал выкручивать штопор.
Фотография была знакомой. Увиденной не ранее как вчера.
Наташа.
Совсем юная Наташа.
2
Через полтора часа они выехали из Спасовки — вместе.
Кравцов ехал в Царское Село, в больницу. Ада собиралась на этот день в город и попросила подбросить до Павловского вокзала. Кравцов даже обрадовался — из головы не выходил утренний визит.
Он мысленно ругал себя за неосторожность и глупость — как мог оставить спящую девушку в незапертом вагончике? Помнил, что голова Чака появилась при запертых дверях и включенной сигнализации, — и всё равно ругал.
Догадки Козыря — еще недавно казавшиеся идеей-фикс — воспринимались сейчас в ином свете… Теперь этот маньяк — Сашок? кто-то другой? — знает про Аделину. И Бог ведает, что взбредет ему в голову. Каким станет третье предупреждение? Что означает сегодняшнее послание, он понял без всяких поясняющих надписей… А пары вооруженных охранников у Кравцова не было.
С Пинегиным же встретиться стоило немедленно. Неожиданно выяснилось, что история с развалинами и получившим ОЧМТ студентом (Кравцов все больше склонялся к мысли, что выпавший из стены кирпич здесь ни при чем) спуталась в один клубок с похождениями любителя ампутировать головы. Потому что Кравцов после находки фотографии — как что-то его толкнуло — проверил сохранность записей Валентина.
ТЕТРАДЬ ПРОПАЛА.
Возле компьютера лежал ворох всевозможных бумаг — черновики, блокноты с набросками мелькнувших идей. И дневник Пинегина. Всё осталось в целости. Исчез только дневник.
Аделине он ничего не сказал. И стал лучше понимать Козыря, так старавшегося избавить Наташу от этой истории…
— Ты не слишком торопишься? — спросила Ада, когда они проезжали мимо ВИРа. — Минут двадцать есть лишних? Тогда давай доедем до Поповки…
— Не тороплюсь… — Кравцов свернул с шоссе. — А в чем проблема?
— В Дане. Очень, знаешь ли, проблемный ребенок. Вы ведь познакомились? Значит, имеешь некоторое представление об этом молодом человеке. Сегодняшнюю ночь он вознамерился провести в пещере. В засаде — ни больше ни меньше. Я запретила, но проконтролировать не смогла, — зашла на стакан чая к одному писателю… Боюсь, что он до сих пор там, в своей засаде. Я позвонила — дома его утром не застала.
— У вас стоит телефон? — удивился Кравцов, частных абонентов в Спасовке почти не было. Потом он удивился еще больше: — Что за пещера? Нет тут никаких пещер…
По его воспоминаниям, никаких пещер в округе действительно не имелось. Вроде бы давным-давно неподалеку, в Антропшино, добывали песчаник — вырыли небольшие шахты с подъемными устройствами, и штольни растянулись достаточно обширными катакомбами. Но много десятилетий назад все пришедшие в запустение и ставшие опасными шахты завалили взрывами, и даже вездесущие мальчишки не могли отыскать входы в старые выработки…
Аделина ответила на вопросы в строгой последовательности:
— Мы живем в Торпедо, в доме тетки — извини за тот ночной розыгрыш, так что пользуемся всеми благами цивилизации, как белые люди. А пещера тут есть — по слухам, неподалеку от моста, — ты просто не знал, наверное… Сейчас увидишь.
Но раньше они увидели Даню — в компании еще с двумя мальчишками и двумя девчонками. Те с другой стороны приближались к мосту через речку Поповку. По всему судя, несносный ребенок сестру таки послушался — и отправился к пещере утром, напрямую, проселком через поля.
Честно говоря, появление Ады и Кравцова не обрадовало Даню. Говоря еще честнее, ночевал он дома вовсе не оттого, что преисполнился вдруг почтением к старшей сестре и её запретам. Но трое из их пятерки не смогли выбраться на ночь из дома — сказывалось более чем позднее возвращение после коллективного заплыва. А пойти вдвоем с Алькой выживать из пещеры урода, так напугавшего Васька, Даня не рискнул. Все-таки девчонка, хоть и боевая, кто знает, как дело повернется… Решили разобраться с незваным жильцом с утра пораньше.
— На какого зверя засада? — спросил Кравцов, поздоровавшись с компанией.
Даня почесал затылок рогаткой, которую нес в руках. С большим сомнением посмотрел на сестру, оставшуюся в салоне «Антилопы»…
Но ответил.
— С мечо-о-о-м?! — Кравцов замер и уже почти не слышал, что говорит Вася-Пещерник, взявший слово и сбивчиво повествующий о своих злоключениях.
В голове, мешая друг другу, метались незаконченные мысли: …вот где у него лежка, я-то думал, в каком нежилом доме… ребятам туда нельзя… черт, ружье осталось в вагончике… уйдет, ведь уйдет… монтировка? хм-м-м…
— Пойду туда я, — отрывисто, командным голосом сказал Кравцов. Так, пожалуй, он не говорил с самого увольнения в запас. — Вы остаетесь здесь. Рогатку дай мне.
Пожалуй, это оптимальный вариант. С Даниным оружием он уже освоился и убедился — на близком расстоянии стальной шарик ударит ничуть не хуже пистолетной пули.
На Даню командный тон особого впечатления не произвел. И с метательным орудием он расстаться не спешил. Пожал плечами:
— Идите. А вы знаете, куда?
Кравцов не знал. Сошлись на том, что пойдут вместе, но в пещеру ребята не полезут. Свое оружие Даня не отдал, предложил воспользоваться Женькиным, снайпер из той все равно никудышный, — как выяснилось, вся компания была вооружена однотипными металлическими рогатками.
Кравцов, однако, предложенное орудие забраковал — резиновый жгут оказался слабоватым. Кончилось тем, что он взял рогатку Борюсика, тот завладел Женькиной, а её обезоруженную владелицу перевели в сестры милосердия. Фонарь нашелся в бардачке «Антилопы». Причем весьма подходящий — небольшой, плоский, с пружинным зажимом на задней стенке — можно подвесить на грудь, оставив свободными обе руки.
Аделина прокомментировала их приготовления:
— Писатель Кравцов впал в детство. Невосполнимая потеря для отечественной литературы…
После чего вышла из машины и вознамерилась идти с ними. Кравцов пытался было протестовать, но уперся взглядом в фамильный — совсем как у брата — упрямый прищур.
Спускаясь по откосу к речке, он вполголоса сказал Дане (остальные немного отстали):
— Этот «бомж» опасен. Очень опасен. Приглядывай за сестрой. И если… В общем, если из пещеры покажусь не я, а он… Не угрожай. Вообще не вступай в разговоры. Сразу стреляй. В голову. Сумеешь?
— Сумею, — жестко сказал Даня. — По воронам на лету труднее.
Кравцов глянул на него искоса и понял: сумеет. Без разговоров. В голову. Не понял только, хорошо это или плохо…
Взбираться по осыпающимся под ногами камням крутого откоса без помощи рук оказалось трудно, но последние метры до входа в пещеру Кравцов преодолел именно так, растянув резиновый жгут рогатки и вложив шарик. Фонарь на груди включил заранее, чтобы ни на секунду не отвлечься. Зря рисковать не стоило. Человек, управившийся с ротвейлером без намордника, наверняка способен атаковать молниеносно.
Но не атаковал. По крайней мере, вылазку не предпринял. В зеве пещеры — ни звука, ни движения. И — насколько видно в падающем снаружи свете — никого… Надо лезть. Ох, как не хотелось… Немая темнота казалась плотной, упругой, живой. А детское оружие в руках — смешным и жалким… Кравцов пригнулся и шагнул внутрь.
Пульс стучал в висках — чаще и чаще. Где-то внутри нарастал знакомый — полузабытый — холодок боевого азарта. Руки не дрожали. Он знал, что выстрел будет лишь один. И что промахнуться нельзя.
Почти сразу ход разветвлялся. Кравцов посветил в правый отнорок — аккуратно, повернувшись всем телом, не выпуская из вида левого хода. Короткий тупик. Никого.
Двинулся влево. Чуть дальше ход резко расширялся. Зал, о котором говорил по дороге Пещерник. Слабый луч увяз в темноте, не доставая до дальних стен. Кравцов замер у входа, ежесекундно ожидая стремительной и бесшумной атаки.
Ничего.
Глаза постепенно привыкли к сумраку. В зале никого… Куча тряпья в дальнем углу оказалась слишком плоской, чтобы скрыть человека…
Пульс медленно приходил в норму. Боевой азарт пошел на убыль. Кравцов подошел к скудному ложу, потрогал, — холодное, как и всё здесь. Никого тут и не было, никто не скрылся, издалека заметив их приближение…
Разочарование нарастало. Обычный бомжатник на одно койкоместо, и то опустевший… А меч наверняка почудился перепуганному Пещернику.
Поодаль от кучи тряпья виднелось нечто непонятное, Кравцов шагнул туда…
Шорох сзади ударил по натянутым нервам. Кравцов прыжком обернулся. И в последнюю долю секунды удержался от выстрела в Даню, осторожно заглянувшего в зал…
Выдохнул:
— Ну, Даниил… Я тебе где сказал оставаться?
— Так не сказали же, сколько, — парировал мальчишка. — Ушел — и нет, и нет… Может, тут вас на куски режут…
— Некому резать. Похоже, квартирант освободил жилплощадь.
…Единственная находка Кравцова — тряпка, запачканная какой-то смазкой — сразу избавила Васю-Пещерника от подозрений в неадекватном восприятии реальности увеличенными от страха глазами. На тряпке было несколько параллельных, бритвенно-тонких разрезов. Смазку ею снимали с чего-то очень острого…
…Каменный обрыв — над входом в пещеру совершенно отвесный — на самом верху переходил почти под прямым углом в поверхность земли. Корни росших на краю кустиков бузины свисали вниз. Притаившийся над обрывом человек провожал взглядом семерку, шагавшую обратно. Рядом с ним лежал небольшой тюк и длинный сверток. Потеря ставшего опасным убежища человека не расстроила. Отсыпаться сегодня днем он не собирался.
3
— Пенегин или Пинегин? — переспросила дежурная по справочному больницы.
— Пи-не-гин, — повторил Кравцов, артикулируя каждый звук старательно, как педагог в школе для детей-олигофренов.
Новые технологии добрались и сюда. Дежурная не зашуршала бумагами — начала тыкать пальцем (одним) в клавиатуру компьютера. Вид у нее был при этом, как у ученика пресловутой школы, впервые попавшего в кабинет информатики. Взгляд бегал по клавишам в поисках нужной, затем палец быстро устремлялся вниз, словно спешил раздавить шустрое и зловредное насекомое.
Как ни странно, система сработала.
— Умер! Позавчера ночью! — расцвела радостной улыбкой дежурная.
Едва ли её ликование относилось к смерти Пинегина, скорее к одержанной победе над чудом враждебной техники, — и всё равно Кравцову стало мерзко. Он развернулся и отошел.
— Вы родственник? — спросила вслед дежурная, запоздало пытаясь натянуть скорбную мину.
Но Кравцов уже выходил.
После сумрака больничного холла первый день лета больно ударил по глазам солнцем и яркой зеленью бульвара. Кравцов зажмурился. Внутри было пусто и тошно. Только сейчас он понял, как надеялся на встречу с Пинегиным. Надеялся, что кто-то ему объяснит, что творится вокруг «Графской Славянки». А если и не объяснит, хоть будет с кем сесть и потолковать обо всём — не ожидая увидеть в глазах собеседника сомнений в твоей психической полноценности.
Увы…
…Позвонив по телефонному номеру, указанному в записях покойного Пинегина под словом АРХИВАРИУС, Кравцов не слишком рассчитывал на успех.
У него уже сложился образ ветхого старичка, проведшего жизнь среди папок одного из царскосельских архивов. Телефон рабочий — судя по тому, что в базе данных частных абонентов его нет. Архивы же по выходным не работают, надо ждать понедельника…
И всё же он позвонил вскоре после ухода из больницы, почти без всякой надежды. Вернее, с призрачной тенью надежды: вдруг неведомый архивариус такой фанат своего дела, что работает и по воскресеньям?
Трубку взяли сразу.
Мощный баритон (охранник архива?) сказал:
— Слушаю.
Объяснить, кто ему нужен, Кравцову оказалось не так-то просто.
— Здравствуйте, — медленно сказал он. — Меня зовут Леонид Кравцов, и я коллега Валентина Пинегина — если вам что-то говорит эта фамилия.
Это даже не было ложью. Отчего бы и не считать коллегами двух внештатных сторожей, в самом деле?
Кравцов продолжал:
— Позавчера Валя умер в больнице. Я разбирал его бумаги и натолкнулся на этот телефон под словом «архивариус». Не могли бы вы подсказать…
— Мог бы, — прервал его объяснения баритон. — Архивариус — это я.
Кравцов удивился. С образом сухонького старичка голос никак не ассоциировался. И даже с охранником — разве что с начальником охраны, офицером-отставником. Чувствовалась в голосе привычка командовать, еще как чувствовалась… Может, «Архивариус» — просто кличка, никакого отношения к профессии не имеющая?
Но сомнения быстро развеялись.
Архивариус спросил:
— Что вас интересует? Хотите забрать результаты уже проведенных изысканий? В принципе это реально, аванс внесен. Но сделано не так уж много… Или вы предпочитаете оплатить продолжение работы?
— Да, — сказал Кравцов, надеясь, что не покупает кота в мешке, например генеалогическое древо рода Пинегиных. — Я думаю, второй вариант предпочтительнее. Но сначала хотелось бы узнать, что вы успели раскопать…
— Хорошо. Подъезжайте.
Архивариус продиктовал домашний адрес, жил он действительно в Царском Селе. Телефон, надо понимать, тоже домашний. Странно… Впервые Рябоконь допустил не то ошибку, не то небрежность, выполняя просьбу, связанную с компьютерными базами данных.
— Когда вам удобно встретиться? — спросил Кравцов, хотя больше всего ему хотелось встретиться немедленно.
— Мне всегда удобно. Я всегда дома, — сказал Архивариус.
Договорились, что подъедет Кравцов через полчаса.
Однако не сложилось. Он не успел убрать мобильник в карман — тот запиликал.
«Аделина?» — мелькнула мысль. Ошибочная мысль. Не здороваясь, заговорил Пашка. И Кравцов едва его узнал.
— Ты где?
— В Царском, у меня тут…
— Не важно, — проговорил мертвец, отдаленно похожий голосом на Пашку-Козыря. — Бросай всё. Наташка пропала. Похищена. Вместе с детьми.
4
Гном забил последний гвоздь, отошел на несколько шагов, оглядел дело своих рук.
На поляне в центре Кошачьего острова лежал правильный пятиугольник, сколоченный из свежеструганых березовых брусков. Чем-то он Гному не понравился. Нисколько не жалея потраченных трудов, он подошел, несколькими сильными ударами топора отбил от конструкции одну из сторон и небрежно откинул на дрова.
Выбрал из кучи заготовленного материала другой брусок и следующие полчаса занимался тем, что пилил, строгал, приколачивал. Характерно, что уровнем, угольником, линейкой или метром Гном не пользовался, действуя исключительно по наитию. Оно не подвело, последовавший второй осмотр вполне удовлетворил вспотевшего труженика.
Конечно, куда пригодней в качестве материала оказалась бы бронза. Почему оно так, Гном понятия не имел. Но знал совершенно точно — этот металл для его целей подходит лучше. Да где её надыбать, столько бронзы-то? Если где и валялась бесхозная (или совхозная, что в принципе то же самое), то давно перекочевала в пункты приема цветных металлов.
Никаких голосов, подобно Алексу, Гном не слышал. И был уверен, что лежавшую на поляне конструкцию придумал сам. Ну пришла вот в голову такая идея — сколотить из дерева пятиугольник. Почему бы и нет?
Он улегся в центр фигуры, широко раскинул руки и ноги. То, что надо. У клиентки конечности будут покороче — значит, всё в самый раз. Он стал прилаживать к углам конструкции петли, самолично сплетенные из тоненьких полосок кожи. Почему не подойдут нейлоновые или другие веревки, Гном не задумывался. Знал точно — нужна кожа. Петель было пять — четыре поменьше для рук и ног, одна побольше и подлиннее для шеи.
Потом передохнул, повалялся на мягком мху, опростал половину пластиковой бутыли с пивом. Затем снова взялся за работу — стал копать яму под новую жаровню.
Что белеющая на поляне фигура имеет древнюю и мрачную историю и в старину именовалась пентагононом, или попросту пентагоном, — Гном, естественно, даже не подозревал.
5
В городе бушевало Трёхсотлетие. Повсюду. Многие центральные площади и исторические места зарезервировали для «чистой публики», в основном понаехавшей со всей Европы. Милиционеры — понаехавшие со всей России — пускали туда коренных питерцев неохотно, придирчиво изучая штампы о прописке. Живущих на окраинах заворачивали.
Питерцы не расстраивались. В конце концов, и во времена царя-плотника «людишек подлого звания» гулять по Летнему саду не допускали. Благо о наличии хлеба и зрелищ для населения нынешние власти позаботились — в местах попроще, разумеется. Пьяно-радостные толпы напоминали неспокойную воду, каждая молекула которой движется вроде и хаотично, но общий поток подчиняется строгим законам. Людские реки катились куда-то, привлеченные слухом об очередном суперзрелище, ударялись о плотины милицейских кордонов, заворачивали в новое русло и вливались в уже переполненные озера-площади, грозя подтопить окрестные дворы и скверики…
Аделина двигалась в этом потоке, как капелька ртути по дну реки — вроде так же, но сама по себе. Быть здесь не хотелось. Идти домой, в городскую квартиру, — еще меньше. Но рано или поздно придется…
Несколько раз молодые люди, пытавшиеся выловить в праздничном потоке созревших для нереста золотых рыбок, подходили к ней, заговаривали о чем-то — она смотрела сквозь них странным взглядом и шла дальше.
В одном из скверов людской водоворот прибил её к царю Петру — на взгляд Ады, низковатому и толстоватому по сравнению с историческим прототипом. Изрядно поддавший монарх за умеренную плату фотографировался со всеми желающими…
Она вспомнила слова Кравцова, сказанные сегодня утром, когда они застряли на подъезде к вокзалу в автомобильной пробке (дорогу впереди перекрыли, кто-то из слетевшихся на торжество Первых Лиц ехал осматривать Павловский дворец-музей).
Кравцов тогда говорил:
— Сейчас среди историков и авторов исторических романов вошло в моду уничижать Петра Первого — ровно в той же степени, в какой раньше его безмерно восхваляли. Пишут, что был он бездарен во всём, за что ни брался, — а его наследники на людях клялись, что продолжают дело великого предка, но на деле целый век лишь исправляли результаты непродуманных дилетантских реформ… Так вот, это клевета. Из всех источников следует: одно дело Петр делал виртуозно — работал на токарном станке по дереву. Родился бы он в почтенном семействе краснодеревщиков — мог бы стать известным мебельным мастером вроде Гамбса или Чипэндейла… Но на беду он родился в царской семье и был буквально впихнут на трон интригами матери под тем предлогом, что законный наследник — старший брат Петруши — умрёт со дня на день. Тот, кстати, прожил ещё полтора десятка лет… И пришлось Петру Алексеевичу, оставив работы по дереву в качестве хобби, всю жизнь заниматься тем, чего он совершенно не умел. Собственноручно рубил стрельцам головы, бездарно командовал войсками, плодил безмерную чиновничью армию… Если уж правителю действительно необходимо кого-то казнить — стоит иметь для таких дел палача, а не брать окровавленный топор в свои руки… А для войны неплохо завести талантливых генералов. Свою карьеру полководца Петр начал с позорного провала под Нарвой и завершил столь же позорным провалом на Пруте. Но вспоминают его единственную победу в полевом сражении — Полтаву. Победу при подавляющем численном превосходстве над изнуренным противником. Шведские пушки, кстати, в той битве не стреляли, что бы там ни писал Пушкин. Снарядов не было.
— Ты злой и завистливый, Кравцов, — сказала тогда Ала. — А Петербург? А флот?
— Не я злой — ты малоинформированная, — парировал Кравцов. — Почитай любой источник о Петербурге петровской поры. Убожество, тонущее в грязи. Мазанковые дворцы с позолоченными крышами… Потемкинская деревня, отгроханная задолго до Потемкина, чтобы пустить пыль в глаза Европе… Петербург, который мы знаем и любим, созидали Елизавета, Екатерина, Александр и Николай… Триста лет засыпают болото, выбранное Петром для столицы — и не могут засыпать, вспомни плывун, прорвавшийся в метро. А флот… Флот пережил своего создателя лишь на несколько лет. Сгнил. Потому что корабли так не строят: наспех, тяп-ляп, из сырого дерева… Один пример: Петру оч-чень хотелось иметь стопушечные корабли — совсем как в Европе. Но настоящий трехпалубный линейный корабль — а на меньшем столько орудий не поставить — по Маркизовой луже плавать не мог. Мелко. Но царь приказал: построить! Корабельные мастера — под козырёк. Им это выгодно — за каждую пушку введённого в строй корабля Петр выплачивал главному корабельному мастеру по три рубля серебром. Ну построили. Небольшой, но почти стопушечный — всё как у взрослых. Нарубили в бортах крошечные орудийные порты, поставили крошечные пушки-пятифунтовки. И то до сотни не дотянули — больше девяноста никак впихнуть не удалось. Назвали кораблик «Старый дуб», потому как строить предполагали из казанского дуба. Но заготовленные дубовые бревна светлейший князь Меншиков толкнул куда-то налево — построили «Дуб» из сырой сосны. Так и сгнил, ничем не прославившись. А ты говоришь: флот!
…Толстоватый «основатель Петербурга» попытался было заплетающимся языком процитировать что-то из Пушкина — замолчал вдруг на полуслове и мягко оплыл на газон.
— Да-а, не дуб — сырая сосна, — сочувственно сказала Ада, когда царя-реформатора потащили иод локотки освежиться. И вновь отдалась на волю людского течения — как усталый пловец, сберегающий силы.
…Замки на двери, деревянной лишь казавшейся, она открывала долго, пустив в ход три ключа и пластинку из ферромагнетика с записанным кодом, — покойный отец, после которого осталась эта преграда, отличался предусмотрительностью и осторожностью. Сразу внутрь не вошла — постояла у приоткрытой двери, внимательно прислушиваясь и даже принюхиваясь. После некоторых имевших место событий Аделина, приходя домой, готовилась к любым сюрпризам…
Ничего.
Мертвая тишина.
Застоявшийся воздух квартиры, где давно никто не жил.
Она шагнула внутрь. Не раздеваясь, заглянула на кухню. Прошлась по комнатам, избегая дальнюю, запертую… Никаких изменений. Всё по-прежнему.
Надо было делать то, для чего она и пришла. Но Аделина медлила, молча и неподвижно стояла в прихожей. Потом, вздохнув, стала отпирать дальнюю дверь.
Что же я такое сделала, что она так рассверкалась? — тоскливо подумала Ада при виде лежавшего на полу предмета.
На полу лежал пятиугольник — размерами и формой напоминающий тот, что сколотил Гном на Кошачьем острове. Единственным отличием стал материал — литая бронза. Пентагонон ярко сверкая, словно недавно и тщательно начищенный. Сверкал даже в скудном свете, падавшем из прихожей — шторы в комнатке были плотно задёрнуты. Три дня назад, когда Аделина приходила сюда в последний раз, бронза казалась значительно темнее.
Раздумывать о причинах странного явления не стоило. Да и не таким уж странным оно и было — на фоне некоторых прочих свойств сего предмета.
Аделина торопливо достала коробку со свечами, выставила пять длинных и тонких — на углы пентагонона. Свечи выглядели неустойчивыми, но вставали на абсолютно гладкую поверхность плотно, не пошатнувшись. Как будто тут же приклеивались. Затем она поставила восемь свечей поменьше на стороны — по три на две смежные, по одной — на две соседствующих с ними. Пятая сторона осталась пустой.
Ада чиркнула длинной каминной спичкой, поочередно — против часовой стрелки — зажгла свечи. Фитили вспыхивали мгновенно.
— На, жри… — произнесла она с ненавистью, но очень, очень тихо.
Затем вышла, ничуть не опасаясь возможного пожара. Знала — такого никогда не случится. Щелкнули замки на двери комнаты, чуть позже — на входной.
Пламя свечей колебалось и отклонялось, словно под действием ветра. Но ни ветра, ни даже легкого сквозняка в запертой комнате не ощущалось. Казалось, трепещущие язычки тянутся к геометрическому центру пентагонона.
Свечи были из черного воска.
Пентаграмма — I.
Славик Зарубин. Весна 1994 года
Увидев впервые эту штуку, Славик расхохотался.
Смех вызвала, собственно, не она, а согнувшийся под её тяжестью Зигхаль. Вид у того был действительно на редкость комичный: за спиной рюкзак, в длинных, обезьяньих руках две кошёлки; а на шее надето оно — металлический предмет пятиугольной формы и непонятного назначения.
Штуковина была большая (свисая с загривка владельца, она нижним краем била его при каждом шаге по голеням) и, судя по всему, тяжелая — лицо и шея сгорбившегося Зигхаля приобрели багрово-красный оттенок, он пошатывался и даже постанывал от натуги. Впрочем, этот индивид здоровым цветом лица и твердостью походки никогда не отличался.
Славик, стоя в дверях своего вагончика, еще смеялся, когда подошедший угнетенный труженик вскинул руку со звякнувшей кошелкой и замученно прохрипел обычное свое приветствие: «Зиг хайль!» Резкое движение нарушило хрупкое равновесие неустойчивой системы «Зигхаль — неизвестная фигулина» — инерция повела в сторону, накренила, Зигхаль нелепо взмахнул другой кошелкой и с трудом удержался на ногах.
— Зиг ха-ха-хайль! — откликнулся Славик, еще больше развеселившийся от такого бесплатного цирка. Он отступил в глубь вагончика; Зигхаль с ношей протиснулся боком и грохнул хреновину (судя по оттенку — бронзовую) на загаженный пол.
— О-о-ух! Едва допер это гуано…
Зигхаля по виду часто принимали за бомжа. Зря — в кармане у него имелся засаленный паспорт, а в паспорте штамп о прописке; имелась и однокомнатная квартира в близлежащей хрущовке (как подозревал Славик, совершенно пустая и изрядно загаженная). Зигхаля можно было бы назвать бичом, что некоторыми расшифровывается как «бывший интеллигентный человек». Одним из атавизмов интеллигентности стала манера произносить некоторые ругательства в книжно-научном варианте, режущем слух русского человека: «гуано», «кондом», «педераст»…
— Что-то давно тебя не видно… — равнодушно начал разговор Славик, не глядя на весьма заинтриговавшую его штуковину. Такому только покажи интерес — сразу заявит, что принёс не сдавать на вес, а продать как вещь … Хотя и на вес, если это действительно бронза, будет стоить немало…
— Ха! Я на той неделе опять контору учредил, во!
— И сколько заплатили?
— Сквалыги попались, сто тыщ всего… Правда, с обхождением — стакан перед подписанием, стакан после — культура, блин!
Зигхаль на бумаге числился состоятельным человеком. Уставные документы по крайней мере полусотни фирмочек с очень ограниченной, просто микроскопической ответственностью, — именовали именно этого индивида своим учредителем и генеральным директором. Почти новый русский.
Ну да, всё правильно, на «Льдинку», если дружки помогли, как раз до вчера ему той сотни и хватило… А сегодня начал шустрить на опохмелку… Где же он надыбал эту штуку и что она, собственно, такое?
А Зигхаль тем временем вываливал на весы содержимое рюкзака, уже рассортированное: медь, латунь, алюминий. Сплющенные мотки трансформаторной проволоки, старые латунные вентили, мятая крышка от кастрюли — обычный джентльменский набор. Славик привычно проверял кучки металла магнитом, гонял гирьку по рейке и с ловкостью пианиста-виртуоза брал аккорды на видавшем виды калькуляторе. И столь же привычно обсчитывал, немного, процентов на десять — в итоге это лишь компенсировало ухищрения иных его клиентов, умудряющихся шпиговать сдаваемый утиль начинкой, и близко не лежавшей от цветных металлов…
— Банки! — тоном мажордома Букингемского дворца гордо объявил Зигхаль, водружая на весы громыхнувшие кошелки.
— Банки не берём, — проникновенно и сочувственно сказал Славик. — Если хочешь, возьму как лом четвёртой категории…
Тут Зигхаль должен был обреченно махнуть рукой — эх, бери, дескать, не тащить же обратно… Но не махнул, аккуратно снял кошёлки, поставил к стенке у себя за спиной и нагнулся за хреновиной.
Вот так, значит. Банки как лом тебя уже не устраивают… И куда же ты с ними пойдешь, любезный? К Филе небось… Ну, Филя… Придется…
Мысль Славик до конца не додумал — бронзовая штука, представлявшая по форме правильный пятиугольник, на весы не помещалась, пришлось подгладывать доску. Лежа в горизонтальной плоскости, она напомнила Славику символ ушедшей эпохи — пятиугольник с буквами СССР внутри — знак так называемого качества. Нельзя сказать, что меченные подобным клеймом товары были заветной мечтой рядового советского потребителя. Славик, как многие другие, предпочитал в те времена вещи, украшенные не знаком качества, а простой и непритязательной надписью «Made in …».
Пентаграмма, — вспомнил Славик иностранное слово. (Он ошибся — пентаграмма представляет собой самую обычную пятиконечную звезду, нарисованную так, как рисуют её детишки — пятью пересекающимися линиями. Принесенная Зигхайлем фигура именовалась по-гречески Пентагоном, или просто Пентагон.) Но Славик не разбирался в таких тонкостях: пять углов — значит пентаграмма. И точка.
Пять сторон пентаграммы были толстыми, в руку толщиной, и тоже пятиугольными в сечении. Славик по привычке поднес к ним мощный магнит — черного металла внутри не обнаружилось, наоборот, на какую-то долю секунды ему показалось, что штука отталкивает приближающуюся к ней руку с магнитом. Удивленно поднес еще раз — ощущение легчайшего сопротивления не появилось, видно и в самом деле почудилось…
— Ну ладно, сначала приятное, потом полезное. — Славик разорвал непочатую пачку «Беломора» и вручил Зигхалю папиросу.
Обычная его присказка и обычное, почти ритуальное, действие. Слева от входа у него висело коряво написанное на фанерке объявление (с почерком у Славика было не очень): «Каждому клиенту „Беломорина" бесплатно!» Не то чтобы оно так уж привлекало желающих избавиться от излишков цветного металла, оно скорее позволяло мгновенно определить статус новых клиентов — к взявшим папиросу Славик тут же начинал обращаться на «ты» и держался благодушно и покровительственно, как белый торговец, благодетельствующий неразумных дикарей огненной водой и отборными стеклянными бусами в обмен на какие-то там захудалые слоновые бивни и золотой песок. Иногда дармовой канцероген брали граждане, вполне прилично одетые и держащиеся преувеличенно высокомерно: дескать, вот, обнаружили чисто случайно дома пару килограммов латуни и решили занести по дороге на презентацию в Доме Кино… Таких Славик не любил особенно и старался ткнуть носом в дерьмо с мстительно-злорадным удовольствием…
Зигхаль жадно затянулся в ожидании расчета. Славик ждал, что он, по обыкновению, начнет хвастливо рассказывать, где и как он раздобыл эту увесистую геометрическую фигуру — и снова, как с банками, ошибся. Зигхаль молчал.
Ничего, сейчас ты у меня заговоришь, голуба, подумал Славик. Не в радость, когда разозленные люди рыщут по всем окрестным пунктам и разыскивают латунные причиндалы с могилки любимого дедушки. Почему-то пентаграмма казалась Славику похоронным аксессуаром, хотя ему ничего подобного на кладбищах видеть не приходилось…
Он неторопливо отсчитал самые мятые и грязные бумажки за принесенное в рюкзаке, демонстративно игнорируя лежавшую на весах пентаграмму; отдал Зигхалю и прямо, в лоб, спросил:
— Откуда это?
Тот начал что-то мямлить о свалке возле Южного рынка — Славик с каменным лицом убрал перехваченную резинкой пачечку купюр обратно в ящик колченогого стола. Встревоженный Зигхаль резко сменил пластинку:
— Да вот, поминки справляли третьего дня по Сергеичу. Помнишь, пропал такой? По суду мертвым ровно год назад признали… Мы с ним корешами были, вот мне вдова на поминках… как другу, значит… на память… в кладовке у него лежала…
Начал свое объяснение происхождения штуки Зигхаль довольно бойко, но чем дальше, тем речь его становилась сбивчивей; наконец он смущенно замолчал, словно сам недоумевая, как сей предмет оказался в кладовке пропавшего Сергеича.
«Врет, — убежденно подумал Славик. — Как пить дать врет. Ничего ему вдова не дарила. Напилась хозяйка в лежку, а он в кладовке пошарился, чем бы на опохмелку прибарахлиться…»
Но, в общем, истории появления у Зигхаля штуковины Славик поверил. С Сергеичем он был незнаком, тот ни разу не заглядывал в вагончик; но про его исчезновение знал понаслышке…
— Тяжелая больно, похоже, свинцом внутри залита, — сказал Славик без всякого уже азарта, лишь из привычки поторговаться (свинец был значительно дешевле бронзы).
Но Зигхаль, стреляный воробей, не первый год зарабатывал на выпивку визитами в вагончик. Не говоря ни слова, он наклонился, поднял валяющуюся под ногами железку и с размаху ударил по пентаграмме — в вагончике раздался протяжный не то гул, не то звон. Звон — чистый, как у камертона, — казалось, продолжался где-то в области ультразвука уже после того, как уши перестали что-либо слышать — Славик передернулся, почувствовав, как спинной мозг заколебался в унисон со штуковиной и продолжает вибрировать до сих пор. И опять возникли мысли о кладбище…
— Во-о! — Зигхаль торжествующе посмотрел на него. — Малиновый звон, а? Какой там свинец, небось еще и серебра подмешали для звука-то…
И он снова замахнулся железкой. Славик остановил его резким жестом и стал рассчитываться. Через минуту Зигхаль торопливо удалился в сторону станции с пустым, сморщенным рюкзаком за спиной и бренчащими кошелками в руках, а Славик Зарубин стал полноправным владельцем штуковины.
* * *
И где же покойный (или таки живой?) Сергеич разжился деталькой-то? И частью чего она, собственно, была?
Славик, поднатужившись, снял с весов и прислонил к стене пентаграмму. Порылся в углу среди всякого барахла, извлек пилу-болгарку (диск старый… долго корячиться придется…) и стал примериваться, как побыстрее распилить громоздкую штуковину, чтобы успеть к «Полю чудес», любимой своей передаче. Постоял, сжимая болгарку в руках и еще раз, гораздо подробнее, чем при Зигхале, осматривая непонятное приобретение.
Пентаграмма стояла у стены, тускло отсвечивая старой бронзой. Никаких надписей, рисунков или заводских клейм на ней Славик не заметил.
Не было на пентаграмме и следов крепления к ней других деталей. Ничего похожего на сварные швы в местах соединения сторон — конструкция явно отливалась целиком и не являлась частью чего-то большего, выглядела законченной, самодостаточной, даже совершенной. Более того, несмотря на внешнюю простоту, она была красива …
Славик понял это, понял и то, что не хочет разрезать штуковину — и выключил вхолостую вращавшуюся болгарку.
Несколько раз на нынешней работе у него уже возникало такое чувство — и он припрятывал, а порой и уносил домой предметы абсолютно непонятного назначения, про которые понимал только одно — разрезать и отправлять их в переплавку нельзя. В результате в невеликой трешке-распашонке Славика образовалась коллекция предметов, напоминающих на первый взгляд трофеи, вынесенные из какой-нибудь Зоны алчным сталкером, хватающим все попавшее под руку.
…В салон шестерки пентаграмма не помещалась, и Славик с трудом запихал её в багажник — тот тоже не закрылся, больше трети конструкции торчало наружу, пришлось подвязать крышку куском медной проволоки. Ехать было недалеко, жил он на другом конце этого микрорайона — и Славик медленно порулил, осторожно объезжая глубокие весенние лужи, усеивающие подъезды к стоящему на отшибе вагончику.
По дороге он лениво размышлял, что скажет при виде новоприобретения Светка. Догадаться нетрудно, но Славика не слишком это волновало, квартира его и он в доме хозяин. И тут Славик увидел зрелище, заставившее враз позабыть и о штуковине, и о возможной реакции жены на её появление.
В неверном свете фонарей двигался один из его постоянных клиентов, держа на плече связку погнутых и искореженных алюминиевых труб. Двигался не к запертому вагончику — к подземному переходу под железнодорожной веткой (там, в двух сотнях метров, за путями, начиналась территория другого района города). И совсем нетрудно догадаться о завершающей его незамысловатую траекторию точке — шел он к Филе, к кому же еще…
* * *
Почти четыре года Славик сидел в здешних местах монополистом и отвык от здоровой конкуренции. Нет, конечно, открывались в округе и другие точки, но как-то так получалось, что довольно быстро прекращали свою деятельность.
Конкуренты были чужаками — а Славик свой, знавший все и всех — знавший, кому можно смело выдать в тяжко-похмельный день аванс под будущие поставки металла; кто ценит больше всего вежливое обращение по имени-отчеству, не особо присматриваясь при этом к весам; а кто наоборот — никогда не придет вновь к обсчитавшему его хотя бы на рубль…
Бизнес шел успешно, пока не появился Филя. Филя — это не имя, не сокращение от Филиппа. Филя — старое школьное прозвище, от фамилии Филимонов. Когда-то, теперь уже довольно давно (незаметно, год за годом — а вот и отпраздновали в прошлом июне двадцатилетие выпуска) они учились со Славиком в одном классе. Но друзьями отнюдь не были, скорее наоборот.
И Славик сильно подозревал, что именно эта давняя глухая вражда, перераставшая порой в жестокие подростковые драки, и не забытая (по крайней мере Славиком) — сыграла не последнюю роль в решении Фили влезть в его бизнес. Может, и не первую роль, но и не последнюю, это точно.
Свою лавочку Филя открыл метрах в четырехстах, не больше, если смотреть по прямой. Но — за путями железки, в другом районе. А там все решали другие люди. Нельзя сказать, что Славик ничего не сделал — он тут же сообщил курирующему его точку бригадиру, что доходы и, следовательно, отчисления упадут резко и скоро — рядом объявился нечистый на руку конкурент, безбожно поднявший расценки… Клеветой это не было, Филя действительно работал поначалу практически по нулям, может, даже себе в убыток — надеясь отправить одним ударом Славика в нокаут…
Кончилось все обыденно: крутые парни из двух районов потолковали и решили, что солнце большое и места под ним хватит всем, не надо только борзеть и строить друг другу подлянки — а потому цены надлежит держать одинаковые и повышать одновременно.
Бывшие одноклассники скрепили третейское решение рукопожатием, криво улыбаясь и не глядя друг на друга. И с тех пор сидели каждый по свою сторону границы, поминутно ожидая какой-нибудь пакости от соперника и исподволь, без явного нарушения конвенции, переманивая разными хитрыми приемами клиентуру…
Знание контингента не помогало — Филя был местный и тоже знал всех, ничуть не хуже Славика. В те времена, когда Славик занимался макулатурой и макулатурными книжками, его нынешний соперник сидел «на хрустале», делая карьеру в пункте приема стеклотары.
И вот теперь этот гаденыш Филя наверняка придумал что-то хитрое и гнусное с алюминием…
Раздумывая, какую очередную каверзу мог изобрести паразит Филя, Славик чуть не забыл про торчащую из багажника штуку — вернулся от двери подъезда, достал пентаграмму, запер багажник и кряхтя взвалил приобретение на плечо…
Скажу Светке, что антикварная вещь… что это… ну-у… рама для модернового зеркала, вот это что… она, дура, любит всякие прибамбасы такие…
Но объясняться в дверях с супругой не пришлось, она увлеченно смотрела какой-то свой сериал (по его мнению, необычайно гадостный). Славик недоуменно глянул на часы и аж присвистнул от удивления.
Вот это да! Накрылось «Поле чудес»… Где же я умудрился потерять целый час, неужели так долго возился со штукой…
И он пронес пентаграмму в дальнюю комнату, считавшуюся, довольно условно, «его». Осторожно положил на ковер, решив пристроить куда-нибудь после ужина, чтоб не мозолила глаза и не попадала под ноги.
За одиноким ужином он опять размышлял о кознях конкурента; потом поплелся к телевизору — сериал, к счастью, вроде заканчивался; потом набежали отпрыски со своими наиважнейшими проблемами — Светка, лежа на диване перед телевизором, ехидно на него поглядывала: мол, я целый день занималась твоими детьми, давай и ты поисполняй родительские обязанности…
Короче говоря, про хреновину Славик вспомнил, лишь отправившись спать в свою комнату (уже пять лет, после рождения Лёшки, у них были разные спальни и ночные визиты Светки становились все реже; впрочем, ни её, ни его этот факт ничуть не расстраивал).
Пентаграмма лежала, раскинувшись на ковре во всю ширь, и Славику показалось, что блестит она сильнее, чем раньше. Но, скорее всего, эффект объяснялся более ярким освещением. И вдруг он вспомнил, где и когда видел точно такую пентаграмму — воспоминание всплыло именно сейчас, когда она лежала горизонтально и под ногами.
Ну точно, так и есть… Тот же размер, только та была деревянная… И форма точно та же… правильный пятиугольник… Абсолютно правильный… Симметричный…
* * *
Это случилось в Баболовском парке — в самом удаленном и заброшенном из царскосельских парков. Причем дальняя часть парка, примыкавшая к дачному поселку Александровская, была наиболее дикой и заросшей. А в посёлке отдыхали каждое лето дети Славика от первого брака.
Они и вытащили в один прекрасный августовский день приехавшего к ним Славика в парк за грибами. Грибов он не нашел, да и вообще не слишком любил это занятие. Зато обнаружил одно любопытное местечко.
На крохотной укромной полянке кто-то выложил из ровненьких березовых, с руку толщиной, полешек пятиугольник. Рядом остатки небольшого костерка. Но самое интересное оказалось в центре пентагонона — там лежала небольшая, с куклу Барби, фигурка. Из розового воска? стеарина? — Славик не знал, чем они различаются. Фигурка грубо вылепленная, черты лица схематичные. Но мужская, никаких сомнений, — первичный признак гордо целился в небо.
Вот так, — подумал Славик, — вот так оно и бывает … Выходишь с чадами воскресным днем поискать грибов и находишь неизвестно что… Кто-то ведь сидел тут ночью — а зачем иначе костер? — и занимался самой натуральной черной магией… Наверняка в полночь, самое подходящее время для таких темных игр… Но кто?.. Подростки, ворожащие над фигуркой нелюбимого учителя?.. Глупые, начитавшиеся дурных книжек детишки, для которых это просто очередная веселая хохма?.. Или кто-то, знающий, что он делает, и верящий в действенность всего этого?
А может, он подумал не это — за полгода мысли, пришедшие тогда в голову, изрядно позабылись. Но Славик прекрасно помнил ощущение брезгливого неприятия, охватившее его немного спустя, когда он подошел еще ближе, к самой границе пятиугольника и пригляделся к фигурке.
Нет, не так. Сначала он лишь удивился, а секунду спустя инстинктивно протянул руку — взять, вытащить из фигурки крохотный клинок — зачем? Алёшке? — нет уж, спаси и сохрани от таких подарочков… И только потом, осознав до конца, что увидел, отдернул руку и отшатнулся сам.
Клинков было три. Не иглы, не гвозди — именно клинки, аккуратно и тщательно сделанные копии то ли мечей, то ли кинжалов, то ли еще какого колющего оружия — лезвия почти не виднелись, исчезая чуть не по самую рукоять в фигурке. Один лилипутский меч пронзал сердце восковой жертвы; другой, насколько Славик понимал в анатомии, — печень; а третий, вбитый глубже других, подрубал основание мужского органа… Именно при виде третьего клинка у него впервые мелькнуло чувство, которое, как его ни называй: отвращение, омерзение, брезгливое негодование, — имело в своей основе самый обычный липкий страх…
Если первый порыв — взяться пальцами и вынуть клинок — угас инстинктивно, сам собой, то второй — разрушить, растоптать мерзкую игрушку — Славик подавил сознательно. Он медленно отступил назад, так и не шагнув внутрь пентагонона — словно там, под обманчивым прикрытием зеленого мха, таилось гнездо ядовитых тварей… Отступал пятясь, как будто опасаясь повернуться спиной к зловещему пятиугольнику, и развернулся, лишь когда тот окончательно исчез за сплетением ветвей… А совсем рядом, в полусотне метров, звучали радостные голоса детей, отыскавших очередной гриб.
Им он не сказал о странной находке. И потом ничего никому не рассказывал. Два-три раза за минувшие месяцы Славик вспоминал и размышлял об увиденном — и больше всего его мучил вопрос: кого же всё-таки изображал тот восковый человечек — неверного мужа? удачливого соперника в любви? вконец опостылевшего начальника?
И очень хотелось узнать, как у прототипа фигурки сейчас обстоят дела с печенью, с сердцем и с потенцией…
* * *
Пентаграмма на полу квартиры выглядела безобидно, хотя и казалась, за исключением материала, точной копией лесной. Может, потому, что вокруг были не деревья, выглядевшие в тот давний момент безмолвными, загадочными, зловещими — но издавна привычная, чтоб не сказать осточертевшая, обстановка. Из-за стены раздавались знакомые до тошноты звуки — Светка выкатывала секции складного дивана.
А может, уверенности добавили двести грамм водки, выпитые во время и после ужина, — на работе Славик не позволял себе ни капли. Он обогнул пятиугольник (наступать внутрь почему-то не захотелось), подошел к своему рабочему столу и, взяв сувенирный, тоже бронзовый, увесистый ключ, вернулся к трофею. У него появилась мысль — простая, здравая и логичная мысль: штука — разновидность гонга.
Ну точно… Где-то Славик слышал, что в японских храмах колоколов нет, только гонги. Не помнил, правда, какой они формы… вполне возможно, что пятиугольные.
И он с размаху стукнул по пентаграмме, ожидая снова услышать длинный и чистый звук — почему бы, собственно, и не собирать таким звоном верующих к молитве? Бронзовый пятиугольник звякнул коротко, глухо, неприятно.
А-а-а… ну конечно… она лежит на полу, и паркет тут же гасит вибрацию… Но пардон, в вагончике тоже ведь не была свободно подвешена… лежала, опираясь на доску и на весы… Так какого черта она тогда звенела?
В этот момент Славик углядел одну маленькую деталь на безупречно ровной поверхности пентаграммы, незамеченную в полутьме вагончика, — какой-то черный нарост на углу пятиугольника. Нарост сковырнулся пальцами легко, Славик, отойдя к столу, поднес его к глазам, осмотрел и, уже догадавшись, что это такое, разломил пополам и поднес пламя зажигалки к одной половинке — черная слезинка скатилась на подложенную газету. Воск, черный воск. А черный воск вызывал у Славика одну-единственную ассоциацию…
* * *
Сатанисты, подумал Славик,
Без излишнего удивления подумал — кого нынче удивишь сатанистами? Если верить прессе, сатанистов вокруг хоть пруд пруди. Если не верить (что, конечно, гораздо разумнее) и делить всё напечатанное на десять, то и тогда получается немало. Секты сатанистов, черные мессы и шабаши, милые пирушки в моргах в обнимку с трупами, распятия кошек на кладбищах, осквернения церквей, наконец ритуальные убийства — про всё это Славик читал в бульварных листках, до которых был большой охотник.
А возясь все последние годы с металлами, он примерно представлял, сколько стоит заказать на заводе модель, сделать опоку, отформовать и залить этакую штуковину — из дефицитной бронзы, которая, между прочим, тоже не пять копеек стоит. Сумма получалась кусачая, никакой сатанист не потянет. Правильно, наши доморощенные черные мессиры лучше такую пентаграмму в лесу выложат из березовых палочек. А то и попросту дома нарисуют, на паркете, мелом…
Нет, такая вещь предполагает не салонную игру в дьяволопоклонство на вечеринке — промежуточный этап между травкой или колесами и развеселой групповушкой… И она не сделана под старину — тогда наверняка её украшали бы всякие загадочные знаки и символы, иероглифы или руны… Больше всего пентаграмма напоминает функциональный рабочий инструмент — никаких излишеств, строгая и законченная гармония… Автору штуковины она потребовалась для дела … И делом этим явно было не выкачивание денег из простаков, приходящих со своими бедами к расплодившимся до полного неприличия белым магам и потомственным колдуньям. Но если штука работает, то на каком-то же физическом принципе; мертвый кусок металла не может…
Славик внезапно вскочил, хлопнув себя по лбу. Сбегал на кухню, вернулся с дозиметром, которым дал зарок проверять все непонятное…
Однажды он чудом избежал крупных неприятностей. За штукой, принесенной тогда домой Славиком, пришли серьезные люди из серьёзной конторы, взявшие с него подписку о неразглашении даже внешнего вида штуковины (он не хотел задумываться, чем бы кончилось, залезь он сдуру внутрь, — но не подпиской, это точно). Те же немногословные ребята сообщили, что жизнь Славика и его семьи рядом со штукой вскоре завершилась бы коллективным выездом в Песочную, в хоспис для безнадёжных раковых больных…
Но пентаграмма если и излучала что-либо, то бытовому приборчику расшифровка оказалась не по зубам — он бодро рапортовал: все ол райт, радиоактивность в норме, ложитесь спокойно спать, Вячеслав Анатольевич…
Именно это Славик и сделал.
* * *
Суббота прошла как-то бездарно и незаметно: был день, и нет его, ничего не сделано и нечего вспомнить — просто одним днем меньше осталось жить на свете…
Встал поздно, позавтракал; Светка тут же пристала со всякой домашней мелочью, копившейся до выходного: повесить полочку в ванной, смазать петли на входной двери, еще что-то такое же недолгое и простое, но висящее над душой неделями — всё руки не доходят; закончил, вышел на улицу, прогулялся неторопливо, нога за ногу, до вагончика — как там дела у Сереги-сменщика? У Сереги (студента, подменявшего Славика по выходным) всё было в порядке, пошел обратно, купив бутылку пивка; и всё казалось — надо обязательно что-то сделать… А вот что? — непонятно.
После обеда смутное чувство несделанного усилилось — Славик послонялся по квартире, не зная, за что взяться; открыл холодильник на кухне, обревизовал содержимое— и заявил Свете, что поедет завтра на дачу, поглядит, что там и как после зимы, а заодно привезет из подвала всяких варений-солений.
Жена посмотрела на него подозрительно, обычно в это время отправить Славика на дачу было почти нереально; но ничего не сказала, стала громыхать стеклом, собирая пустые банки — вывезти заодно тару под летние заготовки…
А он успокоился, продремал вечер перед телевизором и около полуночи завалился спать. Бронзовая пентаграмма простояла всю субботу в нише балконной двери, за занавеской, Славик в этот день к ней не приближался.
Спал плохо — почти всю ночь его преследовал дедушка, Покойный дедушка Зигхаля. Изрядно разложившийся старичок, одетый в полусгнившую эсэсовскую форму, весь перемазанный свежей землей, клацал лишенной плоти челюстью и замогильным голосом требовал вернуть ему бронзовую пентаграмму. Славик во сне совершенно не боялся этого опереточного призрака, скорее смешного, чем страшного, — пока тот быстрым движением руки не вцепился ему в глотку. Неправдоподобно белые костяшки пальцев вылезли из расползающейся кожи и осклизлого мяса кисти, как из драной, разваливающейся перчатки — и впились в горло Славика, оборвав в зародыше крик. Он попытался разомкнуть медленно сходящиеся клещи — тщетно, они вдавливались в кожу с безнадежной неотвратимостью винтового пресса; кровь не поступала в голову, а воздух — в легкие; дедушка-мертвец заквакал отвратительным высоким смехом, Славик узнал его, хотя прошло двадцать лет, — так смеялся поганец Филя после какой-нибудь уж очень выдающейся пакости.
Это он, это Филя … — подумал Славик, прежде чем провалиться в пропасть, кишащую желтыми, зелеными и красными воздушными шарами. Его голова тоже превратилась в красный шарик — и тут же лопнула с малиновым звоном бронзовой пентаграммы…
Глава 5
01 июня, воскресенье, день
1
В те немногие годы из двадцатишестилетней жизни Александра Шляпникова по прозвищу Алекс, в которые ему пришлось работать, он трудился шофером.
Крутил баранку в армии — когда возил на большом карьерном самосвале камень для нужд военных строителей. (Камень был, кстати, красивый, с розовыми прожилками, и Алекс подозревал, что уходит он целиком и полностью на генеральские дачи, — ни одной казармы или КПП из этого стройматериала ему видеть не довелось.)
Шоферил Алекс и на зоне, куда загремел на два года по двести тринадцатой [Статья 213 УК РФ — хулиганство.. ]. Он попытался было устроиться на совхозный «зилок» в кратком перерыве между двумя упомянутыми событиями своей биографии (а еще лучше — водителем на фабрику «Торпедо», платили там лучше и стабильнее), — да не успел, ибо двести тринадцатую ему припаяли именно в результате долго, шумно и пьяно отпразднованного возвращения.
После вторичного возвращения (отпразднованного не менее шумно, но без эксцессов) работать Алексу не довелось. По крайней мере, официально, по трудовой книжке. Со времен Динамита многое изменилось. Раньше звание Первого Парня было почетным, но неоплачиваемым. Теперь же местные торговые точки, находившиеся под покровительством Алекса, платили дань небольшую, с городскими тарифами не сравнить, но на жизнь и выпивку хватало.
Сейчас Алекс сидел за столом в своей комнате — бледный, со слипшимися от пота волосами. И отчего-то вспоминал военную шоферскую службу. Вернее, карьер, в рейсах на который большая часть означенной службы прошла.
Карьер поражал размерами. Вид его странным образом сочетал неприкрытое уродство — огромная рваная язва на теле матушки-земли — и некую величественность. С высоты (Алексу довелось увидеть его с вертолета) уродство стиралось, и карьер казался даже красивым — циклопическая воронка со спиральным, с каждым витком уменьшавшимся в диаметре спуском вдоль склонов. Ползущие по спирали грузовики представлялись крохотными модельками, техника на дне — тоже несерьёзной, игрушечной, никак не способной породить этакую махину.
Парень из третьей роты, разогнавшийся и на полном ходу направивший самосвал к обрыву, не то перебрал с кумаром, но то получил из дому письмо об измене любимой (был он уже не из салаг-первогодков, измученных армейской жизнью). Алекс навсегда запомнил кошмарное зрелище. Машина летела по нисходящей траектории — преодолела в полете первый уступ и почти перемахнула второй — чуть-чуть не хватило, с хрустом цепанула днищем по самому краю — и полет подломился, дальше уже падала; на третий уступ рухнула, металл сминался, стекла разлетелись россыпью дешевой бижутерии, инерция швырнула вперед — бензин вспыхнул в падении к четвертому уступу, бак оказался полон, ко дну карьера падал-катился огненный ком, всё больше теряя первоначальные очертания. Ничего живого внутри, скорее всего, не уцелело после третьего уступа, после четвертого уж точно, — но Алексу казалось, что при каждом очередном ударе он слышит крик, раздающийся прямо в его мозгу…
Что-то подобное происходило и теперь. Правда, голос не кричал от боли и предсмертного ужаса. Голос — громкий и отчетливый — приказывал. Алекс не понимал ни слова, слова были ему незнакомы, — но каким-то образом знал, чего от него хотят. Он пытался бороться, он давно уже не привык жить по чьей-нибудь указке. Но голос умел карать за непослушание…
Утром (сейчас Алексу это могло бы показаться смешным, сохрани он способность смеяться) он обошел всё подворье, игнорируя легкую боль в паху, почему-то уверенный, что обнаружит висящий на сучке или гвозде — забытый кем-то — портативный приемник, настроенный на иностранную волну… Глупец.
…Боль ударила снова. Он завыл — тонким, еле слышным звуком, просачивающимся сквозь плотно сжатые зубы и губы. Крик — настоящий, оглушительный и душераздирающий — рвался наружу, начинаясь где-то в мошонке, словно стиснутой раскаленными клещами. Алекс понял, что не выдержит, что заорет на всю Спасовку, — и схватил первое, что подвернулось под руку. Это оказалась бухточка тонкой, гибкой проволоки, называемой авиамоделистами кордом. Он пихнул её в рот, стиснув челюсти. Что-то хрустнуло — то ли корд, то ли его зубы.
Голос говорил с укоризненной интонацией, слова были прекрасно слышны, одно из них повторялось часто. Звучало оно для Алекса примерно так: «эвханах», причем последний слог произносился как сильный выдох.
Потихоньку боль отпустила.
Полчаса назад Алекс, повинуясь голосу (а попробуйте-ка не повиноваться кому-то пусть и невидимому, но цепко держащему вас за яйца!), отыскал этот самый корд на заваленном всяким хламом чердаке. Он совершенно забыл о существовании провалявшегося там много лет пакетика… С трудом вспомнил — подарили ему в детстве модель самолета с крохотным двигателем внутреннего сгорания, в комплект входила и бухта корда. Даже не модель, а чертежи и набор материалов для её изготовления. Самолет Алекс так и не собрал — в отличие от Гнома, слесарничать и столярничать он не любил. Коробка с деревяшками-заготовками куда-то канула, моторчик тоже — а вот корд сохранился. И голос о нем знал.
Следующий приказ понравился Алексу гораздо меньше — и он не стал его выполнять, пережив уже два приступа дикой боли. Имелось сильное подозрение, что третий пережить не удастся — или Алекс сделает то, что от него хотят, или сдохнет.
А пока, в короткий период облегчения, перед глазами вновь встала все та же картина — гигантский карьер и падающая с уступа на уступ объятая пламенем машина.
Алексу казалось, что этот огненный ком — он сам, его разум, проваливающийся все ниже и ниже, а у карьера нет дна. Вместо него пустота. Бездна. Какая-то часть сознания осталась еще наверху, над краем обрыва. И смотрит на всё со стороны, и отдает себе отчет в кошмарности происходящего, хотя связана с тем, что падает, неразрывным тонким тросом. Длинным тросом, — но грозящим в любую секунду натянуться и увлечь за собой в бездну…
Кульминации третьего приступа он не стал дожидаться. Деревянными шагами прошел в кладовку. Надавил рукой на одну из досок низкого потолка. На вид она не отличалась от прочих, но не была прибита и легко поднялась. Алекс привстал на цыпочки и пошарил в открывшемся тайнике. Нащупал и вытащил увесистый сверток. Принес в комнату и положил на стол, рядом с кордом — на пластиковой упаковке того четко отпечатались следы зубов.
Он не был дураком, Алекс, — в противном случае Первым Парнем не станешь — и недостаток образования отчасти замещал хорошей интуицией и умением многое заимствовать, общаясь с людьми культурными и знающими…
А сейчас — за тот короткий промежуток времени, пока боль исчезла и голос ничего нового не потребовал, — на Алекса вообще снизошло какое-то озарение. Он понял всё или почти всё: что слова, произносимые голосом, не важны, что это просто средство расшатать какие-то защитные барьеры в мозгу и открыть его для прямого внушения; что боли в паху на самом деле нет и никогда не было, что она внушена ему точно так же, как и приказания голоса, — и именно поэтому от несуществующей боли не помогут ни врачи, ни лекарства; что из ловушки нет выхода… Еще Алекс понял, что все последние годы — а не только сегодня, схваченный неведомо кем за мошонку — он занимался вовсе не тем, чем хотел. Что, например, ему совершенно не нужны и неинтересны прилежно трахаемые почти каждую ночь мочалки, что он давно, года три, не меньше, любит Аделину и что…
Тут трос натянулся.
И увлек Алекса в бездну.
Человек, уверенными движениями разорвавший бумагу свертка, остался Александром Шляпниковым уже в весьма малой степени.
В свертке лежали гранаты Ф-1, в просторечии именуемые «лимонками». Пять штук. Детонаторы отдельно, каждый завернут в свою промасленную тряпочку. И гранаты, и детонаторы были старые, копаные. Однако ржавчины на них не осталось — отмочена в керосине и счищена. Но металл изъязвляли ямки разной глубины от ушедшей коррозии.
Гранату, выглядевшую лучше других, похожий на Алекса человек сразу отложил в сторону.
2
Кравцов мчался к месту встречи, нарушая все правила и ограничения скорости. В результате пришлось ждать минут двадцать, высматривая на ведущем из Питера шоссе знакомый «сааб» — пепельница наполнилась сигаретами, закуренными и тут же потушенными.
Паша подъехал не на «саабе». Огромный черный джип, взвизгнув покрышками, остановился рядом с «Антилопой». Человек, сидевший за рулем, был Кравцову незнаком. С переднего пассажирского места вышел Козырь — как показалось, до странного медлительно. Кравцов метнулся к нему.
— Как все произошло? Куда смотрела твоя трахнутая охрана? — набросился он на Пашку.
— Поехали вместе. Но пути расскажу, — медленно сказал тот. И попытался сесть за руль «Антилопы».
Тут же рядом возник водитель джипа. Именно возник — только что сидел там и как-то вдруг оказался рядом. Сказал жестко, взяв за рукав:
— Нет, Павел Филиппович. Хотите ехать вдвоём — езжайте. Но вы — пассажиром.
Кравцов при одном взгляде на этого человека догадался: он, «охотник». На вид совсем не супермен-Терминатор: лет тридцати, худощавый, среднего роста, узкий в кости. Но сомнений не возникало. Кравцов лишь сейчас осознал — не разумом, а убедившись воочию, — что значат часто употребляемые романистами слова: «глаза убийцы».
Пашка спорить не стал. Неловким, угловатым движением сел на пассажирское место. Кравцов уже понял, что его друг пьян — внешне не слишком заметно, но весьма сильно.
Это казалось странным и диким. Козырь даже много лет назад — когда лихо выпитый стакан портвейна считался в их компании признаком взрослости и мужественности — пил более чем умеренно. И ныне не злоупотреблял… А когда говорил о спившихся былых дружках-приятелях, в голосе слышалась ничем не прикрытая брезгливость.
«Антилопа» неслась в Спасовку. Джип «охотника» держался сзади. Пашка говорил медленно, без всякого выражения:
— Около одиннадцати ей позвонили. Поговорила, сказала охранникам, что должна отъехать на часок по моей просьбе. Посадила детей в свою «Оку» и уехала. Я ей не звонил. И никого другого не просил.
Кравцов ничего не понял.
— Постой… Почему тогда похищение? И чем, вообще, там занимались эти орлы из охранного? В нарды играли?
— Действовали п-по инструкции, — сказал Козырь так же медленно, споткнувшись языком на простом и коротеньком слове. — Один поехал с ней, второй остался смотреть за домом. Через час никто не вернулся. Через полтора — тоже. Оставшийся м-мудак позвонил своему коллеге на мобильный… Тот не ответил. Вопреки всем инст… инструкциям. Тогда он связался со мной.
— До Наташи ты пробовал дозвониться?
— Телефон отключен или вне зоны приема.
Оставалась надежда на совпадение, вызванное хреновыми нашими дорогами, хреновым роумингом, хреновой надежностью хренового автомобиля «Ока» или ещё хрен знает чем…
Пашка, похоже, был абсолютно убежден в обратном.
— Это Сашок, — сказал он с апатичной уверенностью. — Воскрес. И пришел забрать меня — туда. Знает, что я сам пойду — за Наташкой и пацанами…
Кравцов поморщился. Не стоило Козырю пить, несет полную ахинею. Призраки по всем канонам материализуются и дематериализуются, но никак не ночуют в пещере на Поповке. И не снимают вполне материальной тряпкой смазку со своего призрачного оружия.
Но Пашка продолжал твердить о воскресшем мертвеце.
— Прекрати, — сказал Кравцов. — Сам же говорил: не видел ни могилы, ни свидетельства о смерти…
— В-видел. Уже видел. Посмотри и ты. — Козырь полез в карман и извлек какую-то помятую бумагу.
Кравцов, не отрываясь от руля, мельком взглянул на нее. Ксерокопия свидетельства о смерти Зарицына Александра Евгеньевича. Значит, все-таки не Сашок? Версия о деревенских недоброжелателях Козыря отпала сегодня утром — найдись таковые, незачем им прятаться в пещере.
Тогда кто же?
3
«Антилопу» они поставили у Пашкиного дома, во дворе. Дальше поехали втроем, на джипе. Охранник— не «студент», а его коллега — продолжил нести вахту. Выглядел он понуро, как упустившая дичь собака. Судя по презрительной мине, «охотник» — откликался он, не чинясь, на имя Костик — не видел особого толку от этого пополнения. Он, собственно, и Пашу с Кравцовым не хотел брать с собой, но те настояли.
Последние полчаса Костик (Кравцов подозревал, что в детстве его звали совсем иначе) не отрывал от губ рацию, лихо управляясь с джипом одной рукой. Из кодированных фраз было ясно лишь одно — на «охотника» работает немалый штат загонщиков и поиски синей «Оки» уже ведутся в круге с постоянно расширяющимся радиусом.
Ехали они по шоссе в сторону Гатчины — по словам оставшегося охранника, именно туда свернула «Ока» Наташи. Ехали на этот раз не быстро, несмотря на все нетерпение обоих пассажиров. Костик внимательно поглядывал по сторонам. Короткие прогоны и разбитые тракторами грунтовки ему достойными внимания не казались. В общем, логично, — далеко по глубокой грязи «Ока» с её хилым движком и низкой посадкой не уедет.
На выезде из Спасовки дорога разветвлялась. Шоссе шло прямо, к Гатчине, а довольно приличная асфальтированная дорога отходила вправо — насколько знал Кравцов, тянулась она через недалекую деревушку Марьино куда-то дальше.
Здесь Костик призадумался, остановив джип. Сказал не то Паше с Кравцовым, не то просто мысля вслух:
— На Киевское шоссе я, положим, и на «Оке» бы успел выскочить, до того как «невод» растянули. Но если её куда-то выманили — какой ей смысл устраивать экстремальные гонки? Опять же, как я понимаю, Павел Филиппович, и ваша жена, и главный подозреваемый хорошо знали ближайшую округу?
Паша — на вид несколько протрезвевший — кивнул головой.
Кравцов счел нужным вмешаться:
— Вы в курсе, что этот самый подозреваемый — мертвец?
Костик невозмутимо кивнул и тронул машину с места — по направлению к Марьино.
— Мне приходилось видеть людей, которые числились лежащими на кладбищах, — пояснил он. — Попадались достаточно бойкие и прыткие. И немалых сил стоило превратить их в настоящие, никому не опасные трупы… В общем, чует мое сердце, что выманивал наш «покойник» их куда-то недалеко, где знает местность досконально…
Паша сидел с мертвым лицом. Кравцову тоже стало не по себе от уверенного тона Костика. Задавать вопрос: зачем выманивал? — не хотелось. Чтобы не получить такой же спокойный и уверенный ответ…
Костик, похоже, уловил их настроение:
— Не паникуйте раньше времени. Насколько я смог оценить кондиции вашего скуловорота — грамотный человек мог легко порубать двоих таких на шашлык. А затем устроить в доме всё, что душе угодно. Без нужды планы никто и никогда не усложняет. Значит, спектакль с ложным звонком преследовал какую-то цель. Значит, нужны были живыми…
Звучало все разумно и успокаивающе, но успокаивало мало…
Марьино они проехали быстро, большими размерами деревушка не отличалась. На выезде из деревни увидели двух колоритных персонажей: мужички средних лет сидели на чурбачках, в тенечке. Между ними на ящике стояла трехлитровая банка с пивом, наполовину пустая, и лежала кое-какая закусь. Банки меньшего размера служили кружками.
Судя по четырем валявшимся рядом опорожненным трехлитровкам, обстоятельный разговор мужичков длился давно,
— Должны были видеть, — сказал Костик. Остановился, вышел, торопливо направился к расслаблявшимся душой и телом.
Заданного вопроса Кравцов из машины не услышал, зато увидел, как по лицам любителей пива поползли глуповато-радостные улыбки. И с тоской понял, что сейчас «городскому» начнут вешать развесистую лапшу на уши.
Он недооценил Костика. Никакого видимого глазу движения тот не сделал, но один из мужичков отлетел в сторону вместе со своим чурбаком. Тут же словно сама собой раскололась на куски банка с пивом, а её горловина с торчащим длинным острым языком стекла оказалась в руках Костика. И тот явно — и нетерпеливо — решал, в какое место воткнуть сей предмет оставшемуся сидеть индивиду.
Индивид попался понятливый. Говорил что-то, мелко кивая головой, и для верности показывал направление рукой.
Костик отшвырнул стекляшку, вернулся за руль. Нельзя сказать, что Кравцова восхитили его методы сбора информации, — но, скорее всего, ничто иное в данной ситуации не сработало бы.
— Проезжали, — ответил Костик на их немые вопросы. — Достаточно давно. Вроде четверо, но эта инфузория не уверена…
Синеющую сквозь кустарник «Оку» они увидели в низинке, километрах в четырех от Марьино. Машинка оказалась аккуратно, задом, втиснута в самую гущу ветвей. Внутри никого.
Пашка выскочил, не дожидаясь полной остановки джипа, побежал. Кравцов — за ним.
— Стоять!!! — рявкнул Костик.
Столько было в его голосе яростной силы и привычки командовать, что оба мгновенно остановились. Казалось — еще шаг, и в затылки им полетят пули.
Костик оказался рядом. В руке — короткоствольный пистолет-пулемет неизвестной Кравцову системы. Впрочем, его знания об иностранных стреляющих предметах основывались в основном на каталогах и справочниках. Но он сильно подозревал, что «Закон об оружии» никак не дозволяет частным охранникам и розыскникам владеть подобными скорострельными игрушками.
— Значит так, Павел Филиппович, и вы, господин писатель, — зло сказал Костик. — Здесь не бизнес и не роман. Здесь моя работа. Еще раз сунетесь вперед без спроса — пошлю на хрен вас вместе с авансом. Держаться сзади и выполнять все команды! А пока — стойте, где стоите.
Он приблизился к «Оке» скользящим кошачьим шагом, заглянул внутрь. Приоткрыл дверь водителя — чуть-чуть, на сантиметр, не более. Проверяет, нет ли растяжки, догадался Кравцов, в таких вещах он разбирался не только как автор криминально-мистических триллеров. Во время двух чеченских войн — да и между ними — вокруг их объекта случалось всякое. Местные единоверцы-мусульмане, в том числе из чеченской диаспоры, выражали солидарность с народом Ичкерии. И снайпера постреливали, и фугасы взрывались…
Растяжка не обнаружилась. Костик распахнул дверь, подозвал их жестом.
При первом же взгляде внутрь «Оки» Кравцову стало тошно. Водительское сиденье оказалось залитым кровью.
4
Чета Казицких не проживала в Спасовке. Ни постоянно, ни выезжая на лето. Равным образом у них не имелось здесь знакомых или родственников.
Можно сказать, что они очутились на берегу безымянного круглого озерца случайно — единственно вследствие того, что мадам Казицкой взбрело в голову: у её ненаглядной Патти вид не совсем обычный. Нездоровый. Не иначе как малышка плохо переносит дорогу в жаркий день. И совершенно необходимо остановиться и дать возможность девочке подышать свежим воздухом и размяться на травке.
У Анатолия Сигизмундовича Казицкого отнюдь не вызывали восторга сублимированные материнские чувства супруги. А Патти — страдающую ожирением болонку — он тихо ненавидел, тщательно скрывая свои чувства. Обладающая на редкость стервозным характером собачонка вполне того заслуживала. И отвечала мужу хозяйки полной взаимностью.
Но спорить с женой Казицкий не стал. Давно отвык за годы семейной жизни. Да и от проклятой сучки стоит ожидать всего: легко может нагадить на новенький чехол сиденья. А виноватым, конечно же, окажется именно он…
В общем, как только в стоящих сплошной чередой вдоль шоссе сельских домишках мелькнул разрыв, Анатолий Сигизмундович свернул туда. Подрулил к берегу, приглашающим жестом повел рукой: пожалуйста, вот вам травка, вода, всё, что душе угодно…
Мадам сморщила нос, неодобрительно поглядывая на стоящую в отдалении технику и наваленные железные конструкции, красоты пейзажу действительно не добавлявшие. Её любимицу подобные мелочи не смущали — соскочила с рук хозяйки и бодро потрусила обследовать окрестности. Но нужду справлять не спешила — не иначе как злонамеренно приберегала силы для нового чехла. Подбежала к урезу воды, что-то там выискивала-вынюхивала.
Анатолий Сигизмундович провел за рулем несколько часов — ехали они из Пскова, супруге вдруг приспичило посмотреть своими глазами на кульминацию Трёхсотлетия. Самому Казицкому её идея привлекательной не казалась, он считал, что подобные зрелища на экране телевизора смотрятся куда лучше, — много ли разглядишь из густой полупьяной толпы?
Он прошелся туда-сюда, сделал несколько наклонов и приседаний, разминаясь перед последним этапом пути. Потом неожиданно заинтересовался обнаруженной в густой траве двутавровой железной балкой, один конец которой венчался бесформенным комом бетона… Судя по всему, когда-то сия мощная железяка была вкопана в землю, залита раствором и служила опорой для некоей конструкции. Но кто-то впоследствии перекрутил балку на манер сюрреалистичного кривобокого штопора. Интересно, зачем? И каким способом? Казицкий, инженер-металлист по профессии, попытался представить необходимое для этого оборудование, — и не смог.
От решения инженерной загадки Анатолия Сигизмундовича отвлекли истеричные крики супруги:
— Патти, где ты? Где моя девочка? Иди скорей к мамочке!
Он поднял голову. Мадам драла глотку, стоя неподалеку от машины с косметичкой в руках — очевидно, только что закончив устранять какие-то неполадки в макияже. Гнусной собачонки не было видно. Слабая надежда шевельнулась в груди Анатолия Сигизмундовича…
А спустя пять минут началась истерика — и скоро достигла двенадцати баллов по шкале Бофорта. Патти исчезла. Казицкий решил поначалу, что зловредная сучка прижалась где-нибудь к земле, маскируясь травой и неровностями почвы, — и попросту над ними издевается. Но все поиски результата не дали.
Лишь у самого края озера Анатолий Сигизмундович обнаружил клочок пепельной шерсти, намокший и слипшийся. Он не был уверен, что шерсть принадлежала Патти. Но торопливо, пока не заметила жена, втоптал её в прибрежную грязь.
Затем сказал спокойно и рассудительно:
— Скажи, Наденька, а у нее… хм… В общем, у нее не было течки?
Супруга задохнулась негодованием. Какие еще течки у её девочки? Несмотря на горячую любовь к Патти, в некоторых физиологических особенностях сучьего организма мадам Казицкая не разбиралась абсолютно. В диетах для собак, кстати, тоже — недаром юная болонка напоминала кусок сала, переваливающийся на четырех ножках.
Муж, стараясь выражаться обтекаемо, пояснил, что в иные периоды своей жизни собаки склонны забывать о хозяевах, влекомые инстинктом продолжения рода.
Мысль о том, что сейчас её девочка занимается продолжением рода под каким-нибудь деревенским плебеем-кобелем, привела мадам Казицкую в ужас.
— Анатолий, мы никуда не едем! Мы будем спасать Патти!
Супруг вздохнул. Трёхсотлетие, пожалуй, отменилось. Но предстоящее развлечение ничуть не лучше… Он тоскливо посмотрел на озеро. Поодаль от берега что-то будоражило поверхность воды, явно что-то живое. Похоже, рыбы тут полно, подумал Казицкий. Не иначе карпов разводят, недаром ограду возводить начали… Крупные, ишь как воду колышут… Рыбалкой Анатолий Степанович никогда не увлекался, но в последнее время все чаще подумывал: может, стоит заняться? Целый день на природе, в тишине, вдали от жены и паскудной собачонки… Заманчиво.
— Ну что ты стоишь, Анатолий? Делай что-нибудь!
Он снова вздохнул и поплелся делать что-нибудь…
Поверхность озера тем временем успокоилась. Лишь кое-где зеркало воды морщила рябь. Легкая рябь…
Тот, кто сидит в пруду — III.
Леша Виноградов. Лето 2000 года
Она меня отравила, думал Лёша, понуро сгорбившись за рулем и напряженно сощурившись — старые очки оказались на пару диоптрий слабее, чем нужно, и глаза отчаянно болели. Точно отравила, других вариантов быть не может. И точно она — работала ведь фармацевтом, прежде чем податься в эту непонятную многоуровневую торговлю.
ЛСД или другие синтетические аналоги — все симптомы налицо, один к одному: яркие и совершенно жизненные галлюцинации наяву, другими людьми, естественно, никак не видимые…
Но зачем?
Избавиться от надоевшего зятя могла и проще — выгнать из квартиры, и все дела, Лёша у нее не прописан…
Побоялась, что уйдет и Ирина?
Хм-м… Все, конечно, может быть… Уговорить развестись с загремевшим в дурдом мужем, наверное, проще. В четверг, после эпопеи с насосом, Лёша вполне созрел для психушки…
А что будет сегодня при виде проклятой ямы? Телефон под рукой, недолго вызвать спецтранспорт — и в Саблино с песнями… Или куда там сейчас буйных возят…
Женщины щебетали о своем на заднем сиденье и не обращали на его молчаливые раздумья никакого внимания — то есть вели себя вполне естественно, не проявляя ни малейшего подозрительного любопытства. Тёща живописала подробности недельного отдыха на даче у подруги, жена задавала заинтересованные вопросы, параллельно с неприязненным любопытством поглядывая в окно — в Спасовку ехала в первый раз, да и вообще за городом бывала редко.
Судя по мимике, окрестные пейзажи Ирину раздражали — хотя, похоже, её бесил субботний вояж еще задолго до выезда из дома.
Инициатором поездки выступала Елизавета Васильевна, всерьез заинтересовавшись идеей сплавить молодую чету в деревню. Посему, закончив описание отдыха, она, наоборот, начала вслух восхищаться открывающимися видами. Тёщу умиляло все: и живописно разваливающиеся избушки; и, напротив, выросшие на задах старых участков новенькие двух-трехэтажные виллы с готическими башенками; и торопливо пересекшая дорогу стайка белых гусей; и невысокие сельские водонапорные башни, в местах побогаче — крашенные серебрянкой, в остальных— буро-ржавые; ветеранам Второй мировой они наверняка напоминали немецкие гранаты с длинной ручкой, а психоаналитику-фрейдисту Саульскому… ну, всем известно, что напоминает фрейдистам большинство окружающих их предметов…
Голову Лёше сверлила странная мысль: наверное, его чувства, когда ногу сдавила тугая петля проволоки, были сродни ощущениям водных обитателей, накрываемых розовой марлей Лёшиного сачка. Тогда, в далеком детстве… Интересно, сходят с ума тритоны и жуки-плавунцы? Все может быть… Если есть какая-то нервная деятельность, какие-то поведенческие реакции — отчего бы не быть и их расстройствам… Но вот тёщами шныряющая в воде мелочь не отягощена, это точно.
Ладно, мрачно подумал Лёша, дорогую тёщу недолго проверить, есть у меня одна идея…
* * *
Женщины выгрузились из машины и медленно двинулись по участку, продолжая гнуть начатую еще в дороге линию: тёще всё нравилось, а её дочь воротила от всего нос, один раз даже довольно ехидно намекнув, что они с мужем, так уж и быть, готовы уступить столь приглянувшуюся дорогой маме недвижимость — в обмен на городскую жилплощадь, разумеется…
Лёша благоразумно не вступал в дискуссию, отперев дом, держался поодаль и, нервно переступая с ноги на ногу, выжидал: пойдут к водоему или нет?
Не пошли — постояли на крыльце и зашли внутрь дома, продолжая о чем-то спорить… Он опасливо выглянул из-за дальнего угла сарая — у пруда все мирно и спокойно, ничего подозрительного. Правда, имеет место маленькое изменение в окружающем пейзаже — неизвестно куда испарился весящий два центнера насос-«лягушка».
Исчезновение поначалу не произвело особого впечатления — насос, как и Лёшин мохнатый приятель Бобик, вполне мог быть плодом заботливо подсыпанных тёщей в сахарницу галлюциногенов… (Точно! Именно в сахарницу — гости к ним не ходят, а Ирка в своей борьбе за здоровый образ жизни к «белому яду» не прикасается.)
Потом, однако, Лёша кое-что вспомнил. Вернулся к «четверке», пошарил в бардачке. Достал сложенный вчетверо лист тонкой желтоватой бумаги — товарно-транспортную накладную на «лягушку». На вид — совершенно реальная бумага, шуршит в руках, на галлюцинацию никак не похожа, печать вот круглая: ЗАО «ЛенспецСМУ-25», в углу три масляно-грязных отпечатка пальцев, оставленных перевозившим агрегат шофером…
Спрашивать жену или тем более тёщу, видят ли они сей документ, не хотелось — первый шаг к психушке, понятное дело.
Лёша оторвал краешек накладной, свернул трубочкой, чиркнул зажигалкой… Поколебавшись немного, сунул в желтый огонек палец — заорал, уронил мини-факел, затоптал торопливо, долго дул на вполне материальный и жутко ноющий волдырь. Разозлился сам на себя: совсем ты, мужик, дошел! Да сперли твой насос, обычное дело. Увидели, что плохо лежит, — и укатили ночью, в хозяйстве вещь полезная…
Злость на себя, на жену, на тёщу, на проклятого прудового жителя нарастала, и он торопливо пошагал к крыльцу, пока не прошел боевой запал этой злости…
— Алексей, вы не видели мою сумку? Она лежала здесь, на крыльце… — Тёща вышла из дома с недовольным выражением лица, похоже, так и не договорившись ни о чем с дочерью.
— Я… Её… — промямлил Лёша, вытирая холодную испарину со лба, — я её туда… к пруду снес…
— Зачем? — Тёща удивилась совершенно искренне.
Понятно… Всё правильно, почем ей знать, где и откуда полезут вызванные её отравой призраки — из пруда или из городской канализации…
— Я… ну думал… может, перекусим… ну на свежем воздухе…
— Зря вы так думали, — ледяным тоном отрезала Елизавета Васильевна, обладавшая незаурядным даром без единого грубого слова дать Лёше почувствовать, какой он кретин, дебил и полный дегенерат… И уверенной, быстрой походкой пошла за сумкой, не снисходя до просьбы принести обратно.
Лёша злорадно смотрел на её летний брючный костюм и шляпу с неимоверно широкими полями. По случаю выезда в безлюдное загородное местечко теща позволила себе некую экстравагантность в наряде, и сказать, что цвета её одежды были кричащими, — ничего не сказать. Они не просто кричали — они истошно вопили, пронзительно свистели, подпрыгивали на месте и размахивали конечностями. А воздействием на сетчатку глаза не многим уступали светошумовой гранате «Заря».
Если тот, кто сидит в пруду, реагирует на внешние раздражители не только в лице Лёши, то… Но и он внес свою маленькую лепту — осторожно положив на дальнем берегу сумку и отойдя на безопасное расстояние, зашвырнул в пруд два кирпича…
Тёща обходила пруд, стараясь не наступить на кучки гниющих водорослей. Лёша, затаив дыхание, следил за нею и сам не знал, чего хочет больше — чтобы все оказалось его горячечным бредом или…
* * *
— Мама?!
Ирка все-таки что-то услышала, находясь в доме. Плеск воды? Сдавленный крик, перешедший в бульканье?
— Виноградов, где мама?
Глаза её метались по участку, как два напуганных крысенка.
Он медленно повернулся к жене, выпрямившись во весь рост, развернул плечи и ответил после тяжелой паузы:
— Разве я сторож маме твоей? И у меня есть имя.
Сделал три уверенных шага к крыльцу и повторил раздельно:
— У меня. Есть. Имя.
Ирина смотрела на мужа сейчас (и всегда!) сверху вниз, она вообще была на четыре сантиметра выше, но под его давящим взглядом из-под очков сжалась, ссутулилась, отступила назад, сказала неуверенно, прислонившись к двери:
— Ты чего, Вино… Лёша?
— Ничего, все в порядке, — жестко улыбнулся он углами губ, поднимаясь по ступеням. — Пошли в дом. В наш дом.
* * *
Конечно, ничего этого не было. Все это Лёша представил, пока тёща возвращалась от пруда с сумкой. А Ирка действительно выскочила на крыльцо с ледяным лицом. Лёша попытался принять тот суровый и мужественный вид, который только что вообразил: напряг скулы, стиснул кулаки и распрямил узкие плечи— и тут же скривился, сдавив невзначай ноющий волдырь ожога.
Ирина не обратила никакого внимания на его мимические попытки, прошла к машине, не глядя ни на мать, ни на мужа.
— Запирайте дом, Алексей. Мы уезжаем. — Елизавета Васильевна явно не собиралась посвящать его в подробности разговора с дочерью и в детали принятых (или отложенных?) решений.
— Но ведь… мы ведь еще… постройки… теплица, фундамент для бани… — залепетал Лёша вовсе уж невразумительно.
— Мы уезжаем, — повторила тёща с плохо скрытым презрением.
Если бы кто-то сказал этой высокой, моложавой, абсолютно спокойной женщине, что зять подозревает её в отравлении (его? этого слизняка?) — она смеялась бы долго, весело и искренне. Ну и возомнил зятек о себе; да чтобы растереть такого в порошок, достаточно одного слова и короткого взгляда — а потом хорошенько проветрить комнату…
* * *
С этим надо кончать. С этим надо кончать, — твердил Леша про себя два последних дня. Не конкретизируя, впрочем, с чем надо кончать: с такой вот непутевой семейной жизнью, с осточертевшим обществом тещи или с тем, кто живет в пруду. Наверное, он имел в виду всё сразу. Но начать решил именно с пруда.
Последняя попытка должна стать окончательной. Довольно. Хватит. Где бы ни была проклятая яма — в его мозгу или на дедушкином огороде — сегодня и сейчас он с ней покончит. Убьет всех таящихся на дне призраков и засыплет самосвалом песка, если надо — двумя самосвалами. А потом разберется и с другими проблемами. Пришло время.
Он поднес огонек зажигалки к кембрику, плотно набитому спичечными головками — в воде такая штука горит никак не хуже бикфордова шнура. Кембрик исчезал в недрах толстой трубы — корпуса старого автомобильного насоса. Чтобы снарядить это оружие возмездия, пришлось вспомнить все навыки пиротехника-любителя времен средних и старших классов (а нынешние, ха! — так вот не смогут, куда уж им, избалованы китайскими ракетами да петардами…).
Но основная убойная сила отнюдь не в насосе, он только должен привести в действие главное оружие — плотно забитый, загерметизированный корпус с четырех сторон сжимали крутые бока здоровенных, двадцатипятилитровых бутылей толстого стекла. Бутылей с концентрированной серной кислотой — центнер с лишним чистого олеума. Или не олеума? С химией у него в школе обстояло еще хуже, чем с геометрией, но не надо быть Менделеевым, чтобы понять: такая доза убьет и растворит всё, что угодно. И кого угодно.
Как он дрожал, покупая эти четыре бутыли! Почему-то Лёша считал, что такое количество кислоты может понадобиться частному лицу для одной-единственной надобности: растворить в ванной и спустить в канализацию нечаянно образовавшийся в собственной квартире (всякое в жизни бывает!) криминальный труп… Надо думать, менеджеры фирмы «Балт-Реактив» придерживались схожих жизненных принципов — и наотрез отказывались продавать кислоты частным лицам.
По счастью, почти на каждом рынке есть неприметный ларечек с надписью: «Печати, штампы, бланки». Приобретенную там за смешную сумму доверенность несуществующей фирмы Леша протягивал дрожащей рукой и заказывал товар прерывающимся голосом. Казалось, где-то под столом сработает потайная кнопочка, и суровые парни в камуфляже поволокут Виноградова А.Н. на предмет выяснения причин потребности в таком количестве убийственной жидкости… И он (а что еще делать?) пригласит их на берег маленького такого, но оч-чень уютного водоёма…
Обошлось. И через весь город кислоту он довез без приключений.
…Содержимое кембрика вспыхнуло, огонь пополз внутрь пластиковой трубки, выбрасывая наружу искры и вонючий сизый дымок — «раз…» сказал про себя Лёша и поспешил (стараясь, однако, не слишком топать) к другому, снабженному противовесом, концу деревянной конструкции, отдаленно напоминающей не то самый древний из шлагбаумов, не то журавль над деревенским колодцем.
Старина Архимед не подвел, закон рычага сработал без осечки — чудовищный заряд, раза в полтора тяжелее своего создателя, осторожно проплыл по воздуху и застыл над самой серединой пруда; аккуратно, без плеска, коснулся поверхности и медленно погрузился почти полностью, над поверхностью торчал лишь дымящийся кембрик.
«Двенадцать… тринадцать…» — дрожащей рукой Лёша выдернул заранее воткнутый в дерево конструкции скальпель. Полоснул по натянутому струной нейлоновому шнуру — тут же, не ожидая падения на дно заряда и реакции на это тех, кто сидел в пруду, — бросился бежать. Не в слепой панике, как в прошлый раз, — заранее выбранным и выверенным маршрутом.
Оказавшись в безопасном удалении, выглянул из-за угла сарая, продолжая отсчитывать секунды. Сработало на тридцать пятой.
Пуф-х-х-х!!!
Не очень эффектно, взрыв сквозь толщу воды донесся негромким глухим хлопком, но бутыли он наверняка разнес, и Лёша знал — сейчас там, у дна, царил ад.
Поверхность вздулась огромным пузырем, потом вздыбилась концентрическими кругами — может, действительно на дне подыхал кто-то большой, а может, просто затихала ударная волна взрыва — отсюда, издалека, разобрать оказалось трудно. Но скоро всё успокоилось — ни единой капли не выплескивалось над зелеными берегами…
Вот и всё.
Так просто. Больше в пруду никто не сидит. Можно зарывать. Ничего и никого живого в этой луже теперь нет. Поделись улыбкою своей — дурацкая песенка крутилась в голове победным маршем.
Лёша улыбнулся — именно так, как не получилось у него в субботу на глазах у жены. Ну, с женой и тещей разговор еще будет…
Выждав для гарантии несколько минут, он направился к пруду неторопливой и уверенной походкой человека, хорошо сделавшего главное и трудное дело…
…Он не ошибся — действительно, ничего живого в пруду не уцелело, а что уцелело — в мучениях издыхало. Но главного Лёша никак не ожидал — пруда как такового тоже не осталось.
Воронка — без воды. Крутые склоны покрыты липкой грязью. Там бьются умирающие, с разъеденной чешуей и выжженными глазами рыбы (надо же, водились ведь и вполне крупные!) — разбрасывают в стороны брызги ила и воды, ставшей внезапно такой жгучей и ядовитой. Одни из рыб замирают навсегда, другие скатываются вниз, на дно… нет, дна у воронки не осталось (или никогда не было?), вместо него— ровный, чуть больше метра в диаметре, круг бездонного на вид провала. Или норы. Или шахты. Или дыры, ведущей непонятно куда и непонятно зачем…
Это куда же я прожег… — оторопело подумал Лёша, затрудняясь определить, что именно он прожег. И тут пришел звук, пришел оттуда, снизу, из глубин дыры, — звук напоминал шкворчание масла на раскаленной сковородке… Если вылить цистерну масла на сковороду с футбольное поле размером.
Бежать!!! — Команда мозга не успела дойти до мышц, все произошло слишком быстро.
В верхней, кое-как освещенной дневным светом части шахты возникла бурлящая, пузырящаяся масса. Не вода, воды в этой жиже было мало — слизистое, неоднородное месиво. Казалось — там мелькают в безумном танце и извивающиеся куски чего-то еще живого, и только что ставшего мертвым, и бывшего мертвым всегда — а может, это лишь казалось. Долго рассматривать не пришлось — чудовищная пушка выплюнула чудовищный заряд. Кошмарный гейзер взлетел над воронкой и тут же опал. Горячая, обжигающая слизь хлынула во все стороны.
Возвращаются назад не только улыбки. Заряды кислоты — тоже.
…Наверное, он рефлекторно успел прикрыть лицо ладонями… или очки спасли глаза… — и Лёша продолжал видеть, несмотря на дикое жжение на лице и руках, залитых кипящей грязью. Инстинктивно рванулся туда, где виделось спасение — к бочке, к старой железной бочке с дождевой водой — скорей окунуться, скорей смыть проклятую гадость, разъедающую одежду и кожу…
До бочки десяток шагов, не больше, но ему казалось, что бежит целую вечность — земля то уходила вниз, то резко бросалась навстречу. Ноги подкашивались, как после непомерной дозы спиртного. Он рухнул на четвереньки, продолжая попытки доползти, добраться, ничего не получалось, и тут сошедшая с ума земля нечаянно помогла — вздыбилась, опрокинула бочку навстречу.
Он жадно нырнул в хлынувший благодатный поток, на секунду позабыв обо всем, что творилось вокруг, — смывал ядовитую слизь и срывал расползающуюся под руками одежду, спасительная река иссякала, он зачерпывал уже с земли жидкую грязь, втирая её в горящее огнем лицо, но это была целительная грязь, спасающая, умеряющая невыносимое жжение…
Когда он наконец смог взглянуть вокруг? — кто знает, секунды не исчезли, просто потеряли всякое значение… — но кипевшее буйство неведомых сил всё еще продолжалось… Сначала в глаза бросились последствия землетрясения (землетрясения? — да чёрт его знает, он никогда не попадал в землетрясения, но ничего иного на ум не приходило, да и некогда ломать голову).
Вставшая дыбом земля, столь удачно опрокинувшая бочку, так и осталась вздыбленной — в виде вала, покрытого глубокими трещинами и разрывами дерна, широкого и невысокого вала — больше всего увиденное напоминало след исполинского, со слона размером, крота, проползшего у самой поверхности.
Вал проходил как раз под старым домом — точнее под той грудой обломков, что осталась от него и от сарая; лишь на отшибе, чуть в стороне, как гнусная издевка стояла совершенно целая дощатая уборная… Плодовые деревья, по корням которых прошел вал, наклонились в разные стороны, два огромных старых тополя у дороги рухнули; асфальт проезжей части вспух неровными, словно обгрызенными, плитами… Там же, у выкорчеванной колонки, бил из разорванной трубы чистый и звенящий родник…
Туда, туда! — жжение вернулось, лицо припекало. Он поднялся на ноги, подземные толчки не исчезли, но ослабли, он приноравливался к ним, как моряк к качающейся палубе корабля… Поднялся и увидел — вспучивший землю вал не закончился ни на его участке, ни на порушенной дороге — уходил, слегка загибаясь, в поле; зацепил наискось участки новой застройки (там что-то горело-дымило и доносились приглушенные расстоянием крики).
Но самое главное — вал продолжал расти!
Крот-гигант продолжал работу со скоростью быстро бегущего человека. Лёша, позабыв про стремление к роднику, завороженно следил, как вспухает, вздыбливается заросшее люцерной поле, как вал приближается к бетонным опорам шестикиловаттной линии — готово, одна накренилась, зависла на вытянувшихся струной проводах («голова» вала проползла дальше) — и рухнула — треск, синие молнии бьют в землю, и она, земля, набухает уже не в длину— неподвижным, растущим в ширину и в высоту исполинским холмом-нарывом…
И тут тряхнуло по-настоящему, тряхнуло так, что всё предыдущее показалось легкой разминкой и прелюдией: земля встала вертикально, зеленой, топорщащейся кустами и деревьями стеной — и тут же рухнула обратно, презирая все законы гравитации — рухнула, чтобы сейчас же вздыбиться снова.
Трещины распахивались хищными ртами. Схлопывались обратно — со всем, что в них провалилось…
Воздух выл.
Лёша попросту отключился на какое-то время — защитная реакция организма, не предназначенного эволюцией для таких свистоплясок, а когда снова включился, всё закончилось и стало совсем иным.
…Он лежал на дне котловины — круглого большого провала в земле, диаметром, пожалуй, около километра — трудно точно определить, где заканчивается всё более пологий склон и начинается первозданное ровное поле. Дом, вернее остатки Лёшиного дома, оказались почти в самом центре котловины, где землю больше всего истерзали разломы и трещины. И из этих трещин начала сочиться вода, с каждым мигом усиливая напор. Она тут же смывала слизь и мусор, мешалась с вывернутой темной землей, превращаясь в мутную жидкость, почти в жидкую грязь, но он видел, что изначально это самая обычная вода, прозрачная и чистая…
Всё действительно кончилось, понял Леша. Того, кто сидел в пруду (да нет, конечно под прудом!) — больше нет.
Сдох, сдох, сдох!!!! Или навсегда сбежал…
Бог знает, кем или чем было это и зачем проковыряло щелку-глазок в стене между мирами… Да и чёрт с ним, пропади оно пропадом…
От таких размышлений — одновременно он зачерпывал сочащуюся под ногами муть и обливал не перестающие припекать лицо и тело — от этого простого и приятного занятия Лёшу оторвала мысль, что скоро он окажется на дне красивого круглого озера глубиной метров двадцать-тридцать. А для заплывов на длинные дистанции сил не осталось…
Лёша поспешил наверх, не глядя по сторонам и не выбирая дороги, и тут же застрял в месиве из упавших стволов, веток и листьев, месиве, бывшем недавно так понравившейся ему осиново-березовой рощицей. Пришлось обходить, вода догоняла, заливала ноги, он уже не видел, куда ступает, пару раз провалился, наступил на что-то острое — и наконец рухнул на траву, оставив между собой и наступающей водой изрядное расстояние.
…Всю котловину новообразовавшийся водоем не заполнил — примерно треть, никак не более. Переставшая прибывать вода образовала круговое течение, быстро затихавшее. По поверхности озера радостным хороводом кружили всплывшие остатки Лёшиного дома, построек и мебели… Извлечение «четверки» без мобилизации водолазной техники представлялось делом малореальным. На пороге своего дома — покривившегося, перекошенного, но устоявшего — стоял дед Серега и, судя по жестам, отчаянно матерился. Откуда-то доносились звуки сирены.
Он подковылял к урезу воды — полуголый, обожженный, с непонятно как уцелевшими очками на носу — одно стекло треснуло. Зачем-то пощупал воду, словно собирался купаться… Растерянно разлепил почерневшие, треснувшие, покрытые запекшейся кровью губы:
— Хрен продашь теперь наследство… Только пруд и остался…
Всё остановилось, застыло — не было даже ветра. Лёша стоял неподвижно. Надо куда-то идти, что-то делать, кому-то пытаться объяснить, что здесь стряслось в прямом и переносном смысле — вместо этого он присел на землю. Сидел — совсем как десять дней назад сидел на берегу крошечного пруда, наблюдая за застывшими у кромки водорослей крошечными карасиками. Пришедшую тогда мысль, что в озерах эти крохи вырастают ого-го какими, Лёша сейчас не вспомнил…
Водоворот затих окончательно. Обломки прекратили свое коловращение. Лишь кое-где мутноватое зеркало воды морщила рябь. Легкая рябь…
Глава 6
01 июня, воскресенье, день, вечер, ночь
1
Пашка-Козырь скорчился в жестоких рвотных конвульсиях, извергая остатки обильной выпивки и более чем скудной закуски. Кравцов стоял рядом остолбенело, не делая никаких попыток помочь, вообще почти не обращая на Пашу внимания.
Наташка…
Наташка мертва… Сознание отказывалось принимать эту мысль, несмотря на очевидные свидетельства трагедии. Нет! Нет!! НЕТ!!! Слишком несправедливо — встретить женщину после пятнадцати лет разлуки, убедиться, что любишь её, спрятать, загнать в подполье чувство — ради дружбы… А потом… А потом — вот так…
Подошел Костик, сказал что-то, Кравцов ничего не услышал и ничего не понял, хотел переспросить, но из горла вырвался только сдавленный и хриплый стон.
— Отставить истерику!!! — гаркнул Костик, как матерый старшина-контрактник на зеленого салагу. — Жива ваша женщина, черт возьми! И дети живы! Отсюда, по крайней мере, ушли своими ногами…
Пашка немедленно разогнулся. И спросил на удивление трезвым голосом:
— Чья тогда кровь?
…Ручеек, сочившийся по дну заросшей кустарником лощинки, к началу лета почти пересох. Но кое-где почва сохраняла влагу, следы там отпечатались хорошо, — не надо было быть куперовским Следопытом, чтобы хотя бы в общих чертах понять произошедшее тут. В принципе и Кравцов с Пашкой могли сами разобраться в следах и прийти к тем же выводам, что и Костик, — если бы сразу не решили, что кровь, залившая «Оку», принадлежит Наташе.
— Суду все ясно, — говорил Костик. — Машина остановилась не здесь — рядом, на дороге. Женщина вышла, прошла вон туда… — Он показал рукой на большой куст краснотала. — Довольно долго там топталась почти на одном месте, надо понимать, беседовала с кем-то. Характерный момент — её собеседник стоял как статуя, совершенно неподвижно, оставил рядом лишь два глубоких отпечатка, и всё. Дети за это время умудрились истоптать всю округу — может, играли в догонялки, может, просто носились по кустам… Из чего делаю вывод: встреча проходила достаточно мирно, по меньшей мере поначалу. Потом все трое ушли — вдоль по лощине.
— А собеседник? — спросил Кравцов.
— Не знаю… — слегка смущенно протянул Костик. — Либо пошел не с ними, либо ступал след в след. Через траву отпечатки неразборчивые… Женщина и дети кое-где наступали на голую землю и глину, так что их обувь идентифицировать легко. Этот же шагал крайне осторожно. Битый волк… — В тоне Костика определенно слышалось уважение — уважение охотника к матерому хищнику, которого тем почетнее найти и уничтожить.
— Чья кровь? — вновь спросил Паша. Выглядел он сейчас абсолютно трезвым.
— Охранника, конечно же… — пожал Костик плечами так, словно вопрос был верхом наивности. — Вопрос, где тело. Из машины здесь его не вытаскивали…
Он обошел вокруг «Оки», внимательно поглядывая по сторонам, вышел на дорогу… Призывно махнул рукой.
…«Студент» лежал в кустах с другой стороны — от дороги туда вел густой красный след. Костюм и рубашка пропитаны кровью, горло рассечено; как показалось Кравцову — аккуратным ударом. Скупым. Экономным. Судя по всему, сюда никто охранника не затаскивал — слепо, не разбирая дороги, проломился сквозь заросли прошлогоднего борщевика. Упал и умер.
— Не приближаться! — предостерег их Костик. — Вы здесь не были и ничего не видели. К чему вам проблемы?
— У него… был пистолет… Он стрелял, сопротивлялся? — спросил Паша.
Костик походкой балерины подошел к мертвецу, двумя пальцами отдернул липкую, тяжелую полу пиджака. Пистолет остался на месте. В кобуре.
— Почему он не стрелял? — недоумевал Пашка. — Почему дал подойти и зарезать себя, как барана?
— Нанесли удар неожиданно, понятное дело. А потом… Я не знаю, о чем думают люди в последние секунды своей жизни, истекая кровью… Полагаю, ничего он уже не соображал и о пистолете не вспомнил. Просто выскочил из машины и бежал от противника, пока мог. Тот за ним не погнался, затолкал «Оку» в кусты, не садясь за руль.
— Что же делали в это время Наташа и мальчики? Могли ведь убежать, спрятаться… — спросил Кравцов.
— Не знаю. Возможно, нападавших было двое. Один, например, разбирался с охранником, другой держал под стволом мальчишку. Найдем — узнаем. Всё, пора за дело…
Костик содрал испачканный кровью чехол с сиденья, скомкал, швырнул назад, на днище салона. Сказал жестко:
— Садитесь и уезжайте. Вы здесь никогда в жизни не были. Наталья Васильевна и дети — тоже. Даже машины — не было. Следы мы затрём… Я вызываю людей и собак. Всё будет в порядке — найдём и освободим. Не впервой. Будьте дома, ждите сообщений. Чехол сожгите.
Пашка и Кравцов попытались спорить, настаивая на своем участии в операции.
— У-ЕЗ-ЖАЙ-ТЕ, — по слогам отчеканил Костик. — Работать придется ювелирно, и любящие мужчины, толкающие под руку, мне не нужны. Вы у хирурга в операционной тоже за спиной бы стояли? Между прочим, мы тут топчемся, а время уходит. Пока вы здесь, я не начну.
Кравцов еще сомневался, но Паша уже шагнул к «Оке». Он знал Костика лучше — и, судя по всему, доверял ему абсолютно. Либо понимал, что спорить с ним бесполезно.
Устраиваясь в тесном салоне, Кравцов подумал, что выражение «любящие мужчины» — во множественном числе — в устах Костика прозвучало несколько двусмысленно. А может, просто показалось.
2
Пашка не находил себе места. Метался по дому, как зверь по окруженному охотниками логову.
Кравцов пытался его успокоить, говорил, что если погоня Костика и не увенчается немедленным успехом — то не затем похититель или похитители всё затеяли, чтобы убить с таким трудом взятых заложников. Значит, будут переговоры, будет торг… И тогда возможны любые варианты.
Все доводы помогали слабо. Кравцов и сам чувствовал их шаткость — прекрасно знал, чем зачастую заканчиваются операции по освобождению заложников. Он машинально, чтобы хоть чем-то занять глаза и руки, взялся за пульт телевизора. По всем центральным каналам Трёхсотлетие громыхало музыкой и пестрело яркими красками. Хотелось шандарахнуть по экрану чем-нибудь тяжелым.
Второй охранник — звали его, как выяснилось, Мишей — сидел, забившись мышкой в угол. Смерть напарника Мишу потрясла. Самоуверенность и сознание собственной значимости слетели с него, как шелуха с зерна. Понял, что пистолет и накачанные мускулы помогут не всегда и не везде, что игра в крутых суперменов закончилась, — и стал обычным растерянным пареньком…
Кравцова томило желание плюнуть на все слова Костика, зарядить ружьё картечью и отправиться на поиски, пусть и бесплодные. Умом понимал: «охотник» прав, помощь дилетантов может оказаться медвежьей услугой, — но хотелось.
Он принес из «Антилопы» так и валявшееся там свидетельство о смерти Сашка, изучил внимательно. И поразился.
Чёрт возьми!
В графе «Причина смерти» значилось: термические повреждения организма, повлекшие за собой разрушения мягких тканей, несовместимые с жизнью.
Вот это да.
Обычно из трех строчек сей графы медики заполняют лишь верхнюю, и то не до конца. Про обгоревшего и потом умершего написали бы: обширные ожоги такой-то степени…
Во что же надо превратиться, чтобы получить подобную формулировку? В головешку? В горсточку пепла? И будут ли проводить сложнейшие экспертизы, чтобы идентифицировать эту головешку или горсточку, оставшуюся от клиента психушки? Сомнительно…
Надо звонить в Саблино. Прямо сейчас. Не важно, что выходной и праздник. Немедленно уточнить подробности пожара, если там был пожар. Расспросить кого угодно, хоть дежурного врача, хоть пьяного санитара… Три года — срок небольшой, должны помнить.
Рабочие телефоны Юрия Александровича Парамонова, главного врача областной психиатрической больницы и старого знакомца Кравцова, остались в вагончике, в записной книжке.
Он сказал Козырю, что ненадолго отлучится, объяснил — зачем. Тот кивнул. Кравцов сомневался, что Паша хоть что-то из его слов понял.
3
На графских руинах — впервые после заступления Кравцова на пост сторожа — наблюдалось оживление. Мелькали люди, все в одинаковых синих спецовках. На охраняемой территории, возле развалин портика главного входа, виднелись «пазик» и грузовик с опущенным бортом — туда пришельцы споро загружали выносимые из дворца мешки непонятно с чем…
Кравцов досадливо удивился. Не время, совсем не время отвлекаться на исполнение служебных обязанностей. Однако решительно и торопливо направился к незваным гостям.
Никакого криминала не выявилось.
Более того, спецовки на спинах гостей украшала аббревиатура Пашкиной строительной компании… А в мешках оказался всего лишь всевозможный мусор, от которого прибывшие очищали дворец, — банки, бутылки, обломки кирпичей. На голове у каждого рабочего красовалась каска.
Седоусый бригадир объяснил: через три недели в графском парке состоится рок-фестиваль под открытым небом. Этакий мини-Вудсток. (Кравцов вспомнил: что-то похожее ему Козырь говорил, рассказывая о своих планах привлечения общественного интереса к «Графской Славянке».) В свете грядущего мероприятия предстоит возвести у пруда временную эстраду и подготовить дворец, куда любители рока, разогревшиеся не только от музыки, всенепременно полезут. Вот и проводится воскресник по очистке территории. Причем, по мнению бригадира, его люди занимаются сизифовым трудом — всё равно после окончания действа развалины будут усеяны опустевшими емкостями из-под напитков разной градусности, использованными презервативами и одноразовыми шприцами…
Старик явно настроился поговорить еще об упадке нравов нынешней молодежи и вспомнить собственную комсомольскую юность, но Кравцову было сейчас не до разговоров.
И он торопливо обогнул дворец, направляясь к сторожке. Взбежал по ступеням крылечка, поковырялся ключом в скважине, распахнул дверь, и…
В грудь ударил живой снаряд, чуть не сбросив с крыльца на землю. Еще один, еще… Кравцов отшатнулся, прикрывая лицо руками. Опять вороны! Птицы вылетали из двери стремительно, как будто томились в заключении долгие годы. Бешеное хлопанье крыльев, карканье… И тут же всё кончилось. Словно и не было ничего. Словно пришло и ушло минутное наваждение, вызванное жарким июньским солнышком.
Кравцов перевел дух. Осторожно заглянул внутрь. Вроде бы незваных гостей больше не осталось… Но что бы ни означал сей сюрприз, кошмаром и наваждением он не был. Кошмары не оставляют после себя на полу перья и пятна помета.
Ну и как это понимать?
Он обошел вагончик, заглянув во все закутки. Никого и ничего. Интересные дела… Путь, которым заявились серые пришельцы, числом около десятка, ясен — открытая форточка в бригадирской. Но чего ради? Никаких взывающих о помощи воронят Кравцов не приносил. Правда, кто-нибудь, знающий о горячих родительских чувствах этих птиц, мог сунуть птенца в форточку… Вот только зачем? Полюбоваться издалека минутным испугом писателя?
Причём, что любопытно, пернатые гости ничем не заинтересовались в сторожке. Все перья и помёт — в коридорчике, у самой двери. Можно подумать, что заявились они с единственной целью — организовать такую вот ошарашивающую встречу…
Он еще раз осмотрел загаженный пол и увидел лежащую чуть в стороне бумагу — всю истыканную и изодранную, наверняка вороньими клювами.
Поднял, перевернул. Записка. Несмотря на понесенный ущерб, вполне можно разобрать три слова, написанные крупными печатными буквами, без обращения, подписи и знаков препинания: «РАКЕТОДРОМ ТРЕТЬЯ ШАХТА».
Еще интереснее. Подсунули под дверь? Или кто-то побывал внутри? Доставил послание и посылочку — птичью стаю? Или же тут сработала воронья почта, на манер голубиной? Но отчего тогда крылатые почтальоны с такой яростью терзали письмо, ни на что иное не обращая внимания?
Кравцов отыскал записную книжку — автоматически, размышляя о полученном послании и обстоятельствах его появления.
Со смыслом записки дело обстояло несколько яснее. Надо понимать, к ракетодромам в Капустином Яру или Плесецке она отношения не имела. В их подростковой компании «ракетодромом» называлось другое, более близкое место…
…Запуски проходили просто. В земле выкапывалась «пусковая шахта» — ровная цилиндрическая выемка, по размерам точно соответствующая «ракете» — старой железной бочке. В глинистом дне «шахты» делалось небольшое углубление и заливалось водой. В воду опускался кусочек карбида — эти камешки обычно выменивали, выпрашивали, а то и подворовывали у строителей. Карбид немедленно начинал пузыриться, выделяя горючий газ ацетилен… В шахту тут же опускали бочку-ракету — вверх дном. В днище заранее пробивалось небольшое запальное отверстие и затыкалось комком глины. Потом приходилось несколько минут ждать, пока ацетилена внутри бочки наберется достаточно, чтобы образовать с воздухом взрывчатую смесь. За это время мальчишки устанавливали в шахты (были они многоразовыми и служили не один год) еще три-четыре бочки. Потом, убрав глиняные затычки, приступали к запуску. Вся компания отходила подальше, а один (обычно им бывал Алекс) приближался ползком и подносил к запальному отверстию длинную палку, обмотанную горящей тряпкой. Газ с грохотом взрывался, бочка взлетала высоко-высоко (так тогда казалось, на деле метров на пятнадцать, много на двадцать), зависала на долю секунды неподвижно — и падала, издавая дыркой в днище пронзительный свист. Алекс отряхивался от земли, разлетевшейся при старте в стороны, и подползал к следующей шахте…
Теперь Кравцова — именно Кравцова — звали на место старых игр. Кто? Сашок? Вполне возможно. О месте запуска тот наверняка знал, ракетодром не был единоличной собственностью лишь их компании. И располагался на пустынном берегу Славянки, подальше от домов и нахоженных троп, в десяти минутах ходьбы от графских развалин… Взять с собой ружье? Не стоит… Едва ли это покушение, скорее приглашение к переговорам.
…Похоже, нынешние подростки, избалованные дешевой и разнообразной китайской пиротехникой, огненные забавы старшего поколения совсем забросили. Пусковые шахты уцелели, но давно пребывали в нерабочем состоянии — глубина уменьшилась вдвое, стенки осыпались, внутри скопился всякий мусор.
Пять шахт — с какой стороны ни считай, третьей получалась средняя. Ни возле нее, ни поблизости никого не видно. Вдали, впрочем, тоже — совершенно открытая местность позволяла следить за Кравцовым разве что в бинокль.
Мусора в третьей — только в ней — не было. И дно выглядело подозрительно рыхлым… Еще одно послание?
Вот и пригодилась недавняя находка — Кравцов осторожно потыкал в землю па дне лезвием складного ножичка как щупом. Есть! Что-то твердое и прямоугольное, сантиметров пятнадцати в ширину и двадцати в длину. Коробка?
Кравцов счищал землю ювелирно, готовый к самым поганым сюрпризам. Временами отрывался, поглядывал по сторонам. Никто к ракетодрому не приближался…
Это оказалось действительно жестяная коробка. Он попробовал поднять её за крышку — тяжелая, однако… Пропустив пальцы снизу, аккуратненько потянул за дно — в шахте раздался не громкий, но вполне различимый щелчок…
Он отпрянул, вжался лицом в землю. Секунда, другая… И тут ГРОХНУЛО. Земля содрогнулась. Над головой пронесся горячий вихрь. Сверху что-то падало, ударяло по спине, по прикрывшим голову ладоням…
Лишь через несколько секунд он понял, что невредим, — и медленно поднялся на ноги. В ушах стояло эхо взрыва, на фоне которого их детские забавы показались бы не громче хлопка в ладоши. Он сделал несколько глотательных движений, пытаясь восстановить слух. Вроде помогло, перепонки не лопнули, и то ладно…
Ловушку установили на дилетантов. Как раз на глупых писателей. Кто-то уложил гранату в небольшую ямку, прижал рычажок детонатора тяжелой, чем-то набитой коробкой — и аккуратно вытащил кольцо. Затем присыпал ловушку мягкой землей. Кравцов попал в «мертвую зону» — и уцелел. Любой другой, не обративший на негромкий щелчок внимания или обративший и побежавший прочь — был бы изрешечен осколками.
Кто же автор этого непотребства? Сашок, решивший вести торг исключительно с Пашей? Едва ли… С трудом верилось, что тот успел организовать и похищение в Марьино, и сюрприз в ракетной шахте… Но теоретически мог. Или кто угодно — из знавших про ракетодром. Вот только при чем тут вороны… В любом случае есть сильное подозрение, что это третье послание Кравцову — после головы Чака и изуродованной фотографии… УБИРАЙСЯ. Хоть куда, хоть на тот свет, — УБИРАЙСЯ.
Вытряхивая из волос комки земли, Кравцов громко сказал, неизвестно к кому обращаясь:
— Не дождешься!
Ответа, разумеется, не было.
4
…Профессионалом Костик считался опытнейшим, и репутация его ни в малейшей мере не была преувеличена. Если бы он двинулся вместе с группой (четыре человека, две собаки) — по следу, ведущему от места находки «Оки» и трупа охранника, — трагедии могло и не случиться. Но кинологи заявили: след стылый, — и Костик, внимательнейше изучив подробную карту местности, занялся перехватом беглецов. (У него крепло подозрение, что Наташа по каким-то причинам отправилась с похитителем добровольно. Хотя клинок, приставленный к горлу ребенка, — причина более чем веская. Но Костик верхним чутьем чувствовал — дело в чем-то другом…)
Судя по карте, беглецы, избравшие (почему?) пеший способ передвижения, от шоссе удалялись. И непременно должны были или выйти на открытые пространства полей (где, возможно, поджидал их какой-то транспорт), или, скрытно продвигаясь всё по той же лощине, описать изрядную дугу и попасть наконец в долину Славянки — именно туда устремлялись наполнявшие весной ручеек талые воды…
За полями наблюдали с самого обнаружения «Оки» — пока без результатов. Костик торопливо выехал в место предполагаемого выхода беглецов в долину — десяток километров по сильно пересеченной местности те быстро преодолеть никак не могли. Он и трое его спутников аккуратно и незаметно расположились, перекрыв лощину; судя по докладам кинологов, регулярно выходивших на связь, дичь шла прямо на засаду.
Стали ждать, расписав партитуру: никаких переговоров, никаких попыток брать живым — валить мужчину издалека, не показываясь, чтобы не успел прикрыться женщиной или ребенком… Время шло. Дичь не появлялась — хотя по всем расчетам давно должна была появиться. Собаки, уверенно держащие след, подходили всё ближе. Никаких сюрпризов, никаких отбивающих чутье снадобий, никаких попыток запутать след, заложить петлю и сделать скидку … Псы шли ходко. Проводники расслабились… И — напоролись на растяжку.
…Из четырех прикрепленных к натянутому авиамодельному корду ископаемых гранат сразу сработали две — третья сдетонировала от них, четвертая вообще просто отлетела в сторону, отброшенная взрывной волной… Но и этого хватило — невредимым остался лишь один человек. Шедший первым умер на месте, двоих ранило — причем одного пришлось срочно госпитализировать (и срочно сочинять легенду о разведенном не иначе как над старой миной костре…). Одна овчарка — наповал, вторую Костик пристрелил собственноручно, не в силах смотреть, как она пытается ползти, волоча выпавшие кишки… И пообещал вслух: так же обойдется с этим гадом. Выпустит требуху, даст поползать — и пристрелит. Уцелевшие поверили, знали: слов на ветер не бросает…
Беглецы же как в воду канули.
Пока разбирались с потерями, пока прибыла новая собака… Выяснилось: установив растяжку, беглецы к засаде не пошли. Тут же покинули лощину — срезали к Славянке километра полтора по открытому месту, полями… Быстрым шагом это составляло пятнадцать минут. Бегом — десять. Как на грех, ни одной патрулирующей поля машины в эти десять-пятнадцать минут поблизости не случилось. Ближайшую Костик отослал сам: доложили о проехавшем невдалеке мотоцикле с одиноким седоком — и он приказал разобраться, кто такой и что тут делает… Мотоцикл, кстати, тоже так и не догнали, — свернул в какие-то буераки, на узкую, непроходимую даже для джипа тропку…
А в долине, у пересекавшей её дороги, — довольно приличной, асфальтированной — след исчез. Не то беглецов ждала машина, не то остановили попутку. На все дороги сил у искавших не хватало. Именно эту, мало кому известную, они не перекрыли…
Костик скрипел зубами. У него появилось иррациональное чувство — что кто-то невидимый следит сверху за всеми его действиями и подсказывает противнику единственно верные ходы… А еще — что запрошенная с бизнесмена Ермакова немалая сумма может и не покрыть всех издержек. Но бросать начатое Костик не умел, как не умеет отворачивать летящая в цель пуля.
Поблизости от места обрыва следа — в полусотне метров, на живописном берегу — виднелись следы совсем свежей туристской стоянки: примятая палатками трава, ямки от колышков, кострище — и огромное количество пустых емкостей из-под пива и всевозможных джин-тоников. В золе костра еще багровели угли.
Костик приказал заодно высматривать и группу людей с рюкзаками — наверняка что-то видели. Во многом это был жест отчаяния, время безнадежно ушло…
5
Сумерки густели, когда Алекс вошел в здание с вывеской «Содружество», расположенное в Павловске, у вокзала.
Вошел, не понимая: зачем его сюда привели ? Голос слышался, но слабо, как далекая, забиваемая помехами радиостанция. Хотя Алекс — он до сих пор считал себя Алексом — заметил в течение казавшегося бесконечным сегодняшнего дня: не то радиостанция стала мощнее, не то сам он прогрессирует в роли приемника…
Никаких эмоций наблюдение не вызвало. Ему было все равно. Утреннее — казалось, с тех пор прошли века и тысячелетия — желание избавиться от голоса исчезло. Как и многие другие желания…
Голос, похоже, не сердился на Алекса за непонятливость. Легкая, ноющая боль в паху оставалась — но, возможно, стала лишь следствием немалых сегодняшних концов, проделанных на мотоцикле по тряским проселкам, а то и вообще по бездорожью.
В длинном здании «Содружества» размещались прилавки продуктового магазина, заодно тут же торговали сотовыми телефонами, фототоварами, давали напрокат видеокассеты… Имелось и мини-кафе со стойкой бара и довольно широким выбором блюд и напитков. Алекс, бывая в Павловске, любил изредка заскочить сюда (кормили достаточно вкусно, и цены на спиртное не поражали воображение) — брал сто пятьдесят с каким-нибудь салатом и устраивался в выгороженном закутке, где стояли три пластмассовых стола и несколько стульев…
Он и сейчас двинулся к стойке, чисто по привычке — что от него требуется, Алекс все еще не понял. Но место за столом занять сегодня было трудно. Закуток, отгороженный автоматами — игровыми, продающими жвачку и еще что-то жизненно необходимое, — оказался переполнен. Стульев для многочисленной компании не хватало — девушки сидели на коленях парней, а те на собственных рюкзаках, небрежно брошенных на пол.
Турьё, неприязненно подумал Алекс. Щенки…
Туристы, действительно, были весьма молоды, слегка грязноваты и более чем нетрезвы. Но это полбеды. Они еще и пели. Под гитару. Очень громко. Прочие звуки заглушались пением напрочь. Покупатели жестами объясняли продавщицам, что им нужно. И те и другие смотрели на веселящихся туристов с бессильной ненавистью, но пресекать безобразие не спешил никто.
Говорят, большинство песен для гитары состоят из трех аккордов. В мелодии, сотрясавшей стены и стекла «Содружества», не было даже двух. Даже одного. Лапища бородатого организма крепко и неподвижно обхватила гриф гитары, другая лупила по струнам, извлекая один и тот же немелодичный, но громкий звук. С каждым ударом во всю мощь молодых нетрезвых глоток звучал один слог «песни». Дикий речитатив складывался в такой примерно текст:
Жил!!! был и!!! гуа!!! но!!! дон!!!
Be!!! com!!! в во!!! семь!!! де!!! сять!!! тонн!!!
И лю!!! бил!!! од!!! ну!!! он!!! пти!!! цу!!!
Пти!!! цу!!! пте!!! ро!!! дак!!! тиП! ли!!! цу!!!
У-Е-О-О-О!!!!
Венчающее куплет «У-Е-О-О-О!!!!» (надо думать, брачный призыв пресловутого игуанодона) компания проревела вовсе уж оглушительно. И продолжила излагать любовную историю юрского периода.
Дальше Алекс вслушиваться не стал. Он понял наконец, что должен сделать. И каким-то уголком оставленного ему сознания обрадовался. Ему постепенно начинало нравиться происходившее с ним…
Он подошел к компании — невзначай, делая вид, что просто направился к выходу и идет мимо. Легким движением выдернул гитару. И — с размаху, в щепки — шарахнул об пол.
После короткого оцепенения его начали бить. Вернее, попытались начать. Туристам — при всем их подавляющем численном преимуществе — помешала теснота: столы, стулья, собственные рюкзаки и визжащие мочалки.
Троим Алекс успел приложить вполне качественно — и один в драку больше не полез, ковылял в сторону, согнувшись и отплевываясь кровью.
Но тут противники сумели перехватить инициативу. Легкий пластиковый стол улетел в сторону, открыв путь наступающим. Еще двое из них протиснулись между игровыми автоматами, заходили сзади, норовя взять в окружение. Алекс проскочил, увернулся от метившего в голову кулака, походя своротил чей-то нос набок — и оказался на просторе зала против десятка разъяренных парней одновременно.
…дец, подумал он, — запинают. Подумал, падая, — ноги подсекли сзади, пока Алекс блокировал незамысловатый, но сильный удар в живот.
И тут же понял, что должен делать.
— Эвханах!!! — завопил он еще до того, как спина хрустко ударилась об пол.
Теперь непонятное слово не звучало тихим выдохом. Теперь оно заставляло трястись стены. Оборванная «песня» была по сравнению с ним негромким бормотанием.
— Эвханах!!! — рявкнул он снова, отскакивая от пола, как каучуковый мячик.
— Эвханах!!! — Ботинок Алекса вмялся, раздавливая и плюща, в бородатое лицо.
— Эвханах!!! — Пальцы пойманной на замахе чужой ладони треснули, ломаясь.
Алекс — сам — так бы не смог. Он — сам — ничего и не предпринимал. Лишь вопил заветное слово, отключившись от управления всеми, до последней клетки, мышцами тела. Всё, что надо, делал за него голос…
Милиция — вызванная барменшей — прикатила на удивление быстро, по случаю трехсотлетия Петербург и пригороды кишели людьми в погонах, навезенными со всего Северо-Запада. Но побоище кончилось еще быстрее — полной потерей двигательной активности одной из сторон. Продавщицы хором обвинили во всем толпу пьяных хулиганов — набросились, дескать, на очень приличного молодого человека, но получили достойный отпор.
Самого Алекса на поле боя уже не было.
Милиция (новгородский ОМОН) оказалась в избытке снабжена и спецтранспортом, и вакантными посадочными местами, — именно в ожидании сегодняшнего, раз в триста лет случающегося, вечера. «Нежности» тоже хватало — той самой, что с металлическим лязгом защелкивается на запястьях.
Начали грузить rope-нападавших, но дело застопорилось, — большинство туристов нуждалось в срочной госпитализации. По Павловску понеслись, завывая, машины «скорой», тоже пребывавшей сегодня в полной боевой.
— Один, говорите… — задумчиво почесал за ухом молодой лейтенант-новгородец, вертя в руках бланк протокола.
Алекс пришел в себя на глухой и темной аллее Павловского парка. С трудом разжал пальцы, уронив под ноги зажатый в них здоровенный клок волос, судя по длине — женских. Вокруг была темнота. Где-то далеко — над кронами деревьев виднелись слабые отблески — грохотал салют. Алекс медленно пошел, сам не зная куда. У него появилось чувство, что сегодня он уже не понадобится…
…Спустя час следов битвы в «Содружестве» не осталось. Двое ребят из бригады Костика осматривали вокзал — проверяли слух о тусовавшейся там куче туристов. Мельком заглянули и в «Содружество» — никого. Видать, уехали, решили парни и в итоге оказались правы.
Желанной информации (злосчастные любители пьяного пения действительно знали: когда, на чем и в какую сторону направились мужчина, женщина и двое детей) Костик так и не получил.
6
Связаться с психиатрической больницей Кравцову не удалось. На звонки по двум обнаруженным в записной книжке номерам никто не отвечал. Возможно, оба аппарата стояли в запертом по праздничному времени кабинете главврача. Возможно, за семь лет номера изменились.
Оставалось ждать вестей от Костика.
До вечера тот выходил на связь трижды, с промежутками около часа. Содержание сообщений оставалось тем же: ищем, след не потерян, — но тон раз от разу становился все мрачнее.
Ближе к сумеркам появился сам — хмурый, злой, но не потерявший уверенности в окончательной победе. Бросил только: «Недооценил я гаденыша…» — и не стал раскрывать подробности. Вместо этого начал задавать вопросы. Много вопросов…
И после получасовой беседы с ним (а говоря начистоту — допроса) Кравцов почувствовал себя, как женщина, возвращающаяся с аборта, — вывернутым наизнанку и выскобленным до донышка. Особенно «охотника» заинтересовали случаи в пещере и на ракетодроме — о них он ещё не знал.
Наконец Костик сложил карту и сказал:
— Все выезды из района прикрыты плотно, а результатов нет. Не знаю почему, но покидать здешние места ваш дружок не желает… Ходит кругами, как привязанный. Значит, скоро заляжет на ночлег — на ногах он вторые сутки. И я до него доберусь. Этой ночью.
Тут у него запищала рация и почти одновременно запиликал мобильник. Переговорив с обоими собеседниками, Костик резко засобирался — опять-таки не желая выдавать подробности предстоящей ночной охоты. Разговоры состояли сплошь из кодовых фраз — Кравцов понял лишь, что кто-то где-то видел каких-то туристов…
7
Народная мудрость гласит: что за семья без урода? Уродом (в хорошем смысле) в крепко закладывавшем за воротник семействе Козырей-Ермаковых был почти непьющий Пашка. Но сегодня гены взяли своё, какой-то внутренний тормоз сломался. Ладно хоть бизнесмен Ермаков не отправился в магазин за дешевым пойлом, — бар у него отличался богатым выбором напитков на любой вкус, Кравцов заметил это еще во время вчерашнего визита…
Вчерашнего?!
С изумлением он понял — действительно, прошло чуть больше суток. Но пропасть между этими сутками пролегла для Кравцова не менее глубокая, чем между 21 и 22 июня сорок первого года для его предков.
Пашка пил.
Пытался рекрутировать в собутыльники Кравцова — тот наотрез отказался. Двоим бойцам (их оставил тут Костик, отправившись продолжать охоту) не стоило и предлагать. Пашка втянул в пагубное занятие Мишу-охранника — Костику тот не подчинялся и отказать принципалу не смог.
Наблюдать за тоскливым зрелищем Кравцов не стал. Вышел на улицу, послонялся по внутреннему дворику, не зная, чем заняться. Думать ни о чём не хотелось.
И тут в кармане запищал вызов мобильника.
Ответив и услышав слабый голос, доносящийся сквозь помехи словно из другой галактики, Кравцов едва не выронил крохотный аппарат. Но не выронил, усилием воли стиснув ослабевшие пальцы.
— Наташка???!!! Ты жива???!!! — Ничего более умного в этот момент ему в голову не пришло.
Она сказала что-то совсем уж неразборчивое, Кравцову и не требовался очевидный ответ — требовалась короткая пауза, чтобы прийти в себя и понять: ЧТО ДЕЛАТЬ??? Ведь могло быть, что она добралась до телефона на считанные секунды…
Он бегом рванул в глубь сада, подальше от дома — сильные помехи для мобильной связи давали как раз рации, которыми пользовались бойцы Костика.
На бегу он сформулировал главный вопрос, который и выкрикнул в трубку:
— Ты где??!! Точно место назвать можешь??!!
Вдалеке от дома слышимость стала на пару порядков лучше. Различались не только слова, но и тон говорившего. Голос Наташи звучал спокойно, печально и очень устало.
— Я в… — начала она и не договорила. — Это сейчас не важно, Леонид. Я просто ушла от мужа. Такое иногда случается.
Он не понял ничего. От мужей жены порой действительно уходят. Но за их спиной не остаются трупы с перерезанными глотками…
Неужели она звонит, глядя на клинок, приставленный к горлу ребенка?
Не похоже… Никак не смогла бы мать в подобной ситуации говорить так спокойно…
Вопросы теснились в голове, Кравцов с трудом рассортировал их, выделив главное. Спросил:
— Что с детьми? Где… тот человек? Это Сашок?
— Дети спят, умаялись. Где Сашок — это действительно он — я не знаю. Мы расстались несколько часов назад.
— Я ничего не понимаю… — признал Кравцов честно и растерянно. — Расскажи по порядку.
— Всё просто. Сашок позвонил, представился, попытался напомнить, кто он, но я и так все прекрасно помнила… Разве забудешь… Предложил встретиться. Поговорить. О чем нам было разговаривать? — так я ему и ответила. Он сказал: есть о чем. Сказал такое, что я поехала вместе с детьми — потому что не знала: вернусь или нет, если всё окажется правдой… Отделаться от наших горилл не удалось, одна увязалась со мной… Я поняла после телефонного разговора: Павел в панике, не знает, что делать, когда и если всё выплывет наружу… И его гориллоиды меня не охраняют но сторожат. В общем, мы встретились с Сашком — и то, что я смутно подозревала все эти годы, подтвердилось. Всё стало на свои места — легко и просто. Я решила не возвращаться, а Сашок помог мне, как он выразился, оторваться … Детям он, кстати, очень понравился. Вот и всё, дальнейшие подробности не важны…
— Ты не представляешь, как рисковала… Сашок — псих. Крайне опасный псих!
— Мне так не показалось, — сухо сказала Наташа. — Тринадцать лет назад у него были причины, чтобы сорваться, — вполне веские. Сейчас он здоров. Его вылечили и выписали.
— Если бы! Он сбежал, имитировав собственную смерть!
— Про это тебе рассказал Павел? — спросила Наташа еще суше. — Я советую, Леонид: если не имеешь возможности проверить, что он говорит, — не верь. Иначе… В общем, кое для кого это плохо заканчивалось. Очень плохо.
Кравцов хотел сказать, что своими глазами видел свидетельство об инсценированной смерти, и вдруг понял: Наташа права, никакой это не аргумент. Он и сам мог бы состряпать нечто подобное, недолго повозившись с ксероксом и с документом о смерти, например, любимой бабушки…
Но ведь было и еще кое-что…
— А охранник? Тот, что поехал с тобой? Ты знаешь, что с ним стало?
— Откуда? Думаю, не дождавшись нас, стал названивать хозяину. И получил от того фитиль за ротозейство…
— Нет. Его убил Сашок. Перерезал глотку.
— Тебе солгали… Сашок никуда не отлучался от меня и детей. И к машине не возвращался.
(Ни Кравцов, ни Наташа так никогда и не узнали, что последним связным зрительным впечатлением «студента-борца» стал заплутавший мотоциклист, наклонившийся к окну «Оки» и спрашивающий дорогу на Спасовку. Потом — на долю секунды — охранник увидел нож, несущийся к его горлу, но сделать ничего не успел. Потом был непроглядный красный туман, мешающий что-либо видеть. Потом не было ничего.)
Кравцов не знал, что сказать. Не похоже, что Наташа лгала… Или прав Костик, предположивший наличие сообщника? Он спросил о другом:
— Что ты собираешься делать?
— Сама пока не знаю… Мне надо осмотреться и многое решить… Десять лет я жила, как за каменной стеной, потом случилось землетрясение, я одна в чистом поле, и за спиной груда обломков… Но к мужу я не вернусь. Если он расплатится за всё, что сделал, — полной мерой — возвращаться будет не к кому. Не расплатится — незачем.
— Да что же такое наплел тебе про Пашку этот Сашок?!
— А ты сам спроси у Павла. О том, как он стал моим мужем…
— Я должен передать ему наш разговор? Или ты сама поговоришь?
— Передавай… Мне всё равно… Звонить я ему не буду.
— Скажи, а…
— Достаточно вопросов, — мягко перебила она. — Я всё равно не смогу на них сейчас ответить… Но я обязательно позвоню, как только что-то станет ясным. До свидания, Кравцов.
Впервые за весь разговор назвав его по фамилии, Наташа отключилась.
Кравцов медленно пошел к дому. Медленно поднялся по ступеням крыльца. Еще медленнее зашел внутрь… В коридоре разминулся с бойцами, тащившими под руки обмякшего и пьяно мычащего Мишу-охранника. Подумал, что Козырь едва ли способен к разговору…
Паша сидел за уставленным пустыми бутылками столом ровно и прямо — сказывалась наследственная закваска. Пожалуй, единственно неподвижный, устремленный непонятно куда взгляд выдавал его состояние.
И Кравцов спросил.
— Да… — сказал Пашка-Козырь медленно и тяжело, словно влача неподъемную ношу. — Я давно любил Наташку… Затем без всякой паузы надрывно выкрикнул: — И не мог видеть её рядом с этим ублюдком Динамитом!!!
Первый Парень — IV
Козырь. Июнь 1990 года
Да, он давно любил Наташку. И не мог видеть её рядом с этим ублюдком Динамитом…
Потом — за тринадцать лет — Пашка убедил себя, что Динамит не был способен кого-нибудь любить. Вообще. Никого. Мог лишь исполнять идиотские, самим собой и для себя установленные правила. Что Динамиту хотелось одного — побыстрее залезть Наташке под юбку, трахнуть эту недотрогу и пойти дальше по жизни легкой походкой Первого Парня… Он и сам не скрывал намерений — по крайней мере, от Пашки-Козыря. Мысль о том, что отчасти это могло быть рисовкой, работой на сложившийся имидж, — Пашка старательно отгонял. Наоборот, за годы Козырь уверил себя: Динамит бы её просто изнасиловал где-нибудь на сеновале (девушки в Спасовке зачастую теряли девственность не слишком добровольно, и до суда такие дела доходили крайне редко) но до поры мешали его дебильные понятия о чести… Однако дело к тому и шло, твердил себе Козырь, терпению Динамита явно приходил конец.
Но это все было потом. Тем летом он просто не мог видеть их рядом.
…Провокацию Козырь замыслил простую и незамысловатую — и тем самым наиболее надежную. Выставил в качестве источника информации неких «пацанов» — ничего, понятно, ему не рассказывавших. Знал — позориться, выспрашивая о таком, Первый Парень не станет. Тем более что спустя три дня Козырь информацию аккуратно дезавуировал, хотя само это слово узнал гораздо позже…
Нет, он не ожидал, что всё обернется кровавой трагедией. Думал, роман Динамита с Наташкой закончится обычным мордобоем. Прекрасно зная и учитывая характеры обоих (особенно гордость Наташки), был уверен: он сначала ударит, потом задумается, но ни за что не признает ошибку… А она — не простит никогда.
Если бы он мог предположить, во что всё это выльется, не раз думал Пашка потом, если бы хоть на минуту мог представить, то…
То, наверное, ничего бы не изменилось.
Он слишком любил Наташку.
Наташа. Июнь 1990 года
Ей от Динамита, утолившего жажду полагавшейся мести расправой с Сашком, досталось гораздо меньше. По крайней мере, выходить из дому в закрывающих пол-лица солнцезащитных очках и штукатурить лицо толстенным слоем косметики не пришлось.
Наблюдательные подруги заметили, что несколько дней Наташка ходила неестественно прямо и когда садилась, то не сгибала спины. Как болезненно она справляла малую нужду (сильно болели отбитые Динамитом почки) и как подозрительно изучала результат этого процесса, опасаясь увидеть кровавые разводы, — этого не видел никто, и никто не слышал, что она при этом шептала. Имени Наташка, впрочем, не упоминала — только обидные и малоцензурные эпитеты.
Ей досталось меньше. Но Наташа не понимала — за что? С Сашком она не была знакома. Может быть, виделись когда-то мельком, не более…
Козырь. Июнь 1990 года
Он сказал Динамиту через три дня после избиения Сашка:
— Тут, кстати, у меня ошибочка вышла. Этот чувак — ну который с солдатиками-то — не с твоей Наташкой уходил, всё пацаны перепутали, а я повторил сдуру. С Лукашевой Наташкой он ушел, с городской, знаешь у бабки её дом с красной крышей, третий от сельпо?
Приятели полулежали на молодой, яркой, еще не успевшей запылиться июньской травке, на пригорке за сельским Домом культуры и умиротворенно попыхивали сигаретами.
— Ну и ладно, — равнодушно сказал Динамит, почти уже позабывший про Сашка. При мысли о безвинно пострадавшей Наташке, впрочем, у него шевельнулось нечто, отдаленно похожее на раскаяние. Но признавать свои ошибки Первому Парню не к лицу, и Динамит добавил:
— А ей пусть будет как аванс, в следующий раз зачтётся…
«Следующего раза» у Динамита не было. Наташу он больше не увидел до самой своей смерти. До завтрашнего дня.
А Козырь остался жить.
Динамит снился ему часто, молчаливый и окровавленный. Мертвый. Приходящий, садящийся рядом. Ничем не попрекающий, просто молча сидящий. Сашок снился реже — точно такой, каким запомнился в зале суда. Словно бы внимательно прислушивающийся к чему-то, не слышному другим. Медленно скользящий по залу — с лица налицо — тяжелым взглядом, внимательным и пытливым, как будто прокурором был именно он, а обвиняемыми все остальные. Когда его взгляд падал на Пашку, — и тогда, на суде, и позже, в сновидениях, — внутри у Козыря что-то болезненно сжималось. Хотя он не был трусом и никогда не бегал от опасности. Да и какая тут опасность? — толстая решетка отделяла скамью подсудимых от зала…
Козырь, возможно, сам не отдавал себе отчета — но тринадцать лет он боялся, что решетка рухнет. Что он наяву увидит этот взгляд…
Сашок. Саблино. Июнь 2000 года
Голос молчал десять лет. Ровно десять. И снова раздался в голове Сашка тем летом. Как раз в тот день, когда Леша Виноградов пытался решить свои проблемы при помощи центнера концентрированной кислоты…
Сашок, естественно, понятия не имел о произошедшем в Спасовке. Он с удивлением слушал непонятные, полузабытые слова. И ничего не понимал. А потом понял. Всё оказалось на редкость просто.
За годы, проведенные в Ульяновке (именно так именовался поселок, где располагалась областная психушка, хотя в народе и говорили: «угодить в Саблино» — по названию ближайшей станции), Сашок сошелся с одним безобидным больным — Колей Лисичкиным. Двенадцать лет назад бригада путевых железнодорожных рабочих обнаружила Колю, измазанного землей до невозможности и шагающего по бетонным шпалам куда-то в направлении Новгорода. Именно по шпалам — ни разу Лисичкин не наступил на промежуток между ними. Покинуть пути он отказался наотрез, уверяя, что немедленно провалится сквозь землю глубоко-глубоко, где нет света и происходят кошмарные вещи… Угодил на лечение с диагнозом «маниакальный психоз».
Сашок считался «тихим» — и тем не менее знал, что никогда не выйдет отсюда. А если и сбежит, то немедленно попадет во всероссийский розыск, никаких шансов уйти от которого — полностью отвыкнув за десять лет от жизни на воле — не будет. Колю же Лисичкина выписывали дважды — вылечив; доказав, что человеку никак не грозит спонтанное погружение в землю. И дважды тот возвращался добровольно — уверенный, что опять проваливается. Даже в залитом асфальтом городе порой не избежать нескольких шагов по открытой почве…
В последнем — почти двухмесячном отсутствии — Коля обзавелся подружкой. А может, и невестой, — кто знает, какие намерения были у этой здоровенной, нескладной, с лошадиной физиономией девахи. Возможно, вполне серьезные, поскольку моталась к нему из города по меньшей мере раз в неделю. Свидания проходили нелегально, в комнатушке, отделенной тоненькой деревянной перегородкой от каптерки завхоза, — там, за стенкой, хранились и краски, и растворитель, и много еще чего, хорошо горящего…
Знал о тайных встречах парочки единственный человек из персонала — санитар Федоркин, продававший свое пособничество за небольшие суммы денег и большие количества дешевой водки. Платила, естественно, девушка— наверное, все-таки лелея матримониальные мысли. Сашку было наплевать на планы подружки Лисичкина. Главное — так сказал голос — ростом и комплекцией она напоминала Сашка. Отдаленно напоминала, но большего и не требовалось. Голос объяснил, что нужно делать. Сашок знал многое о стали и её сплавах, но то, что две порошкообразные краски — серебрянка и железный сурик — в смеси дают термит, плавящий металл и разрушающий камень, стало для него открытием…
…Он шел по ночной Ульяновке. Сзади полыхало и надрывались пожарные сирены. Впереди была темнота. Голос что-то тихо шептал. Все следующие три года Сашок внимательно к нему прислушивался. Но отнюдь не всегда исполнял советы. И лишь один раз, ненадолго, выбрался туда, где голос звучал слышнее всего. В Спасовку.
Сашок. Спасовка. Июль 2000 года
«Мерседес» салатного цвета, плавно покачиваясь, прорулил по Козыревскому прогону и вывернул на шоссе.
Отпрыски на заднем сиденье отталкивали друг друга от опущенного стекла. Радостно и удивленно показывали матери на купающихся в луже гусей — все правильно, росли горожанами в первом поколении. Мать, несколько располневшая, но по-прежнему очень красивая, водворила порядок; стекло поднялось, и машина, набирая скорость, покатила в сторону города.
Рано поседевший человек проводил её взглядом и нехорошо усмехнулся — нескольких зубов не хватало. Он удовлетворенно кивнул — мрачное, совершенно безрадостное удовлетворение. Десять лет терзаемый химией и электрическими импульсами мозг искал ответ на один-единственный вопрос: почему всё так вышло? кто виноват? кто? кто?? кто???
Он нагнулся и поднял лежащий у ног продолговатый сверток — испачканная свежей землей мешковина сгнила и расползалась в руках. Но несколько слоев густо промасленной бумаги уцелели, он с треском разорвал её пальцами. Сталь с синеватым отливом тускло блеснула — надежная и бесстрастная сталь — она никого и никогда не предавала, она много лет терпеливо ждала своего часа.
И дождалась.
Глава 7
02 июня, понедельник, ночь, утро
1
Охотника и дичь всегда связывают некие невидимые эмпатические, а то даже и телепатические узы, — подтвердить это может любой бывалый человек, много походивший с ружьем по лесам и болотам.
Он, охотник, наверняка расскажет немало случаев, подтверждающих данный тезис: и о том, что самая завидная дичь в самых баснословных количествах попадается именно в тот день, когда выйдешь в лес без ружья, — к примеру, за грибами, — птицы и звери не получают какого-то загадочного сигнала от мозга человека, в любую секунду готового послать им вдогонку смерть одним движением пальца, — не прячутся и не разбегаются. Можно услышать рассказы об утках-нырках, мирно плавающих по водной глади и не видящих притаившегося на берегу стрелка, но отчего-то решающих мгновенно нырнуть в тот момент, когда спусковой механизм только-только приходит в движение — и удачно избегающих снопа дроби. Да что там говорить: банальные вороны абсолютно не реагируют, когда делаешь вид, что целишься в них из обычной палки. Даже если выстрогать ту палку в форме ружья и соответствующим образом раскрасить, — не реагируют. Стоит поднять на них настоящее ружьё — тут же улетают, получив от мозга охотника какой-то импульс, с палкой в руках отнюдь не возникающий…
Много подобных историй поведают желающему стрелки и ловцы — обычные, заурядные, ничем не выдающиеся.
Потому что те охотники, которых коллеги считают самыми опытными и талантливыми, самыми умелыми и меткими, наконец, просто самыми удачливыми, — владеют и обратной телепатической связью. Каким-то образом — подсознательно, не отдавая себе в том отчета — чувствуют, что сделает дичь…
На облавной охоте они выбирают номер вроде и неперспективный, но как раз тот, на который выходит рвущийся из оклада зверь. Направляют ствол именно на тот участок водоема, где вынырнет — на короткое мгновение, торопливо вдохнуть и нырнуть обратно — утка. Всегда нажимают на спуск вовремя — за секунду до того, как живая мишень юркнет в нору, в дупло, изменит направление полета или бега.
Костик слыл охотником талантливым и удачливым. Не на животных, на людей, — но всё вышесказанное относилось к нему в полной мере.
Весь остаток вечера он занимался тем, что подсказывала ему логика и опыт многих успешных операций.
И сейчас, ближе к полуночи, запущенная им машина работала полным ходом: три группы грамотных профессионалов методично и последовательно проверяли все места в округе, где противник мог укрыться вместе с заложниками.
Дома — пустующие или снятые на лето малознакомыми людьми; нежилые строения — пустые в июне сеновалы и совхозные овощехранилища, сараюшки частных граждан и подвалы с чердаками многоквартирных домов поселка Торпедо…
Первым делом осмотрели заброшенный сельский Дом культуры «Колос», хоть и стоял он совсем рядом от участка Ермаковых — принцип «темнее всего под фонарем» Костик знал хорошо. Его люди работали, но сам Костик в операции не участвовал. Он отправился — в одиночку — туда, где появления противника с точки зрения логики ожидать никак не приходилось.
На графские развалины.
Это был тот самый «неперспективный номер», который, подчиняясь исключительно интуиции, выбирают опытные охотники — и валят, к удивлению коллег, матерого зверя… Объяснить свой выбор Костик никому не смог бы: развалины казались неподходящим убежищем даже для одного человека, а держать там пленников было попросту невозможно.
Он и не пытался ничего никому объяснять, — и себе тоже. Костик давно отучился бороться со своими иррациональными предчувствиями и искать им объяснение.
…Небо к вечеру затянуло тучами, луна и звезды не проглядывали, а отсвет далеких фонарей едва долетал за ограду «Графской Славянки».
Костик опустил на глаза прибор ночного видения и бесшумной тенью двинулся к развалинам. На вагончик-сторожку — безмолвную, с погашенными окнами — он не обратил внимания. Хотя логика подсказывала: противник, судя по всему, побывал там трижды — и вполне может прийти еще раз.
Но Костика вела не логика.
Он медленно и бесшумно стал обходить руины — ни одна ветка не хрустнула под ногами, ни один каменный обломок не сдвинулся со своего места, — умение ходить беззвучно Костик оттачивал долгие годы.
Органы чувств, напряженные до предела, никакой информации не доносили.
За чернеющими проемами дверей и окон — ни звука, ни отблеска.
Никаких подозрительных запахов.
Ничего.
Ничего, кроме туго, как пружина, сжимающегося внутри ощущения: дичь рядом! Банальное выражение: нутром чую! — являлось в данном случае не метафорой…
Пистолет-пулемет, который Кравцов так и не опознал (австрийский «Штейер МП-69»), Костик держал в руке, на боевом взводе, готовый пустить в ход в любую секунду. Игрушка калибром 9 мм была не из легких, полностью заряженная, тянула больше трех килограммов, но Костик привык, не замечал тяжести и владел ею виртуозно. Глушитель навинчен заранее — ни к чему ночной пальбой тревожить покой мирных граждан.
С обратной стороны дворца, выходящей на Славянку, не хватало изрядного участка стены.
Костик медленно прошел сквозь этот пролом и оказался в обширном, с трех сторон огороженном помещении, тянущемся до самой сердцевины развалин. Над головой темнело лишь ночное небо. Под ногами зияли провалы, ведущие в подвальные помещения. Костик склонился над одним из них, долго вслушивался, затаив дыхание. Ничего.
Он отошел под прикрытие одной из стен, укрылся в нише. В принципе и в центре зала мрак стоял непроглядный, никак не позволяющий разглядеть ночной камуфляж Костика без соответствующей оптики, которой у беглого психа оказаться не должно…
Но противник за минувший день заставил относиться к себе с уважением. Стоило подготовиться к любым сюрпризам.
Тягуче потянулись минуты ожидания. К исходу первого часа Костик подумал, что ночи в начале лета несколько холоднее, чем ему представлялось, но не сделал никакого движения, позволяющегося согреться, стоял как стоял. Еще через какое-то время привычка мозга к логичному мышлению стала помаленьку вытеснять интуитивные предчувствия с захваченных позиций: Костик все больше убеждал себя, что ошибся, что Сашку здесь совершенно нечего делать… Впрочем, все сомнения не мешали ему так же чутко сканировать окружающее пространство.
А потом он услышал.
Негромкий звук, короткий и больше не повторившийся.
Костик задержал дыхание и прекратил даже малозаметные и беззвучные движения, не дающие нарушиться кровообращению…
Что это было?
К тихим шорохам, издаваемым нагревшимися за день, а сейчас медленно остывающими развалинами, он привык и уже не обращал на них внимания. Птица? Крыса? Что-то еще?
Звук повторился. Немного другой. И — несколько ближе…
После третьего сомнений не осталось — по развалинам кто-то шел. Аккуратно — и, скорее всего, не вслепую. С таким же, как у Костика, «ночным глазом».
Не беда. Луч света из небольшого, но мощного фонаря, укрепленного над «Штейером» вместо снятого коллиматорного прицела, мгновенно выведет из строя любую ночную оптику. А не имеющего оптики противника просто ослепит. Проще было выстрелить в темноте, не зажигая фонарь, но тогда оставался шанс завалить непричастного человека, зачем-то оказавшегося в развалинах… Брать маньяка живым Костик не собирался.
Очередной звук раздался совсем близко. Пора, решил Костик, поднимая оружие. Через пару секунд серый, смазанный силуэт обрисовался во внутреннем проеме стены — на противоположном конце зала.
Яркий белый свет разорвал темноту. Пришелец замер. На секунду, не более. Но этой секунды Костику хватило, чтобы понять:
Он!
Вооруженный псих!
Полоса стали, тускло блеснувшая в руке, сомнений не оставляла.
— Эвханах! — громко выкрикнул псих, шагнув к Костику.
Ослеплённым он не казался. И прибора ночного видения на нем не было. Что это значит, Костик не стал задумываться. И что означает странный крик, выяснять тоже не стал. Диалоги перед финальной схваткой хороши в голливудских боевиках.
Костик спокойно и молча выстрелил психу в голову.
И промахнулся.
Вернее, не промахнулся — попал именно туда, куда целился. Просто психа там не оказалось.
Приглушённые выстрелы наполнили ночную тишину. Только впавшие в панику зеленые салаги давят на спуск, выпуская обойму одной очередью, — Костик стрелял одиночными. И в панику не впал, хотя встревожился и неприятно удивился.
Психу давно полагалось лежать на земле, словив головой пулю. Не лежал. Шел к Костику — не прямо, рваным зигзагом, постоянно и мгновенно меняя направление и скорость. Казалось, его голова, тело, конечности живут своей отдельной жизнью, двигаются совершенно независимо друг от друга — и на каждом шаге возникают вовсе не в той точке пространства, в которую собирался попасть их владелец…
Луч фонаря — и пули! — не поспевали за психом.
Костик пытался своим шестым чувством предугадать ритм движений, выстрелить туда, где окажется враг. Нажимая на спуск, каждый раз был уверен — попадет. И каждый раз промахивался.
Лишь раз в жизни Костик видел такое — в исполнении высокого мрачного человека по прозвищу Танцор. И считал, что больше не увидит.
Двадцать пять пуль — вся обойма — ушли в никуда. Псих преодолел три четверти расстояния.
— Эвханах!!! — снова выкрикнул он и двинулся быстрее. Как почувствовал, что патроны кончились.
Костик зарычал сквозь зубы. Менять обойму некогда. Да и незачем… Ладно… Он погасил фонарь, быстро опустив со лба «ночной глаз».
Зрение у психа оказалось феноменальное. Зрачки меняли свой диаметр с невиданной скоростью. Он не потерял способность видеть раньше — неожиданно ослепленный. Не потерял и сейчас, оказавшись в кромешной тьме.
Клинок, невидимый в темноте, вспорол воздух — смертоносным и точным ударом.
Теперь уже Костик продемонстрировал отличную реакцию, отскочив назад.
И ещё раз.
И ещё.
Долго так продолжаться не могло…
Костик быстро отступил на три шага, получив слева и сверху прикрытие — нависший выступ стены. Левой рукой выдернул нож из вшитых на бедре ножен. Новый план родился мгновенно. Не отступать. Пойти на сближение. Удар будет справа. Подставить «Штейер» как щит, а ножом по…
Удар действительно наносился справа — иначе мешали старые кирпичи. Но в какой-то момент клинок мгновенно, словно не подчиняясь инерции, изменил траекторию — и обрушился сверху. Костик почувствовал, как его голова взорвалась с грохотом ядерного взрыва — и этот взрыв мгновенно испепелил в яростной вспышке и графские развалины, и весь окружающий мир… Мира не стало. Костика тоже.
На самом деле череп издал, раздаваясь под напором отточенной стали, лишь негромкое «хрсст…»
2
Во второй половине ночи ветер растянул, разорвал тучи — и ущербный, но достаточно яркий месяц осветил графские развалины.
Бледные пятна лунного света чередовались с тенями. Одни из них, уродливые и густые тени искореженных стен, были неподвижны. Другие — призрачно-прозрачные тени растущих вокруг деревьев — шевелились, двигались, словно по руинам ползали загадочные, почти невидимые существа…
Ещё два темных пятна двигались по внутренней, залитой мертвенным лунным светом стене графских покоев. Два силуэта. И — слышались два голоса.
Один — скрипучий, старческий — был тем не менее полон эмоций.
Другой, казалось, принадлежал человеку без возраста, — и звучал равнодушно и безжизненно.
— Забыл, КОМУ служишь? — негодующе попрекал старик. — Забыл, КТО тебя из дурки вытащил? КТО дал тебе слово и силу?
— Служат пусть собаки, — безучастно ответил собеседник. — Я лишь раздаю долги. И собираю. Долг Козыря будет первым.
— Последний раз говорю: отстань от Козыря! Отстань! Лёнька — ещё здесь. Он — лишняя пешка. Не белая и не черная — серая. Нет ей клетки на доске. Убери её…
— За что мне убивать его?
Старик, похоже, смутился. Металла в голосе поубавилось, появились просительные нотки:
— Не надо убивать… Не спеши… Пусть уедет. Пусть отвалит от девки. Самое главное — пусть отвалит от девки… Она нужна целенькой. Шугани его как следует. Попорти шкуру легонько. Но пусть уедет живым.
— Хорошо. Но сначала — Козырь.
— Отруби ему башку!!! — заорал старик. — Отруби — и дело с концом! По-кх-кх…
Прокатившийся над руинами вопль захлебнулся в приступе кашля.
В ответе собеседника никаких эмоций по-прежнему не звучало:
— Нет. Не так быстро и не так просто. Ему еще есть что терять… И он потеряет всё.
— Смотри, Санька… — В тоне старика сквозила неприкрытая угроза. — Думаешь, тебе терять нечего?
— Я сделаю, что ты просишь … Если ты ответишь: КОМУ все это нужно?
Старик помолчал. И тихо произнес:
— Тому, чье время пришло.
Собеседник не сказал ничего. Но ответ его не устроил. За много лет он смирился с мыслью, что и в самом деле имеет серьезные проблемы с психикой — нормальные люди не слышат в голове странные голоса и не выполняют их странные советы. Когда три года назад у него — стоявшего над измазанным землей свертком — за спиной неслышно возник старый Ворон и выяснилось, что голос слышит не один Сашок, раздумывать о природе загадочного явления он не стал. Всё заслоняла радость: я не псих!
Но теперь Сашок все чаще подозревал, что всё-таки болен.
А старик ловко этим пользуется.
Либо Ворон точно так же сошел с ума.
3
Кравцов, вернувшись в вагончик, рухнул на койку, не раздеваясь и не разуваясь. Свинство, конечно, но сил даже скинуть кроссовки не было.
Чувствовал себя он, как предпоследний спартанец к исходу битвы под Фермопилами — проще говоря, не ощущал почти ничего, кроме дикой усталости. И тело, и мозг охватило сонное отупение. Переполненный событиями день наложился на минувшую бессонную ночь, и организм заявил ультимативно: баста! Больше не могу! Стреляйте, отрубайте голову, — ничего не могу! Ни ходить, ни говорить, ни думать… Горизонтальное положение и восемь часов покоя — без вариантов.
Горизонтальное положение Кравцов принял. С покоем оказалось сложнее. Уснуть никак не удавалось. В голове вертелась мешанина из обрывков сказанного сегодня, и осколков подуманного, и фрагментов увиденного… Совершенно бессвязная мешанина: радостная улыбка вестницы смерти — царскосельской больничной дежурной — возникала на фоне залитого кровью сиденья «Оки», стоящего почему-то в глубине Поповской пещеры; звуковым фоном служил спокойный голос Костика, перебиваемый истеричными выкриками Пашки, а в голове стучало ликующим метрономом: Наташка жива! Наташка жива! Наташка жива!
Он плотно стискивал веки, сон не приходил, но всё же усталость помаленьку затягивала мозг серой пеленой, калейдоскоп обрывочных видений становился всё бессмысленнее, всё меньше походил на реальность… Кравцов засыпал.
И резко поднял голову от постороннего звука.
Звук раздался из-за окна.
От графских развалин.
Крик? Хрип?
Он вскочил. Организм испуганно притих, словно понял: для забастовок не время.
Не то крик, не то хрип прозвучал снова.
Кравцов оказался на крыльце, напряженно вслушиваясь в ночь. Луна серебрила руины. Было тихо. Крик не повторился.
Через несколько секунд он понял, что пальцы — до боли, до хруста — стискивают ружьё. Переломил — в патроннике пусто. Хотел вернуться, зарядить, но карман что-то тяжело оттягивало… Пачка патронов. Когда он успел подхватить и оружие, и боеприпасы, Кравцов не помнил абсолютно.
Разглядел маркировку в лунном свете: дробь «три нуля». На относительно близких дистанциях куда лучше пули, промахнуться трудно, — и куда хуже для подвернувшегося под выстрел, человек превращается в такое решето, что хирурги отдыхают, в дело вступают патологоанатомы… Он торопливо вложил патрон и пошагал к дворцу. Про оставшуюся в вагончике каску Вали Пинегина Кравцов не вспомнил.
Сразу в развалины не пошел, двинулся вдоль фасада, вглядываясь в проемы и пытаясь что-нибудь услышать. Ничего. Тишина. Мешанина теней и лунных бликов…
Он шагнул внутрь — через разрушенную стену заднего фасада, там по крайней мере не нависали грозившие обрушиться кирпичи.
И остановился.
Замер.
Так вот почему Валя Пинегин гулял здесь. Один и ночью. Кое-что в руинах днем просто не увидеть… И вот откуда появилась в исчезнувшей тетради странная надпись в мужском роде: «ЛЕТУЧИЙ МЫШ»…
Именно эти буквы — здоровенные, больше метра каждая — украшали внутреннюю стену дворца. От слов тянулась ломаная стрелка — влево и вниз. Словно действительно указывала путь к обиталищу таинственного «мыша».
Надпись и стрелка светились в темноте. Мертвенным, бледно-синеватым светом.
Фосфоресцирующая краска, понял Кравцов. Незаметная днем, видимая лишь ночью. Кто же тут постарался? Сам Пинегин? Или он только углядел в своих одиноких прогулках проявившиеся буквы — и переписал в дневник? Второе вероятнее…
Но в чем смысл этакого украшения, потребовавшего немалых трудов и времени? Летучих мышей возле «Графской Славянки» Кравцов не встречал — ни чертящих вечернее небо своим рваным, зигзагообразным полетом, ни висящих днем вниз головой под карнизами и жалкими остатками перекрытий.
Интересно было бы посмотреть, куда указывает стрелка. Вполне вероятно, что на один из провалов, ведущих в подвальные помещения. Но этим стоит заняться днем, на свежую голову… А сейчас он пришел сюда вовсе не за тем.
Но никаких подозрительных звуков Кравцов больше не слышал. Надпись к ним отношения иметь никак не могла, явно появившись не сегодня. И поневоле он решил, что всё ему почудилось на тонкой грани сна и яви…
Кравцов отправился назад, в вагончик, рассудив, что утро вечера мудренее. Но положение и направление светящейся стрелки постарался хорошенько запомнить.
4
Алекс открыл глаза на рассвете. В последнее время, вопреки многолетней привычке, он просыпался рано.
Пробуждение оказалось на редкость неприятным. И в самом деле — кому понравится: открываешь глаза и обнаруживаешь себя в седле мотоцикла. Причем не просто мирно стоящего в гараже, но несущегося на предельной скорости по пустынному утреннему шоссе.
Руль дернулся в руках. Мотоцикл опасно вильнул. Алекс, отходя от неожиданности, попытался сбросить скорость. Хотел остановиться и понять, куда его занесло… Не получилось. Кисть руки, выкрутившая до упора ручку газа, никак не желала починяться командам мозга.
Несколько секунд прошли в бесплодной борьбе за контроль над собственными мышцами. А потом Алекс услышал голос. И сразу успокоился. Раз куда-то едет — значит так и надо.
5
Вода в Ижоре оказалась хрустально-прозрачная и ледяная — верховья родниковой речки не успели прогреться за несколько теплых дней.
Алекс содрогнулся, но пошагал дальше и дальше от берега — зашел по щиколотку, затем по колено. Он по-прежнему не понимал, зачем его сюда привезли — иным словом подневольную поездку на мотоцикле определить трудно. И зачем заставили раздеться и полезть в воду — не понимал тоже. Едва ли голосу (кому бы там он ни принадлежал) потребовались свежие раки на завтрак…
У Алекса — у того осколка его личности, что оставался еще в состоянии о чем-то задумываться — появилась нехорошая мысль: его просто-напросто хотят утопить. Вернее, хотят заставить утопиться. Придется шагать и шагать на глубину — пока вода не покроет с головой.
Особой логичностью мысль не отличалась — избавиться от Алекса можно было и раньше, и проще. Но он уже прекратил искать логику в том, что с ним происходило…
Алекс собрал в кулак всё, что осталось от его былого упрямства. И не сделал следующий шаг на глубину.
Наказание последовало мгновенно. Алекс заскулил, вцепившись в пах обеими руками. Несколько секунд стоял неподвижно, а потом вновь шагнул вперед, решив: смерть от ворвавшейся в легкие ледяной воды наверняка будет безболезненнее. Боль тут же ослабела, но совсем не исчезла.
Когда вода дошла до пояса, он понял, что топить его никто не собирается. Цель странной утренней поездки лежала под ногами, на каменистом дне Ижоры. Это оказались номера. Обыкновенные автомобильные номера.
Надо думать, в местном МРЭО случилась какая-то техническая накладка и уничтожить номерные знаки снятых с учета автомобилей, как положено — разрезав на куски газосваркой — не удалось. И кто-то из гибэдэдэшников, не мудрствуя лукаво, избавился от металлолома, покидав знаки с моста в реку. В общем, не такой уж глупый способ — с берега россыпь из пары десятков металлических табличек не увидеть, а лезть в ледяную воду едва ли нашлись бы охотники…
Алекс не задумывался, зачем и отчего здесь оказались номерные знаки. Он понял, что должен достать и увезти несколько штук. Но одновременно он понял и другое: наконец-то появился долгожданный шанс избавиться от проклятого голоса. Ледяная вода служила прекрасным анестетиком. Боль в мошонке, ставшая привычной, вдруг исчезла. Совсем. Напрочь. Сейчас-то Алекс сообразил, что настолько к ней притерпелся, что почти не замечал — ослабевшую. Реагировал лишь на резкие обострения.
Голос продолжал свой бубнеж — надо было доставать номера и тащить на берег но Алекс стоял неподвижно. И — о чудо! — никакого наказания! Он снова получил свободу — правда, исключительно свободу стоять по пояс в ледяной воде.
Но это не важно. Можно пойти вот так — вброд, вдоль берега — и уйти далеко-далеко, где никакие голоса в жизни до него не дотянутся.
И он почти уже пошел — вниз по течению, прочь от моста и оставленного на берегу мотоцикла. Но остановился. Голос изменил интонацию — теперь не приказывал, но уговаривал. Всё чаще слышалось слово «эвханах»…
Алекс вспомнил ощущение пьянящей, переполняющей силы, пришедшее в «Содружестве». Вспомнил, как был счастлив в тот момент, когда от крика «эвханах!!!» содрогались стены, а здоровенные противники разлетались сбитыми кеглями. И понял — ему предлагают награду. Сделай что надо — и эта сила будет твоей. Навсегда твоей.
Быстрая вода обтекала Алекса с негромким журчанием. Длинные зеленые водоросли под ногами шевелились, как волосы утопленницы. Он стоял в раздумье — минуту, другую, третью…
Потом присел и начал нащупывать на дне скользкие таблички.
6
Кравцов зарулил на «Антилопе» во двор Козырей, аккуратно приткнул машину к заборчику. Заглушил двигатель, несколько секунд просидел неподвижно.
Надо было пойти в дом и вернуть ключи Пашке, но не хотелось. Совершенно не хотелось с ним встречаться и о чем-либо говорить или что-либо объяснять — после тяжелого ночного разговора. Трудно общаться с человеком, которому перестал верить…
Звонок Наташи и пьяные откровения Козыря перевернули оценку ситуации с ног на голову. Наташа говорила правду — возможные мотивы для её лжи Кравцову в голову не приходили. Тогда Сашок никакого отношения к смерти «студента»-охранника не имеет. И к взрыву на «ракетодроме», лишь по чистой случайности не нашпиговавшему Кравцова осколками, — тоже не имеет отношения. И к другому взрыву — о нем неохотно, сквозь зубы рассказали коллеги Костика. Впрочем, Кравцов и раньше сомневался, что всё это мог успеть натворить один человек за короткий промежуток времени…
И тогда все кровавые загадки последних дней пересекаются в одной точке. На одном человеке. На Пашке-Козыре.
Именно он затеял реставрацию руин, с которой всё началось. Именно он привел к развалинам и Валю Пинегина, и Кравцова, с которым случайно (ха-ха!) встретился в Москве… Именно его звонок удивительно вовремя (или не вовремя— с какой стороны взглянуть) сорвал визит к Архивариусу, визит, способный многое прояснить.
Давняя и кровавая история с Сашком и Динамитом известна единственно с Пашкиных слов — и нет никаких гарантий, что очередная версия полна и правдива… Загадочная девушка Аделина, между прочим, тоже познакомилась с господином писателем с косвенной подачи Козыря. Не говоря уж о таких мелочах, как имевшиеся у Пашки ключи от вагончика и возможность войти туда в любое время. И придумать ловушку на «ракетодроме» — ловушку, куда могла угодить одна-единственная дичь — проще всего было ему. Не возомнил ли часом старый дружок себя этаким великим гроссмейстером, разыгрывающим на шахматной доске Спасовки какую-то неимоверно сложную партию? В которой люди-пешки и люди-фигуры движутся, и к чему-то стремятся, и даже порой убивают друг друга, — не ведая, что лишь исполняют чужой хорошо продуманный план…
Похоже, от таких мыслей скептик и мистик в голове Кравцова поменялись местами. По крайней мере, скептик тут же взял на вооружение обычную аргументацию своего коллеги. Ну-ну, хмыкнул он. Пашка-Козырь — тайный гений злодейства. Продавший душу дьяволу и получивший взамен умение насылать кошмарные видения на мирно спящих сторожей… И — способность повелевать вороньими стаями. Смешно. Дворец тоже Пашка подрастил ?..
Мистик же выдвинул в ответ возражение вполне материалистическое. Незачем растить дворцы и насылать кошмары. Можно поступить куда проще: подсыпать какой-нибудь воздействующий на мозги порошочек в банку с солью, стоящую на кухне вагончика. Или в бак с питьевой водой. Или еще куда-нибудь… Между прочим, в ночь после ужина у Ермаковых никакие наваждения Кравцова не мучили. Если, конечно, не считать наваждением Аделину…
Скептик замялся в поисках доводов. Кравцов (главный и единственный) тем временем шарил по карманам в поисках зажигалки — прикуриватель «Антилопы» не работал. Нащупал в боковом кармане небольшой плоский предмет, машинально поднес к сигарете — оппоненты в его мозгу возобновили спор — и с удивлением понял, что пытается извлечь огонек из складного ножа. Из ножа, непонятно каким образом спустя пятнадцать лет разыскавшего своего владельца…
Тут же еще один кирпичик-аргумент лег в стену обвинений. Кравцов уже не помнил, участвовал ли Козырь в том давнем походе за грибами. Скорей всего, участвовал, — грибником Пашка был и остался рьяным. Мог и подобрать выпавший из кармана ножик… В любом случае, к осине, воткнутым в ствол которой нож обнаружился, подвел Кравцова друг детства, и никто иной. Подвел буквально за руку и сказал: стой здесь, самое лучшее место…
Но зачем? Мотив такой комбинации с достаточно безобидным режущим предметом оставался туманным. О чем скептик тут же и заявил. Всё очень просто, парировал мистик, — расшатать психику цепочкой невероятных совпадений. Подготовить к чему-то… Да к чему же?! — взвился на дыбы скептик. И тут же перешел в контратаку: может, и даты на кладбищенских крестах тоже Козырь фальсифицировал? В целях еще большего расшатывания совпадениями кравцовской психики? Взял баночку с краской и прогулялся ночью по погосту, пририсовывая везде 18 июня?!
Спор так и не завершился. Дверь ермаковского дома раскрылась — медленно, словно неохотно. Пашка? — напрягся Кравцов. Но это оказался Миша-охранник, понурый и похмельный.
Кравцов покинул наконец «Антилопу», подошел к крыльцу. Миша поздоровался вяло и заторможенно.
— Тяжело? — участливо поинтересовался Кравцов.
Миша издал неопределенный звук, явно намекающий, что тяжелее уж не бывает…
— А что шеф?
— Спит. Сказал не будить, пусть хоть война начнется. Даже в комнату заходить запретил…
— А остальная охрана где? — поинтересовался Кравцов. Машина «охотников», стоявшая во дворе, исчезла.
— Уехали, — пожал плечами Миша. — Ничего не объясняя. Но, по-моему, — слышал разговор краем уха — у них куда-то потерялся начальник.
Интересно… — подумал Кравцов. Костик никак не казался человеком, способным «потеряться». А вот понять, что наниматель использует их втемную для своей двойной или тройной игры, вполне мог… Что, если таки заглянуть в Па-шину комнату? Не исключено, что страдающий похмельем шеф там не обнаружится. Не исключено, что вся вчерашняя нежданная-негаданная пьянка стала спектаклем, затеянным для маскировки… Для маскировки чего? Чего? Что же такое задумал старый друг, — похоже, переставший быть другом?
Но ломиться в комнату и проверять подозрения Кравцов не стал. Протянул ключи от машины Мише и сказал:
— Отдай шефу, когда проспится.
— На словах что-нибудь передать?
— Не надо. Он и так всё поймет…
7
Примерно в то же время, когда писатель Кравцов расстался с «Антилопой», Алекс, наоборот, стал автовладельцем, — правда, стал абсолютно незаконным способом, угнав машину со стоянки в Купчино.
Впрочем, излишних тревог по сему поводу он не испытывал: «Волги» 24-й модели по дорогам Питера и окрестностей бегают еще в достаточных количествах, да и расцветка самая заурядная. Алекс считал, что выуженные из Ижоры и отчищенные от зеленоватого налета номера — достаточная гарантия безопасности. Не «мерседес» важной шишки он позаимствовал, в конце концов. Никто рыть землю носом не будет…
Он сидел за рулем машины, припаркованной во дворе хорошо знакомой ему девятиэтажки на южной окраине Питера. Думы в голове у Алекса бродили самые радужные. Рабство, основанное на боли, закончилось. Он теперь равноценный партнер, чёрт побери! И как использовать то, что он получит в результате сделки с голосом, — его личное дело…
Алекс был убежден, что эти рассуждения принадлежат ему. И смутные намерения — как использовать «Силу и Слово» — тоже его. К тому же он уверился, что голос способен контролировать действия, но никак не мысли. А еще — продолжал чувствовать себя всё тем же Александром Шляпниковым, ни на йоту не изменившимся… Хотя прежний Алекс первым делом постарался бы выяснить: а что же такое или кто такой скрывается за загадочным голосом?
Новому Алексу подобные вопросы в голову не приходили…
Он сидел, поглядывая то на дверь подъезда, то на маленький кулон на цепочке, зажатый в руке.
За дверью полчаса назад скрылся старый знакомец Алекса, некий Карлссон, — вор-домушник, в очередной раз освободившийся полгода назад и с тех пор активно прилагающий усилия к тому, чтобы отбыть из этого неуютного и враждебного ему мира хорошо знакомым маршрутом: СИЗО — суд — пересылка — зона.
Кулон в форме золотистого пятиугольника Алекс обнаружил на своей шее утром — и не стал озадачиваться его происхождением. Висит — значит так надо. Тем более что скоро стало ясно, зачем нужна эта вещица.
…Цепочка дернулась, когда Алекс в очередной раз взглянул на подъезд — сомнения оставались: Карлссон, поразмыслив в одиночестве, мог плюнуть на странный заказ, или замки могли не поддаться его усилиям. Цепочка дернулась несильно — как леска, на другом конце которой засеклась не крупная рыба. Алекс торопливо перевел взгляд на кулон. Тот тихонько покачивался, и амплитуда колебаний уменьшалась. Потом цепочка резко дернулась, больно врезавшись в палец. Крохотный пятиугольник зазвенел камертонно-чистым звуком.
Пора!
Алекс выскочил из машины. Вбежал в подъезд. Не обращая внимания на лифт, взлетел на четвертый этаж. Кулон, зажатый в руке, никак себя не проявлял.
…Дверь, деревянной лишь казавшаяся, оказалась приоткрытой, хотя и не имела явных следов взлома. Но замки не устояли-таки перед умельцем Карлссоном. Алекс сделал шаг внутрь, постоял у порога, внимательно прислушиваясь.
Ничего.
Мертвая тишина.
Карлссон не подавал признаков жизни — и Алекс догадывался о причине. Медленно и осторожно он пересёк прихожую.
Дом — снаружи — Алекс хорошо знал, но дальше дверей подъезда его никогда не приглашали. В свое время он был готов многое отдать, чтобы оказаться здесь, причём в спальне… Но сейчас его интересовала не спальня, — но дверь в дальнем конце вытянутой прихожей. Похоже, с нею «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» долго не церемонился — вскрыл фомкой, быстро и грубо. И зашёл в комнату, следуя инструкции Алекса. А если не зашёл? А если именно тут его и одолели сомнения: не бросить ли дурно пахнущее дело?
Алекс стоял у двери, не решаясь сделать последний шаг. Если он ошибется, ошибка станет самой большой в его жизни. И последней…
Да нет же, успокаивал он себя, недаром ведь звенел кулон…
Наконец Алекс набрал полную грудь воздуха и нырнул в дальнюю комнату, словно в обжигающую ледяную воду. И через секунду скорчился в жестоких рвотных конвульсиях. Желудок был пуст — последней трапезой Алекса стал вчерашний завтрак. Наружу вылетали редкие капли, оставляя во рту омерзительный вкус.
Затем бунт желудка выдохся. Алекс, стараясь не смотреть на то, что осталось от Карлссона, взвалил на плечо ослепительно сверкающую бронзовую конструкцию и поспешил к выходу…
Пентаграмма — II.
Славик Зарубин. Весна 1994 года
В чуланчике лежали перевязанные в большие неаккуратные пачки всевозможные книжки, большей частью без обложек, — трофеи давних трудов Славика на ниве сбора макулатуры. Он тогда чувствовал, что из некоторых книжек делать картон нельзя,, и тащил домой всё, что представляло или могло представлять хоть какой-то интерес… Ради этих пачек он и приехал на дачу.
…Если судьба решит потрепать кому нервы, то делает она это неторопливо и методично, обстоятельно, со вкусом. Искомая книжица лежала, понятное дело, в самом низу последней из развязанных Славиком пачек. Но если от двери чуланчика она была самая дальняя, то к входу во временное жилище мышей-полёвок, решивших перезимовать на дармовщинкуу Славика, — самая ближняя.
И неграмотные грызуны без малейших угрызений совести пустили на утепление апартаментов изданную в начале века библиографическую редкость…
Славик посмотрел на кучу обрывков (или огрызков?), в которые превратилась добрая треть старого труда по прикладной магии, и ему стало жаль и себя, и не пойми зачем потраченный выходной…
Но делать было нечего, современные издания на эту тему он считал сплошным шарлатанством, и стал укладывать в пластиковый пакет разрозненные обрывки…
* * *
Постоянные клиенты, заглянувшие в вагончик в понедельник, наверняка удивились бы небывалому занятию Славика.
Он старательно складывал мозаику из неровных обрывков пожелтевшей, ветхой бумаги; более-менее восстановив страницу (многих кусочков не хватало) — запаивал в пленку утюгом антикварного вида, извлеченным из кучи принесенного жаждущими гражданами хлама…
Атмосфера в районе реставрационных работ также могла заинтересовать чуткие носы посетителей — опасаясь мышиной заразы, Славик регулярно протирал руки техническим спиртом из большой пластиковой бутыли (призовой стаканчик особо отличившимся стал еще одним его ухищрением в постоянной борьбе с подонком Филей).
Но несмотря на понедельник — день, как известно, тяжелый — никто из постоянного контингента к Славику не пришел и не смог удивиться его необычным занятиям. Поначалу это радовало — не мешали возиться с книжкой, потом удивляло, а под вечер просто встревожило. Удивительное дело: за весь день всего два посетителя: образованного вида дамочка в очках притащила прохудившуюся морозилку от холодильника да Никитич, непьющий (!) сантехник из соседнего ЖЭКа, выложил на весы аккуратную кучку старых букс и вентилей…
Во вторник странное безлюдье повторилось. Складывалось полное впечатление, что здешние старатели свалок и мусорных бачков дружно бросили пить и записались в общество анонимных алкоголиков, или поголовно устроились на работу, или по редкому невезению все как один попали в грандиозную облаву милиции, чистящей город к началу Игр Доброй Воли…
В этот день Славика посетили четверо случайных клиентов, да притащили огромный мешок со сплющенными банками две тетки, промышлявшие сбором посуды по электричкам. Сказать, что это было странно — ничего, в сущности, не сказать. Это было удивительно, это было загадочно — и Славик сильно подозревал, что источник странностей и загадок находится совсем неподалеку, метрах в четырехстах, за путями железной дороги…
В среду Славик отложил любовно восстановленную книжку, которую он изучал эти два дня самым внимательным образом, и, презрев гордость, самолично отправился к Филе, твердо уверенный, что все соглашения самым хамским образом нарушены и не миновать большой разборки…
В десятке шагов от подвальчика конкурента Славик остановился и долго стоял, недоуменно уставившись на низкую, обитую железом дверь. Дверь украшал амбарный замок и заметное издалека объявление: «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПУНКТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ЗАКРЫТ».
Какие же такие у Фили причины, подумал Славик. Одна у него может быть причина — загрузил в большой грузовик всех здешних бомжей и ханыг, вывез подальше в лес, к глубокой яме и…
Славик зримо представил искаженное лицо Фили с бешеными глазами и дергающийся в руках пулемет, заглатывающий конвульсирующую змею патронной ленты…
А утром в четверг пришел партайгеноссе Зигхаль.
И оказалось, что шальная мысль Славика попала почти в яблочко: Филя действительно загрузил в большой тентованый «камаз» весь цвет местных сборщиков металла, вывез в лес и… Нет, на самом деле поведанная Зигхалем история начиналась совсем по-другому.
В отличие от Славика, Филя собирать грибы любил. И шастая по осени где-то в дебрях Карельского перешейка, заплутал и напоролся на просеку ЛЭП. Зная, что любые провода ведут к местам обитаемым, Филя бодро замаршировал вдоль опор, но через несколько километров жестоко разочаровался. Сначала с опор исчезли провода, а потом с просеки исчезли и сами опоры — ЛЭП вела в руины заброшенного военного городка давно расформированной военной части. Безбожно матерящийся Филя повернул обратно и после еще пары часов упорной ходьбы убедился, что линия тянется из ниоткуда в никуда — на другом её конце точно так же исчезали сначала провода, а потом и опоры…
Из леса Филя таки выбрался (Славик с сожалением вздохнул на этом месте рассказа) и, запомнив координаты, положил глаз на позабытое скопление никому не нужного металла. Несколько месяцев у него ушло на подготовку великой операции (согласовать и поделиться с кем надо, разведать подъездные пути, засыпать гравием пару топких мест на лесных дорогах, подлатать и утеплить наиболее уцелевшую казарму в городке — возить каждый день работяг из города себе дороже). А когда все было готово, Филя, не мудрствуя лукаво, набрал ударную бригаду из хорошо знакомого контингента. Принимал всех, с единственным условием — ничего не говорить Славику — мол, конкуренция, коммерческая тайна и всё такое прочее… И вот теперь на заброшенной просеке визжали десятки ножовок, разрезая толстенные плетенные алюминиевые провода на куски, пригодные для погрузки в Камаз…
Всех этих подробностей Зигхаль не знал, история в его изложении звучала как волшебная сказка с хорошим концом о найденных сокровищах — и горьким диссонансом на фоне этой идиллии виделась судьба самого Зигхаля, старательно пропивавшего выручку от пентаграммы и не явившегося к отъезду набранной бригады по причине жесточайшего похмелья. Но он не держал зла на Филю и даже не завидовал — Зигхаль им просто восхищался…
Вот так… Вот так вот бывает в жизни… Кто-то ходит по лесу и находит валяющиеся под ногами пачки долларов… а кто-то ничего не находит или наступает на старую ржавую мину… А некоторым вообще попадаются интересные такие местечки со следами черного шабаша и истыканными восковыми фигурками... Мать твою, ведь я слышал об этом, слышал, но не обратил внимания на пьяный бессвязный треп о непыльной работке и тоннах дарового металла… Надо было вслушаться и расспросить подробнее, и тогда я бы…
Славик с беспощадной ясностью вдруг осознал, что и тогда он ничего бы не сделал, просто не знал бы, что тут можно сделать… И попадись заброшенная ЛЭП ему, ничего бы, в сущности, не изменилось — Филя не кусал бы локти от ярости, сидя в своем подвальчике… Это была самая большая (и никогда не признаваемая) беда его жизни — сознавая, что живет не так и делает не то, Славик никогда не знал, что и как нужно делать. И подсознательно завидовал людям, которые знали. Даже ненавидел их, как сейчас Филю…
* * *
Бронзовая пентаграмма лежала на ковре несокрушимо и уверенно; Славик, задумавшись, сидел у стола с зажженной настольной лампой вполоборота, поглядывая то на нее, то на чистый лист бумаги, лежавший перед ним.
Мысли были невеселые. Хотя, конечно, и не слишком это удачная идея — подводить итоги прожитой жизни в конце самого провального дня отнюдь не самой благополучной недели, когда всё видится исключительно в черном свете, но некоторые вещи и факты остаются такими же гнусными, в каком освещении их ни рассматривай…
Четвертый десяток на излёте, а что имеем в активе?
Лоб неудержимо стремился к затылку, и пора задумываться, где и как справлять юбилей (Славик… если в сорок лет ты опять Славик — это навсегда…). И тут еще, когда казалось, что пусть живешь и не как мечталось, и даже не как жилось когда-то — но налаженно, но все-таки стабильно, — тут появляется гондон Филя, и все опять начинает расползаться по швам…
Сука, сука, сук-а-а-а … Ему начинало казаться, что Филя виноват во всём — в том, что эта холодная стерва Светка живет с ним лишь ради денег, что со старшими детьми говорить всё чаще просто не о чем, что он послушался мамочку и не пошел сразу после школы на вечерний (только дневной, сынок, только дневной, на вечернем ничему толком не учат, это для выпускников школы рабочей молодежи, мечтающих к пенсии дослужиться до начцеха …) Он был готов убить гада Филю — и знал, что никогда этого не сделает; а что и как сделать — не знал.
Но узнает, обязательно узнает.
Славик еще раз оглянулся, вид пентаграммы его немного успокаивал, она, несокрушимая и надежная, словно говорила ему. не бойся, люди, создавшие меня, очень хорошо знали, что и как делать — узнаешь и ты. И сделаешь.
Да-да… они хорошо знали… это не пэтэушники, истыкавшие в парке фигурку нелюбимого мастера… Эти — знали…
Ручка Славика забегала по листу, выписывая в столбик что-то с запаянных в пластик пожелтевших листов… Когда он встал и решительно направился на кухню (домочадцы давно и крепко спали), на листе было написано неровным пляшущим почерком:
Кровь??
Ногти?
Слюна?
Сперма??????
Волосы.
Против слова «волосы» вопросительных знаков не стояло. Ни одного…
* * *
Нинка, подрабатывающая уборщицей в парикмахерской «Фея», отнеслась к визиту Славика настороженно. Она подозрительно глядела из-под спутанных пего-седых лохм, когда он, продемонстрировав две принесённых в сумке «Балтики», предложил посидеть минут десять на улице, на скамеечке. Но искушение пересилило, Нинка накинула свое пальто, такое же грязное и замызганное, как она сама, и поспешила за Славиком…
А ведь она меня всего на пять лет старше, подумал Славик, и я помню её на школьных переменах — талия в рюмочку, грудь торчит под формой… двенадцать мне было, только издалека поглядывал… а старшие парни за ней ой как бегали… Теперь, небось, от нее бегают… — закончил он мысль с неожиданным ожесточением…
— Что-то тебя давно не видно, — осторожно начал Славик, когда пива закончилось и Нинка одышливо запыхтела «Беломором». Она молчала, поглядывая на него так же настороженно.
— Как у тебя с деньгами? — взял быка за рога Славик, решив, что разводить антимонии тут нечего.
Настороженность во взгляде Нинки сменилась подозрительностью, даже неприязнью. Но извлеченная им из бумажника десятка с портретом заморского президента мгновенно изменила Нинкино настроение — она изобразила полное внимание и готовность выслушать любые предложения…
— Филю знаешь?
— Ну-у-у, — протянула Нинка, не понимая, чего от нее ждут. — Была у него как-то…
— Он по-прежнему у вас стрижется?
— Ну-у-у, — повторила Нинка, не усматривая пока прямой связи между этим фактом и маячившей перед носом бумажкой.
— Придет в следующий раз — подбери прядь и принеси мне. И десять баксов твои. — Славик аккуратно сложил и убрал купюру. И, не дожидаясь вопросов, добавил уже командным тоном:
— Подберешь так, чтоб не заметил, ясно? Мы тут одну хохму готовим, как раз к первому апреля… Если что узнает — плакали твои денежки. Ну всё, мне пора…
Встал со скамейки и пошел, не допив пиво. Нинка ошарашенно смотрела вслед…
К любым ошибкам, в том числе самым фатальным, ведет недостаток информации.
Славик не знал, что дни Нинки в «Фее» уже сочтены — установить взаимосвязь между понижающимся быстрее обычного уровнем одеколонов, лосьонов и прочих спиртосодержащих жидкостей и твердостью походки Нинки было делом несложным, не бином Ньютона. И терпели её последние дни, пока искали замену. Нинка не сильно расстраивалась — уборщицы везде нужны, но вместе с этой работой исчезала возможность завладеть славной серо-зеленой бумажкой Славика…
Нинка как раз переводила доллары в рубли, а рубли во флаконы «Льдинки», когда сердце у нее радостно ёкнуло — при виде входящего в зал Фили. Но это был не он, просто у человека оказались волосы такого же соломенно-рыжеватого оттенка…
Упускать шанс не стоило, она дождалась, когда на пол упали первые пряди и бочком пододвинулась поближе, зацепив их шваброй…
* * *
— Точно его? — подозрительно спросил Славик, не выпуская из рук купюру.
Нинка истово и размашисто закрестилась (в последние годы она ударилась в религию). Славик вовремя про это вспомнил и, рассчитавшись, стал выспрашивать, где ближайшая действующая церковь — сам он не имел понятия, никогда не нуждался в такой информации.
Нинка торопливо объяснила и посеменила в сторону обменного пункта. А Славик аккуратно убрал в карман пакетик с волосами. Они действительно напоминали Филины, каждый мог ошибиться…
…Очередь в храм стояла вдоль всей Владимирской площади, не хуже чем к Славику в дни макулатурного благоденствия. Не иначе подгадал на какой-то праздник…
Он вздохнул, но отступать не стал — и через два часа, взмокший, стал обладателем пузырька со святой водой. Восковых свечек Славик, поразмыслив, решил не покупать — кто его знает, как среагирует на церковный воск пентаграмма.
…В магазин медтехники, притаившийся за Музеем Арктики, он зашел за другим — не хотелось возиться с крохотными клинками, думал найти маленьких скальпелей, или ланцетиков, или еще чего в этом роде… Не нашел ничего подходящего по размеру, развернулся к выходу, но зацепился взглядом за слово «воск» на соседней витрине.
Воска тут лежало несколько видов, на любой вкус — Славик выбрал базисный, его упаковка оказалась самой увесистой, должно хватить и на свечи, и на фигурку…
Субстанция, приобретенная им, называлась воском по традиции, с тех давних времен, когда стоматологи действительно употребляли настоящий пчелиный воск для своих зубопротезных дел. Теперь, когда количество действующих ульев в стране значительно уступало количеству беззубых ртов, пчелы в производстве этого «воска» не участвовали. Славик не знал таких тонкостей.
И это стало его второй ошибкой…
Крестил фигурку он в ванной.
В книжке ничего об этом не говорилось, но Славик заподозрил, что в присутствии пентаграммы этот обряд может и не сработать. Нареченная рабом божьим Валерием (в просторечии Филей) и окропленная святой водой фигурка с торчащими во все стороны рыжеватыми волосами была надежно заперта в ящик стола, рядом лежали пять черных свечей…
Часы показывали третий час ночи, глаза у Славика, несколько ночей не спавшего, начали слипаться — и он завалился в кровать, всё равно пособие рекомендовало начать действо ровно в полночь.
* * *
Следующий день был воскресеньем. Светка с отпрысками уехала к своим родителям, Славик остался в квартире один. А может, и не один — в голове у него вели совсем не дружелюбный, яростный спор два разных Славика…
— Нет, ты точно придурок… Готовый клиент для Кащенко… Какой хернёй ты занимался целую неделю, а? Прочитал изгрызенную мышами книжицу и произвел себя в чародеи, да? Мерлин Черноморович Зарубин, потомственный колдун и белый маг с дипломом лечит импотенцию по фотографии … — Первый Славик был саркастичен и напорист.
Второй Славик отбивался как умел:
— Ну и что? Ну не получится ничего, так в чем убыток? В тридцатке, что этот воск стоил?
— А крыша твоя уехавшая, что, не убыток? Будешь в дурдоме на полу пентаграммки рисовать, замазку из окон выковыривать и фигурку главврача лепить, да только не поможет…
— Значит те, из лесу, шизики? — осторожно поинтересовался второй Славик.
— Ясный день, шизики. И ты таким станешь. Ты уже почти стал — когда фигурку крестил, ведь верил, а? Верил, факт. А если Филька чисто случайно ногу подвернет или кипятком обварится, что тогда? Вот тогда ты и съедешь окончательно…
— В лесу, значит, шизики… — раздумчиво повторил Славик-II. — А ту, что в комнате, тоже шизики сделали? Найди и покажи мне такого шизофреника…
— Мало ли чего шизоиды сделать могут … — Славика-I, похоже, слегка поколебала логика оппонента. И он решил зайти с другой стороны. — Ну хорошо, на секунду представь — штука работает. Так ведь это тогда оружие, куда там твоей помповушке… А даже из дробовика, если не знать, с какой стороны за него браться, яйца себе или другим отстрелить недолго…
— Бог на Филе и потренируемся. Если что — хрен с его яйцами, невелика потеря… А потом, — тон Славика-II стал неожиданно стал вкрадчивым, — не ты ли сам тут как-то раздумывал, как бы избавиться от Светки, сохранив детей, а?
— Ты что, козел? Да разве я в этом смысле?! — Славик-I так возмутился, что не заметил, как сам оказался в обороне.
— Не знаю, не знаю… Но с волосами, ногтями, слюной и кровью тут проблем точно не будет. Разве что со спермой… Но это как посмотреть, что-то она по ночам совсем никакая стала, может, и ходит к кому, пока дети в саду, а ты на работе…
— А ну, хватит!!! — рявкнул на дуэт спорщиков Славик первый и единственный. Наружу полезли мысли скрываемые, от себя самого хранимые в тайне… И Славик пошел в комнату, где лежала пентаграмма; ночь опять предстояла бессонная, надо подремать часика три-четыре…
* * *
Без пяти полночь Вячеслав Анатольевич Зарубин приступил к сеансу черной магии.
Пентаграмма, слегка развернутая против обычного своего положения, блестела на ковре (Славик долго возился с компасом, точно ориентируя её по сторонам света). Блестела гораздо сильнее, чем в тот день, когда попала в дом Славика; он, смотря на нее ежедневно, не заметил этого постепенного изменения.
Черные свечи, пока не зажженные, крепились по углам; ровно в центре возвышалась подставка — медный треножник, принесенный позавчера из вагончика. Охранительный круг Славик не стал рисовать, всё равно письмена, коими его следовало украсить, стали жертвою прожорливых мышей… Пора начинать.
Он встал и выключил свет, чиркнул зажигалкой и по очереди, против часовой стрелки, поджег черные свечи. Они горели неровно, пламя вздрагивало, искаженные тени плясали на стенах безмолвный и мрачный танец.
Славик осторожно взял в левую руку куклу-Филю и медленно, нараспев, стал читать заклинание — по шпаргалке, которую держал в правой.
Это место в старой книжке было изложено русскими буквами на незнакомом языке. Гнусные мыши старательно над ним потрудились, но все слова повторялись по многу раз, и Славик самонадеянно считал, что восстановил заклинание достаточно точно.
Он читал, и…
Эхо? — небывалое дело, ему казалось, что в заставленной мебелью комнате слова повторяет эхо — звонкое, с металлическим оттенком, эхо… С последним словом заклинания Славик опустил фигурку на треножник — она лежала, распластав крестообразно руки и выставив вверх детородный орган.
Именно в него долженствовало нанести первый удар.
Славик взял с блюдца маленькую и изящно сделанную шпагу-зубочистку с палец длиной (на блюдце остались лежать еще шесть).
— Филя, сука, — понес он полную отсебятину, обращаясь к восковой фигурке. — Я не верю, что сюда сейчас придет Велиал и сделает с тобой то, что ты заслужил… Но если есть хоть что-то, кроме твоего поганого пуза, хоть какие биополя или ауры — ты почувствуешь, ты не можешь не почувствовать всё, что я хочу с тобой сделать… И сделаю!!! Сдохни! Сдохни!!! Сдохни-и-и!!!!!
Стекла задребезжали от крика; он нагнулся внутрь пентаграммы (на мгновение рука со шпагой ощутила легчайшее сопротивление, совсем как тогда, с магнитом) — он прицелился и ударил. Ударил, метясь прямо в основание Филиного пениса.
За долю секунды до удара пентагонон зазвенел — тем же протяжным, переворачивающим всё внутри звуком (зацепил ногой? — мелькнуло на краю сознания) — а рука продолжила движение к цели… Секунды и терции непонятным образом удлинялись, и в каждую из них мозг Славика успевал зафиксировать странные изменения вокруг — вот свечи вспыхнули ярко, очень ярко — шпага преодолела лишь полпути к треножнику и фигурке — и тут же погасли, все до одной, словно задутые внезапным порывом ветра — клинок летел вслепую, но на сетчатке глаз еще отпечаталась светло-розовая фигура, и он заканчивал удар по памяти, в то самое место, где только что её видел…
Когда рука прошла тот уровень, где шпага должна была встретить сопротивление воска — прошла и продолжила кажущееся таким медленным движение — еще ниже, и еще, — он понял, что треножника и фигурки нет, внутри пентаграммы — пусто.
Не встретивший ожидаемого сопротивления Славик потерял равновесие и опрокинулся лицом вперед, на ковер внутри пентагонона. Но ковра там уже не было.
Раздался громкий, жадно-чавкающий звук, с похожим болотная топь вцепляется в упавшую жертву — раздался и смолк, повторившись металлическим эхом. Пришли тишина и темнота…
* * *
Следователю, ведущему дело об исчезновении Зарубина В.А., 1955 г.р., русского, несудимого, Света ничего не рассказала о пентаграмме. Она никак не связывала сверкающий как новенькая монета пятиугольник (черные свечи с него бесследно пропали) с таинственной утратой мужа — опять притащил какую-то ерунду с работы, только и всего.
Портреты Славика повисели какое-то время на милицейских стендах, в микрорайоне посудачили о непонятном деле, а потом оно позабылось за другими новостями… Только пятилетний Алёшка долго еще плакал ночами в подушку — тихонько, чтобы не услышала мать.
Когда Славика признали умершим и пришел срок вступать в права наследства, квартиру пришлось разменивать — нашлись еще два наследника первой очереди, дети от первого брака, до сих пор здесь прописанные…
С помогавшими при переезде доброхотами (из числа старых знакомых Славика) Света расплатилась кое-какими из его вещей, до сих пор пылившихся в кладовке.
* * *
Валерий Кириллович Филимонов, когда-то известный под прозвищем Филя, прибыл глянуть хозяйским оком, как идут дела в бывшем вагончике Славика. (Постепенно Филя прибрал к рукам все точки в довольно обширной округе.)
Внимание его привлекла интересная штуковина, прислоненная к стене и появившаяся, похоже, совсем недавно. Не замечая вытянувшегося в струнку приемщика, молодого круглолицего паренька, он подошел поближе и стал внимательно рассматривать здоровенный пятиугольник из благородной темной бронзы… Было в этой фигуре что-то, не позволяющее вот так попросту отправить её в переплавку…
— Отнеси-ка эту фиговину ко мне в машину, — процедил он приемщику, не оборачиваясь. — Я её, пожалуй, домой возьму и…
Он не стал заканчивать — да и к чему, в самом деле, всякой мелкой сошке слишком много знать о планах хозяина?
Филя обладал здоровой, непробиваемой, просто слоновьей психикой и в жизни не интересовался ничем потусторонним; никаких аналогий пентагонон у него не вызвал. «Хреномантией», как называл это Филя, давно и серьезно увлекалась его единственная дочь. Аделина…
Глава 8
02 июня, понедельник, день
1
— Можете звать меня Григорий. Или просто Гриша, — отрекомендовался молодой человек.
— И чем обязан вашему визиту… Гриша? — спросил Кравцов.
Он закончил собирать и упаковывать разбросанное по вагончику имущество. Бегством это не стало. Знакомых в Спасовке с избытком — и Кравцов как раз раздумывал, у кого бы из них остановиться на постой. Разобраться со всеми здешними непонятками, ни в чем при этом не завися от Козыря. Стук в окно прервал размышления.
Гриша объяснил, в чем дело, — короткими емкими фразами. Оказался он коллегой Костика и его заместителем в проводившейся минувшей ночью операции. Операция, мягко говоря, успехом не увенчалась. Мало того что объекты поисков не угодили ни в одну из расставленных ловушек, — так еще куда-то запропал сам Костик. И его люди встревожены исчезновением шефа.
— Боюсь, ничем не смогу помочь, — пожал плечами Кравцов. — Последний раз я видел вашего начальника вечером, и своими планами на ночь он не поделился.
— С нами тоже, — хмуро сообщил Гриша. Лицо у него было круглое, в других обстоятельствах наверняка улыбчивое. Но сейчас выглядело злым и встревоженным. — Но вечером мы с ним выезжали сюда, к дворцу, и шеф изучил всю диспозицию на редкость внимательно. А просто так, из любопытства, он ничего и никогда не делает. И я подумал… Вы ничего здесь ночью подозрительного не слышали?
Кравцов пожал плечами.
— Не то чтобы подозрительный — но какой-то звук с развалин долетел. Я сходил, посмотрел — никого и ничего. Возможно, показалось…
— Схожу, проверю еще раз, — решил Гриша. — А вы оставайтесь здесь.
— Нет, — сказал Кравцов коротко, как отрезал. — Идем вместе.
Гриша попытался спорить, но железной, крушащей любые преграды волей своего начальника он не обладал. Пошли вдвоем, причем Кравцов вооружился фонарем и облачился в каску, доставшуюся в наследство от Вали Пинегина. На всякий случай. Гриша взглянул удивленно, но ничего не сказал.
Честно говоря, исчезновение Костика не сильно встревожило Кравцова. Но он хотел еще раз, при дневном свете, изучить стену со светящейся в темноте надписью — утром появилось подозрение, что всё увиденное там было лишь очередным сюжетом из цикла «Сны в Графской Славянке». И первым делом Кравцов повел парня в зал с разрушенной наружной стеной.
В зале ничего подозрительного не обнаружилось, по крайней мере на взгляд Кравцова. И он стал исследовать внутреннюю стену, прикидывая, как бы добраться до невидимой в дневном свете надписи, не рискуя сломать шею. Через минуту к нему присоединился Гриша — отчего-то эта стена тоже привлекла его внимание.
— Странно, ни одной пули… — сказал он еще через пару минут. — И ни одной гильзы…
— Какие пули? Какие гильзы? — Кравцов ничего не понял.
— Здесь стреляли. Недавно. Посмотрите…
Кравцов посмотрел — и вынужден был согласиться: действительно, свежие круглые щербины на кирпичной кладке вполне могли оставить пули.
После долгих поисков Гриша нашел-таки одну из них — отлетевшую в дальний угол каким-то немыслимым рикошетом. Констатировал, внимательно изучив искореженный кусочек металла.
— Шеф. От его машинки. В кого-то он тут высадил весь магазин… Странно. Очень странно. И зачем-то уничтожил потом все следы. Почти все…
Гриша замолчал и стал прочесывать зал с утроенным вниманием. Кравцов навыков следопыта не имел и отошел в сторонку, дабы не затоптать ненароком какую-нибудь важную и малозаметную улику.
Отметил, что Пашины рабочие вчера постарались на совесть: ни единой бутылки или банки не осталось, даже все обломки кирпичей оказались аккуратнейшим образом собраны и вывезены. По словам бригадира, предстояло еще перекрыть временными дощатыми щитами провалы, ведущие в подвальные помещения, и натянуть вдоль стен сетки, какими страхуются тротуары, проложенные в опасной близости от реконструируемых зданий.
Вспомнив про стену и светящуюся надпись, Кравцов стал прикидывать, куда именно могла указывать виденная ночью стрелка. Судя по всему, на дальний, восточный угол здания. Стоило бы пройтись туда, и…
Он не закончил мысль. Гриша позвал его — каким-то новым, напряженным голосом.
— Посмотрите: верхний слой тут убрали, похоже, срезали лопатой…
Кравцов посмотрел — действительно, у стены перемешанная с мелкой кирпичной крошкой земля на площади в пару квадратных метров выглядела по-другому. Но тот, кто занимался этой работой, не заметил два небольших пятна на стене, весьма напоминавших спекшуюся кровь. А Гриша — заметил.
Больше в зале парень не отыскал ничего, несмотря на все старания. Следующую находку сделал Кравцов — опять отошедший, чтобы не мешать. Отошел он к провалу в полу и увидел: на неровном, ощетинившемся кирпичными зубьями краю — еще одно побуревшее пятно. Опять кровь.
Кто-то уходил этим путем — раненый? Или волокли труп? Чей? Спускаться вниз, в подвал, и искать ответы на подобные вопросы не хотелось. Но пришлось.
…Дыра вела в подвальное помещение — небольшое и изолированное от остальных подземелий. Внизу оказалось относительно светло, фонарь не понадобился, — прореха в перекрытии неплохо освещала место действия. Сюда, похоже, наводившие порядок рабочие не полезли: в пятне света виднелись разбросанные по земле банки, бутылки из-под портвейна, прочий мусор. В углах таилась тьма.
Гриша старался выглядеть спокойным — получалось плохо: нервно облизывал губы, на лбу выступили бисеринки пота. И каждый шаг делал медленнее предыдущего. Кравцов подумал, что парнишка совсем молодой — года двадцать два, двадцать три самое большее… И взял инициативу на себя: быстро прошел в дальний и темный угол, направил луч фонаря к стене…
Увидев разрубленную — глубоко, до переносицы — голову и широко раскрытые мертвые глаза Костика, Кравцов отчего-то не испытал ни ужаса, ни потрясения. Лишь мрачную уверенность: со всем здешним беспределом пора заканчивать. А еще — не менее мрачное подозрение: заканчивать придется именно ему.
«Никуда не поеду, — подумал он со злостью. — Останусь именно здесь, рядом с руинами, пусть Козырь думает что хочет. Пусть увольняет и объясняет причину увольнения… И еще многое ему придется объяснить».
Это не была вспышка эмоций. Всё, копившееся в душе последние двое суток, сжалось, спрессовалось — и превратилось в холодную и жесткую решимость. Хватит успокаивать себя. В Спасовке правит бал непонятная бесовщина. Кто бы ни стоял за ней, Кравцов до него доберется. И мало гаду не покажется.
Такой холодной, трезвой злости Кравцов не испытывал давно. С тех пор как в примыкавших к их военному городку предгорьях засел снайпер — и первым делом обстрелял автобус, везущий детей в школу…
2
Алекс знал, куда он должен отвезти и кому отдать бронзовый пятиугольник. Он давно перестал удивляться знанию, приходящему ниоткуда, возникающему из загадочного бормотания в голове.
Однако, с трудом впихнув штуковину в салон «Волги» и замаскировав найденным в багажнике тряпьем нестерпимый блеск сверкающей бронзы, он медлил с отъездом. У него крепло убеждение, что никому отдавать убивший Карлсона предмет нельзя. Что он, Алекс, не может и не хочет с ним расставаться. И не расстанется. С этой игрушкой никакие голоса не страшны, отчего-то был уверен Алекс.
Стоит лишь понять, как с ней обращаться — и тогда он сам сможет командовать армией марионеток, подвешенных на ниточках боли и страха. И власть Первого Парня, которой Алекс упивался перед дебилами-корешами и дешевыми подстилками, покажется детскими шуточками. Эвханах.
Но это как раз самое сложное — научиться… Голос тут не помощник… Чудовищное зрелище останков приятеля-домушника до сих пор стояло перед мысленным взором Алекса. С ним такого не случится, надеялся он, надетый на шею кулон предохранит или хотя бы предупредит… Зато вполне может случиться что-нибудь другое… Вполне вероятно, даже более страшное.
Но есть человек, который знает и поможет. Аделина. Сейчас Алекс не сомневался, что неспроста обратил еще три года назад на нее внимание, хотя она никоим образом не походила на грудастеньких и задастеньких мочалок, наиболее его привлекавших. И недаром потратил время, медленно и осторожно с ней сближаясь, не предпринимая попыток немедленно завалить в койку…
Всё не зря.
Она знает. Она расскажет. Она объяснит. Потому что теперь Алекс другой. Теперь и его грудь украшает маленький золотистый пятиугольник… Командовать парадом предстоит, конечно же, ему, — но Ада будет рядом. Достойная подруга Первого Парня — первого уже отнюдь не только на деревне…
Тем более что главное препятствие исчезло. Тарзан, не пойми зачем заявившийся в Спасовку и непонятно чем привлекший Аделину, — мертв. Лежит наверняка в царскосельском или коммунарском морге, и божедомы кумекают, как бы привести тело, разодранное осколками гранаты, в пристойный для похорон вид… Алекс уже не мог понять, устроил ли он сюрприз на «ракетодроме» во исполнение инструкций голоса или же по личной инициативе, которой незримый хозяин лишь не препятствовал… Бывший хозяин, злорадно подумал Алекс. Эвханах.
(Первая половина жизни Алекса прошла в период медленного, на манер Великой Китайской стены, возведения коммунизма. Вторая — когда пресловутая стена рассыпалась и былые святыни втоптали в грязь. Но Александр Шляпников не страдал склонностью к философским обобщениям и никогда не задумывался, что проще всего управлять рабами, мнящими себя свободными людьми. Не задумался и теперь.)
Минутная стрелка нестерпимо медленно наматывала круги. Алекс сидел в раскалившейся на солнце машине и терпеливо ждал возвращения Аделины. Она придет. Она тоже наверняка не может надолго расстаться с бронзовой штукой. Придет и расскажет всё, что знает. Эвханах.
Но когда он наконец увидел в зеркальце заднего вида приближающуюся Аделину — вернее, когда понял, с кем она идет, — все планы мгновенно вылетели из головы. Алекс зарычал — хрипло и яростно, как раненый хищник. Дернул ключ зажигания, чуть не сломав его. «Волга» с непрогретым движком рванула с места с таким же хриплым рыком…
На бешеной скорости выруливая на проспект Космонавтов, Алекс понял, что убьет проклятую шлюху. Эвханах.
А еще понял, из кого кроме нее можно выпотрошить — в самом буквальном смысле — всё, что стоит узнать о бронзовом пятиугольнике. И он выпотрошит. Эвханах.
3
— Не надо никому ничего рассказывать, Леонид Сергеевич, — сказал седой человек на прощание, когда длинный мешок из плотного пластика загружали в машину.
Ни малейших просительных либо угрожающих ноток в голосе человека не слышалось. Лишь непоколебимая уверенность, что просьба будет выполнена. В чертах лица седоголового определенно просматривалось фамильное сходство с покойным Костиком, но спрашивать о возможном родстве Кравцову не хотелось. Впрочем, он мог и ошибаться.
Небольшая кавалькада — микроавтобус и два джипа — уехала. Кравцов остался один. Рассказывать кому-либо о находке в подвале «Графской Славянки» он не собирался. Тем более делать официальные заявления людям в погонах. После недолгого разговора с седоголовым сомнений не осталось: теперь за убийцу возьмутся всерьез. Не только и не просто отрабатывая контракт с бизнесменом Ермаковым… Если в схватку с Костиком в развалинах вступил всё же Сашок, то лучший выход для него — немедленно сдаться властям. Отправят в Саблино, и все дела…
Но едва ли всё закончится так легко и мирно. Слишком в тугой клубок сплелись в Спасовке дела минувших дней и странные происшествия дней нынешних.
Сегодня, незадолго до визита Гриши, Кравцов в очередной раз в этом убедился, когда развернул найденный на верхней полке шкафчика рулон ватмана. Рулон неприметно пылился там среди кучи бумажного хлама: старых инструкций по технике безопасности и допотопных платежных ведомостей, пожелтевших бланков наряд-заданий и затрепанных номеров «Огонька» времен угара перестройки.
Собираясь покинуть вагончик навсегда, Кравцов решил досконально, по листочку, осмотреть всю коллекцию. Вдруг найдется еще что-либо, оставшееся от Вали Пинегина?
Нашлось.
Похоже, именно к этому документу могла относиться запись па расшифрованной странице тетради: «Схема пер-ть ». Хотя лист оказался не совсем схемой — точно и подробно вычерченным планом Спасовки и окрестностей. Изображен был не только каждый дом, но и все надворные постройки. Судя по тому, что на плане обнаружился и вагончик-сторожка, съёмку производили недавно. Самое раннее — прошлой осенью. Масштаб Кравцов оценил как сто метров в одном сантиметре и удивился: где, интересно, Валя смог «пер-тъ » такой точнейший план? Загадка…
Еще более загадочным казалось изображение, нанесенное явно позже, чем появилось на свет это чудо топографического искусства. Пять кружков разместились в виде абсолютно правильного пятиугольника и соединялись по периметру тонкими карандашными линиями. От каждого угла получившейся фигуры шла линия к шестому, большему кружку, размещенному в геометрическом центре пятиугольника. Этот кружок захватывал бывший парк, сторожку Кравцова, малую часть акватории Торпедовского пруда, Спасовскую церковь и край кладбища. И — руины. Одно крыло графских развалин попало внутрь окружности…
Кравцов попытался определить, на какие объекты попадают вершины пятиугольника. Три из них лежали в пределах Спасовки — неподалеку от изогнувшегося дугой шоссе. Две — в стороне от каких-либо построек.
Та-а-ак… Одна точка — озерцо, никаких сомнений. Нежданно-негаданно появившийся три года назад кастровый водоем. Вторая и третья — участки с жилыми домами. Кравцов попытался вспомнить, кому они принадлежат. Процессу идентификации помог, как ни странно, недавний кошмар, в котором Кравцов парил бесплотным духом над затаившейся в ночной тишине Спасовкой… Примерно таким село и представлялось с высоты птичьего полета.
Объект номер два — дом Шляпниковых. Точно, именно здесь бестолково бродил обнаженный Алекс… Вернее, Кравцову снилось, — что бродил.
Над третьим кружком пришлось размышлять дольше. Гносеевы? Нет, у них на задах выкопан прудик, а подобные водоемчики на плане изображены весьма тщательно… Карпушииы? Не они — нет вплотную примыкающих к дому гаража и хлева… Ворон? Точно, Ворон! Его халупа…
Однако… Четыре точки вполне соответствовали четырем узловым моментам кошмара… Неужели Пинегину привиделся точь-в-точь тот же сон?
Зато расположение двух оставшихся углов никаких ассоциаций не вызывало. Один оказался на пологом склоне долины Славянки — и сколько ни напрягал Кравцов память, ничего достойного внимания поблизости того кружка он не вспомнил.
Последняя вершина фигуры угодила на болотистую пустошь, именуемую пятнадцать лет назад «леском». Ничем не примечательное место. Кстати, Валю Пинегина (если именно он изобразил фигуру) данная точка тоже чем-то озадачила — рядом нарисован жирный знак вопроса. Других поясняющих дело пометок на карте не обнаружилось. Ни единой подписи, вообще ни единого слова. Лишь топографические значки, отметки высот и т.п.
Визит Гриши и приезд подмоги, вызванной тем после находки трупа, оторвал Кравцова от изучения загадочного плана. И сейчас, когда «охотники» укатили, он возвращался в сторожку с неприятным подозрением: план Спасовки за прошедшие полтора часа исчез. Бесследно испарился, как пинегинская тетрадь.
Обошлось.
Рулон лежал там, где Кравцов его оставил. На всякий случай он срисовал план в блокнот — достаточно грубо и схематично, но постаравшись как можно точнее изобразить две последние, оказавшиеся за пределами села вершины фигуры.
Пожалуй, это зацепка. Стоит пройтись по обозначенным точкам. Поговорить с Алексом и Вороном. Расспросить людей, чьи дома в непосредственной близости от озерца. Поточнее привязать к местности четвертую и пятую вершину — вдруг да обнаружится что-нибудь интересное…
Нe менее важным казалось добраться наконец до загадочного Архивариуса — и узнать, что же такое тот раскопал для Пинегина.
Да и в город стоило смотаться, забрать «Ниву» из ремонта…
Но Кравцов медлил приступать к исполнению созревших планов. Причина была одна: Наташка. Хоть она и уверяла вчера, что пребывает в полной безопасности, но… Что, если иллюзия этой безопасности — всего лишь хитрый ход со стороны Сашка? Действующего в одиночку и не имеющего возможности сторожить заложников? И поэтому предоставившего Наташе считать, что всё происходит по её воле… А на деле способного в любой момент вернуться к её убежищу и сотворить всё, что захочет.
При мысли о том, что сделал Сашок с Динамитом здесь, на графских развалинах, Кравцов передернулся. Представил чересчур ярко и зримо… Опасно иметь развитое воображение. В каком, интересно, помещении дворца происходила та трагедия? Отчего-то не было сомнений, что именно в крыле, угодившем в центральную окружность на плане…
Самое гнусное, что ничего предпринять в данном направлении Кравцов не мог. Не умел. Он умел чинить военную вычислительную технику, а потом жизнь заставила научиться обезвреживать растяжки и отыскивать в предгорьях позиции снайперов, потом пришел черед писательского ремесла… Но навыков оперативно-розыскной работы получить ему было неоткуда. А дилетанты успешно ведут следствие только в штампованных детективных романчиках…
Оставалось надеяться, что седоголовый зря слов на ветер не бросает. Хотя… Костик тоже был абсолютно уверен в успехе. Возможно, господину писателю придется-таки осваивать самоучкой ремесло охотника на людей. В конце концов, и всех остальных навыков и умений у него когда-то не имелось…
Хоть бы Наташка еще раз позвонила, подумал Кравцов.
И в этот момент — не раньше и не позже — зазвонил телефон.
4
— Держись, Борька!!! — истошно выкрикнула Женя.
Он бы и рад, но держаться оказалось не за что. Редкие кустики хвоща, за которые хватался Борюсик, едва-едва держались в топкой почве — и тут же выдергивались, оставаясь в его руках. Он бился, дергался, разбрасывая в стороны торфяную жижу — и с каждым движением погружался всё глубже.
Ему стоило бы замереть неподвижно, раскинув руки как можно шире, — тогда процесс погружения в топь по крайней мере бы замедлился. Но подобные трезвые и логичные мысли в головы тонущим людям приходят редко.
Даня в панику не впал. Хотя тоже рухнул в сторону от гати, когда разорвался позаимствованный у Пещерника шнур— веревка, верой и правдой служившая под землей, не иначе как подгнила или истрепалась… И лопнула при попытке вытащить шедшего первым и провалившегося Борюсика.
Упавший навзничь Даня почувствовал, как подается под его весом тонкое переплетение корней. Мигом проступившая вода захолодила тело. Он замер. Паутина корней подалась еще немного, но выдержала. Аккуратно, медленно Даня перекатился на более твердое место, нащупал жерди гати, поднялся на колени, затем на ноги.
Лишь потом посмотрел на Борьку. Тот погрузился уже по плечи. Женька, попытавшаяся броситься ему на помощь, через шаг увязла по бедра.
— Замри! — страшным голосом гаркнул Даня.
Он не конкретизировал, к кому обращается, — и послушались оба. Хорошо знали Даню и верили: поможет и вытащит.
Начал он с Женьки, та стояла к нему гораздо ближе. Сложил вдвое, потом вчетверо оставшийся в руке обрывок веревки — и достаточно легко вытянул на гать девчонку, весящую чуть ли не вдвое меньше Борюсика. А тот тем временем погрузился еще на пару-тройку сантиметров.
Длины оставшейся веревки не хватало, чтобы добросить её до тонущего. Да и никакой гарантии, что снова не лопнет. Самому лезть в топь — завязнешь точно так же. Досок прихватить с собой их троица не озаботилась.
Метрах в трех от того места, где торчала из болота Борькина голова, росла на кочке березка — хилая, дистрофичная, не пойми как и за что цепляющаяся корнями. Если согнуть тонкий стволик, то Борюсик сможет уцепиться за ветви. Но добраться до деревца та еще проблема…
Даня стер пот со лба, оставив полосу грязи. Негромко сказал Женьке:
— Стой тут. Что бы ни случилось — с гати ни ногой. Поняла? ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ!
Потом крикнул с напускной веселостью в голосе:
— Не дрейфь, толстяк! Сейчас вытащим! Хоть и нелегкая это работа — Борова тащить из болота!
Борька ничего не ответил. Дышал тяжело, загнанно. Но дергаться больше не пытался. И то ладно.
Даня вздохнул и сделал осторожный шаг с гати. Тонкий ковер растений заходил ходуном, прогнулся, но выдержал. Второй шажок — и Данька почувствовал, как корни расступаются, нога уходит всё глубже…
Он торопливо опустился на четвереньки, выдернул увязшую конечность. Дальше пополз по-пластунски, стараясь опираться на болото как можно большей площадью тела. Трясина колыхалась мягко и упруго, как водяной матрас. Словно укачивала, убаюкивала: приляг, отдохни, не дергайся, что ко мне попало — то моё…
Данька полз упрямо. И, ему чудилось, бесконечно долго. Пару раз приподнимал голову, смотрел на березку: вновь, как ночью на озере, подумал, что сбился с правильного направления, что давно уже пора бы добраться до дерева…
Борьку — лежа — он видеть не мог. Но когда до кочки оставалась пара метров, прозвучал отчаянный крик Женьки:
— Данька, быстрее!
Он стиснул зубы и постарался ускорить движение. Трясина заколыхалась сильнее, опаснее. Пара отчаянных усилий — и он выбрался на кочку. Здесь оказалось потверже, можно было стоять. Даня навалился на упругий, податливый стволик.
— Хватайся!
Над болотом виднелось задранное к небу лицо Борюсика — жижа дошла до его ушей. Казалось, помощь запоздала. Казалось, еще секунда — и топь сомкнётся над жертвой, выпустив наружу пузырями лишь воздух из лёгких…
Однако едва согнувшаяся березка коснулась кроной болотного хвоща, из-под поверхности взметнулись две перемазанных руки и вцепились в ветви. Кочка-островок заходила ходуном. Борюсик медленно, по сантиметру, стал выбираться…
…Потом они простирнули одежду в небольшом торфяном карьерчике — аккуратно, у самой поверхности, чтобы не взбаламутить топкое дно. Прижавшись, сидели тесной кучкой у чадящего костерка — сырые ветви горели неохотно, с шипением и треском.
— Неужто Гном тут все в одиночку отгрохал? — с сомнением говорил Даня. — Целый лабиринт ведь из гатей фальшивых. И в самые топкие места ведут…
— Гном мог, он такой… — подтвердил Борюсик. В голосе звучала нешуточная ненависть. Услышал бы Гном его слова — наверняка принял бы решение организовать Боре учебно-познавательную экскурсию на Кошачий остров, до которого троица столь безуспешно пыталась добраться.
— Похоже, до зимы нечего и соваться, — констатировал Даня. — Если, конечно, у тебя знакомых вертолетчиков нет. А то березка так удачно может и не подвернуться.
Но его приятель был настроен решительно и непримиримо. Память вновь и вновь возвращала Борюсика к происшествию на скотном выгоне. Такое не прощается и не забывается… Откладывать месть до зимы Боря не собирался. И почему-то считал: стоит ему попасть на недоступный островок, одинокие походы Гнома на который он осторожно, издалека проследил, — и возможностей отомстить появится предостаточно.
— Может, с другой стороны попробуем? — предложил он. — С озерца?
Даня покачал головой:
— Да какое там озерцо… Ты сам же видел — лужа топкая. Воды с ладонь, а ниже дно жидкое, палка на всю длину уходит. Ни вплавь, ни на плоту не подберешься.
— С Пещерником надо потолковать, — предложил Борюсик. — Он точно что-нибудь придумает…
Женька в их дискуссии участия не принимала. Ей отчего-то расхотелось на загадочный островок…
О том, что они не дошли всего каких-то пару сотен метров до самого центра кружка, отмеченного знаком вопроса на плане, попавшем в руки писателя Кравцова, никто из троих, естественно, не догадывался.
…Отогревшись и кое-как подсушив одежду, через час они ушли с «болотца». И совсем ненамного разминулись с Гномом — тот шагал в свои владения в самом радужном настроении, его не могла испортить даже тяжесть досок и реек, изрядную связку которых он тащил на плече.
Гном остановился, связка плюхнулась в грязь, смолк насвистываемый бодрый мотивчик.
Он долго рассматривал следы на топи — его ловушки сработали почти все, но неведомые пришельцы оказались близки к успеху. Опасно близки.
Затем Гном прошел к ещё дымящемуся поблизости кострищу. По дороге осмотрел лужицу, где Даня с друзьями устроили постирушку. Оценил следы босых ног, вернее размер следов, и понял: взрослые мужчины сюда не приходили… И тут же подумал про Борова с его намеками. Неужто жиртрест не внял предупреждению?
У костра нашлась интересная вещица, не иначе как позабытая кем-то из незваных гостей. Темный, с прожилками камешек — гладкий окатыш с отверстием посередине. Куриный бог. В отверстие была продернута веревочка.
Гном долго вспоминал, у кого на шее видел этот амулетик. И вспомнил-таки. Нехорошо осклабился. Так стремишься на остров, детка? Ладно, попадешь…
5
Звонила не Наташа. Звонила Ада, о которой Кравцов несколько позабыл за всеми перипетиями минувших суток. Услышав её голос, господин писатель, честно говоря, собирался быстренько узнать, всё ли у девушки в порядке, — и освободить телефон. Почему-то казалось, что Наташа именно сейчас должна позвонить снова…
Разговор действительно длился недолго, меньше минуты. По его окончании Кравцов собрался почти мгновенно, как будто старался уложиться в жесткий армейский норматив. Запер сторожку, чуть не бегом пересек парк… Голосовать долго не пришлось, хотя здесь, по областной второстепенной трассе, машины ездили реже, чем в городе, И пассажиров подсаживали реже. Но случается порой, что энергетика голосующего пассажира через взмах руки как-то передается катящему мимо водителю — и нога того почти машинально давит на тормоз…
…Аделина уже ждала его — сидела в одиночестве на скамейке в чахлом скверике у проспекта Славы. Сидела давно. Молодые люди, любящие подсаживаться к одиноким девушкам, отчего-то обходили скамейку далеко стороной, словно нечто в позе или взгляде Ады отталкивало их.
Но Кравцов подошел и сел. Некоторое время они просидели молча, не зная, как начать разговор. Вернее, как продолжить начатый по телефону…
Потом Ада сказала:
— Мне надо очень многое рассказать тебе… История длинная и запутанная, даже не знаю, с чего начать…
— Подожди, — остановил её Кравцов. — Сначала объясни свои слова о том, что ты «персонаж моей книги». Я, знаешь ли, чуть не свихнулся, когда пришел к такому же выводу.
Она вздохнула. И, глядя ему прямо в глаза, начала объяснять.
Большой Бабах.
Торпедовский пруд. Август 1983 года
Рассказ записан по памяти Кравцовым Л. С. («Тарзаном») со слов случайно встреченного у Спасовского магазина Тюлькина В.Н. («Тюльки»). Приводится в сокращении. Строй речи рассказчика по возможности сохранен.
…Нет, Тарзан, ничего чтоб такого про развалины не припомнить как-то… Разве что… да нет, ты про Гуньку-то Федосеева и братана его сам всё знаешь. А больше ничего…
Но поблизости было раз дело… На пруду, на Торпедовском. Черепа помнишь? Да нет, другого Черепа, того, что в старом школьном саду велосипед на костре взорвал… В бега подался, говоришь?.. Ну да, так тогда и посчитали все…
В общем, с Черепом там, у пруда, случилась история нехорошая… Паскудная, прям те скажу, история… Да нет, не помню я подробностей — чай, двадцать лет скоро тому стукнет… Нет, Тарзан, спешу, извиняй, — суббота, баню топить надо, да и Зинка у меня та еще стерва, сразу начнет… Ну разве что по полста, перед банькой… нет-нет! «Столичной» не бери, палёная… Ты вон ту нам, Анчута, дай — с синей наклейкой. Да нет, литруху давай, из мелкой пить — только рот пачкать. Пару стакашков разовых, и на зубок чего кинуть заверни…
Нет, здесь не стоит. Во-о-он туда пройдем, на пригорок, на солнышко, а то живо набегут, на хвост сядут…
Ну ладно, со свиданьицем! Ы-э-э-эх! После первой не закусываем…
Да, так вот, Гошка Череп… Случилось там такое дело… Знаешь, накапай-ка по второй сразу, чтоб уж не отвлекаться после от истории… Э-э, чтой-то обижаешь себя… Печень бережешь? Здоровеньким помереть собрался? Ну, дело твое… Ы-э-э-эх! Хороша… А килечка-то дерьмо, пересолена у Анчутки килечка… Во, потеплело, теперь и закурить можно… Ты вот мне что скажи, Тарзан, как городской, значит, житель…
А-а, с Черепом-то что… Ну-у, с Черепом вот что вышло… Как бы сказать попроще… Ну, ты пока по третьей налей, а я с мыслями соберусь…
(Примечание Кравцова: до сути своей истории Тюлька добрался, только опустошив почти единолично около трех четвертей бутылки. А перед тем всеми силами старался увести разговор в сторону. Но поведанный в конце концов сюжет, по-моему, стоил потраченного на общение с Тюлькой времени. Дальнейшая его речь очищена от предложений присоединиться к распитию, обсценной лексики и бессодержательных междометий, вставляемых к концу рассказа все чаще и чаще.)
…Череп точный был маньяк — сам, наверно, помнишь. Тока у нормальных-то маньяков одна мания в мозгах сидит, а у этого сразу две — внахлест, вперемежку. Хлебом не корми, дай чего взорвать, — это, значит, первый сдвиг по фазе. А второй — сам не свой Череп был до рыбалки. Другие-то пацаны тоже с удочкой посидеть на пруду любили, бредешок потаскать по Славянке, но этот… А-а, и ты помнишь, как он все по прудам шлялся?., Ну вот. Но сам знаешь, что у нас шкеты удочками ловят — карасят с мизинец. А Черепок был… Как же называется-то это… А-а, во: мак-си-ма-лист. Точно. Ему сразу и много хотелось. Все бомбы изобретал — чтоб рыбу глушить, значит. Только ничего не получалось поначалу, это те не раму велосипедную порохом копаным набить да в костер засунуть. Вода-то, она мокрая…
Тогда Череп наш на карбид перешел, а бомбы из бутылок стал ладить. Из-за того и я с ним в этом деле сошелся — отец со стройки карбид приносил, ну а я подворовывал помаленьку для Черепа… А бутылки вместе в пруду взрывали.
Тока дело опять не заладилось. Ну, хлопнет на дне еле слышно. Ну, всплывет пузырище газа вонючего, водоросли перебаламутятся, в воде гадость белесая какая-то облаком встанет… — и всё. Иногда рыбешка-другая вверх брюхом перевернется — тьфу, удочкой и то больше поймаешь…
Вот Череп и предлагает: давай, мол, Тюлька, Большой Бабах устроим — так шарахнем, чтоб вся рыба разом всплыла… Да нет, не бутыль здоровенную взорвать решил — у него задумка круче была. Огнетушитель! Прикинь?! У обычного кислотного ОХП корпус десять атмосфер держит: если отверстия заклепать да карбида внутрь замастрячить — шарахнет так, что мама не горюй. Не хуже снаряда пушечного.
Ну, охэпэшку-то быстро надыбали — в школе со стены сняли, вынесли незаметно, дерьмо жидкое изнутри слили, — и корпус пустой в гараже у Черепа припрятали…
С остальным дольше канителиться пришлось. Карбида-то мне у батяни много зараз не отсыпать было, живо бы просек и задницу намусульманил… Три месяца заряд копили… А сколько зарядить — чтоб разнесло корпус с гарантией, — мы и сами не знали. В бутылки-то на глазок засыпали… Хотели посчитать, какой нужен заряд-то — взяли учебник химии, формулы нашли, киломоли всякие с киломухами, закон гея Люсака приплели из физики… Тока цифры дурные какие-то получались — не сильны мы оба в науках оказались. Хрен с ним, решили без всякой арифметики сыпать — сколько влезет. Чтоб с запасом, значит.
Вот… Долго готовились, месяца два, — едва к августу и управились. Тут ведь не только ж бомба потребовалась. Мы так прикинули, что уж центнера два-три рыбы из Торпедовского пруда всплывет точно — здоровый прудище-то, не лужа какая-нибудь на «болотце»…
Не вплавь же ту рыбу собирать? Да и тащить до дому изрядно…
В общем, снарядились капитально. Плотик сладили — настил треугольный из досочек, по углам три камеры пришпандорили мотоциклетных — небольшая штука получилась, легкая, но человека с запасом выдерживала… Весло выстрогали — на Торпедовском шестом до дна не больно-то достанешь. Ну сачок опять же приготовили, мешков побольше под рыбу. Фонарь мощный — взрывать-то ночью глубокой собрались, чтоб не помешал никто.
Вот…
Короче говоря, той ночью, после полуночи, Череп мне тихонько в окошечко: тук-тук-тук… Я одетый уже, наготове. Причиндалы в сарае тоже все приготовлены. Загрузили всё добро на тележку большую четырехколесную — ну и покатили в гору, к пруду Торпедовскому. Чапаем — а над головой ни облачка, звезд на небе — как прыщей на роже у Васьки-Шитика, помнишь такого? Красивая ночь, в общем. Но — неприятная какая-то. Темно — редко-редко где огонек в окне горит. И тихо — разве что собака какая брехнет раз-другой и смолкнет.
Но мы ничего, бодримся, хотя менжа и пробивает — за задницу на таком деле прихватят, мало не покажется… Но друг перед другом хорохоримся, виду не подаем…
Дошли до пруда, в общем. Сгрузились, бомбу в последний раз проверили. Все вроде в порядке. Заряжать стали. Залили баллон водой до половины, карбид аккуратненько внутри сверху подвесили, под крышку, в сеточке тюлевой — чтоб раньше времени не зашипело, а только когда в воде перевернется…
И осторожно в сторонку отставили — не задеть, не опрокинуть невзначай. Вроде всё сто раз просчитано-продумано, а очко всё равно играет. Страшновато. И бутылка-то с карбидом в руках взрывается — мало радости, а тут такая дурища…
Тем временем вопрос всплыл: а кому, собственно, бомбу на середку пруда вывозить? Плотик наш двоих никак не сдюжит. Стали соломины тянуть — выпало Черепу. Он всегда отмороженный был — обрадовался даже. Своей рукой, значит, решил Большой Бабах учудить. Пускай, думаю, я-то не больно с той дурой плыть хотел…
Ну ладно. Плюхнули плотик на воду, взгромоздился Черепок на него. И тут накладка вышла. Грузоподъемность-то мы загодя испытали, а как весла слушается — нет. Хреново грести получалось. Крутится плот, рыскает, — а вперед еле-еле ползет. Туда-то ничего, добултыхать можно… А потом, к берегу? Когда на дне обратный отсчет пойдет? Задачка…
По счастью, у меня моток шнура нашелся, метров тридцать. Капронового, тоненького — чуть толще суровой нити. Но вроде крепкого… Решили: обратно Череп грести будет, а я его за шнурок тот подтягивать.
В общем, поплыл. Я на берегу, шнур разматываю — другой конец к плоту привязан. Ну, догреб он до середины, да и бултыхнул баллон вместе с грузом привязанным. И обратно скорей. Череп гребет со всех сил, я тяну — и все равно кажется: медленно, не успеет. Щас, думаю, как грохнет — и закачается Черепуша кверху пузом рядом с рыбками… Так за него перебздел — уж лучше бы сам поплыл…
От мыслей этих потянул, видать, слишком сильно. Шнурок мой — щелк! — и лопнул!
Присел я, взрыва ожидаючи, секунды в уме считаю… А Череп матерится, но веслом плюхает — а что ему еще делать?
И ничего, успел. Скоком на берег, вместе со мной за пригорок какой-то залег… Лежим, Большого Бабаха ждем. И — ничего. Тишина. Время капает, земля холодная — надоело, встали, подальше отошли, на бревнышко какое-то уселись… Ситуёвину обкашливаем. Сами себя успокаиваем: не бутылка всё-таки, корпус мощный, хрен его знает, как быстро под таким давлением газ выделяется — может, едва-едва… Решили ждать до упора. Пока не шандарахнет. Жаль трудов-то двухмесячных…
Сидим, ждем. О том о сём шепотом разговариваем. У Черепа папиросы нашлись — покурили. А штука всё никак взрываться не хочет. И чувствуем мы: не взорвется уже. Но сидим — на чистом упрямстве.
А вокруг ночь… Вроде и тихая, безветренная, а какие-то звуки всё равно слышатся. Негромкие и непонятные… Порой типа как птица вдали кричать начинает, а вслушаешься: вроде и не птица вовсе… Сначала, пока мы с бомбой да плотом возились, не обращали внимания, а теперь-то сидим, прислушиваемся, Большой Бабах ждем… И, знаешь, — неприятно как-то стало. Да и место не из лучших: в спину развалины пустыми окнами уставились, кладбище опять же рядом. И до Чёртовой Плешки рукой подать — хотя про нее говорят, будто она то на одном, то на другом месте объявиться может…
В общем, разговор наш смолк сам собой, сидим, друг к дружке жмемся… Надо бы уходить домой по уму, но дело на принцип пошло. Ночь безлунная, одни звезды на небе — мы со скуки на них пялимся, падающие высматриваем — чтоб желание загадать, значит. У меня одно наготове было: Ленке Протасовой вдуть по полной программе. А какие еще желания на шестнадцатом году бывают? Тока такие… Но они, звезды в смысле, всё не падают и не падают…
Позже, правда, какая-то сверзилась-таки сверху, но мне к тому времени уже не до Протасихи стало…
Потому как Череп на другом берегу пруда странную вещь углядел — и мне показал. Я сначала-то долго пялился, ничего не видел… Но затем рассмотрел всё же. Вроде как стоит там машина, не то белая, не то светло-серая — едва на фоне деревьев видна. По контуру на «Ниву» похожая, но велика больно, с трактор размером примерно… Непонятная, в общем, штука.
А самое странное — шли мы вроде с той стороны, да ничего не заметили. Хотя, понятно, и проскочить в темноте могли…
Посидели мы, поспорили: что там оказаться может. Так ничего и не решили. Череп давай подначивать: пошли, мол, глянем, что там такое… Заодно разомнемся-согреемся. Он всегда шебутным пацаном был.
А мне в падлу хилять в обход, но одному в темноте тут торчать кайфу еще меньше. Ладно, пошли… Обошли пруд, потыкались туда-сюда — ничего похожего нету. Как испарилась машина. Уехать не могла, двигателя мы не слышали… А самое главное, сомнение берет: на то ли место мы вышли… Ни тележки нашей, ни плота не видать с этого берега…
Делать нечего — вернулись. Глядь: стоит машина всё там же. Тут Череп завелся: что за чудеса такие? Решил в одиночку туда снова сходить. А я чтоб с этого берега ему наводку давал… И что ты думаешь — потащился.
Я сижу, в темноту пялюсь. Раз — огонек спички на том берегу вспыхнул. Кричу — тихонько, но над водой звук хорошо идет: левее, левее забирай! Погас огонек. Погодя другой появился. Я снова: еще чуть левее! Третья спичка — я командую: теперь назад, мимо прошел!
И всё… В смысле, ни огоньков, ни Черепа. Сижу, жду, а его нет и нет… Кричу, зову, — тишина…
Разозлился я жутко. Вот, думаю, сучара — сыграл шуточку! А мне, значит, все добро домой переть в одиночку…
Но делать нечего, не до утра ж тут кантоваться. Навалил на телегу всё хозяйство, пока до дому допер, восток зарозовел уже…
Ладно, думаю, сочтусь еще с гадом-Черепом…
На другой день он носа ко мне не кажет — боится, ясное дело. И на следующий тоже. А к вечеру мать его прибегает: Гошку моего не видели? Пропал Череп!
Ну дела…
Когда? — интересуюсь.
Она отвечает: с позавчерашнего вечера сына не видела…
Я так и сел. Ничего себе шуточка… Но трепаться про наши ночные похождения не хочется. Отец мой всегда крут был — лупцевал бы за такие дела, пока рука не устанет.
И сказал я так осторожненько: мол, на ту ночь Черепок вроде как на рыбалку собирался, на пруд Торпедовский. В одиночку. Никто не удивился — знали, что он маньяк в этом деле…
Вот тебе, Тарзан, и вся история. Я то место, где «машина» нам приблазнилась, чуть не с лупой обшарил. Ни следочка — ни травы примятой, ничего… Потом водолазов вызывали, Черепа в пруду искали утонувшего, да не нашли… Я-то сразу знал, что не стоит и воду мутить — не тонут люди без плюха и булька, но язык за зубами держал крепенько. Сразу не сказал — как потом признаться?
И в других местах искали — всё без толку. В общем, решили, что Череп в бега ударился — ладил он с отчимом не особо.
А я только потом допёр, что с ним вышло… Не машина там виднелась, понятное дело. ТА-РЕЛ-КА. Понял?! Летучая! Кто сказал, что они обязательно круглые да плоские… Мало ли на чем люди промеж звезд шандарахаются…
Так что гуляет небось нынче Черепок по Альфам-Центаврам, карасей инопланетных удит… А я вот тут, водку с тобой пью, да и та кончилась… Порой думаю: лучше б я пошел те спички зажигать, а он бы мне наводку давал… А то не жизнь, а… Ты ведь знаешь, Зинка, стерва эта, что прошлым вторником учудила…
Ну раз торопишься, я без претензий. Ты иди, Тарзан, иди… А я тут, на солнышке… Полежу, передохну чуток…
Чего-чего? Баня? Зинка? Да и хер-то с ними с обеими…
(Примечание Кравцова: трудно определить процентное соотношение правды и пьяного вымысла в рассказе Тюльки. Можно предположить, что сочиняя (редактируя?) свою историю, Тюлька воспользовался архетипом легенд о Чёртовой Плешке — позаимствовав сюжетный ход про исчезновение людей, отправившихся за белой машиной или лошадью. Несомненно лишь одно: тем летом Гоша Черепанов исчез — и никогда больше в Спасовке не появлялся…)
Глава 9
02 июня, понедельник, вечер, ночь
1
— Ты помнишь точно день, когда к тебе попало это украшение? — спросил Кравцов.
— Точно не вспомнить… — протянула Ада. — Летом, в июне. Загорала на пляже, у Петропавловки. Увидела: что-то в песке поблескивает. Нагнулась — цепочка с кулончиком-пятиугольничком. Пробы нет, но как-то сразу почувствовала — золото. Нет чтоб положить обратно или в реку зашвырнуть… Но мне всего семнадцать было, дуреха дурехой, — обрадовалась… И через два дня отец принес это. Здоровенный бронзовый пятиугольник. Пентагонон. Хотя я только позже узнала, как он называется… Знаешь, по-моему, во второй половине месяца всё произошло — экзамены уже закончились, но выпускного вечера еще не было.
Все совпадало. С точностью до мелких деталей. Кравцов тоже не помнил конкретный день, когда закончил свою повесть — о том, как бомжи принесли в пункт скупки металлов старинный бронзовый гонг. Штуковина — не отправленная в переплавку — обладала интересным свойством: сама собой звенела накануне смерти — чаще всего насильственной — имевших с ней дело людей. И еще несколько неприятных свойств имелось у выдуманного Кравцовым предмета. Вот только выдуманного ли…
На последней странице повести оказался проставлен лишь месяц и год. Июнь двухтысячного…
Кравцову вдруг остро захотелось очутиться сейчас на крохотной кухоньке «хрущовки» Сотникова — сидеть, попивая чешское пиво, и слушать успокаивающие рассуждения о том, что воображение писателей постоянно рождает множество самых загадочных артефактов, а бомжи постоянно тащат к приемщикам множество реальных предметов — порой с непонятными свойствами и неясным назначением. Немудрено, что однажды выдумка совпала с жизнью…
Но вместо логичных выкладок Сотникова он слушал дикую историю девушки Ады, против воли ставшей персонажем повести Кравцова Л. С.
— …Ворона, обычная ворона. На полной скорости врезалась в лобовое стекло — словно атаковала, словно пыталась добраться до Эдика. Стекло выдержало, но руль дернулся в руках, и… — Ада замолчала, явно не желая вспоминать подробности катастрофы, год назад унесшей жизнь её жениха.
Но главное слово прозвучало: ворона. Не благородный черный ворон — излюбленная птица авторов готических романов, — но его непрезентабельная серая родственница, зачастую добывающая корм на городских помойках…
— Даня дружил с Эдиком? — вспомнил Кравцов про юного охотника за воронами.
— Да… Они часто проводили время вместе, сейчас звучит глупо, но порой я даже немного ревновала…
Понятно. Причины ненависти Дани к серым разбойницам оказались глубже, чем представлялось поначалу… Аделина продолжала:
— У аварии нашлись свидетели — и её время установили с точностью до минуты. Именно в тот момент у меня на шее дернулся кулон. Дернулся и нагрелся — не сильно, примерно как перцовый пластырь…
— Ты уверена, что время совпало совершенно точно — не раньше и не позже?
— Уверена. Так уж получилось — взглянула на часы как раз в ту секунду. Я… Мы… Знаешь, я не ханжа и не старомодная девушка — соврала тогда, каюсь — и не шарахаюсь от добрачного секса. Просто не хотелось второпях, где-нибудь на заднем сиденье машины. Хотелось, чтобы были крахмальные простыни, и горели свечи, и звучала тихая музыка. Как раз в тот вечер отец с Даней уехал в Спасовку, на все выходные, и мы с Эдиком решили… Я все приготовила, а он уже немного запаздывал, потому и гнал так быстро. Взглянула на часы, потянулась к телефону… И тут цепочка дернулась. Врезалась в шею.
— А когда зазвенел большой пентагонон?
— Накануне. Сам собой. В запертой комнате. Я не слышала — отец рассказал. Может быть, тогда он и решил избавиться от штуковины. Уничтожить… А получилось наоборот.
Валерия Кирилловича Филимонова, отца Аделины, нашли в комнате, где лежал пентагонон. Мертвого. С пилой-болгаркой в руках — именно сей агрегат и послужил причиной смерти по официальной версии. Фазу пробило на корпус — и сердце не выдержало электрошока. Бытовая случайность… Столь же случайно погиб и Кирилл, парень на год старше Ады — первая, еще школьная её любовь. Ничего там серьёзного не было, но провожая Кирилла в армию, она обещала ждать. Через полгода ждать стало некого, колонна попала в засаду боевиков на подъезде к Грозному. На войне случается всякое… Но Кравцов спросил:
— На ту смерть твои пятиугольники как-то отреагировали?
Ада пожала плечами.
— Не знаю. Большой, может быть и звенел, да в квартире никого не оказалось. А кулон… Не помню… Может, не обратила внимания. Может, просто не заметила — где-нибудь в ночном клубе, на дискотеке. Но после отца и Эдика был еще третий случай. Самый мерзкий.
Она замолчала, и молчала долго. Но все-таки начала рассказывать:
— После гибели Эдика я жила несколько месяцев сама не своя. Ничего не нужно, ничего не интересно… А у нас в группе учился один… Казанова местного разлива. Увидел, что я осталась одна, пригласил в ресторан, имея в виду все вытекающие последствия. А мне было всё равно. ВСЁ РАВНО, понимаешь? Всё не важно… Согласилась — и в тот же день зазвенел пентагонон. На этот раз я оказалась дома — и отчего-то подумала: звонит по мне… Безразлично подумала, вообще без эмоций… И пошла на свидание. Алгоритм наш Дон-Жуан предпочитал стандартный: ужин-выпивка-такси-койка… Но как выяснилось позже, на любовной ниве он немного перетрудился. В результате перед очередным амурным подвигом глотал какое-то убойное снадобье, вроде виагры, но контрабандное, не сертифицированное. И… Сердце не выдержало… еще чуть-чуть — и он умер бы прямо на мне. Когда он… в общем, пока я набирала номер «скорой», цепочка кулона чуть меня не удушила. А сам пятиугольничек нагрелся гораздо сильнее… И я поняла, что нужна пентагонону — не знаю, зачем и для чего, но девственной.
Она продолжала рассказывать, но Кравцов слушал уже не так внимательно. Он представил, что должна была чувствовать Ада ночью, проведенной в его вагончике, — и задним числом ужаснулся.
Когда она дошла в своей истории до того, как случайно прочитала повесть — ту самую, про бронзовый гонг, — и решила познакомиться с автором, Кравцов сказал:
— Произошедшее дальше я примерно представляю. Давай перейдем к событиям дня сегодняшнего. Что случилось? Зачем ты меня так срочно вызвала?
— Я не знаю, что случилось. Побоялась войти в квартиру… Посмотри…
Она оглянулась по сторонам — никого — и быстрыми движениями расстегнула блузку. Бюстгальтер у Ады оказался тоненький, почти прозрачный — однако вовсе не то, что ему теоретически надлежало скрывать, заставило онеметь Кравцова. Чуть выше на груди виднелся ожог в форме правильного пятиугольника — глубокий, напоминающий тавро, которым метят скотину.
— Понимаешь, отчего я не решилась вернуться домой? — печально спросила Ада, застегивая пуговицы.
Господин писатель обрел наконец дар речи:
— А где сам кулон?
— Исчез. По-моему, он попросту испарился.
Кравцов решительно поднялся со скамейки.
— Пошли. Пора покончить с твоим мракобесным металлоломом.
Аделина посмотрела на него испуганно.
— Не бойся, за пилу сразу хвататься не буду, хотя сердце у меня здоровое. Аккуратненько, осторожненько пристроим на исследование в лабораторию — есть у меня знакомые среди деятелей науки.
— Я думаю, ничего твои деятели не обнаружат, кроме монолита из обычной бронзы. Только едва ли смогут изучать это слишком долго… Или у них пожар случится, или взрыв, или подсобные рабочие украдут пентагонон и потащат в пункт приема.
— Всё равно надо идти. Не сидеть же тут до утра, гадая, что стряслось.
От сквера, где состоялся их затянувшийся разговор, до дома Аделины оказалось двадцать минут ходьбы — и Кравцов посвятил их расспросам о пентагононе. Обо всей информации, касавшийся назначения и применения подобных фигур, которую Ада смогла раскопать в оккультных книгах, долгое время служивших предметом её серьёзного увлечения.
Белая «Волга», стоявшая у подъезда, резко тронулась с места и укатила, обдав их струей сизого дыма. Они почти не обратили на нее внимания, увлекшись беседой. И что за рулем сидит Алекс Шляпников, не заметили.
2
Если вы используете в качестве транспортного средства угнанную машину, то ездить стоит неторопливо и аккуратно, соблюдая правила движения. Алекс этим мудрым правилом пренебрег — но, странное дело, внимание постов ДПС бешено мчащаяся по Киевскому шоссе «Волга» не привлекла.
Сам же Алекс от лихой езды несколько успокоился и привел мысли в порядок. К месту встречи с посланцем голоса он подъехал, продумав непритязательный и оттого вполне надежный план действий.
Пресловутое место было выбрано с умом. Отнюдь не живописный, заросший бурьяном и чертополохом пустырь неподалеку от Павловской туберкулезной больницы избегали посещать играющие мальчишки и влюбленные парочки. Даже любители раздавить вдали от чужих глаз бутылку-другую дешевого пойла сюда заглядывали редко.
Алекса такое безлюдье вполне устраивало. Он подрулил к точке рандеву — старому раздвоенному тополю, одиноко растущему почти в центре пустыря. Осмотрелся, но никого не увидел в густеющих сумерках.
Опоздав почти на три часа, Алекс тем не менее был уверен: посланец голоса где-то здесь. Прячется. Маскируется. Внимательно наблюдает из укрытия.
Или не посланец, но сам автор всего творящегося непотребства. Главный кукловод. Это оказалось бы идеальным вариантом. Одним ударом объявить шах и мат…
Алекс вышел из машины, не закрыв водительскую дверь. Отходить от нее не стал. Незачем рисковать. Кто знает, на каком расстоянии бронзовая штуковина перестанет защищать от любителя врываться в чужие мозги и хвататься за чужие мошонки? Он закурил, стараясь, чтобы все движения выглядели спокойными и расслабленными. Еще раз пробежался скучающим взглядом по пустырю.
— Привез? — Голос за спиной раздался неожиданно. Но Алекс заставил себя обернуться спокойно и неторопливо.
Неподалеку стоял человек в черном ночном камуфляже. Откуда взялся — непопятно. Разве что подполз, маскируясь прошлогодним бурьяном. Или таился там с самого начала.
В таком появлении приятного мало, но Алекс обрадовался. Наконец-то перед ним противник не бесплотный, которого можно взять за глотку. Или за иное место. И показать, как опасно шутить шутки с Первым Парнем…
Алекс неторопливо оглядел пришельца — молодым тот не выглядел: в длинных волосах, перехваченных шнурком, обильно сквозит седина, лицо изрезано морщинами. Однако фигура стройная, подтянутая. И суковатая, чуть кривая палка в руках явно не для помощи при ходьбе. Стоит держаться настороже… И выполнять продуманный план, не пытаясь ускорить дело какой-либо импровизацией.
— Привёз, — ответил Алекс, закончив осмотр.
Пришелец шагнул вперед — легкой, кошачьей поступью. Скомандовал:
— Выгружай.
К долгим беседам он не был расположен. Заботливо приготовленная история, объясняющая опоздание, пропадала зря. Но Алекс не расстроился.
— Сам выгружай! — ответил он грубовато, открывая заднюю дверцу «Волги». — И так чуть без руки не остался из-за этой дуры! Ты посмотри, посмотри — вся в кровище!
И он потряс левой кистью, действительно замотанной в бинт, испятнанный чем-то бурым.
Незнакомец нахмурился.
— На пентагонон что-нибудь попало?
В голосе его, доселе абсолютно бесстрастном, прозвучала нешуточная тревога. Алекс подавил довольную ухмылку. Случайный выстрел угодил в десятку! А штука, значит, именуется пентагонон…
— Попало, попало… Сам глянь! Там, на верхней стороне!
Алекс просунулся в переднюю дверь, показал левой рукой на закутанный в мешковину пентагонон — издалека, опасливо, словно и впрямь боялся к нему прикоснуться. Правая его рука опустилась совершенно естественным, замотивированиым движением. Пальцы коснулись холодной стали.
Посланец голоса откинул мешковину своей палкой. И — не зря Алекс резал собственный мизинец! — увидел пятна крови на блестящей бронзовой поверхности. Перегнулся в салон, рассмотрел внимательно. Вздохнул облегченно.
— Выгружай, — скомандовал, разгибаясь. — Ничего стра…
В этот момент Алекс обрушил ему на затылок монтировку, заботливо обмотанную тряпками. Раздался негромкий треск.
3
Ада издала сдавленное бульканье и побежала в сторону ванной. Оттуда донеслись звуки рвоты.
Кравцов остался на месте. Зрелище, конечно, не для слабонервных, — но после серии окровавленных находок, начавшейся с головы Чака, впечатлительность господина писателя значительно огрубела…
Хотя здесь — на месте исчезнувшего пентагоноиа — крови как раз не пролилось. Ни капли. Что было по меньшей мере странно… Лежавшая на паркете половинка трупа — ноги и нижняя часть торса — заканчивалась идеальным срезом, напоминающим пособие по анатомии. Рассеченные сосуды ярко краснели свежен кровью, виднелось содержимое кишечника и спинномозговая жидкость, — однако ни одна жидкость наружу не изливалась, игнорируя все законы физики, касающиеся гравитации и сообщающихся емкостей…
Кравцов почувствовал боль в правой кисти и оторвал взгляд от кошмарной находки. Оказалось, его рука до сих пор судорожно стискивала недавно найденный складной нож — два лезвия торчали из кулака вверх и вниз, шило высунулось между пальцев, словно жало кусачего насекомого. Оружие не особо грозное, но ничего иного под рукой не нашлось в тот момент, когда они с Аделиной поняли: квартира взломана, и взломщик может ещё находиться внутри… Он действительно там находился. Наполовину…
Зачем же спрятали верхнюю часть туловища? — подумал Кравцов. Едва ли кто-то ушел отсюда с этаким свертком под мышкой… И чем разделали беднягу? Меч Сашка работает не так чисто, судя по отрубленной собачьей голове. А здесь, полное впечатление, поработал какой-то медицинский микротом чудовищных размеров, причем способный делать идеальные срезы даже костной ткани… Бред. Не бывает…
Но сам понимал — бывает. И не такое случается с затеявшими игры с пентагононом. И с живущими в самом центре его проекции на карту Спасовки…
…Когда вернулась Ада — бледная, избегающая смотреть на останки, — Кравцов успел понять, что обыскивать закоулки квартиры в поисках верхней половины торса бессмысленно. Что непонятный процесс, убивший неведомым способом неизвестного человека, продолжается.
— Надо позвонить, вызвать милицию… — тихо сказала Ада. — Не знаю, что мы им можем сказать…
— Не стоит никого вызывать, — мрачно откликнулся Кравцов. — Оштрафуют за телефонные шутки. Посмотри внимательно — он стал короче. Когда ты уходила — срез оставлял над ремнем полосу ткани, уцелевшую от рубашки. Теперь её нет, да и ремень почти исчез… Милиция ничего не найдет. Это, похоже, не труп. Имитация, какой-то осязаемый морок… И развеивается таким вот интересным способом…
Он сам так не думал — хотел лишь успокоить Аду. Но она не поверила. И не нуждалась в таких успокоениях.
— Это труп, Кравцов, — сказала она с обреченной уверенностью. — И я боюсь — не последний.
4
Алекс не хотел убивать немногословного посланца голоса. Собирался оглушить, связать, а затем сделать несколько более разговорчивым.
Не сложилось…
Нет, удар не стал смертельным. Но и не оглушил противника. Монтировка вообще угодила не по черепу — по палке, которую каким-то чудом умудрился подставить под удар седой человек.
— Эвханах! — завопил раздосадованный Алекс. И тут же повторил удар.
Вновь на пути его орудия оказалась сучковатая палка. Незнакомец отскочил назад, нехорошо улыбнулся, и только сейчас его лицо показалось Алексу смутно знакомым.
Но рыться в воспоминаниях было некогда. Потому что палка в руках посланца разделилась. Большая её часть осталась в левой руке, а из меньшей виднелась теперь полоса тусклой стали.
Сабля, понял Алекс. Неожиданно оказавшееся в руках противника холодное оружие его не испугало. Он имел богатейший опыт беспощадных драк с использованием любых подвернувшихся под руку предметов. И был уверен, что разделает под орех придурка, спутавшего жизнь с ролевой игрой. Сначала переломит блудливую ручонку, чтоб не хваталась за железки всякие, а уж потом… С воплем «Эвханах!» он ринулся вперед.
Алекс не испугался.
Зато Сашок неожиданно оказался в состоянии, близком к панике.
Он не сомневался, что быстро и без проблем разберется с Алексом-Соплей, невесть что о себе возомнившем (своего визави Сашок узнал сразу). Но всё складывалось не так просто. Умения, достигнутые за три года упорных тренировок под руководством голоса, куда-то подевались. Отточенные движения совершались с трудом, натужно, и получались неловкими и замедленными. Катана оказывалась в нужных местах с запозданием. Сашок отходил под бешеным натиском Алекса, огибая машину и с трудом успевая парировать град ударов. Меч налился свинцовой неподъемной тяжестью — контратаковать Сашок не пытался.
Он предал меня! — мелькнула мысль.
Точно. Голос использовал его и выбросил. Нашел себе новую креатуру — Алекса-Соплю. Все планы покатились к чертям — придется драться за спасение собственной жизни.
И он дрался. Пытался вытащить из памяти забытые приемы — неуклюжие и наивные, изученные давным-давно по старым книгам, без помощи голоса. Получалось плохо. Рука упорно не желала слушаться мозга, а меч — руки.
Сашок начал отступать по пустырю, выбирая момент, когда можно будет удариться в бегство, не рискуя получить удар в затылок. Алекс его преследовал, позабыв в пылу схватки о споем нежелании удаляться от пентагонона.
А потом всё кончилось. Быстро и неожиданно.
Монтировка упала на землю. Алекс скорчился, согнулся, вцепившись руками в пах. Сашок почувствовал, как в движения вернулась привычная легкость, и тут же, не раздумывая, рубанул противника по затылку.
Алекс рухнул лицом в траву. Ноги судорожно дернулись и замерли. Вокруг головы набухало темное пятно.
Сашок несколько раз взмахнул катаной — она запорхала в воздухе стремительно, почти невидимо. Удовлетворенно кивнул и направился к машине, не оглядываясь на труп.
5
Они ехали последней электричкой — точь-в-точь как Гном три дня назад. И точно так же вагон был пуст. Оно и к лучшему — разговор, что вели Ада и Кравцов, для посторонних ушей никак не предназначался.
— Ты уверен, что нам стоит его искать? Я устала жить рядом с этим ! И так радовалась, что всё закончилось…
— Не закончилось ничего, — жестко сказал Кравцов. — И поводов для радости мало. Если бы мы вдруг выкопали на морковной грядке атомный фугас — как ты думаешь: стоило бы радоваться, что он исчез ночью с огорода? При том, что мальчишки на соседнем пустыре вполне могли бы уже разводить под фугасом костер…
Аделина не сдавалась:
— Но почему именно Спасовка? Если тот бедолага «пошел на дело» не один, то сообщники могли утащить пентагонон куда угодно…
Кравцов посмотрел на нее внимательно: бледное лицо, круги под глазами… Спросил тихо:
— Сама-то веришь?
Ада вздохнула. Не верила. Очень хотела верить — и не могла.
Кравцов же после находки плана Спасовки с привязанным к местности изображением пятиугольника не сомневался: чертов пентагонон всплывет именно там. И скорее всего — на графских развалинах.
…Электричка медленно подъезжала к вокзалу, темному и безлюдному. Ни автобусов, ни маршруток не было видно. Таксисты, подстерегавшие днём посетителей Павловского дворца-музея, тоже исчезли с вокзальной площади.
— Поехали через Антропшино, — предложила Ада. — Попутку во втором часу ночи можем прождать очень долго. А пешком через Славянку не больше часа.
Кравцов рассеянно кивнул. Его мучил вопрос: а что, собственно, делать с пентагононом, если они его действительно обнаружат? Отец Ады ценою собственной жизни доказал: грубые механические способы неприменимы. Разве только попробовать нечто суперэффективное. Направленный взрыв, например. Килограммов этак на полста тротилового эквивалента. Старая бронза попросту испарится, развеется на атомы.
Идея энтузиазма не вызвала. Даже если удастся достать как-то и где-то потребное количество взрывчатки, даже если не хватит кондрашка при минировании… Как отреагирует артефакт на удачную попытку уничтожения? Неизвестно. Но Кравцов подозревал, что подземный катаклизм, образовавший озеро-провал, вызвала именно попытка воздействия на соответствующую вершину пентагонона. Механизм процесса оставался тайной за семью печатями. Но поверить Кравцов готов был во что угодно — после сегодняшнего зрелища испарения горе-взломщика (исчезло всё, включая подметки кроссовок).
Ада что-то говорила — Кравцов не слышал ничего. Потому что неожиданно понял: не стоит изобретать велосипедов. Способ радикально избавиться от загадочного и опасного бронзового предмета описан подробно и детально. В его собственной повести.
Смущало одно. Платой за пресловутое избавление стала жизнь придуманного Кравцовым персонажа…
6
Сашок машину водить не умел. К восемнадцати своим годам научиться не успел, а впоследствии в списке доступных пациентам Сабинской психушки развлечений водительские курсы не числились. Последние же три года он жил на нелегальном положении, не угодив в лапы милиции исключительно благодаря подсказкам голоса, — и было не до того.
За руль угнанной Алексом «Волги» он уселся с большим сомнением: удастся ли хотя бы стронуть с места сей агрегат?
Оставалась надежда на голос. Сашок выдержал испытание (он сообразил, что стычка с Алексом стала именно испытанием). Выдержал, и голос выбрал его. Голос знает всё. Голос поможет. Эвханах.
Он посидел несколько минут, закрыв глаза — прислушивался.
Ничего.
Тишина.
Или голос вернул своё расположение лишь на короткое время финала схватки, или… Или он сам НЕ УМЕЛ водить машину.
Мысль о том, что голос может что-то не знать либо не уметь, показалась крамольной. Сашок торопливо оборвал её.
(На самом деле Сашок был прав — хотя, казалось бы, лихая лунатическая езда Алекса свидетельствовала об обратном. Но голос действительно никому и никогда не даровал новых умений. Водительские навыки впечатались глубоко в подкорку Алекса, спал он или бодрствовал. Точно так же старый Ворон имел глубокое понимание поведенческих реакций птиц, рыб и животных… Да и в подсознании Сашка сидело огромное количество блестящих фехтовальных приёмов, вычитанных когда-то в старых книгах, и вроде тогда непонятых, и вроде теперь прочно позабытых.)
Маршировать добрый десяток километров с тяжеленным грузом не хотелось. И Сашок постарался вспомнить всю последовательность действий своего родственника, дядьки Андрея, — когда тот сидел за рулем, а Сашок, тогда еще сопливый пацан, — рядом. Правда, на «двадцать первой» рычаг переключения скоростей располагался на рулевой колонке, но разница небольшая…
…Минут через десять — несколько раз дернувшись вперед-назад и пару раз заглохнув — «Волга» неуверенно покатила с пустыря.
7
До самого разгара белых ночей оставалось недели две, но теоретически не особо густой ночной полумрак должен был позволить пересечь долину Славянки — от станции Антропшино до графских развалин — без излишних хлопот. Даже в отсутствие фонаря. Но это в теории…
На деле же на небо наползла непроглядная, низкая пелена туч — и ночь оказалась гораздо темнее, чем предшествующие. Кравцов в третий раз посмотрел на светящиеся стрелки часов и озвучил свои сомнения:
— А мы случайно не петляем?
Действительно, по прямой тут километра три, — три с половиной. Если учесть все возможные изгибы и повороты тропинки — четыре максимум. Шагали они с Аделиной без малого час, а крутой склон Спасовского кладбища так и не появился.
— Негде нам петлять, — откликнулась девушка. — Тропинка одна… Скоро развилка будет: направо к Торпедо, налево — мимо кладбища к развалинам…
Насколько представлял Кравцов топографию здешних мест, в юности им исхоженных вдоль и поперек, Ада не ошибалась. Но вот про развилку тропинки она уже говорила, и почти теми же словами. «Вот-вот появится», — говорила двадцать минут назад. Но та так и не появилась.
Он попытался вспомнить, как выглядела эта часть долины на плане Спасовки и окрестностей, столь тщательно изученном сегодня. Вернее, уже вчера. Зрительная память у Кравцова была хорошая и тут же нарисовала в мозгу своего хозяина виртуальную картинку. Причем с нанесенным пятиугольником, хотя об этом её, память, никто не просил.
Он понял — пятый угол фигуры, изображенной Пинегиным, не так уж далек от них. С полкилометра, не более. Днем можно бы сделать крюк, поискать, нет ли там чего-либо необычного…
Ночью, конечно же, подобная экскурсия не имела смысла. Если только…
Если только они, сбившись всё-таки с пути, не влетели прямиком в проекцию пятого угла пентагонона.
— Кравцов! — позвала Ада. Он отвлекся от невеселых размышлений. — Посмотри на тропинку. По-моему, ты прав… Мы заблудились.
Он нагнулся. Тропа — недавно широкая и натоптанная — превратилась в еле заметную стежку. И круто поворачивала в сторону. Всё-таки они свернули на какое-то ответвление…
Кравцов поднял голову, долго пытался найти ориентиры вдали — фонари, светящиеся окна. Ничего не увидел. Что Спасовка уже к полуночи спит непробудным сном, он знал не понаслышке. Деревенские жители встают с рассветом — «сов» среди них почти нет. Молодежь же предпочитает ночные развлечения на дискотеках Лукашей или Коммунара… Хотя на станции Антропшино, да и на фабрике «Торпедо» фонари должны светить всю ночь. Скрывает какая-нибудь складка местности? Вполне возможно, рельеф тут изрезанный.
Казалось, до цели их путешествия рукой подать. Сойти с ведущей не туда тропки — и напрямик, по луговине. Совсем рядом.
Кравцов после слышанных рассказов о Чёртовой Плешке предпочел бы не экспериментировать подобным образом. Хотя не очень-то верил в старую легенду. Именно потому, что она была выстроена по характерному для многих подобных историй архетипу, — и Кравцов, как писатель, понимал это хорошо. Но… Но дыма без огня не бывает. Легенды на пустом месте возникают редко. Если Чёртовой Плешкой местные жители действительно прозвали одну из пяти загадочных пинегинских точек, то можно ожидать самых поганых сюрпризов.
— Пойдем обратно, — сказал Кравцов, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Где-то дорожка всё-таки разветвилась — днем ты могла то место и не замечать. Вернемся на главную тропу и начнем всё сначала.
Внутри всё сжалось. Сейчас — согласно архетипу легенды — Аделина заспорит о коротком пути, и они расстанутся, и затем появится не то белая машина, не то белая лошадь…
Но, похоже, в легенды верить действительно не стоило: Ада тут же согласилась с предложением. Без споров пошла обратно, крепко взяв Кравцова за руку.
Но далеко уйти не пришлось. Приведшая их сюда тропинка становилась всё незаметнее и через несколько десятков шагов исчезла. Стала неразличимой в траве.
Они остановились. Стояли неподвижно, не произнося ни слова, как будто ожидали чего-то…
Потом Кравцов вновь нагнулся, подсветил зажигалкой, пытаясь разглядеть хоть какой-то след. Напрасные старания… Зато он хорошо рассмотрел траву. Очень странную траву — короткую, жесткую, словно бы скошенную. Только вот никто не косит в самом начале июня в здешних широтах. Нечего еще косить …
Именно такую траву описывала Наташа Архипова в своем рассказе о Чёртовой Плешке.
А если никуда не идти? — подумал Кравцов. Просто дождаться рассвета на месте? Ночь достаточно теплая…
Но вдруг именно этого кто-то от них и добивается? Неспроста ведь как раз сегодня исчез пентагонон… И вполне возможно, неспроста вчера достигла кульминации всплывшая из старых времен история Сашка и Динамита, Наташки и Козыря… Если все происшествия вчерашнего дня лишь камни в кусты, отвлекающие внимание от главного, тогда… Тогда становится ясно: за кулисами всей здешней бесовщины таится не одна таинственная и могущественная сила. Две как минимум. И если одной из них зачем-то позарез нужно участие писателя Кравцова в грядущем непонятном действе, то другая всеми способами старается убрать его подальше…
Кравцов вздохнул. Согласно канонам жанра, в котором он работал, давно уже должен был явиться посланец от той или другой силы — и толково объяснить диспозицию. Однако жизнь упрямо не желала подчиняться принятым в романах правилам. Игроков в здешней большой игре вполне устраивали пешки, не имеющие понятия о том, что вся их жизнь проходит на огромной шахматной доске.
Попробуем сыграть по-своему…
Он внимательно прислушался. Оставался ещё один ориентир — шум проходящих по железной дороге поездов. В безветренную, как сейчас, погоду он долетал до сторожки Кравцова — почти неслышимый, если специально не вслушиваться. Грузовая станция работает круглосуточно — должно доноситься чуханье маневровых паровозов и лязг сцепляемых-расцепляемых вагонов.
Не доносилось ничего. Кравцов с удивлением понял, что не слышит обычных негромких звуков ночи. Не стрекотали кузнечики. Не подавали голос ночные птицы. Не журчали крохотные, сбегающие к Славянке ручейки.
Всё-таки она. Чёртова Плешка…
Голос Ады, тоже напряженно всматривающейся и вслушивающейся в ночь, прозвучал неожиданно и ликующе:
— Кравцов! Мы вышли! К самой окраине Спасовки! Смотри: сарай какой-то!
Он присмотрелся в указанном направлении. Действительно там виднелся прямоугольный контур, более темный, чем окружающая ночь. Судя по размерам — и вправду сарай или баня.
Уф-ф-ф… А он-то уже собрался поверить в Чертову Плешку… Но теперь — даже если они с Адой ушли изрядно в сторону — не заблудятся.
И они торопливо пошагали к сараю.
Примерно в то же время вызванная звонком анонимного доброхота «скорая помощь» обнаружила на пустыре неподвижно лежащего в луже крови Алекса. К удивлению врача и фельдшера, он еще дышал…
8
Близилась полночь — хотя большинство граждан, взглянув на циферблаты своих часов, уверились бы, что полночь давно миновала. Причиной такого повального заблуждения служит установленный много десятилетий назад Совнаркомом «декретный час» и относительно недавно введенное «летнее время». В результате полночь истинная, астрономическая, — момент, когда ушедшее за горизонт солнце находится в надире, — наступает летом в Спасовке через два с лишним часа после того, как в Москве пробьют полуночные куранты.
Сашок на часы не смотрел, он давно приучился обходиться без этого прибора. Но чувствовал: полночь приближается. И торопился закончить необходимые приготовления.
Пентагонон лежал на тщательно разровненной земле, в обширном подвале графских развалин. Именно сюда потребовал поместить его голос. Однако — отчего-то не сегодня, но лишь спустя две недели. До тех пор голос требовал укрыть пентагонон в надёжном месте, где-нибудь поблизости.
Сашок, метавшийся последние сутки как обложенный загонщиками волк и трижды чудом разминувшийся с охотниками, не верил, что сможет продержаться в окрестностях Спасовки так долго. День-два, самое большее три. И при этом остается незавершенным то главное, к чему он готовился три года после побега из Саблино…
И он решил проигнорировать настойчивые инструкции. Сделать все сегодня — и тут же вплотную заняться Козырем. На недовольный бубнёж голоса попросту не обращал внимания — обнаружив, подобно Алексу, что в присутствии бронзовой штуковины это удается легко и просто.
Бери, что дают, думал Сашок мрачно. Через две недели и того не будет…
Он закончил привязывать к углам пентагонона путы, самолично сплетенные из тонких ремешков. Мешочек со свечами убрал в сторону — расставит потом, когда девчонка, потребовавшаяся голосу, уже не сможет их смахнуть или задуть. Клинки разложил загодя, в строгом порядке: слева два тонких, похожих на стилеты; затем широкий нож с искривленным лезвием. Далее на подстеленную тряпицу легло орудие с двумя лезвиями, расставленными как раз на ширине человеческих глаз. И наконец — жутковатого вида гибрид пилы и кинжала.
Клинки своими руками отковал Сашок в последние три года. И на каждый пришлось потратить по несколько месяцев — голос заставлял переделывать снова и снова. Трудно изготовить вещь, не имея ни образца, ни чертежа, — одни мелькающие в мозгу смутные образы.
Ну вот, всё готово. Ложе ждет невесту. Сегодня долги голосу будут уплачены сполна. Круг замкнется — потому что всё произойдет как раз под тем залом разрушенного дворца, где тринадцать лет назад Динамит рухнул, зажимая горло, рассеченное драгунской шпагой образца 1747 года. Круг замкнется — и затянется петлей вокруг глотки Иуды-Козыря. Потому что именно здесь — так решил Сашок — именно на графских руинах Козырь увидит, как умирают его жена и дети. Увидит, чтобы самому остаться жить — и на всю оставшуюся жизнь запомнить увиденное.
Лестницу, ведущую из подземелья, загромождали обломки. Час назад Сашок, тащивший пентагонон, пробрался там с огромным трудом. Поэтому покинул он подвал другим путем — легким, кошачьим движением подпрыгнул, уцепился за неровные, словно обгрызенные края зиявшей в потолке небольшой дыры, — казалось, сквозь нее может протиснуться лишь ребенок или на редкость худой взрослый. Сашок просочился легко и оказался снаружи, в узком и высоком, похожем на колодец помещении, в давние времена занятом винтовой лестницей, ведущей на второй этаж (ныне от неё уцелела единственно спиральная цепочка выемок в потемневшем кирпиче).
Здесь было не то чтобы светлее, но чуть менее темно. Но Сашку света хватило — даже в подвале он обошелся без фонаря или свечи. Налегке, прихватив лишь катану, он двинулся через развалины в сторону вагончика-сторожки.
Меч пригодится не для девчонки — для её дружка-писателя. Сашок ничего против того лично не имел, но Козырь должен ПОТЕРЯТЬ ВСЁ. Сегодня ночью он потеряет друга…
9
Темный силуэт оказался не баней и не сараюшкой на окраине Спасовки, как понадеялись Кравцов с Адой.
Перед ними стоял строительный вагончик-бытовка, но лишь отдаленно напоминавший тот, что служил пристанищем для сторожей «Графской Славянки». Этот был значительно меньше и опирался не на временный фундамент из обломков свай, — на резиновые литые колеса. Иные постройки поблизости отсутствовали.
Из окон бытовки ни лучика света не сочилось. И не доносилось ни звука. Звуки ночи так и не вернулись, но теперь это производило чуть менее тягостное впечатление.
— Здесь никого нет, — прошептала Аделина полувопросительно, полуутвердительно. Тихо прошептала, словно опасалась нарушить давящую тишину.
Кравцов пожал плечами. Всё может быть… Обитатели крепко спят? Или здесь не ночуют, запирая на ночь инструменты? Или вагончик давно заброшен и ржавеет тут не первый год? Хотя тогда едва ли уцелели бы стекла в окнах…
Под ногами смутно белело нечто. Кравцов нагнулся, поднял — газета, по счастью сухая. Он свернул её и поджег на манер факела. Пламя показалось привыкшим к темноте глазам неестественно ярким, ослепляющим.
Вагончик действительно смотрелся заброшенным старьем — среди пятен ржавчины с трудом угадывались полустертые буквы: ГЛАВСВЯЗЬМОНТАЖ. Насколько понимал Кравцов, структуры с подобными названиями приказали долго жить вместе с социалистической экономикой… Торопливо, пока не прогорел импровизированный источник света, они обогнули бытовку.
Место тем не менее явно обжитое. Земля утоптана, — даже, пожалуй, уезжена колесами техники. Чуть в отдалении валялся какой-то хлам, обычный на стройках; в неверных отсветах пламени разглядеть его толком не удалось. Зато ярко-оранжевая спецовка с огромными буквами ДРСУ-5 лежала совсем рядом, на деревянном чурбачке. Аккуратно сложенная, выброшенной она не выглядела.
Кравцов мимолетно удивился — в ведении покойного «Главсвязьмонтажа» ремонт дорог не числился. Но размышлять на эту тему не стал, поднёс стремительно догорающий факел к двери. Та оказалась не заперта. Более того, приоткрыта. Между косяком и полотном двери темнела щель в пару сантиметров шириной. Странно…
Пламя подобралось к пальцам Кравцова. Он чертыхнулся, выпустил пылающую газету, — догорала та на земле. Машинально он опустил глаза к крохотному костерку — и удивился снова. В огне исчезали последние буквы названия: …ВДА. А под ними — знакомое улыбающееся лицо с тщательно заретушированной лысиной. Неактуальная газетка… Не иначе, коммунистическое издание, наполненное ритуальными плевками в адрес первого и последнего президента СССР.
Бумага погасла. Казалось, стало еще темнее. Кравцов повернулся к Аде — обнаружив вагончик, они не обменялись ни словом. Девушка, почти не обращая внимания на его манипуляции с факелом, возилась со своим сотовым телефоном. Он спросил тихонько, кивнув на дверь бытовки:
— Зайдем?
Она ответила так же тихо:
— Не надо… Давай уйдем отсюда. Здесь плохое место. Неправильное…
— Не курорт, конечно, но живут же люди… Или, по меньшей мере, работают.
— Попробуй свой сотовый, у меня батарея села, — предложила Ада. — В окрестностях «мертвых зон» для приёма нет, я проверяла.
Кравцов достал свою «моторолу». Вещь, конечно, полезная, — если надо срочно вызвать помощь. И если знаешь, куда её вызывать.
Телефон не работал, даже не засветилась подсветка экрана и клавиш. Что за ерунда… Вроде недавно заряжал, перед отъездом из Спасовки… Сколько прошло времени? Он машинально посмотрел на часы — и изумился еще больше. Без четверти два. Именно столько показывали стрелки, когда Кравцов смотрел на них в последний раз. Часы остановились.
Хватит барахтаться в одиночку. Стоит попросить помощи… Кравцов решительно постучал в дверь.
Звуки раздались глухие, еле слышные, — будто и кулак, и дверное полотно были обернуты тряпками. Кравцов забарабанил еще сильнее.
Никакой реакции изнутри бытовки не последовало. Тогда он потянул за дверную ручку. Дверь застыла неподвижно. Кравцов дернул двумя руками, изо всех сил. Пронзительный скрежет прорезал тишину, вызвав ощущение, что вниз по хребту провели ржавым гвоздем. Щель стала на несколько сантиметров шире — и все.
— Петли намертво приржавели, — констатировал Кравцов. Со следами недавнего пребывания людей это никак не вязалось.
Ада привстала на цыпочки, почти прижалась губами к уху. Кравцов скорее угадал, чем расслышал шепот:
— За нами наблюдают.
Кравцов продолжил прежним тоном:
— Попробуем залезть в окно? Скоротаем время до рассвета…
И в ту же секунду почувствовал: точно! Ощущение сверлящего спину взгляда было ясным и четким. Он ничем не выдал себя: задумчиво и неторопливо осмотрел ещё раз дверь, почесал затылок несколько театральным жестом…
А сам понял: смотрящий в спину некто приближается. Осторожно, но достаточно быстро. Не раздавалось ни малейшего звука, не чувствовалось даже ничтожного колебания воздуха, однако Кравцов не сомневался: враг уже рядом. Почти за спиной. Словно включился третий глаз, или внутренний локатор, или еще какое-нибудь шестое чувство — расстояние до пришельца определялось очень точно…
Кравцов напрягся, приготовился, продолжая спокойно что-то говорить и сам уже не понимая своих слов.
Пора!
Он резким толчком швырнул на землю Аду. Прыжок, разворот и удар слились в одно движение.
И все кончилось. Замах прорезал пустоту. За спиной — никого. И поодаль, насколько можно было рассмотреть во мраке, — никого. Ощущение враждебного взгляда бесследно исчезло.
Похоже, Ада испытала нечто похожее, По крайней мере, никаких попреков за отправивший её на землю толчок не последовало. Он собрался извиниться — и не успел. В небольшом отдалении зазвучали голоса.
10
— Фу-у-у… — разочарованно протянул в темноте юношеский фальцет. — Мышиное дерьмо какое-то откопали.
В темноте? Да нет, не совсем. В направлении, откуда донеслись звуки, виднелся свет, — едва заметный, желтоватый и слабый. Секунду назад его не было.
Фальцету ответил другой голос, звучный и уверенный:
— Стружка. Сгнила вся… Что стоишь, давай, выбрасывай! Да не лопатой, руками!
Наконец-то рядом появились живые люди. Но Кравцов и Аделина не поспешили к ним с ликующими криками. Что за странные ночные раскопки в странном месте?
Да и голоса звучали неправильно. До источника света было не менее полутора сотен метров. Разговор же, казалось, доносился с расстояния вдесятеро меньшего. С абсолютно пустого места. Шуточки ночной акустики? У Кравцова имелось сильное подозрение: и акустика, и прочие точные науки этой ночью и в этом месте отправились отдохнуть.
Они медленно и осторожно двинулись в сторону источника света. Стоило сначала понять, что тут происходит, — и лишь затем объявлять о своем присутствии.
Разговор ночных тружеников меж тем продолжался — и, странное дело, зазвучал теперь гораздо тише. Полное впечатление, что собеседники мгновенно удалились туда, где мерцал желтый свет. Реплики стали неразборчивыми, но голоса остались те же — фальцет и уверенный баритон.
Диалог оборвался, когда Кравцов и Ада крадучись преодолели две трети пути и начали различать отдельные слова. По крайней мере слова «рыжье» и «брюлики», произнесенные баритоном, Кравцов слышал ясно. Кладоискатели? Или наоборот, зарывают ценности в укромном месте? Незваных зрителей и в том и в другом случае ждет прием не самый радушный… Стоит ли вообще подходить?
Ничего решить он не успел. Впереди прозвучал хрип — приглушенный и булькающий. На несколько секунд повисла томительная тишина. Затем ночь разорвал истошный вопль. Кто-то орал и орал, не то от нестерпимой боли, не то от смертельного ужаса — без слов, на одной ноте.
Они застыли. Вопль не смолкал, но постепенно становился слабее, словно вопящий человек стремительно удалялся. Затем — неожиданно — все стихло.
Ада сорвалась с места. Понеслась вперед. После секундного колебания Кравцов догнал её, побежал рядом. Каким бы страшным и мерзким ни оказалось то, что ждало их впереди, томительная неизвестность была еще хуже.
Ничего особо кошмарного — на первый взгляд — впереди не обнаружилось. Путь преградила свежевырытая траншея. Тусклый свет вырывался с её дна — словно желтое сюрреалистичное сияние испускала сама земля. Или нечто, в ней сокрытое.
Они заглянули вниз. На дне валялся фонарь — длинный и толстый, похожий на дубинку. Надетый на рефлектор желтый светофильтр придавал освещению налет таинственности.
Чуть дальше в траншее виднелся ящик приличных размеров. Наверху невдалеке темнел силуэт трактора. И всё. Людей поблизости не было.
Обрадовавшись нормальному источнику света, Кравцов спрыгнул и тут же вылез с трофеем обратно. Снял фильтр — луч яркого, чуть синеватого света устремился вдаль.
Он посветил во все стороны. Никого. Кричавший, надо понимать, уже далеко. Что же так его напугало?
Сноп света выхватил из темноты трактор. Ничего необычного: самая заурядная «Беларусь» с навесным ковшом. Правда, теперь такая техника встречается всё реже и реже, ныне строители предпочитают безотказные «катерпиллеры» и «хитачи»…
С обретенным мини-прожектором в руке Кравцов почувствовал себя куда увереннее. Даже пошутил, кивнув на трактор:
— Не желаешь прокатиться с ветерком? Я с грехом пополам могу управлять этой каретой.
Ада ответила, кусая губы:
— Ты еще не понял, Кравцов? Надо отсюда убираться. Немедленно. На свете есть нехорошие места, где можно и нужно сделать лишь одно: уйти как можно быстрее, ничего не трогая. И никогда не возвращаться.
— Ну нет… Пока не разберусь, что к чему, шагу отсюда не ступлю.
С этими словами он направился к «Беларуси». Ада глубоко вздохнула и пошла следом.
Двигатель оказался горячим. А ведь звук работающего трактора они не слышали. Но Кравцов такие пустяки уже не смущали: он был уверен, что главная разгадка где-то рядом и способна объяснить всю кучу мелких странностей и неприятностей.
Очередную неприятность долго ждать не пришлось. Поток света, уверенно рассекавший ночь, стал слабеть на глазах. Черт возьми, и здесь садятся батареи. Действительно, какая-то аномальная зона, как губкой высасывающая энергию…
Он торопливо выключил фонарь, надеясь сберечь последние остатки на самый крайний случай. Подождал, пока глаза вновь привыкнут к темноте. В голове вертелись обрывки смутных воспоминаний, связанных как раз с долиной Славянки, с траншеей и с трактором «Беларусь». Когда-то и от кого-то он слышал именно о таком сочетании. Но ничего конкретного не вспомнилось. Попробовал спросить Аду — та упрямо молчала, не сказав в ответ ни слова.
— Да уйдем, сейчас уйдем отсюда, — попытался успокоить её Кравцов. — Только взгляну вполглаза, что они тут раскопали.
От траншеи остро пахло свежей землей — словно здесь разрыли не суховатый суглинок, а самый натуральный чернозем, богатый перегноем. Вновь включенный фонарь затеплился еле-еле. Кравцов долго всматривался в непонятную кучу на дне раскуроченного ящика. Потом перевел гаснущий луч чуть в сторону. Тени сместились. Стал виден светлый шар черепа. Ящик оказался гробом.
Реакцию Кравцов продемонстрировал нетипичную: рассмеялся глухим, безрадостным смехом.
Он наконец вспомнил.
11
— ПИ-НЕ-ГИН, — по слогам произнес Кравцов. — Точно, его звали Пинегин… А я-то гадал, где слышал эту фамилию…
И добавил без всякого перехода:
— Пожалуй, пора мне проснуться.
Ада — совершенно равнодушная ко всем недавним находкам — повернулась к нему. В темноте не было видно, но наверняка посмотрела вопросительно. Однако так ничего и не сказала.
Кравцов пояснил охотно и радостно:
— Ничего этого на самом деле нет. НИЧЕГО. Я просто-напросто сплю. А мое подсознание выстраивает декорацию — в мельчайших деталях, вплоть до газеты «Правда» времен перестройки. Воплощает услышанную много лет назад историю о трех работягах, наткнувшихся на могилу немецкого офицера. И не поделивших что-то ценное, лежавшее в гробу. Одного рабочего нашли в траншее — убитого. Двое других бесследно исчезли. И участковый долго потом ходил по Спасовке, расспрашивая: не был ли кто знаком с человеком по фамилии Пинегин — так звали погибшего. Я тогда здесь не жил — сдавал выпускные в городе. И услышал историю позже, через месяц, обросшую фантастическими слухами. А теперь сплю. И всё это вижу. Видишь, как всё просто. Даже смешно…
Ему действительно было смешно. И он рассмеялся.
Аделина наконец разлепила губы.
— Значит, я — всего лишь твое сновидение? — спросила она нехорошим голосом.
Кравцов кивнул, не прекращая смеха. И тут же в его лицо хлестко впечаталась ладонь девушки. Боль отрезвила. Ситуация перестала казаться смешной. Но и признавать её за реальность Кравцов по-прежнему отказывался. По счастью, в памяти всплыл способ, уже принесший избавление при схожих проблемах. Кравцов, долго не раздумывая, шагнул к трактору и вмазал по дверце сильнейшим нокаутирующим ударом.
О-о-о-у-у-й…
Суставы пальцев пронзила вспышка боли. На дверце осталась глубокая вмятина. Больше ничего не изменилось.
— Пойдем отсюда, — мягко сказала Ада. — Если это и сон, то не твой. Надо выбираться.
И они пошли. Напрямик, не выбирая дороги. Не рассчитывая уже куда-то выйти, — просто чтобы уйти. Но далеко уйти не получилось…
На сей раз Кравцов был уверен: это не игра взбудораженного воображения. (Хотя прекрасно понимал, что в эту ночь грош цена его сомнениям либо уверенности.) Тем более что Ада тоже услышала и почувствовала: на них надвигалось что-то живое, причем со всех сторон. Не бесплотная, воспринимаемая шестым чувством опасность, как недавно у вагончика, но нечто вполне материальное и осязаемое. Издающее звуки, сливающиеся в какую-то едва слышную какофонию, тоже доносящуюся со всех сторон. И — сомнений не оставалось — опасное. Сегодня всё стало опасным…
Они остановились. Ада прижалась к Кравцову вплотную.
— Сейчас включу фонарь, — сказал он шепотом. — Надеюсь, хоть сколько-то света он даст. По крайней мере увидим, чего бояться.
Фонарь засветился — и даже ярче, чем ожидал Кравцов. И они увидели…
На земле сидели вороны. Много ворон. Невообразимо много — трава не проглядывала сквозь шевелящийся серый ковер.
Кравцов повел лучом вокруг. Серо-черная пелена была всюду, со всех сторон — лишь сзади виднелась свободной полоса в пару метров шириной, по которой пришли они с Адой.
Птицы вели себя на редкость апатично. Не пытались взлететь, не подпрыгивали на месте, не хлопали крыльями. Не каркали — только порой беззвучно разевали клювы. Но тысячи и тысячи черных глаз-бусинок пристально смотрели на людей, ни одна ворона не сидела к ним хвостом или боком.
Окружение медленно смыкалось. Радиус свободного от птиц круга, в центре которого оказались Ада и Кравцов, уменьшался. Покрытые перьями бока и крылья терлись друг о друга. И тысячи этих — в отдельности почти неслышных шорохов — сливались в единый и громкий, напоминавший шипение огромной и разъяренной змеи. В него вплеталось потрескивание — как будто кто-то очень большой мял и комкал гигантский лист хрусткого целлофана; возможно, с такими звуками скребли по земле бесчисленные коготки на бесчисленных лапах или закрывались бесчисленные клювы…
До передовых рядов серого воинства оставалось не более трех метров. Кравцов вновь посветил назад. Обратный путь оставался по-прежнему свободен.
Всё понятно… Пернатая армия неагрессивно — пока неагрессивно! — загоняет их обратно. К трактору, давным-давно разобранному на запчасти. К траншее, засыпанной пятнадцать лет назад. К проекции пятого угла пентагонона — к самому центру Чёртовой Плешки.
А когда тебя куда-то загоняют — идти туда нельзя. Дичи надлежит страшиться не трепещущих по ветру флажков и не громко кричащих загонщиков, но тихо и незаметно стоящих в засаде стрелков.
Кравцов лихорадочно прокачивал варианты, решать стоило быстро. Пойти на прорыв — прямо по хрустящим под ногами птицам? Так ведь поднимутся в воздух, пустят в ход клювы — и всё, конец. Он недавно видел, как это бывает…
Остаться на месте, игнорируя настойчивое предложение повернуть назад? Воображение мгновенно нарисовало апокалипсическую картинку: живой прилив подбирается к их ногам, вороны не останавливаются, упрямо лезут одна на другую — серая масса достигает щиколоток, потом коленей. — и вот уже на земле ворочаются две бесформенных груды, из-под которых доносятся приглушенные крики…
— Надо возвращаться, — сказал Кравцов мрачно. — Возвращаться и поискать другой путь.
— Нет. Назад я не пойду, — отрезала Ада. — Только вперед. Они нас пугают, но не посмеют тронуть…
Тут же одна из ближайших ворон — оставалось до них метра полтора, не более, — оглушительно каркнула. И немедленно, как по сигналу, закаркали остальные. От акустического удара заложило уши. Дальнейших слов Аделины Кравцов не услышал.
Казалось, птицы говорят: не пропустим! Не повернёте добром назад — заклюём, но не пропустим!
Затем карканье смолкло — тоже как по сигналу. Но приближение не прекратилось.
Кравцов посветил вдаль, пытаясь прикинуть, на какую глубину простираются боевые порядки пернатой армии. Хотя его чисто рефлекторная попытка оценить численность противника смысла не имела — даже видимых отсюда птиц хватило бы, чтобы после получасовой работы клювами на земле остались два очищенных скелета.
Где кончается живое покрывало, Кравцов не увидел. Зато понял другое, поначалу незамеченное: фонарь начал светить дальше и ярче. Бывает иногда такое: батарейки обретают второе дыхание, перед тем как «сдохнуть» окончательно. Хотя едва ли к этому предмету, неизвестно как и зачем вынырнувшему из прошлого, применимы познания об обычных батарейках…
Процесс продолжался — поток света набирал силу, став почти таким же, как вначале. Но делу это помогло мало: птицы совершенно не пугались направляемого им в глаза фонаря.
В воздухе метнулся темный силуэт. Еще один. И еще. Началось… Но через секунду траектория полета пересеклась с лучом света — и ночной летун оказался не вороной. Рваный, зигзагообразный полет мог принадлежать лишь одному существу…
Летучая мышь! — понял Кравцов. И не одна!
В памяти мгновенно всплыли запись в тетради Пинегина-младшего, и светящиеся буквы на стене развалин, и собственный триллер о мутировавшей летучей мыши — первая вещь, написанная после многомесячного перерыва…
Что-то в этом всём было сокрыто важное и нужное — нужное как раз сейчас, но Кравцов не успевал понять и разобраться, что именно… То, что он затем сделал, ни в малейшей мере не основывалось на логике и размышлениях — и стало чисто интуитивным порывом.
Кравцов изо всех сил заорал:
— Летучий мыш!
Именно так, в мужском роде. И снова, еще громче:
— Летучий мыш!!! ЛЕТУЧИЙ МЫШ!!!
И тут же они с Адой оказались в самом эпицентре взрыва. Взрыва биологической пернатой бомбы повышенной мощности. Несметная стая встала на крыло — вся разом. Ближние птицы подобрались уже к самым ногам — и, взлетая, задевали крыльями. Однако не клюнула ни одна.
Воздуха над головой словно и не осталось — так густо заполнили его вороны. Хлопанье крыльев слилось в грохот горного обвала. Но не только серые разбойники кишели в воздухе…
Путь оказался открыт, и стоило поспешить, но двое людей замерли, завороженные тем, что происходило у них над головой. Луч фонаря метался по живому, низкому небу, увязая в сплетении тел. Фонарь светил все сильнее и сильнее, слепящий конус становился шире, никакая галогеновая лампочка не смогла бы выдать такого сияния — и свет стал иным, отнюдь не синевато-белым — скорее напоминающим солнечный… Корпус раскалился, жег пальцы, но Кравцов не обращал внимания.
Потому что над головой кипела битва.
Летучих мышей, пожалуй, оказалось больше, чем ворон, — и постоянно подлетали новые. Но природа гораздо хуже, чем серых разбойниц, вооружила маленьких летунов для подобных стычек. Их игольно-острые зубки предназначены для ночных насекомых — и не более того… Прокусить на лету доспехи из плотных перьев мыши оказались не в состоянии. Вороньи же клювы убивали увертливых противников одним удачным ударом.
Из покрывшей небо живой тучи посыпался дождь крохотных окровавленных телец — всё гуще и гуще. Одна мышь свалилась прямо под ноги Аде — девушка испуганно отшатнулась, поверженный боец быстро-быстро махал одним крылом, пытаясь взлететь, но другое превратилось в рваные лохмотья.
Фонарь тем временем обернулся подобием маленького солнца — потоки света лились не только из направленного рефлектора, но во все стороны. Смотреть на взбесившийся осветительный прибор было невозможно. Державшая его рука Кравцова по локоть исчезала в сгустке сияющей плазмы. Он почувствовал боль в обожженных пальцах и ладони. Попытался отбросить фонарь — ничего не получилось. Пальцы упорно не желали разжиматься, сведенные судорогой.
Воздушная битва вступила в новую фазу. Летучие мыши нашли-таки способы борьбы с пернатыми врагами. С неба рухнул трепещущий ком: ворона, облепленная не менее чем десятком нетопырей. Несколько секунд эта куча дергалась на земле — затем рукокрылые бойцы отвалились в стороны. Вновь взлетели и вернулись в схватку далеко не все из них. Ворона была еще жива — открывала и закрывала клюв, слабо подрагивала всем телом. Шея и голова у нее превратились в сплошную кровавую рану, глаз не осталось…
Новую тактику немедленно подхватили остальные мыши. По несколько штук вцеплялись лапками, повисали всей тяжестью и пускали в ход зубы. Когда такой маневр удавался — на землю падал очередной клубок тел, и одним врагом становилось меньше. Хрупкие косточки маленьких летунов зачастую не выдерживали падения, но они бросались и бросались в самоубийственные атаки с отчаянием камикадзе.
Вороны поддаваться не собирались. Уступая в числе, использовали преимущество в скорости и в массе. Нередко мышь, не успев взять на абордаж противника, падала на землю окровавленным растерзанным комочком… Несколько раз и Ада, и Кравцов не успевали уклониться от сыпавшихся с неба побеждённых.
Кравцов — по понятным причинам желавший победы отнюдь не птицам — понял: летучие мыши бьются вслепую! Мечутся бестолково в воздухе — и вступают в схватку, лишь случайно столкнувшись с врагом. Понял и причину: фонарь! Проклятая игрушка из проклятого места слепила мышей и помогала воронам, вполне дневным птицам. Он попытался нащупать — там, в сияющем шаре света — кнопку-выключатель. Тщетно. Да и едва ли она сработала бы.
Схватка над головой продолжалась, достигнув точки неустойчивого равновесия. Полчища ворон поредели, но и к нетопырям больше не прилетала подмога. И Кравцов решил помочь «нашим». Схватил Аду за руку, крикнул: «Бежим!» — она, конечно, не услышала за шумом, но поняла, кивнула…
Они побежали — опять не зная куда. Как выяснилось, земля под вороньим покрывалом скрывалась абсолютно голая — ни травинки, не былинки. И мягкая — подошвы вязли, бежать было нелегко. Но они бежали.
Через несколько сотен шагов звуки битвы за спиной стали значительно тише, но совсем не смолкли. Кравцов злорадно подумал, что внезапно оказавшимся в кромешной тьме воронам приходится тяжко.
Затем во тьме оказались и они. Фонарь погас мгновенно. Пальцы, только что стискивавшие его до хруста в суставах, легко разжались. Причем ожогов на них и на ладони не обнаружилось — ни единого захудалого волдыря. А фонарь даже на ощупь стал казаться несколько иным.
Кравцов осмотрел его в свете зажигалки — кто знает, каких еще неожиданностей можно ожидать от этой штуки. Фонарь сейчас выглядел подобранным на помойке: потертый, исцарапанный, корпус треснул в "нескольких местах, стекло и лампочка отсутствовали. Кравцов отвинтил крышку — вместо батареек высыпалась не то земля, не то какая-то труха…
— Выброси, — посоветовала Ада.
Он размахнулся и зашвырнул предательский предмет в темноту. Спросил:
— И что дальше? Мы ушли с места, которое так тебе не нравилось. Куда теперь?
— Никуда мы не ушли, — печально ответила Ада. — Мы все там же. Лишь декорации в очередной раз сменились… Это Чёртова Плешка, пойми. Тут можно идти сколько угодно, не сдвинувшись с места.
— Вообще-то я слышал про один способ отсюда выбраться… — неуверенно начал Кравцов. И замолчал. Способ, поведанный Наташей Архиповой, был прост: девушка Ада должна стать женщиной прямо здесь и сейчас. И морок развеется…
Правда, Наташка с Козырем побывали, похоже, на самой периферии Плешки, но не на пустом же месте возникло такое поверье. Что местным легендам порой стоит доверять, Кравцов убедился сполна.
— Я тоже слышала про этот способ, — сказала Ада. — Но боялась предложить. И думала, ты побоишься согласиться…
Он молчал. Не потому что боялся и хотел замять разговор — просто трезво взвешивал шансы. Трое несостоявшихся любовников Аделины погибли. Всё так. Но сила, что зачем-то хотела сохранить хранительницу пентагонона девственной, далеко не всемогуща. Иначе не стоило бы возиться с воронами и подстраиванием автокатастроф. А расстрел боевиками армейской колонны и смерть Кирилла, ещё школьного её ухажера, — наверняка случайность. И всё же…
И всё же стоит рискнуть. Сделать неожиданный ход. Не для того ли три года Аду подводили к мысли, что плодом её любви может стать лишь смерть, — чтобы сегодня они не сделали того, что должны сделать?
Аделина вскрикнула. Отпрыгнула в сторону. Через мгновение Кравцов почувствовал удар по ноге — удар твердым и острым. Он присмотрелся: на земле копошилось что-то живое. Так и есть — ворона! — разглядел в трепещущем свете зажигалки. Истерзанная, со сломанным крылом и волочащимися кишками, птица вырвалась из свалки и каким-то чудом доковыляла сюда. Клюнула Аду, клюнула Кравцова и теперь издыхала. Из раскрытого клюва толчками выплескивалась кровь — почти черная. В единственном уцелевшем глазу отражался крохотный огонек зажигалки — и казалось, что ворона смотрит с лютой ненавистью…
Она, Чёртова Плешка, не выпустит нас так просто, как порой выпускала случайно попавших людей, понял Кравцов. И сказал:
— Я не побоюсь согласиться.
12
Гном не спал — хотя полночь давно миновала, а завтра ранним утром ему предстояло заступать на смену. Однако вот не спалось. С ним вообще происходило нечто странное. Неторопливый тугодум, — месяцами, а то и годами шлифующий свои замыслы — сейчас он работал с лихорадочным остервенением. Правда, менее тщательными его действия от этого не стали. Просто Гном делал все неимоверно быстро — по своим меркам, естественно.
Он сидел за столом, заваленным чертежами. Ватмана не нашлось, и Гном чертил схемы на листах желтой оберточной бумаги. Чертил быстро, уверенно, не пользуясь ни линейкой, ни прочими чертежными инструментами. Однако — как и в случае с деревянным пентагононом на Кошачьем острове — линии получались уверенные и ровные.
Чертежи во многом напоминали план Вали Пинегина — изображали часть Спасовки и «болотце». Были выполнены не так тщательно, с меньшим количеством деталей, но масштабы и пропорции Гном выдержал достаточно точно. К тому же сделал массу полезных пометок: неприметные со стороны тропки; тайные, но известные Гному лазейки в ограждавших выпасы и огороды изгородях; примерные углы обзора из окон, выходящих на поля…
Иногда Гном, критически осмотрев результаты своих трудов, недовольно кривил губы, комкал очередной лист и бросал на пол. И начинал рисовать снова.
Две детали повторялись на каждом из чертежей: Кошачий остров и дом Васнецовых. Именно на шее Женьки Васнецовой Гном видел «куриный бог» — найденный впоследствии на «болотце». Именно она пыталась попасть на остров. И попадет…
Подумав о том, какая программа развлечений ждет соплячку в его тайной святыне, Гном мечтательно разулыбался. Прекратил работать, уставился в пустоту ничего не видящим взглядом. Рука машинально рисовала в углу чертежа какие-то каракули. Впрочем, не совсем каракули: вложенные один в другой правильные пятиугольники. В центре внутреннего, самого маленького, оказалась стилизованная — пять палочек и кружочек — человеческая фигурка. Распятая…
Закончив картинку, Гном столь же машинально начал украшать её подписью: «Э-В-Х-А…» — и не закончил.
Неожиданно он содрогнулся, карандаш хрустко сломался в пальцах. Содрогнулся не только Гном, но и стул, на котором он сидел, и пол, и весь старый скрипучий дом Гносеевых.
Гном вскочил, не пытаясь понять, что же произошло. Бросился к дверям, уверенный: что-то стряслось на Кошачьем острове, что-то кошмарное…
Но быстро взял себя в руки. Ерунда какая… Ночью через лабиринт гатей на остров не сумеет пробраться никто, даже он сам. Так что незачем впадать в панику…
Логика не подвела Гнома — ничего и никого живого в тот момент на Кошачьем острове не было, птицы и обитавшие на «болотце» зверьки избегали это место. Но не подвело и интуитивное озарение — остров действительно тряхнуло. И короткая резкая вибрация, пронизавшая жилище Гнома, в сравнении с толчком, содрогнувшим топь, показалась бы легкой щекоткой.
Одновременно:
Поверхность озера-провала — за секунду до того тихая и гладкая — вспучилась гигантским куполом. Застыла, подрагивая исполинской медузой, и рухнула обратно. Вода вскипела миллионами мелких пузырьков и начала вращательное движение, всё быстрее и быстрее. Наклон стенок возникшей воронки становился круче — казалось, она превращается в гигантский колодец, ведущий в непредставимые глубины. В воздухе повис протяжный гул — низкий, на грани инфразвука.
Свидетелей у этого зрелища не оказалось.
Одновременно:
В реанимационном отделении больницы имени Семашко только что доставленный туда Алекс открыл глаза. Затем разлепил губы и произнес без всякого выражения:
— Эвханах.
— И вам того же, — откликнулся один из людей в белых халатах, хлопотавших вокруг. И добавил, обращаясь уже к коллегам: — Ишь, болтун… Подключайте ИВЛ, пока еще что-нибудь не поведал…
— Так и так не жилец, — пессимистично откликнулся его соратник, колдуя над кардиомонитором.
Основания для скепсиса имелись: по дороге в госпиталь сердце Алекса трижды останавливалось. А жить — согласно канонам медицины — с разрубленным почти пополам мозжечком вообще невозможно.
Но сердце потенциального покойника, вопреки неутешительным прогнозам, работало четко, как часы…
Одновременно:
Старик Ворон услышал негромкий стук в оконное стекло. Встал, подошел к окну, включив по дороге настольную лампу.
За стеклом, с трудом удерживаясь на резном наличнике, сидела ворона — помятая, растрепанная, с окровавленными перьями. Старик нахмурился, потянулся к оконной ручке — и тут дом тряхнуло. Причем гораздо сильнее, чем стоявшую через два участка халупу Гносеевых. Стекла задребезжали, из неприметных щелок потолка вылетели облачка пыли.
Рука застыла на полпути. Старик не понял, что произошло, но знал: то, чему никак нельзя было происходить. Последний раз такая судорога прошла по дому Ворона в то лето, когда Леша Виноградов понял: в зеркале любого пруда отражаются не только улыбки…
Одновременно:
Хуже всего пришлось Сашку. Он занял позицию внутри графских развалин, у оконного проема, в густой тени. Отсюда прекрасно просматривались все подступы к сторожке писателя, благо ночь выдалась на редкость светлая.
Выбранное место казалось идеальным, но именно здесь, совсем рядом, сошлись в одной точке импульсы, пришедшие с пяти сторон по пронизавшим Спасовку невидимым силовым линиям.
Дворец закричал, как смертельно раненный человек. Когда кричит мертвый камень — это страшно. Стены пришли в движение — с диким, убийственным скрежетом. Появились новые трещины, а старые увеличились. Кирпичи посыпались градом.
Сашок умер мгновенно — но смертью страшной и мучительной, растянувшейся для него на долгие часы, наполненные мучительной болью. Потом он так же мгновенно воскрес — опустошённый и выжженный изнутри.
Крик камня смолк. Руины вновь застыли недвижно и безмолвно. Камнепад прекратился.
Сашок нетвердой походкой лунатика проделал обратный путь — вернулся в узкий колодец с винтовой лестницей. Именно здесь был центр катаклизма, и кирпичи тут падали гуще всего. Узкий лаз, ведущий вниз, оказался завален ими.
— Эвханах афшенди мууаргиб су джихель… — произнес Сашок убито, сам не понимая, что говорит и на каком языке.
Завал можно разобрать достаточно быстро и освободить ход к пентагонону. Но зачем? Все приготовления потеряли смысл… Долг голосу остался и оброс новыми процентами.
Сашок издал низкий негромкий звук — не то рычание, не то шипение. Повернулся и вышел, выплюнув еще несколько слов на незнакомом языке. Ему хотелось одного: убивать. И он один понял, что чуть раньше на Чёртовой Плешке…
13
…писатель Кравцов подумал с черным юмором: после тридцати лет, выходя из дому, стоит брать с собой виагру, если не уверен, где и в какой компании доведется закончить вечер.
До сих пор он успешно обходился без стимулирующих потенцию препаратов, но сегодня могли бы пригодиться.
Обстановка, мягко говоря, не располагала. Земля, на которой они лежали, оказалась теплой, мягкой, податливой — и словно бы живой. Затаившейся, ничем не выдающей своего присутствия, но живой. Запах свежеразрытой могилы, впервые появившийся возле траншеи, не исчез — усилился и стал с трудом переносимым. И сквозь землю доносились звуки — неразборчивые и почти неслышные, звуки-фантомы, звуки-призраки. Как будто на неимоверной глубине сотни заживо погребенных кричали и бились о стенки своих тесных деревянных темниц, — а наружу просачивалось лишь слабое эхо их боли и ужаса…
К тому же вернулось испытанное у вагончика-бытовки ощущение — ощущение уставившейся в затылок и неслышно приближающейся смерти. Несколько раз, когда это чувство становилось вовсе уж нестерпимым, Кравцов приподнимался и всматривался в темноту — никого и ничего. Он старался отключить, как-то заблокировать шестое чувство, занимающееся бессовестной дезинформацией, — получалось плохо.
Ада попыталась помочь. Её рука, закончив короткую возню с брюками Кравцова, скользнула внутрь. Стало еще хуже. Ласки показались механическими и бездушными, а пальцы холодными… Пальцами трупа.
Он оттолкнул ледяную кисть, отодвинулся, всмотрелся в её лицо. И вновь, как когда-то, резанула боль узнавания: рядом с ним лежала Лариса. Такая, какой он запомнил её в день похорон: закрытые глаза и неподвижное, оледеневшее, ставшее чужим лицо.
Ты всё-таки вернулась… — не то сказал, не то подумал Кравцов. — Уходи. Мертвым не место рядом с живыми…
Мертвые губы разошлись в мертвой улыбке. Зубы — белые, мелкие — были испачканы землей.
Я никуда не уходила, Лёнчик! Я всегда рядом. Неважно, кем ты меня видишь: этой глуnoй целкой или коровой-Наташкой, полежавшей и под Козырем, и под Сашком, и под Динамитом, а теперь решившей забраться под тебя. Но ты мой. Навсегда мой. Обними меня. Согрей… Хочешь, я возьму в рот? Помнишь, как это бывало?
Её губы раскрылись еще шире, округлившись буквой «О». Кравцов скорей догадался, чем рассмотрел: на белых острых зубках не земля — спекшаяся, почерневшая кровь. Мертвые веки поднялись — под ними ничего не оказалось, вообще ничего — черные бездонные дыры.
Он глубоко вздохнул — со смесью отвращения и облегчения. И сказал-подумал с холодной усмешкой:
Ты прокололась, тварь. Или ты прокололся, — уж не знаю, какого ты рода и пола… Никогда Лара не назвала бы меня Лёнчиком, ни живая, ни мертвая, — она ненавидела это имя еще больше, чем я. Так что ступай назад, под землю, и займись некрофилией с трупами. Порадуйся напоследок. Потому что скоро я тебя оттуда вытащу. И прикончу. Проваливай.
Мертвые губы и мертвые веки вновь плотно сомкнулись. Лицо Ларисы (Аделины? неведомой твари?) застыло. Кравцов осторожно коснулся её руки: окоченение и трупная стылость… Тварь не ушла. Лишь прекратила бесплодную беседу.
Шальной кураж, с которым он бросал издевательские слова, испарился. Остались брезгливость и омерзение. Он отодвинулся, насколько смог, не вставая с земли, — и почувствовал, как что-то вдавилось в бедро, что-то маленькое и твердое, лежавшее в кармане полуспущенных брюк.
Кравцов сразу понял, что это, и зачем к нему попало, и что с этим надо сделать… Мгновенное озарение не пришло откуда-то извне. Он всего лишь вспомнил похожую ситуацию в одном из своих романов.
Правда, там фигурировал меч… — подумал Кравцов, открывая лезвие маленького перочинного ножичка, через пятнадцать лет нашедшего владельца. Ну да ладно, не в размере клинка дело…
На совесть заточенное лезвие полоснуло по ладони почти без боли. Края ранки разошлись, крови в первые секунды не было, потом порез набух мельчайшими капельками, они увеличивались, сливались…
Красный шарик разбился о мертвые губы, второй, третий, — они шевельнулись и порозовели; глаза открылись, вполне обычные — удивленные и испуганные, и в следующую секунду Кравцов ощутил вкус собственной крови, и почувствовал, что целует живую девушку, и мгновение спустя она ответила, горячо, жадно, страстно, и всё, разделявшее их, рухнуло, а всё окружавшее их исчезло, во всём мироздании остались лишь двое, неудержимо стремящиеся друг к другу… Он вошел в нее, и почувствовал упругую жаркую преграду, на миг остановившую его движение, влажно стиснувшую, и сокрушил её одним ударом — возможно, излишне сильным и резким, словно направленным в невидимого врага; она не сдержала крик и содрогнулась всем телом, и голая, мягкая, упругая, живая земля, на которой они лежали, пришла в резонанс с судорожным движением Ады — раскачивалась и колебалась сильней, сильней, сильней…
Когда они поднялись на ноги, вокруг росла трава. На небе сияли звезды и месяц. Запах свежей земли исчез — одуряюще пахло июньским цветущим разнотравьем. Неподалеку — рукой подать — высились старые липы кладбища. Наверху, на Поповой горе, виднелся силуэт графских развалин, как будто вырезанный из черной бумаги.
14
— По-моему, это называется амнезия, — сказала Ада. — Я ничего не могу вспомнить…
— С какого момента? — заинтересовался Кравцов. В его памяти вся ночная эпопея стояла зримо и ярко. — Как исчезла тропинка, еще помнишь?
— Да нет, не об этом… — досадливо махнула рукой Ада. — О той бронзовой штуке, подожди… было же у нее специальное название, какой-то греческий термин…
— Пентагонон, — подсказал Кравцов.
— Да-да, точно… Я прочитала кучу книг — старых, порой рукописных, выискивая упоминания: кто, где, когда и для чего использовал такие штуки… А теперь ничего не вспомнить. Остались какие-то смутные обрывки: помню, например, что эту пента… э-э… пентаграмму можно как-то активизировать — или наоборот, дезактивировать — при помощи свечей… Но как именно — хоть убей, не помню…
Кравцов покачал головой. Интересная амнезия… Слово «дезактивировать» Ада вставляет в речь без запинки, а термин «пентагонон» спустя минуту вновь забыла.
Он спросил:
— Может, остались какие-то записи, конспекты? После сегодняшней находки в твоей квартире совсем не хочется разбираться с пентагононом «методом тыка».
Аделина удивилась совершенно искренне:
— Находка? Какая? Мы ведь не заходили… Сразу сюда поехали…
Кравцов только вздохнул. И не стал ничего рассказывать.
Ночь заканчивалась. Светлая полоса на востоке ширилась, набухала. Вот-вот должны были появиться первые лучи солнца. Но здесь, внизу, между стен графских развалин, еще таилась тьма. Никаких следов пентагонона во дворце не обнаружилось. И ничего другого, хоть сколько-нибудь подозрительного, тоже не нашлось. Мирные романтичные руины…
Кравцову хотелось верить, что он ошибся, что проклятая бронзовая штуковина канула навсегда, что всё закончилось на Чёртовой Плешке и никогда не повторится… Но он не верил. Ничьи бывают лишь в придуманных людьми играх…
Аделина подошла к обрушенной внутренней стене, коснулась её торцевой части, посмотрела наверх — надписи там были особенно густы. Именно здесь пролегал один из главных маршрутов юных стенолазов.
— Кажется, я потеряла сегодня еще кое-что, кроме девичьей чести и изрядного пласта памяти, — сообщила Ада. Ни малейшей печали от обнаруженной очередной утраты в голосе не прозвучало. — Напрочь исчез страх высоты. Раньше я и представить не могла, что по такому можно залезть, сразу дурно делалось… А сейчас…
Последние слова она произнесла, уже повернувшись спиной к Кравцову. Произнесла — и стала взбираться наверх ловкими, уверенными движениями, цепляясь за выступающие кирпичи.
— Не стоит! Слезай! — попытался остановить её Кравцов. — Всё на честном слове держится…
— Надо верить честному слову! — засмеялась она, не замедляя движения. — Я смогу, вот увидишь!
Кравцов следил за ней с замершим сердцем. Упадет, непременно упадет… Сам он не рискнул бы, пожалуй, ныне пройти этим путем без крайней необходимости — древние кирпичи крошились в труху от слишком сильных нагрузок, а писатель Кравцов весил почти вдвое больше Леньки-Тарзана…
Ада добралась до места, где виднелись слабые следы балок, поддерживавших некогда перекрытия первого этажа. И полезла дальше, явно намереваясь достигнуть гребня стены, находившегося на уровне рухнувшей крыши.
Больше Кравцов не сказал ничего. Под руку — не стоит.
Она смогла. Выпрямилась во весь рост на гребне. Там, наверху, было гораздо светлее, и Кравцов отлично видел фигуру девушки на фоне начавшего белеть неба.
Она посмотрела во все стороны. Крикнула:
— Присоединяйтесь, сэр! Вид не хуже, чем с Останкинской башни!
Может, действительно тряхнуть стариной? Не такой уж хрупкий тут кирпич…
Но вспомнить навыки стенолазанья ему не пришлось. Потому что Ада разглядела сверху кое-что еще.
— Кравцов! Посмотри — вон там, в соседнем зале! — Она показала рукой. — Буквы здоровенные! Светящиеся! ЛЕ-ТУ-ЧИЙ МЫШ! Ты ведь это кричал на Плешке?! Ты знал?!
Он торопливо прошел в соседний зал. Внимательно осматривая дворец, они там побывали, но надписи не увидели. Кравцов тогда решил, что она выполнила свою задачу и навсегда исчезла.
Надпись оказалась на месте. Разве что светилась чуть менее ярко в рассветном сумраке. Он с тоской подумал, что не закончилось ничего, что всё продолжается, что они побывали (и чудом выбрались) на одной вершине пятиугольника, но остались еще четыре, каждая наверняка со своими мерзкими загадками… И близится очень неприятная дата — 18 июня…
Кравцов решительно двинулся по направлению, указанному стрелкой.
Трудно сказать, что он рассчитывал там обнаружить. Но ничего не нашел. Лишь ведущий в подвал лаз, но засыпанный землей и непроходимый. На дне узкой и достаточно глубокой ямы что-то лежало, какой-то небольшой предмет. Он нагнулся, всматриваясь. Фу-у-у… Всего-навсего бутылка из-под портвейна.
В этот момент за спиной раздался крик.
Истошный. Женский.
15
Он обернулся прыжком, уверенный, что увидит опустевший гребень стены.
Кравцов ошибся. Солнце наконец выглянуло самым краешком из-за горизонта, осветило верхнюю часть стен красноватым светом. На гребне стены виднелись две фигуры.
Аделина медленно отступала, пятясь. К ней приближался — так же осторожно, но чуть быстрее — мужчина. В руке он сжимал длинный предмет, тускло блеснувший в солнечном свете.
Сашок! — понял Кравцов. И рванул с высокого старта.
Ворвался в покинутое пять минут назад помещение, взглянул наверх и понял: не успевает.
Мужчину и женщину на гребне разделяло метра четыре, не более. И Ада отступила почти до самого конца внутренней стены. Она могла перейти на стену внешнюю, примыкавшую под прямым углом, и выиграть еще три метра для отступления. И всё — дальше стена зияет громадной брешью, отвесно обрывается… Пока Кравцов вскарабкается на гребень, наверху всё закончится.
Он застонал. Всё на свете отдал бы сейчас за дробовик с одним-единственным патроном…
Аделина отступала спиной вперед, не оглядываясь, и споткнулась о внешнюю стену, слегка выступавшую над внутренней. Пошатнулась, нелепо взмахнула руками и…
И устояла, выпрямилась. Перелезла, сделала несколько быстрых шагов — здесь гребень раза в полтора шире, позволял двигаться быстрее и увереннее. А затем остановилась. Поняла, что очутилась в ловушке. Сашок выкрикнул что-то непонятное, вроде даже не по-русски…
В этот миг у Кравцова мелькнула спасительная идея. Бросить, швырнуть чем-нибудь в Сашка — чуть позже, шагов через пять-шесть — там, знал Кравцов, гребень наиболее пострадал от непогоды и времени, там достаточно сделать одно неловкое движение, чтобы свалиться…
Чёрт возьми!!! Под ногами — ни единого камня, ни единого обломка кирпича! Пашины рабочие постарались… Кравцов видел сегодня кирпичи, кое-где вновь выпавшие из стен, но искать их времени не осталось, счёт шёл на секунды.
Он лихорадочно рылся по карманам — хоть что-нибудь тяжелое, хоть связку ключей! — напугать, заставить дернуться, потерять равновесие…
Пальцы нащупали нож. Который — Кравцов был уверен — сделал свое дело и навсегда канул на Чёртовой Плешке… Значит, сделал не до конца.
Он срывал ногти, раскрывая лезвия и инструменты: открывалки, шило, штопор… Казалось, все происходит медленно-медленно, как в кошмарном сне, где надо спешить, а движешься как в липком сиропе.
На деле нож лежал на ладони, готовый к броску, через секунду-другую. Но Сашок уже миновал опасное место — он явно освоился на верхотуре и стал двигаться быстрее. Кравцов до крови прикусил губу. Остался последний шанс, крохотный, — Сашку предстоит перешагнуть выбоину, тоже опасную, но совсем небольшую, момент броска надо рассчитать с точностью до долей секунды…
Сашок занес ногу — перешагнуть препятствие — и Кравцов швырнул нож, заорав во всю мочь:
— Сашка-а-а-а!!!
Время странно замедлилось, почти остановилось. Кравцов видел всё в мельчайших деталях: как летит его нож, медленно поворачиваясь в полете, как Сашок неторопливо оборачивается на крик, как удивленное выражение наползает на его лицо…
И Кравцов понял, что проиграл. Недооценил скорость реакции противника. Меч начал движение — медленно, чуть быстрее, еще быстрее, — и траектории клинка и летящего ножа непременно должны были сойтись в одной точке…
И тут секунды замелькали с положенной им скоростью. Меч прорезал воздух стремительно, невидимо — и впустую. Нож плашмя ударился о лицо Сашка — наискось, через глаз — и словно бы прилип, приклеился. Кравцов понял, что именно там торчал из рукояти штопор…
Сашок отклонился назад, выпустил катану, прижал обе руки к лицу и продолжил крениться, не делая попыток удержать равновесие… Через мгновение на гребне осталась одна фигура.
…К месту падения тела — за наружную стену — Кравцов вышел спустя несколько минут, после того как бледная и онемевшая Ада спустилась со стены, а сам он вооружился толстым и ржавым железным прутом. Вышел — и не обнаружил никого. И ничего.
Не было упавшей туда же катаны.
Не было ножа.
Не было Сашка.
Лишь лужица свежей крови…
Сам Сатана ему ворожит… Рухнуть с десятиметровой высоты на усыпанную каменными обломками землю — и даже не вывихнуть ногу?
Кровавые пятна четко обозначили след — вел он вниз по склону. Кравцов сгоряча устремился было в погоню, но быстро оставил эту затею. Кровавые пятна становились все меньше, а промежутки между ними — всё больше. Вниз, на дно долины, солнце еще не заглядывало. Отыскать оставшегося в неплохой форме противника на обширной, густо поросшей кустами пустоши — в одиночку и без собаки — дело нереальное… Через сотню метров, когда след стал неразличим, Кравцов прекратил поиски.
Повернулся и пошел вверх по склону. К графским развалинам. И остановился, увлеченный невиданным зрелищем. Солнце освещало руины теперь все, целиком, — и потоки света слепили глаза, проходя насквозь, вырываясь из оскалившихся битым кирпичем брешей, из дверных и оконных проемов.
Смотреть на дворец можно было лишь сквозь прищуренные веки — и казался он не старой развалиной, но таким, каким выглядел полтора столетия назад. Встали на место разрушенные временем и людьми стены и перекрытия, проемы засверкали стеклами. В большом зале (о назначении которого Кравцов не догадывался) оказался летний сад — широкие листья пальм зеленели сквозь стеклянную стену. Возник ниоткуда огромный балкон с балюстрадой — бесследно исчезнувший к началу двадцать первого века. Играла музыка — негромкая, печальная — не то клавесин, не то клавикорды. Потом зазвучал голос:
— Ну вот ты и вернулся… Добро пожаловать! У нас тут как раз наметилась партия в экарте и не хватает одного партнера. Сыграем по маленькой: голова против головы? Тебе объяснить правила?
Кравцов помотал головой и широко раскрыл глаза, стараясь избавиться от видения. Солнце безжалостно резануло по сетчатке. Возрожденный дворец сиял и переливался в сверкающем мареве, но никуда не делся.
— Сыграем, — ответил Кравцов. — Но предупреждаю: тех, кто жульничает, у нас бьют подсвечниками…
И он помахал увесистым железным прутом.