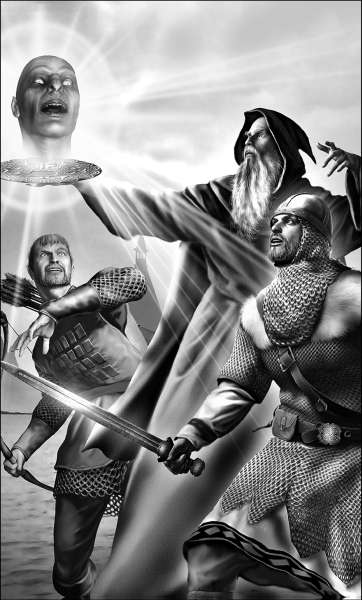Приключения сотрудников Института Экспериментальной Истории продолжаются!
На сцену выходит «крестный отец» Вальдара Камдила — Джордж Баренс, в Константинополе времен кесаря Иоанна II Комнина более известный под именем смиренного брата Георгия Варнаца, человека весьма пестрой судьбы и, по совместительству, доверенного соглядатая василевса, специализирующегося на загадочных и опасных русах.
Его задание — втереться в доверие к Великому князю Киевскому Владимиру Мономаху и выяснить, зачем этот доблестный муж не распустил свою рать по домам, а напротив, сильно увеличил ее за счет наемных отрядов варягов и степняков.
Уж не собирается ли князь, по обычаю достославного своего предка Олега, идти на Царьград?
А если нет — то на кого он идти хочет?
И что за туманные слухи насчет клятвы, которую Владимир дал некогда своей возлюбленной супруге, дочери павшего в битве при Гастингсе короля саксов Гарольда?..
Владимир Свержин
Лицо отмщения
Пролог
Мы не юристы, чтобы давать друг другу заверенные ручательства. Мы — люди чести.
Джордж Баренс аккуратно поправил стопку исписанных листов. Очередной, почти законченный том институтской эпопеи лежал перед ним на столешнице, ожидая последнего росчерка пера автора. Но тот глядел на ряды каллиграфических строк, не спеша поставить точку, в который раз задавая себе вопрос, что еще в рукописи можно изобразить лучше, точнее, изящнее… Вновь и вновь он ловил себя на мысли, что процесс создания книги сродни укрощению Пегаса, как это представляли себе древние греки, и это всерьез увлекает его, даже порою доставляет удовольствие.
Теперь лорд Джордж не просто выполнял задание руководства, теперь перед ним открывалось личное чудесное поле, которое он мог засеять фразами и увидеть, как на руинах событий минувшего вызревает зерно его мыслей и чувств. «И слово стало плотью», — тихо прошептал он изречение Нового Завета, любовно проводя рукой по шершавой странице рукописи. Ему не нравилась идея набирать текст на пишущей машинке, и уж тем паче на компьютере. Это казалось профанацией творчества. «Настоящая книга должна быть написана», — любил повторять лорд Баренс. Впрочем, в Институте никто и не собирался опровергать мнение одного из лучших сотрудников Отдела разработки.
Посидев еще немного над готовой рукописью, он вздохнул, будто готовясь расстаться с близким другом, открыл ящик стола и аккуратно положил в него плод работы последних месяцев. Затем, вернув ящик в исходное положение, нажал кнопку вызова диспетчерской службы.
— Слушаю вас, милорд. — На черной глади дисплея высветилось миловидное лицо.
— Я бы хотел знать, где находятся в данный момент Уолтер Камдайл и Сергей Лисиченко.
— Одну минуту! Желаете послушать музыку?
— Спасибо, не стоит, — отмахнулся Джордж Баренс.
— Как пожелаете.
Спустя указанное время лик на экране возник снова, с неизменной обворожительнной улыбкой на губах.
— В здании их нет. Они сейчас на полигоне.
— Что ж, — вздохнул Баренс, цепляя на грудь личный бедж с вмонтированной в него чип-картой, позволяющей безошибочно находить нужного сотрудника в закрытом институтском городке, — значит, на полигоне.
— Желаете их вызвать?
— Пожалуй, нет. — Он поднялся из-за стола. — Пройдусь. Если кому-то понадоблюсь — я там.
— Да, сэр.
— Отбой связи.
Как и обещала диспетчер, неразлучный тандем обнаружился на стрелковом полигоне. Вокруг Лиса, как обычно бывало в таких случаях, толклось с дюжину желторотых новобранцев, пришедших на импровизированное показательное выступление.
— Ну, то, шо вы видели — то все баловство, шо пяткой на макушке комара прихлопнуть. Ща пойдет высшая школа. Робин Гуд нервно курит в углу. Расщепление стрелы с разворота. Вот, посылаем стрелу в яблочко. — Сергей поднял лук и, почти не целясь, начал быстро опускать его.
— Тренируешься? — подходя к рубежу, поинтересовался лорд Баренс.
Лис отпустил тетиву, и стрела, точно ножка циркуля, уперлась в центр круга.
— Ну, елкин дрын! — возмутился непревзойденный лучник. — Ну в каком, спрашивается, тутошнем высшем аристократическом учебном заведении учат говорить лучнику под руку? Это все — злая месть за отстрел тех рыцарей, самоваров ходячих, в годы войны роз!
— Ну не ворчи, ведь выстрел все равно превосходный, — мягко улыбаясь, махнул рукой лорд Джордж.
— Как же, не ворчи, — с глицериновой слезой в голосе всхлипнул Лис. — А если бы я не попал? Какой пример я бы показал подрастающему поколению, этому племени молодому, не побоюсь этого слова, незнакомому? Ну, шо вы застыли, племенные незнакомцы? — без перехода крикнул он. — Луки в руки, стрелы в зубы, и вперед, к рубежу! Для начала попытайтесь застрелить вон тот щит. Шоб не было дурных вопросов, знакомьтесь — это не посадочный круг для вертолета, это ваша мишень. Давайте, мальчики, бойчее!
Закончив с новобранцами, Лис снова обратился к Баренсу.
— Не, ну правда, так не делают!
— Хорошо-хорошо, не делают. А Уолтер где?
— Там, за валом, от стрел уворачивается.
— О! Весьма похвально.
— Это шо, типа, намек? — Лис упер руки в боки и загорланил. — Капитан! Тут пришел твой дядя и злостно на нас намекает. Вот скажи мне, кто он после этого?
— Тот же, кто и до этого, — появляясь на гребне высокой земляной насыпи, невозмутимо прокомментировал Камдайл. — Доброе утро, дорогой милорд! Чем обязаны? Надеюсь, Лис, как обычно, сгущает краски.
— Хотел посоветоваться по поводу названия.
— Разве прежнее «Mimir’s Head» чем-то плохо?
— Лис говорит, что по-русски это звучит как «Голова Мимира» и практически не произносимо.
— Точно! — вклинился лучник. — У нас с таким названием и рулон туалетной бумаги не купят! Ми-ми-ре-до-ре-ми-фа-соль! Еще и голого какого-то приплели. Хреновое название.
— Придумай лучше!
— Я придумал. Железный креатив, буквально всесокрушающий броневой кулак пиара! Книга будет называться «Кесарь матерной земли».
— Прости, как?!
— «Простикак» делается в другом месте. Но вам, аристократам, в это не врубиться, а также не въехать, будь вы хоть три раза шумахеры. Книгу с таким названием купит всякий уважающий себя настоящий мужик! В каждом красном углу будет спрятано под половицей это нетленное произведение. И слух об нем пойдет по всей Руси великой. Затем последует обязательный перевод на всяк сущий в ней язык, а возможно, и включение в школьную программу…
— Лис, что это тебя понесло?
— Да я ж за дело радею! Убойное название! Да ты и сам посуди, по отцу земля — отчая, по матери, стало быть, матерная. Это ж от души!
— У меня есть другое предложение, — спускаясь с вала, с мягкой непреклонностью произнес Уолтер Камдайл.
— Я знал, голос народа из моего лица не будет услышан этой кучкой оголтелых феодалов, душителей вольного слова!
— А может, тебе понравится.
— Ну давай, давай, не тяни!
— Мне представляется, что название книги «Лицо отмщения» устроит всех.
Лис на мгновение замер с открытым для очередного словесного залпа ртом. Затем покачал головой и махнул рукой:
— Ладно, уел. Годится.
Глава 1
Когда имеется высокая цель, всегда отыщется благородный повод для справедливой войны.
Золотые львы у подножия трона императора ромеев грозно щерили клыки, предостерегая, что смерть грозит всякому, кто будет иметь неосторожность подойти ближе, чем предписывет строгий придворный этикет.
Василевс Иоанн II Комнин, наследник цезарей, властитель мира и покровитель христианской веры, восседал на блистающем троне в таком напряжении, точно солнечные лучи, проникающие сквозь витражные стекла, были стрелами, готовыми поразить его, сдвинься он на пядь в сторону. Великий доместик и логофет дрома[1] Иоанн Аксух, крещеный мусульманин, еще не так давно звавшийся Хасаном, докладывал ему о новостях радостных, но и настораживающих.
— Возле острова Хиос мы столкнулись с эскадрой эмирала Юсуф-паши. Против семи наших дромонов у сарацин было пятнадцать кораблей. Три нам удалось поджечь в первые минуты боя, остальные, не решась искушать судьбу, обратились в бегство. Мы не преследовали их.
— Отчего? — глухо спросил император.
Он прожил на свете уже около полувека и большую часть отпущенных ему лет провел в войнах как внутри державы, так и за ее пределами. Ответ, сколь ни печально, был ему хорошо известен, и все же, словно надеясь на чудо, он тайно желал услышать от друга и советника какую-либо иную причину внезапного приступа милосердия.
— Мой государь, силы магометан все еще превосходили наши, а запасы греческого огня, увы, закончились так скоро, что, если бы Юсуф-паша не поддался общей панике, нам нечем было бы удерживать его корабли на расстоянии. Когда б мы преследовали их, они бы очень скоро поняли, что нам больше нечем стрелять, и, увы, тогда исход сражения мог оказаться не в нашу пользу.
Император хмуро молчал, то стискивая в кулаке, то чуть отпуская золоченый посох. Великий доместик говорил чистую правду, и та доставляла Комнину язвящую боль. Для успешного ведения боя с любым врагом был жизненно необходим греческий огонь. Для изготовления же оного требовалось земляное, или, как его здесь называли, мидийское, масло. А где ж его взять, когда озера его ныне оказались в руках неверных?! Хвала Всевышнему, что не нашлось изменника, который бы надоумил гонителей христианства, как самим изготавливать сие грозное, не ведающее снисхождения оружие.
Государь опустил взгляд, слишком пристально рассматривая живописные складки отороченной золотой парчой долматики. Должно быть, наступали последние времена! Должно быть, Господь отвернулся от ревнителей христианской веры. Иначе как объяснить такое попущение врагам Константинова града?! Турки, сицилийцы, половцы, венецианцы, крестовое воинство римского епископа-отступника, числящее его врагом едва ли не большим, чем даже сарацины. Сколько еще недругов пошлет ему Господь? Скольких еще предстоит ему одолеть?
— Для успешной войны нужно земляное масло, Хасан, — негромко, но с напором проговорил император, вновь стискивая в привычных к рукояти меча пальцах золоченый резной посох. Когда они оставались одни, повелитель ромеев частенько называл своего крестника его прежним именем. Возможно, ему льстило, что столь одаренный и знающий иноземец служит ему, а не его врагам. — Иначе нам несдобровать!
— Я уже думал об этом, мой василевс, и Господь Всевеликий в неизреченной милости своей даровал глазам моим прозрение и разуму свет мысли. Как стало нам ведомо от надежных людей, обширные источники сего драгоценного масла, воистину крови земли, имеются неподалеку от Херсонесской фемы, в землях рутенов, в местности, именуемой Матраха. Они преизрядны и, главное, никому в тех краях не нужны.
— Ты не знаешь рутенов, Хасан! — поморщился василевс. — Стоит нам высадиться на том пустынном, забытом Богом и людьми берегу, как эти наши собратья по вере немедля вспомнят, что именно здесь у них лучший выпас свиней или улов мидий!
— Я подумал об этом, о преславный государь! При вашем дворе имеется один из родственников нынешнего правителя рутенов, некий севаст, или, как они говорят, князь, по имени Олег. Он был изгнан из своей земли родичами и, конечно же, страстно желает вновь захватить утерянный престол. Если мы поможем отверженному севасту взамен прежних обрести новые земли в Матрахе, именуемой варварами Тмутараканью, у него не будет иного выбора, кроме как дать нам на вечные времена возможность использовать имеющееся там земляное масло. Для него станет благом поступиться малостью, чтобы вернуть утраченное с лихвой.
— Рутены сейчас как никогда сильны, — задумчиво глядя на советника, промолвил василевс. — Их кесарь собрал воедино еще недавно разобщенные земли предков и держит их в кулаке так же крепко, как поводья своего коня. Он разгромил половцев и печенегов и… что хуже всего для нас, — Иоанн печально вздохнул и сделал паузу, намереваясь произнести то, что не давало ему покоя уже много лет, — сей варварский правитель — внук императора ромеев Константина IX Мономаха! Он с детства носит это родовое прозвание, весьма недвусмысленно напоминая мне, что имеет прав на константинопольский престол уж никак не менее, чем я.
— Однако же нынче на престоле Комнины, а вовсе не Мономахи. И самый великий из них, опора христианской веры и надежда своего народа, ныне восседает в столице империи, затмевая солнце днем и давая силы ночным светилам озарять империю! Что за беда, мой государь, в том, что какой-то далекий кесарь в своих диких северных краях носит всеми забытое ныне имя?
Уголки губ мудрого повелителя ромеев вновь сложились в печальную усмешку.
— В нашей стране, мой сладкоречивый друг, порою становились василевсами, имея на то куда меньше прав, чем у государя рутенов. Иные приходили в столицу босиком и с котомкой за плечами, а умирали в порфире! А этот опасный сосед наш, рутенский кесарь, силен и удачлив, его страна богата, и озера земляного масла находятся в его власти. Если мы начнем войну еще и с ним, империи, увы, не устоять. Быть может, ты не знаешь. — Иоанн II поглядел на склонившего почтительно голову великого доместика. — Дикие предки этого отпрыска Мономахов не раз грозили стенам Константинополя. Порою лишь чудо спасало столицу мира от гибели! Мы могли бы дать изгнанному родичу кесаря Владимира земли близ Херсонеса. Но кто знает, не послужит ли это первой искрой пожара, которому суждено погубить Вечный город. Это отнюдь не шутка, мой дорогой крестник. Что мы знаем о его планах, Хасан?
— Увы, совсем не так много, как вправе желать светлейший из государей. Купцы, побывавшие в его столице, рассказывают, что, по слухам, в этом году владыка Киявы вновь разгромил орды степных псов, однако не торопится распускать свою дружину, а также рати сыновей и братьев. Он закупает провиант, требует от Новгорода прислать ему все скованные там брони и не торговать ими более ни с кем…
— Он готовится к войне, это ясно как день, — нахмурился Комнин. — Возможно, даже к походу на Константинополь. А ты предлагаешь нам сейчас запустить ежа под мантию кесарю рутенов?! Дать ему повод?!
— Не я, о величайший, но лишь настоятельная и, увы, крайняя необходимость! Но если мы не можем полагаться на сталь, быть может, тогда доверимся золоту? — нерешительно предложил крестник императора. Он и сам прекрасно знал, насколько истощена казна, да и в том, что потомок Мономаха, появись у него хоть малейшая возможность, сам пожелает завладеть секретом греческого огня, у него тоже не было сомнений. Но иных способов обрести вожделенную «кровь земли», похоже, не было.
Государь метнул на него печально-удивленный взгляд.
— Нет, это тоже не подойдет. Пока ты жив, неразумно платить тем, кто роет тебе могилу.
— Мой государь, — после минутной задумчивости вновь заговорил Иоанн Аксух, — быть может, нам следует подойти к этому делу с иной стороны? Быть может, и впрямь кесарь рутенов счастлив во всем, и сам архангел Михаил в минуту рождения коснулся чела младенца своим крылом, но в одном Господь все же наказал его.
— О чем ты говоришь? — Император заинтересованно поднял брови.
— Он даровал властителю этой земли двух сыновей-близнецов. Его старшие наследники, по словам тех, кто их видел, весьма схожи с отцом и умом, и отвагой, и силой. Но когда Владимир Мономах умрет, а видит Бог, сколько бы ни было отмерено ему, большая часть земной его жизни уже позади, трон рутенов нужно будет разделить меж Святославом и Мстиславом. Так зовут наследников. Навряд ли они смогут усидеть на нем вдвоем. И, как не раз бывало в прошлом, поднимется брат на брата.
— К чему ты ведешь, хитрец?
— Совсем недавно Мстислав овдовел. Его жена, дочь варяжского короля, умерла родами. Если мы предложим ему руку вашей племянницы Никотеи, а заодно и поддержку Византии в его притязаниях на верховную власть…
— То поймаем в одни силки трех дроздов. — На лице императора впервые за время разговора появилась широкая улыбка, придавшая облику государя необычайно живое обаяние. Даже сейчас, когда он уже без малого полвека прожил в этой юдоли печали, глядя на него без труда можно было понять, за что в прежние годы его прозвали «Калоиоанн» — красавчик Иоанн.
— Быть может, это и вправду единственный путь. — Император величественно встал, опираясь на длинный посох сандалового дерева, украшенный затейливой резьбой, роднивший образ государя с образом мудрого пастыря. — Так и будет, — кратко произнес он, поправляя шелковое пурпурное одеяние с широкой золотой каймой. — Необходимо без промедления отправить посольство в Кияву. Конечно, император Византии не может предлагать руку своей племянницы рутенскому севасту. Но я очень надеюсь, что у тебя найдется разумный и опытный человек, который сможет направить помыслы наследника престола в выгодное для Ромейской империи русло.
— У меня есть такой человек, государь. Весьма надежный и весьма разумный. — Иоанн Аксух низко поклонился. — Я представлю вам его нынче же.
Полированное серебро зеркала отражало тонкие черты лица Никотеи, не давая, впрочем, ясного представления о девичьей прелести ее, но все же показывая, что севаста и впрямь необычайно хороша собой. Впрочем, никаких иных наблюдателей, кроме самой девушки, в покоях не было. Она медленно склонила голову тем самым образом, каким демонстрируют вынужденное согласие. «Нет, не так, — чуть слышно прошептала севаста — мягче, нежнее. — Она вновь повторила движение. — Еще нежнее».
Хотя при дворе василевса Никотею многие считали настоящей счастливицей, племянница государя отнюдь не причисляла себя к баловням судьбы. Дочь несчастной Анны Комнины, внучка императора Алексея I, она крепче «Отче наш» помнила историю восшествия на престол своего очаровательного дядюшки. И детские игры у трона венценосного деда тоже не могла позабыть. Ей не раз говорили, что тот был славен коварством и вероломством, однако Никотея знала его престарелым добряком с вечным насмешливым прищуром и тяжелой одышкой. Никто в целом мире не мог разуверить ее в том, что он был лучшим монархом всех времен! В прежние годы могущественный повелитель ромеев любил усадить ее к себе на колени и, пичкая засахаренными фруктами, рассказывать о том, как она станет когда-то повелевать огромной империей, куда большей, чем огрызок, доставшийся в наследство ему. Дед величал ее своей маленькой императрицей и порою, когда они оставались одни, давал примерить священный венец цезарей. Но судьба, похоже, имела на ее счет вовсе иные планы.
Семь лет назад, в погожий день, когда по дорожке ипподрома под гул трибун мчали разноцветные колесницы, Алексею Комнину вдруг стало худо. Такое случалось и прежде, но в этот раз, невзирая на все ухищрения придворных лекарей, августейший монарх угасал на глазах. Его перенесли в Манганский дворец, и не успел еще дед преклонить колени пред святым Петром, как «убитые горем» родственники стали кроить под себя императорскую порфиру. Мать Никотеи, разумная и властная Анна Комнина, и бабка, императрица Ирина Дукена, вцепившись в последние мгновения жизни умирающего государя, точно охотничьи собаки в ноги убегающего оленя, заклинали Алексея передать власть Никифору Вриению, отцу Никотеи. Император что-то пытался сказать, задыхался, хрипел, упрямо заставляя Господа ждать… В отличие от ее дяди, Иоанна.
Тот не стал омрачать своим присутствием самые трагические минуты жизни повелителя ромеев и, пока августейший батюшка испускал последний вздох, с отрядом телохранителей стремительным ударом захватил императорский дворец.
Дед Никотеи умер, так и не высказав последней воли. Иоанн не явился даже на панихиду. Он сросся с тронным залом, точно полип с камнем, и никакая сила не могла выкурить его оттуда.
Ее мать не была бы истинной Комниной, когда б не попыталась свергнуть брата. Однако ее затея провалилась с треском. Кесарь Никифор Вриений, которому она прочила трон своего отца, в назначенный час попросту не явился во дворец. С тех пор, на взгляд Никотеи, он влачил жалкое, хотя и весьма обеспеченное существование близ нового государя. Матери повезло меньше — венценосный брат заточил ее в монастырь, спасибо еще, что не ослепил.
Так начались уроки власти, которые преподал ей, сам того не ведая, любящий дядюшка. Чтобы высокая наука лучше усваивалась, он отослал десятилетнюю проказницу на воспитание в монастырь к святым сестрам и вернул ко двору лишь спустя пять лет, чтобы использовать в качестве пешки в своей игре. Сейчас ей было семнадцать, и больше всего в жизни юной севасте хотелось, чтобы как можно скорее игра на доске, именуемой миром, стала ее игрой!
Никотея Комнина любила пришедшую из Персии забаву, именуемую шахматы. Более всего ей нравилось, что, пройдя через испытания и угрозы, маленькая пешка может стать ферзем, вернее, императрицей, могущественной и обладающей куда большей силой, нежели ее коронованный супруг.
Она еще раз без вульгарной поспешности склонила голову, не спуская при этом васильковых глаз с отражения в зеркале, и на этот раз осталась довольна. Ничего лишнего, движение короткое, благородное и величавое. Размышляя над превратностями судьбы, Никотея сделала простой, но верный, в сущности, вывод: из всего плохого можно извлечь нечто хорошее. Она была очень благодарна смиренным благочестивым сестрам за науку терпеть, не показывая виду, и повторять одно и то же действие сотни, тысячи раз, доводя его до совершенства. А также за еще более ценную науку обращать слабость в силу.
— Моя госпожа! — Персиянка Мафраз, рабыня, подаренная ей отцом на день ангела, входя в опочивальню, преклонила колени пред вельможной племянницей императора.
Никотея так и не простила отцу малодушия, но рабыней весьма дорожила. Во-первых, персиянки были, несомненно, лучшими во всем, что касалось румян, ароматов, тканей и дорогих украшений. Во-вторых, она недурно играла в шахматы, и, в-третьих, что было особенно важно, Мафраз была единственной, кто принадлежал именно ей, а не дяде василевсу.
— Пришел евнух от государя, моя госпожа, — своим мягким воркующим голосом произнесла невольница, — император призывает вас к себе.
— Зачем? — с персиянкой Никотея могла быть чуть более откровенной, чем с изображением в зеркале.
— Евнух не сказал.
Никотея, молча глядя на служанку, провела черепаховым гребнем от корней до самых кончиков своих длинных, волнистых, светлого золота волос. Персиянка верно оценила ее молчание.
— Один из варангов,[2] что на карауле в тронном зале, обмолвился, будто василевс Иоанн желает выдать вас замуж.
— Вот как? За кого?
— Он назвал имя Мастлейва, сына кесаря рутенов.
— Сын кесаря рутенов… — чуть слышно повторила знатная ромейка. Взгляд ее выражал углубленную сосредоточенность, как обычно бывало, когда она неспешно обдумывала какую-нибудь шахматную каверзу. На этот раз ее размышления длились недолго. — Помоги мне привести себя в порядок, — быстро скомандовала она, выходя из задумчивости, — я должна предстать перед государем, как подобает маленькой нежной племяннице.
* * *
Крепость с четырьмя башнями, стражем притаившаяся над входом в горное ущелье, контролировала торговый путь между Францией и Италией. Она именовалась Себорга и с недавних пор служила центром небольшого княжества Священной Римской империи. Тропинка, ведущая меж скал к прилепившемуся над обрывом небольшому монастырю, была хорошо различима даже в сгущающихся вечерних сумерках. Каждый день вновь и вновь десятки монахов-бенедиктинцев спускались по ней к расположенным у подножья гор виноградникам и, чуть солнце начинало утомленно прятаться среди покрытых зеленью скал, снова возвращались в святую обитель, счастливые земным служением высшему промыслу.
В монастырской скриптории их ожидал подвиг духовный. Здесь по тщательно выделанному пергаменту скрипели отточенные перья, сохраняя для жаждущих спасения души слова Писания и мудрость святых отцов. Для редких же посвященных в законы и таинства под этими сводами переписывались древние повествования, еще по приказу святого Бенедикта Нурсийского хранимые в монастырской библиотеке.
В этот день монахи уже вернулись в аббатство, и гулкий колокол призывал к вечерне смиренную паству.
Путники, шедшие по узкой тропе меж отвесных утесов, черным одеянием походили на обитателей монастыря. Только сутаны их были запылены, на лицах проступала усталость. Святые отцы шли издалека.
— Вот мы и у цели, — проговорил один из них, осеняя себя крестным знамением при звуках колокола. — Учитель, быть может, теперь вы объясните, зачем нам нужно было идти сюда из самой Шампани?
— Стыдись, брат Гондемар, — смиренно пожурил его старший из монахов, невысокий сухопарый мужчина с изможденным, но полным внутренней силы лицом аскета, — пристало ли заботиться о ногах, когда речь идет о спасении души?
— Простите, святой отец, — заговорил другой спутник, — но неужели во всем княжестве не сыскалось священнослужителя, достойного принять исповедь и причастить умирающего?
— Нет, брат Россаль, — покачал головой духовный наставник, — здесь речь идет не о простой исповеди, потому-то князь Эдоардо и просил меня прибыть с двумя свидетелями.
— И как можно раньше, — добавил брат Гондемар. — Быть может, что-то предвещает скорую кончину самого князя?
— Кому то ведомо… — старший из монахов утер пот со лба, не останавливаясь на крутой тропе, чтобы перевести дух. — Все в руке Господней. Запасемся терпением. Не пройдет и часа, как мы сами узнаем.
Еще некоторое время они шли в молчании, покуда впереди не показались запертые ворота обители. Один из учеников, обогнав наставника, несколько раз стукнул посохом о тяжелую, окованную металлическими полосами створку.
— Кто вы, братья? — В воротах приоткрылось зарешеченное оконце.
— Почтенный собрат, — приветствуя бдительного привратника, заговорил старший из странствующей троицы, — доложи отцу настоятелю, что по личному приглашению князя Эдоардо прибыл смиренный Бернар из Клерво, а с ним благочестивые монахи Гондемар и Россаль.
— Вас ждут с нетерпением, преподобный отче!
* * *
Крытая веранда дворца императора ромеев вела из женской половины к покоям самого василевса. Сквозь ее арочные своды, покрытые затейливой резьбой, открывался залитый утренним солнцем двор, мощенный плитами. Во дворе, горячимые всадниками, гарцевали покрытые расшитыми попонами холеные андалузские жеребцы.
— Кесарь Мануил с друзьями собирается на охоту, — пояснил Никотее сопровождавший ее топотирит палатинов,[3] Михаил Аргир. На мгновение в лице его мелькнуло нескрываемое презрение, но лишь на мгновение. Никто, вернее почти никто, кроме молодой севасты, не разглядел этой гримасы, но лицо ее сохраняло выражение безмятежного покоя, и ясные, небесной синевы глаза излучали смирение и кротость. Случись пролетать рядом ангелу, он бы легко принял Никотею за собственное отражение.
— Как странно, — лишь заметила она чуть нараспев, — даже солнце благосклонней к милому братцу Мануилу, чем ко всем прочим ромеям.
Это утверждение, весьма сомнительное в глазах многих придворных, в одном было неоспоримо. Светловолосый, как все Комнины, голубоглазый Мануил был настолько смуглым, что разве только привезенные из Африки невольники выглядели более темнокожими. Сторонники императора кивали на супругу Иоанна II, венгерскую принцессу, но та была как раз темноволосой и куда более светлолицей, нежели сын. Противники шушукались о некоем сарацинском пленнике, нашедшем путь если не к сердцу, то уж точно к телу императрицы.
Никотея прекрасно знала о ходивших при дворе слухах. Как знала и о том, что доблестный Михаил Аргир, завоевавший ратную славу в боях с половцами, неспроста носит фамилию матери. Знатную, но все же… Отец Михаила приходился кузеном ее бабке Ирине Дукене и был одним из активнейших участников провалившегося мятежа. С некоторых пор в Константинополе было не принято кичиться родством, а уж тем более принадлежностью к знатнейшему роду Дука. Став во главе дворцовой стражи, дабы не дразнить гусей, некогда спасших Рим, храбрый воин начал зваться Аргиром.
Догадывалась она также и о том, что командир палатинов тайно влюблен в нее. Впрочем, распознать его чувства было не трудно. Тем более что она сама исподволь подогревала эту страсть взглядами, улыбками, брошенными вскользь доверительными фразами.
— Постой, я хочу полюбоваться своим любезным братцем. Как он юн, как грациозен! — Никотея легко коснулась запястья могучего воителя. — Возможно, я вижу его в последний раз. Может быть, ты слышал, меня собираются отдать замуж куда-то далеко за море.
Глаза начальника дворцовой стражи яростно блеснули, на скулах заиграли желваки. Точно не замечая этого, Никотея продолжала говорить то ли с военачальником, то ли сама с собой.
— Вероятно, когда-нибудь Мануил станет василевсом. Конечно же, из него получится прекрасный государь. Посмотри, как он держится в седле, как хорош собой. Говорят, он весьма щедр, не чета отцу. Болтают, что он недавно устроил пир и раздал друзьям столько золота, что это составило налоги с целой фемы!
Каждое слово племянницы императора входило в душу Михаила Аргира подобно стреле, пущенной гонителями веры в святого Себастьяна. Вряд ли древний командир преторианцев в те мгновения чувствовал себя хуже.
Михаил следовал глазами за взглядом этой славной простодушной девушки и едва сдерживал клокотавшую внутри ненависть.
— Если сейчас он уедет на охоту, его не будет целую неделю, а может, и две. Скорее всего мы уже не увидимся. Больше никогда не увидимся! Какие ужасные слова! Как грустно покидать дом, с которым сроднилась, людей, к которым привязана всей душой! — Юная севаста покачала головой и скорбно вздохнула. — А скажи, охотиться — это и впрямь так опасно? Я очень боюсь за дорогого братца! Как подумаешь, что порою судьба целой империи может зависеть от удара рогов какого-нибудь дикого оленя… Но полно, не стоит об этом. Не дай Господь накликать беду! — Она встряхнула головой, и луч солнца, блеснув на ее золотистых локонах, радостно принялся играть среди них в прятки.
— Однако мы заставляем государя ждать. Идемте, мой доблестный страж, не стоит задерживаться, ибо только воля Господа превыше воли императора.
* * *
Почтительный настоятель монастыря поспешил лично проводить гостей туда, где их давно уже ждали. По сути, настоятель обители в Клерво, совсем недавно построенной в землях, подаренных Бернару графом Шампанским, ни в чем не превосходил своего преподобного собрата, аббата Сан-Микеле, однако даже помыслить о каком бы то ни было равенстве духовник князя Эдоардо не смел. Пред ним был не просто иерарх церкви, не просто учитель Божьего слова, рядом с ним, опираясь на посох, в насквозь пропотевшем, сером от пыли одеянии шествовала надежда всего праведного католического мира. И только гнусный язычник, схизматик или же полоумный мог не осознавать этого!
— …Одной лишь волею небес можно объяснить, что этот старец еще жив, — открывая двери монастырской лекарни, пояснил аббат Сан-Микеле, — сей древний годами воитель среди иных паломников возвращался из Иерусалима, когда недуг сразил его. Впрочем, что же странного, в его-то лета! Так, должно быть, выглядел сам Мафусаил в последние годы жизни. В прежние времена сей мирянин был, знать, очень силен. — Он покачал головой и повторил — Очень! И поныне видать. — Аббат пропустил Бернара и его спутников. — Да вы и сами сможете убедиться.
Монашеские кельи никогда и нигде не были просторны, но эта из-за размеров тела, возлежащего на скрипучем монастырском топчане, казалась и вовсе крошечной. Человек, занимающий ее, был очень велик и очень стар. Он порывисто дышал, хватая воздух ртом. Глядя на него, казалось, что он дышит, из какого-то врожденного упрямства не желая поддаваться смерти. Бернар приблизился к умирающему и положил ему руку на лоб.
— У него жар.
— Не спадает уже несколько дней, — тихо пояснил аббат, — все это время он не приходит в себя, и я уж подумал, не зря ли вы проделали столь долгий путь.
— Господу было угодно, чтоб мы его проделали, следовательно, мы прошли его не зря.
Точно услышав эти слова, больной открыл глаза.
— Благословите, отче! — прошептал он, увидев перед собой Бернара.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! — творя крестное знамение, произнес настоятель Клервоской обители. — Сын мой, ты желаешь исповедаться?
— Недуг одолел меня у стен Иерусалима, — прохрипел умирающий, — по дороге в Яффо. Я не успел нагрешить.
— Чего же тебе надобно от меня?
— Поведать тайну. Мне нельзя унести ее в могилу. Меня звать Арнульф. Из народа данов. Когда-то я был оруженосцем у короля Харальда Хардрады. В последнем бою у Стэнфорд-Бридж… — Старик замолчал и откинулся на топчан, прерывисто дыша, словно после долгого бега.
Бернар Клервоский и аббат переглянулись. Событие, о котором говорил старец, произошло более шестидесяти лет тому назад.
— У короля была голова, — снова приходя в чувство, пробормотал несгибаемый старец.
— Ну конечно, — кивнул святой отец.
— Нет! У него была отсеченная голова, — с досадой выдохнул его собеседник.
— Говорят, он был убит стрелой, — неуверенно произнес аббат Сан Микеле.
— Это правда, я был рядом. У короля была отсеченная голова, которую Хардрада всегда держал при себе. И она говорила.
— В уме ли ты, сын мой?
— Это правда, святой отец! — с неожиданным для умирающего жаром проговорил Арнульф. — Мне скоро подыхать, но я в здравой памяти! Король возил голову на серебряном блюде и вопрошал ее, когда хотел узнать что-то важное. И голова давала ему ответ! Верный ответ! Всегда верный! Этот старый дракон всякий раз знал, что намерен предпринять враг.
— Это не помогло ему при Стэнфорд-Бридж.
— Король спросил… устоит ли трон англосаксов, и голова ответила, что и год не успеет смениться, как на престоле в Лондоне будет восседать потомок конунгов.
— И сбылось по тому, — тихо проговорил Бернар Клервоский.
— В тот день в Иерусалиме… — не обращая внимания на слова прелата, продолжал умирающий дан явно слабеющим голосом, — …на стене фреска, — силы уже окончательно оставляли его, — такая голова… — совсем уж еле слышно прошептал он. При этих словах порывистое дыхание его вдруг пресеклось, и глаза последнего викинга закатились.
— Он мертв, — тихо, прикрывая зрачки Арнульфа, пробормотал Бернар.
— То, что сейчас произошло — чудо! — не слыша его, ошарашенно выдохнул настоятель Сан-Микеле.
Глава 2
Отсутствие выбора облегчает выбор.
Сиятельный Иоанн Аксух с почтением глянул на своего протеже. Тот был немолод, но в глазах его светилась мудрость Божьего человека, в манерах чувствовалась ловкость царедворца, а в осанке проглядывала спокойная уверенность профессионального воина. И то сказать, всем этим резидент институтской агентуры Джордж Баренс, или, как его называли в этом мире, Георгий Варнац, обладал с избытком.
— Император готов отправить в Киев специальное посольство. Официальная миссия — заключение оборонительно-наступательного союза. Реальная — получение доступа к нефтяным месторождениям Тамани. В качестве наиболее эффективного средства планируется организовать женитьбу князя Мстислава Владимировича на племяннице императора, Никотее.
— Что она собой представляет? — поинтересовался Баренс.
— Мила, обходительна, очаровательна… Ничего серьезного. Она меньше двух лет при дворе, до этого воспитывалась в монастыре.
— Скромница?
— Я бы не сказал. Скорее любезница.
— Хорошо, посмотрим.
— Ваша официальная задача — стать глазами и ушами императора при дворе Владимира Мономаха. А если получится, то и его весьма красноречивым языком.
Лорд Джордж молча усмехнулся. Убогое рубище монаха-василианина,[4] отшельника меж сынов человеческих, при необходимости открывало путь в самые недоступные палаты и самые жестокие сердца.
— В этом государь может не сомневаться.
— Но вы уверены, что так называемая голова Мимира находится в руках Мономаха?
— Голова находится в руках… — с задумчиво-поэтической ноткой в голосе повторил за ним Баренс. — Хасан, друг мой, если бы я мог быть уверен, что она находится там, можешь не сомневаться, ее в этих самых руках уже давно бы не было. Но, во-первых, это всего лишь мои предположения, и, во-вторых, как это ни прискорбно, я пока не нашел сколько-нибудь внятных указаний на то, что она такое, эта самая возвещающая истины голова. На сегодняшний день ясно одно: если этот предмет не измышление вещего Баяна и действительно существует, то вероятнее всего это некий артефакт, нарушающий темпоральный континуум и имеющий по отношению к этому миру экстрацивилизационное происхождение. То есть по всем законам быть его здесь не должно! А следовательно, необходимо его изъять, а заодно и выяснить, откуда он тут взялся.
— Но почему вы думаете, что она именно на Руси, мэтр?
— Я посмотрел карту похода Владимира Мономаха на половцев, попросив, чтоб на базе мне ее максимально детализировали. И знаешь, наблюдается удивительная закономерность. Как бы ни силились половецкие ханы нанести по его владениям неожиданный удар, как бы ни выбирали они сроки и направления атаки, дружины Владимира всегда оказывались в нужное время в нужном месте. Причем именно там, где их ждали меньше всего. Я сравнил эти карты с раскладками прежних войн. Ничего подобного до того в этих местах не наблюдалось.
— Быть может, просто хорошая разведка? — предположил крестник императора.
— Быть может, друг мой, — неспешно проговорил Джордж Баренс, — и даже скорее всего. Но это вовсе не отвечает на имеющиеся вопросы. Половцы живут разобщенно и нападают чаще всего — как в голову взбредет, как белый конь глянет или птица ночью прокричит. Планов действий, которые можно было бы выкрасть и передать в Киев, у них нет, и не было никогда! К тому же в каждой их веже шпиона не посадишь. А даже если вдруг посадишь, без мобильной связи и приборов спутниковой навигации попробуй определи в степи и скрытно передай в Киев, пройдет конный отряд там, где ты стоишь, или же даст крюк миль десять в сторону.
— Можно ставить засады в местах водопоя.
— Можно, и половцы это прекрасно знают. Но Владимир обычно перехватывает врага на марше. Он имеет точную информацию, каким путем пойдут ханские войска. И, возможно, не только это. Согласись, подобный факт настораживает.
— Пожалуй, — кивнул великий доместик.
— Именно поэтому я должен лично отправиться в Киев и, как говорят в России, разобраться на месте. Кстати, — Баренс немного помедлил, — кого намерены поставить во главе посольства?
— Пока не знаю. — Иоанн Аксух пожал плечами. — Но возможно, император и сам еще не решил.
— Ну что ж. — Лорд Баренс поправил вервие, поддерживающее его бесформенный балахон. — Доживем — увидим. — Он еще раз придирчиво окинул взглядом свой наряд. — М-да. Надеюсь, у меня достаточно смиренный вид?
* * *
Деревянная скамья, на которой перед толстым фолиантом восседал Бернар Клервоский, имела заметный наклон вперед. Сидеть на ней было не слишком удобно, но зато уснуть практически невозможно, что было немаловажно для усердных орденских переписчиков, день за днем скрупулезно копировавших десятки страниц многочисленных рукописных сокровищ.
— Доблестный Гуго де Пайен, которого вкупе с прочими бедными рыцарями христовыми семь лет тому назад в этих стенах вы благословили на подвиг, не зная устали и страха охраняет паломников на пути в Иерусалим. Я полагаю особой милостью провидения и небесным знаком, что именно он узрел сокрушенного недугом Арнульфа и, выслушав речь его, велел перевезти сюда.
— Если то, о чем говорил этот несчастный дан, правда, а не предсмертный бред, то, несомненно, он видел воочию главу святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Но как доподлинно узнать, так ли это? — Бернар Клервоский приблизил тонкий нервный палец к открытому тексту. — «…Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица дала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гроб», — так сказано в Святом Евангелии от Марка. У Матфея же значится: «Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус — это воскресший Иоанн Предтеча».
Далее же, во времена святой Елены, матери императора Константина, чудесным образом обретенную главу Крестителя неким весьма странным путем заполучил бедный гончар родом из города Эмесы. Как здесь сказано, святой Иоанн явился двум инокам во сне и открыл им место тайного захоронения главы. Те пошли и обнаружили нетленную святыню в указанном месте. Положив честную главу в кожаный мешок, они понесли ее в свою обитель. Однако же по пути встретили сего гончара… — Бернар Клервоский замолчал, давая собеседнику возможность получше осознать услышанное. — Мне кажется полной нелепицей рассказ о том, что монахи, повстречав в дороге нежданного спутника, вдруг ни с того ни с сего доверили ему нести столь великую святыню. Мне также представляется вздорной выдумкой, что, глядя на попустительство и нерадение монахов, полунищий бродяга решил оставить их, прихватив с собой мешок. Все это куда больше напоминает обычное воровство.
Но вот что странно: как позже утверждал похититель, не кто иной, как сам Иоанн Креститель, велел ему покинуть нерадивых иноков. И он же затем благословил дом безвестного гончара, даровав тому богатство и долголетие. Здесь написано, что впоследствии гончар стал необычайно благочестив и милосерден, что он раздавал бедным и убогим большую часть своих богатств, а умирая, завещал голову Иоанна сестре, повелев и далее передавать ее богобоязненным, добродетельным христианам. — Настоятель Клерво постучал пальцем по странице. — Не мне, смиренному затворнику, судить о делах мирских, а тем паче о помыслах Господних! Я лишь могу предположить, что таким необычайным образом Спаситель в который раз дал ощутить уверовавшим неизменное радение свое о сирых и убогих. Дальнейшая судьба величайшей реликвии христианского мира тоже весьма примечательна. Спустя какое-то время усекновенная глава славнейшего из людского племени, всеблагого крестителя Господня, попала к некоему иеромонаху Ефстафию, зараженному арианской[5] ересью. Многие больные приходили в дом его, и он лечил их, возлагая руки. Но того не знали исцеленные, что сие приходит к ним не от мнимого благочестия отступника, а от святой главы.
— Видно, той же необычайной целительной силой и объясняются завидное долголетие и ясность ума, которые старец Арнульф сохранял многие годы, — тихо предположил аббат Сан-Микеле.
— Быть может, брат мой, быть может, — согласно кивнул Бернар Клервоский. — …Когда же обман вскрылся, святыня была доставлена в Константинополь.
— Вероятно, оттуда-то ее и похитил Харальд Хардрада. Помнится, будущий король состоял на службе у императрицы Зои и в час мятежа скрылся из Константинова града на корабле, груженном неисчислимыми сокровищами.
— Да, это так, — подтвердил его собрат. — Надо признать, что со дня бегства из ромейской столицы и до смертного часа благословение небес не оставляло этого сурового воина.
— Я еще хотел добавить, — точно извиняясь, что перебивает возвышенные размышления Бернара Клервоского, негромко произнес настоятель обители, — в стенах монастыря хранится древний пергамент… — Он замялся. — Сия рукопись не была сочтена достойной включения в число текстов, подобающих для изучения благочестивыми христианами. Под нею стоит личный знак некоего римского патриция, Фида Манлия Торквата, бывшего в те годы военным трибуном в провинции Сирия. Он присутствовал на том самом пиру во дворце царя Ирода, когда Саломея в награду за свой танец потребовала отсечь голову Предтечи. Среди прочего в его письме есть такие слова: «…и усекновенная, мертвыми устами славила она имя Бога своего».
Бернар Клервоский молча выслушал святого отца, принял из его рук ветхий от древности пергамент и аккуратно развернул его.
— Как бы то ни было, — завершив чтение, наконец глухо произнес он, — святыня должна быть найдена и возвращена. — Бернар пожевал губами. — Возвращена нашей церкви.
* * *
Источник Сладкие воды слыл любимым местом отдыха всех сановных бездельников, выезжавших за столичные стены в поисках острых ощущений. Кабаны и олени, во множестве водившиеся в этих местах, были желанной добычей всякого охотника. Когда же сгущались сумерки, азарт погони сменялся обильным возлиянием тонких хиосских и родосских вин и охотой на дичь совсем иного рода. Казалось, сам похотливый козлоногий Пан толкает ловцов на все мыслимые безумства, порождаемые кудлатой головой лесного рогоносца.
Михаил Аргир прекрасно знал эти места, ибо в прежние времена сам не раз принимал участие в здешних скабрезных увеселениях. Спрятавшись близ тропы за расколотым молнией дубом, он напряженно высматривал намеченную жертву. Сумерки все более сгущались, поляна у воды была полна народу, и главное сейчас было не потерять из виду темнолицего Комнина. «Ну же, сосунок, — шептал он, — я знаю, ты пойдешь сюда». Тропа, возле которой начальник дворцовой стражи устроил засаду, еще немного вилась по лесу змеиным следом, затем от нее ответвлялась едва заметная стежка к уютному, заросшему диким виноградом гроту, где к услугам пылких влюбленных было заранее приготовлено мягкое ложе, благоухающее цветами. «Ну давай же, чего ты ждешь?!»
Михаил Аргир понимал, что, отправившись по этой тропинке, Мануил, вероятно, прихватит с собой какую-нибудь девицу. Но что в том за беда?! Несчастную легко можно оглушить, напав сзади. Она и понять ничего не успеет. А вот Комнину уже не уйти! Последние крошечные песчинки текут в часах его жизни! И когда сорвется в бездну небытия последняя — тогда-то он, потомок императора Романа III, и поднимет своих людей! Василевс не будет долго убиваться над телом сына — он ляжет рядом не позднее завтрашней ночи! Когда же оба Комнина будут мертвы, ничего не помешает новому императору взять в жены прелестную Никотею и тем самым лишний раз утвердить свое право на трон.
— Прочь, оставьте меня! — услышал он голос Мануила, звучавший в хоре других радостных выкриков. — Я ухожу. И не идите за мной, несносные! Вы меня утомили.
— Ну, вот и все, — прошептал Аргир, доставая из поясной сумки острый, как копейное жало, клык матерого вепря.
С поляны были слышны недовольные возгласы, просьбы остаться и не покидать приятную компанию, но топотирит палатинов их не слушал. Он видел, как отделилась от толпы худощавая фигура в длинном плаще с капюшоном, как юноша подхватил под уздцы коня и ступил на тропу. Этого андалузского жеребца командир дворцовой стражи приметил уже давно. Ему даже представлялось, что на попоне, его украшающей, изображен вовсе не герб Комнинов — две руки в лазоревом поле, держащие золотой императорский венец, а его собственный.
«Давай, — шептал знатный ромей, — давай же, подойди-ка поближе». Словно подчиняясь зову притаившегося в засаде душегуба, юноша сделал еще несколько шагов к расколотому дубу, прошел мимо и… Тело Аргира выпрямилось стремительно. Так бросается на антилопу притаившийся в засаде пардус. Рывок, и в одно движение опытный воин сбил наземь ничего не подозревающую жертву, перевернул лицом к себе, занес руку с клыком и обрушил ее на горло несчастного.
«Нет!» — пытался вскрикнуть тот, но не успел. Однако и первого звука, донесшегося до ушей Михаила Аргира, было достаточно, чтобы понять, что пред ним не Мануил Комнин. Испуганный конь в ужасе стал на дыбы и, почувствовав, что узда больше не держит его, с громким ржанием припустил со всех ног прочь с места расправы.
«Проклятие!» — Убийца зарычал от бессильной ярости и в негодовании отбросил в сторону окровавленное оружие. На земле перед ним, истекая кровью, толчками льющейся из разорванной артерии, лежал юный паж кесаря Мануила. Не разбирая дороги, Аргир кинулся прочь, не чувствуя ни хлещущих по лицу ветвей, ни укрытых в траве корневищ, норовящих броситься под ноги.
* * *
Великий князь Киевский молча внимал звучавшему в темноте голосу.
— …Иначе не устоять твоей земле. И труды жизни твоей канут без следа, словно дождь, пролившийся на бесплодный камень.
Владимир Мономах хмурился. То, что узнал он нынче в потаенном схороне, упрятанном от чужих глаз в подземелье княжьего терема, наполняло сердце его печалью. Жизнь покидала его, и хотя, глядя на Великого князя, еще никто не мог сказать, как мало отмерено ему небесами, сам он теперь знал об этом наверняка. Однако не скорый конец отпущенных ему дней тревожил государя. Мономах не страшился смерти. Он прожил немало лет и зачастую играл с костлявой в гляделки куда пристальнее, чем другие. Война и охота, козни сородичей и смертельные недуги — всему этому он давал укорот недрогнувшей рукой.
Куда хуже было другое: видение того, как Русь, что собирал он воедино все эти годы, опять станет подобна оленьей туше, раздираемой ненасытными волками, терзало его превыше ужаса смертной бездны и всех телесных мучений. Еще бы! Его первенцы, братья Мстислав и Святослав, могли бы даровать отцовское счастье всякому честному мужу. Но сейчас!.. Ни один не уступал другому силой и доблестью, ни один не ведал страха и сомнений. Ни один не признавал себя младшим!
— Что же мне делать прикажешь?! — тихо проговорил Владимир Мономах, хмуря тяжелые брови.
— Не стану приказывать, — донесся из темноты шелестящий, точно падающий лист, голос. — Доверься судьбе. Уж если дала она тебе двух сыновей, возрастом и ликом равных, пусть один будет усладой отцу, другой же — отрадой матери.
— Но Гита мертва, — словно решив, что ослышался, напомнил Великий князь, и усталое лицо его невольно дернулось от тяжелого воспоминания о давней утрате.
— Пред Творцом Вечности все прах, и все живо им, — тихо произнес незримый собеседник. — Пусть возрадуется дочь короля Гарольда.
* * *
Раскидистый платан, посаженный еще Романом III Аргиром во дворе его дворца, дарил спасительную тень в знойные полуденные часы. Но сейчас, в полуночной тьме, правнуку незадачливого государя было не до тени и не до семейных преданий. Одна из толстых ветвей покрытого буйной зеленью исполина подступала так близко к окну его опочивальни, что в один прыжок можно было взобраться как из дворцовых покоев на дерево, так и обратно. Еще совсем недавно Михаилу казалось, что он продумал все до мелочей: устроив в своем дому небольшую пирушку для нескольких приятелей, он подпоил их купленным у ловкой Мафраз сонным зельем и незаметно улизнул из дворца, оставив друзей и куртизанок любоваться снами, навеянными чудесным эликсиром. Однако дело не задалось: этот чертов паж — какая нелегкая понесла его отводить хозяйского коня?! И вот сейчас…
Чтобы покинуть дворец, огороженный высокой стеной, командир палатинов воспользовался потайным ходом, известным лишь немногим. Тем же путем он вернулся во дворец. Но стоило ему пройти шагов двадцать по ночному саду, как из-за деревьев послышался резкий окрик, и трое стражников, бряцая доспехами, выступили на тропу, преграждая ему путь. «Ну вот и все, — подумал было вельможа, но быстро спохватился. — Нет, они еще ничего не могут знать».
— Молодцы! — принимая вид отца-командира, одобрительно кивнул он. — Это хорошо, что вы не спите. Бдительность превыше всего! Хвалю. Утром зайдете ко мне.
Узнав военачальника, копейщики отсалютовали оружием. Михаил Аргир отправился дальше неспешной поступью, будто спустился ночью в сад с единственной целью — проверить, бодрствуют ли ночные стражи. На душе у него скребли кошки. Он гадал, заметили копейщики или же нет, что их командир всего несколько минут назад мчал по лесу, точно следом за ним гнался взбешенный рой диких пчел. Конечно, заметили, не могли не заметить! Размышляя подобным образом, топотирит палатинов добрался до заветного платана, подпрыгнул, хватаясь за ветку, подтянулся и в несколько движений оказался в своих покоях.
Факелы уже догорели, но света луны, пробивавшегося сквозь листву, вполне хватало, чтобы разглядеть посуду, расставленную на пушистом хорасанском ковре, устилавшем пол меж скрипучими ложами. Традиция, пришедшая еще с римских времен, гласила, что пиршественное ложе должно иметь свой голос, издаваемыми звуками участвуя в празднестве. Молчание подозрительно, как считали древние.
Михаил Аргир подхватил серебряный кувшин, полный хиосского вина и, не утруждая себя никчемной процедурой наполнения кубка, с жаром начал пить драгоценный дар виноградной лозы. Вино не пьянило. Михаил опустился на ложе, перекинул через свою шею руку спящей рядом куртизанки и поудобнее умостился на ее груди.
«Нужно заснуть, быстро заснуть, чтобы в тот час, когда смерть пажа обнаружится, меня нашли сладко дремлющим среди друзей и веселых красавиц!»
* * *
Император пристально глядел на человека, которого ему только что представил Иоанн Аксух. Смотрел, пытаясь прочитать грядущее в величаво спокойных чертах лица стоящего перед ним монаха. Сможет ли он справиться с той многотрудной задачей, от которой сейчас, возможно, зависит судьба империи? Весь его вид выражал смирение, но то не было смирением убогости, и это могло оказаться как полезным для задуманного, так и опасным. Кто знает, что вырвется на волю в тот час, когда под напором обстоятельств покров христианской благости разлетится в клочья? Если человек, оставив военную службу, ушел в монахи-отшельники, только ли нерушимая любовь к Богу двигала им? Или нечто иное?.. Что же? Негоже ему, покровителю истинной веры, спрашивать об этом слугу Господнего, а, пожалуй, стоило бы.
— Как звать тебя? — сурово поинтересовался Иоанн II.
— Георгий Варнац, государь.
— Почтеннейший логофет дрома известил меня, что прежде, чем удалиться от мирской жизни, ты служил мечу.
— То было давно, — склонил голову монах-василианин, — еще в те годы, когда ваш покойный отец воевал с герцогом Боэмундом. Затем я служил в Херсонесе.
— И что же заставило тебя сменить путь воина меча на стезю воина Духа Божьего?
— Слишком много крови льется вокруг, — смиренно опуская очи долу, вздохнул Джордж Баренс.
— Какой же чин ты имел?
— Я был протиктором.[6]
Иоанн II кивнул.
— Ты хорошо знаешь Херсонесскую фему?
— Хорошо, мой государь.
— Иоанн Аксух сказал, что на твою верность можно положиться, а твои познания в военном деле — не меньше, нежели в богословии.
— Это верно, — скромно кивнул монах.
— Можешь ли ты сказать мне, что написал о греческом огне император Константин Багрянородный в «Рассуждениях о государственном управлении»?
— В этой книге, — нимало не смущаясь внезапным экзаменом, негромко ответил испытуемый, — написанной в назидание сыну, император говорит: «Ты должен более всего заботиться о греческом огне, и если кто осмелится просить его у тебя, как просили часто нас самих, отвергай эти просьбы и отвечай, что огонь открыт был ангелом Константину, первому императору христиан». Великий император в предостережение своим наследникам приказал вырезать в храме на престоле проклятие тому, кто осмелится передать это открытие чужеземцам.
— Думаю, мне не стоит тебе говорить, — произнес Иоанн II, изрядно удивленный точностью цитаты, — что в наши дни эти слова звучат столь же насущно, как и в прошлом. Только благодаря греческому огню нам все еще удается сдерживать натиск неисчислимых воинств сарацин на Европу и франкских варваров на наши собственные земли. Однако буду честен с тобой. Очень скоро нашему могуществу может наступить конец.
— Господь не допустит поругания верных своих.
— Я тоже свято верую в это. И от того, насколько успешно справишься ты с делом, порученным ныне, во многом будет зависеть, явит ли Господь милосердие, или же настолько мы прогневили Всевышнего, что в годину тяжкого испытания он безучастно отвернется от нас.
При этих словах дверь тронной залы распахнулась, и в нее, сверкая чешуей доспеха, ворвался кесарь Мануил с обнаженным мечом и щитом в руках.
— Что это означает, сын мой? — Император вздрогнул и метнул гневный взгляд на вооруженного до зубов наследника престола.
— Это я хотел бы знать, что сие означает! — с порога выпалил Мануил Комнин.
Глава 3
Что англичанину бизнес, то французу афера, а нам, русским, — дело житейское.
Горевшие во мраке кельи свечи выхватывали то сложенные в замок руки с длинными нервными пальцами, то изможденное аскезой вдохновенное лицо с горящим взглядом темных, почти агатовых глаз. От зыбкого, раскачиваемого сквозняком пламени очи эти, казалось, сами были наполнены огнем. Впечатление еще более усиливалось напористой, точно горная река, речью настоятеля Клервоской обители.
— Где бы ни была сейчас глава святого Иоанна, она должна быть здесь. Наш мир гибнет. Римский понтифик, точно дитя, упивается новыми игрушками, привезенными ему из-за моря, в то время как христианская церковь поражена симонией,[7] блудом и распрями из-за земель, власти и богатства. С его попустительства наша величайшая победа обращается в проклятие для христианского мира.
Доблесть крестоносцев отвоевала у неверных Святую землю, Гроб Господень в наших руках! Но его святейшество больше заботит, сколько драгоценных тканей и благовоний привезут купцы из Триполи, нежели судьба воинства, истекающего кровью в боях с сарацинами. Где обещанная помощь? Сотни рыцарей попусту красуются силой пред своими дамами и ничтожными жонглерами-плясунами, позабыв о своих обетах, точно и не клялись они, получая золотую рыцарскую цепь и честной меч, обнажать клинок в защиту матери нашей, Первоапостольной Римской церкви.
Как садовник отсекает сухие ветки, дабы подарить жизнь и цветение ветвям здоровым, так мы должны взять на себя то, о чем столь неосмотрительно забывает ключарь Святого Петра!
— Но, брат мой, — тихо ответствовал ему аббат Сан-Микеле, — как же мы сделаем это?
— Крест Господень станет нам путеводной звездой, уста Предтечи откроют нам путь!
— Но где искать нам эту бесценную святыню? Увы, блаженный старец умер, не открыв нам места, где хранится это сокровище.
— Вряд ли он о том знал. — Бернар Клервоский резко мотнул головой, то ли отгоняя подкрадывающуюся дрему, то ли напрочь отрицая нелепое предположение, что сия тайна могла быть известна простому оруженосцу. — Но если Господь желает, чтобы мы нашли главу Иоанна, он откроет мыслям нашим верное направление.
— Сие было бы чудом.
— Не стоит молить Всевышнего о чуде всякий раз, когда следует лишь немного пораскинуть своим умом. Посуди сам, брат мой. Харальд Хардрада мог взять священную реликвию с собой, когда отправлялся вместе с Тостигом завоевывать Британию, а мог оставить ее на родине.
— Верно, — подтвердил аббат Сан-Микеле.
— В любом случае, она надежно охранялась и не могла попросту затеряться.
— И с этим не поспоришь.
— Если Харальд взял ее с собой, то, вероятнее всего, глава Крестителя попала к его врагу, королю Англии, Гарольду Годвинсону.
— Судя по тому, как далее повернулась его судьба, вряд ли.
— Вряд ли, — согласился пламенный ревнитель христианства, — но все же может быть. Вильгельм Завоеватель высадился в Британии так скоро и неожиданно, что у Гарольда могло попросту не оказаться времени, чтобы разобраться с трофеями.
— Да, такое могло случиться.
— Следовательно, после достопамятной битвы при Гастингсе реликвия могла либо оказаться в руках герцога Нормандского, либо остаться у наследников, вернее, наследниц короля Гарольда. Если она и впрямь очутилась у Вильгельма Завоевателя, то надо сказать, что обретение святыни ничем не было ознаменовано. Она не была помещена в храм, да и, судя по всему дальнейшему бесчинству, творящемуся в английском королевстве, благодать Господня не пребывает над властителями его.
Отец-настоятель молча кивнул. Происходившее на берегах Туманного Альбиона действительно наводило на мысль о том, что, умирая, король Гарольд и впрямь, как о том шептались, успел проклясть своих врагов.
До конца дней захвативший трон Вильгельм Нормандский не ведал покоя. Сменивший его на троне Вильгельм Рыжий погиб на охоте при весьма странных обстоятельствах, по слухам, наткнувшись на собственную стрелу. Оставив распластанное тело лежать посреди леса, младший брат короля, Генрих, умчался в Лондон и, приставив меч к горлу лорда-канцлера, без лишних слов заставил того отдать печать и ключи от казны. По закону права на трон перешли к старшему из братьев, герцогу Роберту Нормандскому, но тот был далеко, в крестовом походе, и Генрих решил не смущаться такой малостью, как закон. Вернувшись, брат попробовал было отнять положенное ему по праву, но герою-крестоносцу на этот раз не повезло. Его войско было разбито, и сам он влачил свои дни в «братской» темнице. На этом список бесчинств короля-самозванца не завершился. Чего стоит только женитьба на монашенке, едва ли не силой увезенной из монастыря!
Нет, положительно, святыня не могла оказаться в столь злодейских руках.
— Конечно, трофеем мог завладеть кто-нибудь из баронов, но и тогда скорее всего мы бы об этом уже знали.
Аббат Сан-Микеле утвердительно кивнул.
— Стало быть, вероятней другое. Святыня покинула те места, где наличествуют наши глаза и уши. Я спрашиваю себя, могла ли она сделать это? И с грустью отвечаю — могла. Дочь короля Гарольда, именуемая Гитой, была спасена и после скитаний оказалась при дворе короля свеев. — Бернар Клервоский остановился, обдумывая, верен ли ход его рассуждений. — Да, именно так. Супругой короля свеев в те годы была Элисиаф, или же, по-иному, Елизавета, вдова Харальда Хардрады. Таким образом, две ветви наших размышлений здесь сходятся в одну: осталась ли голова Крестителя у вдовы, или же ее заполучила дочь короля Гарольда, реликвия была там!
— Быть может, у свеев она и нынче? — предположил его собеседник.
— Нет, — покачал головой Бернар, — оттуда она ушла, и я могу сказать куда.
— Куда же? — зачарованно поинтересовался аббат.
— Королева Елизавета позаботилась о судьбе нищей изгнанницы и выдала ее замуж за своего племянника, Владимира Мономаха, нынешнего кесаря рутенов, или, как их еще величают, русов. С тех пор как он женился, его путь к трону и все дальнейшее царствование есть непреложное подтверждение моих предположений. Я почти уверен, что глава Предтечи там.
— Непостижимо! — настоятель Сан-Микеле всплеснул руками. — Воистину нет тайны, глубь которой вы бы не прозрели боговдохновенной мыслью своей!
— Пустое! — резко отмахнулся Бернар. — Пока что все это лишь досужие размышления. Пошлите гонца к де Пайену. Нам весьма срочно понадобится один из его рыцарей, верный сын матери нашей церкви, отважный и разумный, но все же не слишком известный среди прочих воинов христовых. Не следует привлекать к нему лишнее внимание. Он должен быть верен нашему делу настолько, чтобы без колебаний отправиться в самое гнездо схизматиков, дабы отыскать святыню и, буде на то воля Божья, вернуть ее в руки слуг Господних.
* * *
Севаста Никотея готовилась к отъезду. Ее ждала огромная страна, омываемая теплым морем с одной стороны и студеным — с другой. Из этой страны везли прекраснейшие меха, отличный воск и сладчайший мед, но сие было, увы, почти все, что она знала о загадочных северных землях по ту сторону моря. Впрочем, известна была Никотее и еще одна малоприятная для ромейской империи деталь — время от времени из владений, которые она уже числила своими, к стенам Константинополя приплывали неисчислимые воинства, и только благодаря небесному заступничеству удавалось защитить столицу от набега. Но так было в незапамятные времена, когда она еще не стала женой кесаря рутенов. Теперь, дай только срок, все изменится — она еще возьмет свое! Она свяжет воедино владения рода мономашичей и метрополию, как того желает ее дядя, но совсем не тем образом, каким он надеется.
Черноокая Мафраз неслышно появилась в покоях госпожи и, преклонив колена у ее ног, зашептала возбужденной скороговоркой:
— Во дворце толкуют, что убит Алексей Гаврас, племянник дуки Трапезунта и сын могущественного правителя Херсонесской фемы.
— Паж Мануила? — так же чуть слышно произнесла удивленная севаста. Ее наперсница молча кивнула.
Племянница императора закрыла лицо руками так, что со стороны могло показаться, будто она прячет непрошеные слезы. Однако слез не было и в помине. Никотея просто не могла сдержать горькую досаду. Она не сомневалась, кто отправил к праотцам ни в чем не повинного юношу. Тот прибыл в Константинополь чуть более месяца тому назад и еще не успел обзавестись врагами. Во всяком случае, такими, что бы желали его смерти. Конечно же, удар предназначался не ему, а его господину. И конечно же, ударил этот влюбленный дурак Михаил Аргир. Кому, кому, спрашивается, это было нужно? На что он надеялся?! Эти мужчины… Почему Господь, наградив их силой, не позаботился уделить хоть толику ума?
Он что же думает, если ударом кулака валит коня, то и власть Комнинов может сокрушить, взмахнув рукой? Власть нужно не только захватить, но и удержать! А этого с отрядом дворцовой стражи не сделаешь. Он так был нужен здесь, тайно ненавидящий императора и его черномазого сынка! Теперь же из-за своей безмозглой горячности он превращается в обузу, причем в опасную, напитанную ядом обузу. Всякое соприкосновение с кровавым глупцом с этого часа может грозить смертью. Если вдруг его схватят, пыточных дел мастера вытянут, чего это вдруг командир дворцовой стражи решил позабавиться охотой на сына василевса. Конечно, ее не в чем упрекнуть, она — маленькая наивная девочка с большими глазами и нежной, чуть удивленной улыбкой.
Глаза Никотеи тут же распахнулись и губы сами собой приняли заказанное выражение. Но можно не сомневаться: Аргир признается в своей глупой страсти и она будет под подозрением. Нет, это ей ни к чему, особенно сейчас, когда покровительница Ника, расправив крылья, летит, факелом указывая ей путь.
Никотея нашла взглядом икону с ликом девы Марии и перекрестилась. Проведя несколько лет в постах и молитвах, под бдительным надзором белых сестер, она искренне считала себя доброй христианкой, что, впрочем, не мешало ей чтить крылатую Нику Победоносную.
Что ж, Аргир сам виноват. Не стоило ему спешить. Теперь же ей придется тоже поторопиться, чтобы помочь любезному дяде отыскать злоумышленника. Конечно, надо бы тщательно продумать, что она станет говорить василевсу. Но пустое, это она сделает по ходу разговора. Она всегда умела быстро принимать решения.
— Мафраз! — Никотея положила руку на плечо служанки. — Пусть императору передадут, что я срочно прошу его об аудиенции.
— Слушаюсь, моя госпожа. — Персиянка склонила голову и, пятясь, исчезла из покоев.
«Так. — Никотея подошла к шахматной доске, выложенной пластинами слоновой кости и эбенового дерева. — Предположим, что командир дворцовой стражи — участник большого заговора. Что он за фигура? Несомненно — слон! Такой же мощный, прямолинейный, не имеющий собственной воли. Теперь остается придумать, кто в этой игре мог бы считаться ферзем и кого прочат в императоры».
* * *
…Колокола звенят над градом Киевом, меда льются вековые, а от запаха яств кружится голова и у сытого. Нынче в княжьем тереме государь Руси Всевеликой Владимир Мономах празднует славную победу богатырей-сынов над степными ордами…
Пиршественные столы ломились от уставлявшей их снеди. Лебеди с золочеными клювами в блистающих коронах плыли на серебряных блюдах по шитым диковинными цветами скатертям. Кабаны чинно возлежали на огромных тарелях, держа в пасти наливное яблочко. Осетры тянулись вдоль столешниц так, что начни величать гостя, идучи ему навстречу от рыбьей головы, так к хвосту, пожалуй что, только и закончишь.
По обе руки от Великого князя сидели честные мужи, славные витязи земли Русской, Мстислав Владимирович да Святослав Владимирович. Ликом они едины, ростом сходны и статью неотличимы. На каждого глянешь — залюбуешься, а на двоих-то — и подавно бы любоваться, когда б не дружины их, а в них — бояре да нарочитые мужи, и каждый силой и славой готов с любым тягаться, а уж тем паче со всяким, кто по ту сторону стола.
— …Вот, стало быть, повел я рать к Саркелу, а там, как ты, отец, и молвил, пустехонько, бабы да старики. Мы, не мешкая, в плавнях схоронились, а чуть свет — глянь, пыль по степи до неба поднялась. Хан Буняк из набега на ясов ворочается. С ним полон и всякого добра несчитано-немеряно. Тут мы им на кичку-то сарынью и упали. Сколько от мечей наших полегло — и не счесть. А от стрел да копий — и того более… — осушая медвяную чашу, вещал Мстислав Владимирович.
— Эка невидаль! — хмыкнул брат его, Святослав. — Сонному хану кровь пустили да рухляди ясской возы умыкнули. То ли дело мы! Под самую Шарукань половцев гоняли, на Змиевых Валах головы им рубили, чтоб неповадно впредь им было в землях наших озоровать. Шургай-хан двух сынов выдал нам в полон да кровью их поклялся впредь рубежа, ему начертанного, не преступать. Все, батюшка, так сложилось, как ты сказал. — Святослав поднял чеканный кубок. — Здрав будь многие лета!
Владимир Мономах важным кивком ответил на заздравную речь сына. Победы не радовали его. Уж сколько раз сам он возвращался домой под этакий колокольный звон, сколько раз мудрый совет его помогал одолеть любого ворога, откуда б тот ни появился. И братья, и сыновья его нынче ходили в любимцах у провидения, да только, того гляди, великой ценой придется заплатить за нынешние пиры да полоны.
— Эк ты молвил, братец, — насупился Мстислав, — сущую нелепицу сболтнул! У Буняка-то войско небось вдвое было, не то что у Шуграйки плюгавого!
— Цыть! — рявкнул, поднимаясь из-за стола, Владимир Мономах. — Почто, сыны мои, из края в край славные, петухами друг на друга скачете, по что волками зыркаете?! Выкиньте дурь из голов! Ступайте за мной! Слово вам желаю молвить.
* * *
Иоанн II, наследник цезарей, с угрюмым напряжением глядел на сына. «Если бы это был заговор и он желал убить меня, то вряд ли бы сейчас остановился посреди тронного зала. Здесь важно все сделать быстро, пока самого не проняла жуть от содеянного. Остановился — значит робеет, сам не ведает, что предпринять дальше. Тогда зачем этот маскарад?!»
— Что беспокоит моего сына и наследника? — наконец веско проговорил он, увещевающее качая головой. — Враг у стен Константинополя?
— Я тревожусь за свою жизнь, отец! — запальчиво бросил молодой Комнин. — Меня хотят убить. Даже здесь, во дворце, я не чувствую себя в безопасности.
— И поэтому ты пришел сюда в доспехах, точно собираясь идти в бой?
— Да, мой отец и государь. Кроме того, я привел сотню букелариев[8] и впредь намерен везде ходить с ними.
— Это прискорбно, — качая головой, вздохнул Иоанн II Комнин. — Всякому известно, что василевс ромеев и его наследник — желанный трофей для великого множества злодеев. Мы окружены врагами, мой дорогой сын, этого, увы, не изменишь. Но даже в таком случае следует помнить, что кесарь, повсюду шествующий за стеной телохранителей, вызывает лишь насмешки и подозрение в трусости. Государь может быть убит, если такова судьба и воля Господа, но он не имеет права давать своим подданным основания для презрения. Поведай мне, что случилось. Я полагаю, мы сможем разобраться в твоей беде.
— Сегодня ночью был убит Алексей Гаврас.
— Сын архонта[9] Херсонесской фемы? — Лицо василевса помрачнело. — Это очень скверно.
— Отец, погоди! Ну при чем здесь его родство?! — снова взорвался Мануил. — Алексей был назначен мне в пажи. Я велел ему отвести перековать коня. Уверен, что в темноте убийца принял его за меня. Он, должно быть, отлично знал и эти места, и то, как все проходит обычно на Сладких водах. Он просто не мог предположить, что кто-то станет возвращаться ночью в город.
— Конечно, — согласно кивнул император, — ворота закрыты.
— Кузни есть и по эту сторону ворот.
«Он начал опускаться до мелочей, — удовлетворенно подумал император, — стало быть, главная опасность уже позади».
— Да, это так.
— Убийца пытался утаить следы, он пробил горло бедного юноши клыком дикого вепря. Мы нашли этот клык неподалеку.
— Стало быть, душегуб был неопытен, иначе вряд ли он бы бросил свое оружие на месте преступления. Быть может, молодой Гаврас не поделил с кем-то одну из местных прелестниц? — Император хлопнул в ладоши, подзывая слугу. — Сообщите Михаилу Аргиру, что я желаю его видеть.
* * *
Ксенохийон,[10] называвшийся «Золотой рог», располагался почти у самого берега обширной бухты, носившей то же имя. Здесь останавливались паломники, шедшие прикоснуться к гробнице императора Константина по дороге к святым местам далекого Иерусалима. Они были согласны на любые, самые скверные условия проживания, искренне веря, что питание черствыми лепешками и кислым вином, вкупе с прелой соломой вместо постели, несказанно приближают дух пилигрима к горним высям.
Однако кроме убогих странников-землетопов встречались и те, кто, сойдя на берег с корабля, желал вкусно поесть и хорошо выспаться, прежде чем продолжить далекое путешествие. Для таких в странноприимном доме имелись отдельные покои, отгороженные глухой стеной от приюта босоногих пилигримов. Но и здесь в обеденные часы было довольно многолюдно.
Человек, сидевший за столом в углу, казалось, старался не привлекать к себе внимания. И все же благородные посетители «Золотого рога», сами того не замечая, не спешили занимать свободные места рядом с ним. Ни в лице, ни в фигуре его не было ничего особенно грозного. Одежда чиста, хотя и слегка потерта, кинжал у пояса не слишком роскошный — обычное дело для человека, пустившегося в странствия… И все же места рядом с ним пустовали.
От этого человека исходило неуловимое ощущение смертельной опасности. Так излучает угрозу мирно свернувшаяся на камне африканская кобра.
Самого же «смиренного» путника подобные мелочи, казалось, абсолютно не волновали. Он сидел, повернув обветренное лицо к распахнутому окну, и любовался то ли видом бухты, то ли стоящими в ней кораблями, то ли старинными мощными башнями, закрывавшими выход в море. Между ними каждую ночь протягивалась огромная толстенная цепь, делавшая бухту неприступной для кораблей врага и надежно оберегавшая Константинов град от непрошенных гостей.
«Впрочем, — молчаливый посетитель „Золотого рога“ усмехнулся одними уголками губ, — ничто так не способствует падению крепости, как вера в ее неприступность. Поговаривают, что много лет тому назад некий варяг-наемник, в недобрый час приглянувшийся какой-то местной императрице, сбежал отсюда, прихватив пару дромонов с сокровищами и племянницу василевса. И никакая цепь не смогла его удержать! Разогнав корабль, смельчак попросту въехал на цепь, в тот же миг его люди перетащили груз в носовую часть, так что тот взял да и перевалился через преграду. Второй галере, правда, куда меньше повезло. Она раскололась пополам и пошла на дно».
Мужчина без суеты, но очень быстро повернулся, скорее ощущая спиной, нежели слыша чье-то приближение.
— Не желаете ли реликвии из Святой земли? — скороговоркой затараторил человек в запыленном, пропахшем многодневным потом одеянии паломника.
— Вот здесь, — он достал мешочек, — горсть земли с Голгофы, а это — кусочек мозаики из дворца царя Ирода. Посмотрите, он до сих пор хранит след крови Предтечи!
— Давай погляжу. — Нелюдим протянул руку.
— Вот. И вот. — Паломник спешно передал доверчивому простаку свой драгоценный товар. — Сами убедитесь — красное, не оттирается ничем. — Он склонился, чтобы лучше указать легковерному слушателю, куда ему следует направить взор. — У нас новости, — тут же зашептал торговец, забывая о принесенных реликвиях, — ночью убили Алексея Гавраса, его отец — архонт в Херсонесе и Готии, дядя — стратиг и дука Трапезунта. Вряд ли им понравится.
Покупатель молча кивнул, разглядывая плоский зеленый камешек с красным пятном, и наконец чуть слышно произнес:
— Далее.
— Хозяин велел передать, что василевс намерен отправить к русам большое посольство. Кто станет во главе, еще не известно, но одно ясно — Иоанн желает видеть русов союзниками.
— Пусть узнает подробности, — задумчиво потирая сложенными перстами орлиный нос, тихо проговорил благосклонный слушатель. Затем полез в кошель, достал пару серебряных монет и кинул на стол.
— Я беру это.
— Хорошо бы приба… — начал продавец экзотического мусора, но осекся, перехватив устремленный на него взгляд холодных, пронзающих, точно пики, глаз.
Дождавшись, пока осчастливленный монетами пилигрим скроется из виду, немногословный клиент бросил еще один денарий на стол и, оставив недопитый кубок вина, неспешной походкой направился в покои, отведенные для состоятельных господ.
Там его ждали. Стоило нелюдимому посетителю обеденной залы прикрыть за собой дверь, как невысокий круглолицый человек, судя по одежде, куда более достойный этих апартаментов, нежели счастливый обладатель баснословной святыни, бросился к нему, не скрывая волнения.
— Ну что?
Вопрошаемый молча кивнул.
— Встреча состоялась? — суетился толстяк.
— Да. Все так, как я и предполагал. Император ищет помощи у русов. Больше ему не у кого.
— Это очень некстати. — Коротышка возбужденно забегал по комнате. — У нас есть свои интересы на том берегу Понта.[11] До той поры, пока Венеции не удастся прекратить регулярный подвоз зерна из Херсонеса, ромеев не сломить.
— Я знаю. Но до этого еще далеко. Мой человек принес хорошую новость. И не будь я Анджело Майорано, если у василевса из его чертовой затеи что-то выйдет.
— Ты, что же, намерен захватить корабль с посольством? — Всплеснул руками тайный агент воспетой поэтами жемчужины Адриатики.
— Зачем же? На то есть наши друзья сицилийцы и наши враги турки. Пусть они займутся охотой. А я займусь добычей. Передай дожу, что Венеция может ни о чем не беспокоиться, союзу между ромеями и рутенами не бывать. Это обойдется вам в тысячу ливров, но, полагаю, оно того стоит.
— О, конечно, дон Анджело, несомненно!
— Вот и прекрасно. По рукам.
Глава 4
Саперы ходят медленно, но обгонять их не стоит.
Шедший перед Владимиром Мономахом палатничий распахнул дверь в княжью светлицу и отпрянул в сторону, дабы не затруднять проход государя и его сыновей.
— Здесь постой, — мрачно кинул верному слуге Мономах, решительно переступая порог, — погляди, чтоб никто не приближался.
Княжий тиун молча поклонился и встал у самой лестницы, скрестив на груди руки. Пожилой властитель Киевской Руси быстрой, упругой походкой воина прошел через комнату, перекрестился на образа и опустился в резное кресло с вызолоченными подлокотниками.
— Ну, что скажете, сыны мои старшие? Вновь свару затеяли?
— Бес попутал, батюшка, — понурив голову, вздохнул Мстислав.
— Да речи ж — тьфу! — попытался было оправдаться другой. — Язык — он что помело, а так я за брата кому хошь кровь пущу!
— Ишь ты, пущала выискался, — гневно скривился Владимир Мономах, — хороши вояки.
Статные бородачи-витязи слитно вздохнули, опасаясь поднимать не раз глядевшие в лицо погибели глаза на крутого в гневе отца.
— Ладно уж, — грозный правитель русов махнул рукой, — не до пьяной брехни сейчас, не за тем я вас звал, чтоб за глупое ребячество хворостиною стебать. Слушайте да на ус мотайте, ибо от того, что ныне услышите, многие жизни зависеть будут.
— Внемлем тебе, батюшка, со всей покорностью, — поклонился Мстислав, и брат вторил ему.
Владимир Мономах еще немного помолчал, подбирая слова.
— Стоит ли сказывать вам, что лет мне уже немало. Сколько еще проживу, одному Богу ведомо, а только силы уже, чую, не те, что прежде были.
— Отец!.. — встрепенулся было Святослав.
— Молчи, суеслов! — рявкнул на него Великий князь. — Не перебивай, когда о деле глаголю! — Он сделал паузу, пристально глядя на потупивших глаза витязей, точно примериваясь, можно ли поведать им сокровенную тайну. — Скажите мне, дети мои, было ли когда такое, чтобы я кому что обещал да слова не исполнил?
— Не было! — в один голос ответили братья.
— То-то ж, — вздохнул Мономах, — не было такого. Да вот беда какая, есть за мною провина тяжкая, и гнетет она меня хуже злой лихоманки. Чую, коли помру я, той вины не избыв, гореть мне в пекле адовом.
— Только скажи, батюшка… — начал Мстислав.
— Лишь слово молви! — подтвердил его брат.
— Много лет тому назад, в годы молодые свела меня судьба с Гитой, матерью вашей. Она тогда из царства своего бежала. Отца ее, короля бриттов, супостат злой убил, земли и дома захватил. Но, благодарение небесам и тетке моей, Елизавете, королеве свеев, приютила она беглянку и за меня просватала. А та пред самым венчанием и говорит мне: «Пойду за тебя, коль обещаешь земли мои у ворогов отнять». — Великий князь остановился, переводя дух. — Я ей слово дал. А затем вот все как-то случая не представлялось. Все как-то недосуг было — то половцы нагрянут, то в стране недород, то крепости строить надо. Так матушка ваша и померла, обещанного не дождавшись.
Вот и вышло, что невольно или вольно, а клятвопреступление на мне. Желаю я нынче, чтоб один из вас — хотите — жребий мечите, хотите — своею волей идите — отправился за море и, как здесь грудью стоял за отчие земли, так в дальнем краю мечом воротил земли матерные.
Братья переглянулись.
— Не дайте помереть запятнанным. Мечту имею еще до смерти узреть победу вашу. А там и Богу душу отдать легко.
— Я пойду! — поспешно бросил Святослав, всегда норовивший обойти брата, имевшего от роду чуток больше минут, нежели он сам.
— Мне идти, — расправил плечи Мстислав, — что тут гадать.
— Мечите жребий, буяны, — обреченно махнул рукой Владимир.
* * *
Василевс ромеев изучающе поглядел на сына. Тот привычно сник под взглядом отца. Казалось, весь его боевой запал ушел в громогласные крики с порога. Иоанн II величаво поднялся с трона и неспешно подошел к Мануилу.
— В тебе говорит человек, — приближаясь к вооруженному с ног до головы кесарю почти вплотную, негромко, с нескрываемой жалостью проговорил император. — Это всегда страшно, когда тебя пытаются убить. И когда убивают кого-то из близких — тоже страшно. Но тебе следует научиться побеждать этот страх. Знать, что он есть, и побеждать. Ты — мой наследник, ты — наместник Бога в этой юдоли слез. И если ты будешь рассуждать и действовать как обычный испуганный смертный, обол цена тебе как правителю и беда державе от такого государя!
Ты кричишь, что какой-то негодяй убил твоего пажа. Тысячи людей гибнут каждый день без всякой вины — такова непреложная истина. Смерть, увы, лишь часть жизни.
Я же слышу в брошенных тобою словах совсем иное. Мертв Алексей Гаврас, юноша, происходящий из рода столь могущественного, что ему вполне под силу противостоять императорской армии. Наверняка и отец мальчика, и его дядя будут возмущены нелепой смертью отрока и заподозрят в ней умысел с нашей стороны. Империи сейчас меньше всего нужно ссориться как с владыками Трапезунта, так и с правителями Херсонеса и Готии. Вот что слышу я. И ты, мой сын, тоже обязан слышать это.
— Но ведь убийца покушался на меня… — потерянно, без прежнего запала напомнил Мануил.
— Ты жив, хвала Господу, и это главное! А Алексей Гаврас мертв, и сие более чем прискорбно, — отрезал Иоанн II. — Теперь же ступай и переоденься. Стены Константинова града еще не штурмуют. Ты должен выглядеть как кесарь и достойный сын императора. А так, — Комнин смерил оценивающим взглядом отпрыска, — ты просто смешон. И помни, Мануил, затверди накрепко — мы окружены врагами. Кто бы ни убил несчастного мальчишку — заговорщики, венецианцы, сицилийцы, турки, персы, да хоть бы и крестоносцы-франки, по сути, все едино, — они попали в цель. Не мни себя центром мира, если хочешь таковым быть. Ступай. — Государь резко повернулся спиной к сыну, давая понять, что аудиенция окончена.
— Мой государь, вы желали меня видеть? — В дверях залы у колонны стоял начальник дворцовой стражи.
— Да, Михаил, — кивнул Василевс, — ты уже слышал, что произошло близ Сладких вод?
— Не только слышал, но и уже побывал там, мой повелитель.
— Вот даже как?
— Убийство сына архонта немало встревожило меня. Похоже, кто-то старается оторвать Херсонес от Византии. Подозреваю, что это — венецианцы, а может — сицилийцы.
— На чем же основана твоя уверенность? — заинтересованно поглядел на него Иоанн II.
— Увы, это не уверенность, а лишь предположение. — Михаил Аргир расстегнул поясную суму и достал небольшой клочок ткани. — Вот, это я нашел поблизости от места убийства.
Василевс принял из рук воина ничем не примечательный лоскут шерстяной материи.
— Очень похоже, — Аргир пустился в объяснения, что это кусок дорожного плаща из тех, которые продают в Венеции. — Сами видите, шерсть некрашеная, руно такого оттенка получают только в Далмации. Оттуда его поставляют в земли дожа.
— То есть, выходит, покушались не на Мануила?
— Вряд ли бы наши враги пошли на такое опасное дело в одиночку.
— Там, что же, был один человек?
— Как вы знаете, государь, я опытный охотник. Я обшарил в округе весь лес и полагаю, что могу утверждать: там был один человек. Потом, конечно, появилось много следов. Но, похоже, мне удалось найти место, откуда убийца следил за тропой.
— Все это очень несвоевременно. — Император сжал пальцами виски. — Враг бьет в самое больное место.
— Мой государь! — Михаил Аргир шагнул вперед, вновь разводя плечи и выпячивая грудь. — Позвольте мне отправиться с посольством в Херсонес, дабы я мог лично растолковать отцу несчастного Алексея козни врагов империи. Мы были с ним близко знакомы в годы недавней войны с половцами. Полагаю, он услышит мои слова.
— Да, пожалуй, — печально кивнул Иоанн II, — нынче же логофет дрома впишет тебя в состав посольства. Твои преданность и доблесть мне известны. Моя племянница, Никотея, отправляется в Херсонес, дабы навестить архонта, ведь по второй супруге он ей тоже дядя. Ты будешь сопровождать юную Комнину. Отбери надежных людей для охраны севасты. Обо всем остальном Иоанн Аксух расскажет тебе лично.
* * *
Никотея спешила, насколько позволяло ее высокое положение. Она двигалась по коридору в сопровождении пары дворцовых стражников и дежурного офицера палатинов.
«Что же сказать, — думала она, — быть может, представить все так, что молодой Гаврас был влюблен в меня, а Михаил Аргир взревновал? Тогда получается, что я оказывала благосклонность и тому и другому. Нет, этого допустить нельзя. Навет — словно пятна на леопардовой шкуре — не отмоешь. Значит, надо говорить, что Аргир предлагал мне стать его женой, обещая власть и богатство и говоря, что его ожидает великое будущее. Я полагала, что речь идет о его доблести, а он собирался убить Мануила и свергнуть императора. — Никотея вдруг невольно улыбнулась. — По сути ведь это правда. Как столь простое объяснение сразу не пришло мне в голову?!»
Стража у дверей тронного зала развернула древки копий, готовясь пропустить севасту, однако не успела та сделать и трех шагов, как навстречу ей, рдея едва заметным на смуглом лице румянцем, выскочил Мануил Комнин, а за ним твердой поступью вышел и топотирит палатинов. Увидев любимого начальника, дворцовые стражники вскинули руки в приветственном жесте, но тот лишь едва ответил им кивком головы.
— Государь назначил меня в посольство, преславная севаста, — кланяясь племяннице императора, проговорил Михаил Аргир. — Мне велено сопровождать вас.
Никотея с достоинством ответила на поклон и прошествовала в залу мимо замершей у дверей стражи.
* * *
В белой башне над Темзой было холодно и сыро. Ветер, надувавший паруса кораблей, то и дело отвлекался от порученной ему ответственной работы и норовил ворваться в господствующую над болотистой равниной крепость. Твердыня, построенная Вильгельмом Завоевателем на руинах старого римского укрепления, должна была утверждать власть норманнов над Британией. Подобно замершему над водой исполинскому троллю, башня подозрительно оглядывала земли бриттов сощуренными зрачками бойниц, опасаясь, что стоит лишь на миг забыть о бдительности и коварные дети лесистых холмов и непролазных топей нанесут удар в спину.
Впрочем, надо отдать должное Вильгельму — бастард, прозванный в этих краях Завоевателем, редко ошибался в оценке положения дел. И в этот раз он тоже был прав.
— Фитц-Алан! — громом прокатилось по залу. — Чертов мошенник, где тебя носит? Почему ты еще не здесь, когда я тебя зову?
Король Англии Генрих I Боклерк ворвался в собственные апартаменты с такой яростной мощью, будто ожидал, что ему будут противостоять не менее дюжины хорошо вооруженных противников.
Конечно же, никто не посмел даже подумать загородить дорогу государю. Даже стража, дежурившая у входа в залу, поспешила слиться с укромными каменными нишами, опасаясь лишний раз попадаться на глаза неистовому монарху.
— Дьяволовы рога! Где ты, Фитц-Алан?
— Я здесь, мой лорд. — Невысокий человек в охотничьем костюме с длинным кинжалом у пояса и выбритой тонзурой на макушке тихо возник чуть сбоку и сзади буйного, по обыкновению, короля.
— У, поганая морда! Где тебя носит? Ладно, молчи, не желаю слышать твой дурацкий лепет! Бери пергамент, перо и чернильницу. Мне доложили, что мой любезный зять император Генрих V больше не воюет с королем Франции. Это как, я спрашиваю, понимать?
— Вам доложили правду, мой лорд.
— Из этой правды можешь сшить себе штаны! Проклятие! Где перо и пергамент? Почему ты до сих пор не пишешь? Пусть этот проклятый недоумок, император, воюет дальше. Пока я здесь, — Генрих яростно топнул ногой, — не сверну бестолковые головы этим чертовым баронам, я не могу воевать с королем в Нормандии. Пусть император продолжает сражаться! — Генрих Английский сжал кулаки. — Все равно он больше ни на что не годен.
— Это невозможно, мой лорд.
— Как так невозможно?! — король Британии упер руки в боки. — Да ты с ума сошел!
— Третьего дня император Генрих V предстал пред Господом.
— Не спросившись у меня?.. Стой, что ты сказал? Он что же, помер? Нет, ну каков болван! Постой, я же велел украсть ему доктора, этого сицилийца, как там его бишь, Сальваторе, что ли… Ну, которого Роже д’Отвилль отказался мне продать. Ты же говорил, что его украли.
— Это верно, мой лорд. Но корабли д’Отвилля потопили шнек, на котором лекаря везли в Германию.
Генрих порывисто вдохнул воздух, багровея на глазах.
— Нет, какой наглец, потопить мой корабль!..
— На нем был его лекарь.
— Ну и топил бы своего лекаря, если ему вдруг это взбрело в голову! А если уж он решил его утопить, то мог бы и мне уступить — я давал хорошую цену. Вот разделаюсь с баронами, потом с французами, затем и до него черед дойдет!.. Ну да черт с ними! Если этот хилый полудурок император сдох, то где Матильда, где моя дочь?
— Позволю себе заметить, мой лорд, мне представляется, что нынче она в Германии, оплакивает тело мужа.
— Очень ему это надо! Он и при жизни не больно-то обращал внимания на ее слезы! Отпиши Мод, пусть немедля возвращается домой.
— Но, мой лорд, у нее траур.
— Плевать! Я приму ее и в трауре. Если уж этот хлипкий слизняк не смог дать ладу моей красавице дочери и у них нет… — Генрих остановился и на мгновение развел руки. — Увы, нет наследника, пусть незамедлительно возвращается домой. Напиши ей, что такова моя воля. Хорошо бы, чтоб она заодно прихватила с собой казну. Там ей она все равно больше не понадобится, а здесь еще как пригодится.
— Но, мой лорд, что будут говорить, что будут говорить?!
Генрих прошелся по зале.
— Да кой черт, наверняка что-то будут, раз уж язык болтается. Какое мне дело?! А был бы жив мой покойный зятек, мир праху его, я бы ему уж сказал, чтоб впредь, когда он ставил бы Папу Римского из своих холуев, искал такого, который мог бы замолвить нужное словечко перед Самим! — Он воздел палец к сырому потолку. — А так — ни тебе наследника, ни толку от его царствования. Шумел, пыхтел и — пшик! Так напиши Матильде, что отец ждет ее. Не-за-мед-ли-тель-но! А я пока займусь этими недоумочными баронами.
* * *
Вот уже третий день одинокая фигура парящего ангела то погружалась в соленые волны Понта Эвксинского, то выныривала из них и рвалась к небесам. Галера «Сант-Анджело», построенная не так давно в Венеции, порой ходила под флагом святого Марка, но чаще меняла цветные полотнища на мачте так же быстро, как ветреная кокетка нарядные платья. Сейчас над ней хлопал по ветру синий лоскут с гербом вольного города Амальфи. Хозяин корабля Анджело Майорано предпочитал называть свою боевую подругу «Шершнем», однако на борту галеры значилось куда более поэтичное название, данное ей в момент спуска на воду.
Жизнь ее хозяина была наполнена множеством различных поворотов, точно шла под парусом навстречу ветру. Нынче он значился амальфийским купцом, однако успел сражаться на суше и на море под венецианским знаменем, побывать берберийским пиратом, а затем — их грозою, возить крестоносцев в Святую землю, служить ромейскому императору и многое другое, о чем он не слишком любил распространяться. Впрочем, многие вещи попросту не занимали его. Так, пожалуй, он бы затруднился с ответом, к какой из религий принадлежит в данный момент. Во всяком случае, усыпанный алыми гранатами золотой крест на груди не мешал ему повторять в минуты опасности: «Нет Бога, кроме Аллаха!»
Сейчас Анджело Майорано стоял над самой головой купающегося ангела и, кусая ус, всматривался в горизонт. По его расчетам искомый дромон ромеев сейчас должен был находиться где-то недалеко. Если, конечно, нелегкая не отнесла его бог весть куда, скажем, к Трапезунту. Но нет, что за ерунда, не мог император поставить на корабль, везущий посольство, неопытного шкипера. Значит, вожделенный «ковчег» должен быть здесь, совсем рядом!
Анджело продолжал вглядываться в горизонт, когда вдруг спиной почувствовал слабое движение воздуха, обозначавшее приближение зверя, а может, человека. Он моментально повернулся, по ходу дела соображая, улыбнуться ли любезно или немедля выхватить меч. Всякий на корабле знал, что к капитану нельзя подходить со спины, предварительно не окликнув его. Не знали об этом лишь двое. И оба эти простака шли на борту «Шершня» из самой Кесарии и были похожи на тех высокомерных глупцов, которых принято именовать людьми чести.
По сути, капитана смущало лишь одно: чего вдруг рыцарю-крестоносцу и его спутнику, то ли оруженосцу, то ли уж и вовсе менестрелю, отправляться из столь желанной Святой земли невесть куда, в Тавриду? Но в своей жизни он повидал много всякого чудного, сейчас ему хорошо платили, и если уж благородному шевалье пришло в голову за свои монеты полюбоваться землями диких скифов, отчего ж он, Анджело Майорано, должен ему в этом препятствовать.
Губы капитана сложились в улыбку добродушную, почти радостную.
— Из вас бы вышел хороший моряк, господин рыцарь. Сегодня несколько штормит, однако у вас нет и намека на морскую болезнь. Мне доводилось видеть, как ваших собратьев выворачивало за борт при куда меньшей волне.
Рыцарь молча ответил улыбкой на улыбку и чуть склонил голову, благодаря за лестный отзыв.
— Ну что же ты, — звучало в этот момент в его голове, — расскажи ему, какие англичане мореходы, и шо у вестфольдингов так и вообще в желудке противовес, специальный проутивоукакочный… ну, в смысле, противоукачечный! А то мне на такой волне на его ухмыляющуюся рожу смотреть противно. Слушай, шо за бодягу они мешают в свое вино? Это же умом никуда не выносимо! Блин, еще и алхимию толком не изобрели, а уже шо-то намешали…
— Лис, ну что ты шумишь? — недовольно отозвался «господин рыцарь» на канале закрытой связи, не размыкая уст.
— Я же тихо шумлю! И при этом во весь голос выражаю мнение широкой общественности в моем лице! — не унимался его оруженосец и телохранитель. — И вообще, если Институт потерял голову, почему искать ее должны именно мы? Было б шо-нибудь серьезное, ну, например, мир спасти, или, как у вас там в Англии водится, пазл из Артурова завещания собрать — это еще куда ни шло. Или куда не шли. А тут — посылать тучу народа искать какую-то голову профессора Доуэля, которой с невнятного перепоя поклонялись тамплиеры… По-моему, это перебор! Мало ли кто кому поклоняется… — недовольно подытожил оруженосец и неожиданно запел:
Мы поклоняемся мечу
И телевизор выключаем,
Мы поклоняемся мечу,
И черепушку Пикачу
Мы на пиру наполним чаем!..
О, кстати, Вальдар, вот тебе еще одна черепушка!
— Сомневаюсь, что это то, что нам нужно.
— Хорошо, — с деланной тоской вздохнул его собеседник, — махну рукой, открою тайну. Есть у нас голова в тамошних местах. Как раз примерно в эту пору в нашем эпосе значится.
— Ну-ка, ну-ка.
— Но приближаться к ней опасно. Даже тебе не советую.
— Говори, не томи.
— Она лежит во чистом поле и дует в ус. Причем, надо сказать, мощно дует — все поле уже усеяла мертвыми костями.
— Это, что же, ты мне «Руслана и Людмилу», как это у вас говорят, втюхать пытаешься?
— А тебе уже и Пушкин чем-то не угодил? Вы, кажется, с ним в последний раз вполне мирно расстались. Так и не стали стрелять друг в друга.
— Нет, — опираясь на фальшборт и глядя в море, безапелляционно ответствовал рыцарь, — это не та голова! Во-первых, она слишком большая, во-вторых, слова путного от нее не добьешься.
— А может, она в Чернобыле лежит. Это как раз недалеко от Киева.
— Плохая шутка.
Лис вздохнул.
— Согласен. Ладно, есть еще один кандидат. Голова, разговаривает, очень дельная. Повесть о ней в нашем эпосе еще до царя Панька значилась. В общем так, голова на дизтопливе, ну это, в смысле, солярная,[12] движется по маршруту очень и очень показательному. Сначала она попадает к предвестнику несчастий и силой ума побеждает его. Потом ее заносит буквально в лапы посланцу смерти. И шо б ты думал? Посланец сам был послан! Тогда на сцену выходит сам повелитель темных сил, хозяин черного леса, верхних мхов и всех малин. Прямо скажем, ему тоже везет не больше.
— Ну-ну, и что было дальше?
— А вот дальше — самое главное. Дальше наш солярный знак встречается с нашим же славянским воплощением мудрости. Здесь в Византии она именуется Софья, и это, как мы помним, расшифровка мистического названия тамплиерской главы Бафомет…
— Я знаю это, сам тебе говорил. Не тяни!
— Знак солярной головы поглощается мудростью.
— И что?
— Ну-у… съела она его.
— Кого?
— Как это кого? — Голос Лиса был полон искреннего недоумения. — Колобка, естественно.
— Да ну тебя, — возмутился рыцарь, — я же серьезно!
— А мистический смысл?!
— Какой еще мистический смысл?
— Ну как, сколько солнечную силу с мудростью не сочетай, все равно в результате дерьмо получится.
— Лис, отбой связи.
— Вот, не дают на истину глаза открыть…
Оруженосец еще что-то хотел сообщить благородному рыцарю, но тот, словно поправляя медальон на груди, коснулся его руками, и голос в его голове моментально стих.
Честно говоря, институтское задание, которое выполняла в этом мире его оперативная группа, несколько обескураживало. Предположение, что здесь по неведомой причине действует нечто вроде стационарного агентурного пункта какой-то высшей цивилизации, базировалось на основаниях довольно шатких и все же трудно опровержимых.
Проскользнувшая в одном из отчетов информация о некоей отсеченной голове, дающей заполучившим ее счастливцам весьма ценные советы, имела несколько пусть косвенных, но все же подтверждений и больше не могла быть списана на досужие байки.
Что же за этим крылось? Магия, какой-то интерактивный компьютер, связанный с неведомой базой или же вовсе неизвестная форма жизни — пока оставалось лишь гадать. Чем подобная «служба добрых советов» могла грозить данному сопределу?.. Об этом даже и говорить было преждевременно. Настораживало другое. Легенды о говорящих головах имелись и в собственной мифологии так называемого мира номер один. А этот след мог вести и вовсе уж бог весть куда.
— Проклятие! — раздался совсем рядом возбужденный голос капитана. — Видите зарево на горизонте? Впереди бой!
Глава 5
Наш орден есть рука помощи, милостиво протянутая утратившим веру. И только по воле Господа эта рука сжата в кулак.
Смиренный монах в некрашеном белом одеянии едва слышно кашлянул, привлекая внимание настоятеля Клервоской обители.
— Прибыл брат Гондемар, — негромко произнес он и умолк, дожидаясь распоряжений и перебирая увесистые костяные четки.
— Зови, — столь же кратко ответствовал аббат, вставая из-за грубо сколоченного стола и прижимая глиняной светильней исписанный пергамент.
Брат Гондемар, отправленный в Святую землю с посланием к Гуго де Пайену, отсутствовал чуть более месяца. Но, судя по скорости возвращения, Господь был благосклонен к замыслам святых братьев и даровал хорошую погоду, удачную дорогу и попутный ветер. Бернар сцепил свои длинные тонкие пальцы и, подойдя к висевшему на стене распятию, чуть слышно зашептал: «Аве Мария гратия плена…» В минуты волнения молитва наполняла его особым чувством небесной радости и просветления, точно он парил над миром смертных меж облаков и сонмов ангелов, взирая сверху на него.
За этим молением и застал его брат Гондемар. Он едва не валился с ног, ибо со всей истовостью преданного слуги Господнего в прошедшие недели выполнял завет настоятеля — не знать отдыха, доколе не будет выполнено порученное ему дело.
— Приветствую тебя, преподобный отче, — едва шевеля потрескавшимися губами, проговорил монах.
— Мир тебе, любезный брат, — завершая молитву, кивнул Бернар. — Какие вести ты привез из Святой земли?
— Шевалье де Пайен просил тебя не оставлять в молитвах его и смиренных воителей Божьих, неуклонно стоящих за святое дело пред лицом злокозненных язычников и отступников, алчущих гибели праведникам. Кто бы ни были эти мерзавцы, сарацины или же франкские бароны, позабывшие о вере и погрязшие в преступной роскоши, — да расточатся они пред именем Господа! Не оставь же бедных рыцарей христовых в час испытаний, ибо неисчислимо воинство прислужников врага рода человеческого.
— Да, несомненно. — Бернар Клервоский вернулся к столу. — Но скажи, он сделал то, о чем я просил?
— О да, едва узнав твою волю, он незамедлительно отрядил некоего рыцаря, недавно примкнувшего к его отряду.
— Ты видел его?
— Да, — брат Гондемар склонил голову, — это дворянин из Пикардии, Вальтарэ Камдель. Его роду принадлежит замок Вержен. По утверждению де Пайена, он — верный сын матери нашей, Римской церкви, и, как я мог убедиться воочию, прекрасный воин. Кроме того, он необыкновенно сведущ в языках, что особо ценно в нашем случае.
— Это верно, — подтвердил настоятель обители. — Будем уповать на милость небес и на то, что сей рыцарь не только ловок с мечом, но и достаточно умен, чтобы не оплошать во всем прочем.
— По слухам, приходящим в Святую землю от киликийцев, русы сейчас готовятся к большой войне и потому рады принять в свои ряды всякого, кто пожелает сражаться и умеет это делать. Вряд ли намерение шевалье де Вержена поступить к ним на службу вызовет какие-либо опасения.
— Русы… — задумчиво проговорил Бернар Клервоский. — Послушай, что пишет мне о них епископ краковский Матфей. — Аббат отошел к столу и взял один из свитков, затем развернул его и пристроился рядом со светильней.
«…Народ же тот русский множеству ли бесчисленному, небу ли звездному подобный, и правила веры православной и религии истинной установления не блюдет… Христа лишь по имени признает, делами же совершенно отрицает. Не желает упомянутый народ ни с греческой, ни с латинской церковью быть единообразным. Но, отличный от той и от другой, таинства ни одной из них не разделяет».
— Вот так-то, любезный брат! Даже среди нечестивых схизматиков-ромеев сей народ слывет еретиками, и было бы верным не убеждать заблудших вернуться на путь истинный, но принести в те края слово Писания так, будто оного никогда и не ведали на Руси. Епископ Матфей заверяет меня, что люди, верные ему, а стало быть и нам, имеются даже при дворе короля русов. Ясное дело, они ничем не выдают себя, но в случае необходимости через них можно будет передавать волю нашему рыцарю и получать вести от него. Господи! — Бернар повернулся к распятию. — Вразуми страждущего твоего, для чего попущением своим дал ты еретикам высший знак благоволения?! Я не ропщу, Господи, но сердце мое полно муки мученической! Да будет воля твоя даровать нам победу! Да святится творимое во имя Твое! Да расточатся врази Твои…
— Увы, благочестивый отче, даже если люди епископа Матфея со всей возможной скоростью и рвением будут выполнять свое дело, путь из Кракова сюда, а отсюда на Русь столь долог и труден, что вести, если они дойдут, успеют состариться и станут лишь причиной для пустой молвы.
— Это так. — Бернар не спеша свернул пергамент. — Но для скорых вестей есть Божьи птицы — голуби. Однако им не под силу решать и вершить суд. Такое право дано лишь человеку, возлюбленному чаду Господа нашего. А потому, брат мой, завтра утром ты отправишься в Краков. Я напишу преосвященному Матфею. Руководи сим рыцарем, как сам он руководит своим мечом, и помни, дражайший мой брат во Христе, когда над истинной церковью занесено оружие инаковерия, следует уничтожить противника, дабы самому не быть уничтоженным. А потому не забывай, что, хотя крест и меч сходны по форме, у меча все же несколько иное назначение.
* * *
Зарево на горизонте становилось все явственней, но теперь кроме отсветов пламени до экипажа галеры ветер доносил звуки битвы.
— Море горит, — себе под нос пробормотал Анджело Майорано, вытаскивая из ножен широкий восточный меч, весьма удобный для абордажной схватки. — В рог не трубить. Подготовить баллисту. Поднять флаг Юсуф-паши. — На губах капитана сама собой возникла хищная ухмылка, которую, впрочем, можно было легко назвать оскалом. — Господин рыцарь, что ж вы не спросите меня, на чьей я стороне?
— Зачем? — не спуская глаз с опаленной линии горизонта, пожал плечами невозмутимый пассажир. — Если вы и впрямь изменник, я убью вас быстрей, чем вы успеете понять, или, ясное дело, сам погибну с честью, как подобает христианскому воину. Если же это лишь уловка для того, чтобы сблизиться с врагом, к чему мне вам мешать?
— Браво! Достойный ответ, — искренне рассмеялся хозяин «Шершня». — Оставлю вас пока в неведении, но отойду подальше — не стоит искушать судьбу.
— Да-да, конечно, не смею вас задерживать.
— Капитан, ну шо, опять? Я говорил тебе — не верь попам! «Рекламная акция, круиз из Кесарии в Херсонес совершенно бесплатно!» Хоть кто там с кем рубится?
— Судя по тому, что горит море, — византийцы.
— Ага, а раз наш ангелок велел покрасить крылья в зеленый цвет, то скорее всего — с турками.
— Вероятно. Пока не видно.
— То-то ж, не видно! Ну, ты на всяк случай уточни у дяди Джо, не его ли это «Гребущую по волнам» османы решили досмотреть.
— Уже. Строго говоря, они еще не османы, а обычные сельджуки…
— Да по мне хоть сельдь, хоть жуки, раз турки, значит, османы! Но, как говорил один хороший человек, к делу, которое я сейчас представляю, это отношения не имеет.
* * *
Одна из фелук[13] горела, все глубже погружаясь в воду. Доносившиеся с ее борта крики и мольбы о помощи во всем мире интересовали, вероятно, одного Аллаха, к которому, собственно говоря, и были обращены. Море, подожженное греческим огнем, пылало, затягивая трагическую сцену гибели корабля густым занавесом дыма. Еще три фелуки сельджуков атаковали ромейский дромон с разных сторон, спеша яростным натиском сокрушить холодную стойкость защитников.
В первое же мгновение, когда волки Эвксинского Понта ринулись в атаку на императорский дромон, было ясно, что абордажа не избежать. Сельджуки не ведали секрета греческого огня, но были отличными мореходами и не в первый раз сталкивались в бою с надменными соседями. Быстро сократив дистанцию, один из турецких кораблей преградил путь ромеям и тут же начал разворачиваться, чтобы заставить врага остановиться и в то же время не получить заряд сифонофора.[14]
Последнее ему не удалось. Теперь фелука горела посреди бескрайнего моря, и только воля Аллаха всемогущего могла потушить беспощадный огонь. Но ромеи опоздали. Едва быстроходный дромон сбавил ход, еще две фелуки атаковали его с левого и правого бортов, забрасывая на весла противника «осьминогов» — тяжелые, окованные железными обручами камни со множеством крючьев на цепях.
Дромон попытался развернуться, но не тут-то было. Ломая одни весла и намертво вцепляясь в другие, «осьминоги» якорями пошли на дно, лишая ромеев хода. И в этот миг четвертая фелука, ударив по рулевым веслам, пошла на абордаж, забрасывая мостки на корму дромона. Крик «алла!» повис над волнами, но звон мечей и слитное гудение тетив незамедлительно дали понять, что праздновать легкую победу сегодня не придется.
Варанги, набранные Михаилом Аргиром в свиту севасте Никотее, были превосходными воинами, привыкшими сражаться на раскачивающейся корабельной палубе с не меньшим воодушевлением, нежели на твердой земле. «Руби, руби неверных псов! — яростно ревел командир отряда телохранителей, неистово круша нападающих двуручной секирой. — По золотому за голову!»
— Святой отец, — юная севаста вцепилась в рукав сутаны монаха-василианина, точно проверяя, не прячется ли в нем спасение от нежданной напасти, — что же с нами будет?!
Сейчас ей действительно было страшно. Мысль о том, что вместо трона рутенов она может попасть в какой-нибудь гарем, казалась ей просто невыносимой.
— Молитесь, дочь моя, молитесь истово, ибо сказано: «Кто уверует в Меня, спасется». Господь милостив, — увещевая перепуганную красавицу, негромко твердил Георгий Варнац, с грустью сознавая, что запирающий дверь засов долго не выдержит и кормовую надстройку с двумя девицами ему во время штурма не отстоять. — Все в руке Отца Небесного!
— Вальдар! Сколько еще можно вас ждать? Ты же говорил, что зарево уже видно.
— Если бы у этого ангела действительно были крылья! А так — лишь весла да парус. Но скоро, скоро уже будем. Капитан рвется в бой, как гончая по следу. Ага, вот марсовый доложил, что вы уже видны! Мы заходим с кормы.
— Поторопитесь!
— Но откуда же, откуда нам ждать спасения, святой отец? Врагов так много!
— Господь милостив.
— Там корабль! — вдруг закричала притаившаяся у окна с кинжалом в руках Мафраз. Ей, персиянке, встреча с единоверцами-турками тоже не сулила ничего хорошего. В крике девушки слышалась неподдельная радость, тут же сменившаяся крайней степенью разочарования. — О, шайтан! Тоже сельджуки!
— Когда Господу угодно совершить чудо, он и из сельджука сделает христианина, — весомо проговорил Георгий Варнац. — Мужайтесь, госпожа, будем уповать на волю Божью и доблесть наших защитников.
Когда на фелуке, пристроившейся за кормой византийского дромона поняли, что галера, идущая под флагом великого эмирала Юсуф-паши, не думает останавливаться, было уже поздно.
— Амальфи! — заорал Анджело Майорано в тот миг, когда баллиста метнула в турецкий корабль тяжеленный камень, угодивший в самое основание мачты. Вслед за тем окованный бронзой таран проломил борт фелуки, и над «Шершнем» снова взвился голубой флаг с белым крестом. — Аванти анджели ди Дио![15] — выкрикнул гроза берберийских пиратов, впереди абордажной команды бросаясь на кишащую врагом палубу.
Этого крика было достаточно, чтобы на турецких кораблях моментально утратили интерес к и без того яростно обороняющемуся дромону. И немудрено — на всем Магрибском побережье венецианца именовали не иначе, как Мултазим Иблис,[16] и старались оказаться подальше от того места, где он искал себе добычу.
Десять лет назад на Средиземноморском побережье от Джебаль-аль-Тарик до Александрии не было пирата более дерзкого, нежели Иблис аль Муруни. Так именовали мусульмане Туниса своего нового единоверца. Но лишь до тех пор, пока король Сицилии Роже II, сын нормандского авантюриста Роджера д’Отвилля, не решил положить конец пиратству на Средиземном море. Тогда-то боевой клич «Божьи ангелы со мной!» и зазвучал приговором для многих доблестных воинов Аллаха. Когда же в обмен на поставку зерна магрибинцы обещали прекратить морской разбой, Мултазим Иблис затосковал и куда-то исчез. Однако ненадолго.
— Божьи ангелы со мной! — неслось над морем, и те несчастные, что еще оставались на палубе фелуки, спешили прыгнуть за борт, надеясь доплыть до покидающих место боя соратников, чтобы хоть так, быть может, спасти обреченную голову.
* * *
Король Франции Людовик VI был высок и весьма тучен. Последнее обстоятельство послужило поводом для нелестного прозвища Толстый, хотя из всех демонстрируемых монархом качеств его выдающаяся тучность, пожалуй, была наименее существенной. Даже враги короля, а их было немало, не могли припомнить за Людовиком какого-либо коварства или же нерадения во всем, что касалось величия Франции.
Впрочем, любви к нему вассалам это не прибавляло. С момента восшествия на престол этот правнук Ярослава Мудрого желал необъяснимо странного. Он утверждал, что гордые бароны обязаны повиноваться своему королю, что они не должны захватывать монастырские земли, и, что уж совсем выглядело нелепо, он требовал соблюдения заключенных договоров, как будто заключая договор кто-то собирался его соблюдать!
Понятное дело, это вызвало бурю возмущения среди благородного рыцарства. И, конечно же, оскорбленные в лучших чувствах бароны схватились за оружие, желая показать королю, кто настоящий господин Франции. Справедливое негодование вассалов Людовика VI поддержал и король Англии, считавший оскорбительным для себя напоминание о том, что герцогство Нормандское, присвоенное им после бесчестного пленения и ослепления брата, тоже является частью французского королевства.
Проигранное сражение при Бренвилле заставило Людовика покинуть Нормандию, однако он не оставил навязчивую идею добиться покорности от мятежных баронов. И потому день ото дня тучный, страдающий одышкой король, не зная устали носился из конца в конец своих владений, расстраивая союзы мятежников, сокрушая их в боях и стирая с лица земли замки, ставшие змеиными гнездами заговорщиков.
Не так давно Людовику VI пришлось скрестить мечи с германским императором, однако на этот раз военное счастье было на его стороне и враг был вытеснен из французских земель с немалыми потерями.
Не утерев пот со лба, Людовик VI снова принялся за непокорных вассалов. И теперь, слушая методичный стук тарана в ворота замка Ле Блош, усталый, почти изнуренный король разглядывал предложенный ему проект огромного храма, который надлежало построить в Париже в знак величия и единства Франции.
Король глядел на тщательно вычерченные башни колоколен, силясь представить себе, как будет выглядеть изображенный здесь храм в реальности посреди острова Сите. Уже четвертые сутки он обходился почти без сна, и потому старания его были, увы, бесплодны. Глаза закрывались сами собой, точно на каждом из них лежало по гробовой плите. А стоило лишь смежить веки, как вместо двух стройных колоколен ему представлялись квадратные башни осажденного замка и льющийся из них на головы его воинов кипящий вар.
— Я жду вашего слова, мой король, — негромко напомнил о себе почтительный архитектор, давно уже наблюдавший непримиримую борьбу монарха с владыкой куда более могущественным, чем он сам.
— Да. — Король мотнул головой, отгоняя наваливающуюся дремоту. — Ну да, конечно. Вы уже говорили об этом проекте с аббатом Сугерием?
— О да, всенепременнейше, мой государь. Его преподобие лично изучил мой проект и признал его достойным вашего августейшего внимания. Более того, вот здесь и здесь нужны древесные стволы определенного качества и размера. Когда его преподобию доложили, что таких деревьев не сыскать, он вызвался самолично найти то, что нужно.
— Он, что же, в лесу? — Людовик VI напрягся, невольно просыпаясь. Мысль о том, что ближайший советник и вдохновитель большинства его побед блуждает где-то в местных буреломных чащах, настолько поразила его, что даже отогнала сон. — Аббат Сугерий помчался в лес разыскивать какие-то деревья в то время, когда он так нужен мне? Ну что же это такое? Есть ли в этой стране хоть кто-нибудь, на кого я могу положиться?!
— Он не один, ваше величество. Он взял стражу и велел им прочесывать местность вместе с собой.
— Место солдат — здесь! У вражеских стен! Как, впрочем, и его преподобия… О Господи! Несчастный король несчастной страны! — Он с шумом выдохнул и начал массировать виски. — Следует немедленно послать за ним.
Приветственные крики, донесшиеся от ворот укрепленного лагеря, свидетельствовали о том, что пожелание короля уже абсолютно излишне. «Сен-Дени!» — несся над стенами радостный клич, однако на этот раз он не звал в жестокую сечу. Аббатом именно этой обители состоял мудрый отец Сугерий.
Насупленный король исподлобья поглядел на входящего в шатер советника.
— Вы заставляете меня волноваться.
— Ничто не страшит истинно верующего, ибо ангелам небесным заповедано охранять его.
— Ангелы… — пробормотал себе под нос Людовик VI, — что б им, скажем, не опуститься на этот замок и не втолковать барону, что для него и его людей было бы лучше открыть ворота? Или уж пусть надоумят вас, как это сделать.
— Будем стойкими, сын мой, и не станем укорять Господа в том, что его помыслы выше наших. К тому же вам грешно роптать.
— Отчего же? Вы нашли нужные для храма деревья и теперь у нас все сложится наилучшим образом?
— Возможно и так, сын мой, возможно и так. У самого лагеря я встретил гонца из Парижа.
— И что же?
— Нам сообщают, что император Генрих, доставлявший вам столько неприятностей в последние месяцы, умер.
— Вот как? — Людовик VI молча прошелся по шатру, не зная, что и сказать от радости. Он воззрился на проект нового собора и наконец после минутной паузы выдавил скорее с удовольствием, чем с приличествующим христианину состраданием:
— Упокой, Господь, душу грешника. Что ж, теперь Генриху Английскому придется умерить свой пыл. Я бы дорого дал, чтобы какая-нибудь лихоманка прибрала и его заодно с зятем!
— Вы злословите, сын мой. Грешно христианину искать смерти другого христианина.
— Я не ищу, я говорю, что было бы хорошо. Впрочем, пусть себе живет, лишь бы года два, а лучше три, он не совал нос во Францию. А там я его уже встречу во всеоружии! Знать бы, что может удержать этого выродка нормандского ублюдка на его проклятом острове.
Аббат Сугерий молча покачал головой, порицая злословие духовного сына, но тот, казалось, не замечал немого упрека.
— Я клянусь, что не пожалею отборных золотых монет, чтобы вот этот самый храм был самым лучшим, самым прекрасным во всем христианском мире, если Господь дарует мне эти годы.
— И Вавилон не устоял пред гневом Всевышнего, — промолвил аббат Сен-Дени. — Нет стен, кои бы не сокрушила воля его.
— Ваше величество! — В шатер вбежал молодой оруженосец в котте, затканной множеством золотых лилий в лазоревом поле. — Замок выбросил белый флаг, они открывают ворота!
— Я бы назвал это знамением, сын мой, — чуть помедлив, негромко подытожил аббат Сугерий.
* * *
Гребцы на галерах — неважные лучники. Прицельно стрелять в движущегося противника, много часов перед тем ворочая тяжеленным веслом, и пытаться не стоит. Однако пользоваться ременной пращой упражнения на веслах не мешают. Как по команде град свинцовых шариков обрушился на сарацин, зажатых между щитами варангов и сокрушительным прессом абордажной команды Анджело Майорано. Отряд, который вел за собой этот «мытарь дьявола», был невелик, но каждый его воин знал свое место и стоил по меньшей мере пятерых. Неизменная отвага сельджуков повелевала им держаться до последнего, но ни варанги, ни их «случайные» союзники не собирались отвлекаться, чтобы оценить воинскую доблесть противника.
— Лево! — раздалось в голове у Вальдара, и он не глядя выставил щит. В тот же миг чей-то клинок гулко ударил по умбону,[17] и рыцарь почувствовал, как остаток импульса этого удара переходит ему в руку. Еще мгновение, и у его ног рухнуло тело с торчащей в горле длинной оперенной стрелой.
— Спасибо, Лис.
— Кушайте, не обляпайтесь. Право!
Рыцарь резко ушел с линии атаки и торцом щита рубанул по возникшму совсем рядом предплечью с хищным дамасским кинжалом, зажатым в кулаке. Оружие вылетело из руки нападающего и встряло в палубу. Вальдар тут же резко двинул щит вперед, нанося тяжелейший удар в челюсть врага. Ни малейших сомнений в эффективности контратаки у рыцаря не было, и потому, перескочив через растянувшееся на палубе тело, он помчался дальше.
Анджело Майорано сражался один против троих. Сельджуки пытались окружить его, но венецианец уходил от их атак, точно угорь. Казалось, опасность лишь развлекает его, потому он не торопится разделаться с неприятелями. Пробегая мимо, Вальдар рубанул одного из турок. Тот упал, не подавая признаков жизни. Должно быть, это резко снизило интерес Анджело Майорано к происходящему, ибо спустя несколько секунд оба приятеля несчастного сельджука тоже были мертвы.
— Граци![18] — услышал вслед Камдил, однако для обмена любезностями не было времени. Бой уже кипел на палубе дромона. Отчаяние заставляло сельджуков держаться. Предчувствие скорой победы диктовало ромеям и их союзникам не знать пощады.
— Назад!
Рыцарь отпрянул в сторону, и тяжелая двуручная секира врезалась в фальшборт там, где только что находился Вальдар Камдил. Могучего вида ромей держался за древко, пытаясь выдернуть грозное оружие, глубоко встрявшее в деревянный брус.
— Снять?
— Погоди! Я свой! — закричал рыцарь.
— Какой ты ему свой, пес, рыцарь хренов?!
Точно подслушав слова закрытой мыслесвязи, ромей оставил плотно застрявшую секиру, выхватил меч и бросился на рыцаря. Не теряя времени, тот резко ушел в ноги противнику, кромкой щита подбивая ему коленный сгиб. Лис был прав — турки отнюдь не являлись желанными гостями на византийском корабле, но и от крестоносцев ждать добра ромеям тоже не приходилось.
— Остановитесь! — неслось над палубой. — Внемлите мне, дети мои! Вложите оружие в ножны! — Выбравшийся на кормовую надстройку Георгий Варнац вещал оттуда, как с амвона, обращаясь к разъяренной боем пастве. — Остановитесь, ибо враг уже повержен. Не обагряйте руки кровью братьев во Христе!
Слова монаха, которым должно было бы утонуть в звоне оружия, нежданно подействовали, точно ушат холодной воды на голову. С турками и впрямь было покончено. Лишенная экипажа фелука сиротливо качалась на волне у самого борта дромона. Тем немногим из сельджуков, кому посчастливилось пережить бой, суждено было влачить свой век прикованными к веслам. Погибших турок выбрасывали за борт с палубы на корм рыбам, христиан же зашивали в мешки с насыпанными в ногах несколькими фунтами песка из корабельного балласта. Ибо всякое крещеное тело должно быть предано земле. Георгий Варнац негромко читал над убиенными заупокойную молитву, и зашитые в мешки с тихим плеском уходили на дно.
— …Покойся с миром! — со вздохом завершил монах-василианин.
— Это был капитан дромона, — пафосно, едва ли не со слезой в голосе произнес стоявший рядом Анджело Майорано. — Он погиб в последние минуты боя. Нечестивец ударил его вот этим кинжалом.
При этих словах Вальдар Камдил бросил взгляд на амальфийца, державшего в руках кривой восточный клинок.
— Но раз уж Господу было угодно привести мой корабль сюда в этот час, дабы помочь вам спастись, неужели же я оставлю своих новых собратьев по оружию посреди моря?! Есть ли среди вас кто-либо, сведущий в навигации?
Молчание было ответом на громогласный вопрос Анджело Майорано.
— Лис, у тебя глаза позорче, — согласно кивая в такт словам бравого капитана проговорил рыцарь на канале связи, — это случайно не тот самый кинжал, который я выбил у какого-то турка, Аллах ему судья?
— Он самый, — утирая навернувшуюся слезу, подтвердил его оруженосец. — Я из своего вороньего гнезда видел, как этот херувим его из палубы извлек.
— Что ж, я не оставлю вас, — между тем вещал Майорано. — Будем идти вместе. Я сам поведу корабль в Херсонес!
Глава 6
Только к врагу можно повернуться спиной, не предвидя неожиданностей.
Лес темной стеной поднимался от самого берега Днепра до монастырских строений. Казалось, будто христианская обитель являет собой светлый лик с длинной густой бородой. Первые лучи солнца еще не коснулись золотых куполов, и только ранние птицы, предчувствуя зарю, торопили дневное светило радостным щебетом. Подросток лет двенадцати оттолкнул шестом челн-однодревку от песчаного берега и взялся за короткое широкое весло.
— Тять, а тять, — негромко, словно не желая нарушать державшуюся еще ночную тишь, начал паренек, — а правду ли говорят, будто бы аккурат в этих местах златоусый Перун, коего святый Владимир в Днепр кинул, к берегу прибился?
— Сказывают люди, — не спуская глаз с воды, промолвил его отец. — Ты греби давай, да гляди, чтоб мы вешки не прозевали. Не приведи Господь сеть потерять!
— Тять, а за что князь Перуна в воду кинул?
— Да кто ж его знает? Видать, не помогал ему.
— А иным помогал?
— Иным помогал. А то стали бы они вслед ему бежать да кричать «выдыбай,[19] боже, выдыбай».
— А что ж его Бог не покарал-то?
— Ну так вестимо же — Бог милосердый. — Старший из рыбарей перекрестился на уже заметные в светлеющем небе кресты монастыря. — А то, может, и покарал, да мы не ведаем. Отец Амвросий вон сказывал, что дети княжии меж собою посварились так, что и на отца руку подняли, и друг дружку убивать стали. Чем тебе не гнев Божий?
— Ишь ты, — покачал головой мальчонка, пораженный бездной премудрости, уместившейся в голове отца.
— Да-а, — довольный собственной проницательностью, подтвердил тот, — из тех же сыновей и святые Борис с Глебом, в честь коего тебя огольца прозвали. Ну, ты о том отца Амвросия поспрошай, он многими познаниями умудренный, не нам чета.
— Ой, вон сеть, вон! — Мальчишка указал пальцем на маячившие впереди верши.
— Да уж вижу, давай греби правее.
Отец сильным движением погрузил в воду свое весло и… едва не выронил его из рук. Ему почудилось, будто деревянная лопасть ударила обо что-то твердое и упругое. В тот же миг челнок бросило в сторону, и по тихой воде прошла волна, будто от внезапно набежавшего буйного ветра. Затем из воды показалось нечто, изогнувшееся дугой и исчезнувшее в пучине. Более всего нечто походило на спину огромного змия. Потревоженное ударом чудище резко метнулось вперед, насквозь пробило расставленные впереди сети, дважды еще показалось вдали в разбегающихся волнах и исчезло столь же внезапно, сколь и появилось.
— Чур меня, чур! — удерживаясь за перевернутую лодку, в страхе прокричал старший рыбак. — Глебушка, ты как там?
— Здесь я! — жалобно донеслось из кустов. — На берегу уже.
— Как же ты попал туда? — выкрикнул удивленный отец, силясь перевернуть челнок.
— И сам не разберу. Как в воду сверзился, так меня оттель будто выкинуло.
— В недобрый час ты Перуна вспомнил! — Рыбак наконец взобрался в однодревку и, выловив плавающее рядом весло, начал грести к берегу.
— Нечто то сам Перун был? — испуганно поинтересовался малец, когда спустя недолгое время вместе с отцом отогревался у разведенного костра.
— Поди его спроси, — хмуро разглядывая испорченные снасти, бросил рыбарь. — Может, и Перун. А то еще про Волхова слыхал?
— Ага, — зачарованно кивнул малец, — дедко сказывал. У князя Словена, пращура народа тутошнего, сын был, чародей огромадной силы. Так он перекидывался в зверя лютого по прозванию коркодел и многих людей пожирал, а с прочих дань брал. Дедко сказывал, Добрыня Никитич того коркодела порушил.
— Может, порушил, а может, и спугнул только. А то еще, слышь, я когда мальцом вроде тебя был, княжий гридень из варягов мне сказывал, будто змей есть огромен. Он вкруг света в море-окияне лежит, а как ворочается, так подле себя волны поднимает до небес. Вот я и мыслю, коли не он сам то был, так может, из детенышей того змея. Свят, свят, свят!
— С нами крестная сила! — подхватил его сын. — Страшно-то как! И такое ж у нас в Днепре обитает — кому рассказать, не поверят!
— Отцу Амвросию расскажи — он поверит. А другим попусту языком трепать не след. Может статься, и вовсе привиделось нам с перепугу, а то и не змий никакой был, а сом большой. Знаешь, какие сомы порою бывают? И в десять шагов иной раз дорастают.
Мальчонка исподлобья поглядел на отца и мотнул головой.
— Не, тятя, не сом то был.
Отец Амвросий был сведущ в грамоте славянской, ромейской и варяжской, долгие годы жил в Константинополе, исходил Русь вдоль и поперек и за морем бывал не раз, как Хвалынским, так и Варяжским. То ли от безмерного любопытства, коим наделил его Господь, то ли от сознания того, что лет впереди осталось немного, тратить время на сон он полагал делом никчемушным. Когда усталость и дрема смеживали его веки, он укладывался как есть на скамью и торопил призрачные видения уходить прочь, дабы вновь подняться и заняться делом.
На сей раз занятие, порученное записному грамотею самим Великим князем, было столь важным, что отец Амвросий вовсе позабыл об отдыхе и начинал щипать себя за уши и колоть ножом-перочинкой, дабы, как было велено, скоро и точно изложить на выскобленных листах пергамента права великих князей Киевских на дальние заморские земли, именуемые бриттскими. Не единожды престарелый монах снимал с полки тот или иной манускрипт в обтянутом кожей деревянном переплете, разворачивал его и сверял со своими заметками.
«…Было в земле бриттской о ту пору два сильных князя. Один именовался Эдмунд, другой же — Кнут. Хоть и значились они меж собою в дальнем родстве, мира меж ними не было. Кнут был князем чужестранным и в земли бриттские издалека пришел.
Порешили тогда князья меж собою оружною рукой утвердить, кому в той земле единовластно править. Встретились на Оленьем острове,[20] и была меж ними сеча великая. Но сколько меж собой они силами ни мерялись, а ни один другого не одолел. И обнялись тогда князья, и отныне стали друг другу братьями названными, и земли бриттские меж собою разделили честь по чести.
А у князя Эдмунда был зять Одрюк.[21] Пожелал он к Кнуту переметнуться и от него земли тестюшки своего во власть поиметь. Подстерег он Эдмунда в Охсфьорде,[22] напал со спины и зарубил. Затем, захватив сынов княжих, привез их на двор Кнута и выдал с головой.
Опечалился князь Кнут и велел обезглавить бесчестного душегуба. Сыновей же побратима убиенного отправил за море в свои родные земли. Да не взлюбила их злая мачеха Кнутова, оговорила, будто желают сыновья Эдмунда старшого, Эдмунд и Эдвард, Кнута самого жизни лишить и на трон его сесть. И был Кнут вне себя от гнева и повелел, чтоб тайно давали им яд, дабы они никогда не исцелились.
Но один из людей князя пожалел юных княжичей и просил родича своего, ярла Вальгдара, дабы тот отвез их в землю русов, к Великому князю Ярославу Владимировичу.
Великий же князь сей, по всему миру мудростью своей преславный, как в прежние века царь Соломон, с князем Кнутом в родстве был. Сын его Илья Ярославич дочь Кнута Астрид за собою держал. Он все точнехонько вызнал и пенял князю бриттов, что де тот судил не по праву, а по гневу.
Младые же Эдмунд и Эдвард, прозванные Этелингами, что в землях заморских означает „княжичи“, остались при дворе Ярославовом, и были они у Великого князя при сердце его, равные с прочими сыновьями. Те же приемному отцу присягнули землями бриттскими и водами на них, и людьми, и всем, что на земле живет и произрастает. Спустя годы Эдвард взял в жены княжну Агафью, племянницу Ярославову. Братья же Этелинги стали меж первых воинов, и к гробу Господнему ходили, и с Андреем Степановичем, князем угров, что на сестрице их сводной, Анастасии Ярославишне женат был, земли его от злых ворогов мечом забирали.
По ту пору князь Кнут помре, и сын его помре. На стол же княжий звали младшего брата убиенного Эдмунда, коий в странах заморских дотоле жил. И стал он править благостно и честно, и прозван был Исповедником. Когда же стал он помышлять о наследнике, то призвал племянника своего Эдварда, а Эдмунд в землях угорских голову сложил, до того с королевишной угорской оженившись.
Так был Эдвард оглашен в землях бриттских Великим князем, был пир и ликования многие. А только злоумышлением чьим-то еда ли, питье князю Эдварду отравлены были, и помре он на другой день по прибытии в муках. Дщери его и малолетний сын, Эдгар, при Великом князе Эдварде Исповеднике за его детей остались. И повелел тот, чтобы Эдгару Великим князем по его смерти бысть. С того часа пятнадцать лет минуло, и помре Эдвард Исповедник. И великий плач стоял по всей земле бриттской.
Эдгар же в ту пору в силу еще не вошел, и править стал князь Гарольд, брат жены Эдварда Исповедника. Дщерь того Гарольда за нашим преславным Великим князем Владимиром Мономахом была и родила сынов ему, из коих Мстислав и Святослав старшие.
Когда же нечестивый ублюдок нормандский, Вильгельм, сын Робера, прозванного Диаволом, приде в землю бриттскую, была меж ним и князем Гарольдом рознь и битва великая, и пал в ней Гарольд от руки нечестивца. В стольном же граде кликнули на княженье младого Эдгара, да иные сильные князья с дружинами своими, озлобясь, что не их на великое княженье призвали, кинули его на растерзание и потекли в свои земли.
Эдгар же попал в руки того Вильгельма, ублюдка, да через два года с матерью и сестрами в соседней земле спасся. Князь той земли на сестре его женился, и стал он за владения свои родовые с Вильгельмом воевать. Да только не судьба ему была. Схватили его недруги, и по сей день он в темнице сырой томится, когда не помер. Дочь же иной сестры его в монастырь пошла, однако же у нечестивого корня нечестивое семя, и нынешний князь бриттский ее из святой обители силою изъял да за себя взял. И нет конца тому бесчестию и имени Божия поруганию.
Но коли братья Этелинги Ярославу, Великому князю нашему присягали, а Эдгар одного из тех братьев сын, то земли бриттские, по Божьему ли, по людскому закону, есть Руси подвластное княжество. Но если и не по Этелингам считать, а по Великому князю Гарольду Годиновичу, то никому иному, как Мономахову корню, сия земля от века принадлежать должна. Ибо стала она приданным за Гитой Гарольдишной, злым супостатом от прямой хозяйки удержанным.
А потому след великою силою идти в земли наши заморские и сокрушить семя злодейское, выкорчевать диаволов корень, ибо сие есть дело правое и богоугодное. Ибо коли Русь нам — земля отчая, то Бриттия, как есть — матерная, и след им быть под единою рукою».
В дверь кельи дробно постучали.
— Отец Амвросий! Там рыбари пришли, те, что всяк день рыбу в обитель приносят. К вам просятся.
— Чего же надо им? — Монах отложил перо и начал разминать уставшие пальцы.
— Говорят, чудо видели дивное. Не то змий в Днепре плескался, не то кокодрил, а только сети изодрал, да, подняв волну, в пучину ушел.
— Далеко то было?
— Сказывают, туточки, у монастыря, под самыми что ни на есть стенами.
— Ишь ты. Что ж, зови.
* * *
Ночь застала дромон уже в той части моря, которую прибрежные жители гордо именовали Русским. Замена весел, ремонт снастей не заняли слишком много времени, как, впрочем, и разграбление доставшейся в качестве трофея фелуки. Да и что там было брать? Анджело Майорано, доверив «Шершня» некоему почтенного вида мореходу из своего экипажа, велел ему держаться рядом, ни в коем случае не теряя дромон из виду. Затем, взяв еще нескольких подручных, перебрался на имперский корабль и твердой рукой повел его к далекому берегу Херсонесской фемы.
Кроме благодетеля-амальфийца на борту дромона остался господин рыцарь с оруженосцем. Анджело Майорано отнюдь не был рад подобному соседству, но его попытки убедить крестоносца вернуться на «Шершень» оказались бесплодными. Абсолютно не к месту красноречивому священнику, сопровождавшему красавицу севасту, пришла в голову мысль порасспросить рыцаря и его спутника о Святой земле и чудесах Востока. И сколько ни кидал на них новоявленный капитан негодующие взгляды, казалось, беседующие попросту не замечали его.
Право же, это было не совсем так. В эту самую минуту в голове благочестивого Георгия Варнаца звучало:
— Нет, ни я, ни Лис не видели, чтоб этот красавец своей рукой зарезал капитана. Но сам посуди — я этот кинжал выбил, а дальше Сергей видел, как Анджело вытащил его из палубы.
— Это еще ничего не значит, — прозвучал ответ, — он мог его в кого-нибудь метнуть, мог попросту выронить. В конце концов это может быть не тот самый кинжал, а похожий. Сложно ли перепутать в пылу боя?
— Ты что же, мне не веришь? — возмутился рыцарь.
— Отнюдь нет. Конечно же, твои слова — очень весомый довод, но это всего лишь слова. У нас нет доказательств, и мы ничем не можем припереть Майорано к стенке.
— И потому будем дожидаться, пока он нас к этой самой стенке припрет — у него-то точно найдется чем.
Однако вслух в кормовой надстройке дромона звучало совсем другое.
— …Между четырьмя этими церквями располагается сад. Крыши над ним нет, стены так и сияют золотом, пол же выложен драгоценными каменьями. Посреди сходятся четыре цепи, каждая из которых тянется от одной из церквей. В том месте, где они скреплены воедино, и есть сердцевина мира. А еще к югу от этого места на горе Сион располагается церковь Святого Симеона. Там Господь омыл стопы учеников своих, и там же висит его терновый венец. По словам людей сведущих, именно в этом месте окончила свои земные дни Дева Мария, — рассказывал благочестивому монаху столь же благочестивый рыцарь.
Спутницы святого отца внимали речам воинственного пилигрима со смешанными чувствами. Точно пытаясь разгадать их, рыцарь то и дело кидал заинтересованные взгляды на девушек. Лицо одной из них, впрочем, было укутано серебристой тканью, полупрозрачной, но все же скрывающей ее черты. Зато ясный лик вельможной госпожи был щедро представлен для любования, словно бы в награду победителям.
— Эт самое, мой господин! — Оруженосец, высокий, худой, словно рыцарское копье, со взглядом столь же острым и переносицей, приобретшей форму латинской S в неведомых жизненных передрягах, насмешливо перебил своего рыцаря, явно не слишком заботясь о законах куртуазии. — Ну шо ты барышням голову морочишь? Они тут счас составят компанию Деве Марии, потому шо уже все мухи от твоего рассказа давно повыздыхали. Ну да, правда, церквей там валом. Но это ж только кожура банана. Вот помню, пошли мы как-то с господином рыцарем утром подвиг совершать. Вы не глядите, шо он на вид скромный, а так, ежели какой город на копье не возьмет или там армию сарацин не порубит в мелкое какаду, это ж все — день бездарно вычеркнут из жизни. Он мчится в ближайшую церковь, бьет поклоны о камень лбом и так пока очередной колодец не продолбит! Какое ни есть, а по тем местам — тоже полезное времяпрепровождение! Ну так вот, пошли мы, стало быть, на подвиг, и как назло — ни тебе крепости, ни сарацин. А уже далеко отъехали, до церкви тоже возвращаться — ноги по колено стопчешь. Видим — пещера. Ну, мы туда, может, там великан какой притаился или хотя бы сорок разбойников… Никого! А уже пить хочется, потому как земля — святая, а сушняк — обычный, не побоюсь этого слова, посконный и кондовый. И вдруг сэр рыцарь видит — бутылка, ну, в смысле, кувшин. Мы к нему. Он от нас.
— Не зовут ли твоего почтенного господина, о доблестный воин, Гаруном аль Рашидом? — скрытая серебристым покровом, усмехнулась Мафраз.
— Шо, вы уже слышали? Ну надо же, на ходу подметки рвут! Не, его по-разному зовут, он не всегда отзывается. А счас как начал в Святой земле подвиги совершать, так его уже и не зовут вовсе, наоборот вот, попросили найти еще какую-нибудь землю, которую не так жалко…
Севаста Никотея вполуха слушала болтовню тощего франка. Она слыхала, что где-то там за морем есть люди, именующие себя трубадурами, или же менестрелями, которые, не считаясь ни с правдой, ни с приличиями, воспевают подвиги своих господ, и несомненно полагала бойкого оруженосца одним из них. В другой раз она, может быть, уделила бы ему больше внимания, но сейчас ее интересовал сам этот немногословный сдержанный рыцарь с прямым уверенным взглядом чуть задумчивых и даже, пожалуй, грустных глаз. Таких глаз не доводилось ей встречать у воинов, которых она видела прежде, а повидала она их немало.
«Пожалуй, внешность обманчива, — раздумывала Никотея. — Михаил Аргир выше этого рыцаря едва ли не на голову, значительно шире в плечах и выглядит куда как более воинственно. Но, как сказывают, этот франк сегодня на палубе так легко разделался с моим неусыпным стражем, будто был пред ним не грозный воин, а расшалившийся мальчишка. Интересно, он всегда таков или же сейчас просто смущается, любуясь мной? Это хорошо, что он любуется. Можно сказать, глаз не сводит. Не стоит оказывать ему покуда никаких знаков внимания. Можно лишь слушать и временами улыбаться невпопад, просто так, при звуке его речей. Он пойдет за мной, как привязанный щенок. А когда я захочу, этот щенок вновь обратится во льва и уничтожит того, кого я повелю. Это очень кстати, что он появился!
Конечно, Михаил Аргир весьма рискует, отправляясь прямо в руки отца убитого им Алексея Гавраса, но еще вчера открыть архонту Григорию, кто лишил жизни его сына, значило остаться одной среди чужаков. А так…»
Никотея улыбнулась своим мыслям, улыбнулась мягко и нежно, так что сердце всякого мужчины, увидевшего ее в этот миг, непременно должно было заколотиться в страстном желании видеть эту улыбку еще и еще.
— …Ну, тут дракон и говорит моему рыцарю нечеловеческим голосом: «Не губи меня, потому как внесен я в книгу, обтянутую красным бархатом, как самый что ни на есть распоследний негодяй, ну, в смысле, экземпляр. А хочешь, возьми все мои сокровища, шо я тут за триста лет накрышевал». А мой рыцарь ему отвечает: «Где ж я тут таких ослов найду, чтоб они сокровища хрен зна куда тащили? Так шо придется тебя зарубить. Или отдавай самобеглый кувшин — я в нем до самого города Ершалаима верхом поеду». Дракон в слезы, говорит: «Лучше уж руби, потому как кувшин этот сам по себе бегает и никакого сладу с ним нет». Огорчился тогда мой рыцарь и стал вместе с драконом думать, как приманить кувшин. И решили они играть с драконом в подкидного дурака. Полетели в ближайший город, присмотрели подходящего дурака — и давай его подкидывать. Долго ли, коротко ли подкидывали, а кувшин тоже прибежал посмотреть, шо же там такое происходит. Дракон его хвостом — хрясь! Ну и мой рыцарь его тут же на лету взял. Сел на него сверху, а он не тянет. Взмолился, говорит, мол, грузоподъемность не та. Открыли его, а оттуда — дым, ну то есть перегар.
— И что, вылетел джин?
— Садись, два! Не угадала. Оттуда вылез сантехник.
— Лис, что ты несешь?! — то ли возмутился, то ли восхитился его напарник.
— Откуда я знаю? Видишь — на ходу придумываю. Я ж не виноват, шо девушке в простыне «Тыщу и одну ночь» бабушка на ночь читала, да еще небось на языке оригинала!
— Сан-Техник — это такой местночтимый святой, — запинаясь, вставил защитник Гроба Господня.
— Точно-точно, он чинил водопровод, сработанный еще рабами Рима, евойные остатки около Кесарии до сих пор стоят.
— Чьи? Сан-Техника?
— Их. Враги нашей церкви его поймали, засунули в кувшин, залили спиртом, а он все эти века единственно Божьей волей и освященным собою чистым спиртом сохранился и пошел ремонтировать водопровод. Обещал к Страшному суду управиться.
Мессир рыцарь, господин монах на меня как-то нехорошо смотрит, — сам себя перебил Лис. — Я шо, шо-то не то сказал?
Будь Михаил Аргир нынче днем изранен в сражении, вряд ли он страдал бы больше. Его отчаянно злил тот факт, что по какой-то нелепой случайности его верная секира прошла в двух пальцах от головы этого чертова крестоносца.
Подобно большинству ромеев, он не жаловал грубых неотесанных франков, возомнивших себя наследниками славы Римской империи. И все отчего — оттого, что их напыщенные римские епископы назвали себя ни много ни мало викариями святого Петра. А это нелепое письмо, которое якобы написал император Алексей Комнин графу Фландрии фактически с просьбой оккупировать Константинополь?!
Эти вероломные наглецы, крича о своей великой цели, только и смотрят, где бы что откусить — словно прожорливые псы. Конечно, сельджуки враги, кто с этим поспорит? Но они — враги прямые, и достойные порою если не жалости, то хотя бы уважения. Эти же — нет. Уж лучше враги, чем такие друзья. Не так давно они клялись в верности императору Алексею и бросились воевать с ним, едва смогли добраться до Святой земли — до ромейских земель, занятых сарацинами. Какая низость, какая подлость! И они еще смеют говорить о благородстве! Если б не этот негодный монашек, он бы приказал своим людям выкинуть за борт всех чертовых помощников во главе с их вечно ухмыляющимся капитаном. Ишь как скалится.
Михаил Аргир мерил палубу взад-вперед, шагая между скамьями, точно надсмотрщик. Гребцы, знавшие буйный нрав именитого патрикия, вжимали головы в плечи и старались как можно тише погружать весла в воду, дабы нечаянным всплеском не вызвать ярость грозного воина. Некоторые из них своими глазами видели, как днем во время схватки рыцарь-крестоносец каким-то неуловимым движением легко свалил его на палубу и не убил, пожалуй, только из милости. Они понимали, что это скорее всего нелепая случайность, но знание это хотя и доставляло им некоторое удовольствие, заставляло тревожиться за собственные головы.
«Надо что-то делать, — твердил про себя Михаил Аргир. — Конечно, смерть капитана все запутала наихудшим образом. Без этого странного торговца из Амальфи до Херсонеса не доплыть. И все же это опасно. И торговец с его людьми на борту, и этот рыцарь с долговязым оруженосцем… Слишком много чужаков. А я отвечаю за безопасность Никотеи и всего посольства. Надо приставить своих людей ко всем этим непрошеным „друзьям“. Кто его знает, что они замыслили? Опять же кто знает, не заведет ли амальфиец дромон, ну, скажем, в лапы землякам-венецианцам? Все же это опасно, очень опасно. Нет, мое место сейчас — рядом с Никотеей».
Ободренный этой мыслью, Михаил Аргир вытащил меч, взглянул на полированный металл, скривился и вернул оружие в ножны. Следовало бы, верно, прикончить иноземцев, но не здесь и не сейчас… А хорошо бы — здесь и сейчас! Он направился к кормовой надстройке. Из-за дверей адмиральской каюты слышался веселый смех и бойкая речь кривоносого оруженосца. «Над чем это он потешается? — ожгло ромея. — Не надо мной ли? Недолго, недолго осталось вам скалить зубы!»
Восход застал Анджело Майорано на палубе.
— Земля! — закричал марсовый, указывая на тянущуюся вдалеке темную полоску, почти скрытую утренним туманом.
— Слава Деве Марии Амальфийской! Слава Угоднику Николаю! Слава Георгию Победоносцу! — моментально сложив руки на груди, быстро заговорил капитан. — Мы недалеко от цели. Я узнаю эти места. Почтеннейший дон Микаэло, — подозвал он угрюмо стоящего неподалеку Аргира, — вот взгляните, там, впереди, видите мыс? Солнце еще не успеет стать в зените, как мы дойдем от него до благословенного Херсонеса. Я продам свой товар и вернусь в Амальфи богатым человеком. Я построю еще один корабль, такой как «Ангел Господень». — Он повернулся, желая указать на «Шершня», но… — Где?! О Господи всеблагой, всемогущий, где мой корабль? О нет, нет, нет! Неужели они потеряли нас из виду? Неужели они сбились с курса?!
— Корабль на горизонте!
— Ну слава богу, это мой «Ангел»! — Анджело Майорано схватил висящий на груди крест, усыпанный пульсирующими кровью гранатами, и страстно принялся целовать его.
— Два корабля! — поправился впередсмотрящий.
— Два? — Капитан Майорано бросился к борту. — О нет! Это не «Ангел», тараны над водою — это сицилийцы.
— Сицилийцы? Откуда бы им здесь взяться? Им не пройти мимо Константинополя!
— Если мне скажут, что Отвилль и его сицилийцы перетащили свои дьявольские корабли через булгарские горы, я буду склонен в это поверить. Я не могу сказать, откуда они взялись, но это сицилийцы. Правьте к берегу, возможно, они нас еще не заметили.
Глава 7
Дорога превыше правил собственного движения.
Король Англии нехотя отодвинул в сторону объемистый том «Деяний апостолов» и уставился на вошедшего. Пожалуй, больше всего на свете он любил читать книги и делал это всякий раз, когда представлялась такая возможность. Однако гнусные подданные то и дело коварно пытались лишить своего монарха часов досуга, чем, естественно, вызывали у Генриха, прозванного Боклерком, сиречь Грамотеем, нескрываемое раздражение.
— Ну что еще? Послы, засуха, явление архангела Гавриила? Что привело тебя ко мне, негодяй, в столь неурочный час?
Фитц-Алан, почтительный, а пуще всего терпеливый, как то подобает королевскому секретарю, учтиво склонил голову, делая вид, что не замечает досады в тоне господина.
— Только что в Лондон был доставлен барон Сокс. Как вы и приказали, его гнали в цепях бегом от самого Нортумберленда.
— И он добежал? — Генрих Боклерк порывисто вскочил на ноги и упер руки в бока. — Нет, ну каков негодяй! Он что же, не мог издохнуть по дороге?
Фитц-Алан молча развел руками.
— На все воля Божья, — резюмировал он после короткой паузы.
— Помолчи лучше! Что ты такое несешь? А как же воля короля? Или ты желал бы заставить Всевышнего лично заниматься управлением этой землей, где невесть кого больше — изменников или же тупоголовых болванов, не способных даже на измену?
— Я лишь напоминаю о том, что вы обещали сохранить жизнь барону, если он сдастся на вашу милость.
— Ну да, разве кто-то пытался его убить? Я также обещал как можно скорее встретиться с ним, дабы выслушать его претензии. Это ведь, кстати, было и его пожелание. А то, что для этого пришлось столь далеко бежать, так не я, а именно Господь расположил Нортумберленд в таком отдалении от Лондона. Но ведь ты же не станешь спорить с тем, что бегом оттуда можно добраться значительно быстрее, нежели шагом.
— Однако, мой лорд, раз уж Господь дал сил барону, чтобы никто не смог назвать вас впоследствии коварным вероломцем, быть может, вы примете его? — смиренно потупив глаза, поинтересовался Фитц-Алан.
— А что, ты знаешь кого-то, кто станет именовать меня коварным вероломцем? — Генрих Боклерк подошел вплотную к секретарю и крепко схватил его за ворот.
— Мне неведомы такие люди, — не пытаясь освободиться, прохрипел Фитц-Алан.
— То-то же. Да, конечно, я встречусь с Соксом. Пожалуй, даже назначу его своим личным скороходом. — Он развел руками. — От Нортумберленда до Лондона в цепях, бегом!.. Ну почему у меня такие крепкие враги и такие хлипкие друзья?! Одна радость — я все же побеждаю. Ну, где Сокс? Мы уже битый час с тобой болтаем, а его все нет. Это называется бежать?
— Он внизу, ждет вашего распоряжения и… едва держится на ногах.
— Ну что за глупости? — скривился Генрих Боклерк. — Я же обещал ему встретиться как можно раньше, а я всегда держу слово. Что же касается его ног, то до них мне дела нет. К тому же в моем королевстве, так и передай ему — в моем королевстве, каждый может бегать, как ему вздумается. Не может на ногах — пусть бегает на руках. Давай веди его скорей. — Король с силой подтолкнул Фитц-Алана к двери. — Господи, — вздохнул он, обращаясь к оставленному на столе манускрипту, — вот и апостол Павел в своем послании к Тимофею клеймит неразумных, возносящих свои мифы и родословия вопреки истинной власти Господней. Ибо что есть суть веры, как не власть? Власть Господа над миром, короля — над смертными. Разве не есть государь для подданных то же, что Всевышний для этой юдоли печали? А стало быть, измена есть вероотступничество и карать за нее следует без всякой жалости.
Фитц-Алан вернулся через несколько минут. Его сопровождали двое стражников, волокущих очень запыленного, очень измученного высокого мужчину средних лет с резкими чертами гордеца и холодными синими глазами, кажется, единственным, что было еще живо в этом громыхающем кандалами узнике. Генрих Боклерк обошел вокруг пленника, любуясь достигнутым результатом.
— Джон Сокс. Некогда барон, некогда полководец, некогда добрый христианин.
— Барон Джон Сокс, — процедил его гость, с трудом шевеля губами. — Твой чертов отец, поскребыш, так записал меня в придуманные им Книги Судного дня,[23] стало быть, дотоле я и буду бароном.
— Джон Сокс, — продолжая кружить вокруг пленника, точно акула вокруг жертвы, насмешливо ухмыльнулся король, — совсем недавно ты и впрямь был бароном. Что мешало тебе и далее оставаться им? Нынче ты — изменник и вероотступник. А вот скажи, что отличает тебя от любого землепашца на этом острове? Молчишь? А я скажу тебе. Ты не умеешь пахать землю. Стало быть, ты еще и хуже самого распоследнего из моих подданных. Ты никчемный человек.
— Я честный рыцарь.
— Ну полноте, честные рыцари не восстают против своего короля. А раз ты восстал, значит, ты изменник, и говорить о чести с тобой мне не пристало. А раз у тебя нет чести, стало быть, ты — не рыцарь и не барон. Так, Джон из Сокса, бродяга и самозванец.
— Мой род уж больше трех столетий известен на острове. И не тебе, внуку кожевенника и сыну ублюдка, учить меня законам чести. Я сражался за свое отечество.
— Помнится, в прежние годы против короля Малькольма Шотландского ты воевал за мое отечество. А потому не расточай зря хулу на мертвых, и раз уж я обещал тебе, что выслушаю, говори все, что хотел сказать. — Он остановился и, неожиданно схватив барона за ухо, притянул к себе. — Я знаю, что отец моей бабки выделывал кожи, а дорогой батюшка являлся бастардом! — закричал Генрих Боклерк с такой силой, что стражники едва не отшатнулись. — Запомни это и больше не повторяй. И вот еще. Вся ваша спесь и храбрость саксов не помогли отстоять Британию, когда Вильгельму пришла в голову замечательная мысль ее покорить.
— Господь покарал святотатца, даровав ему в сыновья тебя, — вздохнул узник.
Генрих Боклерк расхохотался и вернулся к столу.
— Никогда еще не слышал столь изысканной лести. Что ж, благодарю тебя. Однако с чего вдруг ты именуешь моего покойного батюшку святотатцем? Разве он, а не ваш данский прихлебатель Гарольд, нарушил клятву, принесенную в Нормандии на многих весьма почитаемых святынях?
— Коварство отца твоего подобно коварству Далилы, остригшей волосы Самсона. Не он ли силой оружия принудил короля Гарольда принести клятву на алтаре, в котором были спрятаны эти самые пресловутые святыни?
— Молчи, богохульник! Ты именуешь пресловутыми святынями величайшие сокровища христианского мира!
— Ни один епископ, ни один аббат, да что там, ни один приходский священник на острове не признал этой клятвы.
— Наглец! Да как ты смеешь говорить такую ересь? Ведь сам Папа Римский признал святость этой клятвы и благословил поход моего отца.
— Так и воры на ярмарке кричат, поддерживая друг друга.
— Ты что же, несчастный, именуешь вором святейшего Папу?
— Нашей благочестивой церкви нет дела до гнезда разврата и симонии, в которое превратился двор римского епископа. Теперь же, когда ваши Папы множатся, словно черви из грязи, кто в здравом уме поверит в их святость?
— Джон Сокс! — Генрих Боклерк помрачнел. — Ты негодяй. Я обещал пощадить тебя за прямую измену и злоумышления против королевской власти, но ты восстаешь против христианской веры, а за такое преступление не может быть снисхождения. Я велю казнить тебя. Разорвать конями. Немедля, на городской площади.
— Мне все едино. Когда б меня это пугало, я уже давно бы расстался с жизнью. Но я пришел сказать тебе — ты сухое дерево, Генрих Боклерк. Твои ростки бесплодны. Ты скоро умрешь, мне это ведомо доподлинно. И с твоей смертью пресечется род ублюдка на моей земле. А ты будешь умирать мучительно, куда мучительнее, чем я сейчас. И будешь сознавать, что ничего не можешь сделать, ибо род твой проклят. Я все сказал. Где там твои кони?
Король заметно побледнел.
— Говори, что ты знаешь?
Барон Сокс молчал.
— Слышишь, говори! Говори не медля!
Пленник закрыл глаза, точно впадая в дремоту.
— Нет, не спи, отвечай! — Генрих тряхнул его за плечо. — Отвечай, что тебе известно?
На губах мятежника появилась торжествующая усмешка.
— Увести!
— Прикажете объявить о казни? — смиренно поинтересовался Фитц-Алан.
— Какая еще казнь? — взорвался монарх. — Вы что, сговорились сегодня донимать меня своей глупостью? В подземелье его. И запомни, мой дорогой Фитц-Алан, он должен жить и мучиться, покуда не скажет все, что ему известно. И где, где, черт побери, Матильда? Я уже давно велел ей быть здесь!
* * *
Было у старика Танкреда двенадцать сыновей. И жили они в Нормандии и звались д’Отвилли. Во времена правления герцога Нормандского Робера, с нежностью прозванного своими поданными Дьяволом, сыновья доблестного рыцаря Танкреда мелкими группами начали перебираться в теплые края, туда, где климат лучше и платят больше. Потому что какая ж может быть жизнь, когда кругом сплошь одни морские разбойники и их потомки?
Когда б Италия знала, чем грозит ей это малое переселение народов, она бы забыла о внутренних распрях и перекрыла границы, чтобы только не допустить д’Отвиллей на свою территорию. Но беспечные итальянцы пребывали в неведении, а нормандские братья двигались, не привлекая внимания, по два-три человека. И даже когда один из братьев был радостно провозглашен президентом республики Апулия, итальянцы еще радовались, какие у них появились доблестные защитники. Спохватились они, когда Апулия перестала быть республикой и стала наследственным герцогством Отвиллей. Вскоре к ней прибавилось еще одно герцогство — Капуя.
Папа Римский Лев IX, в свое время слывший недурным военачальником, верно оценил обстановку и заключил союз с византийцами, чтобы раз и навсегда силой избавиться от дерзких захватчиков. Но братья Отвилли тоже не были новичками в военном деле и не стали дожидаться, когда его святейшество объединит свои войска с имперскими. Они разгромили армию викария святого Петра, а его самого взяли в плен. В будущем подобное обращение с понтификами превратилось в добрую традицию этого нормандского рода. Византийцы, понятное дело, в одиночку не стали ввязываться в сражение с д’Отвиллями и отступили.
Возмущенный Папа Римский вступил в яростную переписку с константинопольским патриархом Михаилом Керуларием, которого он называл виновником поражения и изменником. Патриарх не остался в долгу, клеймя римского епископа самозванцем и узурпатором.
Результатом заурядного сражения у безвестного селения Чивитатти стал раскол христианской церкви на католическую и кафолическую, или православную, и признание Отвиллей «герцогами Апулии и Калабрии милостью Божией и Святого Петра и в будущем, с их помощью, герцогами Сицилии». Будущего д’Отвилли, как водится, дожидались недолго, и пока один из братьев, Робер Гвискар, освобождал от византийцев континентальную Сицилию, другой высадился на острове и в несколько лет заставил местных эмиров склонить пред ним выю. За Сицилией последовали Мальта и Родос, Корфу, Антиохия и земли, некогда принадлежавшие Карфагену.
Сын младшего брата Гвискара — Роже II д’Отвилль уже носил титул короля обеих Сицилий. Он имел свои глаза и уши везде и не без основания слыл наиболее информированным монархом Европы. В его землях католики прекрасно уживались с кафоликами, иудеи с мусульманами и все вместе — друг с другом. Римский престол однажды попытался исправить это вопиющее безобразие, но, как это водилось у Отвиллей, стремительно был сокрушен, и очередной слуга слуг Господних со вздохом признал Роже II своим легатом в Сицилии.
Прошло еще немного лет, и Сицилийское королевство стало наиболее процветающим и спокойным государством Европы, а его столица Палермо — самым крупным и богатым городом после Константинополя.
Но от плеяды яростных предков монарх этого процветающего королевства унаследовал нестерпимый зуд пониже мантии, толкавший его идти все дальше, захватывать, покорять, сокрушать и диктовать свою волю. Ибо, если отец и дядья его были разбойниками, ставшими владетельными герцогами, он был монархом с рождения, а положение обязывало.
Потому-то, когда Анджело Майорано утверждал, что он не удивится, если ему скажут, будто сицилийцы перетащили свои корабли через горы, он говорил чистую правду. Трудно было найти точку известных христианам побережий, вблизи которой рано или поздно не объявилась бы оригинальная средиземноморская версия нормандского дракара, ставшая основой огромного сицилийского флота.
Лукавил он в другом. Ему было известно, каким образом корабли Роже д’Отвилля оказались у берегов Херсонеса, как, впрочем, и место, где они обычно базировались.
— Рулевым держать правее! — скомандовал капитан Майорано, хмуря брови. — Остальным — ускорить темп. Бейте в литавры так, будто за вами гонится сам морской черт! Давайте скорее, они нас еще не заметили! Если мы уйдем за тот мыс, то сможем ускользнуть. Давайте же, налегайте на весла!
Гребцы что есть силы навалились на опостылевшие рукояти. Сейчас дромон не мог давать полную скорость. Пленные сельджуки, с запозданием понимавшие команды, сбивали с ритма соседей, вразнобой дергали тяжеленные валки длинных весел, не давая им входить в воду мягко и плавно.
Анджело Майорано с длинным витым бичом носился по палубе, изрыгая проклятия и хлеща зазевавшихся без всякой жалости. Михаил Аргир вновь строил щитоносцев, готовясь в случае неудачи маневра достойно встретить нового врага.
— Быстрее! — звенело над палубой, давайте быстрее, быстрее!
Мало кто на охваченном суетой и паникой корабле заметил, что дромон почти не двигается с места. Вернее двигается, но совсем не так, как бы того хотелось его экипажу.
В отличие от них сицилийцы легли в дрейф и без излишней суеты наблюдали за происходящим, с интересом ожидая, чем все закончится. Они не слышали, как надрывается капитан дромона, обещая гребцам, что если те не напрягутся, то пойдут на корм рыбам, но готовы были спорить с кем угодно и на что угодно — местной кефали нынче не грозит смерть от голода. И если бы каким-то невероятным образом в этом месте гребцам удалось вывернуть корабль и обойти мыс, они, пожалуй, были бы первыми в истории судоходства в здешних водах, кому бы это удалось. Потому, а вовсе не из-за страха перед византийцами и, конечно, не из-за эпидемии близорукости, охватившей их, сицилийцы не спешили сближаться с замеченным кораблем.
Как один из лучших капитанов Роже II, Анджело Майорано тоже прекрасно знал об этом. Одной рукой потрясая в воздухе бичом, другой распихивая столпившихся на палубе латников, он направился к кормовой надстройке, выкрикивая по пути яростные проклятия команде, Нептуну, нормандским собакам и всем, о ком только мог вспомнить в этот момент. Корабль неумолимо несло на скалы, и не было уже силы, способной остановить грядущее крушение.
— Слушай, капитан. — Лис уклонился от столкновения с протискивающимся Анджело Майорано и бросил на него недобрый взгляд. — Есть авторитетное мнение, шо счас тут начнется то, шо именуется «концы в воду». Я по молодости лет в тутошних местах на раскопе подрабатывал. В нашем мире, конечно. Здесь жуткое течение. Одна радость — к берегу. Валить отсюда надо. Чем хошь побожусь, драки не будет, будет большое джакузи нам всем.
Рыцарь с пристальным исподлобья взглядом печальных глаз оглянулся и кинул слово, которое, услышь его окружающие, мало что сказало бы им.
— Баренс?
Ответ вряд ли прояснил бы ближним суть вопроса.
— Уже. Пробиваемся к правому борту, к корме за веслами, прыгать лучше оттуда, — тут же прозвучало в голове рыцаря.
— Погоди, а девушки? Их надо спасти.
— Не бузи, капитан, я все понимаю, но, во-первых, счас пару сотен мужиков пойдет на дно — и это медицинский факт. Он тебя почему-то не волнует, — ожесточенно работая плечами и локтями, увещевал Лис. — Но спасти принцессу — это ж святое.
— Все здесь, кроме них, выбрали свою судьбу.
— А на это, как говаривал Глеб Жеглов, есть второй пункт. Ты думаешь, Майорано поперся на корму заметку в судовом журнале делать? Как пить дать, он все заранее спланировал.
Анджело Майорано не слышал переговоров своих диковинных пассажиров, да и услышав, понять бы не мог. Впрочем, меньше всего в этот момент его интересовали чьи б то ни было речи, будь то хоть святейший Папа или пророк Мухаммед. Ударом ноги распахнув дверь в роскошную каюту севасты, он быстро заскочил внутрь и тут же закрыл ее на засов.
— Прекрасные доньи и вы, святой отец, мы обречены! Корабль вот-вот разобьется о скалу! Гребцы — тупые скоты, но у нас еще имеется шанс. Течение здесь к берегу. Помогите мне выбить окно этим столом. — Он схватился за палисандровую столешницу. — Мы выбросим его, и сами прыгнем в воду. Он большой, и выдержит четверых, остальное течение сделает за нас. Но прошу вас, не медлите, умоляю! Сейчас все зависит от нашей ловкости и… действенности ваших молитв, падре. Давайте же, хватайте!
— Ну вот, я же говорил! — отключая картинку, наблюдаемую глазами Джорджа Баренса, объявил Лис, хватаясь за планшир фальшборта. — Эй, на дромоне! Бросайте все, прыгайте! — закричал он и, демонстрируя пример, сиганул в чуть зеленоватую воду.
* * *
Ступени княжьего терема были устелены бесерменскими[24] коврами и потому не скрипели под сапогами. Владимир Мономах ступал тяжело, с досадой чувствуя, как оставляют его неисчерпаемые, как прежде казалось, силы. Стражники наверху у входа скрестили копья за его спиной. Разбуди посреди ночи — они бы бойко отрапортовали, что в думную молельню никого пущать не велено, а коли силой пройти замыслит, то и валить без сожаления, невзирая кто таков. А уж в час, когда в думной молельне сам Великий князь для помышлений сокровенных уединяется, так и вовсе не то что человек слово молвить, и собака окрест тявкнуть не должна.
Князь спустился по лестнице, постоял перед дубовой, окованной железом дверью, дважды повернул закрепленное тут же массивное кольцо и при слабом колеблющемся свете факела увидел открывшуюся щель замочной скважины. Сняв с пояса ключ, он отворил хитроумный замок и, склонив голову, чтобы не зацепить низкую притолоку, вошел в темное помещение.
— Приветствую тебя, Великий князь! — раздалось из темноты.
— И тебе мой поклон, — молвил Владимир Мономах, держа перед собой испуганно мечущийся под низким сводом факельный огонь. Неровное пламя выхватывало из темноты странный, пожалуй, даже ужасающий предмет — человеческую голову в украшенном каменьями золотом венце. На лоб из-под венца выбивались длинные темные пряди волос, столь же темная, чуть седоватая борода едва не скрывала серебряное блюдо, на котором лежала голова. Князь поежился, сквозь пламя факелов поймав на себе немигающий взгляд ярких с поволокой желтых глаз.
— Что скажешь, княже? — как-то неестественно шевеля губами, проговорил человечий лик.
— Кинули жребий. Мстиславу идти.
— Это хорошо. Что же гнетет тебя?
— В Киеве неспокойно, — нехотя выдавил князь, — говорят, чудище какое-то в Днепре видели. Бают, лодку рыбацкую пополам, точно былинку, перекусило. А еще сказывают, корову утащило…
Владимир поймал себя на мысли, что ему мучительно, до зубной боли и дрожи в коленях не хочется касаться темы, ради которой он, собственно, и пришел сюда.
— Страшное чудовище, — негромко, с едва уловимой тенью насмешки проговорила голова. — Не беда, князь. Оно, может, и к добру, а не к худу. Вели Мстиславу чуть свет идти к берегу Днепра да взять какую-никакую коровенку с собой. Пусть загонит ее в реку да стегает, чтоб та мычала и воду коломутила. А как всплывет чудище ужасное — пусть тогда не зевает и рубит его что есть мочи. О том не печалься. Будет сыну твоему победа, а воинам его перед дальним походом — добрый знак.
— Как ты сказал, так и сделаю, — склонил голову Великий князь.
— Это мудро, — прошептал собеседник Мономаха и продолжил, не спуская с повелителя Киевской Руси тяжелого, погружающего в оцепенение взгляда. — Но ведь ты не с тем пришел.
— Все тебе ведомо, дух нечистый, — как-то враз обмякнув, вздохнул Владимир Мономах.
— Почто клеймишь меня облыжно? Было ли когда, чтоб я солгал, чтобы слово мое от истины уклонилось?
— Правда твоя, — нехотя признал его собеседник. — Не было такого.
— Было ли когда, чтоб я у тебя награды требовал или жертв каких?
— И того не случалось, — признал Великий князь, — а только ведаю я, что все это — козни лукавого. Ни к чему словеса твои, все мне ведомо. Не ради себя, а только ради земли Русской на великий грех пошел, душу свою обрек на муки адские.
— Чего убоялся, княже? Нешто слова, данного тобою?
— Слова… — повторил Владимир Мономах, — по слову тому весь я ныне во власти твоей. Чую, уж близок день расплатный. Нынче за окном светлицы всю ночь пес черный выл. Уж и каменьями его отгоняли, и мясо кидали — воет, паскуда.
— И ты устрашился?
— Не то! — резко вскрикнул Мономах. — Я никогда ничего не страшился — сам ведаешь. И на врага любого ходил, и пардуса злого руками с одним засапожником брал. Другое тут. Знаю я, что приходит година моя. Что ни день, грудину жжет, а сердце то вскачь идет, то вдруг — раз — и будто стало. И дышу — не продышусь. Видать, помру днями.
— Нет, не днями, но скоро. Да и то, обещаю тебе, и умрешь-то ты лишь для этого мира.
— Нешто вурдалаком меня сделать порешили? — ужаснулся Великий князь.
— О-о-о-о-о!.. — едва не взвыл необычный собеседник. — Не демон я, князь, не Вельзевул, не Люцифер, не кто иной из кругов адских. Уж сколько лет речам моим внимаешь, почто ж усомнился?
— Ладно уж, — махнул рукой Владимир, — когда ж такое было, чтоб лукавый да вдруг правду сказал. Снявши голову, по волосам не плачут. Говори, что мне делать надлежит, как смертушку лютую принять?
— На краю земель твоих, близ реки Итиль средь пустых лесов озеро имеется, зовется оно Светлояр.
— Как же, ведаю, — кивнул Мономах, — в прежние времена посреди него еще град стоял, Китежем звался.
— Он самый. Вот пред тем, как Мстислав в земли дальние отправится, объяви сынам и ближним людям свою волю. Мол, желаешь ты в те края наведаться и в водах светлояровых искупаться…
— Стало быть, утопнуть мне надлежит, — обреченно выдохнул потомок императора Византии.
— Поступай, как я говорю, — уже резко отчеканила голова, — и помни о слове, тобою данном. Я не демон, но и гневить меня не стоит.
— Слово мое — пуще стали, — выпрямился Мономах, — а тебя, хоть ты и дух адский, не убоюсь.
Глава 8
Я верю только в те чудеса, которые делаю сам.
Вальдар Камдил греб что было сил, пытаясь одолеть течение и оказаться на песчаном берегу, а не на каменистой гряде, довольно неприветливо торчавшей из-под воды и очень напоминавшей нижнюю челюсть уснувшего дракона.
— Давай, капитан, греби! — слышалось рядом.
Еще мгновение, и этот звук был заглушен жутким треском, криками, звоном и скрежетом. Беспомощный дромон, окончательно предоставленный бездушному течению, врезался форштевнем в подводную скалу и опрокинулся, точно детский кораблик, пораженный метко брошенным окатышем. Море вокруг огласилось воплями ужаса, стонами и криками о помощи. Но предпринять что бы то ни было ни вчерашний крестоносец, ни его спутник менестрель уже не могли. Закованные в железо латники, посаженные на цепь гребцы шли на дно, единым воплем стараясь облегчить свою участь. Но тщетно — пучина уравняла их.
— Давай греби! — орал Лис, хватая за плечо и толкая вперед своего друга. — Понацепил тут скобяную лавку…
— Э-э-э, ты что? — попытался было противиться рыцарь, но все впустую. Ловко орудуя кинжалом, оруженосец срезал кожаные ремни доспеха, будто доставая устрицу из раковины. Плыть стало гораздо легче. Еще немного, и Вальдар Камдил без сил уткнулся щекой в мокрый песок, чувствуя, как языки волн облизывают его с пяток до самой головы, и пена щекочет ноздри.
— Але, капитан! К сведенью отдыхающих, ваш загар будет куда эффектнее, если вы снимете рубашку! Ну вставай, шо разлегся? Выжили, и слава богу! — Сидящий рядом на корточках Лис потряс его за плечо. — Давай поднимайся, не время сейчас наслаждаться красотами Южного берега Крыма.
Рыцарь притянул колени к груди, с усилием перевернулся, вставая на них, затем, опираясь на руку друга, поднялся на ноги.
— Да-а… — Сергей критически оглядел доблестного соратника. Длинная холщовая, вернее кевларовая, рубаха чуть выше колен свисала мокрой тряпкой, и лишь болтавшаяся на шее перевязь с мечом сейчас напоминала о воинском прошлом спасшегося. — Видок не плакатный. Шо-то мы как-то с этой поездкой… поиздержались. Срочно надо шо-нибудь придумать на тему представительских расходов, потому как я сильно опасаюсь, шо в этих краях не то шо «Вестерн Юнион», банальных телеграфных переводов не получишь.
— Что там у Баренса? — наконец прохрипел рыцарь.
— В смысле, у него денег занять? Прости за каламбур, но думаю, он сейчас тоже на мели.
— Ты можешь хоть сейчас не балагурить! Мы даже не знаем, жив ли он! — неподдельно возмутился Камдил.
— Да че ты взъелся? У тебя такой же символ веры, как и у меня — активируй связь и узнай. Искусственное дыхание рот в рот тебе, слава богу, делать не надо, так шо с этой сложной задачей как-нибудь справишься.
— Прости, — мотнул головой рыцарь, — это крушение… — Он коснулся рукой нательного креста, проступающего под облепившей грудь рубахой.
— Да ладно, я понимаю, — отмахнулся Лис. — Давай, пока суд да дело, ты проясни обстановку, а я пройдусь по берегу — может, еще кто выжил. Опять же, ты вон буквально как кубинский патриот — в плавках и с мачете, а у меня ж кроме ножика ничего не осталось. Куда это, на фиг, годится? Может, Нептун чем поделится.
— Давай, я на связи.
* * *
Стол — не лучшее плавсредство, и золоченые ножки его даже отдаленно не напоминают мачты. Никотея и Мафраз с максимально возможным в подобной ситуации комфортом устроились на столешнице, Анджело Майорано и Георгий Варнац, держась одной рукой за импровизированный плот, другой что есть мочи гребли к берегу. Очень скоро к ним присоединилось еще несколько «гребцов», все как на подбор из команды «Святого Ангела». Никотея напряженно вглядывалась в спасителей и вслушивалась в их отрывистые слова. Она не владела той жуткой помесью италийского, готского, лангобардского и прочих варварских языков, на которой общались спасшиеся мореходы, но благодаря сестрам-монахиням отлично знала латынь и потому в общих чертах понимала, что капитан заверяет соратников в том, что некий «Шершень» будет ждать их в гавани Херсонеса. «Это может быть очень полезно, — думала Никотея, — переводя взгляд с амальфийцев на неуклонно приближающийся берег. — Надо быть полюбезней с этим злополучным капитаном. Кто знает, чем закончится теперь вся затея с посольством. Очень хорошо, что неподалеку у этого купца есть еще один корабль. Если ему пристойно заплатить, он наверняка согласится доставить меня в Константинополь или же, наоборот, в неведомую Кияву».
При мысли о том, что пылкому италийцу придется платить, у Никотеи досадливо сжалось сердце. Кроме драгоценностей, которые были в этот момент на ней, никаких других средств у нее больше не было. Корабль, везший богатые дары Великому князю и его сыновьям, подарки архонту Григорию Гаврасу и золото для подкупа киевской знати, быстро погружался в воду. На глаза Никотеи навернулись чистые, совершенно искренние слезы. Конечно, ей не было дела до тех, кто в эти самые мгновения расставался с жизнью, но мысль о том, что очень скоро гордой севасте будет суждено предстать жалкой просительницей перед архонтом, терзала ее подобно зубной боли.
Совсем недавно, когда дядя Иоанн вздумал забрать юную родственницу из монастыря, ей уже доводилось пережить унижение. О, как искренне она тогда сыграла радость от встречи с ненавистным дядюшкой, как ластилась к нему… точно голодная собачонка, увидевшая кусок мяса в руке у живодера.
Не дай, Господь, этому повториться! Никотею передернуло, и слезы, дотоле капельками стекавшие от уголков глаз к крыльям носа, полили весенней капелью. Она глухо зарыдала, пряча лицо в ладонях, от жалости к себе и досады на сельджуков, пиратов-сицилийцев, неудачливого капитана, окрестные скалы — словом, на все, что могло именоваться злой судьбой. «Господь этого не допустит! — твердила она себе. — Какой позор! Что ты делаешь? Немедленно прекрати плакать! Никто не должен видеть твоих слез».
— Джокер 1 вызывает Звездочета! — раздалось на канале связи.
Монах-василианин продолжал грести, лишь чуть заметно оглянувшись по сторонам.
— Слава богу, Вальдар, ты жив! Где Лис? Вы целы?
— Мы оба в порядке. Вы-то как?
— Практически на берегу. Со мной обе девушки и капитан со своими людьми. Похоже, ты был прав. Этот морской волк — волк и есть. Уверен, он в доле с сицилийцами.
— Это уж точно. Не зря же их корабли держались поодаль. Куда легче и безопаснее собрать то, что выкинет море или же останется после отлива, нежели бросаться на огнеметный дромон.
— Боюсь, ты прав, мой мальчик. А потому я был бы благодарен тебе и Лису, если бы вы оба поскорее присоединились к нашей милой компании. Этот добрый малый рассказывает своим людям, что «Шершень», так он именует корабль, ждет его команду в Херсонесе. И, признаться, я весьма опасаюсь, что сеньор Майорано намерен пригласить севасту, конечно же, без меня, но, возможно, со служанкой в Палермо. Говорят, Роже II — большой любитель красивых женщин.
— Дайте маяк, мы скоро будем. Лис отправился поискать какое-нибудь оружие, а заодно и посмотреть, быть может, еще кто-нибудь выжил.
— Его лук?.. — настороженно поинтересовался Баренс.
— Увы.
— Прискорбно, весьма прискорбно. Но что ж поделаешь. Лови сигнал, я вас жду. И поскорее.
Лис появился не один. С ним пришли еще трое. Суровые дети Севера, именуемые в Константинополе варангами, а на Руси — варягами, не склонны были сдаваться даже в мгновения столь очевидной смертельной опасности. Они были намерены выжить и потому выжили. Лица воинов были мрачны, вид их, растрепанных и вымокших до нитки, вызывал скорее жалость, нежели, как подобало, страх. И все же северяне были в доспехах и при мечах. Правда, без щитов и шлемов. На поясе Лиса, хлопая его по бедру при каждом шаге, болтались ножны с кривым восточным мечом, одним из тех, что достались после вчерашней схватки в качестве трофея.
— Ну шо, мессир рыцарь, внутренний голос подсказал тебе, где искать высокое посольство?
— Подсказал, — одобрительно глянув на усмехающегося напарника, кивнул Вальдар.
— Ну, а че мы тогда сидим, в смысле, наоборот, стоим? Они ж там небось извелись в разлуке. Пошли заключать их в объятия! Тем более я вчера глазом кинул — там есть кого. — И оруженосец-трубадур пошел за своим рыцарем, напевая себе под нос древнюю походную балладу:
Куда идем с одним деньем —
Большой-большой секрет,
И не расскажем мы о нем,
О нет, и нет, и нет!
Спасшиеся встретились, едва небольшой отряд босоногого крестоносца обогнул мыс, на добрую сотню ярдов выдающийся в море. Облик грозного воителя в промокшей насквозь рубахе и шоссах, опоясанного мечом, вызвал у девушек некоторую оторопь.
— Мессир рыцарь, что за вид? — чуть зардевшись, спросила Никотея.
— Это мессир рыцарь доспехи в стирку сдал, — не давая спутнику вымолвить и слова в ответ, вмешался менестрель. — Погода солнечная, ишь как припекает. Обещали, шо скоро высохнут. Сначала чуток море, а потом сразу и они. Не, ну какая стервь! Вид ее не устраивает! — возмущенно выдал он на канале связи, едва отзвучали произнесенные вслух слова.
— По большому счету она права.
— По большому счету за нее платить будут, когда продадут какому-нибудь паше или, если тебе больше нравится, сицилийскому мафиози. Слушай, капитан, шо-то ты мне не нравишься. То ли у тебя в связи с утонутием по причине утопления солнечный удар сделался, то ли, шо куда фатальнее, ты решил втюриться в очередную голубоглазую Красную Шапочку.
— При чем здесь Красная Шапочка? — возмутился Камдил.
— Это, видишь ли, такая порода девиц, которые способны съесть волка даже среди ледовых торосов или же наоборот — прямо на лужайке перед Букингемским дворцом.
— Всадники! — указывая рукой вдаль, крикнул один из варангов.
— Где? — Лис обернулся. — А вот как раз и волки. Судя по загогулинам на шлемаках ни дать ни взять сицилийские туристы.
— Убегаем, убегаем скорей! — закричал Анджело Майорано.
— Куда? По следам Моисея, прямиком через море?
— Наверняка они ищут сокровища, которые могли быть на дромоне.
— Ага, а типа девушку в пурпуре с ног до головы они не заметили. Или она им не нужна. Такие себе бандиты-женоненавистники! От таких бежать — только запыхаться. Лучше уж тогда за стол переговоров сесть. Вот, кстати, и стол валяется.
— Чего же ты хочешь? — гневно блестя глазами, взвился амальфиец.
— Святой отец, как вы полагаете, нам удастся убедить этих несчастных, что Роже II будет крайне недоволен, узнав, что его любимого кузена, графа Вальдарио Квинталамонте, извините, ваше сиятельство, мне уж придется раскрыть ваше инкогнито, — Лис поклонился в сторону рыцаря, замершего с обнаженным мечом в руках, — вдруг решили, не побоюсь этого слова, нагло ограбить его любезные подданные?
— Это правда? — переходя на итальянский, обратился к Камдилу Анджело Майорано.
— Такая же неоспоримая, как то, что солнце всходит на востоке и погружается в воды океана на западе, — с заметным сицилийским акцентом произнес рыцарь.
— Вы — граф Квинталамонте?!
— Да, сын Драго д’Отвилля…
— Там еще один отряд! — неожиданно вмешалась Никотея, прерывая Камдила, уже сполна включившегося в предложенную напарником игру. — Куда больше первого. И… над ним орел Гаврасов.
* * *
Испокон веку надднепровские кручи покрыты густым лесом. Толстенные дубы, широко раскинувшие ветви над рекой, помнили еще те времена, когда пришедшие невесть откуда братья Кий, Щек и Хорив вместе с сестрицей Лебедью решили завязать с бродяжничеством и остановились в этих местах жить-поживать и добра наживать. Особо древние зеленые исполины помнили даже апостола Андрея, который, поглядев кругом, прикинул, что дальше идти смысла нет, и благословил эти земли перед тем, как отправиться в обратный путь.
Но ни во времена Кия с братьями, ни в годы апостольских странствий ветви дубов не были столь густо обсижены людьми, как в это очень раннее утро. Казалось, их больше, чем желудей. А уж в желудях, судя по виду местных свиней, недостатка в этом году не было.
— Тять, а тять! — мальчонка-рыбарь ткнул пальцем в сторону статного витязя на широкогрудом белом жеребце, неспешно выехавшего к самой кромке воды. — Глянь-ка, вон князь Мстислав!
— Нешто без тебя не вижу, — одернул его отец.
— Тятя, как мыслишь, заборет Мстислав Владимирович чудище али нет?
— А то как же! — чуть слышно проговорил рыбарь, глядя, как княжьи слуги тащат к берегу упирающуюся корову. — У нашего князя-то силища — ого, какая! Вона, палица с полпуда, а он ею машет, все равно как ты — ложкой!
— Ой, так ведь и чудище, сказывают, силищи огроменной! Мне Фролка с Боричева узвоза сказывал, что намедни оно лодку с рыбарями, вот как мы с тобой, сожрало в один присест, даже весла не сплюнуло.
— А ну, цыть! Чего языком рожь мелешь? — одернул его отец, чувствуя, как вдоль хребта проходит невольная дрожь. — Дурень твой Фролка. Ну кого, скажи, оно сожрало? Все ж как есть живы.
Между тем слуги втолкнули буренку в воду и издали начали кидать в нее каменья и хлестать бичом. Несчастное животное, жалобно мыча, пробовало было прыгать, но илистое дно не давало.
— О, а вон и Святослав Владимирович пожаловали, да не один, с дружиной! — выпалил мальчишка.
— Нишкни! Без тебя вижу.
Чуть поодаль от того места, где в ожидании подводного страшилища стоял князь Мстислав, и впрямь показался его брат с отрядом гридней в полном боевом облачении. Он искренне досадовал, что не ему, а Мстиславу отец велел идти биться с кокодрилом и, вдруг что, готов был ринуться в сечу, спасая брата и ища себе ратной славы. Пока же он мрачно глядел на близнеца, на жалобно стенающую худую коровенку и со смешанным чувством тревоги и досады ждал, выйдет ли что-нибудь из этой затеи.
— О-о-о-о-о! Ах! — Над днепровской водой вдруг, разбрасывая брызги, высоко поднялась длинная, в две сажени шея, заканчивающаяся разверстой зубастой пастью.
— Свя-свят-свят! — взревел лес на днепровской круче.
Шея выпрямилась, и голова монстра тараном ударила в смолкшую от ужаса корову, сбивая ее с ног. И в тот же миг палица весом в полпуда с богатырского размаха полетела меж глаз устрашающей твари. Позабыв о раненой скотинке, чудище изогнулось и, отряхнувшись, точно от легкого шлепка, бросилось в атаку, отгоняя соперника.
Новый слитный вопль ужаса раздался из дубняка. Не теряя времени, князь натянул удила, разворачивая коня и пуская его вскачь вдоль берега. Осознав промах, чудовище вновь нырнуло в пучину, вынырнуло чуть далее и снова бросилось на Мстислава. Но не тут-то было. Поудобней перехватив копье, Мономашич галопом направил коня навстречу стремительно бьющей голове страхоидолища. Наконечник копья ударил чуть левее пасти и, скользнув в сторону, будто пред витязем было существо не из плоти и крови, а из самого что ни на есть железа, прошел мимо, не причинив чудовищу никакого заметного вреда. Впрочем, голова змея как-то странно дернулась и будто бы склонилась вбок.
По инерции Мстислав проскочил чуть далее, чем следовало, и в тот же миг зубастый подводный змий ушел от следующего копейного удара и, обвив конские ноги петлей, свалил его в воду. Будь на месте князя не столь опытный в ратном деле витязь, может, на том бы для него и окончился бой. Утоп бы несчастный, так и не высвободив ноги из стремян. Да не таков был Мстислав. И брызги еще не успели упасть на взбаламученную днепровскую волну, как он уже стоял на ногах по пояс в мутной жиже, и харалужный меч его блистал в лучах восходящего солнца.
Зубастая голова снова ринулась на неподатливого врага, стремясь обвить его, сдавить, лишая сил, а далее… и подумать страшно. Но в тот миг, когда уже казалось, что спасения нет, Мстислав Владимирович выставил перед собой щит, разворачиваясь и уводя чудовищную главу мимо себя, а затем что есть мочи рубанул по мощной шее. Один раз рубанул, затем, не веря, что больше та не движется, еще раз, и еще. Чудище вдруг дернулось в конвульсиях и забилось по воде, поднимая волну. Затем исполинская шея снова взвилась над речной гладью, совсем как в начале боя, и рухнула вниз, в прямом смысле теряя голову. Огромное бурое пятно начало расползаться вокруг нее, и вопль ликования гремел над днепровской кручей, над Киевом, когда не над всей Русью.
— Велик наш князь! — кричали горожане.
— Новый Егорий Хоробрый! Истинный драконобоец!
— Тять, а тять, — белый как полотно Глеб прижался к отцу, выкрикивающему здравицу князю, освободившему днепровские воды от страшного змия, — я тако-ое видел!
— Что ж ты видел-то, Глебушка? — обернулся к нему отец.
— Как чудище князя-то нашего с коня сверзило, я глаза отвел, боялся глядеть, как пожрет оно его, как вдруг, глядь, а из-под воды очи на меня дивятся, вроде как человечьи. Смотрят, не мигают, и взор от них не отвести. А потом вдруг исчезли, точно и не были.
— Померещилось тебе с перепугу, сынок. — Рыбак взъерошил пятерней волосы отрока. — Ну, полно, более нечего бояться.
— Может, и померещилось, — вздохнул парнишка. — У-у, какой взгляд был.
* * *
Генрих Боклерк расхаживал взад-вперед по двору Тауэра, едва слушая утренний доклад секретаря.
— Король свеев разгневан. Он утверждает, что подворье в Йорке принадлежало ему и его предкам еще во времена Кнута Великого. Захват его он почитает личным оскорблением и посягательством на его земли.
— Ну и что? — Король Англии на секунду остановился. — Да, я захватил это подворье. Оно очень удобное. Мне нет дела до того, что им владел король свейский, как, впрочем, неинтересно, кто там хозяйничал до него. Но разве мыслимо, что какие-то чужестранцы на моей земле строят едва ли не крепости, забивают их товаром под крышу и ни пенни не платят за это мне? У них прекрасная гавань, и одному Богу известно, что и кого они решат спрятать в своем подворье. Там могли укрываться наши враги, и мы бы об этом ничего не знали. Нет, положительно, я не понимаю, что так взбесило короля свеев. Если он хочет, может захватить мое подворье в своей земле.
— Но у вас там нет подворья.
— Что ж, тупая твоя башка, предлагаешь мне построить его? — Генрих Боклерк с недоумением поглядел на Фитц-Алана. — Хорошо, отпиши королю, что я готов построить крепость где-нибудь недалеко от его столицы и дать ему полную возможность ее захватить, ежели, конечно, у него выйдет.
— Боюсь, что наш северный сосед не удовлетворится подобным ответом.
— Тогда ему придется удовлетвориться потерей Йоркского подворья. Впрочем, я готов сдать его в лен, если король признает себя моим вассалом. В моем королевстве могут быть только мои земли и земли моих вассалов, никак иначе. С этим окончено. Что там еще?
— Король Людовик VI интригует против вас, склоняя баронов Корнуэлла к мятежу…
В этот миг ворота Тауэра распахнулись, и в них, осаживая коня, влетел перепуганный всадник.
— Мой лорд! — Гонец скорее упал, нежели соскочил с коня. — Белый корабль…
— Что Белый корабль? — Генрих Боклерк резко дернулся, точно его огрели по спине палкой.
— Он… — Приехавший шумно вдохнул и вновь повторил. — Он…
— Ну, что такое?
— Он утонул.
— Что?! Где мой сын? Что с ним?
— Он…
Король подскочил к скорбному вестнику, хватая его за грудь и тряся так, словно надеясь вытрясти совсем другие известия.
— Что с ним?
— Принц возвращался из Нормандии, с ним еще трое, — гонец замялся.
— Да, мои бастарды. Ну, говори!
— Графы, бароны, всего триста человек, считая команду.
— И что же?
— Ночью все перепились, а корабль наскочил на скалу. Спасся один кок. Он просидел всю ночь на верхушке мачты. Утром его нашли рыбаки…
— Господи!.. — Генрих Боклерк отбросил в сторону гонца и обхватил голову. — Кок спасся. Кок на верхушке мачты. Фитц-Алан, ты слышишь? Кок спасся! Четверо моих детей пошли на дно, а какой-то жалкий поваришка — выжил! — Король пнул ногой вестника, тот растянулся на земле, даже не силясь подняться, чтобы не провоцировать новый приступ ярости государя.
— Уму непостижимо! — хватая воздух ртом, с трудом выдавил король. — Вильгельм мертв. Фитц-Алан, ты слышишь? Вильгельм мертв, у меня больше нет престолонаследника. Ты понимаешь это, Фитц-Алан?!
— Понимаю, мой лорд, — сдавленным голосом прохрипел королевский секретарь, в прежние годы бывший воспитателем юного принца.
— Сокс, проклятый Сокс! Это все его колдовство! Где он?
— В подземелье, государь.
— Идем к нему! Нет, постой. Где Матильда?
— Она еще в землях империи, но, как вы и приказали, собирается возвращаться домой.
— Я пошлю за ней отряд, пусть сопровождают ее повсюду день и ночь. Если понадобится, пусть засыпят этот чертов пролив и перевезут ее посуху. Но… молчи! Ты понял, что я тебе сказал. Теперь так. Раз уж этот кретин, эта мокрица, император, так и не удосужился сделать ей сына, вспомни и перепиши мне всех королей, принцев, герцогов, у кого есть сыновья брачного возраста. Англии нужен наследник. И как можно быстрее. Ты все уразумел?
— Да, мой лорд. Но осмелюсь сказать, это будет сложно.
— Ты что же, скотина, утратил память, или пальцы твои не в силах больше держать перо, или в Англии перевелись чернила?
— Прошу извинить меня, государь, но… вас не любят.
— А им вовсе не надо меня любить. Пусть любят мою дочь, да покрепче. К вечерне составь мне список, об остальном я позабочусь сам. У Матильды будет муж, даже если мне придется украсть его из замка Сите. А сейчас — к Соксу. Он расскажет мне все!
* * *
Взвывшие боевые трубы напоминали львиный рык в миг, когда царь зверей дает понять окрестной живности, кто в саванне хозяин. Отряд сицилийских всадников, насчитывающий не более полусотни человек, вовсе не горел желанием доблестно сложить головы у безвестного мыса на берегу Понта Эвксинского. Сотня клибанофоров,[25] опустив длинные, в четыре ярда копья, неслась в атаку на чужаков. Черные конские хвосты над их шлемами развевались по ветру. Флажки на древках хлопали, солнце отражалось в начищенной до блеска пластинчатой броне всадников и лошадей.
Еще целый бандон[26] легкой кавалерии широкой дугой огибал прибрежную равнину, охватывая сицилийцев с фланга и стараясь зайти в тыл. Удайся этот маневр, и «гости издалека» оказались бы точно муха меж двух ладоней, сошедшихся в хлопке. Но сицилийцы решили, что жажда наживы — еще не достаточный повод расстаться с головой и потому, заблаговременно поворотив коней, со всех ног припустили прочь. Легконогие андалузские жеребцы были им хорошим подспорьем в этом благородном начинании.
Клибанофоры, неудержимые в копейной сшибке, на своих мощных широкогрудых конях не слишком хороши в преследовании, и потому, осознав, что врага не догнать, тяжело вооруженные всадники повернули к берегу, где все еще находились спасшиеся жертвы кораблекрушения.
Впереди грозного отряда гарцевал наездник в богатом чешуйчатом доспехе, покрытом темно-синим плащом с золотой узорчатой каймой. Лицо его было до глаз закрыто кольчужной маской, над вызолоченным шлемом развевался черный с красными прядями плюмаж. На лазурном миндалевидном щите всадника красовался золотой двуглавый орел, из плеч которого вырастал косой крест, поднимавшийся над орлиными головами. Тот же знак был изображен на хлопавшем по ветру знамени в руках следовавшего за военачальником дофора.[27] Мохноногий фризский жеребец гнедой масти горделиво выступал под командиром могучих всадников.
— Боже правый! — приблизившись к живописной группе на берегу, воскликнул тот. — Глазам своим не верю! — Наездник отстегнул кольчужную полость, открывая лицо. — Да это же сама несравненная Никотея! Надеюсь, прекрасная севаста помнит меня? Я — Симеон Гаврас. И трех месяцев не минуло с той поры, как я привез в Константинополь ко двору младшего брата, Алексея.
— Господи! — не спуская лазурных глаз с воителя, отчаянно вскрикнула севаста и, вскинув ладони, точно пытаясь закрыть ими лицо, рухнула на руки подоспевшей Мафраз.
Глава 9
Человек должен любить других людей ровно настолько, чтоб они не мешали ему любить самого себя.
«…И по молению христианскому прибрал Господь души грешников — герцога Вильгельма Нормандского и многих графов и баронов его — и тем покарал за многие святотатства, за нечестивость и богомерзкий нрав, коими он с отцом своим, злодейным разбойником и развратником Генрихом, королем бриттов, был равен».
Аббат Сугерий поглядел на выведенные гусиным пером строки и осенил себя крестным знамением. Конечно, грешно было радоваться смерти рабов Божьих, а уж тем паче братьев во Христе, но все же столь нелепая и в то же время такая своевременная гибель наследника английского престола представлялась истинным даром небес.
В последние годы принц Вильгельм доставлял немало хлопот королю Людовику, постоянно подзуживая мятежных баронов севера воевать против своего государя, снабжая их золотом, оружием и давая укрытие в землях Нормандии. Теперь следовало ударить по Руану — столице непокоренного герцогства, не дожидаясь, пока Генрих Боклерк придет в себя и сможет оказать достойное сопротивление.
Поставив отточенное перо в чернильницу, аббат Сугерий поднялся из-за стола и призвал к себе секретаря.
— Прибыли ли расчеты, сделанные архитектором для заложения храма Девы Марии Парижской?
— Еще нет, но я послал за ними.
— Очень плохо, — покачал головой аббат Сугерий. — Устав велит вскорости отходить ко сну, а это значит, что я смогу вновь заняться делом только после всенощной. А времени мало.
— Ваше преподобие, — почтительно склонил голову секретарь, — осмелюсь доложить, прибыл Бернар, настоятель Клервоской обители.
— В такой час? Что же ему надо?
— Он приходил, дабы коснуться священного чудодейственного знамени святого Дионисия, что именуется Орифламмой.
— И что же, коснулся?
— Коснулся, ваше преподобие, но теперь смиренно просит вас принять его.
— Ну что ж, коли расчетов все равно еще нет, зови его. — Аббат Сугерий расправил сутану и задумчиво прикрыл глаза. Ему не нравился настоятель Клервоской обители. В прежние годы им доводилось встречаться трижды, и каждый раз аббат Сугерий с грустью убеждался, что даже в деле служения Господу искреннее рвение может быть чрезмерным, а стало быть, опасным. Мрачный огонь, которым время от времени вспыхивали глаза этого молодого выскочки, выдавал в нем человека своенравного и нетерпимого, способного легко перепутать собственную волю с волей Господа.
Но отказать этому любимцу клира тоже было неразумно.
— Да скажи его преподобию, что я смогу уделить ему времени не более, чем надобно для прочтения «Отче наш» трижды, — кинул аббат Сен-Дени вслед брату келарю.
Они встретились и поклонились друг другу и обменялись благословениями, как подобает верным сынам вселенской апостольской церкви.
— Вы проделали столь дальний путь, брат мой, — начал аббат Сугерий, — быть может, желаете отдохнуть с дороги?
— Лицезрение святыни, посланной Господом во спасение христианнейшего короля Людовика от лютых недругов, наполнило меня силой, точь-в-точь как воинов, над чьим строем реяло сие знамя!
— Господь милостив. — Настоятель монастыря Сен-Дени молитвенно сложил руки на груди, не спуская, впрочем, выжидательного взгляда с гостя. Неужто он и впрямь проделал путь из Шампани до стен Парижа, чтобы прикоснуться к Орифламме?
— Воистину так, брат мой! — согласился Бернар. — Восславим же Господа!
Некоторое время они молчали, выжидательно глядя друг на друга. Бернар Клервоский не выдержал первым.
— Я желал бы посоветоваться с вами, благочестивейший и мудрейший брат Сугерий, ибо во всем французском королевстве не сыскать человека столь же сведущего в делах как Божьих, так и человеческих.
— Я слушаю вас, почтеннейший брат, — пропуская лестные слова мимо ушей, кивнул аббат Сен-Дени.
— Могу ли я просить, чтобы сказанное здесь оставалось тайной между нами?
— Я обещаю вам это, конечно, если сказанное не будет хулой на Господа или же злоумышлением против короля и Франции.
— О нет, совсем наоборот. — Бернар вздохнул. — Я с прискорбием гляжу на то, что творится в нашей церкви. Видя, как высшие иерархи ее, точно пьяные лавочники на ярмарке, дерутся между собой за власть, за кусок земли, за презренное злато, разве можно говорить всерьез о божественной сути деяния, которому посвящены наши жизни?
— Это ересь, брат Бернар.
— О нет, нет, что вы. Я лишь говорю о том, о чем рек Спаситель, объявляя, что Богу — богово, а кесарю — кесарево. Но Бог здесь назван первым, ибо он превыше любого кесаря. Да и мне ли говорить вам об этом, ведь Людовик, король Франции, является вассалом Господа за графство Венсенн, полученное им через вас от небесного заступника, святого Мартина.
— Да, это так.
— Нынче Франция, и только она, может стать истинным домом и оплотом для слуг Божьих. Мы должны восстановить чистоту веры, смыть грязь с блистающих одежд нашей церкви, выкорчевать скверну, невзирая на сан и лица, ибо фарисеи нынче угнездились в доме Божьем. И как Иисус изгнал торгующих из храма, так и мы в меру наших малых сил не должны знать покоя и отдыха, очищая святыню от мирских соблазнов.
Сугерий со скрытым раздражением глядел на пылко декламирующего гостя. Он представлял, как Франция наполняется такими же вот страстными проповедниками, за каждым из которых маячат воины с обнаженными мечами, готовые умертвить всякого, кто ими будет признан скверной, достойной корчевания. Ему довелось слышать, что сей яростный в своей проповеди аббат уже собрал отряд рыцарей и отправил их в Святую землю с подозрительной целью объединить вокруг себя как можно больше умелых и стойких воинов, преданных уставу, написанному для них самим аббатом Бернаром. Для чего воину духа собирать вокруг себя этакую армию мирян? Все это очень подозрительно.
— Мне весьма близка и понятна ваша забота о благе Франции, брат мой, — начал аббат Сугерий. — Однако то, о чем вы говорите, чрезмерно и преждевременно. На данный момент, покуда королевство утопает в войнах, мы не можем позволить себе погрязнуть в той, несомненно, весьма нужной, но, увы, бесконечно долгой борьбе, к которой призываете вы. Однако есть множество насущных дел, которыми надлежит заняться безотлагательно, и я был бы очень рад обрести здесь столь полезного и достойного соратника, как вы.
— Что же это за дела? — обескураженный непониманием первоочередной задачи, выдавил Бернар Клервоский.
— Ну вот, скажем, род герцогов Нормандских, захвативший власть в Англии и ныне доставляющий немало хлопот христианнейшему королю. Не станете же вы, как мне думается, возражать, что се — род нечестивцев.
— Исключая, конечно, герцога Роберта.
— Да, несомненно, герцог Роберт был славнейшим из рыцарей, отвоевавших для христианского мира Гроб Господень. Однако ныне он томится в плену у младшего брата, как сказывают, ослеплен, и возможно, увы, пребывает не в своем уме.
— Если вспомнить, что только ради округления своих охотничьих владений Нью-Форест Вильгельм Завоеватель сравнял с землей тринадцать церквей, стоит ли удивляться, что Господь покарал и самого его, и род, от него идущий.
— Да, — вздохнул аббат Сугерий, — два сына Вильгельма Нормандского погибли именно в этом лесу. Однако младший из сыновей, превзошедший своими преступлениями даже отца, жив, здравствует и правит.
— Я слышал намедни, Господь покарал его, лишив сына и престолонаследника.
— Действительно так, — подтвердил аббат Сугерий. — И мне представляется, что происшествие то — недвусмысленный знак, чтобы сокрушить престол нечестивца и передать его принцу верному и достойному.
— Верному? — переспросил Бернар Клервоский. — Кому?
— Верному королю и матери нашей церкви, — уточнил настоятель Сен-Дени. — Последняя надежда Генриха, именуемого Боклерком, — его дочь Матильда. Она нынче овдовела, и король станет искать ей нового жениха. Однако мы не должны забывать, что ее мать, принцесса Эдит Матильда была монахиней, когда Генрих Боклерк силою забрал ее из стен обители. И хотя, обесчестив невесту Христову, он сделал ее своей королевой, их дети все же не могут считаться законнорожденными. Вот здесь кара небес и должна пасть на голову нечестивца.
— Брат мой, вы призываете кару небес туда, куда следовало бы отправить бальи[28] с сержантами. То, о чем вы говорите, верно. Но это — суть дела мирские, дела кесаря.
— Не забывайте, мой почтеннейший брат, что и богово, и кесарево — единая монета.
— О да, я помню об этом. — Бернар Клервоский склонил голову. — Прошу простить меня, брат Сугерий. Я задержал вас и забрал столь много драгоценного времени. Не смею впредь отбирать ни минуты вашего сна. Спешу откланяться, ибо меня ждут дела.
Он склонил голову и вышел, шепча чуть слышно слова молитвы и повторяя про себя: «Господи, отчего ты не вразумляешь и лучших своих? Воистину, и видящие не узрят! Дай же мне силы свершить начатое! Быть может, и впрямь лишь явление миру священной реликвии, не имеющей равных во всех христианских землях, спасет от гибели нашу церковь и нашу веру».
* * *
Над Аахеном шел дождь. Впрочем, дожди здесь шли часто, зимой сменяясь холодными метелями. И лишь тогда темные леса, покрывшие большую часть Германии, наконец становились не такими угрюмыми, хотя по-прежнему оставались едва проходимыми. В незапамятные времена, когда римляне сунулись было покорять очередные варварские земли, гордая империя познакомилась здесь с тевтонской яростью, а заодно с темными чащобами, способными поглотить без остатка прославленные римские легионы.
Теперь центр империи был здесь, и голубоглазая статная красавица, восседавшая на нижней части трона, все еще была ее императрицей. Верхняя часть оставалась пустой. Генрих V покоился в родовом склепе, источая приторный запах мускуса и смол, входивших в бальзам.
— Матильда, Матильда, послушай! — Герцог Конрад фон Гогенштауфен вышагивал перед сидящей на троне императрицей, пытаясь втолковать ей простые, в сущности, истины. — Генрих мертв, его не вернуть. Да и к чему бы его возвращать? Ты же не станешь уверять меня, что любила его!
— Нет, не любила, — покачала головой дочь Генриха Боклерка. Уже больше десяти лет она была дружна с этим стройным рыжеволосым юношей, впрочем, уже и не юношей, а взрослым мужчиной.
Когда тринадцать лет назад ее, испуганную маленькую девочку привезли в темную холодную страну, родину будущего августейшего супруга, он единственный был ей приятелем, с которым она могла поговорить, а иногда и поиграть. Конрад рос при дворе императора в качестве почетного заложника, обеспечивая своим присутствием верность Швабии и рода Гогенштауфенов.
Правда, очень скоро двенадцатилетняя принцесса стала женой императора, но их детской дружбы это не нарушило. Муж не слишком интересовался ею, и, честно говоря, Матильду это радовало. С первого дня в Аахене она слышала ужасные рассказы о покойном отце своего мужа. Этот необузданный в своих низменных страстях государь принадлежал к секте николаитов, проповедовавших обобществление жен и творивших насилие, невзирая на святость брачных уз пред Богом и людьми. Ей рассказывали, что насилия не избежали даже жена императора и его сестра.
Опасение, что сын может стать в этом деле достойным отца, наполняла сердце ее ужасом. Однако никому, кроме Конрада, наперсника ее детских игр, она не смела признаться в этом. Конрад обещал защищать ее, не жалея и самой жизни. И она приняла его служение, ибо маленькой императрице весьма льстило, что для кого-то она является не пешкой в государственной игре, а прекрасной дамой.
И вот теперь император был мертв.
Конрад вышагивал взад-вперед по пустой зале, придерживая на ходу меч, оттопыривающий край плаща, и втолковывая подруге былых шалостей прописные истины, правила игры совсем иного рода.
— Что за смысл тебе возвращаться домой? Твой отец — настоящее чудовище. Ему нет и никогда не будет дела до тебя, твоих мыслей и желаний. Здесь же на тебя почти молятся. Кого бы ни поддерживали все эти герцоги и графы, при упоминании твоего имени они почтительно склоняют головы. Ты столько сделала для этого. Теперь, что же, все бросить и, повинуясь воле сумасшедшего тирана, отправиться в добровольное изгнание?
— Ты говоришь о моем отце, — с мягким упорством напомнила Матильда.
— Что с этого? Все, что он мог сделать для тебя, уже сделал. Ты, в свою очередь, достойно отблагодарила его, связав воедино западную империю с Англией. Хватит печься о нем, позаботься о себе, о нас, в конце концов! Ты же знаешь, что я люблю тебя.
— Знаю.
— Так что же тогда?! — Конрад вцепился в широкий кожаный ремень, украшенный полированными бляхами из золоченой бронзы.
— Я не могу нарушить волю отца.
— Что за абсурд? Посуди сама. Император, умирая, прочил в наследники моего старшего брата, Фридриха. Но ему место в монастыре, и он сам это прекрасно осознает. Святейший Папа желает поставить императором баварского герцога Лотаря. Его можно понять. И Генрих IV, и Генрих V доставили немало хлопот римскому престолу. Понтифик желает сменить правящую династию. Но и моя Швабия, и Австрия нашего с Фрицем отчима, и ряд других принцев-электоров[29] будут против его кандидатуры уже только потому, что этого желает Рим.
Ответь мне «да», и я затяну эти выборы до конца траура. После чего ты станешь моей женой и империя будет нашей. Я смогу убедить Фрица отказаться от всех претензий на трон в мою пользу. Твоя слава перетянет на нашу сторону многих из тех, кто сейчас еще колеблется или думает голосовать за баварца. Поверь, после нашей победы у тебя начнется совсем другая жизнь. Я сделаю из этого шаткого наследия Карла Великого настоящую империю, не хуже, чем во времена цезарей!
— Мой брат погиб. Я должна возвращаться. У Англии нет наследника престола.
— Что за ерунда? Не забывай, ведь по сути Англия — тоже часть империи. Ты будешь править ею отсюда или, если пожелаешь, из Рима — как тебе будет угодно.
— Нет, Конрад. — Матильда покачала головой. — Этому не бывать. Британия — уже давно не часть империи и больше не будет ее частью. Во всяком случае, покуда я жива.
— Но это же будет твоя Британия!
Вдовствующая императрица с сожалением глядела на раздраженного паладина. Как из игривого рыжего львенка вырастает грозный лев, так и ее пылкий верный Конрад с годами превратился в яростного беспощадного повелителя. До сего дня в его руках было лишь одно из герцогств империи, и теперь ему этого казалось уже унизительно мало. Конрад желал стать императором. Конрадом Цезарем Августом. И в ней он сейчас видел не прекрасную даму, как тогда, несколько лет назад, а лишь подходящее средство для скорейшего достижения своей цели. Ее неумолимо тянуло к этому сильному мужчине, казалось, наполненному пламенем столь жарким, что даже волосы его казались языками огня. Но… меньше всего на свете она хотела быть императрицей и, увы, не могла объяснить этого другу, чьей женой счастлива была бы стать. От этой безысходности Матильда готова была заплакать, но, к собственному несчастью, не умела этого делать. В детстве ее отец взвивался и начинал орать и стучать кулаками при малейшем намеке на слезы. Здесь, при дворе императора, она и подавно должна была скрывать чувства, ибо малейшая слабость могла оказаться пагубной.
Матильде очень хотелось жить в мирном королевстве, где люди не боятся друг друга и рады видеть своего государя, как дети рады видеть мудрого и доброго отца, или — она вздохнула — мать. Императрица уже плохо помнила свою матушку, и потому образ ее все больше и больше в воображении Матильды представал своеобразным ангелом в человеческом обличье, спустившимся с небес, чтобы умерить крутой нрав отца. Более это не удавалось никому. Именно она, принцесса Эдит Матильда, рассказывала маленькой дочке о стране, где люди не боятся друг друга. Правда — императрица еще раз покачала головой, давая понять своему рыцарю, что его предложение отвергнуто, — с годами она запамятовала, как называлась эта страна. Но почему тогда самой не превратить родное королевство в такую вот державу?
— Я не буду твоей женой, Конрад. И императрицей тоже не буду. Прости, мой добрый друг. Я возвращаюсь в Англию.
* * *
Сопровождаемые мощным эскортом, жертвы кораблекрушения двигались к Херсонесу, или, как называли столицу фемы жители Киевской Руси, Корсуню. По легендам, именно здесь принял крещение святой равноапостольный князь Владимир в обмен на руку и сердце византийской принцессы. Правда, сами жители города так и не могли сказать, в какой же именно церкви князь русов ступил на путь спасения души. Но одно всякий из них мог засвидетельствовать: россказни о том, что для взятия города Владимир перекрыл акведук, доставляющий в столицу воду, были не более чем выдумкой. К моменту похода князя Владимира сей акведук уже не действовал на протяжении многих лет, и Херсонес черпал воду из внутренних колодцев.
Симеон Гаврас, турмарх[30] и сын архонта Херсонеса, был мрачен и молчалив. Рассказ монаха о гибели младшего брата ранил его острее, чем любая из вражеских стрел за всю его долгую жизнь воина. Импровизированные носилки, сооруженные для обессиленной севасты, покачивались между четверкой неторопливых иноходцев. Симеон Гаврас ехал рядом, порой взглядывая на бледное лицо девушки, но не решаясь нарушить молчание, расспросить ее. Происшедшее не укладывалось у него в голове.
Кому и чем мог так навредить пятнадцатилетний мальчишка, что неведомому душегубу понадобилось его предательски, из засады убить? Монах говорил, что подлый убийца пронзил горло Алексея клыком вепря. Конечно, в этом можно усмотреть месть отвергнутого воздыхателя. Именно вепрь убивает Адониса, избранного среди прочих смертных богиней красоты. Но может ли статься, что за те два месяца, которые они не виделись, Алексей умудрился добиться расположения какой-то придворной красавицы и нажить себе непримиримого врага? И это в Константинополе, где красавицы легко доступны и нравы куда свободнее, нежели здесь. При мысли, что он больше никогда не увидит брата, Симеон закусил губу и сжал кулаки. Какая дикая несправедливость! Он еще раз поглядел на севасту. По бледной щеке Никотеи катилась слеза. Турмарх отвел взгляд. «Бедная, ей столько довелось пережить!»
«Он прекрасно держится в седле, — думала Никотея, из-под ресниц глядя на всадника в блестящей пластинчатой броне, покрытой синим плащом. — И по всему видать, храбрый воин. Конечно, сейчас он ужасно огорчен смертью брата, но это и к лучшему — немного сочувствия, немного слов о том, каким хорошим был бедный мальчик, и он в моих руках. Стоит ли рассказать ему об истинном убийце? Вероятно, нет. Ни к чему, чтобы даже косвенно смерть брата была связана в его голове с моим именем. Быть может, лучше открыть истину его отцу. Тогда в случае необходимости я буду иметь его среди верных союзников. Конечно, если рассказать историю гибели юного Алексея надлежащим образом. Сейчас, когда этот глупец, Михаил Аргир, на дне морском, ничего не мешает представить дело так, будто император, опасаясь усиления Гаврасов, решил подослать архонту убийцу. Провидению было угодно оградить правого от гибели, а ей выпало открыть мудрому правителю Херсонеса коварный замысел василевса. Надо еще продумать, что могло заставить дядю Иоанна пойти на столь решительный шаг, но в целом мысль удачная. Когда я стану править русами, такой союзник будет мне очень полезен». Она утерла слезу краем вышитого плата и потупила глаза, чтобы никто не видел злорадного огонька, мелькнувшего в них.
— Да ладно, отбрешемся как-нибудь. В конце концов действительно форс-мажор. Налет айсберга на «Титаник» и светопреставление! — рассуждал Лис на канале связи. Ни его, ни мессира рыцаря не радовала езда вторым номером на чужих конях, но, увы, идея бежать за колонной грела их еще меньше. — Шо и говорить, пока доспех спишут, трижды пожалеешь, шо выплыл. Но с другой стороны, прикинь, какая будет сенсация у здешних археологов, если они когда-нибудь его откопают! Это будет настоящая революция в науке. Я живо вижу заголовки газет: «Секретное оружие тамплиеров — уже в XII веке, едва возникнув, орден владел технологиями, позволяющими изготавливать доспехи, способные выдерживать автоматную очередь в упор!» Это еще шо — они тут все дно вскопают в поисках утерянного неизвестым крестоносцем пулемета! А если в этом мире тоже родится академик Фома Носовский, он здесь воздвигнет храм и будет рассказывать, шо Севастополь — это не только Херсонес, но еще и Иерусалим, а заодно и Мекка. А его затонувшая часть — как раз и есть та самая Атлантида, не путать с Антарктидой, рассадник высоких технологий и низменных страстей… по поводу собственного наличия.
— Лис, ты уверен, что я успеваю следить за твоей мыслью? — раздраженно отозвался Вальдар.
— О! Юпитер, ты сердишься? Значит, пришел в себя. Не, капитан, все фигня, кроме пчел, а если вдуматься, и пчелы — такая маленькая жужжащая фигня. Я бы на твоем месте подумал о другом. В таком непрезентабельном виде мы не можем войти в историю, нас там неправильно поймут. Надо срочно где-то раздобыть солидов на более солидный вид, потому шо ты можешь, конечно, рассказать тут всем, шо дал обет смиренного нищенства, но, боюсь, здесь твой подвиг не оценят. Как я слышал, в этих местах на такие фишки не подают.
— Там нынче в ходу не солиды, а иперперы.[31]
— Ну и пер-пер с ними, в смысле, с нами!
— Надеюсь, архонт не оставит без помощи людей, потерпевших крушение.
— Ага, ты уточни, был ли застрахован корабль и где тут ближайшая контора Ллойда. Капитан, ты перегрелся или перекупался — или все вместе. В общем, если у тебя нет продуктивной идеи на тему, где взять денег, мне придется самому шо-нибудь придумать. Опять же людям платить надо…
— Каким еще людям?
— Ну этим, варягам. Я их у императора перекупил.
— То есть как перекупил? На какие деньги?
— Они этот вопрос тоже задали. Я им вкратце рассказал, шо в смысле богатств император рядом с тобой — мелкий босяк. Но теперь же ж надо раздобыть звонких баблонов, потому как несолидно, тьфу! Не иперперно тебе появляться пред киевским Великим князем сам-друг, с мечом и в кальсонах.
— Ох, чувствую, втянешь ты нас в очередную историю.
— Да ну, не грузись. Судя по раскопкам, великий Херсонес в нашем мире просуществовал еще некоторое время после этого знаменательного дня. Надеюсь, и в тутошнем мире он переживет наше с тобой нашествие. А денег здесь скопилось чересчур много. Надо ускорять их оборот, иначе экономический кризис грянет, как последний аккорд на похоронах цивилизации.
Анджело Майорано украдкой выглядывал из-за спины широкоплечего клибанофора, не спуская глаз с рыцаря в мокрой рубахе. «Неужели это и вправду д’Отвилль? Конечно, он назвался французом, но чем черт не шутит! В конце концов Отвилли тоже из Нормандии. Сын Драго вполне мог вырасти в замке матери, подальше от занятых войною дядьев. Хотя итальянский его безупречен и… трусом этого рыцаря тоже никак не назовешь. — Майорано еще раз смерил взглядом фигуру недавнего боевого товарища, вспоминая абордажную схватку на фелуке. — По фигуре вполне может быть Отвиллем. Такой же широкоплечий и коренастый, как все сыновья Танкреда.
Да, если он Отвилль, ситуация получается забавная. Можно сказать, Господь уберег от встречи с его земляками. Король Роже собрал всех родственников в единый кулак и крайне раздражается, если кто-то пытается уколоть один из многочисленных „пальцев“ этого кулака. Тут уж было бы не до шуток. Но если Аллах и впрямь спас меня от такой роковой ошибки, то передо мной две возможности. Первая — спасти Вальдарио д’Отвилля и тем самым заручиться его поддержкой, а через него — и самого короля Роже. Или же продать его херсонитам, что тоже может быть довольно прибыльно. Насколько я мог заметить, мои приятели-сициллийцы здешним крепко досаждают, не зря же они выслали на охоту такой крупный отряд. Заполучить в свои руки родственника сицилийского короля для них — большая удача. А стало быть, и запросить с архонта можно немало. — Анджело Майорано отвел глаза. — Лучше всего, конечно, сначала продать графа Квинталамонте, а затем спасти его. „Шершень“ наверняка уже на месте, и при известной ловкости это будет несложно. Вот только одна беда — если для спасения мессира рыцаря придется возвращаться, то весь мой план относительно императорского посольства летит в тартарары. Конечно, благоволение Роже II может быть куда более полезно, чем звонкая благодарность дожа Венеции, но это если быть полностью уверенным, что тощий верзила с кривым носом сказал правду. Я должен немедленно это выяснить».
— А вон и Херсонес! — Хозяин лошади, на которой ехал Майорано, вскинул руку, указывая туда, где на линии горизонта виднелась стоящая на холме цитадель и двойная линия стен, зубчатой чертой пересекавшая обращенную к степи горловину небольшого полуострова. — Мы у цели.
Глава 10
Если выпить из пузырька с надписью «яд», то рано или поздно почувствуешь легкое недомогание.
Бьорн Ингварсен, прозванный Хромая Смерть, уже без малого пятнадцать лет служил новгородскому князю Мстиславу Владимировичу. Из всех даров, которые король по имени Инге прислал в день бракосочетания со своей дочерью, этот медведеподобный воин был, пожалуй, ценнейшим. С младых ногтей он служил у ромейского императора в свите варангов, затем, после ранения, вернулся в родные фьорды и не без успеха попробовал себя в морских набегах. Одним словом, король свейский не мог выбрать лучшего воина, который возглавил бы стражу дочери. Бьорн Ингварсен был немногословен, смотрел на мир исподлобья, знал, пожалуй, все о войне на земле и на море, будь то трактаты византийских полководцев или же саги вдохновенных скальдов.
К тому же он был удачлив, и даже рана от копья, на всю оставшуюся жизнь запечатленная близ колена княжьего воеводы, свидетельствовала именно об удаче. Кому другому она бы стоила ноги. Бьорн же ограничился легкой хромотой, которая ничуть не мешала ему ни в пешем, ни в конном бою.
Год тому назад, когда Мстислав Владимирович овдовел, именно Бьорн Ингварсен отправился ко двору отца княгини, чтобы сообщить это прискорбное известие. И теперь, когда понадобилось склонить короля свеев к помощи бывшему зятю в его многотрудном начинании, лучшего посла и искать не нужно было. Теперь он воротился из-за моря, везя Мстиславу Владимировичу абсолютно ясный и абсолютно утвердительный ответ на его просьбу.
Король готов был помочь и кораблями, и воинами, и, буде нужно, золотом, конечно, в обмен на определенные уступки в захваченных землях. Но разве дело истинного воина торговаться о каких-то там купеческих выгодах и привилегиях? Какой смысл брать за деньги то, что можно взять мечом?
Нынче Бьорн глядел на мужественное лицо Мстислава Владимировича, глядел, как водится, исподлобья, и произносил голосом, не терпящим возражений:
— Король английский своего войска почти не имеет. Все его воины служат не за правду и не за добычу, а лишь за надел с землею и смердами. За тот надел каждый такой воитель, именуемый ритером,[32] обязан королю отслужить определенный срок. Кто — шесть недель, кто — двенадцать. Чем ближе к собственному наделу, тем дольше служба. От такого войска проку мало. Одно дело, когда враг перед тобою выстроился и ждет, когда же схватка начнется, а когда дружины на него и здесь, и здесь, и там, и сзади, и сбоку наступают, вот тут королевская армия слабину дает. Всякому охота при короле состоять, чтобы при случае наград и богатства храбростью добиться, а не невесть где, невесть под чьим началом бог знает с кем сражаться — честь не велика, а прибыль и того меньше.
— А что, храбры те ритеры? — внимательно слушая умудренного опытом воеводу, поинтересовался Мстислав Владимирович.
— Храбры, княже. Нашего корня. Но и саксы, которых они силою в ярмо загнали, тоже не трусы. Только дай — против захватчика поднимутся.
— Это славно. — Князь задумчиво кивнул. — Стало быть, король свеев подсказывает нам использовать хитрости половецкие — бить сразу во многих местах, от великой сечи хорониться?
— Именно так, мой князь. И то — не глупый совет. Он сам готов послать войско к крепости, именуемой Йорк, ибо эти места его люди хорошо знают и могут обойтись безо всяких проводников.
— Понятно, — неспешно проговорил Мономашич, догадываясь, чем объясняется рвение короля по отношению к этой крепости, а не к иной какой.
— Вот здесь, — Бьорн протянул князю свернутый пергамент, — условия договора, королем свейским предлагаемые. Если будет на то княжья воля, по одному слову твоему он готов прислать хоть две сотни кораблей, да еще полстолько сам к берегам английским отправить.
— Что ж, дельно. — Сын Владимира Мономаха принял из рук воеводы свиток с красной восковой печатью. — Ознакомлюсь без задержки. А ты покуда вели снарядить гонца, может статься, в обратный путь незамедлительно пускаться надо будет.
* * *
Взопревший от усердия палач с натугой повернул деревянный ворот, и металлические штыри, к которым были привязаны руки и ноги барона Сокса, разошлись еще на четверть дюйма, доставляя несчастной жертве дикую боль. Пленник заскрипел зубами, но не издал ни звука.
— Молчит. — Пыточных дел мастер развел руками.
— Негодяй, ты, что же, за глупца меня считаешь? — возмутился стоявший чуть поодаль Генрих Боклерк. — Или думаешь, я не слышу, что он молчит?
— Прикажете дальше тянуть? — опасливо глядя на буйного в гневе короля, спросил заплечных дел мастер.
Государь безмолвно приблизился, мрачно поглядел на изможденное лицо Сокса, прокушенную нижнюю губу, налитые кровью глаза и, покачав головой, протянул руку к палачу. Этого жеста было достаточно, чтобы тот бросился к ведерку, в котором напитывалась водой с уксусом спасительная губка. Вытащив ее из ведерка, король старательно протер лицо терзаемого и коротко скомандовал палачу:
— Ступай прочь!
Звероподобный мучитель резво бросился к двери пыточной камеры. Чуть замешкаешься выполнить приказ короля, и на дыбе придется висеть самому. Смерив взглядом улепетывающего палача, король устало опустился на деревянную раму, вдоль которой было растянуто тело барона, и заговорил почти увещевающе.
— Почему ты молчишь, Джон? Чего ты хочешь? Ну подумай сам, что дает тебе это глупое молчание? — Он сделал паузу, вероятно, ожидая хоть какого-нибудь ответа. Однако несчастный продолжал безмолвствовать. — Ну хочешь, я отпущу тебя? Верну тебе замок, дам золота, ты будешь жить в достатке тихо и спокойно, не зная ни в чем нужды. Ни один сосед, будь то нормандский барон или же аббат, не посмеет даже глянуть в твою сторону. Но вот это твое проклятие… — Он сделал паузу и вновь обтер губкой лицо Сокса. Тот прикрыл глаза, и со стороны какой-то миг казалось, что барон впал в забытье. Но в следующую минуту его зрачки вновь блеснули холодной ненавистью.
— Мой сын погиб. Ты знал об этом?
Сокс опустил ресницы, давая понять, что ему известно о несчастье, постигшем монарха.
— Вижу, знал. И что же, смерть Вильгельма доставляет тебе удовольствие?
Сокс молчал.
— Нет, ты не молчи, говори! — В голосе короля слышался прежний яростный напор. — Говори, смерть Вильгельма доставила тебе удовольствие? Ты был рад, что он утонул? — уже прокричал Генрих Боклерк, но тут же осекся. С тем же успехом можно было ругать и поливать хулой ну, скажем, кладбищенскую плиту. — Сними проклятие, Сокс, или скажи, что ты просто все выдумал, что смерть моего сына — нелепая случайность. Я прошу тебя. Ну что тебе заботы в том, что мой отец завоевал вашу землю? Ведь твой отец тоже не стал обнажать меч за юного Эдгара Этелинга и увел свой отряд в Нортумберленд, не правда ли?
И вновь молчание было ему ответом.
— За это мой отец жаловал твоего отца, и ты вырос бароном, а вовсе не рабом. Ты же сам намедни говорил, что ты — барон Джон Сокс, а не какой-нибудь Джон из Сокса. Отчего же теперь ты пытаешься смыть грязь одного греха, совершая другой? Разве я лично в чем-то виновен перед тобой? Ты пошел войной на меня. Я не разорял твои земли, не угонял твой скот, не покушался на честь жены или дочери твоей. Чем же тебе, честный малый Джон, я так не угодил? Разве не я смягчил законы в этой стране, разве не я дал ей порядок, о котором в прежние годы вы не могли и мечтать? Что же до остального, то кто только кого не захватывал. Когда-то и саксы пришли сюда чужестранными завоевателями. Не с ними ли дрался насмерть ваш легендарный король Артур? Все идет своим чередом, так, как должно идти. Отчего же ты, барон Сокс, мешаешь дать стране твоей покой и мир? Отчего своей изменой бросаешь тень на всех соотечественников твоего корня?
Барон Сокс глубоко вздохнул, и кадык на его небритой шее акульим плавником прокатился под натянутой кожей.
— Скажи, что проклятия нет и не было. Покайся, вернись под мою руку. Я даю слово короля, законного короля Британии, что никогда не вспомню тебе этих дней, хоть бы ты прожил еще сто лет.
— Мои дни сочтены, мне нет нужды в твоей милости, — едва шевеля искусанными губами, проговорил Джон Сокс. — Но ты бы и не смог исполнить данное слово. Змеи ползут к дому твоему. Где бы ни преклонил ты главу свою, глаза их следят за тобой. Род твой обречен. И нет спасения ни ему, ни тебе. А теперь, где твои кони, Генрих Боклерк?
* * *
Вальдар Камдил сидел на каменной скамье полуразрушенного херсонесского театрона и размышлял о превратностях судьбы. Запущенный вид древних подмостков наводил на грустные мысли. Когда-то здесь располагалась крепостная стена, потом город разрастался, и ее снесли, чтобы построить новую дальше, а на месте античной куртины зазвучали величественные поэмы Гомера и острые сатиры Аристофана. Но и этому пришел конец. И уже в IV веке нашей эры едва-едва обретшее силы христианство гневно осудило творившиеся здесь «бесовские игрища» и в назидание театралам обуянная священным рвением паства воздвигла храм прямо внутри широкого полукруга охваченной трибунами арены. Камдил помнил те времена, когда не стало и храма. Так же, как эти скамьи и найденные поблизости захоронения и остатки кузни, храм стал лишь объектом пристального изучения потомков, а порою вовсе даже и не потомков тех, кто сновал нынче по оживленным улицам этого крупного портового города.
Чувство некоего ложного всезнания задавало размышлениям мессира рыцаря тон возвышенно-печальный, так что он едва отвлекся, услышав поблизости шаги напарника.
— Так, капитан, все зашибись, одно плохо.
— Что еще? — вскинул брови рыцарь.
— В этом городе нет ни одного приличного ресторана, шоб вечером мы могли достойно отпраздновать законный результат нашего маленького трудового подвига.
— Так. — Вальдар сплел пальцы. — А подробнее?
— Не, мне кажется, ты меня в чем-то подозреваешь. Я шо, похож на человека, который способен кого-то безвозмездно обмануть? Вглядись в мой гордый профиль! Ты в силах представить его еще и в фас, и отпечатки пальцев снизу?
— Лис, а если без всех этих красивостей?
— Блин, какой ты скучный! Сидишь тут почти неглиже, и нет шоб, пользуясь случаем, играть мышцой и курортные романы заводить, еще мне нотации читаешь. — Бойкий менестрель упер руки в боки. — Все предельно честно. Небольшая операция по обналичке. Если хочешь, по возвращении в Институт я могу даже записать ее в свою налоговую декларацию, если, конечно, какое-нибудь особое небесное знамение заставит меня ее заполнить… Ладно, как говорил один мой знакомый следователь, «подальше от дела, поближе к прибыли». Мне от тебя понадобится небольшая помощь.
— Не вопрос, — пожал плечами мессир рыцарь. — Но ты же помнишь, я не стану делать ничего такого…
— Не-не-не, такого не надо, сделаем нечто этакое. Я принес тебе… — Лис замешкался, демонстративно впадая в задумчивость. — Даже не знаю, как сказать, финансовую независимость, удачу или просто перо с чернильницей и кусок пергамента. Ладно, не суть важно. Пусть на данный момент это будет только перо, только чернильница и вот этот самый пергамент.
Камдил принял из рук друга невесть где раздобытые «канцелярские принадлежности».
— И… что?
— Я хочу проверить, насколько свежи у тебя воспоминания о сегодняшнем купании. Мог бы ты, выпускник Итона и, не побоюсь этого слова, земляк Гейнсборо, нарисовать изящный пейзаж с тем самым мысом и теми самыми подводными скалами, на которых разбился дромон? Желательно в стилистике Раннего Средневековья, боюсь, до постмодернизма здешние аборигены еще недоросли.
— Могу, но зачем?
— Господи, сэр рыцарь, чего-то ты сегодня с устатку окончательно ничего не вдупляешь! Именно его я обналичивать и буду. Так сказать, шедевр кисти правой руки одного из первых тамплиеров… Эх, не в те времена промышляю! После Дэна Брауна мы б твои путевые зарисовки на такой золотой дождь обменяли, что на любую из его луж можно было до конца дней жить припеваючи! Ладно, мессир, создайте шедевр, только, пожалуйста, по-быстренькому, а то будущий потерпевший, в смысле, клиент, как раз помолиться зашел, и я не знаю, надолго ли хватит его благочестия…
Работа над первым письменным, вернее, изобразительным свидетельством деятельности Ордена тамплиеров приближалась к концу, когда на канале связи прорезался хорошо знакомый голос смиренного монаха-василианина.
— Дорогой племянничек, скажите, будьте любезны, где вас изволит носить?
— Мы это, в цирке, — вмешался в разговор Лис.
— В каком еще цирке?
— Ну, так понятно в каком — в античном!
Стационарный агент Института на мгновение впал в задумчивость.
— А что вы там делаете?
— Ну, я бы сказал, шо ждем представления, но это была бы неправда.
— А что правда?
— Да не, лорд Джордж, никакого криминала. Вальдар тут делает зарисовки, а я его сопровождаю, ну, типа шоб местные не приставали.
— Рисует?
— Тю! А вы шо, не знали? Как по уровню средних веков, он еще здоровски рисует. Если тут где-нибудь поблизости есть институт дизайна, то он может туда преподом устроиться, все какой-то доход, потому шо я выяснял — клоуны в этом цирке не нужны…
— Господи, когда ж ты устанешь нести околесицу?
— Я несу околесицу?! Вас, лордов, не понять! Я, между прочим, говорю о честных способах добычи средств к существованию из местного населения, а вам все не горазд. Вы ж меня буквально толкаете на скользкий и в то же время тернистый путь!
— Какой еще путь? — возмутился Баренс.
— Ну, раз тернистый — значит к звездам, а раз скользкий — значит лед. Шоу «Звезды на льду» смотрели?
— О Господи! — взмолился монах, несколько позабывший за суетой дел земных об Отце небесном. — Сделай милость, немного помолчи и послушай.
— Ну-у, «немного» — понятие растяжимое…
— Вот и растяни его как можно дольше! — отрезал Баренс и продолжил четко и неторопливо: — Архонт Григорий Гаврас принял меня и Никотею или, вернее, Никотею и меня. Рекомендательные письма были в кожаном набрюшнике, заклеенном рыбьим клеем, и потому, слава богу, не пострадали. Конечно, архонт в шоке от известия о смерти младшего сына, и его легко понять. Но он обещал помочь нам добраться до Киева.
— Вам или нам тоже? — вмешался Лис.
— Я не стал акцентировать внимание правителя на подобных мелочах. Архонт выразил готовность помочь жертвам кораблекрушения.
— Знаю я такую помощь, — недовольно пробурчал Сергей. — В течение полугода не допросишься, а потом еще год не получишь. Спасибо его бойцам, вон, уже помогли. — Лис кивнул на рыцаря, делающего последние штрихи на довольно убогой зарисовке берега с выдающимся далеко в море мысом, торчащими из-под воды каменными надолбами и опрокинувшимся кораблем с сиротливо выглядывающей из-под воды мачтой. — Вы только поглядите на этот солдатский секонд-хенд! Буквально гуманитарная помощь НАТО беженцам из Святой земли!
Выданные сердобольными клибанофорами полинялая туника и ветхие штаны несколько скрасили малопристойный вид доблестного рыцаря, и все же придали его облику характер отнюдь не героический.
— Я думаю, ты преувеличиваешь. Наверняка архонт, конечно, без особой охоты, но все же оплатит расходы императорского посольства, в том числе, конечно же, и представительские нужды.
— Это он так сказал?
— Он сейчас разговаривает с Никотеей, о чем точно, я, конечно, знать не могу, но судя по всему, и об этом тоже.
— Ну, вам, ясен пень, виднее, но мне как-то на свои гулять сподручней. Эх, узнать бы еще, о чем эта девица-красавица с тутошним головой беседует!..
— Догадаться нетрудно. Но к чему?
— Ну не просто ж так город Херсонес, шо в переводе с греческого означает «фиг заснешь», переименовали в «город севасты»!
— Это произошло много позже, — раздраженно начал Баренс.
— Лорд Джордж, я старый пугачевец, и не надо мне втирать благовония между ушей! Я в курсе, шо тут все Екатерина намутила, но она ж наверняка была секретный тамплиер и мутила с названиями городов, шоб хто ни попадя не отрыл тут невзначай какую-нибудь чашу Грааля. Ну или тарелу из того же сервиза… О! Простите, лорд Джордж, тут у меня дельце образовалось. Капитан, ты дорисовал? А то вон мой финансовый донор уже отзаботился о душе, сейчас будет заботиться о благах земных. — Лис осторожно взял в руки шедевр неизвестного в этой феме автора. — Замечательно. Буквально Пикассо — чернильный период!
* * *
Никотея терпеть не могла вытканные золотом жесткие платья из тяжелой парчи, делавшие ее слегка похожей на резную деревянную фигурку шахматного ферзя. Но положение обязывало, и она носила их с горделивым величием, как и положено высокородной севасте.
— Дядя, это было так ужасно! — распахнув ясные, как горные озера глаза, проникновенно шептала она, прильнув к руке сцепившего зубы родственника. — Должно быть, небеса отвернулись от нас.
— Ты права, — едва сдерживая стон, выдавил Григорий Гаврас. — Мой золотой мальчик! За что, за что они убили его?
— Я не могу судить об этом наверняка, мой дорогой дядя, но… — Она замялась, потупив взор.
— Ну говори же! Отчего ты замолчала?
— Мои слова могут быть неправильно истолкованы вами, я не решаюсь.
— Говори! Клянусь, что бы ты ни сказала, это останется между нами.
— Со мною плыл один воин, его звали Михаил Аргир. Он был влюблен в меня и потому иногда позволял себе сказать то, что в ином случае, возможно, счел бы опрометчивым.
— Михаил Аргир, — задумчиво повторил архонт. — Я знал его. Он был здесь пять лет назад. Тогда он звался Михаил Дука. Мы вместе сражались с печенегами.
— Он говорил мне об этом, — не замедлила с ответом Никотея, внутренне коря себя за то, что не уточнила вовремя боевой путь поклонника. — Но еще он утверждал, что очень скоро станет архонтом Херсонеса, владыкою Феодоро и всех земель, включая Росию и Малую Аланию.
— Что я слышу? — Архонт сурово нахмурил брови.
— Последний год Михаил Аргир был начальником дворцовой стражи, и император весьма отличал его среди других военных слуг. Все это время он умолял меня о благосклонности, а незадолго перед отъездом сказал, что очень скоро будет столь богат и знатен, что дядя Иоанн сам с радостью отдаст меня ему в жены.
— Вот как?
— О да. При этом Аргир утверждал, что с каждым годом дядя Иоанн становится все подозрительнее. Некогда он сам захватил престол силой оружия и теперь всерьез опасается всякого, кто может сделать то же самое.
— Стало быть, император считает, что мы, Гаврасы, набрали чересчур много силы. — Руки архонта сжались в кулаки. — Стало быть, годы верной службы, годы войн с половцами и печенегами не значат ничего.
— А также с персами, — напомнила Никотея. — Михаил Аргир намекал, что Трапезунт тоже будет принадлежать ему.
— Это неслыханно! — Григорий Гаврас ударил кулаком по золоченому подлокотнику. — Какая невиданная подлость!
Никотея замолчала, испуганно глядя на взбешенного родственника.
— Ну что же ты, — правитель бросил на нее гневный взор, — говори дальше!
— Я опасаюсь.
— Я же дал слово. Ну, хочешь, я поклянусь кровью святого предка моего, Федора Стратилата, заключенной в этом кресте? — Он вытащил из-под шелковой туники усыпанный яхонтами нательный крест.
Севаста молчала, глядя расширенными от страха глазами на взбешенного родича.
— Я клянусь тебе, клянусь! Говори, я требую! — продолжал тот.
— Я лишь предполагаю, — неуверенно выдавила красавица, — но быть может, сам император повелел убить юного Алексея, дабы тем самым вызвать мятеж и возмущение меж Гаврасов, чтобы, пользуясь внезапностью, сокрушить и вас, и владыку Трапезунта, как изменников. Когда Михаил Аргир после той ужасной ночи, в которую погиб Алексей, сказал, что очень скоро станет несметно богат и приберет к рукам земли Херсонесской фемы…
— Он сказал это?
— Я встретила его выходящим из тронного зала после разговора с императором. Он сиял, точно новенький солид.
— Подлость, подлость, подлость! — Архонт обхватил голову руками. — Господь моя защита! Какое подлое коварство! Бедный Алексей! Подлость! Я не оставлю этого, клянусь святой кровью Федора Стратилата!
— Я устремилась сюда, чтобы предупредить вас, мой дорогой дядя.
— Спасибо, милая девочка! Никто и ничто не сможет заменить мне Алексея, но отныне в сердце моем ты будешь зваться родной дочерью.
— О! — Никотея прильнула губами к руке архонта.
— Я этого так не оставлю, — вновь процедил правитель Херсонесской фемы, еле удерживая бурлившую в нем ярость. — Смерть Алексея будет отомщена или же я сложу голову, совершая это отмщение.
— Быть может, следует привлечь русов? Они сильны и многочисленны.
— Хорошо бы. Но как?
— Я тут размышляла, пока мы плыли из Константинополя, и хотела открыть вам свои мысли, хотя, быть может, они покажутся наивными такому умудренному опытом правителю, как мой храбрый дядя.
— Отец. Зови меня «отец». Я весь превратился в слух, дорогая.
* * *
Герцог Конрад Швабский беспорядочно метался по залу, будто уворачиваясь от десятков стрел, грозящих причинить нестерпимую боль.
— Гринрой, она не хочет быть императрицей!
— И это беспокоит моего принца? — следя взглядом за перемещениями одного из знатнейших и могущественнейших вельмож империи и продолжая уплетать сдобренную шафраном пулярку, ответил человек, к которому обращался Конрад Гогенштауфен. При дворе этот малый носил не бог весть какое высокое звание. Он числился одним из оруженосцев герцога и, хотя уже лет десять как мог претендовать на рыцарские шпоры, пальцем о палец не ударил, чтобы добиться их. Зато он всегда оказывался рядом с кубком вина в руках, когда герцог после турнира возвращался к шатру, чтобы восстановить силы, всегда находил удобное место для постоя и привлекательную девицу для согрева постели.
— Беспокоит — это не то слово. — Герцог резко остановился и упер взгляд в оруженосца, нагло восседающего перед ним с полуобгрызанной ножкой пулярки. — Как ты можешь жевать, когда я с тобой разговариваю?!
— Зубами, — не сморгнув, ответил Гринрой, — честно говоря, я не представляю других способов. — Он неспешно облизал желтые от соуса пальцы и потянулся за наполненным кубком.
— Нет, каков наглец!
— Надеюсь, первейший в ваших владениях. Мой государь должен иметь только самое лучшее. Кстати, мой принц, ни в пулярке, ни в соусе, ни в этом рейнском вине, как вы сами изволите видеть, яда нет. Быть может, составите мне компанию?
— Я не могу есть в такое время!
— Отчего же? Еще вполне светло, и день, вроде, не постный.
— Не делай вид, что ты меня не понимаешь!
— Ну, вас понять мудрено, коли вы сами не понимаете, что происходит.
— Что же, по-твоему, происходит?
— Все очень просто. Вы отчего-то решили, мой принц, что если на женскую головку напялить полпуда драгоценностей, то вышеупомянутая дама будет осчастливлена до конца дней. То есть да, с таким грузом конец дней может наступить быстро… Но, как по мне, вы говорили с ней совсем не о том.
— А о чем же?
Йоган Гринрой всплеснул руками, не забыв предварительно откусить еще кусок ножки.
— Мой принц, о том, что днем и ночью лишь она одна живет в вашем сердце, что ее глаза заменяют вам небесный свет, что, когда она хмурится, даже в самую ясную погоду на вас надвигаются черные тучи… Неужто это неясно?
— Так бы ты мог разговаривать с какой-нибудь пастушкой.
— Честно говоря, не вижу особой разницы. Под платьями у них одно и то же, а платья на них те, которые мы же им и покупаем.
— Что же мне теперь делать? — внезапно теряя запал, с тоской спросил герцог.
— Ну, если в изящной словесности вы, прямо скажем, сваляли дурака, то, видимо, следует показать, что вы — настоящий рыцарь.
— Да, ты прав. Я устрою турнир в ее честь и одержу победу.
— Скорее всего это будет восхитительно, — делая несколько больших глотков, проговорил оруженосец. — Можете также отправиться в Святую землю — это еще больше приблизит вас к предмету обожания.
— Не богохульствуй!
— Да упаси меня Бог! Я лишь толкую о том, что, покуда съедутся рыцари, покуда вы сокрушите их всех, наша добрая императрица уже будет рыдать, вспоминая вас, где-то в Лондоне, или уж как там называется их столица.
— Да, пожалуй, ты прав. Ну так что, что же мне делать?
— Ах, мой принц, что вам делать? — Гринрой поставил кубок и вновь облизал пальцы. — Я бы на вашем месте попробовал пулярку, как я ее пробую на своем…
— Да что ты все о еде?
— Да, кстати, о еде. Рассказывают, что почтеннейший батюшка императора Карла Великого в этих самых местах совершил преотменный рыцарский подвиг. Тут прежде, говорят, обитало чудовище с львиной мордой и длинным отравленным хвостом. Это порождение адской бездны постоянно требовало себе девиц, насколько я могу догадаться, с целью их поедания. И вот этот самый батюшка отыскал логово этого, ну, вы понимаете кого, и, обнажив свой меч, немедленно доказал ему, что он — не девица.
— Кто?!
— Оба. Но победил все же папенька Карла Великого. Правда, вероятно, ему тоже досталось, ибо, как сказывают, отделив хвост от головы, он со злости зашвырнул его в реку. С тех пор в ней такая тухлая вода.
— Ну и к чему ты мне это рассказал?
— К подвигам, к чудовищам, к девицам… Да к хорошему аппетиту, черт возьми!
— Прекрати чер… Ты что же, хочешь сказать, что мне следует спасти девицу от чудовища?
— Я хочу сказать, что, если вы сейчас не отведаете пулярку, вам останется только слушать мои рассказы о том, насколько она была вкусной.
* * *
Он лежал на песке, вцепившись намертво руками в какую-то снасть, все не решаясь отпустить ее и не веря в спасение. Когда во время крушения дромона он вдруг увидел падающую сверху рею, то понял, что его последний миг настал, и все же выставил руки, надеясь уберечься от страшного удара. Что было дальше, он помнил смутно — волны, волны, волны. Он то и дело задирал голову, чтобы оказаться выше мутной зеленой жижи и вдохнуть необычайно сладкого в этот миг воздуха. Но волны не кончались и не кончались, а силы, как он вдруг с ужасом осознал, были на исходе. В какой-то миг он потерял сознание и соскользнул с мокрого бревна, только и успев намертво вцепиться в порванную снасть. Холодная вода привела его в чувство, но сил вновь забраться на спасительный обломок уже не было. И все же провидение было на его стороне. В очередной раз теряя сознание, он почувствовал, что вода едва закрывает плечи, а затем в бурунах прибоя показался берег. Теперь он лежал, не в силах надышаться и все еще не веря в чудесное спасение.
— О, погляди, — услышал он где-то неподалеку, — еще одного выкинуло.
— Точно, — вторил ему другой голос, — глянь-ка, экий доспех дорогущий! Видать, кто-то из знатных.
— Вот же повезло!
— Проверить надо, может, и кошель при нем имеется.
— Да тут один доспех чего стоит!
Он открыл глаза и сквозь муть угасающего сознания прохрипел:
— Я — Михаил Аргир.
Глава 11
Тот, кто желает получать завтрак в постель, пусть спит на кухне.
Смиренный монах-василианин, потупив очи, брел по аллее дворцового сада, шепча на ходу слова молитвы, а заодно обдумывая полученную с базы информацию. Итак, Владимир Мономах замыслил дело прежде небывалое. Поход новгородского князя Мстислава Владимировича в Британию, несомненно, затея более чем рискованная, хотя, надо сказать, момент выбран очень удачно. Генрих Боклерк только что подавил очередной мятеж, стало быть, вновь собрать войско ему будет непросто. Смерть наследника лишает его тыла, да и овдовевшая Матильда — совсем не то же самое, что полновластная императрица.
Плюс к тому король Франции, который с радостью поддержит любого, будь то сарацины или, скажем, шотландцы, лишь бы они попытались свернуть голову нормандскому выскочке. Теперь еще, как сообщает база, шведский король желает сказать веское слово на ухо английскому собрату, а еще лучше, его отрубленной голове.
Да, похоже, у Генриха в ближайшее время возникнут немалые трудности. Но вот что интересно. Столь подробное знание европейских политических реалий и точный анализ ситуации — это личное наитие самого Владимира Мономаха или же мудрый совет той самой загадочной головы Мимира? Второе вероятнее, и все же пока нет достоверных указаний на то, что у Великого князя Киевского искомый артефакт вообще имеется.
Приходится констатировать, что в принципе ничего сколь-нибудь невероятного не происходит. Да, в известных нам мирах Мстислав в Британию не ходил, но, что и говорить, его права на английский трон почти невозможно оспорить. Уж во всяком случае, они не меньше, чем у Боклерка.
Джордж Баренс шел, автоматически убирая тянущиеся поперек аллейки ветви с налитыми сладкими, на его вкус, пожалуй, даже приторными красными ягодами. Пока все его выводы — лишь домыслы. Аргументированные, и все же домыслы. А оперативникам необходима четкая, пусть даже невыполнимая задача. Как ее выполнить — это уже их забота. Но вот искомой четкости как раз и нет. И что делать с этаким аморфным предположением — увы, неясно. С Вальдаром попроще, его внутренняя дисциплина близка к совершенству. Он готов ждать хоть вечность, чтоб нанести короткий неотразимый удар.
Лис… Если бы он не был столь ловким удачливым оперативником, вряд ли даже заступничество двадцать третьего герцога Бедфордского смогло бы удержать руководство от увольнения этого балабола. Многие считают его абсолютно несносным, полагая, что каким-то непостижимым образом ему просто чертовски везет. Однако не так давно Зеф Рассел поместил в ежегодном вестнике Института пространную статью с таким названием: «Интуитивно-ассоциативный стиль поиска решений в условиях недостатка времени и информации. Из опыта оперативной работы», после чего акции Лиса резко пошли вверх.
И все же оставлять его без дела — крайне неосторожно. Одному Богу известно, что может взбрести в эту бесшабашную голову.
— Мир тебе, брат мой.
Георгий Варнац поднял глаза и наткнулся взглядом на священнослужителя, по виду еще более смиренного, нежели он сам.
— Имею ли я радость говорить с достойнейшим братом Георгием, прибывшим нынче из Константинополя?
— Да, это я, любезный брат.
— Я счастлив тебя приветствовать в Херсонесе, — негромко произнес незнакомец. — Меня зовут брат Гервасий. Я давно жду твоего прибытия.
— Давно? — Джордж Баренс вскинул брови.
— Третий день, если быть точным. — Не углубляясь в объяснения, собеседник достал из рукава свиток с красной восковой печатью. — Полагаю, тебе не надо объяснять, что это, почтенный брат.
Георгий Варнац принял из рук «первого встречного» пергамент, взглянул на текст, на печать, кивнул и вернул свиток благочестивому мниху.
— Катаскопои,[33] — тихо проговорил василианин. — Бюро Варваров.[34]
Брат Гервасий молча кивнул, взял собрата под локоток и пошел рядом с ним, любезно, хотя и несколько искоса поглядывая на заморского гостя.
— Ты направляешься в Киев в составе посольства, — словно уточняя, елейно проговорил он.
— Да, это так, — подтвердил Баренс.
— Ты, конечно же, знаешь, брат мой, что патриарх уделяет особое внимание нашим тамошним братьям во Христе.
— Прошу извинить мне пробелы в моих познаниях, достопочтенный брат Гервасий, но последний год я провел в уединении и, увы, не так хорошо сведущ в чаяниях патриарха…
— Ну что ж, тогда я кое-что должен открыть тебе. Думаю, пригодится. — Монах имперской тайной службы покрепче ухватил бывшего офицера тайной службы ее величества и начал внушать тихо, но доходчиво. — Как тебе, несомненно, ведомо, Киевская Русь — держава крещеная и, как предполагается, придерживается христианства кафолического, или византийского, толка. Во всяком случае, так считают в самом Киеве. Однако же здесь много неясностей.
Начать с того, что вовсе непонятно, где, когда и от кого принял крещение Великий князь Владимир, причисленный ныне к лику святых и наименованный равноапостольным. Есть три разных версии этого события. Совсем уж неясно, что произошло в Киеве и чем было на самом деле так называемое крещение в днепровских водах. Ибо, согласитесь, нелепость, когда князь, правитель, пусть даже и свято уверовавший, осуществляет таинство крещения над своими подданными, при этом силою копий проповедуя милосердие Божье.
— Да, но… вероятно, крестил не он, он лишь… гм… потрудился собрать воедино страждущих.
— О да, днепровские воды, несомненно, были полны искренне страждущих спасения, — усмехнулся брат Гервасий. — Верно, так оно и должно было статься. Но вот в чем беда. Нигде, ни у нас, в готской епархии, ни в Константинополе, не осталось ни единого упоминания о столь знаменательном и значительном, согласитесь, деянии. А ведь составить подробнейшие известия о нем — есть прямая обязанность любого священнослужителя всякого ранга, пребывавшего в тех землях и участвовавшего в таинстве крещения. И, стало быть, документы о том должны были бы храниться в патриархии, но их нет. — Монах развел худыми руками с длинными пальцами, неуловимо похожими на абордажные крючья. — Зато есть другие свидетельства, говорящие о том, что повсеместно русы продолжают поклоняться идолам, шепчутся, что даже сам нынешний Великий князь в том немало преуспел.
— Вот как?
— Увы, это правда, мой почтеннейший брат. Мы стараемся тщательнейшим образом следить за всем, что происходит в столице рутенов-русов. И пока, увы, приходится мириться с тем, что наши могучие соседи — христиане только по имени.
Сейчас над империей нависла угроза очередного вторжения русов, ибо, как известно нам вполне достоверно, Великий князь Владимир из рода Мономахов собирает войска, и на этот раз отнюдь не для похода на половцев. Нам следует приложить все силы, чтобы Русь осталась, вернее стала, воистину христианской державой и, конечно же, чтобы она была вернейшим союзником Константинополя. У нас, впрочем, имеются некие странные и, кажется, не слишком убедительные сведенья о том, что наши братья во Христе готовят вторжение не у нас, а совсем в другом месте.
— Где же?
Имперский разведчик в сутане поглядел на Баренса, выдерживая паузу, и проговорил негромко:
— В Бритии. Так это или нет, нынче сказать невозможно, одно ведомо достоверно: подобная мысль витает в голове Владимира Мономаха. Если впрямь, русы желают обрушить свою мощь на этот остров, в наших интересах содействовать их замыслу.
— Что же я для этого могу сделать, досточтимый брат?
— Вы рекомендованы мне как человек опытный и знающий. И конечно же, понимаете, что обязаны содействовать нам, — брат Гервасий сделал паузу, давая собеседнику понять, что он подразумевает под неопределенным выражением «нам», — в делах, касающихся блага империи.
— Да, мне это ведомо.
— Вот и прекрасно. Так вот, почтеннейший брат Георгий, по прибытии в Киев вам надлежит найти в Выдубечском монастыре старца Амвросия, он расскажет вам, что следует предпринимать далее. Покуда же скажу вам одно. Ничто так не укрепляет веру в той или иной стране, как наличие собственных глубоко почитаемых святых. И потому, если вдруг, паче чаяния, выяснится, что Великий князь Владимир и его сыновья и впрямь желают покуситься на священный константинопольский престол… — Он вновь сделал паузу и воздел очи к небу, затем вздохнул и продолжил: — Упаси Господь их от подобных мыслей! Хорошо бы, чтобы у Руси появились новые святые. Как это было в случае с блаженными мучениками Борисом и Глебом… Полагаю, досточтимый брат Георгий, вы понимаете, о чем я говорю.
* * *
Ромей, о котором рассказывал Лис, вышел из церкви неспешно, давая возможность окружающим почтительно расступиться, оценить златотканое одеяние и приветствовать столь важную персону. За ним чуть поодаль шел слуга с холеным буланым аргамаком, нервно раздувающим ноздри при всякой попытке натянуть поводья. Тучная фигура лисовского «клиента» не слишком вязалась с норовистым тонконогим жеребцом, которого вели за ним, и создавалось впечатление, что это лишь демонстрация высокого статуса родовитого горожанина. Увидев стремительно шествующего навстречу Лиса, он сделал слугам знак остановиться, и сам стал, подбоченясь, изучающе глядя на длинную фигуру приезжего.
— Ну шо, Бог с вами? — прямо с шага поинтересовался Лис, заговорщицки оглядываясь. — Мы будем говорить о деле тут или переместимся под сень струй?
Херсонит, явно не успевший понять суть вопроса, кивнул, но остался стоять на месте.
— Так что за дело-то? — поинтересовался он.
— Максимальный доход при минимальных вложениях, — наклоняясь к самому уху потенциального вкладчика, прошептал Сергей. — Но помните, это быстрые деньги, настолько быстрые, шо, пока мы тут с вами будем куртуазии разводить, они могут улетучиться в беспросветную даль.
При слове «деньги» одутловатое лицо вальяжного херсонита заметно оживилось.
— Куда?
— На депозит к Нептуну. Меньше вопросов, больше голых, буквально обнаженных фактов! Я все расскажу и шо-то дам попробовать.
— В каком смысле?
— В кривом. Есть бесхозная куча золота и драгоценностей в хорошей упаковке. Нужно, не нужно? Быстро говорим, не молчим, время пошло! Давай скорее, а то совсем уйдет!
Собеседник Лиса был человеком скорее неспешным, но требовательные интонации Сергея заставили его как-то вздернуться, точно коня — удар нагайкой.
— Где?
— В Уганде! Не торопись, сначала все уладим. А то сразу так — «где»!
— Да о чем речь-то?
— Речь о том, как реорганизовать рабоче-крестьянскую инспекцию. Но поскольку у вас она еще даже не организована, то ни о какой реорганизации речи быть не может. Так шо обреченно обойдемся без речей, о чем бы они не рекли. Потому что реки, как известно, впадают в море, а то, что в море впало — хрен выпадет. Вот об этом речь как раз и пойдет.
Взор херсонита начал затуманиваться от тщетной попытки понять слова Лиса. Обычно жертвами его витийства становились люди с более подвижной психикой, и поэтому сейчас «заезжий менестрель» включил свой пургомет на полную мощность.
— Идти, — пытаясь словить ускользающую нить повествования, повторил визави институтского оперативника и тут же получил новое объяснение.
— Идти, ехать — какая разница! С точки зрения теории всемирного тяготения человека к золоту — это крайне несущественная деталь. Лично я предпочитаю стоять на своем, вернее на своих. В общем, имеется сундук, который надо вытащить из воды и по-братски разделить.
— Может, лучше пополам? — моментально включился херсонит.
— Нет, голуба, по-братски. Сундук с драгоценностями — тебе, эх, так и быть, шо-то я сегодня какой-то болезненно щедрый, а мне — одну вещицу, которая лежит на самом дне сундука, завернутая в лоскут пурпурного шелка.
Глаза лисовского собеседника вспыхнули тем нездоровым блеском, который для Сергея был чем-то вроде зеленого огня на светофоре.
— Про то, шо здесь неподалеку корабль затонул, слышал?
— Слышал, — разочарованно вздохнул херсонит, — да только что толку — все, что на нем было, — собственность императора, а с ним лучше шутки не шутить.
— Вот как позовут тебя, голуба, к нему на рюмку фалернского, так и не шути, а сейчас внемли мне, ибо то, шо ты трешь мне тут о кодексе Юстиниана, так я больше уже забыл, чем ты за всю жизнь знал. Корабль и все, шо на нем, — собственность императора, тут шо да, то да. А то, шо вне корабля, — это имущество Нептуна, или, если тебе больше нравится, Посейдона.
— Он что же, вне корабля? — сбиваясь на шепот проговорил потенциальный вкладчик.
— Посейдон?
— Сундук.
— Ага. — Лис жестом фокусника достал из рукава свеженарисованную картинку с выдающимся далеко в море мысом, дужками волн и противонаправленными дужками чаек. — Вот здесь все зафиксировано.
— Я знаю это место! — просиял незадачливый охотник за сокровищами.
— Ну так и я теперь знаю, — хмыкнул Лис. — Я ж тебя не красотами природы зову полюбоваться. Где корабль лежит, ты и без меня найдешь. Можешь там попробовать понырять, а я посмотрю, как быстро здесь отыщутся охотники разрисовать твой филей в красную полоску. А вот здесь, — потряс Лис вновь крымским пейзажем, — все зафиксировано, широта, долгота, магнитное склонение, длина тени солнца в безлунную погоду, количество шагов от берега в метрической системе координат, ну и, понятное дело, глубина и водоизмещение в литрах. А поскольку ты ни фига не шурупаешь в коде да Винчи и в недовинченном коде тоже, то шансов добраться до искомого сундука без моих разъяснений, конечно, ноль целых, ноль десятых. — Сергей аккуратно свел большой и указательный пальцы, демонстрируя искомую цифру. — Если хочешь, я тебе даже отдам этот пергамент — ищи, действуй.
— Да что тебе нужно-то?
— Я не понял, у меня шо-то с дикцией? Мой дорогой абориген! Я хочу заключить взаимовыгодную сделку. Поскольку из-за внезапного утопления вышеуказанного корабля я, опять-таки внезапно, лишился целого состояния, а теперь, когда дромон очутился на дне, мое состояние еще и перешло в собственность императора, я хочу быстро поправить свои дела. Денег у меня почти нет, зато есть ценная информация, так шо не надо щуриться, в смысле крысятничать. Все по-братски. Тебе — сундук, мне — одна маленькая, но очень ценная для меня вещица. Согласитесь, уважаемый, это очень серьезный доход за те смешные деньги, которые понадобятся для экспедиции. Примерно сто золотых. Ну, с тем, шо я расскажу, нарисую, как организовать подъемные работы — сто пятьдесят. И сегодня же мы выступаем.
— Отчего ж так много?
— Много?! Прости, роднуля, я ошибся, я зря потратил время, возвращайся в церковь, проси Всевышнего послать тебе более удачный случай. Если такое вдруг стрясется, я оставлю адресок — черкни письмо.
— Но ведь сто пятьдесят золотых!
— Сундук с дарами Великому князю Киевскому, архонту Григорию, местным вождям плюс оборудование для подъема затонувших грузов, плюс конфиденциальная информация, плюс страховка на предмет внезапного банкротства, плюс НДС и отчисления в пенсионный фонд. Честно сказать, я чувствую себя обделенным. Сто семьдесят пять золотых.
Внутри херсонита что-то булькнуло.
— А… что за вещица? — Он попытался сменить тему разговора, однако увлеченная лисовским прожектом мысль никак не могла отвлечься от вожделенного сундука.
— Шо-то я не врублюсь. — Лис нахмурил брови. — Эт ты и впрямь такой глупый или меня за дурака считаешь? Будь скромнее! Ты получишь сундук, полный сокровищ, а я — одну маленькую вещицу. Шо, честное слово, за детское любопытство?
— Так ведь мало ли…
— Шо, тебе все мало? Денег у тебя мало, сундука, под завязку набитого золотом и драгоценностями, опять мало. Соображаловки мало, так это точно. Я пойду, не грусти, вспоминай меня. Я верю, шо в этом городе найдется хоть один разумный человек с деньгами, которого подобное дельце заинтересует.
— Нет, постой! — Собеседник ухватил Сергея за плечо.
Лис без труда вышел из захвата и помахал рукой, цитируя:
— «Была без радости любовь, разлука будет без печали!»
— Нет, я в деле!
— То есть цена в двести золотых тебя устраивает?
— Было ж сто семьдесят пять!
— А мои непролитые слезы? Мое убитое здоровье и пальцы, которые дергаются вот так вот. — Лис радостно продемонстрировал, как именно дергаются пальцы. — При одном упоминании о ведении дел в Херсонесе!
— Хорошо, пусть будет двести, но ты говоришь, что там за штуковина в пурпуре.
— Вот ты нудный, это что-то! Роднуля, может, тебя еще усыновить?
— Двести десять.
— И запасные крылья для ангела.
— Двести двадцать пять.
— И поцелуй в лобик на ночь. Уважаемый, о чем мы торгуемся? Я же сказал, святое не продается.
— Хорошо, назовите свою цену.
— О Господи! — Лис воздел глаза к небу, и если бы в этот самый момент Всевышний взирал на землю, то, вероятно, должен был бы констатировать, что более ехидного и глумливого взгляда ему видеть не приходилось. — Не, на шо я теряю время? Драгоценные мгновения жизни без толку рушатся в вечность!
— Хорошо. — Херсонит упер руки в боки. — Давай так. Я куплю у тебя сундук со всем тем, что там внутри, что бы там ни было.
— Тебе-то оно зачем? Это важно мне, понимаешь, мне.
— Глядишь, для чего и пригодится. — На губах вельможного торгаша появилась хищная ухмылка. — Да смотри, я в этих землях во все двери вхож, ежели со мной дела иметь не пожелаешь, никто тебе здесь не поможет.
— У-у, как мы заговорили! Ну тогда пропади он пропадом, тот сундук, те сокровища, вот тебе картинка — ищи. У меня она, — Лис ткнул себя пальцем в лоб, — вот здесь. А тебе — успехов. Гуд бай, как говорят в далекой, но от того не менее великой Британии.
— Нет, постой!
— Стою. Шо тебе это дает?
— Ты говоришь, что сундук может лежать на дне и далее, стало быть, ты все же готов отказаться от этой самой вещицы, завернутой в пурпур.
— Знаешь, как сказал во время нашей последней встречи король иерусалимский, когда ему пеняли, шо очередной поход будет стоить больших денег, «из всех голов, которые здесь имеются, важнейшая та, шо на моих плечах. Те, шо отчеканены на золоте, стоят куда меньше».
— Ладно, им, королям, виднее. Я дам тебе пятьсот, слышишь, пятьсот золотых, ты расскажешь мне, где находится сундук и как его достать, и будешь свободен, как южный ветер.
— Господи, как же ты меня утомил! Шоб я когда-нибудь еще раз… — Сергей вскинул руки в молящем жесте. — Ладно, твоя взяла. По рукам! Деньги при тебе?
— Ну, так.
— Предусмотрительный. Продешевил я, конечно, ну да ладно. С тобой спорить — шо себя за пятку кусать: далеко и невкусно. Да, чуть не забыл. Эту вещицу, когда достанешь, до полнолуния лучше не разворачивай, а то потом еще скажешь, шо я не предупреждал.
* * *
Анджело Майорано повертел в пальцах золотой бизант с монограммой Алексея I Комнина — «щедрый» дар эпарха[35] Херсонеса за информацию о присутствии в городе родственника сицилийского короля.
«Не то чтобы много, но все же доход, — подбрасывая монету в ладони, усмехнулся капитан „Шершня“. — Надеюсь, граф Квинталамонте будет менее скареден. Помнится, у нормандцев жадность не в чести. — Он поглядел, как из ворот цитадели один за другим скорым шагом выходят стражники. — Один, два, три, пять, десять. Похоже, херсонит все же проникся серьезностью момента. Что ж, покуда стража будет искать нормандца в казармах императорских клибанофоров, стоит, не теряя времени, отправиться в странноприимный дом святого Фотия, где мною лично для рыцаря и его свиты заказан обед».
Анджело Майорано нечасто доводилось бывать в Херсонесе, но этот маршрут он знал превосходно, ибо всякий раз, как торговые дела приводили его на северный берег Понта Эвксинского, он сам останавливался в этом странноприимном доме и всякий раз ходил с поклоном к эпарху и уж конечно возвращался на корабль. Последняя мысль вызвала у капитана невольную улыбку. Он всегда возвращался туда, куда хотел. Это уже стало доброй традицией.
Анджело Майорано не ошибся в своих расчетах. Мессир рыцарь и трое варангов его свиты сидели за обеденным столом, жадно поедая выставленные хозяином благоухающие пряностями блюда. Не хватало лишь долговязого менестреля, ну да и лихоманка с ним. Едва ответив на поклон хозяина, обрадованного приходом состоятельного клиента, Анджело отправился к столу и опустился на скамью рядом с Вальдаром Камдилом.
— Граф, у меня для вас плохие известия, — доставая из ножен кинжал и вонзая его в бок подрумяненного каплуна, тихо проговорил он.
— Что еще? — Рыцарь повернулся к нему, кажется, поперхнувшись от неожиданности и хлопая себя по груди ладонью.
— Я только что был у эпарха. Он спрашивал меня, правда ли, что в свите блистательной севасты Никотеи прибыл граф Квинталамонте, родич короля Роже II. Я был вынужден признать это. Ваш приятель кричал об этом на все побережье. Если это известно эпарху, стало быть, ему уже кто-то о том донес. За вами посланы стражники, десять человек, может, и больше. Вам надо срочно уходить, да что я говорю, не уходить, а исчезнуть из города. Здесь вам не сдобровать.
— Вы что-то хотите предложить или же это просто добрый совет? — не спуская с собеседника пристального взора, поинтересовался нормандский сицилиец.
— Я помню, как вы подсобили мне во время абордажа, и почитаю себя вашим должником. Но, видит Бог, я не люблю долго ходить в должниках. А просто добрые советы в таком незавидном положении я считаю глумлением. У меня есть здесь одно тихое место, я спрячу вас до ночи.
Ваши люди пусть отправляются на Сугдею, здесь неподалеку есть такая крепость, в ней — мои земляки, генуэзцы. Там я подберу их. Сейчас вы отсидитесь в надежном месте, ночью же я проведу вас на «Ангела». Благодарение небесам, он здесь. Мои парни впотьмах сбились с курса, но, как я и предполагал, все же смогли доползти до Херсонеса.
— Ваше предложение весьма любезно, но… оно совершенно не соответствует моим планам. К тому же, помогая мне в этом случае, вы сами очень рискуете.
— Те, кто рискнул однажды родиться на этот свет, обречены рисковать и дальше, — усмехнулся Анджело Майорано. — К тому же, по сути, я оказываю услугу не только вам, но и Константинополю. Вряд ли ваш дядя придет в восторг, узнав, что херсониты, пользуясь беспомощным положением родственника, захватили его в плен. Это еще один повод к войне. Впрочем, сомневаюсь, чтобы император отблагодарил меня за оказанную услугу. — Майорано широко улыбнулся. — Так что же, идем?
— Следует подождать Рейнара.
При этих словах двери обеденной залы распахнулись, и солнце блеснуло на копьях и стальных пластинах броней стражников.
— Вот они!
* * *
Во всей империи ромеев невозможно было бы отыскать человека, не слышавшего о роде Аргиров. Потому, когда береговые оборванцы услышали знакомое имя, у них перехватило дух. Пожалуй, только будь на месте спасенного воина сам император, они бы изумились больше. Не зная, радоваться или плакать, шепча молитву, перетащили они потерявшего сознание гиганта в убогую, крытую тростником саманную лачугу небольшого рыбацкого селения, откуда сами были родом.
С величайшим почетом водрузили они Михаила Аргира на застеленную сеном лежанку и спешно послали за колдуном, чтобы тот отогнал злых духов, которые всегда в великом множестве обитают на подводных скалах, чтобы, вселившись в тонущих моряков, обратить их в страшных морских змеев с человечьими головами. По всему видать, этот силач и от злых духов смог отбиться, но кто знает, кто знает… И уж лучше пусть ведун исполнит над ним обряд очищения, а заодно и глянет, не опасны ли полученные высокородным Аргиром раны.
Сам он лежал на свежем, пахнущем клевером сене, закрыв глаза, и понемногу приходил в себя. Михаил Аргир чувствовал, как силы капля за каплей возвращаются, наполняя литые мускулы, точно вино всю имеющуюся емкость кубка. Почтительные рыбаки, кланяясь, поднесли ему какую-то остро пахнущую рыбой похлебку, и он с трудом, через силу съел ее, не столько чтобы насытиться, сколько дабы согреться.
Глядя, как его спасители, вероятно, братья, с нескрываемым интересом смотрят на принесенного волнами гостя, он подумал было, что хорошо бы чем-то наградить их, но далее размышлять об этом не стал, ибо каждая ложка поедаемого варева требовала от него немалых усилий. К тому же где-то совсем недалеко, видно, досадуя на впившиеся в губы удила, заржал конь. У Аргира заколотилось сердце. Ни одна крестьянская лошадка не способна была издавать подобные звуки. Так ржать могло только чистопородное животное, может, андалузец, может, неаполитанец.
— Господь всеблагой! — перекрестился один из рыбаков. — Никак, опять фрязины[36] наехали.
— Рыбы им подавай! — недовольно прокряхтел другой. — Сами бы ловили.
Они поспешно выскочили из хижины, и вскоре через приоткрытую дверь Михаил Аргир услышал требовательную речь, обращенную к его спасителям. Один голос, жесткий и презрительный, говорил что-то по-итальянски, второй, коверкая слова, но довольно внятно переводил на греческий.
«Значит, их двое», — подытожил Аргир, не слишком задумываясь над тем, зачем ему нужны такие подсчеты. Но и задумайся он над этим, на долгие размышления у него не было времени. Дверь отворилась, и в убогую хижину вошел один из незваных гостей, высокий, поджарый, с копной черных кудрей. Аргир поглядел на него из-под опущенных ресниц, придавая себе максимально бессознательный вид.
— А это кто? — по-гречески поинтересовался вошедший, приближаясь к распластанному на лежанке телу.
— Не ведаем, — поклонился один из рыбаков. — Море вынесло.
— Ну-ка, — чернокудрый наклонился над Михаилом Аргиром, в тот же миг правая рука того пожарным багром опустилась на затылок фрязина, а левая, захватывая подбородок, рванула по дуге вверх. Раздался едва слышный хруст, и переводчик, вернее, теперь уже только его бренное тело, рухнуло на грудь знатного ромея. Вошедший вслед за фрязином хозяин так и остался стоять с открытым ртом, не зная, что и сказать, и лишь ошалело мигая.
— Ну, где ты там? — крикнул второй приезжий, видимо, старший.
Ответа не последовало. Ругаясь себе под нос, воин самолично полез в халабуду выяснять, что там стряслось. Аргир лежал неподвижно, закрыв глаза. Его противник столь же недвижимо располагался поперек него.
— Проклятие! — под нос себе выругался старший, осторожно приближаясь к лежащим. — Что это? — Он повернулся к стоящему у входа рыбаку. Тот молча развел руками.
Фрязин внимательно оглядел собрата. Ни следов борьбы, ни крови видно не было.
— Языком он, что ли, подавился? — бормоча это себе под нос, он схватил за плечо мертвого товарища и перевернул его, освобождая спрятанную под мертвым телом руку ромея. Еще мгновение, и удар кинжала, прежде красовавшегося на поясе чернокудрого фрязина, пробил его сонную артерию. Аргир распахнул глаза, вытащил кинжал из раны и обтер его о плащ одного из несчастных.
— Еще есть?
— Нет, — в ужасе глядя на содеянное, пробормотал один из рыбаков.
— Господи! — Второй, заскакивая в дом, всплеснул руками. — Что же теперь будет? Если фрязины узнают, что здесь убили их людей, они же все здесь сожгут! Да и нас самих…
— Ерунда! — отмахнулся Аргир, опуская ноги на землю, доставая мечи из ножен на перевязях валяющихся на полу трупов и тщательно разглядывая червячный узор на клинках. — Сбросьте их в воду, чтоб не смердели, да и дело с концом. И вот еще. Где кони? Я слышал коней.
Глава 12
Тот, кто ломает подковы, силен, но рискует остаться с некованой лошадью.
Генрих Боклерк сидел, обхватив голову руками. Сегодня она болела с утра, и король ужасно досадовал на это, как, впрочем, и всегда, когда случалось нечто неподвластное его воле.
— Читай, Фитц-Алан, читай! Чего ты замолчал? — раздраженно воскликнул он, морщась от противного ощущения стучащего в висок невидимого дятла.
— Быть может, мой лорд повременит с делами?
— Какая чушь! Если бы Господь тянул с сотворением мира, кто знает, может, и по сей день бы не управился.
— Но вы все же не Господь, — робко возразил Фитц-Алан.
— Уподобиться Всевышнему — долг каждого истинного христианина, — криво усмехнулся Боклерк. — Читай, не мучай меня своим постным видом. Я не для того держу тебя, чтобы любоваться на этакую гнусную физиономию.
Фитц-Алан пропустил ругательства монарха мимо ушей и со вздохом, печалуясь в душе, что его христианское милосердие осталось неоцененным, продолжил зачитывать список.
— …Мануил, сын короля греков, Иоанна Комнина. Он молод, хорош собой, несколько смугл, правда…
— Да, я знаю, — отмахнулся Генрих. — Невесть чей он сын, но можно не сомневаться: его отец, мнящий себя ни много ни мало наследником цезарей, не пожелает заключать с нами брачный союз. Этот чертов гордец отчего-то вдруг полагает, что мы ему не ровня. А мне и вовсе ни к чему улучшать породу тамошних государей. Мне нужен король здесь.
Фитц-Алан склонил голову.
— Увы, мой лорд, во всем христианском мире найдется не много королей и герцогов, желающих породниться с вами.
— Дьяволово копыто! М-м-м… — Генрих посильнее обхватил виски. — Ну что за бред? Много — не много, пожелают — не пожелают, и кто они, все эти герцоги, у которых зачастую нет и лишнего шиллинга? Короли, не знающие, где раздобыть войска для защиты собственного титула? Тьфу! Они не стоят и пенса за голову. И должны быть счастливы, когда я обращаюсь к ним.
— Король Франции Людовик прислал графа Элуа де Мондидье с предложением взять Матильду за принца Людовика с условием, что по вступлении на престол тот объединит на голове и французскую, и нашу короны.
— Опять эти бредни. Да если бы я вдруг согласился принять это предложение, держу пари, самый нерадивый школяр счел бы мои дни на пальцах одной руки, не прекращая ковыряться в носу! Этот гнусный толстяк, Луи, видимо, полагает, что я выжил из ума, или же он сам из него выжил. Есть ли кто-нибудь стоящий в твоем списке?
— Фульк Анжуйский, — несмело предложил Фитц-Алан.
— Сын графа Анжуйского? О Господи, что ж это происходит? Да ты совсем сбрендил! Ты еще младенцев мне сюда запиши!
— Все это так, граф молод годами, но он — один из тех союзников короля Франции, которые, воюя с нами, не слишком жалуют своего августейшего сюзерена. Если удастся переманить его на свою сторону, у короля Людовика… — Собеседник гневливого монарха чуть замешкался, подыскивая близкие его разумению выражения, подобающие притом его собственному духовному сану. — …Случатся изрядные желудочные колики.
Генрих Боклерк невольно улыбнулся.
— Это славно. Но проклятие, он же совсем еще мальчишка, а Матильда… — Король прикрыл глаза, вспоминая красавицу дочь. — …В самом соку. Ей не сосунок нужен. Ей самой детей рожать. Кстати, Фитц-Алан, где Матильда? Где, черт побери, моя дочь, эта, с позволения сказать, вдовствующая императрица?
— Она едет, мой государь. Сказывают, всю прошлую неделю в Геннегау и Фрисландии шли дожди. Дороги развезло. Вот…
— Я же послал людей! Пусть мостят дороги! Пусть хоть на руках ее несут, но быстрее, как можно быстрее и как нельзя — тоже! Проклятие! У Англии, увы, нет законного наследника, наверняка сыщутся ублюдки, желающие вонзить мне кинжал в спину. Отряд, посланный за Мод, конечно, силен, но все же по ту сторону пролива слишком много врагов.
— Мой государь, — со вздохом потупил глаза Фитц Алан, — увы, я вынужден доложить, что недругов много и по эту сторону пролива.
— Ну что еще? — недовольно зыркнул Генрих Боклерк.
— Стефан Блуаский, ваш племянник, во всеуслышание отказался признать Матильду вашей наследницей и будущей королевой Британии.
— Вот как? — Король отпустил виски и грохнул кулаками об стол. — Это еще почему? Как он посмел, гаденыш?
— Он говорит, что невместно рыцарям повиноваться женщине.
— Да ну, экий стервец! Можно подумать, если бы у королевы Боадицеи меж больших пальцев ног болталось то, что у нее не болталось, она бы громила римские легионы более отважно. Здесь, Фитц-Алан, в этих самых землях. Так и передай этому недоумочному фазану, которого по недосмотру родила моя сестра Аделаида.
— Но… мой государь, это еще не все.
— И этого достаточно, чтобы отправить неблагодарного щенка в подземелье! — рявкнул Боклерк. — Что он себе возомнил? Корону примеряет? Я велю нацепить ему на лоб обруч и затягивать до тех пор, пока дерьмо, которое ему заменяет мозги, не потечет у него из ушей и носа.
— Он говорит еще, — медленно и очень неохотно выдавил Фитц-Алан, — что Матильда — незаконнорожденная.
— Да он совсем ума лишился! Мерзкий ублюдок! Что же наболтал этот хорек?
— Я не осмелюсь повторить его речи, мой государь.
— Нет уж, Фитц-Алан, осмелься, это твой долг! — взревел Генрих Боклерк.
— Стефан утверждает, — скрепя сердце начал королевский советник, — прошу учесть, мой лорд, не я, а Стефан, что мать его кузины была монахиней и, стало быть, ваш брак был святотатством, ибо невеста Христова…
— Заткнись! Чертов выкормыш! — Генрих Боклерк подскочил к вернейшему из соратников и толкнул его с такой силой, что тот остановился, лишь встретив спиной каменную стену. — Святотатцы те, кто отдает в невесты Христовы всяких уродин, будто Сыну Божьему сгодится то, чем брезгуют самые невзрачные мужчины! Матильда — незаконнорожденная! Ишь, удумал!
— Но ведь, по сути… — поднимаясь с пола, простонал Фитц-Алан.
— Оставь суть в покое! Вот скажи, мой любезный знаток премудрости, считаешь ты Спасителя мошенником из тех, что ищут благосклонности девиц лживыми посулами жениться на них?
— Мой государь, — с ужасом расширил глаза Фитц-Алан, опасаясь даже комментировать столь богохульное предположение.
— Ясное дело, не считаешь, — отмахнулся король. — Тогда ответь без промедления, к чему Иисусу такое количество невест? Он, что же, вознамерился превзойти мудрейшего Соломона числом жен?
— Мне срамно даже слушать такое.
— Нет уж, слушай! — Самодержец ухватил собеседника за ворот и притянул к себе. — Ибо затем, мой дорогой Фитц-Алан, тебе самому придется что-то говорить нашим врагам. Хорошо, положим, они — невесты Христовы. Что с того? Сам Господь обратился голубем, дабы проникнуть в лоно Пречистой Девы.
— Но то — Господь…
— А монахиня — не Пречистая Дева. К тому же она стала моей, когда я уже был королем, а обряд помазания предполагает снисхождение на меня Духа Святого. Стало быть, не менее чем голубь, бессмысленная птаха, выполнявшая священную волю Бога Отца, я исполнял повеление Сына Божия в отношении Эдит Матильды. Разве то, что я говорю, неразумно?
— Сие в высшей мере богохульно.
— Богохульно, богохульно! — опять взорвался король. — Я не спрашиваю, нравится тебе моя речь или нет. Говори, разумно или неразумно. Молчишь? — добавил Боклерк после короткой паузы. — То-то же! А кстати, рассказывают, что лет триста с небольшим тому назад на юге Франции было королевство Септимания, в котором правили короли, ведшие свое родословие будто бы от самого Христа. И в этом, сказывают, они были признаны и Карлом Великим, и его приятелем, Гарун-аль-Рашидом, да вроде как и святейшим Папой. Если это не ложь, то, стало быть, я и вовсе спасал честь Сына Божия, ибо, если Бог Сын был женат чин по чину, значит, все невесты Христовы могут претендовать не более чем на звание его наложниц.
— Позвольте мне уйти, мой государь.
— Иди-иди, — насмешливо скомандовал король, с удовлетворением чувствуя, что боль в виске отступает. — И вот что, отошли гонца поторопить Матильду. А Стефану, — король недобро оскалил зубы, — самое время свести знакомство с дядей Робертом и порасспросить его об участи тех, кто смеет выступать против меня.
* * *
Как говорили сицилийцы, в час, когда Господь создал небесный свод, самый синий лоскут его он разместил над Палермо. Жители других мест Средиземноморского побережья порой оспаривали столь эгоистичное утверждение, но каждому настоящему сицилийцу без всяких доказательств было понятно, насколько нелепы претензии чужаков на несравненную синеву небес. Достаточно было просто взглянуть вверх!
Роже II, король обеих Сицилий не столько Божьей милостью, сколько Божьим попущением, стоял на мраморной веранде своего дворца, глядя, как маневрируют корабли, входящие в гостеприимные воды гавани.
— Так ты полагаешь, Сорино, что рутены задумали поход на британцев?
— Похоже на то, о величайший. — Маркиз Орландо ди Сорино, такой же, как и сам король, потомок нормандцев, ныне командующий эскадрой флота государя обеих Сицилий, стоял за спиной короля, ожидая реакции на поразительное известие.
— Один из моих капитанов, — начал пояснять он, — привез вести из Киева. Он говорит, что тамошний король Вальдемар собирает большую армию и, как ему удалось выяснить, вступил в сговор с королем свеев.
— Это известно достоверно, или… обычные россказни из тех, что можно услышать в любой корчме?
— Мой капитан клянется головой, что это правда. Ему удалось разговорить за чашей вина одного из тех, кто самолично ходил с посольством к королю свеев.
— Забавно. Ты не находишь, мой друг Орландо, что в этой жизни вдруг начало что-то происходить? Точно лошадь, гулявшую по лугу, вдруг ужалил слепень. — Роже II усмехнулся. — Да, пожалуй, и не один.
— Нахожу, о величайший.
— Неужели же Вальдемар или кто-то из его сыновей и впрямь решили предъявить свои призрачные наследственные права на британский трон?
— Похоже на то.
— А как полагаешь, Орландо, могут ли рутены сломить Генриха Боклерка?
— Рутены, или, как их еще величают, русы, сильны в бою, — несколько уклончиво ответил адмирал. — И в последнее время военные удачи всегда сопутствуют им. — Он замолчал.
— Но?.. — по-прежнему глядя на корабли, маневрирующие в бухте, протянул Роже II. — Давай, не заставляй меня вытягивать из тебя каждое слово.
— Нет, пустое опасение.
— Пустой может быть лишь голова, в которую не приходят опасения. Говори, Орландо.
— Путь до Британии далек. Конечно, свеи — хорошие мореходы и не раз ходили и к русам, и в Британию. Да у тех и у самих имеются корабли и капитаны. Но все же, мне думается, Генрих Боклерк, если только разнюхает замысел врага, может самым решительным образом позаботиться о защите своих берегов.
— Ты и впрямь так думаешь, Орландо? — Роже II покачал головой. — Что ж, благодарю тебя за прямоту. А теперь послушай, что я скажу. Ты знаешь, что этот чертов британец, Генрих Боклерк, на том основании, что его предки были сюзеренами моих предков, требует от меня — от меня, Орландо, изъявления покорности?
— О величайший, как же такие мысли могли прийти ему в голову?!
— Раз уж Господь сделал так, что между плечами и короной у этого сына нормандского ублюдка находится вход в желудок вкупе с глазами и ушами, неудивительно, что в нем образуются следствия дурных испарений, принимаемые оным за мысли. А знаешь ли ты, Орландо, что этот негодяй, которого даже родной отец не пожелал наделить землей, осмелился захватить в плен своего брата, законного правителя Британии и Нормандии, героя похода в Святую землю, которому лишь скромность помешала стать королем Иерусалимским?
— Да, мне это известно, — подтвердил маркиз ди Сорино. — Он ослепил брата и держит его в заточении в замке Кардиф.
— А помнишь ли ты, дорогой Орландо, кем была жена герцога Роберта?
— Графиня Бриндизи, ваша племянница, о величайший.
— Вот именно! — Роже II с силой оттолкнулся от мраморных перил и резко повернулся к собеседнику. — Я называл ее Флоранс. Она была хороша, как весенний цветок. И голос ее напоминал журчание ручья. Бедняжка умерла от горя, когда ее муж оказался в плену.
— Кажется, все же она умерла родами, — попытался восстановить истину адмирал.
— Ерунда! Она умерла от горя. А роды… Да, она умерла во время родов, но от горя. Виноват в этом, конечно же, король Генрих Английский, в руках которого она в тот момент находилась.
— Но с тех пор уже прошло почти двадцать лет!
— А хоть бы и пятьдесят, что до того? В отличие от бывшего земляка моего отца и дядьев, я не прощаю посягательств на свой род. К тому же совсем недавно, мой дорогой друг, этот волк в человечьей шкуре, этот предтеча антихриста, похитил моего лекаря, великого Сальваторе! Что же, прикажешь мне терпеть?
— Я помню, о величайший. Мне пришлось пустить на дно корабль, на котором его везли.
— И тем несказанно меня порадовал, мой славный Орландо. — Губы короля обеих Сицилий сложились в насмешливую улыбку, не предвещавшую ничего хорошего. — Я не стану вмешиваться в споры о наследстве между Генрихом Боклерком и внуком Гарольда Годвинсона. Но знаешь, удобный порт где-нибудь в Нормандии будет нам полезен. Ты получишь войска, корабли у тебя есть. Думаю, чем меньше британцев будет плавать между Нормандией и Британией, тем лучше. Когда свеи с рутенами выступят против Британии, ударим и мы. Ты все понял?
— О да, величайший.
— Хотя постой, — на губах Роже II появилась заговорщицкая улыбка. — У меня, кажется, появилась мысль получше…
* * *
— Кто из вас Вальтарэ Камдель? — Голос начальника отряда дворцовой стражи звучал резко и сурово.
В трактире повисла опасливая тишина, и взоры всех присутствующих обратились к чужакам.
— Проклятие! Все-таки я опоздал, — деланно закашливаясь, выдохнул Майорано. — Попробуйте бежать в пути. Я буду идти следом с вашими людьми.
— Лис, ты все видишь? — критически оглядывая довольно громоздкого вида панцирников, спросил мессир рыцарь, поднимаясь из-за стола.
— Это я.
— Мне велено сопроводить вас к архонту.
— Чем обязан? — продолжая сверлить взглядом предоставленный властителем Херсонеса «эскорт», поинтересовался рыцарь.
— Мне не велено отвечать на ваши вопросы. Я должен доставить вас во дворец.
— Да уж, капитан, похоже, товарищу майору шутка с сицилийским графом понравилась, — с тоской в голосе резюмировал Лис.
— Какому еще майору?
— Тутошнему. Не важно. Ладно, сейчас шо-нибудь придумаем. В общем так, дядя. Бурдюки должны быть первостатейные. Будешь жлобиться, всякое китайское фуфло ставить — мои тебе соболезнования, не говори, шо я не предупреждал.
— А что такое «китайское фуфло»? — удивленно глядя на собеседника, поинтересовался знатный херсонит.
— Да-а, беда с вами. До чего народ пошел с заморскими диковинками не знакомый! Ну, не знаешь, и ладно. Главное, не ставь. В общем, берешь эти самые бурдюки, аккуратно дырявишь…
— Постой, но ты же сказал, что нужны целые!
— У меня мало времени, почтенный! Если хочешь, можешь взять дырявые. Но говоря понятным тебе языком, это беспонтово, в смысле, не по-морскому. Поэтому слушай и запоминай. Дырками склеиваешь бурдюки между собой. Хорошо в месте соединений наклеивать рыбьим клеем специальную муфту-уплотнение. Сделай два, три, четыре таких комплекта. Дальше, как я тебе сказал, находишь сундук, ныряешь и по просмоленному холщовому рукаву начинаешь закачивать в эти бурдюки воздух.
— Как?
— Да хоть вдыхай! Не отвлекайся! Когда все сделаешь, сундук сам всплывет.
— Не может быть! Полный сундук?
— Даже не сомневайся! Вместе с крабами, которые на нем уже наверняка устроились. — Лис подкинул в ладони кошель с монетами. — Да, и вот что. — Он подошел к грациозному скакуну, нервно пританцовывавшему поблизости от вальяжного хозяина. — Конь у тебя замечательный!
— Да, пятьдесят монет отдал.
— Ну, эт, считай, даром. — Он похлопал жеребца по мускулистой шее. — Хорош, хорош! Я вот думаю, — Лис посмотрел в небо, — одолжу-ка я его у тебя на сегодня.
— То есть как?! — Херсонит вытянул руки к недавнему собеседнику, но в тот же миг слуга, державший коня под уздцы, неожиданно для себя устремился в объятия хозяина, а основоположник подводной археологии взлетел в седло, поднял коня на дыбы и, развернув его на задних ногах, устремился прочь, подальше от церкви с чудодейственными мощами святого Вакха.
* * *
— Ладно, — Вальтарэ Камдель пожал плечами, — если вы настаиваете, я пойду с вами, хотя отрывать гостя от еды…
— Пошевеливайся! — рявкнул начальник стражников. — Архонт тебя угостит.
Как и множество портовых городов, Херсонес был не только и не столько крепостью, сколько торговой факторией. Товары из далеких земель стекались сюда, чтобы отправиться дальше в империю ромеев, в итальянские княжества, а то и сарацинские земли. Чего здесь только не было! Беличьи и собольи меха из Новограда, который суровые варанги именовали Хольмгардом, чеканные серебряные украшения с Кавказских гор, меды и пенька из Киева, восточные аргамаки и степные башметы — все менялось здесь на ромейское золото, украшения, шелка — словом то, чего не сыскать было ни в землях русов, ни в половецких степях.
Пожалуй, в этом году в оружейных рядах незаметно было бойкой торговли высоко ценимыми новгородскими бронями, но зато во всех прочих сердце радовалось, глядя на разнообразие товара в лавках и обнесенных стенами купеческих подворьях.
Улица, по которой в сопровождении стражников и зевак шел рыцарь в ветхих обносках, была окружена лавками с обеих сторон. Разноязычный гомон толпы то и дело перекрывался зазывными воплями торговцев, без малейшего зазрения совести расхваливавших свой товар и на чем свет стоит хуливших точно такой же товар соседа.
Стражники, покрикивая на зазевавшихся горожан, расталкивали мешкающих древками копий. Впрочем, жители и гости Херсонеса, привыкшие и к подобному многолюдству, и к воплям зазывал, и к грубости стражи, продолжали заниматься своими делами, не обращая внимания на неудобства и неучтивости.
— А вот отведайте вина! — Наперерез начальнику конвоя метнулся один из уличных торговцев. — Настоящее, критское! Лишь нынче утром куплено на амальфийском корабле!
Камдил невольно усмехнулся. На «Сант-Анджело» и впрямь имелось несколько бочек жуткого пойла, предназначенного для поддержания жизненного тонуса команды. Вкус его должен был отвратить не слишком морально устойчивый экипаж от беспробудного пьянства. Но, пожалуй, стоило быть капитаном Майорано, чтобы продать остатки этого вина, ближе ста миль никогда не приближавшегося к Криту, да ко всему еще, видимо, и с немалой выгодой.
Впрочем, может, речь шла о другом амальфийском корабле или же уличный разносчик приплел название далекого итальянского города просто так, для красного словца…
— Посторонись! Расступись! — Вдоль по улице галопом мчался всадник на буланом аргамаке. Поперек седла его была уложена длинная жердь, заставлявшая встречных и поперечных нагибаться и шарахаться в стороны, чтобы не получить палкой по лбу.
— А ну, что здесь происходит? — рявкнул начальник конвоя, и в то же мгновение целый дождь золотых монет, сияя на солнце взмыл к небу и обрушился на опешившую толпу. А вслед за этим шест точно сам собой очутился в руке всадника, развернулся на девяносто градусов у того над головой и с размаху опустился аккурат между оплечьем и наушами шлема местного «сержанта». Толпа взревела, и забыв о всех прочих делах, бросилась собирать рассыпанные щедрым наездником бизанты. Стражники, скрепя сердце, пытались не забыть о воинском долге и ухватить за руки и плечи заезжего рыцаря, но не тут-то было. Трое варангов, выскочивших из соседней лавки, увесистыми пинками и ударами дубин обратили стражу в беспорядочное, но очень медленное бегство. Да и куда можно было убежать в людском месиве, катающемся по улице в надежде отыскать, а пуще того отобрать у ближнего золотую монету.
— Давай! — закричал Лис, сдерживая коня.
Рыцарь ухватился рукой за луку седла и в одно движение оказался за спиной напарника.
— Так вот откуда взялась тамплиерская эмблема — два всадника на одном коне! — оборачиваясь, крикнул воинственный менестрель. — Н-но! Выноси, родимый!
Всадники, а за ними и варанги бросились вперед, желая как можно скорее покинуть место разухабистых «народных гуляний». Вдали уже маячило синее море и мачты кораблей, стоящих в бухте.
— Давай, давай! — торопил коня Лис, и тот, обремененный непривычно тяжелым грузом, негодующе ржал в ответ.
Но в этот день ни мессиру рыцарю, ни его спутникам не суждено было покинуть стены Херсонеса. Шеренга хорошо одоспешенных воинов преградила им путь, опустив копья и сомкнув щиты.
— Приехали. — Лис натянул поводья. — Эх, незадача!
— Вальтарэ Камдель, граф Квинталамонте! Эпарх Херсонеса желает видеть вас. Не сопротивляйтесь и прикажите своим людям сложить оружие, если хотите остаться в живых.
— Постой. — Лис удивленно глянул на соратника. — Шо за на фиг? Прошлый раз тебя, кажется, хотел видеть архонт. Шо ж им всем неймется? Экий ты у нас популярный!
* * *
Голод — не тот противник, которому можно свернуть шею. Эта мысль мучила Михаила Аргира уже третий час. Он скакал рысью, стараясь не слишком изнурять трофейных джинетов[37] и надеясь успеть в Херсонес до закрытия ворот.
— Хотя бы корчму какую поставили! — цедил он себе под нос, оглядывая каменистую равнину, поросшую довольно густым лесом. Однако ничего похожего на привычную для каждого в стране ромеев харчевню поблизости не наблюдалось. Михаил Аргир злился, негодуя в душе на то, что голод скоро может его заставить искать в лесу какие-нибудь ягоды или плоды. Не дай бог кто-нибудь увидит такое непотребство! Впрочем, кому здесь видеть?
Опытный глаз воина вдруг выхватил поднимающийся над верхушками деревьев завиток серого дыма. «Костер! — радостно оскалился Михаил Аргир. — Небольшой, совсем рядом с дорогой». Он пришпорил коня, не давая себе труда даже обдумать, что намеревается говорить при встрече.
Когда он выехал на крошечную полянку, сидевшие у костра аборигены разом вскочили, хватаясь за составленные треногой короткие охотничьи копья. «Не воины, — про себя отметил Аргир, — и, пожалуй, не звероловы». Он окинул взглядом лесную прогалину. В тени деревьев паслись четыре мула, поблизости лежали тюки с поклажей. Над костром висел исходящий паром котелок, в котором, булькая и наполняя воздух ароматом съестного, варилась каша.
— Мир вам, добрые люди! — складывая губы в улыбку, проговорил знатный ромей.
При этих словах у троицы, замершей с копьями в руках, явно отлегло от сердца. Вид высоченного широкоплечего воителя заставлял их предполагать, что день может закончиться для них значительно раньше вечера. Копья копьями, а связываться с этаким всадником было себе дороже.
— Не желает ли почтенный господин отобедать с нами? — с нескрываемой радостью в голосе осведомился старший из обитателей леса.
— Очень даже желаю, — спешиваясь и треножа коней, кивнул Аргир. — Вы что же, охотники?
— Нет. — Его собеседник замялся, не зная, как ему следует величать знатного гостя. — Я и мои сыновья живем тут поблизости. У нас пасека. У нас отличный мед, поверьте, самый лучший в округе. А еще мы топим воск и делаем свечи. Нынче утром мы собирались везти мед на продажу в Херсонес, да вот незадача — примчался гонец и велел нам доставить свечи в монастырь. Там, вишь ли, большая служба сегодня будет, сказывают, сына нашего архонта, Алексея, отпевать будут.
— Вот оно как? — Михаил Аргир нахмурился и отвел глаза, чтобы скрыть невольное раздражение. Пожалуй, единственный раз, когда его удар прошел мимо цели. Проклятый мальчишка! Надо ж было ему оказаться так не вовремя на этой чертовой тропе!
— Да, — подбодренный явным интересом, продолжал хозяин пасеки, — гонец рассказывал, что нынче утром у берега корабль разбился, а на нем племянница самого василевса плыла. А наш архонт ей тоже дядей приходится. Так вот, она спаслась и все ему поведала. И потому наш господин в великой печали, и нынче во всех церквях и монастырях отпевание. Вот, откушайте нашей каши, благородный господин! — пасечник, кланяясь, протянул воину деревянную миску и ложку. — Просяная, но уж не взыщите.
— Да, конечно, — невпопад ответил Михаил Аргир. «Значит, она спаслась! — стучало у него в голове. — Спаслась и сейчас у архонта. Я должен немедленно ехать к ней». Он воткнул ложку в кашу и, обжигаясь, быстро начал запихивать варево в рот, чтобы только поскорее унять недовольно урчащий желудок.
— А благородный господин, должно быть, в Херсонес путь держит?
— Да, — кивнул немногословный гость.
— Если пожелаете, можем далее вместе ехать, — словно невзначай предложил кашевар. Лесные дороги в этих краях были неспокойны, и общество столь внушительного и, похоже, умелого воина могло при случае отвратить разбойный люд от мысли избрать путников своей жертвой.
— Я спешу. — Отставив пустую миску, Михаил Аргир подошел к стреноженным коням, снял путы и вскочил в седло. — Да, вот вам. — Он расстегнул висящий на поясе кошель, так же как и скакуны, позаимствованный у мертвых фрязинов, и не глядя бросил одну из монет спасителю от голодной смерти.
— Ишь ты, не наша, — ловя монету в воздухе и разглядывая ее на развернутой ладони, покачал головой свечных дел мастер.
— Отец, — осторожно, точно осу, беря кругляш, проговорил один из его сыновей, — а ведь такие монеты, как есть, в ходу у тех разбойников, что из-за моря пришли и в наших краях озоруют.
— Да-да, — подхватил второй, — о них архонт велел катаскопоям все подробнейшим образом докладывать, а за утайку… — Он многозначительно хлопнул себя ладонью по загривку.
— Во как, — испуганно выдавил их отец. — Ну надо же!
Однако чужака уже и след простыл.
Глава 13
Рубить и резать — два разных действия.
Отец Амвросий не мигая глядел сквозь колеблющееся пламя свечи на скорбный лик святого угодника Николая, темневший среди сусального золота. Небесный покровитель странников был задумчив, и навряд ли слова обращенной к нему молитвы достигали цели. Долгие годы отец Амвросий полагался на покровительство этого святого. И вот теперь сам не ведал, просить ли Божьего угодника помочь любезному воспитаннику или же, наоборот, молить о вразумлении заблудшего государя.
В годы былые мних Амвросий в странствиях за студеные моря самолично побывал на далеких островах бриттского королевства, а потому и помыслить не мог о том, чтобы в тех сырых и туманных землях сел на великокняжий стол один из Мономашичей. Уж больно мудреное это было дело. Уж больно велика и могуча стояла дружина за плечами тамошнего правителя. Но как было сказать о том молодым князьям, а уж тем паче их суровому и непреклонному батюшке?
С великой тщательностью исполнил он порученный ему труд. И всякий, сведущий в законах мирских и установлениях Божьих, счел бы справедливыми приведенные им резоны, подтверждающие святость прав Мономашичей на бриттский трон.
И все же, все же… Душа его болела при мысли, что молодой князь Мстислав отправляется в заморские края безвозвратно, чтобы, быть может, сложить там голову и усеять тамошние чащобы и непролазные болота, точно семенем раздора, телами русских витязей.
Старец Амвросий неотрывно глядел сквозь пламя на лик святого Николая, стараясь прочесть в его взгляде судьбу воспитанника.
Монастырский служка уже несколько минут, замерев, следил за безмолвными размышлениями седобородого мниха, опасаясь нечаянным словом отвратить от парения в горних высях мысль преподобного отца Амвросия. Однако дело его было неотложным, и он тихо кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание, затем, не дождавшись ответа, кашлянул еще, на этот раз — погромче, и наконец, подойдя к летописцу, тронул его за плечо.
— Князь Мстислав Владимирович прибыл в монастырь, — тихо проговорил служка. — Он желает видеть вас.
Отец Амвросий повернул к нему свою крупную седую, без единого темного волоска голову, оглядел, точно осознавая слова юноши, и величаво кивнул.
— Передай, что я спущусь к нему. — Отец Амвросий оперся ладонью на потрескавшуюся скамью, пытаясь быстро подняться. Кожей он ощутил полированную многолетним ерзаньем поверхность и будто бы почувствовал тепло, исходящее из глубины дерева. Почувствовал эту неведомую силу, и тут же, устыдившись, отдернул руку, точно опасаясь, что кто-то подслушает и осудит его смятение. — Я уже иду.
Высившийся над днепровскими кручами монастырь был окружен настоящей крепостной стеной, призванной отделить суетный людской мир от чистого мира Божьего. Увы, ни этой, ни какой-либо иной стене такое было не под силу. Но зато каждому проходившему ли, проплывавшему ли при взгляде на высокие куртины было ясно, что Господь в этих местах силен не только словом.
Строжайший запрет возбранял мирянам входить под монастырские своды с оружием. Однако же, зная крайнюю нелюбовь князей и дружинников расставаться с мечами и кинжалами, монахи пристроили к прочим монастырским помещениям особую светлицу, где воины мира духовного, не уронив достоинства и святости места, могли встречаться с воителями мирскими. Именно здесь, расхаживая от оконца к оконцу, ожидал своего наставника и духовника князь Мстислав Владимирович. Взглядом, привычным быстро подмечать все, что может пригодиться в бою, он любовался открывающимся видом на реку, очень хорошо представляя себе, как, разместив в этих стенах лучников, можно держать на прицеле все проходящие мимо корабли.
— Здравствуй, мальчик мой, — проговорил, входя в залу, старец Амвросий, мучительно силясь не шаркать ногами при ходьбе.
— Благослови, отче. — Мстислав Владимирович в несколько шагов преодолел разделявшее их расстояние и, привычно удерживая рукоять меча, преклонил колени перед святым отцом.
— Господь с тобою. — Монах совершил крестное знамение над головой витязя. — Что привело тебя сюда? Или же ты просто решил навестить старика перед отъездом в дальний путь?
«Какой же ты старик?» — хотел было усмехнуться Мстислав, но с грустью остановился, не произнеся этих слов. Его учитель был стар. Действительно стар. «Он изрядно сдал за последние месяцы», — вздохнул молодой князь, стараясь все же не подавать вида, что удручен открывшейся его взору картиной.
— Я хочу поговорить с тобой, святой отец, — наконец выдавил он, сам не понимая, отчего вдруг заранее обдуманные слова даются ему с таким трудом.
— О чем, мой мальчик?
— О грядущем походе и… вообще… — Князь замялся. — Прости, я так и не научился говорить столь красиво и складно, как ты. Но вот душа… душа не на месте. Нет, я не боюсь, — поспешно заверил он, точно подозревая, что старец может усомниться в его отчаянной храбрости, — но знаешь, будто выхожу из дома и точно ведаю, что никогда сюда больше не вернусь.
Монах, не говоря ни слова, покачал головой.
— Отчего же ты молчишь, отче?
— Господь велик, сын мой. И смертным, будь они хоть семи пядей во лбу, порою не понять Божьего замысла. Сознаюсь, мне грустно от того, что мои скромные письмена подвигли тебя на совершение деяния несомненно справедливого и достойного, но вместе с тем зело опасного как для тебя, так и для людей, что пойдут за тобой. И каюсь, грешен, не будет мне горше удара, когда вдруг окажется, что мой суетный разум и его никчемные познания будут повинны в гибели моего духовного чада.
— Не говори пустого! — резко прервал Амвросия князь Мстислав. — Коли не суждено мне быть взятым живьем на небо, то рано или поздно все равно помру, а в ратной сече — лучше, чем в тереме под бабье квохтанье. Сам ведаешь, мудр отец, и вдвоем нам с братом здесь оставаться нельзя. Един правитель у Руси должен быть, и никак иначе!
— Но отчего же? Ведь скорее небо с землей поменяются местами, нежели ты пойдешь на Святослава или же он на тебя.
— Верно, покуда живы будем, друг на друга не пойдем и не помыслим о том. А дети? За них кто поручится? А меж бояр при таком-то случае как злой змее не угнездиться? Нет, что ни говори, а мудрость отца велика. Коли судьбою мне выпало за море идти, то, стало быть, и пойду. И корень супостатов вот этой самой рукою выкорчую. — Мстислав поднял кулак и поднес его к груди. — Вчистую, чтоб впредь неповадно было.
Старец Амвросий вздохнул и покачал головой.
— Коли ты все уже решил, чего же тебе надобно от меня?
— Хотел я просить тебя со мной идти, — вздохнул князь, — да вижу, не осилить тебе пути. А без мудрого слова твоего, без познаний, как мне блюсти дело христианское и княжью честь?
— Верно глаголешь, — вздохнул печально Амвросий, — не дойти мне, годы уж не те. Вместо себя б кого назвал, да нынче такого и не припомню, чтобы и в языках был сведущ, и в нравах, и в слове Божьем.
— Нешто и вовсе не сыщется такого, отче?
Амвросий поднял руки к небу.
— Господь велик. Я поразмыслю о твоих словах, может, что и удумаем.
— Сделай это для меня, — просительно, но все же властно произнес Мстислав, — ибо, как имя батюшки моего гордо звучит из края в край земли отчей, и мое имя так звучать должно в земле матерной. Мы скоро уж отплываем, но прежде Великий князь желает со двором и малой ратью объездом в дальние угодья наши идти, к Светлояр-озеру. Так что, стало быть, как воротимся оттуда, так и пойдем. Вот до того часа я буду ждать и молить Бога, чтобы он надоумил тебя. И коли впрямь то дело богоугодное, то верю я, он не оставит путника без провожатого.
* * *
Стефан Блуаский стоял на скале и вглядывался в утренний туман. Его длинные рыжеватые волосы трепал утренний бриз, но молодой граф стоял, казалось, не замечая этого. Тяжелый, пурпурный, тайно вывезенный из Константинополя плащ хлопал у него за плечами, но Стефан Блуаский не сводил глаз с усеянных пенными барашками волн, стремящихся добежать до гранитного подножья скалы и погибнуть в неравной схватке с бездушным камнем. Чело его венчал массивный золотой обруч с драгоценными ювелами, точно напоминая всякому смертному, что перед ним — истинный принц крови. Как настоящий потомок викингов, внук грозного Вильгельма Завоевателя любил море. И сейчас, вдыхая просоленный взлетающими брызгами воздух, он чувствовал, как тело его наливается силой, уверенность в правильности избранного пути крепнет, настроение становится отчаянно-радостным, как перед кровавой сечей.
— Ваше высочество! — послышалось за спиной принца.
Он резко повернулся, удерживая рукой взлетающий плащ.
— А, это ты, Роберт.
Сэр Роберт Клиффорд поклонился своему господину.
— Что нового?
— Прибыл Эд Хаксли от графа Пембрука. Он говорит, что Пембрук вместе с графом Перси ожидают вас у северной границы в замке, именуемом Кастмейл.
— Вот и прекрасно. Вели накормить сэра Эдварда, напоить и уложить спать.
— Но ваше высочество, Эд Хаксли утверждает, что ждет лишь сообщения от вас, чтобы двинуться в обратный путь. Граф Пембрук велел ему не задерживаться ни минуты и, оповестив вас о месте встречи, незамедлительно отправляться к нему с сообщением о дне вашего прихода.
— Мой приход, — на губах Стефана Блуаского появилась хищная насмешливая улыбка. — Он состоится. На следующий день после Страшного суда.
— Но лорды Пембрук и Перси будут вас ждать.
— Вот и прекрасно. Именно на это я и надеюсь. Накорми Хаксли, напои его и уложи спать. Если он будет противиться — свяжи его, закуй в цепи. Но помни, Эд Хаксли не должен отсюда уехать, а лорды Пембрук и Перси обязаны меня ждать в Кастмейле.
— Но… почему? Это знатнейшие графы нашего королевства, их отряды сильны, и само имя их — настоящий штандарт, способный вести за собою в бой.
— Вот именно поэтому.
— Я не понимаю вас, мой принц.
— Потому что ты — дурак, Роберт. Хвала Всевышнему, преданный дурак. А не будь ты таков, я бы с тобой нынче не разговоривал. Какую весть привез Эд Хаксли? Что лучшие полководцы Британии ждут меня возле шотландской границы?
— Да, ваше высочество.
— И ты думаешь, что о походе графа Джефри Пембрука неизвестно его младшему брату, шерифу Джеральду Пембруку?
Тот, кого Стефан Блуаский именовал Робертом, озадаченно поглядел на господина и кивнул.
— Должно быть, он знает.
— А то, что знает Джеральд Пембрук, знает и король Генрих Боклерк. Ибо, даже если бы Джеральд не был столь предан моему дорогому дядюшке, желание поскорее заполучить в свои руки все богатства рода Пембруков наверняка пересилило бы братские чувства, если таковые Джеральд когда-либо испытывал к Джефри. Таким образом, Генрих Боклерк быстро сообразит, что я собираю войско на севере, и, конечно, заручится поддержкой шотландцев, чтобы не попасть между молотом и наковальней. А стало быть, он бросится туда. И в тамошних горах ему придется иметь дело с прекрасными вояками, как мы помним, из лучших в королевстве, и их крупными отрядами. Если же дядя все-таки разобьет их, то я готов поставить фунт серебра против оловянного пенни, что этот упрямец ни за что не поверит, будто бы меня нет где-то поблизости. Например, в гостях у шотландского короля. И он будет требовать моей выдачи. А не менее упертые голоногие хайлендеры будут утверждать, что меня там нет и никогда не было.
Конечно же, Генрих Боклерк им не поверит, и в любом случае на все эти медвежьи танцы уйдет то самое время, которое так бы пригодилось королю, чтобы справиться со мной. Так что пусть графы ждут, а Хаксли — спит. А я покуда дождусь появления моей дорогой кузины. За те годы, которые мы не виделись, рассказывают, она стала восхитительной красавицей. Знаешь, Роберт, я горю желанием первым в Англии увидеть ее.
Верный слуга невольно покачал головой, выслушав слова принца.
— Ваше высочество, осмелюсь заметить, дело, предложенное вам герцогом Конрадом Швабским, — бесчестное дело. Как хотите, но план его сродни разбою.
— Ты так полагаешь, Роберт? — Стефан Блуаский вновь повернулся к морю. — Ты знаешь, я тоже так думаю. Я не буду следовать его плану. А вот, кстати, и корабль. Хватит разговоров! Всем лучникам приготовиться!
— Но вы же только что сказали… — с невыразимой тоской в голосе попытался напомнить Роберт Клиффорд.
— Я сказал, что ты — дурак. И нынче это еще более справедливо, чем прежде. Когда Матильда окажется у меня, руки Генриха Боклерка будут связаны. И я очень хочу услышать, что он запоет, когда, увязнув в сваре на шотландской границе, вдруг обнаружит, что я — в Уэльсе. Поторопись, Роберт. И помни, стрелять по моей команде. Не дай бог какому-нибудь остолопу зацепить мою несравненную кузину!
* * *
Толстенные деревянные брусья, собранные в частый переплет, вызывали живейший интерес у прибывшего из Святой земли менестреля. Немудрено, ведь именно из них состояла решетка, отделявшая приведенных к эпарху пленников от юдоли печали, с философской точки зрения именуемой волей. Камера, в которую были заключены рыцарь и его воинственные соратники, и без того полнилась народом, по большей мере отловленным нынче за дебош и грабежи в торговых рядах.
Оценив сплоченность и габариты новых сокамерников, прежние обитатели, подавляя беспокойство, расступились, освобождая более удобные места. Один только детинушка замешкался уступить дорогу, увлеченный раздачей оплеух какому-то тщедушному мальчонке. Но шедший рядом с Вальдаром Камдилом варанг попросту опустил ему на затылок литой кулак, и тот распластался на полу, не подавая признаков жизни.
— Благодарствую, — быстро оценив, кому следует бить поклоны в этой компании, бойко заговорил русоволосый парнишка. — Спасибо, что уберегли от злодея!
— Да ну, не переймайся! — вмешался Лис. — Сам бог велел этого змея подколодного с кулака приголубить.
Озерно-голубые очи мальчишки расширились, точно в час внезапного разлива.
— Да ну что вы, как можно?!
— С кулака?
— Да нет, о змеях. Змеи, они же умные. От них вся мудрость людям пришла.
— Снова ты за свое! — прикрикнул кто-то из угла.
— Защелкни хлеборезку, вошь тюфячная! — не оборачиваясь на выкрик, лениво отозвался Лис. — Ты, малый, не боись. Если какой самоубийца на тебя вякнуть попробует, его вот на этой стене легче будет закрасить, чем отодрать.
Толпа зароптала, однако, к удивлению мессира рыцаря, среди нее незамедлительно образовалось несколько крепышей, демонстративно ставших плечом к плечу с варангами.
— Лис, а что это ты здесь устраиваешь? — недоуменно поинтересовался крестоносец.
— Говоря по-научному, поляризацию социума, а если без понтов, объясняю публике, кто в хате хозяин. Ты, главное, пока свою арию заморского гостя не начинай, я тут сам погужуюсь. Так что ты начал говорить, мой мальчик?
— Вся мудрость от змей пришла, — несколько удивленно, но нисколько не испуганно повторил юнец. — Далеко на севере, где-то у озера, живет древний змий по прозванию Уж. От него-то людям ведомо стало, и где какие травы да злаки целебные произрастают, и как пиво и меды варятся. И буквицы все как есть — того самого змия образ. Имя ему — Андай. И всякий, кто с почетом к нему обратится, помощь от него получит.
— А что ж ты-то не получил? — выкрикнул из темного угла все тот же голос.
— Я шо, кому-то разрешал варнякать?
— Правду малец говорит, — вдруг глубоким басом подтвердил один из варангов. — Я как малый был, сам с отцом на Вайгач-остров ходил и Андаево капище вот этими вот глазами видел. Огромный такой змей, длиною, пожалуй, со шнек будет, а то и поболе, кто знает. Вокруг — даров всяких гора, а он над ними, весь златыми гривнами и прекрасами всякими увешанный. А голова у него вроде как и не змеиная, и волосья на ней, и уши. А в пасти разверстой — язык серебряный. Всякий, кто совета искал или же о здравии пекся, к нему шел с дарами.
— У, поганые! — раздалось из угла.
— Верно сказываешь, — не обращая уже внимания на злобный ропот, продолжал мальчишка. — И если в чьем доме малого ужика нет, то — недобрый знак, и человек там, по всему видать, злой.
— Ишь ты! — Лис покачал головой. — Тебя, часом, не за такие словеса в этот клоповник упекли?
— Не, не за словеса, — мотнул русой головой парнишка. — Я змей коровьим молоком угощал. Они ко мне, что ночь, сползались. А кто-то прознал и донес. Вот меня в колдуны и записали. Говорят, я самого эпарха змеиным ядом извести хотел.
— А звать-то тебя как, малый? — поинтересовался Сергей.
— Во крещении — Федюней, а кличут Кочедыжником.
— Как тебя кличут?
— Кочедыжником, — нахмурился парнишка, — цветок такой. В Иванову ночь расцветает.
— А, ты в этом смысле. Але, мессир рыцарь, мы тут купальский презент обнаружили.
Камдил не отозвался. Со стороны казалось, что он погружен в свои размышления. Однако же если взглянуть вглубь…
— О Господи, дорогой племянничек! Что за блажь пришла вам в голову, устраивать драку в городе?
— Понимаете, дядюшка, за мной пришли люди архонта, но мне показалось, что это стражники, посланные эпархом.
— Ты что, уже много выпил?
— Ну при чем тут «выпил»? Они же без гербовых котт — поди отличи, к какому ведомству принадлежат.
— Господь моя защита! — печально вздохнул Баренс. — Я только что разговаривал с Никотеей. Она намерена вытребовать вас и ваших людей сопровождать ее в Киев.
— Она, что же, самолично планирует отправиться в Киев?!
— Да, она собирается в Киев, но речь сейчас не о том. Несмотря на юность, эта очаровательная девушка сообразила, что графу Квинталамонте лучше не задерживаться в византийских землях. А опытнейшим оперативникам Института эта простая мысль, похоже, в голову не пришла. Положительно, мой дорогой, ты меня удивляешь!
Ладно, сейчас девочка пошла убеждать архонта, что все те, кого избили и затоптали сегодня, — жертвы ваши с Лисом и что именно такие лихие вояки нужны ей в эскорт. Так что, если вас не казнят сегодня, то завтра непременно отпустят.
— Но дорогой дядюшка, вы же не дадите нас казнить?
— Для профилактики стоило бы, — угрюмо отозвался монах-василианин. — Но, боюсь, в этом случае у вас не будет возможности раскаяться в неблаговидности своих поступков. Ладно, так и быть. На первый раз замнем это дело, но может быть, вам придется демонстративно принять христианство византийского обряда.
— Это, типа, Херсонес стоит заутрени? — появился на канале Лис.
— Некоторым он может стоить отпевания. Ты зачем украл коня?
— Ну, как бы это доходчиво объяснить? Потому шо ничего более скоростного рядом не оказалось.
— А ты знаешь, у кого ты его украл?
— Да так, у одного водолаза.
— Этот, как ты выразился, водолаз — прокурор Херсонеса.
— Шо, правда? Да, нехорошо получилось. Надо было больше взять. Я думал, нормальный потерпевший.
— О Господи!
— Да не, это я о благотворном влиянии православной церкви на служителей Фемиды. Он как из храма вышел, даже на человека похож был.
— Сергей, ты неподражаем!
— Это я к тому, шо видимость обманчива…
— Все, помолчим. — Баренс включил изображение, и Лис с Камдилом увидели прелестную Никотею, в сопровождении верной служанки входящую в скромную келью, отведенную Георгию Варнацу.
— Завтра мы отбываем в Киев, отче, — едва прикрыв двери, начала она.
— Мне сказывали, что вы намерены, не оставаясь долее здесь, отправиться к Великому князю русов, Владимиру. Но если говорить о брачном союзе, о котором так печется ваш дядя император, то вряд ли уместно вам лично ехать ко двору Мономаха. Пристойней, пожалуй, было бы дожидаться здесь гонцов из Киева.
— Отец мой, — скромно потупила очи севаста Никотея, — бывают случаи, когда и саму пристойность необходимо принести в жертву более великому, нежели собственное доброе имя. Не так ли Мария Египетская отдалась телом перевозчикам, спеша исполнить возложенную на нее священную миссию и не имея иных средств переправиться через бурную реку?
— Все так, дочь моя, однако же…
— Я не совершаю ничего предосудительного. Правитель рутенов, или, как называют их здесь, русов, — ромейский вельможа высокого рода, мы наверняка в родстве, пусть и дальнем. Разве не могу я, следуя по стопам моей любимой матушки, взяться описать точно и красиво все увиденное мною? Но если матушка прославила град Константина, я желаю увидеть и воспеть иные великие места. Что же касательно брачных уз, то разве есть что-то зазорное в том, чтобы вдовому сыну государя узреть странницу на путях ее странствия и воспылать высокой страстью не к ее отдаленному образу, а к ней самой, во плоти и крови?
— Ты говоришь разумно, дочь моя, но…
— Святой отец! Я так рада, что вы находите слова мои разумными! — нежно вскидывая на монаха лучезарные глаза, улыбнулась севаста. — Стало быть, вы не станете возражать против скорейшего отъезда?
— Пожалуй, нет.
— Вот и замечательно! Я верила, что найду в вас не только духовного пастыря, но и истинного патриота нашей державы и, смею надеяться, моего доброго друга. — Никотея собралась было уходить, но вдруг остановилась и достала из рукава свернутый пергамент. — Это распоряжение об освобождении графа и его людей из-под стражи и о зачислении их в мою свиту. Несколько минут назад оно подписано архонтом. Надеюсь, вам не составит труда передать этот рескрипт по назначению?
— Архонт все же подписал его? — с трудом скрывая радость, кивнул Джордж Баренс. — Но, быть может, ему еще не донесли, что мессир рыцарь — родственник короля обеих Сицилий?
— Я понимаю ваши сомнения, святой отец. Ни рыцаря, ни его спутников не станут более преследовать. Архонту донесли о прискорбном родстве мессира Вальдара, однако я заверила дядю, что тот порвал с семьей и, приняв крест, вступил в рыцарское братство под чужим именем как раз затем, чтобы скрыть свое происхождение из преступного стана Отвиллей.
— И что же?
— Мои слова убедили архонта, — кротко потупилась Никотея. — Воистину, Господь благоволит правому делу.
* * *
Лес закончился, сменившись унылыми предгорьями, усеянными великим множеством желтовато-белых валунов, испещренных, точно язвами, небольшими кавернами. Местные жители утверждали, что некогда Гермес, развлекаясь, украл священную отару у царя Сартака. Но тот, возмущенный до глубины души злодейством озорного бога, взмолился, прося Зевса покарать обидчика. И когда Гермес, затолкав в мешок несчастных животных, расправил крылья на сандалиях, пытаясь взлететь, владыка Олимпа превратил овец в камни. Мешок не выдержал подобной нагрузки, и камни рассыпались, одарив предгорья огромной каменной отарой. Пристыженный вестник богов был вынужден, понурив голову, вернуться на Олимп, а царь Сартак возблагодарил Зевса за исполнение его просьбы. Правда, с недавних пор овец в легенде похищали демоны, а наказывал их Илья Пророк, но на участи каменных мериносов это никоим образом не отразилось.
Михаил Аргир погонял коня, спеша до заката успеть въехать в городские ворота Херсонеса. Несмотря на утреннее кораблекрушение, он ощущал душевный подъем и чувствовал себя настоящим счастливцем. Еще бы! Господь, похоже, благоволил ему. Утром он остался жив, хотя шансов пойти на корм рыбам было несравнимо больше. Затем ему посчастливилось встретить рыбарей, оказавших гостю первую помощь. Потом сицилийцы любезно одолжили ему прекрасных коней, мечи и некоторую сумму денег. Затем — пасечник с сыновьями, спасшие его от мук голода, а заодно и сообщившие весть, радостнее которой Михаил Аргир не мог себе и вообразить. Никотея жива и находится в гостях у своего дяди, архонта! Ну разве он не счастливец? Разве Господь не милосерд?
— Помогите! — раздалось откуда-то поблизости. — Грабят!
Михаил Аргир натянул поводья, останавливая скакуна, и привстал в стременах, стараясь разглядеть, что происходит. Крик смолк и сменился невнятным мычанием. Должно быть, злодеи потрудились заткнуть жертве разбоя рот кляпом.
— Ага, вон они, — негромко проговорил воитель. Впереди, почти на границе видимости маячила фигура в монашеском одеянии, вокруг которой суетились какие-то негодяи с палками.
— Н-но! — скомандовал Аргир, выхватывая меч из ножен и пригибаясь к холке коня. Андалузский скакун, почувствовав твердую руку господина, рванул с места, в считанные мгновения сократив дистанцию.
Появление всадника разбойники, увлеченные дележом награбленного, обнаружили чересчур поздно. Тот налетел на них, сбивая одного из грабителей конем, с ходу протыкая горло другого и тут же, высвободив из окровавленного тела меч, разрубая подставленную палку, а вслед за тем и голову третьего грабителя. Еще двое негодяев устремились со всех ног по склону вверх, и Михаил Аргир, с печалью глядя на улепетывающих мерзавцев, вздохнул, сожалея, что у него нет с собой ни лука, ни арбалета. Гнать по горному склону коня, рискуя сломать ему ноги, — нет, положительно, этот шакалий помет не стоил и волосинки из хвоста его породистого красавца.
Подозвав свистом второго жеребца, Аргир спешился, вытер об одежду одного из распластанных мертвецов измазанный кровью меч и, вернув его в ножны, направился к оглушенной жертве разбойников. Тот сидел, откинувшись на валун, с руками, связанными за спиной и оторванным рукавом сутаны, заткнутым в рот.
— Эй! — Михаил Аргир выдернул кляп, бросил его в сторону и хлопнул рукой по щеке духовную особу.
— О, не бейте меня! — взмолился священник.
— Вторую щеку можешь не подставлять, — хмыкнул знатный ромей. — Вставай, я разрежу твои путы.
— А… они? — глядя по сторонам, неопределенно спросил спасенный.
— Они? — Аргир кивнул в сторону трупов. — Они уже находятся перед святым отцом куда более высокого ранга.
— Уж и не знаю, как благодарить вас! — всплеснул освобожденными руками монах. — Благослови вас Господь!
— Чего они хотели-то от вас? — Аргир вновь вскочил в седло.
— Я, видите ли, монах в обители Святой Троицы. Игумен утром послал меня продавать освященные образки. Я кое-что продал, но совсем немного. А затем меня догнал гонец и передал наказ возвращаться. Я повиновался, а разбойники, должно быть, решили, что коли я иду к Херсонесу, то, стало быть, моя кружка для пожертвований уже полна. А там — всего несколько монет. Они очень разозлились. Правда, среди образков есть не только оловянные, но и серебряные, — продолжал болтать монах, — но они жаждали совсем иной добычи. Я высказать не могу, как я вам признателен, благородный господин!
— Пустое, — отмахнулся Аргир. — В монастырь тебе, небось, велели поспешить для отпевания сына архонта?
— Вам это уже известно? — Святой отец состроил физиономию, полную скорби и участия. — Какое горе! Совсем еще мальчик.
— Да, я слышал, — уклончиво ответил знатный ромей.
— И подумать только, — продолжал монах, разыскивая в складках одежды и кушаках валяющихся на земле трупов похищенные образки и монеты, — его убил не какой-нибудь лиходей-душегуб, вроде этих мерзавцев, а начальник дворцовой стражи василевса Михаил Аргир! Как страшно жить в этом суетном мире!
Глава 14
Увидев шотландца в лаковых башмаках — усомнись.
Тяжеленные якоря провалились в прибрежную воду, вздымая фонтаны брызг и пришивая накрепко пеньковыми канатами крутобокий неф к английскому берегу. Бухта, к которой пристал корабль, была хорошо известна всем, кто возил товары с континента на остров, не утруждая себя выплатой королевской доли.
Конечно, местному шерифу та гавань была хорошо известна, но он, в отличие от государя, получал то, что именовалось статусной рентой, и потому крайне редко навещал этот уединенный, зажатый меж скал участок береговой линии. Если бы нынче ему в голову пришла такая блажь, его удивление не ведало бы предела. Ибо столь знатных гостей побережье близ замка Бродвелл не ведало с тех пор, как высадившиеся на илистых берегах саксы построили в этих краях первую крепость. Вот только ни радостной толпы встречающих, ни развевающихся флагов, ни трубачей на берегу видно не было. Лишь несколько всадников, придерживая коней, следили за приближением нефа.
Со стороны картина представлялась вполне обыденной для местных обитателей — еще один контрабандист, только и всего.
Но тот, кто наблюдал разворачивающееся действо со скалы, не был ни контрабандистом, ни местным простолюдином. Напряженно теребя рыжеватый ус, он глядел, как корабль бросает якоря, как первые мореходы спускаются за борт и, утопая едва ли не по грудь в густо-зеленой жиже, выбираются на берег. Приветственные крики, объятия… Стефан Блуаский следил за всем этим почти безучастно. Только пальцы, то и дело поглаживающие аккуратно подстриженные усы, позволяли заметить, что он волнуется.
Вот был спущен за борт и собран широкий деревянный настил, а на него уже стали высаживаться воины с длинными щитами в кольчугах и шлемах. «Один, пять, десять… Пора! — сам себе проговорил Стефан Блуаский и повернулся к Роберту Клиффорду. — Пусть начинают».
Взмах руки, и воздух тут же наполнился свистом длинных, хорошо оперенных стрел. Несколько человек упали наземь, хватаясь за торчащие в теле древка, еще двое или трое рухнули в воду, остальные же опомнились с завидной расторопностью. Образовав кольцо, одни воины закрывались длинными миндалевидными щитами, другие быстро ставили тетивы на свои луки, торопясь дать нападающим достойный ответ. Стрелы с прибрежных скал взмыли снова, но уже с меньшим результатом. Тут же в ответ им понеслись другие, и с берега, и с корабля.
— Пусть отступают, — скомандовал Стефан. — Еще два выстрела и — беспорядочное бегство.
Приказ командира незамедлительно был передан засевшим среди скал лучникам и в точности исполнен. Всего через несколько минут нападающие, впечатленные сопротивлением атакованного отряда, с криками бросились наутек. Воодушевленные противники не преминули громогласно восславить святого Георгия и устремились в погоню, горя жаждой мести.
— Прекрасно, — глядя на бегущих воинов, почти нежно проговорил Стефан Блуаский. — Я не сомневался, что мой дядя пришлет для сопровождения Матильды таких же храбрецов, как ты, мой верный Роберт. Ну и, конечно, таких же дураков. Что бы им не задаться вопросом, неужто и впрямь шайка лучников надеялась захватить корабль, полный хорошо вооруженных и обученных воинов? Что ж, не умеют работать головой — пусть работают ногами. Всем приготовиться!
Лучники в кожаных, лишь кое-где усиленных стальными пластинами куртках, бегают куда быстрее, нежели одоспешенные воины в длинных кольчугах. Но упорство, свойственное вообще потомкам викингов, сложившись воедино с яростью саксов, сыграли с людьми Генриха Боклерка плохую шутку. Они бежали за лучниками, не упуская их из виду, без малого целую милю.
И вот уже разбойникам не уйти, как вдруг на гребне невысокого холма, развернувшись широким фронтом, появилась рыцарская кавалерия Стефана Блуаского. Постояв не более трех минут на пологом склоне, точно рассматривая подвернувшегося на свою беду врага и выбирая жертвы, рыцари опустили копья и, зажав их древки под мышкой, устремились в атаку. Звонкий гул рога и рев боевых кличей возвестили о начале боя, несущего славную гибель одним и бесчестную победу другим.
— Вот теперь наша очередь, — прислушиваясь к звукам далекой схватки, возвестил внук Вильгельма Завоевателя. — Ты поведешь отряд по берегу, а я атакую с моря.
— Повинуюсь, мой принц, — склонил голову Роберт Клиффорд и, придерживая рукоять меча, поспешил вниз.
Не успели еще вдали смолкнуть звуки неравного боя, как и на побережье все было закончено. Отряд под командованием сэра Роберта Клиффорда, появившись из-за скал, широкой рысью направился к кромке воды, демонстрируя желание спешиться и атаковать корабль. Оставшиеся на борту защитники готовы были погибнуть, но не пустить на палубу врага. При этом они совершенно упустили, что видимость бывает порой весьма обманчива. И потому, когда Стефан Блуаский с отрядом телохранителей, тихо подойдя на лодках к корме нефа, взобрался на ахтеркастль[38] и ударил им в спину, на корабле не нашлось никого, кто бы смог оказать достойное сопротивление.
— Корабль ваш, милорд.
Тучный рыжеволосый капитан старательно изогнулся в поклоне, демонстрируя покорность.
— Это я уже понял, Джон. — Стефан Блуаский хлопнул шкипера по плечу. — На вот тебе за службу, как обещано.
— Благодарю вас, милорд!
— Где Матильда?
— У себя в каюте. Ее охраняют мои люди.
— Ну что ж, надеюсь, они любезны с моей дорогой кузиной. — Он подтолкнул капитана в сторону кормовой надстройки. — Веди!
Вдовствующая императрица сидела за столом, шепча молитву и перебирая четки. Еще вчера верный шкипер Джон вдохновенно убеждал ее, что идти прямиком в Лондон по Темзе слишком опасно, поскольку враги ожидают ее именно там, а перехватить корабль на реке — легче легкого. Уже сегодня она могла убедиться, сколь неразумно было соглашаться с его предательскими словами.
Матильда подняла глаза от богато разукрашенного Евангелия, украдкой разглядывая мрачного звероподобного боцмана и двоих матросов ему под стать, стерегущих вчерашнюю хозяйку Западной Римской империи и благородных дам ее свиты. Кровь Вильгельма Завоевателя закипала в ней при мысли, что ее так легко обвели вокруг пальца. Она желала действовать, но, увы, не знала как. «Нужно выждать, — убеждала она себя. — И если сейчас не на кого положиться, то это не означает, что таковой или таковые не появятся завтра. А может, уже и сегодня. Необходимо выждать. А сейчас я — смиренная, убитая горем вдова». Матильда с силой закрыла веки, стараясь выжать слезы в уголках глаз.
— Ба! Кузина, дорогая! Неужели же ты проспала самое интересное?
«Стефан! — про себя прошептала дочь Генриха Боклерка. — Ну конечно, кто же еще мог решиться на такое?»
— Приветствую тебя, мой отважный кузен, — величественно, но с плохо скрываемой иронией в тоне проговорила женщина. — Почему-то мне не кажется, что ты встречаешь меня по поручению отца.
— Как ты догадлива, моя дорогая. — Он подошел к сестре. — Что ж, люди не врали. Ты и впрямь замечательно расцвела.
— Твои слова мне лестны.
— Дьяволовы рога! Это хорошо, что мы так легко понимаем друг друга! Значит, небольшое путешествие, куда я намерен пригласить тебя, доставит удовольствие нам обоим.
— Но, милорд… — Шкипер удивленно вмешался в речь Стефана Блуаского.
— Ты, кажется, чем-то недоволен? — Граф резко повернулся в сторону капитана и хищно оскалился. — Говори, недоволен?
— О нет, что вы! — Мореход выставил перед собой руки. — Но, быть может, вы забыли… Я не хотел бы напоминать…
— Вот и не напоминай, — оборвал его племянник короля. — У тебя есть два часа, чтоб выкинуть за борт трупы и приготовить корабль к отплытию. Вино и продовольствие тебе доставят прямо сюда. Мы идем в Бристоль.
* * *
Лицо Михаила Аргира помрачнело так, будто слова монаха нашли в его душе живейший отклик.
— Как страшно жить в этом суетном мире, — повторил он и впал в молчаливую тоску, которую со стороны можно было принять за возвышенную задумчивость. Впрочем, всякий, кто знал в прежние времена топотирита палатинов, готов был побожиться, что ни возвышенная задумчивость, ни какая-либо иная ему вовсе не свойственны.
Могучий воин безмолвствовал, как сфинкс, внезапно позабывший разгадку собственной загадки. Он смотрел перед собой окаменевшим взглядом, боясь признаться самому себе, что единственным человеком, который мог обвинить его в убийстве юного Алексея Гавраса, была несравненная, восхитительная, нежно любимая Никотея.
Михаил Аргир чувствовал, как зашнурованный панцирь давит ему грудь, и потому намертво вцепился в верхний обрез пластинчатого жерла доспеха, стараясь оттянуть его, чтобы продышаться. Никто, кроме Никотеи, не знал, не догадывался и не мог догадаться о его планах.
Что же это получается? Она, почти не скрывавшая своего расположения к нему, вдруг предала его ни с того ни с сего. «Но она думала, что я мертв, — попытался найти хоть какое-то объяснение поступку воплощенного ангела грозный воитель. — Что это меняет? — ответил он сам себе. — Ровным счетом ничего. Она предала меня, живого, и предала память обо мне, обвинив мертвого, тем самым лишая возможности если не оправдаться, то хотя бы сказать слово в свою защиту… Этого не может быть, — прошептал он. — Может». Эта мысль обожгла его, точно удар плетью. И он заскрипел зубами, словно пытаясь разгрызть каждый звук отныне ненавистного имени.
— Благородный господин собирается в Херсонес? — покончив с возвращением украденного и ограблением мертвых, поинтересовался святой отец.
— Не сегодня, — с трудом справляясь с навалившимся удушьем, выдавил Михаил Аргир. — Но я доведу тебя почти до самого города, если желаешь, можешь сесть на второго коня.
— О, это мне не по чину! Вот мул бы… А на таком-то я и не удержусь, поди.
Аргир пожал плечами.
— Если благородный господин позволит, я пойду у стремени.
— Как знаешь, — задумчиво кивнул всадник, — но не отставай.
«Воистину встреча с этим монахом — небесный знак! — думал он. — Ведь, по сути, убил я этого несчастного мальчишку случайно, не со зла. Ну что мудрить — убил. Так получилось. И с той поры беды, пусть не смертельные, но все же опасные преследовали меня вплоть до сегодняшнего дня.
Выходит, я смыл вину? Нынче я творю лишь добро. Я защитил рыбарей, которые приютили меня, я щедро заплатил беднякам, поделившимся со мной своей нищенской кашей. Я спас этого монаха от грабителей. И Господь жалует меня откровением. Ведь проедь я мимо или же задержись ненадолго, к вечеру я был бы уже в Херсонесе. И не просто в Херсонесе, а во дворце архонта, где всякий узнает меня и в лицо, и по голосу, даже и по поступи. Этак, глядишь, следующего утра тогда уж и не увидеть бы!
Господь явно благоволит мне! Он даже наказывает, любя. Возможно, и смерть Алексея Гавраса была по-своему богоугодным делом?! Мне не дано знать почему. Но уж конечно Всевышний хранит своего верного слугу для великих деяний! И в первую очередь я должен положить конец злобному коварству этой змеи в образе ангела небесного».
— Святой отец, — обратился он к семенящему рядом монаху, — я бы желал просить вас об услуге, совсем небольшой. Я не хочу сегодня идти в город. Думаю предаться уединенным размышлениям, молясь о душах несчастных, павших ныне от моей руки, а завтра я думаю навестить кое-кого в Херсонесе. Вы, я вижу, человек честный. Не откажите принести мне поутру сыра, жареного мяса, кувшин вина, зелени, ну и, понятное дело, лепешек. Вот несколько монет, полагаю, этого хватит. Если нет, я потом добавлю.
— Сделаю все!
— Быть может, к тому же вы знаете поблизости какое-нибудь уединенное место, где я мог бы провести эту ночь?
— Неподалеку от города есть полуразваленная часовня. По слухам, в ней бродят призраки. Но если вы не боитесь…
— Призраки страшат меня куда менее, чем живые люди, но и их я не слишком боюсь. — Правый уголок губ Михаила Аргира хищно поднялся вверх, а левый тут же пополз вниз. — Часовня, так часовня.
* * *
На всем пути из варяг в греки, на обоих берегах Днепра и у холодных вод Балтии, пожалуй, не было столько православных храмов, сколько было их в одном Херсонесе. Словно в прежние века в Риме, стоило местным жителям прознать о существовании какого-либо бога, а ныне — святого, как они норовили построить ему храм или хотя бы часовенку.
Сегодня весь этот сонм подвижников и мучеников за веру был потревожен в царстве Божьем неуемным колокольным звоном и слитным пением тысяч хорошо тренированных глоток. Со всех амвонов Херсонесской фемы предавалось анафеме имя безжалостного душегуба Михаила Аргира, отнявшего жизнь безвинного отрока Алексея Гавраса.
Едва успевший к началу службы в Троицкий монастырь, разносчик святых образков поспешно сдал чудом спасенную выручку и занял место среди остальной братии, дабы присоединить свой глас к гневным проклятиям. В его голове весь час службы обретались возвышенные размышления о запрете христианину посягать на жизнь единоверца, о заповеди «Не убий» и необходимости различения справедливого возмездия и несправедливого злодеяния.
«Вот не попадись мне нынче этот благородный витязь, — с благодарностью вспоминая могучего воина, думал смиренный монах, — разве смог бы я и далее сохранять свою богоугодную жизнь и продолжать деяния во славу Господа? Конечно, он пролил кровь, но мне след молить, чтобы Всевышний простил ему это прегрешение, тем более столь глубока бездна его раскаяния за содеянное им смертоубийство. Ибо, подвергая риску жизнь свою, он не алкал крови ближнего, но защищал Божьего человека и достояние храма. Эх, побольше бы в этом мире было таких достойных воителей, как мой незнакомец, и поменьше мерзавцев, как нечестивый выродок Михаил Аргир!»
Когда призвание молний, язв и прочих бед на голову душегуба было окончено и Божьи люди начали расходиться по уединенным кельям, смиренный монах нащупал замотанные в пояс монеты, данные ему доблестным спасителем, и со вздохом направился в Бюро Варваров, чтобы сообщить преподобному отцу Гервасию о встреченном на дороге странном незнакомце.
Прямо сказать, брат во Христе Гервасий отчаянно страшил его, хотя, казалось бы, не говорил, а уж тем паче не делал ничего такого, что бы могло испугать ближнего. На губах его всегда была доброжелательная улыбка, вот только глаза смотрели как будто сквозь замершего под его пронзительным взглядом собеседника. Так произошло и в этот раз.
— …И что же было далее? — дослушав ночного гостя, любезно поинтересовался отец Гервасий, сверля колкими глазами изрядно оробевшего монаха.
— Сей воитель передал мне несколько монет и просил купить ему еды и вина и завтра утром принести к месту, где он предается молитве и покаянию.
— Что ж, это богоугодно и милосердно, — кивнул глава местных катаскопоев. — Но я вижу, что-то насторожило тебя.
— Быть может, это и не стоит вашего многомудрого внимания, вероятно так, пустяки, но… — Монах замялся и выложил перед доверенным человеком архиепископа Готского несколько бронзовых монет. — Он дал мне вот это.
Отец Гервасий взял одну из монет, поднес ее к пламени свечи, чтобы рассмотреть получше, покрутил в пальцах, положил на стол, взял еще одну монету. На бронзовом кругляше был изображен сидящий на лошади воин со штандартом, надпись по кругу гласила: «Рожериус Комес». На аверсе красовалась восседающая на троне Богородица с Иисусом на коленях. Сумятицу букв, которую старательно вырезал неведомый мастер, прочитать было невозможно. Мусульманскому умельцу при дворе Роджера I Сицилийского было столь же невдомек, что за закорючки он вырезает, как и франку, вздумай он изобразить арабскую вязь.
«Тройной фалларо, — про себя отметил отец Гервасий. — Даже здесь эти разбойники норманны остались верны себе! Если поглядеть на трон Божьей Матери, невольно кажется, что восседает она на одном из их проклятых змееголовых кораблей».
— Ты поступил благоразумно, брат мой, принеся сюда эти монеты. Твое решение похвально и заслуживает награды. Я передам отцу игумену, чтобы он поощрил тебя. Однако в монетах, которые ты принес, нет особой крамолы. Ступай к отцу казначею, отдай ему их, он же выдаст тебе столько же, но в денариях, чтобы у тебя не случилось затруднений при покупке еды и вина для твоего достойного спасителя. Кстати, ты говоришь, он очень высок?
— Да, высок, строен, широк в плечах, по всему видать, очень силен. И… хоть мне и зазорно говорить о том, но мне кажется, он не знает отказа у женщин.
— Что же, так красив?
— Красив, — с невольной грустью вздохнул монах. — Русые кудри, темные брови вразлет, нос прямой, ровный, глаза пылают отвагой.
— Ты столь ясно запомнил его?
— Святой отец, Господь наградил меня даром рисовальщика. Пять дней в неделю я тружусь над образками. Увидев же сего доблестного воителя, я воочию узрел, каков должен быть святой Георгий, Великомученик и Победоносец!
— Ну да, — вздохнул отец Гервасий, сгреб все монеты, кроме одной, со столешницы и протянул их иконописцу. — Господь милосердный награждает прозрением достойных. Ступай, брат мой, к отцу казначею, а эту монету я пока оставлю себе.
Дождавшись, когда закроется дверь за умиротворенным богомазом, отец Гервасий резко помрачнел и достал из-под открытого требника монету, в точности сходную с той, что лежала перед ним на столешнице.
— Значит, рыбари и свечники сказали правду. Он не утонул и движется сюда.
* * *
Архонт Херсонеса, дука Готии Григорий Гаврас в эту ночь и не думал спать. Он метался из угла в угол дворцовой залы, не замечая, что большинство свечей уже погасли и с каждой минутой в помещении становится все темней. Ему, сыну грозного воителя и великомученика Федора, прозванного Стратилатом, сегодняшний день представлялся едва ли не самым тяжелым и решающим днем его жизненных испытаний.
Судьба, точно насмехаясь, обратила во зло и прах все то, чем он дорожил, что многим казалось счастливым жребием. Его отец, наследник богатого и знатного рода Гаврасов, происходил из Халдийской фемы. С юношества он снискал заслуженную славу непобедимого воина, а затем и полководца. Опасаясь его популярности, коварный родитель нынешнего императора послал будущего святого сражаться с персами в Трапезунт. И грозные враги очень скоро начали слагать легенды о благородном, но весьма опасном противнике Федоре Гаврасе. Сам же он в это время продолжал биться насмерть, будто не замечая, что василевс оказывает все меньше помощи герою, а потом и вовсе оставляет его наедине с врагом.
Молодому Григорию Гаврасу довелось видеть оборотную сторону этих событий. В дни, когда его отец сражался на восточных рубежах империи, будущий правитель Херсонеса жил почетным заложником при императорском дворе. Его попытки бежать из Константинова града туда, где едва ли не каждый день вспыхивали бои, пресекались жестко и безапелляционно. Алексей Комнин почитал глупостью верить в преданность собственной знати. Когда же речь шла о Федоре Стратилате, то и подавно. Могущество дуки Трапезунта росло столь быстро, что, по мнению императора, его следовало крепко держать за горло, дабы он и подумать не смел о создании собственного царства.
Но в один ужасный день в столицу ромеев примчался гонец с известием, что Федор Гаврас пленен во время похода на сельджуков.
Восхищенный храбростью знатного врага, султан Хорасана предложил ему принять мусульманство, обещая сохранить жизнь и сделать своим приближенным. Но Федор Стратилат гневно отказался от такого спасения и был предан мученической смерти.
Григорий был уверен, что в пленении его отца дело не обошлось без предательства. Уж больно напоказ негодовал василевс и его двор, глядя, как из-под влияния Константинополя уходит целая провинция. Уж больно скоро патриарх велел причислить святого воителя к числу великомучеников. Тогда он сцепил зубы, понимая, что для отмщения нужны силы, которых у него нет. Он стал верным царедворцем, преданней которого и сыскать было нельзя. И чем громче звучало имя его замученного отца, тем с каждым годом прочнее становилось его собственное положение.
И все же император Алексей опасался передавать власть в Трапезунте старшему из мужчин рода Гаврасов и потому отправил его архонтом сюда, в Херсонес. Но то, что должно было ослабить их род, только усилило его. И теперь Херсонес и Трапезунт, точно две могучие руки, готовы были сомкнуться на горле Комнинов.
Вначале, когда Алексей II умер, Григорию показалось, что месть умерла вместе с почившим василевсом. Иоанн был товарищем в его детских играх, и потому молодой Гаврас был из первых, кто поддержал Красавчика в его притязаниях на трон. Расплата была жестокой. Теперь, когда Иоанн сам набрал силы, он пытается вычеркнуть из своей жизни всех тех, кому был хоть чем-то обязан, кто мог припомнить ему это, не изогнув смиренно хребет у императорского трона, а так, как он, глядя ему прямо в глаза.
Да, конечно, Иоанн сделал прекрасный выбор. Михаил Аргир, да станет вода ему вечным пламенем, фигура здесь известная и многими любимая. Его доблесть несомненна, как, впрочем, и готовность проливать кровь, невзирая на лица, родство и прежние отношения. Хвала Всевышнему, не допустившему столь гнусного преступления, и вечная признательность Никотее, открывшей ему глаза на планы «старых друзей»! Теперь пришла его пора нанести удар. Ничто более не помешает Гаврасам это сделать!
— Что-то беспокоит славнейшего правителя? — внезапно услышал Григорий за спиной.
Архонт вздрогнул. Он не слышал, как вошел ночной гость, и невольно сморщился, досадуя на себя за этот промах.
— Быть может, достославный архонт желает, чтобы я передал распоряжение и в зале поставили новые свечи?
Гаврас оглянулся по сторонам.
— Нет, и этого довольно. Что привело вас сюда в столь поздний час, отец Гервасий?
— У меня для вас новости.
— Вот как? Что-то случилось?
— Имеются почти достоверные сведения, что убийца вашего сына жив и здравствует.
— Вы, должно быть, шутите. Он утонул во время кораблекрушения.
— Он спасся. И более того, он сейчас направляется сюда.
— Если это правда, святой отец, а я молю Бога, чтоб это было правдой, — сквозь зубы процедил архонт, — я прошу вас, нет, я требую, чтобы вы доставили мне его сюда живым! Мне не важно, как вы это сделаете и что для этого потребуется. Вы получите все, что понадобится, а сверх того еще золота для Готской епархии столько, сколько весите сами! Но сделайте это как можно скорее. Не медля.
— Все будет сделано, блистательнейший дука. Вы позволите мне взять воинов из отряда вашего сына? Вы же знаете, Михаил Аргир очень силен и опасен.
— Хотя бы и всех! Да он и сам наверняка пожелает идти. — Архонт быстрым шагом направился к высокому креслу, у которого стоял прислоненный резной посох. — Эй! — Он стукнул об пол этим золоченым символом власти. — Призовите ко мне Симеона!
Появившийся в дверях палатничий с опаской глянул на впавшего в ярость господина.
— Он здесь и только ждет повеления войти.
— Уже здесь? Вот и прекрасно. Передай, пусть войдет. А вы, отец Гервасий, ступайте, но помните, сегодня же я хочу увидеть этого выродка гиены перед собой.
Святой отец поклонился, спеша исчезнуть так же тихо, как появился.
Григорий Гаврас крутанулся на алых каблуках, ища, на что бы обрушить гнев, яростным огнем терзающий все его нутро. И не найдя, на что излить его, со злобой отшвырнул посох.
— Что случилось, отец?
Симеон Гаврас вбежал в залу, готовый, кажется, схватиться с любым, пусть даже неведомым и невидимым противником.
— Ничего, — устыдившись вспышки неконтролируемого гнева, со вздохом проговорил архонт и медленно, стараясь выглядеть как можно величественнее, опустился в высокое кресло.
— Это что же, хитромордый шакал Гервасий довел тебя до такого негодования? — глядя на валяющийся посреди зала посох, поинтересовался турмарх и, подняв лежащий бесхозно знак автократорской власти, подал его отцу.
— Не смей называть его так, — хмуро отозвался Григорий Гаврас. — Он делает свое дело. Грязное, но необходимое.
— Мне этого не понять, отец. Но не с этим шел я к тебе.
— Когда-нибудь поймешь, — поудобнее перехватывая вызолоченный посох, хмуро ответил архонт.
Его сын лишь пожал плечами.
— Отец, ты уже много раз призывал меня жениться. Нынче я готов исполнить твою волю. Я встретил ту, о которой мечтал всю жизнь. Ее глаза… Отец, я увидел их и утонул!
— Что ж, это хорошая новость. — На сведенных злобой губах старшего Гавраса появилась невольная улыбка. — Надеюсь, она хорошего рода?
— О да.
— И кто же это? Я ее знаю?
— Севаста Никотея, племянница императора.
— Никотея?! — У архонта перехватило дыхание. — Ты соображаешь, что говоришь? — едва выдавил он.
— О да, конечно! Ведь ты же не станешь оспаривать, что еще мой дед был севастом, ипатом и патрикием.[39] Его жена, моя почтенная бабушка, происходит из царского рода Таранитов.
— Я знаю это получше твоего! — оборвал его отец. — Речь не о том.
— Тогда о чем же? Наш род богат и знатен. Не думаю, чтобы император отказался от такого родства. Ведь выдал же его отец за тебя…
— Замолчи, глупец! Император… — Григорий Гаврас встал и снова начал расхаживать по зале.
— Император подсылает ко мне убийц.
— Этого не может быть! Он высоко ценит вас.
— Ложь и вероломство! Замолчи и слушай. Иоанн Комнин послал сюда убийцу твоего брата, Михаила Аргира, чтобы тот отыскал здесь заговор, который мы якобы плетем, и пресек его столь же кроваво и ревностно, как он это сделал не так давно с половцами, то есть попросту свернул нам головы. Сегодня Никотея поведала мне об этом. Она на нашей стороне. Ей тоже есть что терять и что припомнить своему ненаглядному дядюшке Иоанну.
Усвой накрепко, мой дорогой и, увы, с недавних пор единственный сын. С этого дня для тебя нет больше василевса. Есть разбойник, оружием и обманом занявший престол в граде святого Константина. И разбойник должен быть покаран. Даже если для этого придется весь остаток жизни посвятить этой великой цели.
— Как скажешь, отец, — медленно, с трудом веря услышанному, смиренно проговорил Симеон. — Но тем более, если Никотея — наша союзница против общего врага…
— Забудь! — Григорий Гаврас грохнул посохом об пол. — Забудь, выкинь из головы. Завтра Никотея отправится с посольством в Киев, чтобы стать женой князя Мстислава Мономашича.
— Отец, но он… и она… Ведь она не любит его!
— Молчи! Молчи, не смей перебивать! — рявкнул архонт. — Не любит. Она едва слышала о нем. Но Мстислав — это воины и корабли. Причем воины, уже более десяти лет не знавшие поражений. Ради нашей общей победы Никотея готова принести себя в жертву. И ты смирись!
— Я не желаю приносить такую жертву, отец. И принимать ее не желаю.
— Смирись! — грозно нахмурился правитель Херсонеса. — Я требую! Я повелеваю тебе. Она должна стать женой князя и правительницей в Киеве. Кровь твоего деда, кровь твоего брата, годы моих страданий взывают к тебе! Не смей более и думать о ней!
— Отец, я готов сложить за тебя голову, я готов отдать по капле свою кровь. Но… я не могу не помышлять о ней.
— Глупец! О Господи! Влюбленный глупец. — Архонт с силой сжал виски, пытаясь унять стучащую в них кровь. — Что ж, если тебе уж так неймется, вспомни о превратностях воинской судьбы, о том, как она порой бывает переменчива, о том, что даже самый храбрый и удачливый герой может пасть жертвой роковой случайности. Я слышал, что одного из предков нынешних князей русов в час победы укусила змея, притаившаяся в черепе некогда любимого княжьего коня. Если Никотея останется вдовой…
— Неужто ты предлагаешь мне… — отшатываясь от отца, пробормотал Симеон.
— Я предлагаю тебе не быть дураком. И помнить, что ты — будущий правитель. — Григорий Гаврас остановился. — Нет, будущий василевс ромеев.
Глава 15
Несогласие с очевидным — отличительный признак твердого характера.
Как рассказывали мудрецы древности, громовержец Зевс, победив титанов, а быть может, Господь триединый, сокрушив врага рода человеческого с воинством его — за давностью лет сказать точно невозможно, — заключил побежденных соперников в глубь земных недр, точно в темницу, возможно, до Страшного суда, возможно — до Рагнарека. В свой срок узнается и это. Однако мятежный дух узников порой столь демонстративно проявляет себя, что сотрясает твердь и поднимает волны размером с горы.
В районе Херсонеса подобные сотрясения — не редкость. И, понятное дело, в своей лютой ненависти владыка подземного мира стремится уничтожать храмы, построенные человеком владыке небесному.
Часовне, которая служила ночным пристанищем Михаилу Аргиру, не повезло, подобно многим другим домам и церквям. Все они были сокрушены землетрясением лет за пятьдесят до того. Стены ее обвалились, уронив купол на головы молящихся о спасении, однако крипта, построенная, должно быть, еще в эпоху первых христиан, чудесным образом выстояла.
И все же то ли мрачная память о погибших здесь людях, то ли отдаленность от городских стен продиктовали окрестным жителям решение покинуть оскверненное место, оставив его воронам и скорпионам. Ни те ни другие не боялись глухих стонов погибшей в завале паствы, как, впрочем, не боялся стонов и бестелесных гостей наводивший страх на половцев Михаил Аргир. Немного поколебавшись, вводить ли коней внутрь некогда священного места, он в конце концов пожал плечами и завел их, не забыв при этом заградить каменьями выход. Вряд ли это могло помешать разгуливать призракам, зато для волков стало бы непреодолимой преградой.
Ночь дышала свежестью, и стрекотание цикад настраивало на радостно возвышенный лад. Неподалеку чуть слышно журчал ручей, и звезды глазами ангелов глядели на землю, радуя душу разлитым вокруг покоем.
При всей любви к роскоши, Михаил Аргир был опытным воином и потому ночевка под открытым небом не была ему в диковинку. Подложив под себя одну конскую попону, он укрылся второй и, сунув в изголовье свернутый плащ, устало смежил очи, расслабленно вслушиваясь в божественный ночной хор.
Пожалуй, всякому, кто увидел бы его в этот момент, могло показаться, что могучий ромей спит сном праведника, глубоко и спокойно. Однако те, кто бывал с Аргиром в походе, подняли бы на смех подобного наблюдателя. Точно дельфин, спящий лишь одним полушарием мозга и бодрствующий другим, топотирит палатинов одновременно спал и слышал все, что происходит вокруг. Он бы и сам теперь не смог вспомнить, было ли это врожденным свойством или же приобретенным за годы жизни при императорском дворе. Воистину после такой закалки битвы с половцами могли показаться не опаснее охоты на туров.
Михаил Аргир спал, положив руку на меч, и стоило бы неведомому врагу хрустнуть веткой или зацепить лежащий на земле камешек, как храбрый ромей был бы уже на ногах, готовый поразить всякого, рискнувшего приблизиться к нему. Однако пока что мозг его воспринимал лишь шорох листьев, потревоженных ветром, и хор цикад, обращенный к яркому бизанту луны.
Ему снился залитый солнцем весенний сад, благоухающий жасмином, сидящая на восточных подушках Никотея, за спиной которой, чуть поодаль, точно не желая отвлекать хозяйку, располагалась ее неразлучная наперсница и служанка Мафраз. У ног красавицы стояло серебряное чеканное блюдо, полное фруктов и сладостей. Своими тоненькими нежными пальчиками Никотея отщипывала от тяжелой грозди по одной ягодке и со смехом вкладывала в уста юноше, лежащему на кошме перед ней. Тот что-то говорил — Михаил не слышал что. Но по тому, как смеялась Никотея, он понимал, что незнакомец рассказывает что-то веселое.
И вдруг, точно почувствовав взгляд, обращенный в спину, юноша обернулся, и Аргир, не просыпаясь, тряхнул головой. На него смотрели глаза этого проклятого мальчишки, Алексея Гавраса. «Так он жив, — мелькнуло в голове Михаила. — Я только ранил его». Словно в опровержение его мыслей лицо пажа начало стекать, совсем как накрашенная морда языческого идола под дождем. Еще мгновение, и человеческий остов глядел на него пустыми глазницами, скаля в безгубой усмешке зубы.
Никотея, уязвленная потерей внимания к своей особе, окликнула юного Гавраса, тот незамедлительно повернулся, и в знак прощения тут же получил новую виноградину. Их веселая беседа продолжилась как ни в чем не бывало.
«Ах-х!» Михаил Аргир глубоко вдохнул и совсем рядом услышал подобный вдох. Он распахнул глаза, словно и не спал вовсе, и в провале, некогда служившем входом в крипту, увидел кабанью морду. Освещенная полной луной, черная туша казалась неестественно тощей, будто скелет, обтянутый щетинистой шкурой. Но клыки вепря, хищно изогнутые, недвусмысленно блестели в лучах ночного светила, обещая гибель всякому, кому суждено с ними познакомиться.
Неожиданно для себя задохнувшись, ромей вскочил, готовясь ткнуть клинком в адскую тушу. «Не возьмешь!» — заорал он и увидел, как округлое зеркало луны глядит на него с неба, усеянного звездами. Ни кабана, ни его клыков не было и в помине. Только лошади фыркали, почуяв закипающую ярость хозяина. Михаил уселся на обломок капители, хватая голову руками и стараясь унять частое сердцебиение. Где-то совсем рядом послышался вздох, точно кто-то потянул носом воздух, затем быстрые тихие шаги.
Михаил вскочил и стремительно обернулся — никого. Он прислушался. Вздох повторился. «Ерунда. Это, должно быть, какой-нибудь зверек. Еж или там…» Аргир так и не смог придумать, кто еще мог издавать подобные звуки. «Чушь!» Он мотнул головой, обвел взглядом руины крипты и снова улегся на попону. «Надо спать. Завтра потребуется много сил». Дыхание раздалось совсем рядом, Аргиру даже показалось, что он почувствовал дуновение от выдоха. «Проклятие!» Он снова распахнул глаза. Ни человека, ни тени. «Чертовы ежи!»
Он полежал еще немного, стараясь разглядеть хоть одно из этих зловредных животных, но не тут-то было. Вскоре веки его сами собой опустились, и тут он услышал негромкий колокольный звон, точно идущий из-под земли. «О Господи! — прошептал топотирит палатинов, вновь усаживаясь на капитель. — Нет, все ерунда. Ночь темней всего перед рассветом. Просто где-то в одном из ближних монастырей уже звонят к заутрене. Только-то и всего».
Воин снова улегся, но сон не шел. Пролежав еще какое-то время с открытыми глазами, Аргир увидел, как светлеет восток. Понимая, что дальнейшие попытки уснуть бесполезны, проворно вскочил на ноги, попрыгал, чтобы размять затекшее тело, и занялся делами, привычными до обыденности, а потому, несомненно, успокаивающими и приводящими в чувство. Взнуздав коней, поупражнялся с мечами, встал на руки и прошелся вниз головой по лужайке, некогда бывшей церковным двором.
«Самое время умыться, а заодно и напоить коней, — заметно воспрянув духом, подумал он и, взяв скакунов под уздцы, повел их к ручью. — Чертов монах с его рассказами о привидениях! — думал Аргир, выбирая себе путь между валунов каменной осыпи. — Это ж надо было так испортить мне сон! Накаркал, черноризый».
В подтверждение его слов, над головой ромея громко прокашлялся ворон, давая команду хору утренних птах. «Распелись!» — буркнул Аргир. На душе его вновь было радостно и легко. «Скоро заутренняя кончится, и припрется этот с новостями и едой».
Сейчас он сам не взялся бы ответить, чего ждал больше. Умывшись, напоив коней и наполнив водой притороченные к седлам бурдюки, Михаил Аргир удобно расположился в тени разлапистого вяза, широко раскинувшего ветви над скалистым уступом, откуда волей Предвечного Творца открывался замечательный вид на округу. Михаил уже собрался было вздремнуть, когда на тропе, шедшей внизу, показалась одинокая фигура в монашеском облачении, бредущая в гору с узелком за спиной. «А вот и он! — с усмешкой констатировал Аргир. — Стало быть, все хорошо… Или не все?»
Над лесом, тянувшимся низиной, вились птицы, почему-то опасаясь возвращаться на насиженные ветви деревьев. «Или не все?!» — опять повторил напрягшийся воин, вглядываясь в залитый рассветным солнцем лес. Так и есть. На опушке сквозь кустарник блеснула сталь доспеха, затем в стороне еще одного и еще… «Вот оно, значит, как. В благодарность монашек привел мне к завтраку незваных гостей. Очень мило! Если бы я сейчас спал, досматривая сладкие утренние сны, пробуждение сулило бы мне негаданную встречу. Так, значит, Господь хранит меня! — Невесть, откуда всплыла в голове Аргира вчерашняя мысль. — Ну конечно же, он меня хранит! И этот дурацкий сон, и эти ежи-призраки — все для того, чтобы спасти мне жизнь! Значит, я на верном пути. И… не стоит заставлять Господа делать для меня более, чем он делает». Михаил Аргир неслышным шагом подошел к своим джинетам и, что-то нашептывая им попеременно, тихо повел прочь. «Господь на моей стороне, — чуть слышно твердил он. — И я на стороне Господа!»
* * *
Кортеж посольства севасты Никотеи начал движение от дворца архонта, словно бы демонстрируя, чьим, собственно, посольством на самом деле является. Возок племянницы Григория Гавраса катил на простых осях, как, впрочем, в ту пору и любой другой в Европе, да и во всем мире. Конечно, дай волю тому же Лису, он бы, на радость себе и людям, быстренько изобрел рессоры и жил бы вполне безбедно остаток дней, во всяком случае, до конца операции. Но институтский устав строжайше запрещал своим агентам подобные «шалости», а со столь важным документом, как устав, даже Лису, к его крайнему неудовольствию, частенько приходилось считаться.
Но пока что возок севасты катил по ровной наезженной дороге. Мессир рыцарь со своим бойким не только на язык приятелем скакали чуть позади. Вслед за ними двигался отряд графа Квинталамонте, а за ними на легких низкорослых лошадках буквально вился целый рой одетых в волчьи шапки наездников-аланов.
Охочие до зрелищ зеваки радостными криками провожали высокое посольство, желая ему успеха, не ведая, впрочем, ничего конкретного о его целях. Херсониты, сгрудившись по обе стороны дороги, кидали охапками цветы, славя прекрасную Никотею. Некоторые даже забирались на постаменты вылинявших мраморных статуй, украшавших путь ко дворцу по обе стороны.
— Гламурненько, гламурненько, — глядя на россыпи цветов под колесами и ногами коней, на богов и богинь, одетых в бледно-розовые туники, проговорил Лис.
— Это ты о чем? — удивленно спросил Камдил.
— Ну, вот эти северные девы в розовых трико. — Менестрель кивнул на красующихся друг перед другом граций. — Белые, холодные — одно слово, снежные бабы.
— Ну во-первых, — пустился объяснять уязвленный в своем понимании красоты мессир рыцарь, — ничуть они не похожи на снежных баб. Видел я их у вас зимой. Во-вторых, если тебе уж так не нравится мраморная белизна, то открою тебе страшную тайну. Раньше их тела раскрашивали точно так же, как и одеяния. Вот эти туники, к слову, были ярко-красными.
— А потом типа расходы на войну, краска закончилась?
— Почти, — усмехнулся Камдил. — Епископ Готский объявил античные изваяния бесовскими соблазнами и велел их разбить. Но архонт воспротивился. Однако раскрашивать их перестали. А ты говоришь «гламурненько»!
— М-да, — кивнул головой Лис. — Был не прав, вспылил. Думал, прапорщики местные расстарались. А тут — цельный епископ. Какое уж там «гламурненько». Готичненько!
Вальдар Камдил невольно прыснул и тут же услышал на канале связи ироничный голос Баренса:
— В высшей степени познавательная беседа! Какие еще темы нуждаются в срочном обсуждении, джентльмены?! Не хотелось бы думать, что вы окончательно забыли, для чего все мы здесь находимся. Между прочим, за последние дни дело не продвинулось ни на йоту.
— Но город-то устоял, — с неподдельной гордостью в тоне ответствовал Лис.
— Повезло городу! — констатировал Георгий Варнац. — Особенно когда твоя приметная фигура стала от него удаляться!
— Не, ну мы только начали строить версии, как нам тут же начали строить каверзы. Буквально стройка века.
— Лис, ты опять за свое?
— Ни-ког-да! Всегда за наше! — бравурно начал рапортовать Лис. — В боях с реальностью мы выросли и окрепли. Работая под девизом «Одна голова — хорошо, а две — задница», мы набрали пятнадцать штук голов. Так шо в общем зачете у нас семь задниц плюс одна голова. И пусть она еще не та, которую мы ищем, но все же она на плечах, а плечо можно подставить другу, который, если вдуматься, вовсе не задница.
— Господь моя защита!
— Эт да-а, — согласился Лис. — Господь, он — защита, и он — голова! Таким образом, у нас есть еще одна голова, а это уже…
— Лис, пощади! — возопил Баренс.
— Не, ну я только хотел вскользь коснуться динамического роста наших впечатляющих успехов на фоне кризиса административных тенденций.
— Я вижу, — прервал его монах-василианин, — эти успехи. — Он кивнул на отряд, сопровождающий посольство. — Самые отпетые разбойники!
— Не без того, — благодушно согласился Лис. — Других в этой тюрьме не было. Тут главное, шоб песни наши были.
— Какие еще песни?
— Ну какие? Тутошние! — И на радость бросающей цветы толпе Лис затянул звонко: — Ой на, ой на гори та й женци жнуть, а по пид горою, яром-долыною, козакы йдуть!..
— Ладно, ладно, песня хороша, и поешь ты громко…
Честно сказать, Георгий Варнац еще сам не успел толком прийти в себя от столь расширительного прочтения указа о помиловании, великодушно подписанного архонтом. Когда упомянутых в документе «его людей» вместо трех, четырех, считая Лиса, оказалось без малого полторы дюжины, он только покачал головой, высказывая на канале связи соратникам, что думает по этому поводу.
— А этого юношу для чего с собой взяли? — недовольно поинтересовался он. — Ну, разбойники — ладно, они хоть с оружием обращаться умеют…
— А Федюня зато в змеях разбирается, — не замедлил с ответом Лис. — А имея дело с нашей нежной севастой, как по мне, без такого специалиста никак не обойтись.
* * *
Распахнув окно, забранное цветными фряжскими стекольями, Владимир Мономах глядел на Днепр, где, ладно поднимая и опуская над водой весла, вверх по реке отправлялись лодьи с дружинниками воеводы Бьорна Хромая Смерть. Очень скоро они, как и отряды из других княжеств, должны собраться в Новгороде Великом, чтобы оттуда вместе с флотом короля свеев обрушиться на заморскую Бриттию. Он глядел, как переливаются яркими радужными красками солнечные блики на мокрых лопастях весел. Видение прошлого на миг охватило его. Брызги, ветер, холодящий лицо и раздувающий волосы…
До чего ж хорошо было дышать этим ветром, чувствуя, как он наполняет мощную грудь, не знающую усталости, как речная стремнина, грозящая гибелью неосторожному, обнимает, радуясь, крутые борта лодий!.. Все это было и минуло. И больше тому не быть. Теперь его ожидает последний поход. Только вчера он вопрошал потаенного демона, и тот повелел ему торопиться с выездом к Светлояр-озеру, когда не хочет он, чтобы корабли с дружинниками в море-окияне были захвачены бурным вихрем и кипучими волнами.
Зря пытался Великий князь уговорить лежащего на серебряном блюде «советчика», попусту твердил, что многим делам и великим тайнам следует ему научить остающегося на великом княжении Святослава, да и Мстиславу порассказать еще след немало. Хранивший его все эти годы демон был непреклонен, и времени на все про все ему было отпущено не более двух седьмиц. Всего-то до новолуния.
Великий князь глядел, как утиным выводком тянется к горизонту длинный строй лодий, и мучительно терзался поиском ответа, смириться ли, или же, как некогда отважный Харальд Хардрада, попытаться отчаянно переломить судьбу о колено. Он вновь вспоминал последнюю встречу с теткой Елизаветой, королевой Элисиаф.
Тогда после вручения свадебных даров, привезенных ею с бедняжкой Гитой, она властно оттащила племянника едва ли не в самый темный угол княжьих покоев и заговорила тихо, но столь требовательно, что у молодого тогда еще Владимира не хватило духу, чтобы молвить что-нибудь поперек непреклонной хозяйке севера.
— Я привезла тебе подарок, которому нет цены, — заявила Элисиаф. — Это — голова карлика Мимира, мудреца из мудрецов, которого в незапамятные времена убили коварные ваны и оживила богиня Фрея.
— Богиня? — переспросил тогда Владимир.
— Молчи и слушай! — оборвала его Элисиаф. — Богиня она была или колдунья — ни мне, ни тебе до того не должно быть дела. Главное — другое. То, о чем говорит эта невесть чем живущая голова, всегда сбывается. Мой супруг, доблестный Харальд, добыл ее в Константинополе. А как она попала туда, не знал ни он, да и ни один из тех, кто участвовал с ним в побеге, когда в столице ромеев случилось восстание. Но это и не важно. А важно то, что следующие двадцать лет Харальд не предпринимал ничего существенного, не посоветовавшись с Мимиром. И всегда, слышишь меня, дорогой мальчик, всегда побеждал.
— И все же нелепо погиб, — вставил тогда Владимир, более из упрямства, чем из желания противоречить властной тетушке.
— Да, — гневно зыркнув на него, отозвалась Елизавета Ярославишна. — И это был единственный случай, когда мой незабвенный супруг отказался следовать мудрому совету отсеченной головы. Я хорошо помню, как он бесновался, крича, что только Господь единый в силах помешать ему и никто не смеет указывать, что ему делать, а что — нет. — Элисиаф нахмурилась. — Харальд дал обещание Тостигу во время пира, захмелев от чересчур бурных возлияний, но, дав слово, уже ни за что не согласился бы отступиться от него. Мимир тогда сказал, что Харальду следует остаться в своих владениях, но тот заявил, что и Бриттия по праву — часть его владений, и спросил, что будет, если он отправится туда. Как объявил потом мой покойный супруг, глава обещала скорую и неотменимую смену царствования. Норманн должен был сесть на трон саксов. И ты знаешь, сын моего брата, чем все это закончилось. Мимир не обманул, но только норманном этим был отнюдь не Харальд.
Вскоре Элисиаф вернулась в родные земли, вернее земли, уже ставшие ей родными, оставив молодой чете сверх злата и парчи серебряное блюдо с головой мудрейшего карлика Мимира. Три года Владимир оберегал накрытое тяжелым вызолоченным шатерком блюдо, опасаясь не то что воспользоваться «свадебным подарком», но даже заглянуть под расшитый золотой нитью полог.
Так продолжалось до того то ли прекрасного, то ли, как думал он теперь, ужасного дня, когда на протяжении нескольких часов ему последовательно доложили об убийстве одного из дядьев братом его жены, очередном набеге половцев, пожаре, спалившем треть Чернигова… Тут-то Владимир и решился. Он понимал, что причисляемый теткой Элисиаф к сонму древних богов карлик — уж верно один из адских демонов, но, коль уж молитвы не могли помочь одолеть сыплющиеся, точно град, напасти, быть может, похищенная Харальдом голова и впрямь даст ему толковый совет. И, постояв в одиночестве у шатреца не меньше получаса, он с содроганием и замиранием сердца глянул в светящиеся глаза отсеченной головы.
Условия демона показались ему в ту пору необычайно легкими. Но теперь близился час расплаты, и на душе становилось все тяжелее и безрадостней. И тяжелее всего было то, что Великий князь не мог понять, что же, собственно, кроется за требованием Мимира отправиться на купание к Светлояр-озеру, в чем упрятано сатанинское коварство.
Место это, конечно, было дивное, да и чертовщины за ним не водилось, скорее уж наоборот. Неужто душа его должна погубить каким-то образом сей чудный край? Но и о душе речь не заходила… «Я попал в силки, — грустно размышлял Владимир, — попал, точно кур в ощип. И не ведаю, откуда же протянутся лапы, чтобы свернуть мне гордую выю.[40] И все же я не жалею!» Князь отвернулся от распахнутого окна и хлопнул в ладоши. Дремавший у входа в палаты думный дьяк вскочил, спеша предстать пред ясны очи государя.
— Что, готов ли обоз к походу на Светлояр-озеро?
* * *
Чеканный серебряный кубок со звоном ударился о стену и, упав на пол, откатился, демонстрируя заметную вмятину на боку. Гринрой с удивлением поглядел на своего господина.
— Прекрасный бросок, мой принц! А скажите, куда вы метили?
— На, получи! — Вслед за кубком отправилось в полет увесистое блюдо, сбросившее с себя по дороге груду фруктов. На этот раз предмет был запущен прямо в голову вопрошавшего. Тот ловко увернулся и скорчил удивленную гримасу.
— Мой принц, стоит ли себя так утруждать? Я сам подойду и возьму.
— Ты никуда уже не подойдешь! — взревел герцог Конрад Швабский, сжав кулаки.
— Будет мне позволено узнать почему?
— Потому что я велю отрубить тебе голову.
— Занятная мысль. — Гринрой поднял лежащее на полу блюдо, потрогал пальцем его загнутый край и начал примерять то ли как головной убор, то ли как подушку. — Но даже в этом случае я подойду к палачу, а, следовательно, исполняя вашу волю, я невольно позволю себе ее нарушить.
— Это как же так? — нахмурился Гогенштауфен.
— Исполняя вашу священную для меня волю, я должен буду взойти на эшафот, ибо, хотя мне куда больше нравится жить ради вас, я, как всякий добрый подданный, готов за вас умереть. Но в этом случае я помимо своей воли нарушу ваше повеление никуда мне больше не подходить. А потому, — Гринрой воздел очи к потолочным балкам, — только потому и ни почему иному, чтоб моя покорность не выглядела непокорностью, которой она не является, в связи с тем, что является таковой, может, оставим все как есть: блюдо — для фруктов, плечи — для головы? Поверьте моему слову честного человека, этаким образом оно выглядит значительно привлекательнее, чем наоборот.
— Пустопорожняя трещотка! — Несколько отошедший от первоначального гнева герцог быстрым шагом подошел к своему оруженосцу и, ухватив за грудь, чувствительно встряхнул его. — Тебе бы только болтать!
— Если мой принц позволит, то вынужден заметить, что трещотка служит для отпугивания злодеев, крадущихся во мгле, дабы похитить чужое добро. Оно, конечно, не меч, и все же, когда б трещотка не была пустопорожней, что б толку от нее было?
— Продувная бестия! — Герцог оттолкнул верного слугу, тот, едва не перелетев через лавку, все же устоял на ногах и принял максимально возможный в подобном случае непринужденный вид.
— Быть может, мой господин все же расскажет, зачем ему понадобилось лишать своего верного Гринроя столь привычной для него вещицы? — Оруженосец весьма недвусмысленно постучал себя пальцем в лоб.
— Скотина, ты еще спрашиваешь!
— Ну слава богу, раз вы решили ее все-таки оставить, то еще спрашиваю.
— Не ты ли советовал мне подстроить похищение Матильды, чтобы потом, представ пред ней освободителем, добиться у нее согласия на брак?
— Я вам такое советовал? У моего принца, должно быть, есть еще один Гринрой. Или же гнев настолько застит вам глаза, что мой господин просто с кем-то перепутал своего бедного оруженосца. Да как бы язык у меня повернулся предложить вам похитить императрицу?! — Собеседник герцога поднял с пола наливное яблоко, обтер его рукавом и с хрустом надкусил. — Должен вам заметить, — продолжил он, — что всякая власть — от Бога.
— Замолчи, шут гороховый! — рявкнул герцог. — Не ты ли рассказывал мне о драконе, обитавшем в Аахене, о рыцарском подвиге?
— Это да, это я мог. Возбуждать доблестный и в то же время милосердный дух моего господина — разве не входит это в обязанности…
— Молчи, иначе я зашибу тебя! — снова вышел из терпения Конрад Швабский.
— Немалой доблестью приходится запастись, чтобы служить вам, мой принц! — вновь кусая яблоко, тяжело вздохнул Гринрой. — И все же, может, вы расскажете толком, что стряслось?
— Этот недоумок, этот выскочка Стефан Блуаский похитил Матильду и увез ее с собой.
— Ага, вот оно, значит, как, — жуя следующий кусок, начал мыслить вслух оруженосец. — То есть наполовину он все же исполнил вашу волю.
— Наполовину? — взревел герцог. — Да ты в своем ли уме?! Что означает «наполовину»? — Он ударил оруженосца по руке, выбивая недоеденное яблоко. — Я спрашиваю тебя, что значит «наполовину»? Впрочем, — он внезапно успокоился и насмешливо уставился на Йогана Гринроя, — ты говоришь «наполовину», что ж, так оно и есть. А на вторую половину мою волю исполнишь ты. Ты отыщешь Матильду и доставишь ее сюда, во дворец.
— Но, мой принц, что это вы такое удумали? Это же настоящий рыцарский подвиг. Куда мне…
— Гринрой, преклони колена!
— Зачем, мой принц?
— Гринрой, что тебе больше нравится — преклонить колена передо мной, чтобы я посвятил тебя в рыцари, или перед палачом, чтоб он отсек тебе голову? — Конрад Швабский потянул меч из ножен.
— Первое все же предпочтительней, но тем не менее, может, не стоит так спешить?
— Такова моя воля, Гринрой.
— Ох уж эта воля… — пробормотал верный слуга, с явной неохотой становясь на колени и укоризненно глядя на господина.
— Гринрой! — с силой опуская меч плашмя на плечо оруженосца, торжественно произнес герцог. — Во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя архангела Михаила и святого Георгия делаю тебя рыцарем! Стерпи безответно этот удар и никакой более. Клянись доблестно защищать матушку нашу церковь, блюсти верность своему господину, оборонять сирот и дев…
— Можно подумать, у меня есть какой-то выбор, — вздохнул новоиспеченный рыцарь. — Клянусь.
— Итак, славный рыцарь Гринрой, вы должны отыскать Матильду и вернуть императрицу в Аахен. И пока вы не сделаете этого, на вашем гербовом щите будет изображено вот это вот надкушенное яблоко. Отправляйтесь немедленно!
— Я прославлю этот герб, мой принц, — поднимаясь на ноги и отряхивая колени, со вздохом объявил храбрый защитник дев, а заодно с ними и всего остального, упомянутого сюзереном. — Вопрос в том, удастся ли мне заслужить иной.
* * *
Укромная келья была едва освещена, и даже луч луны, прочертив узкую полоску на стене, не смел развеять мрак.
— Господи, Господи! — Распластавшись ниц перед массивным распятием, хозяин убогого жилища силился выразить словами клокотавший в душе его пламень. — Неизреченна мудрость твоя! Дай сил мне постичь смысл воли твоей, явленной мне в видениях! Для чего благоволишь ты к нечестивцам, коим имя твое — лишь ключ к сундукам, полным злата, лишь ступени к трону и жезл карающий? Наставь меня на путь истинный, даруй прозрение, ибо сокрушен я! Как дал ты сыну своему во дни пребывания его в юдоли земной крестителя и учителя закона твоего, преславного Иоанна Предтечу, так и мне открой путь истинного благочестия! На тебя, Господи, уповаю, да не посрамлюсь я вовек! — Он шептал слова моления столь истово, точно горячечный бред сотрясал все его тело.
— Утешься, — раздалось вдруг у него над головой, и темная келья озарилась сиянием, точно ясный полдень вдруг наступил посреди ночи.
Молящийся то ли из страха, то ли из глубокого почтения закрыл лицо руками.
— Отними длани от очей своих, Бернар, и узри, — вновь произнес голос ласково, но властно. — Ибо тот я, кого звал ты. И пребудет с тобою отныне благодать моя.
Глава 16
Преданные люди — это люди, в предательстве которых я не уверен.
Михаил Аргир шел, то моля Господа и далее покровительствовать ему, то упрашивая лошадей двигаться столь осторожно, чтобы и камень не шелохнулся под их копытами.
Топотирит палатинов был опытным воином и немного знал здешние края. Он понимал, что среди обломков скал найти следы копыт значительно сложнее, нежели в лесу. Он также был уверен, что знают об этом и его преследователи, однако лес давал хорошую защиту, почти непроницаемое зеленое убежище. Среди камней же легко было оказаться издали заметной мишенью. «Сейчас надо переждать, — шептал он себе. — Слиться с валунами и перестать мыслить, чувствовать и реагировать на происходящее. А чуть позже они уйдут. Сначала окружат лес и будут искать там, потом, убедившись, что меня там нет, устремятся на поиски к побережью или же к Борисфену. Все равно куда, главное — подальше отсюда. Ай да монашек! Ай да благодарная душа! Ну да ничего. Быть не может, чтобы смертный, посягнувший на жизнь Божьего избранника, ушел от заслуженной кары! А если Господь будет милостив, то мне самому еще доведется встретиться с этим Иудой Искариотским!»
Он вел коней, выискивая место, где можно было бы укрыться хоть на пару часов. «Заставь врага думать, что ты в отдалении, и окажись вблизи», — всплыла у него в памяти фраза из трактата Никодима Фессалоникийца о военном искусстве. На губах Михаила Аргира появилась усмешка. С последней частью стратигмы он, кажется, вполне успешно справился. Наверняка эти выскочки-херсониты сейчас обшаривают место его ночевки, выискивая малейшие намеки на то, каким путем собрался дальше следовать он, гроза половцев, а с недавних пор и злой рок Херсонеса.
Невесть отчего в голову Михаила Аргира пришло такое определение, но оно весьма понравилось гордому ромею, и он с удовольствием повторил его про себя, вслушиваясь, как звучат слова угрозы.
Как бы то ни было, в своих предположениях опытный боец и военачальник был прав. Он не мог видеть, как примчавшиеся вслед за монахом клибанофоры выискивают среди травы отпечатки копыт, сломанные ветки, примятые былинки. Он также не мог видеть, как, проверив содержимое монашеской котомки, самого ее хозяина пинками и окриками прогнали от разрушенной молельни. Но зато вполне мог, а следовательно, догадался о том, что бесполезный в охоте на человека неразумный служитель Господа будет вскоре отправляться обратно в Херсонес, ибо не идти же ему с ищейками, горя желанием лишить жизни ближнего своего.
А это означало, что скоро черноризный Иуда отправится в обратный путь. Очень скоро!
Михаил Аргир почувствовал бурчание в животе. Ему, привыкшему к столам, ломившимся от яств, или же к простой, но обильной солдатской пище, вчерашний и сегодняшний невольный пост казался едва ли не личным оскорблением, попранием святого. «Они заставляют меня, будто зверя лесного, искать ягоды и коренья. Что ж, когда я стану правителем Херсонеса, я покажу им, что такое голод! Они будут драться между собой за ремни от сандалий, желая хоть чем-нибудь набить желудок». Он вдруг поймал себя на мысли, что очень живо представляет, как станет архонтом Херсонеса вместо наглого выскочки Гавраса. «С чего бы это вдруг? Сидел бы в своей Халдии, так нет же!» Михаил Аргир не слишком затруднял себя обдумыванием того, что архонт Херсонеса не по своей воле перебрался из Трапезунта за море. Куда больше его волновало другое. Гаврасы устроили охоту на него! На него, потомка императора, избранника Господа…
Словно бы в подтверждение мыслей знатного ромея, всего в нескольких шагах перед ним открылось место, точно созданное природой и Всевышним для того, чтобы служить укрытием беглецам. Хотя, почему беглецам? Для него, для него одного!
Весной, когда плескавший поблизости ручей превращался в бурный поток, вода, год за годом срываясь с выступа, продолбила в местном известняке довольно узкое длинное русло, пересыхающее в летнюю пору. Снаружи оно было прикрыто густой зеленью, и лишь стоя рядом, можно было увидеть укрытый в тени кустарников проем. «Здесь им меня не найти, — довольно улыбнулся Михаил Аргир. — Господь в неизреченной милости своей указал мне верный путь!» Спустя несколько мгновений он уже удобно устроился в расселине и сквозь покрытые густой пыльной зеленью ветви ольшаника начал разглядывать видневшиеся вдали предместья Херсонеса и дорогу, по которой к городу тянулись груженые возы с провиантом.
«Когда херсонитам надоест обнюхивать каждый валун и копаться в ежином дерьме, они непременно пройдут эти путем», — констатировал он. Михаилу представилось, как его преследователи роют носом землю, пытаясь угадать, куда и когда он направился. Сейчас он чувствовал, что перехитрил врага, и это ощущение доставляло ловкому воину истинное удовольствие.
Чтобы не маяться от безделья, а заодно отвлечься от негодующих завываний желудка, Михаил Аргир стал внимательно разглядывать маячившую вдалеке крепость, прикидывая, между прочим, где лучше установить баллисты, чтобы сокрушить протехизму,[41] и как лучше вести штурмовые отряды, дабы прорваться за внутренние стены.
Он уже обдумывал, как использовать возможность подойти к городу с моря, когда вдруг на тропке, идущей вниз с горы к основной дороге, появилась знакомая фигура давешнего монаха. «О! — под нос себе пробормотал Михаил Аргир. — Все даже лучше, чем я мог себе представить, ибо сказано Господом: „Мне отмщенье, и аз воздам!“»
В несколько движений примотав поводья к свисавшим над прогалиной ветвям, он быстро, но осторожно начал спускаться вниз, стараясь не потерять из виду «старого приятеля».
Тот шел не останавливаясь, размышляя о превратностях судьбы и нелепом поведении мирян. «Подумать только, назвать моего доблестного спасителя разбойником и послать на его поимку такой отряд, будто он — целое войско! Хорошо еще, что этому славному воину удалось уйти! Ну надо же…»
Что предполагалось после этих слов, он подумать не успел, ибо вдруг кусты у дороги раздвинулись, две тяжелые руки опустились ему на плечи и выдернули с тропы легко, как сам бы он сорвал ягоду лесной земляники. «О-о-о!» — попытался было вскрикнуть монах, но та же твердая, словно винодельческий пресс, рука с размаху опустилась ему на лицо, закрывая рот, а заодно и нос.
— М-м… — попытался что-то сказать богомаз и тут же услышал возле уха шепот:
— Тихо, не гневи меня, иначе я сверну тебе шею.
Монах порывисто затряс головой, вращая глазами, всем своим несчастным видом пытаясь дать понять, что готов молчать, не моргать и дышать через раз, лишь бы оставить все как есть, не утруждая шейные позвонки излишней нагрузкой.
— Ты узнаешь меня? — поворачивая собеседника к себе, проговорил Михаил Аргир.
Его пленник молча кивнул.
— Значит, и я не обознался. Скажи, Божий человек, разве вчера я не спас твою никчемную жизнь от разбойников?
Монах все так же безмолвно кивнул.
— Так что ж ты, ишачий помет, решил погубить мою?
Торговец образками лихорадочно замотал головой.
— Да что вы, как же ж?..
— Не лги мне! — Хищная усмешка сошла с губ ромея и, точно пытаясь унять нелепое дерганье головы собеседника, он ухватил его за горло, чуть сдавливая для пущей убедительности. Глаза монаха выкатились, и он захрипел.
— Я сам видел, как по твоим следам за мной пришла толпа гостей, которых я вовсе не приглашал к завтраку. Они следовали за тобой, несчастный.
— Я ничего об этом не знаю! — просипел придушенный монах. — Умоляю, отпустите! Я расскажу все, что мне ведомо.
— Давай. — Михаил Аргир разжал пальцы, и святой отец в изнеможении опустился на землю, хватая воздух ртом.
— Но я знаю совсем немного, — прошептал он, жалобно глядя на воина, более не казавшегося ему таким божественно прекрасным.
— Ну, — пропуская его слова мимо ушей, процедил ромей, — чем дольше ты будешь тянуть время, тем ближе к смертному часу.
— Я пришел, как мы и договаривались, принес вам еду и вино. Только вино забрали клибанофоры, — начал объяснять монах, — они появились вскоре после того, как я добрался до часовни. Вас там не было, я решил подождать, а тут они. Обыскали, вино забрали, пинков надавали. Я стал говорить, что негоже поднимать руку на Божьего слугу, так один меня древком копья так ткнул — синяк остался. Да сами поглядите! — Монах дернул рясу с плеча, демонстрируя темный след от удара, по-видимости, совсем недавний.
— Так ты, стало быть, утверждаешь, что не предавал меня?
— Христом Богом клянусь! — Священник торопливо перекрестился.
— Что ж, поскольку Всевышний надежно хранит меня от всякой мрази, я сочту его имя достаточным ручательством. Продолжай рассказывать, но помни: если что-то в твоих словах покажется мне ложью, я убью тебя не только за измену, а также за клятвопреступление и за поругание Божьего имени. Уразумел?
— Да-да, ну что вы, как на исповеди!
— Так ты хочешь сказать, что у клибанофоров, которыми, если память мне не изменяет, командует сын архонта, появилась новая забава. Всякое утро они выслеживают какого-нибудь монаха, идущего из города, и скрытно пробираются за ним, чтобы, обнаружив, куда он направлялся, отобрать у него вино и прогнать, надавав тумаков.
— Я не говорил такого, благородный господин!
— Не говорил. Но это следует из твоих слов, — усмехнулся Аргир. — Итак, отвечай быстро, кто еще знал о том, куда ты идешь?
— Отец Гервасий, — без запинки отрапортовал иконописец.
— Отец Гервасий? Это, что же, твой игумен?
— Он… — Монах замялся. — Он катаскопой.
— Так… — Рука топотирита палатинов легла на эфес меча. — Вот мы и докопались до истины. Совсем даже не глубоко оказалось. А скажи мне, досточтимый отче, чего это вдруг на ночь глядя тебя понесло в Бюро Варваров?
— Монеты!.. — расширив от ужаса глаза, выдавил мних.
— Что монеты? Тебе заплатили?
— Те монеты, которые дали мне вы…
— Что с ними?
— Если бы я попытался расплатиться ими в лавке или на базаре, меня бы тут же схватили. Архонт подписал указ, по которому всякий, кто платит такими монетами, обязан сообщить в Бюро Варваров, откуда они у него взялись. Если же не сделать этого, — монах вздохнул, — можно провести год в застенках или заплатить сто солидов. Только у меня нет ста солидов, да и не было никогда.
— Проклятие! — негромко процедил Михаил Аргир, коря себя за столь глупую, банальную ошибку. Конечно же, попытка расплатиться сицилийскими монетами неминуемо вела к порогу Бюро Варваров, во всяком случае, тут монах не врал.
— Но я рассказал, сколь доблестно вы сражались, спасая мне жизнь, — добавил продавец образков.
— То-то клибанофоры с утра пораньше пожелали со мной поближе познакомиться, — чуть заметно усмехнулся ромей. — Ладно, еду эти солдафоны не отобрали?
— Нет-нет, только вино.
— Тогда давай сюда. Хотя нет, сначала попробуй сам.
Монах развернул котомку с вареными яйцами, зеленым луком, жареным мясом.
— Они не отравлены, но если пожелаете…
В первую минуту Аргир глядел, как святой отец, «подчиняясь насилию», за обе щеки уплетает его вчерашний обед и сегодняшний завтрак. Затем, доверившись увиденному, бросился наверстывать упущенное.
— Так откуда у тебя деньги, если ты говоришь, что отец Гервасий их забрал? — откусывая большой ломоть свежей лепешки, произнес Аргир.
— Он любезно дозволил мне обменять их у отца казначея.
— Вот же, — бывший начальник дворцовой стражи покачал головой, — правду говорят, что у того, кто мяса не ест, вместо головы вырастает репа! Это ж он для того сделал, чтоб ты его людей прямехонько ко мне привел. А ты, дурак, и рад-радешенек.
Монах вздохнул:
— А что мне было делать, благородный господин?
— Ладно, живи пока. — Михаил Аргир отмахнулся, не желая более раздумывать над происшедшим и чувствуя, как приятно наполняется и тут же успокаивается бунтовавший желудок. — Расскажи лучше, что в городе слышно.
— Вчера, сказывают, побоище в торговых рядах произошло, — все еще недоверчиво глядя на подобревшего воителя, с опаской начал святой отец.
— Да? — кусая луковицу и заедая ее жареной телятиной, покачал головой Михаил Аргир. — Отчего же?
— Рассказывают, что сицилийца какого-то схватили, важную птицу, родич тамошнего короля. А люди того фрязина, стало быть, отбить его пытались.
— Вот как? И что ж, отбили?
— Не, — отрицательно покачал головой монах. — Схватили всех, как есть, да в подземелье кинули.
— Это славно.
— Да оно-то так, — согласился монашек, — вот только непонятица какая-то выходит. Вчера только их едва ли не целой схолой[42] ловили, а нынче поутру, как севаста Никотея с посольством в Киев отправлялась, так и тот сицилиец, родич королевский, и все его люди как один с ней вдруг вместе отправились.
Михаил Аргир отложил недоеденное мясо.
— Севаста Никотея отправилась в Киев?
— Ну да, — кивнул богомаз.
— Ты в этом точно уверен?
— Да вот чуть свет, как ворота открылись, посольство и отбыло. Вот этими глазами сам видел. Ей-ей, как Бог свят! — Монах перекрестился.
— Севаста Никотея отбыла в Киев? — вновь с напором повторил Михаил Аргир. — Она не осталась в Херсонесе?
— Н-нет.
— Но ведь это же измена!
* * *
Никотея глядела вполглаза на разворачивающийся за оконцем уныло-однообразный степной пейзаж, отрешенно печалясь, что ближайшие недели придется все так же катить и катить в тряской повозке в далекий неведомый Киев. Быть может, конечно, дойдя до порогов Борисфена, можно пересесть на ладьи, но путь вверх по течению реки тоже не скор и утомителен, да к тому же не менее опасен.
Ей хотелось оказаться на месте прямо сейчас же, но такие диковинные происшествия возможны лишь особой на то милостью Господней. А Всевышний свершает чудеса по своей, ведомой лишь ему воле. Следя взглядом за парящими над степью беркутом, она, подобно древним жрецам, пыталась угадать грядущее по гордому полету этих курганных орлов.
Верная Мафраз, монотонно обмахивая скучающую хозяйку широким опахалом, рассказывала одну из многих сотен то ли притч, то ли сказок, хранившихся в ее памяти.
— Однажды баран спросил у пастушьей собаки, — мелодичным голосом нараспев выводила она, — «Ты пасешь меня, заботишься обо мне, бережешь меня от волков. Скажи, почему ты это делаешь? Потому ли, что я хорош собою, шерсть моя пышна, движения исполнены грации, а голос мелодичен?» «Нет», — ответил пес, оскаливая ужасные клыки. «Тогда, может быть, потому, что я силен и отважен? Крепки мои рога, остры копыта, и всегда готов я биться за первенство в стаде?» «Да нет же», — вновь оскалился пес. «Тогда, быть может, потому, что шерсть моя густа и шелковиста и мясо мое сладко, и я составляю богатство своего хозяина?» «И это не верно», — ответил ему грозный страж. «Неужели же ты стережешь меня потому, что такова воля Аллаха милосердного?» Пес восславил лаем имя Божье, но лишь помотал головой в ответ. «Но тогда почему же?» — в отчаянии спросил круторогий муж овечьего стада. «Потому, что ты — баран, а я — пес».
Мафраз завершила свое повествование и, выглянув в оконце, заметно напряглась.
— Кажется, аланы кого-то увидели.
Выделенный архонтом Херсонеса эскорт севасты Никотеи включал отряд легкой кавалерии, набранный из местных степняков. Выехав из города, кортеж перестроился. Теперь мессир рыцарь с его людьми окружали экипаж, легкая же кавалерия подобно рою вилась по округе, отслеживая все, что могло представлять угрозу высокородной госпоже, и отгоняя всех любопытствующих с пути Никотеи.
Завидев что-нибудь, заслуживающее пристального внимания, наблюдатель-алан пронзительно кричал птицей, призывая к себе подкрепление. Спустя пару мгновений рядом с ним оказывалась дюжина воинов, если надо, и больше. Именно такой крик и услышала Мафраз. Никотея увидела, как сорвались с рыси в галоп маячившие невдалеке всадники в нелепых странных одеяниях с какими-то мохнатыми хвостами на шапках, придающими воинам еще более свирепый вид. Никотея знала, что эти племена, казавшиеся дикими, уже давно крещены и, хотя не понимают и не хотят понимать разницы между католиками и кафоликами, все же принимают к себе священников только из Константинополя. Однако внешность этих братьев во Христе заставляла ее содрогаться и радоваться, что кроме широкоскулых степных волков рядом с ней есть и цивилизованные преданные воины.
В данную минуту, если севасту и интересовало, кого обнаружили эти дикари, то лишь потому, что сие могло хоть как-то развеять дорожную скуку. Она задумчиво глядела в ту сторону, куда умчались всадники на мелких, в сравнении с архонтскими скакунами, лошадках, не ожидая, впрочем, ничего особо занятного.
— Эй! — Скакавший рядом с дверцей возка менестрель привстал в стременах. — Мессир рыцарь, а шо у нас считается кораблем степей?
— В каком смысле? — «Племянник сицилийского короля» удивленно повернул голову.
— Да вот тут имеет место быть экземпляр отважного капитана, один штука, только, как бы это по-французски сказать, бескорабельный.
— Что там произошло, дети мои? — высунулся из экипажа задремавший было монах-василианин.
— Да, в сущности, ничего. Сыновья бескрайних степей изловили старшего ангела и, должно быть, волокут на исповедь к вам, ваше преподобие.
— Господи, что ты опять плетешь?
— Ну, судя по тому, что когда я переберу, я не плету лыка, то сейчас я его, кажись, плету, хотя лапти из этого лыка не сладишь, и к делу, которое я здесь представляю, это отношения не имеет. Сами гляньте — вон, «старший ангел» — Анджело Майорано!
* * *
Капитан Майорано недобро глядел на сопровождающих его аланов, зачисляя их в короткий список еще живых врагов. Обычно имена, значившиеся в нем, очень быстро переходили в поминальник, редко задерживаясь долее полугода. Дон Анджело шел не сопротивляясь, чуть покачиваясь от усталости и шума в голове. Еще недавно он был уверен, что все развивается по его плану, но тут Господь вдруг бесцеремонно вмешался в ход событий. И в тот миг, когда ему показалось, что дело оборачивается хуже некуда, выяснилось, что оно может идти еще хуже.
Он не лез в драку, бушевавшую в торговых рядах, лишь пару раз саданул рукоятью кинжала каких-то не в меру ретивых молодчиков, по нелепой горячности принявших его за возможную жертву. Добивать этих глупцов он не стал, тем более что, пока он с усмешкой наблюдал за потасовкой, признаков жизни они и не подавали.
Но потом, когда этот чертов оруженосец или уж там менестрель — кто его поймет, устремился к бухте, он последовал за ним и со всей неотвратимостью наблюдал, как складывают оружие граф Квинталамонте и его люди. Выкупать этого сицилийского неудачника из тюрьмы отнюдь не входило в планы Анджело Майорано. Однако задуманная им авантюра стоила уж если не жертв, то определенных финансовых вложений.
Он скривился, выругался себе под нос и развернулся, чтобы отправиться к «Шершню». В этот момент что-то довольно мягкое, но увесистое ударило его по затылку. Анджело попробовал было развернуться, но, едва успел осознать, что небо и земля вдруг резко поменялись местами, без чувств рухнул на чей-то заботливо подставленный плащ.
Сколько он находился без чувств, сказать было непросто, однако пробуждение не принесло ему радости. Он располагался под низким арочным сводом, так что, встав, пожалуй, уперся бы головой в него — и это в самом высоком месте. Между стеной, возле которой он сидел, и решеткой, красовавшейся перед ним, вряд ли могли бы, не столкнувшись плечами, пройти два человека. Но что более всего насторожило Анджело Майорано, это аккуратные стопки плинф, красующиеся рядом с местом его заключения, и каменщик, флегматично готовящий раствор, не обращая внимания на запертого узника.
— Я вижу, вы достаточно пришли в себя, чтобы разговаривать? — услышал дон Анджело откуда-то сбоку.
Он повернулся с максимально возможной скоростью, какую мог себе позволить с гудящей от боли головой. В темноте, едва-едва освещенный пламенем масляной светильни, стоял невысокий священник с усталым изможденным лицом аскета и сверлящим взглядом колючих и холодных, точно стрелы, глаз.
— Кажется, — не спуская взгляда с монаха, подтвердил хозяин «Шершня».
— Вот и прекрасно, — неспешно кивнул в ответ служитель Господа. — Как вы полагаете, что намерен делать сей добрый работник?
— Выкладывать стену вместо этой решетки, — без запинки ответил Анджело Майорано.
— Вы правы, сын мой, — утвердительно склонил голову монах. — Это лишний раз подтверждает вашу хваленую сообразительность.
— Послушайте, как вы можете? Я амальфийский купец, хозяин корабля «Ангел».
— Не утруждайтесь пустыми словами, сын мой. Здесь они ни к чему. Мне прекрасно известно, кто вы, но даже если бы я сомневался в этом, в городе нашлось бы немалое количество людей, которые смогли бы описать, как выглядит Мултазим Иблис. Вы никогда не задумывались, дон Анджело Майорано, куда продают захваченных вами магрибинцев? Скажу вам по секрету: их продают сюда. Скажу вам более того: в гарнизоне есть те, кто сражался бок о бок с вами под знаменами императора Алексея против Мелик-шаха. Они помнят, как вы исчезли с обозом военной добычи. И у них, как, впрочем, и у василевса, к вам множество вопросов. Поэтому советую вам причаститься и готовиться к тому, чтоб предстать пред Господним престолом. — Монах вздохнул. — А уж очистившимся или нет…
— Постойте, постойте! Я готов ответить вам на любой вопрос! Мне и впрямь была поручена охрана обоза, но, увы, нас атаковали всадники Рустамбега, и силы были неравные. Я чудом спасся! И конечно, не горел желанием вновь попадаться на глаза василевсу. — Анджело Майорано вцепился в частую, будто гребень, решетку, словно желая выдернуть ее. — Что же касается остального, ну хорошо, предположим, я и впрямь Мултазим Иблис, что с того?! Я никогда не нападал на корабли херсонитов. Да, я служил королю Сицилии, истребляя сарацинских пиратов. Но разве христианскому священнику пристало казнить меня за это?
— Христианскому священнику не пристало казнить кого бы то ни было, и потому я предлагаю вам облегчить душу. Как слуга церкви, я должен предъявить вам обвинение в вероотступничестве, как слуга императора — в коварном вероломстве, приведшем к гибели корабля флота нашего достославного василевса Иоанна Комнина, а также к утере военных трофеев, которые, по вашим словам, были отбиты, однако же никаких прямых доказательств тому нет и, полагаю, быть не может.
— Но это не так! Я сражался тогда и рисковал жизнью, защищая тот корабль, я спас принцессу! У вас нет ровным счетом ничего, чтоб доказать…
— Все наши деяния и помыслы сочтены в книге судеб, что в руках апостола Петра. Нам и не нужно доказывать. Нынче вот этому мастеру велено заложить арку. Чтобы укрепить стену. — Монах развел руками. — У меня же есть приказ изловить вас, а изловив — посадить за решетку. Как видите, решетка перед вами. Приказа выпустить вас у меня не имеется. А выпускать врагов императора и церкви, не имея приказа, — нет уж, увольте.
Анджело Майорано с младых ногтей соображал быстро, сейчас же вскользь произнесенный намек он поймал и вовсе на лету, точно чайка — брошенную ей с борта корабля мелкую рыбешку.
— А друзей?
— Мы можем поговорить об этом, дон Анджело.
* * *
Остров Сите, окаменевшим кораблем замерший посреди Сены, с незапамятных времен служил пристанищем для народа паризиев. Во всяком случае, когда победоносный цезарь прорубился сквозь непроходимые чащи в эти места, паризии жили здесь уже не первое и не второе поколение. Трудно сказать, что именно так поразило гордого римлянина, что он прибавил к имени народа звонкое латинское название «лютеция», что означало «вонючая», но и то сказать, будущему Парижу еще только предстояло стать всемирно признанной столицей парфюмеров и галантерейщиков.
Как бы то ни было, остров был отличной защитой от непрошеных гостей, и возможно, потому в буйные темные века французские короли пожелали именно здесь устроить столицу довольно неспокойного государства. Правда, долгое время им попросту было недосуг мирно жить в столице. Однако теперь король Людовик Толстый счел, что если уж Франция — единая держава, то и главный ее город должен иметь соответствующий вид и быть постоянной резиденцией короля. А потому на острове Сите неподалеку от монаршего дворца было решено возвести храм, равного которому еще не видела Франция.
Увенчанный лаврами победителя, король Людовик стоял у края глубокого котлована, наблюдая, как суетятся понукаемые мастерами и надсмотрщиками землекопы. «Порой, чтоб подняться ввысь, следует опуститься вниз. И чем глубже ты спустишься, тем выше будет твой подъем», — мелькнуло у него в голове. Мысль эта показалась ему забавной. На мгновение он представил себе громаду будущего храма, его колокольни, величественный неф, в котором будет чувствоваться близкое присутствие Творца, куда более могущественного, нежели сии усердные дети адамовы…
Увы, ему самому вряд ли удастся когда-то увидеть законченным это великое строение, но могущество Франции не сиюминутно и не должно закончиться вместе с ним. Королевская власть наберет силу, и, даст бог, к моменту, когда собор наконец будет достроен, никто уже и не вспомнит о мятежных баронах, некогда посягавших на нее.
Аббат Сугерий глядел на своего венценосного прихожанина с той скрытой нежностью, с какой любящие родители глядят на выросших и вылетевших из гнезда чад.
— О чем вы задумались, сын мой? — наконец прерывая молчание, спросил он.
— О Франции. О том, что когда-то она станет великой державой. Никакие германцы или нормандские выскочки не посмеют угрожать ее пределам.
— Благие мысли, — кивнул духовник государя. — И точно так же, как сии малые, — он указал на землекопов, усердно ковыряющихся в каменистом грунте, — вы не знаете отдыха в трудах своих.
— Это верно. — Король повернулся к аббату Сугерию. — Насколько я понимаю из подобного вступления, у вас дурные вести.
— Я бы не назвал их дурными, — вздохнул аббат, — но и добрыми счесть не могу. Как стало мне известно от верных людей, король Генрих Боклерк прислал своего гонца к графу Анжуйскому с секретными предложениями.
— Чего же он желает?
— Нормандец предлагает заключить мир с графом Анжуйским.
— Вот даже как? На каких условиях?
— Король сватает дочь, вдовствующую императрицу, за сына графа, юного Фулька Анжуйского.
— Он, кажется, на десять лет младше.
— Более чем на десять.
— Совсем юнец.
— Это верно. Но граф всерьез подумывает о возможном браке, а стало быть, и союзе. Непрестанные войны с нормандцами изрядно обескровили его владения. Потому этого доблестного вассала можно понять. И… пожалуй, даже простить.
— Простить?
— Простить раздумья. Но не действия. Нет сомнения, слияние под одной короной Англии, Нормандии и Анжуйских земель весьма опасно для нас. И хотя сам по себе юный Фульк покуда может почитаться верным ленником, боюсь, ему или детям его не устоять против искушения идти тем же путем, что и его проклятый тесть.
— Еще, слава богу, не тесть, — напомнил король.
— Для Франции будет много лучше, если он никогда им и не станет. И здесь я вижу только два пути.
— Какие же?
— Либо призвать его поскорее в столицу и позволить состоять при вас, дав подобающий ему по знатности высокий пост близ трона, а заодно и подыскав ему хорошую партию. Либо же, увы, но и такое возможно, для королевства будет лучше, если у графа Анжуйского не останется сына.
Людовик Толстый с грустью поглядел на верного советника.
— М-да, ты прав. Все же испробуем для начала первую возможность.
Глава 17
Живу себе без укоризны,
И хоть соблазны нелегки,
Не одолжусь я у Отчизны —
Проценты больно велики.
Содрогаясь в душе, Анджело Майорано с неподдельным удовольствием жевал ячменную лепешку с козьим сыром, предложенную ему одним из аланов. До привала было еще далеко, а ничего более съедобного у всадников эскорта высокочтимой севасты попросту не оказалось. Но сейчас капитану «Шершня» был не до изысканных яств. В Бюро Варваров, должно быть, сочли пост весьма полезной духовной практикой для столь закоренелого грешника, каким являлся Мултазим Иблис. И потому никто даже не подумал снабдить его в дорогу хоть какой-то едой.
— Не повезло мне с вами, — покачиваясь в седле одной из запасных аланских лошадок, грустно сообщил дон Анджело. — Поверьте, я хотел как лучше…
— …А получилось как всегда, — продолжил Лис. — Это мы знаем. Но шо заставило вас сменить мореходство на землетопство? Вы, шо ж, заблудились? — Он патетически указал на капитана, оборачиваясь к «родственнику сицилийского короля». — Вот, мессир рыцарь, сколько раз я говорил тамплиерам, шо уже пора изобретать компас! А они: «Нет, пока мы Соломоновы конюшни под храм не приватизируем — никаких компасов!» А люди, достойные, не буду говорить чего, потом страдают во тьме заблуждений и ненаходств! — Он закончил страстный монолог и оглянулся по сторонам в ожидании реакции. Анджело Майорано глядел на него так, что из кольчуги, в которую был облачен Лис, сами собой должны были выскочить все заклепки.
— Вы еще спрашиваете! — процедил он. — Вчера, когда вас схватили, я пробрался на свой корабль, понимая, что уже ничем не смогу вам помочь. Если бы не ваша, сударь, затея с идиотской дракой на агоре,[43] еще оставалась надежда выкупить графа из-под стражи. А так…
— А так мы едем в столицу Руси абсолютно бесплатно, на полном архонтском пансионе. Шо еще раз доказывает истину, шо чем более весомы твои доводы, тем они убедительнее.
— По вашей милости я сам чуть не лишился головы.
— Ну, вот видите, по нашей милости — не лишились. Шо еще раз подчеркивает свойственное нам вопиющее милосердие.
— Погоди! — решительно оборвал его разглагольствования уставший от трескотни рыцарь. — Что произошло далее?
— Я пробрался на «Ангела», но даже не успел сменить порванную во время драки одежду. Стража нагрянула на корабль, так я едва успел выпрыгнуть за борт. Я не знаю, сколько просидел в воде, держась за якорный трос и ныряя всякий раз, когда у борта раздавались голоса. Но то, что я услышал… — На скулах бравого морского волка отражением внутреннего шторма заходили желваки. — Мои люди сказали, что меня нет на корабле, тогда какой-то монах, похожий на вяленую селедку, заявил, что они будут дожидаться меня на борту и если я к утру не вернусь, то корабль, как выморочное имущество, перейдет к архонту. Представляете, мой «Ангел»!
— Вальдар, ты ему веришь? — раздавалось в этот момент на канале связи.
— Ну, сам по себе он не производит впечатления человека, которому можно верить безоговорочно, но, с другой стороны, вряд ли бы он решился взять да и бросить корабль на произвол судьбы. Он, конечно, авантюрист, возможно, пират, но что ему проку от нашего общества? Там в Херсонесе — понятно, он спасал придуманного тобой королевского родича и надеялся получить за это приличные дивиденды. А здесь?
— Ну, не знаю. Может, он надеется получить неприличные дивиденды. Опасаюсь даже представить какие…
— Что же было дальше? — задумчиво глядя на Анджело Майорано, спросил мессир рыцарь.
— Когда стемнело, я вылез из воды и прокрался на какой-то воз, едущий из города. Так я выбрался из Херсонеса, и все было бы ничего, но под утро сон разморил меня и я захрапел, как последний идиот. Хозяин воза и его помощники нашли меня, и, черт побери, мне с трудом удалось уйти от них. Эти наглецы приняли меня за грабителя. — Дон Анджело сжал кулаки, и все те, кому прежде доводилось знавать капитана в деле, быстро составили себе представление о том, как именно удалось скрыться Мултазим Иблису.
— Что же вы намерены делать дальше? — поинтересовался Вальтарэ Камдель.
— Я мечтаю вернуться в Херсонес, оторвать этому монаху и его гнилым людишкам головы, сложить их в мешок и использовать в качестве якоря своего корабля. И если вдруг с моим прекрасным «Ангелом» что-то случится, я хочу, чтобы у Херсонеса больше не было флота! — Глаза Анджело Майорано пылали, и ни у кого не было сомнений, что в этот момент он говорит чистейшую, как слеза ребенка, правду. — Но я не могу вернуться так. Мне нужны золото и люди. Если вы не против, я доберусь с вами до Киева, а там будет видно.
— Шо скажешь? — вопросительно глядя на рыцаря, поинтересовался Лис.
— Прямо сказать, выводы довольно грустные. Того, что мы уже знаем об этом пенителе волн достаточно, чтобы ответить «нет», и полагаю, что, знай мы то, о чем лишь догадываемся, следовало бы прикончить его на месте. Во всяком случае, это было бы вполне в духе времени.
— Эт точно.
— Но боюсь, в Институте у нас возникнут немалые проблемы с объяснением, отчего вдруг мы вздумали порешить человека, который совсем недавно рисковал за нас жизнью.
— Еще надо выяснить, чьей жизнью он рисковал больше.
— Вот к этому я и веду. Оставлять Майорано в степи — неосмысленно. Он выкарабкается, запишет нас в число смертных врагов, чего, согласись, нам вовсе не нужно.
— Соглашусь, такое не тонет. Особо на суше, — подтвердил Лис. — И шо ты предлагаешь?
— Взять с собой и держать, как это у вас говорится, «под колпаком». Пусть уж лучше до поры до времени сей морской волк считает нас баранами, тем скорее выяснится, что и для чего он задумал.
— Ну-ну. — Менестрель скосил глаза в сторону зубастого хищника в ветхой овечьей шкуре. — Как бы нам его задумчивость боком не вылезла…
— Хорошо, — кивнул граф Квинталамонте. — Надеюсь, севаста не будет возражать против вашего общества. Однако настоятельно рекомендую не упоминать при ней о ваших планах относительно Херсонеса.
* * *
Король Британии слушал опасливую речь Фитц-Алана, сопровождая его слова утробным рычанием. Он понимал, что, убей он сейчас своего верного слугу, ему так и не узнать, чем закончилась схватка на побережье.
— Когда же посланный вами, мой лорд, отряд догнал мятежников, все уже было кончено. И, увы, большая часть их рассеялась еще до нашего прибытия.
— Большая — это сколько?
Фитц-Алан замялся.
— Нам удалось пленить шестерых.
— Дьявол, дьявол, дьявол! — Генрих Боклерк с грохотом опустил кулаки на подлокотники трона. — Ты что, скотина, не слышал мой вопрос? Сколько было мятежников?
— Как сообщили пленники, около ста пятидесяти рыцарей с их отрядами.
— У, проклятие! Сто пятьдесят рыцарей! И что же, все они разбежались, завидев твою гнусную рожу?
Фитц-Алан с тоской поглядел на клокотавшего яростью сюзерена. Ему бы очень хотелось ответить на этот вопрос утвердительно, но, увы, правда заключалась в том, что высланное против Стефана Блуаского войско нашло лишь шестерых рыцарей, пирующих в замке Тичфилд. Их удалось взять голыми руками, ибо доблестные воители к моменту появления королевских войск были столь пьяны, что в задумчивости глядели на своих коней, соображая, где же у них голова. От этих-то вояк Фитц-Алану и удалось вызнать то, о чем он должен был доложить государю и все никак не решался.
— А куда же девались остальные мятежники? Клянусь чертовым хвостом, мне не верится, что мой треклятый племянничек, будь он неладен, припустил без оглядки, услышав вдали скрежет железа. Он сволочь, изменник, гнусный выродок, но, черт возьми, не трус!
— Мой повелитель, — все еще не решаясь сказать самое важное, с трудом выдавил Фитц-Алан. — Остальные мятежники предположительно ушли к северной границе. Как сообщается, там уже находятся графы Перси и Пембрук, поднявшие знамя мятежа.
— У-у-уф… — выдохнул король, пытаясь ногтями соскрести позолоту с драгоценного трона. — Я велю их колесовать! Нет, я их поймаю и сам лично буду снимать с них кожу, лоскут за лоскутом. А потом скармливать им и заставлять меня благодарить!
— Но-о… Это еще не все…
— Да, это еще не все. Я буду присаливать те места, с которых содрал кожу, чтобы эти неблагодарные кретины заранее подготовились к тому, что ожидает их в девятом кругу ада, где, как помнится, уготованы места для изменников.
Королевский секретарь нервно сглотнул, живо представляя себе нарисованную монархом картину и ни на мгновение не сомневаясь, что, буде мятежным вассалам не посчастливится попасть в руки яростного сюзерена, обещанные казни будут лишь началом измышленных для них мук.
Хуже было другое. Сейчас ему, не какому-нибудь изменнику-барону, а именно ему предстояло сообщить королю новость, после чего уготованная Стефану Блуаскому и его соратникам участь могла ожидать его самого.
— Мой государь, — опустив голову и упирая взгляд в каменные плиты неметеного пола, словно надеясь тем самым прочнее держаться в вертикальном положении, тихо заговорил Фитц-Алан, — я вынужден сообщить худшее.
— Ну, что еще?
— Стефан Блуаский… — Секретарь запнулся. Все нутро его бунтовало против необходимости выговорить те слова, которые он должен был произнести. — Стефан Блуаский, — снова повторил он, — захватил вашу дочь.
В дворцовой зале неожиданно повисла гнетущая тишина. Сквозь окна слышались далекие крики лодочников, снующих вниз и вверх по Темзе в поисках людей, желающих переправить грузы или перебраться на противоположный берег. Фитц-Алан опасливо поднял глаза на короля. Тот сидел, вцепившись в подлокотники с открытым ртом и, не мигая, глядел на собеседника. Казалось, он даже не дышал.
— Мой государь! — Фитц-Алан рывком приблизился к Генриху Боклерку. — Вам плохо? Быть может, воды? Эй, кто там, воды, воды скорее, воды королю!
Этот выкрик точно разбудил окаменевшего государя.
— В-э-а-а-а! — взревел он, вскакивая на ноги, и развернувшись, оторвав от пола тяжеленный золоченый трон, с силой метнул его в докладчика.
Бывший монах с завидной ловкостью отпрыгнул в сторону, однако, на его беду, расторопный слуга с кубком, полным воды, был уже рядом. Еще мгновение, и слуга полетел в одну сторону, кубок — в другую, аккурат в голову королевскому секретарю. Тот как-то неловко уселся на пол, обхватывая макушку руками. Из-под ладоней начала сочиться кровь.
— Где?! Где этот ублюдочный выродок бешеной коровы?
Фитц-Алан только всхлипнул, не в силах произнести ни слова.
— Ну, Стефан, ты мне поплатишься! — Генрих Боклерк хлопнул в ладоши. — Констебля[44] ко мне! Клянусь святыми мощами и всем чертовым выводком, я заставлю Стефана проклясть тот день и час, когда он появился на свет! Пресвятая Дева Мария, как бы я хотел сейчас знать, о чем думает этот гнилобрюхий недоносок!
* * *
Матильда шла по качающейся палубе столь гордо, что стражи за ее спиной казались пажами, отлынивающими от своей прямой обязанности нести мантию государыни лишь потому, что та решила нынче обойтись без оной. Граф Стефан Блуаский глядел на вдовствующую императрицу, облокотясь на фальшборт захваченного нефа.
— Вы как всегда прекрасны, милая кузина, — поклонился он, скрывая насмешливо-любезным жестом торжествующую ухмылку. — Я пригласил вас на палубу, чтоб подышать этим замечательным морским воздухом, поговорить о том о сем…
— О чем же вы желали говорить со мной, доблестный кузен? — Она сделала ударение на слове «доблестный» так, что даже у рыб за бортом не возникло бы сомнений в истинном смысле подобного титулования.
— Ваша ирония делает вам честь, моя дорогая, — продолжая улыбаться, проговорил внук Завоевателя. — Пожалуй, это — одна из тех черт, которые позволили норманнам захватить полмира и, буде на то воля Господня, позволят и дальше побеждать любого врага.
— Вы еще уповаете на Божью волю?
— Я? Да. Я чту ее превыше всего. Потому-то я и был вынужден обнажить меч, дабы восстановить справедливость и Божий закон.
— Весьма странная манера.
— А что поделать? — Стефан развел руками. — Иначе было нельзя. Посудите сами, моя дорогая. Я вовсе не зверь, не какой-нибудь огнедышащий дракон. Мне бы доставило куда больше удовольствия сейчас просто совершать морскую прогулку и беседовать с вами о детских забавах или катании на деревянных лошадках, игре в мяч и прочих глупостях, которых, я повторюсь, увы, у нас с вами не было. Скажу более. Глядя на вас, я вижу прекраснейшую женщину, с которой рад был бы пировать за одним столом, как с воистину дорогой кузиной, разделить ложе, когда б вы не были моей сестрой, или же просто наговорить любезностей, когда б мы случайно встретились где-нибудь в дороге.
Но судьба уготовила нам иное. И это иное, словно дерево из корня, растет из грехов вашего отца. Он преступил все пределы закона божеского и людского. Он должен быть покаран. И сердце мое обливается кровью при мысли о том, что именно вы стали заложницей, да что там, искупительной жертвой его злодейств.
— Слишком много красивых слов, граф. Вам не сравниться с германскими миннезингерами, потому оставим любезности. Вы — похититель и мой тюремщик, я же, увы, в вашей власти. Можете не сомневаться, если небу будет угодно поменять нас ролями, я отрублю вам голову. Так что говорите смело, что вы надумали.
— Если мне суждено быть обезглавленным, дорогая кузина, я буду молить Всевышнего лишь об одной милости — чтоб он вложил меч именно в ваши руки, — расплылся в хищной улыбке Стефан Блуаский.
— Это будет плохая услуга, — не меняя выражения лица, ответила Матильда, — но я обещаю, что позабочусь о том, чтобы с вами поступили как подобает.
Граф Блуаский на секунду оглянулся, словно для того, чтоб еще раз полюбоваться морской зыбью играющей волшебным блеском лунной дорожки. Похоже, такая перепалка могла затянуться надолго. Хотя бы в словесной баталии Матильда вовсе не была намерена складывать оружие.
— Хватит! — вновь обращая взгляд к двоюродной сестре, жестко отрезал он. — Пока что Божий промысел отдал вас мне, и советую вам с этим считаться.
— Можете не сомневаться.
— Вы, должно быть, надеетесь, что ваш отец, мой любезный дядюшка, пошлет войска и корабли, чтобы освободить вас. Нет. — Он хищно оскалился. — Не пошлет. Он неминуемо заглотит оставленную ему в Тичфилде наживку и отправится искать меня на север. Там ему суждено увязнуть надолго. Между тем мы с вами завершим это чудесное путешествие и высадимся в Уэльсе. Насколько я помню, вам еще не доводилось бывать в этих краях.
— Нет, — покачала головой вдовствующая императрица.
— Ну вот и отлично. Вы как раз попадете на мою свадьбу с Альбаной, дочерью принца Гриффита Валлийского. А вместо праздничной охоты, моя дорогая кузина, мы с моим любезным тестем отправимся маршем на Лондон. Помнится, мой дядя уже однажды проделывал такой бросок. Тогда по его повелению там был вероломно убит его брат, наш законный король Вильгельм Рыжий.
Матильда глядела сквозь гримасничающего родича, почти не видя его.
— Я вижу, помнишь. Твой отец окажется зажатым, точно крыса в мышеловке. Он просто не в силах будет помочь тебе, моя дорогая.
— На все воля Божья.
— Конечно. Как там было? И волос не упадет с головы без Его повеления. Но мне представляется, что ты рассчитываешь не столько на нее, сколько на мечи своего любовника.
— У меня нет и никогда не было любовника.
— Что ж, тем хуже для этого остолопа, Конрада Швабского. Представляешь, моя дорогая, этот олух сам отдал тебя в мои руки. — Стефан рассмеялся, хлопая ладонями по планширу фальшборта. — Этот швабский хитрец заплатил мне, чтобы я вроде как бы захватил тебя, а потом должен был появиться он, освободить, геройски бряцая железом, и повести к венцу. Ему, видишь ли, не терпится усесться на императорский трон, а ты, обманув его надежды, сбежала под крылышко к отцу.
Матильда прикрыла глаза, и кончики ее губ едва заметно опустились.
— Я вижу, ты мне не веришь.
— Не верю.
— А зря. Сама подумай, откуда бы мне знать, куда пойдет твой корабль, да и с чего б ему вообще не идти прямиком в Лондон по Темзе? Так что твой не любовник Конрад не просто тебя предал, он мне еще и заплатил за это. Но можешь не беспокоиться за него. Когда я стану королем, я верну ему деньги. А тебя вместо свадьбы с этим дураком я приглашаю на свою.
— Я могу отклонить приглашение?
— Вряд ли. Во всяком случае, на свидание с Конрадом тебе рассчитывать не приходится. Вот, пожалуй, и все. — Стефан Блуаский вскинул плечи. — Я не рекомендовал бы тебе отклонять мое приглашение. Торжество будет недолгим, но пышным. Так что в будущем, в тиши монастырской кельи, где тебе надлежит отмаливать злодеяния твоего богопротивного отца и многогрешной матери, тебе будет о чем вспомнить.
— Когда Господу угодно, он и посреди моря прокладывает твердый путь, — холодно и отстраненно проговорила Матильда. — И в радости, и в беде я уповаю на милость Его.
— Да? — хмыкнул принц Стефан. — Что ж, уповай. А еще можешь уповать на Кракемара. Знаешь, огромный морской змей, живущий, по слухам, где-то в этих водах. Говорят, он исполнен доброты и справедливости. Иногда, обернувшись человеком, он заходит в рыбацкие лачуги. И тем, кто его хорошо принимает, загоняет в сети богатые косяки рыбы. Но, если вдруг его прогневить, он способен обвиться вокруг корабля и переломить его, точно соломинку. Говорят, пасть его такова, что целого человека он может проглотить, даже не пережевывая, а взгляд столь ужасен, что команда, увидевшая его с палубы, от страха просто впадает в безумие.
— Что ж, в сравнении с тобой, дорогой кузен, Кракемар намного предпочтительнее.
— А-а! — раздался крик впередсмотрящего. — Там, там!.. — Матрос, схватившись за мачту, пытался укрыться за ней, точно это раскачивающееся бревно могло защитить его от чего-то ужасного, маячащего впереди. — Милорд, там — глаза!..
* * *
Михаил Аргир гнал своего андалузца широкой рысью. «Это измена, — твердил он. — Измена императору. Никотея не должна была ехать в Киев. Это по меньшей мере непристойно. Если предполагается, что севаста, как родственница василевса, будущая невеста кесаря рутенов, она должна была ждать свадебных послов на землях империи, никак иначе! Если же она и впрямь пустилась в дорогу, стало быть, выполняет поручение Григория Гавраса!
А вероятнее всего, даже и не так. Вероятнее, они в сговоре и желают привлечь на свою сторону Мономаха с его нескрываемыми претензиями на престол. А еще эти темные персоны рядом с ней. Надо же, кто бы мог знать, что этот бедный рыцарь — родственник сицилийского короля! Но я чувствовал, что здесь что-то не так. Если сейчас они все вместе направляются в Киев, чем еще это может быть, кроме измены?!
Недаром же архонт, пленив сицилийца, вдруг ни с того ни с сего отпустил его и, более того, приставил охранять сообщницу. Вот оно, коварство!»
Топотирит палатинов мчался, не сбавляя хода. Он потерял несколько часов, выжидая, пока посланная по его следу облава уйдет подальше. Но зато Аргир не был обременен обозом и всегда имел под рукой свежую лошадь. Когда чувствовал, что его скакун устал, он пересаживался на другого и мчал дальше.
Остановился он лишь раз, увидев в степи небогатую кибитку переселенца, тянувшуюся в сторону Херсонеса. Он преградил ей дорогу и молча устремил взгляд на возницу. Тот смотрел на него испуганно и вместе с тем удивленно. «Может, узнать, видел ли этот несчастный кортеж севасты? — думал Михаил Аргир. — В случае чего можно сказать, что я отстал. Хотя нет. Отстал с двумя прекрасными джинетами от неспешно идущего обоза? Это звучит нелепо. Наверняка, добравшись до Херсонеса, этот несчастный поспешит в Бюро Варваров, чтобы доложить, как встретил в степи странного всадника».
Впервые в жизни Михаил Аргир пожалел о своей приметной внешности. Как бы ни быстро нес его конь, голубиная почта быстрее. Весь полуостров — точно огромная тыква-дуплянка, заткнуть ее не составляет труда. «Что ж, не повезло этому страннику оказаться сейчас так близко от Херсонеса. — Аргир положил руку на эфес меча и потянул его из ножен. — Но ведь Господь зачем-то направил его мне навстречу. Зачем?»
Он начал еще раз пристально оглядывать возницу и его экипаж. «Господи, разбойник, как есть разбойник! — глядя, как выходит клинок из ножен, с ужасом думал хозяин кибитки. — И взять-то у меня нечего, да как ему о том сказать? Он еще пуще обозлится. А там — жена и маленькая дочь. Зарежет же и глазом не моргнет». Он спрыгнул наземь и тут же рухнул на колени, затем порывисто вскочил, схватил лежавший на облучке узелок, развернул и отскочил в сторону. Сыр, лепешки, лук, вареные яйца — должно быть, это было единственное богатство, которым обладал переселенец.
«Глупец, он, должно быть, принял меня за разбойника, — усмехнулся топотирит палатинов. — Впрочем, откуда ж ему знать, что перед ним — спаситель империи? Но, может, оно и к лучшему. Желаешь видеть меня разбойником — значит так и будет». Он подъехал в упор к кибитке, не выпуская из поля зрения стоявшего поодаль возницу, свернул узелок с провизией и пришпорил коня.
«Господь спас! — вздохнул бедолага. — Жаль, конечно, еду, ну да ничего. До Херсонеса уже поди недалеко, а там продадим повозку, как-то устроимся».
* * *
Бернар Клервоский сложил персты благословляющим жестом, и замершая пред ним монастырская братия, тая дыхание, приготовилась внимать словам настоятеля.
— Возрадуйтесь, дети мои! — глухо, но все повышая голос, начал аббат Клервоской обители. — Были услышаны моления паствы верных слову Господа! Ибо нынче среди ночи, когда возносил я слова молитвы, явился мне ангел Божий и, воздев крыла надо мною, рек трубным гласом: «Встань, раб Божий Бернар, и зри!» И отверзлись глаза мои, будто прежде шел я, подобно слепцу, ведомому слепцом среди иных слепцов.
Увидел я море скверны, рождающее аспидов, имя коим — люди. Всякий аспид мнит себя разумением и силой равным Господу нашему. И ходит он меж внуков Адамовых, детей Ноевых, и за каждым влачится хвост его. Смущает он разумением прехитрым души, алкающие света истины, но всякое слово его пропитано ядом. И кто уверует в него, ступает без трепета в смрадное море, в океан серный, дабы и самому в аспида переродиться.
И взмолился я тогда, пав на колени пред ангелом Божьим: «Укажи путь мне, дабы не погубил я души своей, укажи путь, коим вести праведных». И рек тогда ангел, коснувшись пером чела моего: «Разве не сказано у Спасителя: „Не мир я принес вам, но меч?“ Щитом веры сохранишься ты от злых козней аспидовых, мечами праведности развеешь помыслы их. Помни, Бернар смиренный, — рек мне ангел, — страждущие злата и власть имущие по наущению змия коварного сменили царствие Божье на марево величия земного. Нет власти, кроме как от Бога. Всякий же, кто себя над оной ставить тщится, аспидовым ядом обуян! И коли против веления владыки небесного и земного намерен оружною силою неволить истинно верующих, то след вспомнить о мече гнева Божьего, ибо сказано: мне отмщенье, и аз воздам! Да ополчится же всякий истинно верующий, и у кого есть кинжал — пусть идет с кинжалом, у кого секира — пусть с секирой идет. Кто же злато имеет, пусть каждую десятую монету отдаст на благое дело, и спасется он, и врата Царствия Божия распахнутся перед ним, как пред светлым праведником. И возликуют ангелы, узрев душу, от скверны отмытую». Аминь!
— Аминь! — вторила ему братия, и Бернару, да что там Бернару — всем, собравшимся в этот час под сводами Клервоской обители, послышалось далекое ангельское пение и легкий шорох белейших крыльев в небесной выси.
* * *
На ночь кортеж севасты Никотеи остановился посреди степи. Возы обоза были составлены в круг и скреплены цепями. Экипаж высокородной госпожи, своего рода небольшой дом на колесах, стоял отдельно внутри импровизированного форта. Все же прочие ее спутники ночевали, кто подстелив под себя дорожный плащ среди травы, прямо под звездным небом, кто на возах.
Чуть поодаль паслись стреноженные кони. Вполголоса переговаривалась ночная стража, стараясь сто раз уже слышанными байками отогнать накатывавший понемногу сон. Усталость дня перехода чувствовали все, но, как говорится, служба есть служба, а свежих подкреплений для караула ждать было неоткуда.
Посреди лагеря горел костер, на котором булькала наваристая каша с бараниной. Федюня Кочедыжник с недоумением поглядывал на знатных господ, с которыми по счастливому мигу ему удалось свести знакомство, и недоумевал, отчего вдруг те не ложатся в столь поздний час. Сам он сидел чуть поодаль от костра, не решаясь без спросу молвить слово и ломая голову, как бы привлечь к себе внимание. До слуха его порывами ветра доносились какие-то странные незнакомые слова, в смысл которых он и не пытался вдумываться, понимая, что заморское наречие франков уж точно не людским разумением измышлено.
— Так ты полагаешь, все же генератор? — сумрачно глядя в шальной огонь, пожирающий шар перекати-поля, произносил витязь. — И все, что мы наблюдаем, не более чем полигон, своего рода экспериментальная база?
— А шо, почему нет? Я как в Институте CNN врубаю, так явно чувствую — конкретный полигон. Хрен зна чей, но стопудово лабораторные мыши под колпаком, только в костюмах и при галстуках. А эти чем хуже? Тоже, небось, сапиенсами числят себя.
— Еще не числят, слов таких не знают.
— Оно, конечно, правильно. — Менестрель, с переносицей, в силу жизненных передряг напоминавшей Федюне змеиный извив, закончил вощить стрелу и, точно любуясь, поднес ее к глазам, глядя на пламя. — Но все же как-то грустно расставаться с этим предубеждением. Так шо, мой доблестный вестфольдинг, есть промеж меня авторитетное мнение, шо прежде чем сбагрить эту сапиенсирующую межушную промежность в контору, надо устроить ей пристальный фейс-контроль.
— В каком смысле? — Витязь поднял брови.
— Хочу эксклюзивно получить чистосердечный и нелицеприятный ответ на три исконно-посконных вопроса русской интеллигенции: «Кто виноват?», «Шо делать?» и «Третьим будешь?», а, нет, «Кому на Руси жить хорошо?» — насмешливый приятель немногословного витязя ткнул себя пальцем в лоб, будто что-то вспоминая. При слове «Русь» Федюня несколько оживился, понимая, что иноземцы говорят о его родной земле, и тихо кашлянул.
— Федюнь, ты еще не спишь? — Добрый защитник наконец обратил внимание на сидящего поодаль мальчонку. — Вот и хорошо. Подкинь дров, блин, лепешек в огонь! Видишь, совсем скоро погаснет.
— Огонь — это хорошо, это верно. — Мальчишка радостно выполнил порученное ему действие, чувствуя большое облегчение от того, что верзила-лучник перешел на его родное наречие.
Над костром поднялся вонючий дым, люди, окружавшие костер, расселись чуть подальше.
— Ырка огня боится.
— Кака така Ирка? — повернулся к нему Лис. — Ты шо, втихаря подругу какую-то зафаловал? Ну, парень, ну, хват!
Глаза Федюни полезли на лоб, будто он вдохнул полным ртом этого смрадного дыма, и тот наполнил ему голову от горла до макушки.
— Чур вас, чур! Ырка — дух злой, мертвяк неупокоенный! В лес его лешаки не пущают, так, стало быть, он полем-степью и гуляет, когда пешим, когда и конным, а то и вовсе будто бы и вида никакого нет, а только спиною чуешь, как глядит на тебя кто-то. Холодок такой, будто изморозь в жаркий день. Если вдруг такое станется, говори скорее: «Деде, прадеде, пращуре, слышишь?» И как донесется точно вроде бы издаля: «Слы-ы-шу-у!», так Ырка пужается и прочь отпрянывает. Да только надолго не уйдет — ему на тот свет путь заказан. А на этом — холодно. От того хлада его всего крючит. И как почует он где человечье тепло, так вокруг и вьется, и вьется. Чуть зазевался — все! И кровь твою выпьет, и жар души отберет. Такое-то дело, — страстно тараторил Кочедыжник. — Оттого посреди степи становище разбивать — дело недоброе. К огню Ырка не приблизится — от него пламенем адским веет. Но где подальше — хошь одного бедолашного угребет, хошь десятерых. Тут чтоб покойно спать, со змеиным царем домолвиться надо. Как он вкруг становища оползет, так словно бы вал нерушимый по следу его возвысится. Ырке того вала нипочем не одолеть. Он все вниз глядит и через стену такую перебраться не может. Когда скажете мне, так я…
— Всадник! — перебил его витязь, указывая на возвышающийся неподалеку курган.
Лунный диск озарял его, придавая облику далекого кавалериста вид зловещий и неестественный.
— Ырка! — вздрогнув, хрипло выдохнул Федюня.
— Это вряд ли, — поднимаясь и вглядываясь в облитого луной незнакомца, процедил Лис. — Если только для безопасности твой Ырка не таскает на себе целую скобяную лавку. Ишь как блестит!
Словно испуганная видением в ночи, крикнула неведомая птица, ей вторила другая, а еще через мгновение во тьме послышался стук копыт. Сторожившие лагерь аланы тоже увидели непрошеного гостя.
— Вот сейчас и узнаем, — глядя, как неведомый всадник разворачивает коня, проговорил Вальдар Камдил.
— Ни фига не узнаем. Хрен они этого Ырку на аргамаке на своих бахматах догонят! Если он, конечно, сам не будет искать с ними встречи.
Глава 18
И когда настанет последний миг,
Судьба не свернет назад.
Тогда мы направим свой старый бриг
Прямою дорогой в ад.
Людовик VI очень любил тишину и молитвенный покой аббатства Сен-Дени. Здесь все дышало благолепием и святостью места. Здесь он был не христианнейший король Франции, все могущество которого держалось на силе его воли и острие меча, здесь он был смиренным прихожанином, духовным сыном мудрейшего аббата Сугерия, из рук которого он некогда принял графство Вексен как феод святого Мартина, тем самым признавая себя ленником Первоапостольной Римской церкви.
Нынче он стоял пред изваянием своего небесного сюзерена, отсекающего часть плаща, дабы отдать ее нищему, размышляя над деянием патрона. Грешно, конечно, так думать, но велика ли польза для страждущего от клочка ткани? Да и сам Мартин в рваном плаще выглядел совершенно нелепо. Тут уж либо весь плащ, либо ничего. А если так подумать, то на всех нищих плащей не наберешься. Нелепо превозносить такой подвиг. Уж лучше дать убогим работу, а за нее — еду и одежду. Те же, кто не желает в поте лица добывать хлеб насущный, чем лучше зверей лесных? Лишь тем, что ходят на двух ногах и человечью речь имеют? Так и то сказать, этим они только хуже диких тварей, ибо порочат замысел Господа и вводят в соблазн неразумных.
— О чем помышляешь ты, сын мой? — Преподобный Сугерий, как обычно, мягко, но решительно прервал задумчивость Людовика.
— О святости и несовершенстве человеческой натуры.
— Что ж, на эту тему можно размышлять вечно и все же не прийти ни к чему. Ибо познать сокровенное в природе человека не под силу смертному. Ибо что есть это сокровенное, как не часть скрытого от нас Господнего замысла, — со вздохом констатировал духовник короля. — А потому не будет большим прегрешением отвлечь тебя от них. Тем более что дело, о котором я ныне желаю с тобою говорить, не терпит долгих отлагательств. — Аббат Сугерий неспешно перекатил меж пальцами жемчужные шарики четок. — Кроме того, оно столь же касается дел мирских, сколь и матери нашей церкви.
— Я весь обратился в слух, святой отец. — Людовик резко повернулся к своему премудрому советнику.
— Ты, конечно же, слышал о настоятеле Клервоской обители, преподобном Бернаре?
— Да, что-то слышал, — кивнул государь. — Он был одним из самых ярых проповедников недавнего крестового похода.
— Это верно, — подтвердил Сугерий.
— А еще говорят, покидая стены монастыря, сей монах залепляет уши воском, дабы не слышать мирских речей.
— И сие правда.
— Вот, кажется, и все, что я о нем знаю. Хотя нет, он требовал запретить толковать слово Божье некоему парижскому богослову по имени Абеляр. Но признаться, остроумные замечания этого сорбоннского краснобая мне куда приятней, нежели мрачный огонь речей какого-то шампанского аббата.
— Он не «какой-то», Людовик. Было бы крайне неосмотрительно пренебрегать им.
— Что же в нем такого необычного, если даже ты вознамерился говорить со мной о его особе?
Аббат Сугерий поглядел на духовного сына укоряюще и покачал головой.
— Будь осмотрителен, Людовик. Этого шампанского аббата порою опасается сам Папа. И надо сказать, неспроста.
— Он, что же, еретик?
Аббат Сен-Дени печально вздохнул.
— Вовсе нет. Я затруднюсь назвать человека более ревностного в своей вере, нежели он.
— Тогда что же?
— Увы, подчас его рвение граничит с ересью.
— Мне сложно это понять, отче.
— Ведомо ли вам, сын мой, что несколько лет тому назад сей аббат благословил девятерых рыцарей принять на себя добровольные монашеские обеты и отправиться воевать в Святую землю.
— Я слышал об этом вскользь. Хотя, как представляется мне, нельзя быть одновременно рыцарем и монахом.
— Бернар Клервоский думает по-иному. Он, напротив, полагает, что никаких иных воителей, кроме тех, кто посвятит себя Господнему служению, быть вообще не должно.
— Что за нелепая идея? — пожал плечами король. — А как же «Богу — богово, кесарю — кесарево»?
— Бернар проповедует, что поелику всякая власть от Бога, то в наше время в христианском мире все кесарево — суть тоже Богово. И потому кесарь должен быть либо верным слугой церкви, либо же не быть вовсе. Ибо если он имеет о чем-то собственное мнение, то этим самым он грешит против Божьей воли, принесенной в мир через уста иерархов церкви. А если говорить напрямоту, то — через его собственные уста.
— Вот даже как? — Людовик VI поджал губы, упрямо наклонил голову и упер руки в объемистые бока. — Не много ли сей аббат на себя берет?
— Он полагает, что в самый раз, — чуть заметно усмехнулся Сугерий. — И надо сказать, немалое число верующих, от самого бедного из мирян до величайших иерархов Рима внемлют его речам так, будто перед ними не смертный, а некий живой пророк. Более того, он говорит, что к нему сошел ангел Божий и что его речи — суть речи Вышнего.
— И все же это лишь слова.
— Да, только это слова, за которыми готовы следовать толпы, — покачал головой аббат Сугерий. — Признаюсь, я давно наблюдаю за братом Бернаром, и его рвение неподдельно меня тревожит. Как нынче удалось мне узнать, совсем недавно он написал распоряжение, которое было отправлено в Иерусалим, повелевая Гуго де Пайену и его рыцарям незамедлительно вернуться в Клерво.
Упоминание о прибытии воинского отряда в земли Франции заставило короля нахмуриться, однако ненадолго.
— Полноте, вы смотрите чересчур мрачно. Сколько рыцарей может собраться под знамена этого самого шампанца?
— Лет пять назад их было всего девять, сейчас уже несколько десятков. Если память не изменяет, до полусотни.
— Что ж, — король покачал головой, — немалый отряд. Однако же у де Пьюизье или Тома де Марля, не говоря о нормандском ублюдке, их куда больше.
— Ты не понял, Людовик. Все эти рыцари овеяны славой многочисленных побед над сарацинами. И они готовы слепо повиноваться приказам Клервоского аббата. Когда наступит час, по одному слову Бернара они возглавят отряды куда более сильные, нежели все те, что они оставили в Святой земле. И поверь мне, сын мой, ни одно войско не сможет противостоять слову, время которого пришло. Либо нынче ты озаботишься участью Бернара из Клерво, либо очень скоро он озаботится твоей!
* * *
Широкогрудый буланый дестроер[45] мотнул головой, раздувая ноздри, радуясь, что ступил на твердую землю.
— Тише ты, шальной. — Гринрой похлопал жеребца по лоснящейся шее. — Нашел чему радоваться. Может, ты мне скажешь, что дальше будем делать?
Конь снова мотнул головой, решительно отказываясь отвечать на вопрос хозяина.
— Так я и знал, — вздохнул рыцарь. — Одно дело советовать, совсем другое — нуждаться в совете.
Он оглянулся на деревянный помост речного пирса, возле которого разгружался крутобокий нао.[46] Суетливые матросы катили по затоптанным дощатым сходням тяжелые, наполненные вином и маслом бочки, волокли на спинах тюки с завезенными с востока тканями.
— Вот эти точно знают, что делать.
Словно почуяв его колебания, рядом с заморским рыцарем вдруг образовался некто официозного вида с массивной золоченой цепью на шее и парой стражников за плечами. Внимательно оглядев снаряжение прибывшего, он задал вопрос голосом властным, убивающим в зародыше даже идею попробовать отмолчаться или же отправить любознательного незнакомца вслед за ветром:
— Назовите ваше имя, цель прибытия и место, куда вы следуете.
Язык, на котором были произнесены эти слова, мало напоминал тот, с помощью которого было принято общаться в Трире и, вероятно, осознавая это, чиновник тут же, будто певчий дрозд, повторил их на французском.
— Меня зовут Йоган Гринрой. Я рыцарь из Форбиша, состою в свите императрицы Матильды, — напуская на себя устало-скучающий вид, ответил тайный посланец герцога Швабского. — Семейные неурядицы вынудили меня задержаться, но лишь сменился ветер злосчастной судьбы моей, и я, точно грешник из могилы по звуку трубы архангела Гавриила, немедля вскочил в седло, чтобы предстать на суд госпожи моей, как на суд Божий. — Гринрой развел плечи и поправил алую тунику, на которой красовалось золотое надкушенное яблоко.
— Джон Гринрой оф Форбич, — голосом куда как более теплым повторил портовый надзиратель, — вы что же, ничего не знаете, сэр?
— О чем? — Рыцарь Надкушенного Яблока с видимым удивлением воззрился на собеседника. — Знаете ли, последние дни я провел в посте, молитвах и воинских упражнениях. Произошло нечто, о чем я должен знать?
— Леди Матильду похитили, — с трагической ноткой в голосе изрек его собеседник.
— Да ну?! Это ж кому такое горе?
— Что?
— Я хотел сказать, что, зная крутой нрав короля Генриха, только безумец может решиться на столь ужасающее преступление. Разве не горе родиться безумным?
— А, понятно. — Чиновник удовлетворенно кивнул головой. — На это осмелился негодяй и гнусный изменник граф Стефан Блуаский. Готов держать пари, ему и впрямь не поздоровится!
— Нет уж, как хотите, а пари я с вами на это держать не буду, ибо ему не просто не поздоровится, а… — Гринрой задумался, подыскивая слова на франкском наречии. — Очень не поздоровится!
— Король нынче собирает войско для похода на север, где пытается укрыться это порождение ехидны, и он, несомненно, будет рад принять под свои знамена еще одного доблестного рыцаря.
— А уж как я готов встать под его знамена! — Гринрой хлопнул себя по груди, точно пытаясь убить невидимую муху, севшую на золотое яблоко. — Так и не высказать! Сейчас же прямо и начну под них вступать. Только вот денег на дорогу раздобыть надо. Не подскажешь, часом, где тут ближайшая лавка менялы?
— Здесь, недалеко, — кивнул чиновник. — Вон, видите крышу с летящим гусем на флюгере?
— Конечно, вижу. Хороший гусь. Жареный был бы лучше, но ежели после обеда, то и этот сгодится.
— Вот там найдете и менялу, и ростовщика, а ежели что, то прямо у него в лавке и купить все в дорогу можно. Славный малый, хотя и ломбардец. Мастер Леонардо.
— Запомню это имя.
— Верно говорю, он всегда хорошую цену дает.
— Потороплюсь в этом убедиться воочию, — широко улыбнулся Гринрой.
Портовый надзиратель любезно кивнул ему, как старому знакомому.
— Конечно-конечно, вот только… — Он замялся.
— Что еще?
— Быть может, удовлетворите мое любопытство?..
— Друг мой, любопытство удовлетворить невозможно, но я постараюсь ответить на ваш вопрос.
— Что означает столь диковинная эмблема на вашей тунике?
— Приятель, — придавая лицу возвышенное и в то же время недоуменное выражение, покачал головой Гринрой, — мне странно даже слышать такое! Разве не ведомо вам, что надкушенное яблоко — знак грехопадения наших общих предков, сэра Адама и леди Евы? Я поместил сей знак себе на грудь, чтобы в величии никогда не забывать, как низко можно пасть и… как больно при этом удариться.
— О-о! — почтительно отозвался чиновник.
— То-то же, что «о-о!». Ладно, я поспешу, а то король Генрих небось уже заждался. Нехорошо заставлять государей ждать, поверьте моему опыту, сэр! — Он махнул рукой на прощание и зашагал к маячившему вдали дому, над черепичной крышей которого, следуя за северо-западным ветром, парил ярко-красный гусь.
«Ну, хоть что-то выяснилось, — крутилось в рыцарской голове. — Стало быть, король Генрих намеревается отправиться на север и устроить прочухана тамошним баронам, а заодно и своему шотландскому собрату. Когда у английских королей скверное настроение, они всегда собираются на север воевать с шотландцами».
Он остановился и следовавший за ним в поводу конь удивленно скосил темный глаз на странного хозяина.
«Вот это-то как раз и удивительно. Вот, скажем, я. Украл Матильду и отправился туда, где меня будут искать в первую очередь? Да ни за какие пироги! Конечно, можно предположить, что это все те самые идиотские рыцарские штучки, которыми они так гордятся. — Он осекся. — Которыми мы, благородные воители, так гордимся, черт возьми! Но все равно, если хочешь храбро сражаться, подобно оленю, уперев рога в рога, к чему бежать столь далеко? И к чему ярить старого волка, у которого, насколько мне ведомо, рогов нет, зато он готов живьем слопать всякого, кто становится у него на пути, вместе с золотыми шпорами?
Здесь что-то не так! Если Боклерк собирает армию, то, уж конечно, он не намерен плясать под дудку своего драгоценного племянничка. Он будет драться и скорей откусит собственную руку, чем согласится подписать ею свое отречение! Этого Стефан не может не понимать. Король-то готов сражаться, однако зачем эта драка нужна его племяннику? Блуасцу куда удобней пырнуть дядюшку в спину, чем самому подставлять лоб!
А значит, искать его нужно где угодно, но только не там, куда намерен отправиться король. Знать бы еще, где находится это самое „где угодно“. — Он усмехнулся и невольно хмыкнул. — И что с этим делать дальше».
* * *
Мастер Леонардо улыбался во всю ширь, ибо накрепко усвоил в своей жизни золотое правило успеха: если не знаешь, что делать, или не понимаешь, что происходит, — улыбайся. Когда рыцарь не моргнув глазом предложил в залог прекрасный доспех мавританской работы, он затянул известную всем ростовщикам во всех концах света песню о том, что не сможет найти денег, чтобы дать нужную цену за такой товар. И тут же под шумок назвал сумму втрое ниже той, которую готов был уплатить не раздумывая. На что незнакомец незамедлительно смерил его осуждающим взглядом и с точностью, как будто прочел его мысли, назвал эту самую сумму. Мастер Леонардо всплеснул руками, пожаловался на штормовое море, недород, налоги и тяжелую судьбу иноземца в Британии, и вновь услышал в ответ названную прежде цену. С тем же успехом можно было торговаться с носовой фигурой любого из стоящих у пирса кораблей.
— Быть может, вы правы, — наливая глаза печалью, жалобно вздохнул мастер Леонардо, — но видит Бог, у меня нет таких денег.
— Не богохульствуйте, несчастный! У Всевышнего хорошее зрение, он этоих выдумок терпеть не может, — нахмурился рыцарь. — Это тебе не местное барахло, а настоящий гранадский карацин.[47] Давай, лезь в мошну за шиллингами, ибо, не будь я Гринрой, если даже та цена, по которой я тебе отдаю весь этот железный хлам, вдвое ниже той, которую ты за него запросишь. Давай пошевеливайся, ближайший год я не хочу больше видеть море и просто мечтаю убраться отсюда поскорей.
— Но откуда, сэр рыцарь? Откуда у меня такие деньги?!
— Вот уж это абсолютно не мое дело, но я готов биться об заклад, что мое предложение — твоя лучшая сделка за последний год.
Мастер Леонардо вздохнул. Клиент не всегда бывает прав, однако на этот раз, чего мудрить, правота его была несомненна.
— Я посмотрю, что можно сделать для вас. Погодите немного здесь. — С видом несчастнейшего из смертных ломбардец удалился в подсобку, где уже ждал его помощник с отсчитанной суммой.
— Экий пройдоха! — чуть слышно произнес он, глядя на хозяина.
— Еще какой! — уважительно подтвердил ростовщик. — Во всей империи такого поискать — не сыщешь! Вот что, сынок, беги в корчму «Якорная цепь», найди там шкипера Брабанто и передай ему, что здесь вдруг невесть откуда появился Гринрой, бывший оруженосец герцога Конрада Швабского, и что он вовсе не намерен следовать тем же путем, что и король Генрих. Полагаю, хозяину Роже следует знать об этом. Не знаю, зачем, но лучше знать!
* * *
Зубастая голова убитого Мстиславом водяного змия красовалась на колу пред княжьим теремом на радость киевлянам и для устрашения злого недруга. Мстислав Владимирович в который уже раз окинул трофей взглядом и покачал головой. Конечно, ему были приятны раздававшиеся со всех сторон громкие славословия и сложенные в честь славной победы былины, распеваемые гуслярами пред храмом Софии, однако некая странная особенность, некое дивное обстоятельство мешало ему приладить лавры победителя днепровского чудовища к лаврам ратной славы. Он не говорил о своей туге-печали никому, а нынче и вовсе глядел на останки подводного змия в последний раз и надеялся более не вспоминать об этом вельми славном деянии.
Нынче вместе с отцом он покидал стольный град, а там, искупавшись в священных водах Светлояр-озера, и вовсе пора бы в Новгород отправляться, а оттуда — в земли дальние, заморские. А там поди столько всего еще станется, что об этом зубастом идолище уже и вспоминать не придется. Мстислав хлопнул в ладоши, подзывая слугу.
— Коня приведи!
— Батюшка не велел со двора ехать, — без особого энтузиазма напомнил конюший.
— Пустое! — отмахнулся Мстислав. — Чай не на тура отправляюсь. Коли спрашивать будет, скажешь, в Выдубечский монастырь подался, с отцом Амвросием потолковать.
— Так ведь, поди, заругает, — жалобно глядя на князя в блестящей вызолоченной броне с полированным, горящим, точно солнечный лик, зерцалом, взмолился челядинец.
— Ну, заругает — не зашибет. Пока все соберутся, пока батюшка в своей молеленке каждому святому поясные поклоны отобьет, я уж и вернусь. Веди коня!
Слуга повиновался с неохотой, ибо, невзирая на сдавшее в последние месяцы здоровье Великого князя Киевского, рука у того оставалась, как и в прежние годы, тяжелой, а уж с палкой — так и подавно. Но и противиться молодому господину тоже представлялось ему делом нелепым. «То ж еще когда будет, — вздохнул он, подводя к крыльцу убранного расшитой попоной, настоящим ковром, скакуна, — а этот, поди, сейчас зашибет, только слово поперек молви».
Мстислав легко вскочил в седло, натянул узду, поднимая коня на дыбы и, хлестнув легонько по крупу, с места в галоп помчал со двора.
Конюший еще стоял у ступеней, глядя, как опускается пыль за спиной Мстислава Владимировича, когда на крыльцо, тяжело опираясь на посох, вышел сам Великий князь земли Русской Владимир Мономах. Государев тиун, едва завидев его на пороге, побледнел и рухнул на колени.
— Не вели казнить!
— Ну что еще? — рыкнул государь.
— Мстислав вон ускакал, — не поднимаясь с колен, запинаясь на каждом слове, жалобно проговорил слуга. — Я ему сказывал, а он ни в какую. Подавай, говорит, ему коня, и все тут. И умчал вон.
— Куда это он вознамерился? — гневно сдвигая брови, вопросил Владимир Мономах.
— Сказывал, в Выдубич, к старцу Амвросию.
— Не напрощался еще? — Великий князь грохнул посохом в деревянное крыльцо, и оно загудело от тяжелого удара. — А ты, дуралей, забыл, чей хлеб ешь? — Увесистая изукрашенная палка опустилась на согнутую в поклоне спину. — Вернуть немедля! — громыхнул Великий князь. — Я, поди, еще жив, не рано ли удумал отцову волю в грош не ставить, ослушник? Немедля вернуть! Уж в дальний путь ехать пора, а он, вишь, помчал, ладана не нанюхался!
— Да вон он, кажись, скачет, — раздалось от ворот.
Владимир Мономах поднес руку к глазам козырьком.
— Не он то. И конь не его, и сбруя, кажись, ромейская. Никак гонец.
Между тем всадник на взмыленной лошади влетел в распахнутые ворота и буквально свалился на руки подбежавших гридней.
— Пресветлый государь! — едва отдышавшись, опираясь на руки воинов, начал еле стоящий на ногах посланец. — Мой господин архонт Григорий Гаврас, по всемилостивейшему повелению божественного василевса ромеев Иоанна Комнина, сообщает родственнику своему, могущественному кесарю русов: в столицу твою движется высокое посольство нашего императора. И дважды еще не успеет взойти солнце, как оно будет здесь.
— Час от часу не легче, — оглядываясь на ждущих сигнала гридней, на запряженные возы, пробормотал Владимир Мономах. Но, обернувшись к гонцу, милостиво кивнул: — Что ж, примем с радостью и почетом. А его, — он кивнул челядинцам на выбившегося из сил вестника, — накормить, напоить да спать уложить. Ишь, — вздохнул он, когда место перед крыльцом опустело, — принесла нелегкая.
* * *
Стефан Блуаский быстро захлопнул веки, точно ворота крепости перед носом у наступающего противника. Два янтарно-желтых глаза с обсидианово-черными зрачками глядели, казалось, прямо на него, прожигая насквозь одежду и кольчугу. Для верности принц закрыл лицо руками и заорал во всю мочь:
— Рулевым отвернуться! Кто посмеет уйти — убью!
Но, казалось, никто на корабле не слышал этого крика. Каждый сейчас видел ужасающие глаза, прожигающие взглядом живую плоть, и зубчатую спину длиною ярдов в двадцать, волнами перекатывающуюся в соленой пене.
— Кракемар! — Вопль ужаса летел со всех сторон, множился, сотрясая корабль до ощутимой дрожи.
— Стоять! Всем стоять! — орал Стефан Блуаский, но его никто не слышал. — Лучники на форкастль!
Хладнокровие издавна считалось одной из добродетелей настоящего лучника, но в этот миг ни на корабле, ни где-либо в Британии не нашлось бы аршера,[48] способного выполнить эту команду. Люди бегали по палубе, прыгали за борт, норовили укрыться в трюме, но везде, куда бы они ни пытались забиться, их настигал безжалостный холодный взгляд Кракемара.
Продолжая закрывать ладонью глаза, Стефан Блуаский потянул меч из ножен, грозя самолично зарубить всякого, кто посмеет ослушаться его приказа.
И тут корабль тряхнуло, будто кто-то огромный и невидимый схватил за шиворот расшалившегося малыша, намереваясь задать сорванцу заслуженную взбучку. Неф, до того гончим псом скакавший с волны на волну, вдруг замер на месте, заметно кренясь на левый борт, и сразу же то, что не было закреплено, полетело кубарем, покатилось от носа к корме, сметая все на своем пути. Принц Стефан попытался было удержаться за планшир фальшборта, но промахнулся, хватая пустоту, взмахнув руками, отлетел и со всей мочи ударился затылком о мачту. Ночь расцвела мириадами звезд и тут же погасла.
Бог весть сколько лежал он без чувств, когда же наконец открыл глаза, уже светало, на палубе суетились какие-то люди, граф Блуаский сейчас не мог толком понять кто. Корабль стоял на месте, и волны, точно гробовщик, вбивающий гвозди в крышу последнего дома детей человеческих, мерно били в рассевшийся борт.
— Капитан! Он пришел в себя! — раздался над головой Стефана приятный женский голос.
Внук герцога Нормандского тряхнул головой, и та отозвалась пронзительной болью. Он застонал, но больше от обиды и ярости, чем от нового ломящего затылок ощущения. Зрение несколько сфокусировалось, и он узнал в склонившейся над ним женщине Матильду.
— Это ты? — пробормотал он, будто ожидал увидеть на ее месте иную даму. — Проклятие!
Сознание возвращалось к нему быстро, точно голова его стала пиршественной чашей и теперь наполнялась вином. Он украдкой метнул взгляд на пояс, где в украшенных серебряными накладками ножнах висел замечательный толедской работы кинжал. Оружие было на месте. «Тогда была ночь, теперь светает, — мелькнуло у него в голове, — стало быть, прошло немало времени. Неужели же Матильда не заметила клинок? Нет, быть того не может. Тогда отчего не убила? Кто бы сейчас стал выяснять, как и отчего помер раб Божий Стефан Блуаский? Испугалась моих людей? Снова вряд ли. Она, конечно же, понимает, что стоит мне пойти на корм рыбам, единственное, что может спасти головы этих негодяев, это немедленно присягнуть ей на верность и с почетом доставить безутешному отцу-королю. Еще и награду получат, — прилетело вслед за этой мыслью. Он снова застонал и, ухватившись за руку кузины, попытался встать на ноги. — Быть может, не решилась, — подумалось ему. — Конечно же, не решилась».
Он глянул в глаза сестры. «Нет, чушь. Спокойной решительности ей не занимать. Да и не было у нас в роду грешивших робостью, сколь ни ищи. Не было».
— Вы живы, милорд? — Капитан, а с ним несколько воинов-блуасцев подскочили к своему господину, спеша поднять его.
— Мой корабль! Мой корабль погиб! — причитал убитый горем шкипер.
— Это гнев Божий, — тихо проговорила Матильда.
— Глупость! — скрипя зубами, процедил раненый принц. — Скажи еще, что Господь специально намыл здесь мель, чтобы мы влипли в нее, точно муха в джем. Где мы находимся?
— Чуть больше мили от Портленда, милорд. Эта проклятая отмель вечно меняет свои очертания! Если бы не Кракемар…
— Замолчи! — рявкнул Стефан Блуаский. Причитания старого морехода звенели сейчас в его голове подобно церковному колоколу. — Сколько воинов на корабле?
— Не больше тридцати, милорд, с матросами может набраться до пятидесяти. Многие погибли.
— Проклятие! — Принц закрыл глаза. — Этого мало, чтобы штурмовать замок.
«Да и что толку, даже если удастся обмануть городскую стражу и взять город на копье, скрыть захват не удастся, — мелькнуло в голове принца, — и спустя несколько часов замок будет окружен людьми графа Дорсета. Этот волк своего не упустит. Даже если в порту окажется надежный корабль, уже завтра король будет знать, где мы находились, и тогда вся затея псу под хвост. Быть может, податься к королю Людовику? Француз охотно примет этакий подарок».
Но одна только мысль, что ему вновь придется ступать на палубу корабля и бороздить холодные волны, в которых поджидает его желтоглазый Кракемар, заставила все тело покрыться великим множеством больно кусающихся мурашек.
— Надо спасаться, милорд! Корабль с мели не снять, а даже если прилив и сделает это, мы пропали. В трюме течь. Воды уже по грудь, а спустя несколько часов…
— Зачем ты говоришь мне об этом? — процедил, морщась от боли, граф Стефан. — Рубите мачты, разбирайте палубу, делайте плот. Пока отлив, мы должны добраться до берега.
— Но там же люди короля! — всплеснул руками шкипер.
— Я знаю, — огрызнулся граф Стефан. — Но людей можно убить, можно обмануть, можно подкупить. А с морем ты этого не сделаешь, старый дурень. Делайте плот. Воинов и леди Матильду с ее чертовыми дамами переправляем на берег. Остальные, если хотят жить, пусть спасаются как могут. Сейчас до рассвета главное — незаметно обогнуть город. Дальше будут пустоши да леса.
Если вдруг придется, то вдали от побережья мы вполне сможем выдать себя за людей графа Дорсета, направляющихся в Йорк по указу короля. Вряд ли кто-то всерьез решит допытываться у такого отряда, кто мы и откуда.
Дорогая Матильда, — Стефан Блуаский попробовал усмехнуться, но получившаяся гримаса больше походила на злобную маску, — даже проделки какой-то глупой рыбы не изменят вашей участи. А милый дядюшка, паче чаяния, и подавно будет на моей стороне, покуда мы не доберемся до Уэльса. Судьбу надо держать за горло, если хочешь, чтобы она улыбалась!
Леди Матильда покачала головой и, вздохнув, отошла в сторону.
— Это правда, милая сестрица! — с раздражением крикнул Стефан Блуаский и от боли закрыл глаза. Сквозь марево в его голове слышались резкие, как удары плети, окрики капитана, стук топоров и шум волн, все больше и больше разрушающих корабельный остов. «Главное сейчас — не пропустить отлив, — прошептал он, силясь не потерять сознание. — И все же, почему она меня не убила?»
Глава 19
В основе искусства жить — свобода от всех видов страха.
Анджело Майорано глядел в высокое синее небо, где, раскинув крылья, величаво парил белоснежный аист.
— Порожняком идет, — глядя, куда направлен взор капитана, прокомментировал Лис. — Видать, уже где-то отбомбился.
Мултазим Иблис кинул на скачущего рядом неуемного остряка взгляд, полный нескрываемой досады. Неожиданно для себя он ощутил острую неприязнь к этому бойкому на язык верзиле, который во что бы то ни стало норовил прокомментировать все услышанное и увиденное. Каждый день вольного, а затем и невольного пребывания на суше Анджело Майорано ощущал невыразимую тоску по бескрайней изменчивой морской глади, по раскачивающейся под ногами корабельной палубе. Конечно, выделенный ему от щедрот бахмат тоже тряс неимоверно, но это было совсем другое ощущение.
— В тех местах, откуда я родом, — сдерживая себя, чтобы не наговорить языкатому «соратнику» грубостей, начал дон Анджело, — аист — птица священная.
— О чем он говорит? — поинтересовалась откровенно скучавшая в дороге севаста.
— О птицах, моя госпожа. — Вальтарэ Камдель склонился к окошку возка. — Если желаете, могу вам перевести.
— Окажите любезность, — кивнула Никотея.
— Когда-то давно, — продолжал капитан «Шершня», — на одном из островов, которых великое множество в Эгейском море, произошло какое-то чудовищное нашествие змей. Казалось, они повсюду. Нельзя было подойти к берегу, чтобы не увидеть свернувшегося гада, греющегося на солнце среди камней. Порой они даже заползали в дома. Нечего и говорить, что люди жили в постоянном страхе, боясь не то что выйти на улицу, но даже поутру открыть глаза. Вы только представьте, утром просыпаешься, а над тобой — голова змеи…
— А в зубах яблоко, и шипит она этак с набитым ртом: «Съешь его!» Кстати, мессир рыцарь, все собирался выяснить, как это первобытный удав нашу общую пращурку ушипел навзничь, болтать-то ему вроде нечем, ну, понятное дело, кроме хвоста.
Анджело Майорано гневно выдохнул, хмурясь и явно желая дать наглецу достойную отповедь.
— Прошу вас, продолжайте, — улыбнулась Никотея, — не слушайте этого болтуна.
— Так вот, — бросая недовольный взгляд на Лиса, вновь заговорил мореход, — жители острова взмолились Господу, дабы он освободил их от злой напасти. И вдруг откуда ни возьмись на остров прилетели аисты. Как известно, птицы эти дорожат своими гнездами не менее, чем люди родными домами. Они не меняют путей своих перелетов и весьма неохотно гнездятся в новых местах. Но Господь всеблаг, он сотворил чудо! И великое множество аистов в один прекрасный день опустилось на остров.
Сами островитяне верят, что то были не простые аисты, а небесные ангелы, принявшие вид белокрылых птиц. Но всякому вольно верить в это или же не верить. Одно можно сказать достоверно — в самое короткое время Божьи посланцы истребили всех змей до единой. С той поры на острове их больше никогда не было. Того же, кто осмеливался убить аиста, горожане кидали в глубокий ров, полный ползучих гадов…
— Стоп, не так быстро, адмирал, шо-то я совсем запутался! — Лис обескураженно замотал головой. — Номер раз: либо твои ангелы схарчили всех змей до единой, либо уж ров с гадами ползучими, давай шо-то одно! Или ты хочешь сказать, шо островитяне так соскучились по аспидным рожам на рассвете, шо начали их завозить из более обжитых гадюками мест?
Номер два: ежели белокрылые аисты в поте клюва истребляли всякую адскую нечисть, кому пришла в голову светлая мысль начать изничтожать их самих?
— На этом острове никогда не убивают аистов! — не выдержав, взорвался Анджело Майорано.
— А, закон типа приняли, шоб страшнее было, — не унимался Сергей. — Опять же ров с этими «кусающими в пяту» чисто для приколу завели!
— Убивать змей — не благое дело, — робко подал голос трясшийся на запятках возка Федюня Кочедыжник.
— О, еще один Гринпис нашелся! — хмыкнул Лис.
— От змей вся мудрость, — оценивая слова менестреля как высшую степень непонятливости, выпалил малец. — Даже от яда их, коли с умом подойти, здоровью польза, а врагам — погибель! А от птиц тех толку чуть.
— Ну, не скажи! Шо ж мне прикажешь к стрелам змеиные хвосты ладить? Опять же, — Лис поглядел на аиста, безмятежно парящего в небе и не подозревающего о вызванном им споре, — аист в семье птица очень даже полезная. Не везде ж мы поспеть-то можем! Хотя порою воробьи мне нравятся больше… Радует еще, шо коровы не летают!
Он хотел что-то добавить, но в этот миг встревоженной степной птицей отозвался кто-то из всадников флангового дозора.
— Ну, шо ж там снова негоразд?
— Опять всадник! — указывая на маячивший вдали курган, произнес Вальдар Камдил.
— Ишь, прицепился! Может, мне его стрелой достать?
— Нет, так не пойдет. Пусть аланы отрежут ему путь к отступлению, а я попробую взять его живьем и порасспросить, с чего бы это вдруг он за нами увязался.
— Тоже дело. А я подстрахую. Хотя погоди, он там, кажись, не один. Точно, раз, два, три, четыре, итого пять голов в броне. Да и гнаться за ними, кажись, не придется. Они, сто пудов, направляются сюда.
* * *
Михаилу Аргиру чертовски хотелось есть. Даже не есть, а жрать, рвать ломтями прожаренное мясо, жадно, по-волчьи вгрызаться в плоть, запивая съеденное горячащим кровь вином. От голода в его глазах стоял сероватый туман, спутник проклятой слабости. Это заставляло ромея скрипеть зубами от невыразимой всепоглощающей злобы, перемалывая в тончайшую пыль висящий в степном воздухе песок. Пару раз он видел неподалеку птиц, задумчиво глядевших на всадника. Они казались вовсе не пугаными. Но стоило ему спешиться, чтобы поднять с земли камень или просто замахнуться, как вожделенный обед спешил вспорхнуть в небо, раздраженным криком выражая крайнюю степень негодования.
Несколько раз Михаил Аргир пытался скрытно подойти к каравану севасты, но днем и ночью его встречала бдительная стража, готовая убить кого угодно, невзирая на богатство и знатность. Он знал это лучше многих. Всего несколько лет назад и ему доводилось посылать тех же аланов висеть на хвосте отступающего половецкого войска.
Подобно матерым псам, ведущим стадо на бойню, они не знали ни страха, ни пощады, а путь их легко было проследить по исклеванным вороньем половецким трупам. Теперь на месте гонимых кочевников был он сам!
«Нет, так не может продолжаться, — твердил он про себя, — на марше мне ее не взять. Скорее я сам полягу здесь от усталости и бескормицы. Какой позор! Нет, так не должно быть. Я должен отомстить. И спасти империю. Если не удается разбить врага на марше, если места его стоянок хорошо защищены, то следует дождаться часа, когда противник сочтет поход законченным и потеряет бдительность. Если Никотея с приспешниками следует в Киев, я тоже приду туда. Возможно, даже раньше. Наверняка раньше».
На губах Михаила Аргира впервые за несколько дней появилась улыбка. Он недобрым словом вспомнил императора Никифора, рекомендовавшего армии не делать летом больших переходов, хлестнул коня нагайкой и погнал скакунов на север, туда, где протекал могучий Борисфен.
Когда наконец вдали показались крутые берега этой великой реки, именуемой также Данпр, или Днепр, Михаил Аргир принялся тщательно осматривать место будущей «охоты». Здесь всегда было много кораблей, одни спускались вниз по течению, чтобы, выйдя в море, дойти до Херсонеса и продать свой товар в его стенах, другие же отправлялись в Константинополь, что было куда опасней, но сулило в случае удачи хороший барыш. Третьи же возвращались из грек в варяги с новым товаром и большой выручкой.
Конечно, идти на веслах против течения, да еще через пороги, было делом не простым и весьма опасным. Но это в свою очередь заставляло хозяев лодий набирать крепких малых в гребцы и стражу, ибо если река была полна одних опасностей, то на берегах путников подстерегали другие.
Вскоре Аргиру удалось найти то, что в последние пару дней казалось ему чем-то вроде путеводной звезды. Небольшая крепостица, или, как называли их ромеи, кастрон, приютившийся на месте удобной корабельной стоянки, возвышалась на прибрежном утесе, обнесенная неглубоким рвом. Со стороны берега она была окружена частоколом из заостренных кверху бревен, над которым возвышалась воротная башня. Стража в воротах опасливо покосилась на сумрачного всадника в дорогой броне, пропыленной одежде и с парой бесценных джинетов, едва волочивших ноги от усталости.
На этих берегах видывали всяческие образчики человеческой породы, но уж больно не вязался потрепанный вид могучего гостя с его очевидным богатством. «Небось патрикий какой беглый, — мелькнуло в голове одного из стражников, на лету словившего брошенную всадником монету. — Ишь ты, по доспеху — ромей, а монета — фряжская».
Михаилу Аргиру не было дела до размышлений стража. Он знал, что находится далеко от земель Херсонесской фемы и здесь готовы принять хоть нарезанный кругляшами чертов хвост, ежели за него можно что-либо выручить.
Все эти укрепленные селения напоминали друг друга, точно орехи: торговцы снедью, конопатчики, парусных дел мастера, плотники, два-три кузнеца и, конечно же, харчевня. Реже — две, но это уже выше по течению, у самых порогов, где корабли в ожидании опытных мандрык, или, по-ромейски, дукторов,[49] задерживались надолго. Здесь харчевня была одна. Над ее крышей вился дым, суливший усталым путникам обильную горячую еду.
Сумерки едва сгустились над Днепром, харчевня была полна, как, впрочем, и всякий день в судоходную пору. Длинные столы были уставлены нехитрой, но обильной снедью и, конечно же, вином, прекрасно восполнявшим недостаточную изысканность подаваемых блюд.
Михаил Аргир впервые за последние дни чувствовал приятную сытость, плавно переходящую в дрему, и с трудом удерживался, чтобы не уснуть прямо здесь, уронив голову на столешницу.
Настроение его заметно улучшилось. Он сидел, благодушно развалясь на скамье, и глядел из-под полуопущенных век вкруг себя несколько лениво, краем уха слушая застольные беседы соседей. Ему еще предстояло сделать нелегкий выбор, но он откладывал это до той поры, когда ночь окончательно поднимет в небесном куполе свой желтый фонарь и вдосталь наевшиеся и напившиеся купцы и их прислуга начнут расходиться по местам ночевки. В какой-то миг он поймал себя на мысли, что ему жаль каждого из этих бедолаг, всякий час рискующих жизнью ради куска хлеба, но тут же одернул себя, а спустя мгновенье до слуха его донеслось:
— Я верно тебе говорю, Хрогарт, дело там нечистое.
— Это с чего ты взял? — поинтересовался у широкоплечего коренастого бородача неведомый Хрогарт, судя по одежде, на сей раз пытающий судьбу в роли купца.
— Вот ты в Константинополь сколько раз ходил?
— Три.
— А кто таков Михаил Аргир — слыхал?
— Да я и здесь о нем слыхал. Он в этих местах с половцами бился. Рубака знатный!
— То-то же. А там он при василевсе из первейших будет.
— И что ж с того?
— А то, — прихватив собеседника за шею и притянув его к себе, в полный голос продолжал бородач, — что архонт Херсонеса за живого Михаила Аргира ныне сулит две сотни бизантов, а за мертвого сотню. Уразумел?
— Ишь ты, так он что, супротив василевса ополчился?
— Дурья твоя башка! Стало быть, не уразумел. В Константиновом граде на Аргира, как и прежде, не надышатся, а здесь — вон что. Вот и поди гадай, то ли Гаврас на Комнина поднялся, то ли Комнин Гаврасу шею свернуть намерился.
— Да уж, соображаю, — протянул Хрогарт. — Стало быть, цены подскочат.
— А я тебе о чем! — Вещатель хлопнул соседа по плечу. — Вот кумекай. — Он вздохнул. — А хорошо бы Аргира этого живьем изловить — экая уйма деньжищ! Довелось мне на него как-то в Константинополе глянуть — малый, по всему видать, не промах, ну да и мы не лыком шиты.
Именитый потомок императора уронил голову на стол и слегка всхрапнул, притворяясь спящим. Неспешная беседа продолжалась еще довольно долго, пока наконец охотник до херсонесского золота не объявил изрядно заплетающимся языком:
— Пойду я, пожалуй. Ставру обещал к полуночи быть, а уже, поди, и заполночь.
Михаил Аргир исчез из харчевни спустя пару минут. Догнать бредущего вдоль берега по тропинке человека было плевым делом.
— Стой! — тихо, но твердо скомандовал бывший начальник дворцовой стражи.
— Да кто ты такой?..
— Михаил Аргир.
Руки знатного ромея клещами сомкнулись на подбородке и затылке полуночного гуляки. Раздался тихий хруст, и мертвое тело рухнуло с обрыва, ломая прилепившиеся к отвесному берегу чахлые кусты.
* * *
Новгородский купец Ставр Людинович с утра был хмур. Еще бы ему не хмуриться, если один из его лучших стражников взял да и упился так, что упал с обрыва и сломал шею. Это не лучший подарок в преддверии грозных порогов, где вода временами стоит ревущей стеной и камни торчат из обрывков пены, точно клыки адского левиафана. Совсем никудышный подарок, когда на счету все крепкие руки, способные держать весла.
Быстрые ласточки вились над рекою, ловя комах и спеша отнести их птенцам к изрытому норами берегу. «Говорят, ласточки предвещают спасение», — глядя на снующих над водой птиц, невесть с чего вспомнил Ставр Людинович.
— Хозяин! — вдруг раздалось у него над головой. Корабельщик резко повернулся. Он не слышал, как подошел незнакомец. К тому же, отличаясь немалым ростом, новгородец не без причины дивился, когда с ним разговаривали сверху вниз. Окликнувший его был выше Ставра на полголовы, щеки его покрывала густая щетина, переходившая в давно нечесанную бороду.
— Я знаю, тебе нужен человек.
— Нужен. — Неспешно произнес купец, оценивающе глядя на чужака. — Кто таков будешь?
— Кто буду — завтрашний день покажет. Кто был — уже не видать.
— Ишь ты! — Купец не был чересчур любознателен и привык, что в приграничье водится немало удальцов, давно и не без причин забывших свое имя. — Стало быть, ко мне желаешь? — продолжая изучать могучего собеседника, поинтересовался купец.
— Желаю.
— С оружием обращаешься?
На губах молодчика мелькнула ухмылка.
— Коли сомневаешься, испытай.
— Недосуг, — отмахнулся купец. — А с веслами обращаться доводилось?
— Доводилось, — кивнул верзила.
— Вот и славно. Оплату какую желаешь?
— До Киева ничего не возьму — только хлеб да кров. Пара коней у меня имеется. В этих краях за них цены никто не даст. А в Киеве сказывают, на такой товар всегда купец найдется.
Ставр Людинович прикусил губу. Его корабль был довольно велик, и все же пара коней — не пара синиц. Но человек ему был нужен, а этот, судя по всему, был крепкий малый.
— На волоке в упряжке пойдут, — коротко выдохнул он.
— Ежели надо, так и пойдут, — без особой радости вздохнул силач.
— Хорошо, веди. Бог даст, все обойдется.
* * *
Остроглазый Лис глядел на приближающихся всадников с полным недоумением на лице.
— Шо-то мне сдается, будто я где-то уже видел эту картину. Мессир рыцарь, у тебя есть какие-нибудь мысли на животрепетающую тему, откуда бы здесь, на нетоптаной проекции чумацкого шляха, на сей окраине Ойкумены взяться сыну херсонесского архонта?
— Понятия не имею! — Вальдар Камдил развернул коня навстречу идущим на рысях всадникам.
— Ты вспомни, может, мы в тамошней каталажке за свечи не заплатили или за другие коммунальные услуги?
— Это вряд ли. — Рука оперативника словно невзначай поглаживала хвиллоны[50] меча.
— Кто это? — поинтересовалась лучезарная севаста, с некоторой опаской осознав, что ее кортеж не просто остановился, но и изготовился к бою.
— Есть авторитетное мнение, Никотея Никифоровна, шо это сынок папаши своего, Семен Гаврас, по отчеству Григорьевич. Вы там в своей галантерее пошарьте — может, его сердце с собой прихватили. Ишь, несется, точно Амур его выцеливает!
Прелестница метнула недовольный взгляд в сторону бойкого на язык менестреля. Ей рассказывали, что на юге Франции собратья по цеху этого язвительного сотрясателя воздуха воспевали любовь к прекрасной даме и, как говорят, даже создали настоящий свод законов любви, именуемый куртуазией. Похоже, в тех местах спутник ее грустного воздыхателя слыл беззаконником. Между тем менестрель продолжал развлекаться во всю прыть.
— Семочка, шо за негаданная встреча? — заорал он. — Ну почему ни один голубь не предупредил, шо ты уже у нас на хвосте?
— Лис, погоди! — оборвал его рыцарь.
— Ну вот, опять правде рот затыкают!
Симеон Гаврас несколько ошалел от столь необычного приветствия и резко осадил коня, не доезжая до растянувшейся кавалькады. Аланы, узнавшие херсонесского вельможу, окружили кольцом его и четверых сопровождавших Симеона всадников.
Он был рад, почти счастлив догнать повелительницу своих редких в последние дни снов, был несказанно доволен, что девушка в добром здравии и безопасности, но почему-то вдруг теперь у него перехватило дыхание, точно вся дорожная пыль, проглоченная на пути от Херсонеса до порогов Борисфена, вдруг собралась в твердый комок и перекрыла дыхание. Он не знал, как рассказать ей о том, что заставило одного из старших военачальников Херсонесской фемы, покинув свой пост, мчаться сломя голову за тридевять земель. Не мог рассказать о том странном, если не ужасном разговоре с отцом, который предшествовал началу погони за убийцей брата.
Когда в развалинах часовни вместо мирно спящего Михаила Аргира он обнаружил лишь простывший след, казалось, ярости его не будет предела. Он знал, что Аргир — опытный воин, однако и сам не был новичком в воинских искусствах. Мысль о том, что столичный вельможа провел его и теперь, возможно, наблюдал из укрытия за бесплодными попытками ищеек напасть на след, доводила Симеона Гавраса до белого каления. Он тщательно скрывал это, катая желваки на скулах в бессильной злобе.
Когда начало смеркаться, изъеденный внутренними укорами, точно соляной кислотой, он возвращался в столицу, понуро размышляя, как рассказать отцу о столь постыдном и жалком поражении, когда почти у самых ворот Херсонеса повстречал убогую кибитку, едва тянущуюся откуда-то с севера.
— Эй ты, — окликнул он возницу, — не видел ли рослого всадника в ромейской броне? У него должны быть два прекрасных скакуна гнедой масти. И, возможно, два меча.
— Да-да, видел! — вдруг отозвался переселенец. — Он ограбил меня, он забрал всю еду до крошки! Мы с женой и дочкой голодали весь день. Здоровенный, красивый, с таким взглядом, что мороз по коже.
— Это он, — сквозь зубы процедил Симеон Гаврас. — И, кажется, я знаю, куда он держит путь. На вот! — Он бросил нищему вознице пригоршню иперперов.[51] Турмарх и сам бы не сказал, поинтересуйся сейчас кто-либо, сколько именно. Просто запустил руку в кошель и бросил. Судя по выпученным глазам возницы, на условиях такой оплаты тот готов был рыскать по степи круглый год.
— Маврикий, — скомандовал Гаврас одному из своих всадников, — немедленно доставь сюда как можно больше воды и провизии! Ты и вот вы трое отправляетесь вместе со мной.
— Но, мой господин, — поспешил заметить испытанный в десятках пограничных схваток волк, — что скажет ваш отец?
— Отцу передай, что я иду по следу убийцы. Не заставляй меня ждать!
* * *
Между тем пауза у бурных вод Борисфена затягивалась.
— Я рад вновь встретить вас, — склонил голову Вальтарэ Камдель. — Но чем вызвано…
— О, командарм первой исконной! — перебил его менестрель. — Всего один вопрос. Шоб я не сдох от любопытства. Это не ваша ли светлость в лучах ночного светила нам светила во тьме с окрестных холмов?
— Михаил Аргир жив, — не обращая внимания на неучтивые речи, наконец выдохнул турмарх. — И он идет по вашему следу.
* * *
Как ни блистал предусмотрительной бдительностью Вальдар Камдил, сколь ни тревожился многоопытный Симеон Гаврас, ничто не нарушало окрестной тишины. Даже Анджело Майорано, казалось, чувствующий опасность спинным мозгом, в недоумении разводил привычными к абордажному мечу руками. Казалось, в степи и на днепровских кручах наступило то ли солнечное перемирие, то ли невнятное затишье перед неведомой бурей. Преподобный Георгий Варнац предполагал скорее последнее. Уж больно странно было идти, не встречая за день порой ни единого вооруженного всадника, не говоря уже о более крупных разъездах.
— Готовится большая война, — бормотал себе под нос слуга Господень, пытливым взглядом выискивая новые подтверждения своим мыслям.
Таковые нашлись довольно быстро. Во всех прибрежных крепостицах поднепровья цены на парусину и пеньку выросли в два, а то и в три раза — чем ближе к Киеву, тем выше.
— Большой морской поход, — бормотал Георгий Варнац.
Полученные им в Херсонесе известия гласили, что русы и впрямь собираются нанести мощный удар за море. Даже утверждалось, что объектом нападения выбрана Британия. Теоретически Джордж Баренс допускал подобную возможность, однако все еще отказывался принять ее в качестве основной версии. Уж больно долог был переход и сомнительны результаты.
Конечно, мало найдется людей, пожалеющих о Генрихе Боклерке, буде русам удастся разгромить его. Но ведь одно дело захватить чужие земли и совсем другое — удержать их. И тут же память услужливо возвращала Баренса к постулатам, известным всякому англичанину со школьной скамьи: к легионам Цезаря, саксам Хенгиста и Хорса, грозным викингам Кнуда Великого и, наконец, норманнам Вильгельма Завоевателя. Все они приходили в этот край чужаками, все обживались тут, приносили свою культуру и свой обычай. «Белги, англы, юты, скотты… всех и не упомнишь. Могут быть и русы. Но зачем, что за блажь? Уж Мономаху-то чем не угодил яростный отпрыск покорителя бриттов? Куда уместнее сейчас нанести удар по Константинополю. Он и намного богаче, и почти беззащитен.
Правда, знают об этом крайне немногие. Но вполне возможно, что мудрый и победоносный Владимир Мономах — как раз один из них. Не зря же его купцы исходили Константинов град, как собственную горницу, — куда ни кинь взгляд, везде русичи или варяги, а тем и вовсе дела нет до того, кому служить — плати монету, и что на прошлой службе вызнали, все досконально изложат без утайки. А таких варягов у Владимира, поди, немало.
Вот и гадай теперь, вправду ли Мономах собирается напасть на Британию или же это большой пшик, отвлекающий маневр. Если таковое и впрямь насоветовала голова Мимира, то у нее наверняка имеются свои резоны. Вот бы узнать какие. А уж тем паче есть ли эта самая голова в действительности или же это только мой домысел, навязчивый бред, подвергающий смертельной опасности всю оперативную группу!»
* * *
Киев встречал кортеж севасты колокольным звоном, хлебосольем, празднеством и честным пиром. И все же, как представлялось Джорджу Баренсу, в застолье и увеселениях чувствовалась какая-то поспешность, нервозность, точно весть о прибытии ромейского посольства застала хозяев уже одной ногой за порогом и те спешили уважить высоких гостей и с почетом выпроводить из сеней.
Снедаемый этими мыслями, преподобный Георгий Варнац отправился в Выдубечский монастырь к многомудрому старцу Амвросию, далеко за пределами Киевской Руси известному своей благостью и познаниями в вопросах святой веры… и только очень немногим из Бюро Варваров — совсем иными качествами.
Мессир рыцарь сопровождал святого отца по шумному городу, ибо святость святостью, гостеприимство гостеприимством, но в местах незнакомых, дабы не попасть впросак, лучше держать ухо востро, а руку на эфесе меча. Он остался ждать в широких палатах, специально предназначенных в монастыре для встреч с мирянами, и если бы не закрытая связь, никогда бы не узнал о содержании переговоров.
Нынче отец Амвросий был до крайности суров. Выслушав тайные слова, переданные братом во Христе, он кивнул и предложил Георгию Варнацу сесть.
— Василевс поручил мне тайную миссию, — очень тихо, так, чтобы, реши вдруг кто-то подслушивать, так и удалился бы не солоно хлебавши, начал монах-василианин. — В Константинополе стало известно, что Владимир Мономах готовит большой поход.
— Да, это так, — подтвердил брат Амвросий. — Я уже сообщал об этом катаскопоям.
— Мне поручено не допустить, чтобы этот поход был направлен против Константинова града.
— Что ж, в таком случае вам надлежит как можно скорее возвращаться в столицу и требовать награду. Русичи вовсе не намерены идти к священному городу. Они отправляются за Студеное море, в Бриттию. Есть такая земля в океане Мрака. Крайний берег, доступный человеку.
— Я знаю об этом, брат мой, — прервал его Варнац, — мне даже ведом их язык. Но достоверно ли, что русы намерены идти туда?
— Столь же достоверно, как восход солнца утренней порой. Скажу более того. Первые корабли русов уже направились к месту, откуда будет нанесен удар.
— Ну, слава Господу! — перекрестился Георгий Варнац. — Стало быть, спасен град Константинов!
— Поспешите с этим известием, брат мой, вас, несомненно, ждет высокая награда.
— Я бы и рад, — вздохнул его собеседник, — но то, о чем я уже говорил, лишь часть порученного дела. Мне надлежит склонить Владимира Мономаха, его сыновей и двор к самой верной и крепкой дружбе с нашим государем. Оную надобно скрепить браком племянницы императора Никотеи с первенцем Владимира — Мстиславом. Он ведь нынче овдовел, не правда ли?
— Правда, — кивком подтвердил брат Амвросий, — и срок траура уже истек, но, увы, с этим будет сложней.
— Государь русов все-таки не расположен к союзу с ромеями?
— Я бы не утверждал этого. Да и не в том дело. — Старец Амвросий погладил седую бороду. — Когда б посланный вами гонец не поспел вовремя, вы бы не застали ни Великого князя, ни его двор, ни дружину в Киеве. Все они намерены отправиться к Светлояр-озеру. Должен признаться, мне не удалось вызнать, для чего. Одно могу сказать достоверно: Владимир Мономах спешит так, будто ступает не по земле, а по раскаленным угольям. Вы останетесь ждать его здесь, а когда он воротится назад — одному Богу известно. Может, до морозов, а может, и по снежному пути.
— Неужели же государь русов рискнет оставить столицу на столь долгий срок?
— Риск, прямо скажем, не велик, — тяжело махнул рукой мних. — Ныне, почитай, никто из врагов и думать не посмеет напасть на Киев и его земли, ибо всякому ведомо, едва он войско поведет, как впереди и за спиной у него запылает.
Георгий Варнац удивленно покачал головой.
— То-то и оно, — продолжал Амвросий. — А что это Владимира к Светлояр-озеру тянет — знать бы нам следовало. Чует мое сердце, неспроста он туда идти намерился. А постой-ка, брат мой, — старец хлопнул себя морщинистой рукой по лбу, и глаза его вспыхнули неожиданно молодо, — ты вот сказывал, что по-бриттски разумеешь?
— Разумею, — подтвердил Варнац.
— Вот и славненько, вот и аюшки! — Монах широко улыбнулся. — Меня тут князь Мстистлав намедни просил толмача ему присмотреть. Чем не удача? Вот ты и пойдешь! А заодно речами лестными и всякой хитростью, а где и отвагой — уж как придется, свершай, что тебе поручено. А мне верного человека с тайным словом пришлешь, я, стало быть, кого надо и извещу. Нынче же вечером будь готов, — тоном, не терпящим возражений, объявил брат Амвросий. — А теперь ступай. Устал я больно.
Монах и рыцарь шли от ворот монастыря к коновязи, негромко переговариваясь между собой. Появление знатного посетителя вызвало на паперти немалое оживление. Колченогие, безглазые, в язвах и струпьях нищие тянули изможденные руки, прося у высокородного господина монетку. Камдил бросал им какую-то мелочь, сторонясь, чтобы не подхватить в награду за милосердие кишащих в лохмотьях вшей.
— Благодарю, храбрый витязь! Бог тебя наградит! — Один из убогих бросился ему почти что под ноги, демонстрируя истертый грош, которым судьба в лице заезжего рыцаря щедро его наградила.
Камдил удивленно вскинул бровь. Как ему казалось, этому нищему он еще ничего не давал. Вдруг прямо на глазах удивленного воина истертая медяшка блеснула золотым отливом, демонстрируя иерусалимский крест на солиде Готфрида Буйонского.
— В харчевне у Золотых Ворот, как стемнеет, — пробормотал, закашлявшись, калека, опираясь на сучковатый костыль. — Deus vult![52]
Глава 20
Любовь зла, и многие козлы этим пользуются.
Князь Мстислав глядел на застенчиво потупившую очи девушку, не отводя глаз. Воистину, будь он государь ромеев, не стал бы отпускать от себя столь дивную прелестницу. Впрочем, как он прекрасно осознавал в эти мгновения, пожелай девица что-либо, хоть звезду с неба, хоть перо жар-птицы, и он бы жизнь положил, дабы исполнить ее прихоть.
Невзирая на все усилия отца Амвросия, Мстислав был мало сведущ в ромейском наречии. Он мог прочесть слова Писания, мог назубок отбарабанить вопросы и ответы Четьих миней,[53] но понимать живую речь заморских гостей было затруднительно. Однако толмачу в монашеском одеянии князь внимал лишь вполуха, слушая нежный голос синеокой красавицы, и с замиранием сердца наблюдая, как время от времени взлетают мотыльками ее длинные ресницы. Гостья, казалось, источала аромат диковинных цветов, дурманящий и в то же время наполняющий кровь необычайной живостью и желанием.
Как ни диковинна была для князя затея племянницы цареградского василевса объездить самолично все места, где истинно чтут Сына Божия, Мстиславу она казалась настоящим знаком небес, своего рода вышним благословением.
«Подумать только, — размышлял он, — не отправься я к отцу Амвросию, и мы бы уже вовсю мчали к Светлояр-озеру. Уж на что оно батюшке занадобилось — бог весть. И вот такая награда! Как хорошо, что в первую очередь царственная странница направила стопы именно сюда, в град, основанный велением апостола Андрея!»
— …Далее, сиятельная Никотея говорит, что восхищена как столицею земли русов, так и ее мудрым правителем, кесарем Владимиром и всем его семейством. Она горда, что состоит в родстве, пусть и отдаленном, с Мономахами, и просит считать ее любезной сестрой, выражая при том живейшую надежду, что отношения между державой Мономахов и державой Комнинов впредь будут обусловлены не только взаимной выгодой, но и теми нежными родственными чувствами, которые породил в ней этот визит…
«Господи, — про себя твердил князь Мстислав, — да пропади пропадом бриттская земля с ее короной! Матушку уж не вернуть, а мне чем в этакую даль отправляться за столько-то верст киселя хлебать, так уж лучше взять этакую девицу в жены — и все дела! Роду она зело хорошего, и невеста знатная. Эх, сдалось батюшке это Светлояр-озеро!
А может, упасть ему в ноги да умолить? Ведь сестра — не жена, в светлице у оконца ждать не будет. Токмо мы из Киева умчимся, она в обратную дорогу пустится, а там уж поди кто еще в мужья ей сыщется. Нельзя удачный миг упускать. Сейчас к отцу ее и дядьке василевсу сватов засылать надо!»
Мстислав готов был поклясться, что ни в своей земле, ни в какой иной никогда прежде не видывал такой красоты. Да что там красоты! Было в гостье какое-то такое невероятное изящество… Князь и слова-то такого не слыхивал, и выразить не мог, ну а глаз отвести — так и подавно. «Честным бы пирком, да за свадебку», — себе под нос прошептал он, слушая мягкий увещевающий голос толмача. В этот миг для него происходящее вокруг потеряло всякое значение.
И напрасно. Происходящее в горнице княжьего терема стоило самого пристального внимания.
«Э нет, так не пойдет, — думал один из вельмож свиты прекрасной севасты, — этак они обо всем договорятся. И у золотой Венеции под боком окажется совсем не та дышащая на ладан ромейская империя, а держава, растянувшаяся аж до Студеного моря. Негоже, чтобы Никотея наворковала своему очередному поклоннику на ушко волю дяди императора. Ишь, как он на нее пялится! Влип, как муха в паутину».
Анджело Майорано украдкой бросил взгляд направо, где, склонив головы, стояли прочие рыцари свиты. Чертов крестоносец Вальтарэ Камдель, граф Квинталамонте, и уж совсем некстати свалившийся им на голову сын архонта Херсонеса. «Еще два влюбленных дуралея», — про себя усмехнулся Мултазим Иблис.
Он признавал, что севаста весьма обольстительна, но жизнь на Востоке, а Сицилию он тоже числил одной из восточных стран, приучила его к девушкам покорным и податливым. Никотея была не такова. Это раздражало капитана «Шершня» и отталкивало, как отталкиваются друг от друга одинаковые полюса магнитов.
Анджело Майорано не слишком задумывался над этим ощущением. Севаста не казалась ему кичливой задавакой, как множество дворянок в тех странах, где ему довелось побывать. Не была она и безответной рабыней, каких он во множестве покупал на невольничьих рынках Средиземноморья. Но она зачем-то старалась казаться проще и слабее, чем была. Анджело Майорано чувствовал это спиной, но ничем не мог подтвердить своих невнятных чувств, и это бесило его до крайности.
«Нет, не бывать тому, — думал он. — Раз уж я волею небес добрался сюда, то самое время заняться тем, за что готова заплатить Венеция. Ах, граф, граф, лучше тебе было отправиться со мной в Сицилию к твоему августейшему дядюшке. На беду, ты увязался за этой порфироносной обольстительницей».
Он скользнул быстрым взглядом с родича короля Сицилии на Симеона Гавраса. «Этот и вовсе с узды сорвался. Бросил отца, бросил свое воинство, и вот на тебе, верный паладин. Каково ему теперь глядеть, как его аманта[54] любезничает с этим неотесанным бородачом русом? Хорошо бы, чтобы в его голове созрела мысль ткнуть этого Мономашича мечом под ребра. Как бы это все упростило! Хорошо бы, хорошо…
А интересно, знает ли Гаврас о том, что поручено мне в его родном Херсонесе? Отец его, конечно, знает. Успел ли он сказать сыну? Если да, то можно не сомневаться, что Симеон попытается использовать меня в своих целях. А значит, я могу, да что там могу — обязан не допустить этого. И как можно скорее использовать его. Нет ничего проще, чем морочить голову влюбленному дураку. А раз налицо два влюбленных дурака, то, стало быть, им предстоит выяснить меж собой, кто дурнее».
— …Радостно и лестно слушать мне твои речи, дражайшая сестра! — низким рокочущим голосом произнес Мстислав Владимирович. — В знак же искренней приязни моей прошу тебя принять дар братской, — князь замялся, — любви. — Он хлопнул в ладоши, и юнец новик[55] поднес господину ларец, украшенный резными пластинами из рыбьего зуба. Князь взял покрытую ажурным рисунком шкатулку, поднял крышку, и сияние драгоценных каменьев разлилось по комнате. — Пусть малость сия станет тебе памятью о любящем братце.
Никотея, завороженно глядя в шкатулку, опустила в нее руки и вытащила усыпанную лалами и яхонтами золотую шейную гривну в виде двух свившихся меж собой змей, головами устремленных друг к другу.
«Знак любви, — чуть заметно щуря глаза, констатировал Анджело Майорано, — что ж, весьма своевременно».
* * *
Симеон Гаврас печально глядел вслед севасте, величаво удаляющейся в свои покои. Сердце его обливалось кровью при воспоминании о недавней беседе Никотеи с Мономашичем. Он и ранее знал, что поездка племянницы василевса в Киев — вовсе не дань досужему любопытству юной аристократки, как о том говорилось. Но сейчас, когда предуготовление к любовным баталиям произошло вот так, прямо у него на глазах, он весь кипел от ревности, выворачивающей нутро и свивающей в узел неведомые ему дотоле нервы.
«Она не должна идти за него, — шептал он себе. — Почему же не должна? Должна! — отвечал внутренний голос. — Он чересчур стар для нее, — пытался убедить себя турмарх. — И вовсе даже не стар. Герой, увенчанный славой. Того гляди, и сам наденет венец кесаря». На мгновение ему вспомнился последний разговор с отцом, и турмарх положил руку на висевший у пояса кинжал. «Нет! — тут же одернул он себя. — Это бесчестно. Но как же я?» — взмолилось кровоточащее от стрел крылатого лучника сердце. На этот вопрос нечего было ответить.
— Хороша. Ах, как хороша! — услышал Симеон рядом с собой голос Анджело Майорано.
— Что?! — Гаврас потянул оружие из ножен.
— Ну-ну, не так скоро! — На губах фрязина зазмеилась глумливая усмешка. — Во-первых, не станет же преславный отпрыск повелителя Херсонеса отрицать истину, доступную всякому, кто имеет глаза. А во-вторых, если монсеньор турмарх перережет мне горло, мне будет крайне сложно передать вам то, что вашему покорному слуге украдкой нашептала служанка достославной госпожи севасты перед тем, как мы отправились на встречу с этим неотесанным медведем, по Господнему недосмотру носящим ромейское прозвание.
— Если ты смеешься надо мной, я убью тебя.
— Да уж, что может быть глупее, чем служить гонцом любви?! Монсеньор, я отнюдь не трус, однако дорожу собственной жизнью. Прощайте, и да поможет вам Господь и святые угодники!
— Нет, стой! — Симеон ухватил фрязина за рукав. — Что ты хотел сказать?!
— О нет, не удерживайте меня. — Тот ловко вывернулся и прошипел сквозь зубы. — И вовсе незачем так голосить.
— Прости, я вспылил, — поморщился Гаврас. — Что тебе велено передать?
— Вы, должно быть, знаете, монсеньор, — после минутного колебания почти шепотом заговорил Мултазим Иблис, — что со своей персиянкой севаста порою куда откровеннее, нежели со всеми прочими.
— Да, — кивнул херсонит, — наверное, да.
— Сегодня, когда госпожа Никотея прихорашивалась утром перед зеркалом, она вскользь упомянула Мафраз, что дни ее вольной юности заканчиваются, что вскоре она будет мужней женой и, хотя этот брак так ожидаем всеми, ей грустно осознавать, что она так и не познает радостей любви.
Тогда Мафраз рассказала ей одну из множества своих побасенок о том, как шах Гарун-аль-Рашид с братом гуляли у озера и увидели чудовищного великана, который выходил из водных глубин, неся под мышкой огромный сундук. Гуляющие сочли за благо спрятаться на дереве. Когда великан уснул, из сундука выбралась прекрасная девушка и, увидев среди ветвей дерева мужчин, велела им спуститься и тут же овладеть ею прямо на сундуке. Иначе она угрожала разбудить ужасного мужа. Когда же те насладились ею, и не по разу, блудница заставила их подарить ей по драгоценному перстню. А в ответ на вопрос, зачем ей это было нужно, показала ожерелье из множества разнообразных перстней, сказав, что муж ее страшный ревнивец и это ее так донимает, что она готова отдаться первому встречному, лишь бы досадить ему, и с каждого она берет на память перстень. Госпожа Никотея разгневалась, но… как бы это сказать… не слишком. Она заметила, что подобная разнузданность — грех. Но пока она еще свободна пред Богом, в то время как сердце ее, увы, не свободно.
— Ну же, говори! — Симеон Гаврас схватил фрязина за плечи.
— Помилосердствуйте, а я что делаю? Она с грустью добавила, что с момента чудесного спасения на берегу Понта в сердце ее живет герой, которого она с радостью назвала бы мужем. И еще добавила, что нынче после заката намерена найти тихое местечко на берегу реки, дабы полюбоваться вдали от чужих глаз здешними красотами.
— Это замечательная весть! — Симеон Гаврас щелкнул пальцами. — Если все и впрямь так, как ты говоришь, можешь не сомневаться в щедрости награды. — Он остановился. — Но… почему Мафраз сказала это тебе?
— Я вижу тому несколько причин, хотя могут быть и другие. Во-первых, со мной Мафраз может разговаривать на родном языке, не опасаясь, что ее услышат и поймут. Во-вторых, ни Мафраз, ни ее госпожа не сомневаются, что рассказанная мне вскользь история будет мной верно истолкована и передана адресату. И третье, прошу обратить внимание, именно я стою нынче в карауле у покоев севасты. Надеюсь, у будущего владыки Херсонеса больше нет вопросов?
* * *
Все рынки во всех уголках мира чем-то похожи друг на друга. На одних больше кричат, на других больше крадут. Где-то продают слонов, а где-то — мосек. Но шум толпы и многоголосье везде одинаковы. Чем больше рынок, тем чаще слышится на нем иноземная речь и тем кажется она привычнее для уха как продающих, так и покупающих.
Анджело Майорано протискивался меж торговых рядов, краем глаза осматривая выставленные товары и гораздо внимательнее ища товар совсем иного рода. Годы странствий приучили его никогда не расставаться с широким поясом, заполненным, как стручок горохом, золотыми монетами всех тех стран, где ему довелось побывать. Пару раз эта своеобразная часть одежды спасала ему жизнь в схватках на палубе, порождая легенды, что Мултазим Иблис неуязвим и клинок отскакивает от его тощего брюха.
Сейчас легенды были ему ни к чему, зато монеты должны были пригодиться. Хорошо еще, что недоношенный хорек из Бюро Варваров скрепя сердце, но все же вернул Анджело пояс, понимая, что без золота порученное ему дело не выполнить. Другие бы еще хорошо ему заплатили… Но и на том спасибо.
Наконец взгляд ловца удачи поймал среди множества лиц то, которое он надеялся здесь отыскать. Русоволосая деваха с толстой косой разглядывала прилавок с бусами из речного жемчуга и расшитыми кокошниками, лениво перебирая выставленный товар и кося голубым бесстыжим глазом на прохожих. Анджело Майорано встречал таких «покупательниц» во всех портах, куда залетал «Шершень», да и прочие корабли, на которых ему доводилось ходить. Стоимость приближающегося мужчины немедля высвечивалась в глазах юной девы, порой с точностью до обола.[56] Резво оттолкнув плечом какого-то мужлана, замешкавшегося у прилавка, он подскочил к девице. Фрязин без лишних слов ухватил незнакомку за руку и забормотал страстно:
— Аморе, аморе!
И тут же, словно невзначай, золотой бизант перекатился между его пальцами, появившись и исчезнув, точно по волшебству. Девушка незамедлительно кивнула и пошла сквозь толпу, зазывно маня за собой. Еще минут через двадцать они удобно устроились в густой тени деревьев на высоком берегу Днепра.
Спустя еще полчаса дон Анджело принялся объяснять аманте, что, если та придет сюда к полуночи, он преподнесет ей замечательное одеяние, лучшее из тех, которое сможет найти на этом рынке.
Капитан «Шершня» знал довольно много наречий, однако же на местном языке изъяснялся весьма слабо. Потому назначить очередное свидание оказалось куда труднее, чем добиться взаимности у аппетитной красотки. Кажется, она до конца осознала, чего от нее добивается щедрый иноземец, лишь когда он потащил ее обратно на рынок и, купив у ее на глазах и платье из заморского шелка, и опушенный собольим мехом плащ, начал трясти перед ней, другой рукой указывая на солнце в зените, а затем складывая из пальцев некое подобие небесного полумесяца и неспешно показывая, как он ползет вверх и останавливается на самой макушке Перунова свода. Девушка радостно кивнула и прошептала на ухо любезнику:
— Нынче в полночь, там же.
* * *
Славный рыцарь Божьего воинства Вальтарэ Камдель сидел в гриднице за чарой медовухи, слушая байки седоусого ветерана, сызмальства ходившего под хоругвью Владимира Мономаха еще в ту пору, когда тот сидел князем на Чернигове.
— Да и то сказать, князю-батюшке нашему сам черт ворожит. Какая бы туга-печаль вдруг ни случилась, уйдет он, бывало, в укромную молеленку свою, а мы, значит, станем вкруг да и ждем. Близко подходить до того места, где князь думу свою думает, не велено — голова с плеч. Иногда такое бывало, что и подолгу князя нет, а порою — всего-то ничего. Да только одно верно: как выйдет свет-Володимир да как молвит слово, так по тому слову и бывало. Никак не иначе!
А нам — что. Троице ли он там хвалу возносит али Перуну с присными его, только при нем на Руси и порядок суровый завелся, и братоубийству край положен. И вороги лютые земли наши дальними тропами обходят. А ты говоришь «провидение». Вот оно-то, провидение, самое разнастоящее.
«Похоже, Баренс прав, — отпивая из чары, которая вполне могла послужить импровизированной поилкой для пони, кивнул рыцарь. — Налицо вмешательство некой третьей силы, вероятно, имеющей в этих землях свой интерес. Знать бы какой, для чего, а главное, что собой представляет эта самая „неведомая сила“. Но понятно одно — мы на правильном пути».
Вальдар вызвал в памяти минувший вечер и харчевню у Золотых Ворот. Вопреки ожиданию, нищий в струпьях с костылем не появился. Зато вместо него рядом с Вальдаром на лавку опустился разбитного вида молодчик, судя по одеянию и длинному кинжалу у пояса один из тех вояк, которые охотно нанимаются сопровождать купцов в дальних странствиях. В отсутствии же «ангажемента» создают условия для будущих выгодных наймов.
— Я вижу, издалека прибыли? — словно продолжая ранее прерванный разговор, бросил страж чужого добра.
— Издалека, — покосился на бойкого незнакомца рыцарь.
— Может, тогда монетку мне разменяете? — В пальцах непрошеного соседа вдруг появился солид с иерусалимским крестом.
— Вы?
— Тихо! Закажи мне вина, чего-нибудь поесть и слушай. Я не знаю, о чем речь, и мне это неинтересно, но тебе велено передать следующее: голова святого Иоанна где-то здесь. Надлежит ее найти, изъять и доставить в Клерво. Когда реликвия будет в ваших руках, дайте мне знать — я помогу скрыться.
— Как вам сообщить?
— Мне сказывали, вы грамоте обучены.
— Обучен.
— Вот и прекрасно. Черкните мне на латыни, где и когда вас ждать. А после трапезы суньте пергамент в выеденную кость да и выбросьте под стол.
— Под стол?
— А вы не сомневайтесь, ко мне она попадет. Только вот нате тряпицу, чело оботрите, а теперь мне воротите.
Камдель послушно выполнил требование незнакомца.
— Может, уже что разузнать удалось? — тихо поинтересовался наемник.
— Кроме того, что рутены в бриттские земли походом идти вознамерились, пожалуй, что и ничего.
— Уже немало. Впредь, если новости какие будут, как я сказал поступайте. А теперь ешьте и пейте, да радуйтесь, ибо на вас пал выбор того, кому суждено вернуть силу Христову и веру. Так мне велено передать, что я и сделал.
— …Вот так бывало, — продолжал седой воин.
— О Господи, вот вы где! — на пороге гридницы появился взволнованный Анджело Майорано. — Я вас повсюду ищу! — оживленно жестикулируя, затараторил он по-итальянски.
— Что-то случилось? — с легкий сицилийским акцентом отозвался граф Квинталамонте.
— Пока нет, но может. Я бы хотел поговорить с вами незамедлительно, если возможно, наедине.
— Что ж, как пожелаете, — рыцарь точно невзначай коснулся рукой груди.
— О, капитан! — зазвучало на канале закрытой связи. — Не сочти за каламбур, но ты читаешь мои мысли. Я как раз хотел тебя вызвать. Тут у них какое-то придворное, нет, средидворное кидалово, причем я шо-то не вдуплюсь, кого и на кой ляд здесь пытаются дешево прокинуть.
— Говори внятно, — перебил напарника Камдил. — И по возможности покороче — у меня есть дело.
— Да бог с ними, с делами! Оно нас ест, пока не съест до конца. Ты лучше посмотри сюда.
Лис включил картинку, демонстрируя торчащую на колу, воткнутом среди двора, голову убитого Мстиславом речного чудища.
— Я еще когда мы въезжали не въехал, ну, в смысле, не понял, шо это за пугало такое для пущего устрашения ворон. По-твоему, это шо?
— По-моему, — с легким раздражением начал Вальдар, — это передняя треть крупного нильского крокодила.
— Спасибо, капитан, утешил, значит, либо одно, либо из двух!
— В смысле?
— Либо у меня не белая горячка, либо белая горячка у нас обоих.
— А конкретнее?
— Как утверждают предки гордых укров, это — башка страшного чудища, терроризировавшего местных рыбаков в тутошних водах еще буквально пару-тройку недель назад.
— Что за бред? Нильский крокодил, переплывший Средиземное и Черное моря, поднявшийся вверх по Днепру через пороги…
— Не, капитан, это еще присказка. А сказка в том, шо, как утверждают аборигены, во время жаркой схватки крокодил не только поднимал голову на длинной шее над водою чуть ли не на три сажени, но и обвивал этой самой шеей ноги богатырского коня.
— Да ну, быть такого не может!
— А ты у кого хошь спроси — здесь только безглазый этого не видел.
— Не понимаю!
— Вот и я о том же. Стало быть, горячка. Белая, как знамя французского короля. Кстати, а с какого перепуга у французского короля белое знамя?
— Погоди, — улучив момент, перебил его Камдил, — послушай лучше, что наш старый приятель Майорано мне пытается втолковать.
— …И тут я слышу, как Гаврас своим людям говорит, чтоб они были к вечеру готовы к отъезду. Я сначала не обратил внимания. Действительно, почему нет, Симеон как-никак сын архонта, он любезно оказал нам честь, сопроводив до Киева, но пора и в Херсонес. Однако потом…
Анджело Майорано замялся.
— Ну что же вы, говорите.
— Я невольно услышал, как госпожа Никотея разговаривала с Мафраз. Она говорила на ее родном языке довольно громко, не подозревая, что я понимаю ее речь. Так вот, она сказала, что Гаврас отправляется с рассветом, а заполночь он просил ее скрытно прийти в какое-то уединенное место здесь неподалеку над Днепром, ибо он должен сказать ей что-то очень важное, от чего зависит судьба империи.
Не ведаю, что такого он намерен ей сказать и кого достославный турмарх опасается при княжьем дворе, однако нынче во время беседы севасты с князем Мстиславом я видел, какими глазами смотрел на эту пару Гаврас-младший. Готов поставить свою душу против дырявой шляпы, что он влюблен в нее до беспамятства. Эта страсть может толкнуть его на любые безумства.
— Почему же вы решили сообщить об этом мне?
— Мы с вами оба итальянцы и знаем, что такое любовь и что такое рыцарство. Севаста юна и неопытна, и кажется мне еще очень наивной. Госпожа Никотея сказала мне, что днем здесь душно и пыльно, и потому она желает прогуляться ночью. Вы можете себе это представить? Прогуляться ночью!
Она просила меня сопровождать ее на прогулке. Это, конечно же, разумная мера предосторожности с ее стороны, однако если Симеон Гаврас и впрямь удумал похитить ее, то их будет пятеро против меня одного, и все они опытные воины. Боюсь, что мне одному не справиться. А если вдруг что-нибудь произойдет с севастой, полагаю, даже на морском дне нам не укрыться от гнева ее дяди василевса, князя Мстислава, его отца и уж бог весть кого.
— Капитан, вопрос, уже набивший кому-то шо-то вроде оскомины. Ты ему веришь?
— А стоило бы?
— Ну, ты вообще склонен верить во всякие романтические глупости.
— Я понял вас, дон Анджело, и непременно буду рядом.
— Но вы же понимаете, дело весьма щекотливое. Под угрозой честь благородной дамы. Чем меньше людей будет знать о нем…
— Можете не говорить мне этого.
* * *
Анджело Майорано с удовольствием смотрел на обнаженную девицу, радостно ощупывающую заслуженную обнову. Такого щедрого полюбовника ей еще встречать не доводилось. Огрызок луны, освещавший почти райские кущи, был не так велик, как бы того сейчас хотелось капитану «Шершня», но все же позволял любоваться ласкающей глаз картиной.
Закончив осматривать подарки, блудница с наработанной резвостью начала примерять обновы, продолжая впотьмах строить глазки щедрому иноземцу. «Эк я ему приглянулась, — кружилось в ее смазливой головке. — Вот бы ему неделю здесь пожить, а то и две». Большего деваха и в мечтах не представляла.
Управившись с дорогими одеждами, она поворотилась, демонстрируя, как сидит платье. И в этот миг тяжелая, точно кузнечный молот, рука Мултазим Иблиса резко опустилась ей на затылок. Ночь вдруг окрасилась ярко-алым, чтобы тут же померкнуть.
«Вот и замечательно», — прошептал Анджело Майорано, достал из-за пояса шейную гривну в виде двух сплетающихся змей и аккуратно положил подарок князя Мстислава в густую траву подле жертвы. Похитить драгоценность ему не составило особого труда.
За годы жизни ловкий пират научился многому, в том числе и неслышно передвигаться по комнатам. Еще днем он заметил, куда вельможная севаста положила драгоценный подарок, когда же после заката он заступил на пост, остальное было делом нескольких минут.
«Замечательно, — любуясь содеянным, повторил он. — Сейчас влюбленные жеребцы пустят друг другу кровь, а я добью последнего. От шлюхи потом можно избавиться, а гривна на месте побоища ясно укажет на то, из-за кого сцепились эти знатные рогачи. Однако стоит поторопиться. Сейчас должен появиться мой друг Вальдарио».
Он подхватил бесчувственную девицу под руки и усадил на вывороченное пролетевшей когда-то бурей дерево, прислонив ее, чтоб не упала, к стволу дуба, произраставшего здесь же. Отойдя чуть в сторону, он с видом истинного художника полюбовался картиной. Со стороны могло показаться, что задумчивая девушка, усевшись на высохшее древо, любуется отблесками луны, переливающимися в днепровских волнах. Вдали послышался треск сломанной ветки. «Только бы Симеона нелегкая не принесла раньше времени!» — прошептал капитан Майорано. Но его опасения были напрасны.
— О, граф! — тихо приветствовал соратника дон Анджело. — Это хорошо, что вы один! Ваш друг, конечно, очень ловкий стрелок, однако, порой мне кажется, он будет шуметь даже на собственных похоронах.
— О своих похоронах подумай, рожа тряпочная! — прокомментировал Лис на канале закрытой связи. — Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу!
Вальдар Камдил молча кивнул.
— Дальше идти не стоит. Севаста велела мне стоять поодаль. Неровен час, узнает, что и вы тут. Отсюда все и так видно. — Капитан «Шершня» глянул в сторону «куклы». Обычно такой удар выводил жертву из строя не менее чем на час, но порой и черт склонен поразвлечься.
— Не очень хорошо, правда, но все же видно. Надеюсь, граф, нам не придется наблюдать… ну… вы понимаете, что-нибудь такое… Говорят, в Константинополе весьма легко относятся к плотскому греху. — Он исподтишка глянул на выражение лица доблестного рыцаря.
Анджело Майорано всегда был невысокого мнения об умственных способностях этих сорвиголов, а уж тем паче отправившихся в раскаленную Палестину не за богатой добычей, а за камнями, по которым больше тысячи лет назад ходил Сын Божий с апостолами. В головах этих бравых вояк было чересчур много отваги и чересчур мало того, что позволяло сохранить эти самые головы на плечах.
Когда сегодня он, мотивируя особой щекотливостью дела, попросил рыцаря не брать с собой подкрепление и получил утвердительный ответ, предположение о слабоумии Божьих воинов переросло в уверенность. Теперь ему не нужно было обеспечивать победу Гаврасу, убивать его, дожидаться появления чертова менестреля, чтоб и его отправить к праотцам. Все шло по самому простому из предусмотренных им планов.
— Тс-с! — скомандовал он. — Слышите, там вдали кто-то идет. Это, вероятно, Симеон. Я должен указать ему, где Никотея. Притаитесь и следите, я скоро вернусь.
— Ну как тебе этот конь педальный, почти шо Пегас криминала. Герой, блин, абордажа! Капитан, это тебе впредь наглядный урок, шоб не спасал жизнь кому попало. «Он за нас тут шо-то куда-то пролил, буквально жертва репрессий, возьмем на поруки». Макаренко выискался.
— Да, был неправ, — прервал соратника Камдил.
— Вон, девоньку уже приложил. Ишь, как задумалась об этом самом облико морале. Маркиз де Огород доморощенный!
— Ладно, теперь не вывернется.
— Ты уж приложи усилия, а то щас я их приложу. А там, знаешь, перелетные стрелы потянулись в теплые страны, а одна, как на грех, заплутала, аккурат под черепушку и воткнулась. А если шо, скажу, пришла пора жениться, стрелял в жабу пострашней.
Анджело Майорано, как и обещал, вернулся очень скоро. Он притаился за кустом и приложил палец к губам. Вдали, довольно хорошо различимый за сенью ветвей, Симеон Гаврас приближался к сидящей на поваленном дереве бесчувственной красавице. Он что-то говорил, но его негромкие слова относило ветром. Девушка никак не реагировала на речи турмарха. Тот приблизился и заговорил с явным напором, довольно оживленно жестикулируя.
— Похоже, она не слишком рада его слышать. Чертовы рога! Проклятый ветер! Знать бы сейчас, о чем он говорит, — сквозь зубы процедил Анджело Майорано.
Между тем, не дождавшись ответа, раздосадованный хладностью севасты Симеон Гаврас ухватил девушку за плечо, и та, как подкошенная, рухнула с насиженного места.
— Что такое?! Мессир рыцарь, — больше не таясь, воскликнул капитан «Шершня», — вы видите, он убивает ее! — Он выхватил из ножен меч и ринулся к поваленному дереву, как бросается кошка на одурманенную сырным запахом мышь. — Возьмем его, мессир рыцарь, не дадим ему уйти!
Глава 21
Манера не оставлять следов — сама по себе отчетливый след.
В то утро комендант прибрежной крепости Шеллборо был потревожен нежданным гостем, появившимся чуть свет у ворот цитадели. Судя по дорогой одежде и еще более дорогому коню, на котором восседал приезжий, это был человек если и не знатный, то весьма состоятельный. За незваным гостем следовала небольшая свита — трое слуг и переводчик.
— Мой господин — Юрген фон Гау! — церемонно представил вновь прибывшего знаток иноземной речи. — Фортификатор.
Непонятное слово произвело на коменданта впечатление глубокое, но, увы, неосмысленное. Правда, он уловил в нем корень «форт», то есть крепость, но что должен был сделать с находящимися под его рукой укреплениями этот надменный иноземец, для коменданта так и осталось загадкой.
Видя замешательство старого вояки, чужестранец, лениво осматривавший окна комендантского дома, надвратную башню и прилегавшие к ней стены, достал из покрытого сафьяном футляра свиток с подвешенной к нему королевской печатью на красном воске и развернул его перед верным защитником крепости. Вид множества букв, а уж тем паче конного изображения государя на печати окончательно убедил ревностного стража морской границы, что перед ним — важная персона, облеченная ежели не властью, то, во всяком случае, доверием монарха.
— Ваш король Генрих, — пустился в объяснения Юрген фон Гау, — год назад попросил императора, своего зятя, чтобы он прислал ему меня, дабы я своими повсеместно известными познаниями в фортификации[57] и полиаркетике[58] помог вашему государю обезопасить побережье от высадки французов. Король велел мне определить места для возведения новых крепостей и наблюдательных постов, вам же предписано всемерно мне содействовать, выделять людей для сопровождения, провиант, фураж. — Гость сделал неопределенный жест рукой. — Вы, конечно же, понимаете…
— О да! — не совсем четко представляя, в чем еще может заключаться помощь, закивал комендант. — Все, что в моих силах!
— Вот и прекрасно! — кивнул в ответ фортификатор, и толмач тут же перевел его слова. — Надеюсь, у вас найдется время проехать со мной сейчас вдоль берега, ибо кто лучше вас может знать все опасные места побережья, а также бухты, удобные для корабельной стоянки.
— О, с радостью! — расплылся в улыбке правитель Шеллборо, довольный тем, что просьба, вернее, пожелание королевского фортификатора не содержит каких-либо экстраординарных требований.
— Но, быть может, сначала пожелаете отдохнуть с дороги?
— Ну конечно! — оживился приезжий. — Какой может быть разговор?!
Чтобы там ни имел в виду мастер крепостных дел, разговор за столом получился довольно оживленным.
— Что ж это такое? — призывая в свидетели то ли потолочные балки, то ли голубей, топочущих по крыше, всплескивал руками фон Гау. — Из чего вы здесь на острове варите свой бир? Из бузины, что ли?
— Из бузины, — хмурился комендант, — только это не бир, а эль.
— Ну конечно, если сварить бир невесть из чего да вдобавок его нагреть, только и остается придумать ему название позаковыристей! «Эль». — Фортификатор прокатил слово по языку. — Будто хотели что-то сказать, да так и не решились.
— Да что ж вы такое говорите? — возмутился комендант. — Прекрасный бузинный эль, из темных ягод. Когда желаете, могут подать из светлых. Или вот травяной из восковника, или кровохлебки…
— О, нет, этого не надо! — Заезжий мастер выставил перед собой руки. — А вот ежели бы вместо сыра мне подали айсбайн, знаете, рулька свиная фунтов, этак, на два с половиной-три, отварная, слегка поджаренная, до корочки. М-м, вот за это бы я дорого сейчас дал! А то сыр… — Фортификатор почувствовал под столом ощутимый пинок и задумчиво уставился на переводчика. В обеденной зале повисла неловкая пауза, вполне достаточная, чтобы уже начавший подниматься с места побагровевший комендант вспомнил о долге гостеприимства и о королевской печати на красном воске.
— А… но к делу, — вновь заговорил гость. — Вот скажите, почтеннейший господин комендант, последние недели, может, даже дни, не видно было поблизости Шеллборо чужих кораблей? Может быть, что-нибудь странное, необычное?..
— Да, вроде, нет, — отходя от пережитого, неохотно выдавил хозяин.
— Может, кто вынюхивал, где в округе можно взять коней или высадить отряд?
— Ничего такого не докладывали.
— Не докладывали… — повторил фон Гау, почесывая лоб, и переводчик тут же донес до коменданта суть произнесенного.
— А вот, сказывают, в Портленде, то есть не в самом Портленде, а на отмели, что близ него, недавно бо-ольшой корабль разбился. И вроде бы не сразу на дно пошел, ночью сел на мель, а поутру, да что там поутру, почитай, до полудня, палуба над водой торчала. Груз на корабле богатый был, местные рыбаки, как люди говорят, такого отродясь не видали. А вот экипажа, окромя мертвецов, на судне не оказалось.
— Быть может, они спаслись вплавь или на обломках.
— Быть может, — пожал плечами окончательно успокоившийся хозяин, — но в Портленде никто не объявлялся. А я вот что думаю. В тех краях, — комендант понизил голос, — обитает морское чудище Кракемар. От его взгляда на людей великий ужас нападает. Вот и этот корабль, по всему видать, Кракемара встретил. Иные на нем с перепугу сразу околели, а прочие, ума лишившись, за борт сиганули, и все потопли.
— Да… — протянул гость, — дивная история.
Он пробормотал себе под нос: «Дай-то бог, что за борт все же не сигали…»
— Ну что ж, господин комендант, поедем, осмотрим побережье?
Прогулка по берегу была продолжительной, но довольно бессодержательной. Порой господин фортификатор спешивался и вымерял что-то шагами, влезал на прибрежные утесы, строил хитроумные комбинации из пальцев, глядя то на линию горизонта, то на солнце и что-то демонстративно подсчитывая в уме. Комендант и несколько сопровождавших его всадников были весьма заинтригованы действиями и многозначительными хмыканьями гостя, но вдаваться в расспросы не решались, сознавая, что планы будущих укреплений — дело секретное, и если уж будет им дозволено что-то узнать, то в свой час они узнают об этом непременно.
По возвращении господину фон Гау и его свите был предоставлен ночлег в комендантском доме, и, пожелав гостям добрых снов, страж Шеллборо удалился в свои апартаменты, велев слугам не беспокоить приезжих до рассвета. Когда в доме все улеглись и только мышиная возня нарушала объявшую цитадель тишину, многомудрый фортификатор вызвал в опочивальню слуг и усадил их в круг.
— Ну, что вы можете мне сообщить?
— Ничего, — покачал головой первый. — Я разговаривал со стражниками и с поселянами, доставившими в город пиво и снедь. В округе все тихо.
— Хорошо, — кивнул чужестранец. — Что у тебя? — Он повернулся ко второму.
— Тоже немного, — развел руками слуга. — Мне довелось услышать беседу в таверне. Спорили два купца. Один твердил, что валлийцы решили ни с того ни с сего примкнуть к войску нашего короля для похода на скоттов. Другой готов был держать пари, что никакие валлийцы никуда не пойдут, поскольку в ближайшие дни дочь тамошнего принца выходит замуж и у них сейчас приготовления к свадьбе идут полным ходом. А после свадьбы — когда еще празднество окончится да головы прояснятся.
— Занятная весть. И за кого выходит замуж принцесса?
— А вот этого купец-то как раз и не знал.
— Очень интересно. Свадьба с неведомым женихом. Это что-то новенькое! Быть может, здесь есть некий странный обычай, вроде того, что дочь принца выходит замуж за духа какой-нибудь местной горы или озера?
— Озера в Уэльсе и впрямь диковинные, не говоря уже о холмах, но обычая такого нет.
— Понятно. Вернее, абсолютно непонятно, ну да ладно. У тебя что нового? — обратился строитель крепостных стен и башен к третьему слуге.
— Да вот, слух тут ходит, какие-то разбойники объявились.
— Здесь поблизости?
— Нет. Неподалеку от Портленда. Ужасная банда. Они выбирают небольшие поселения, убивают людей, забирают скот, провизию… Три манора[59] уже выжгли дотла.
— Вот как? А скажи, — фон Гау обернулся к переводчику, еще недавно торговавшему в таком же небольшом городке в устье Темзы привозной фламандской шерстью и объехавшему с товаром Британию из конца в конец, — есть ли дорога из Портленда в Уэльс?
— Конечно. Прямо от Портленда к Бристольскому заливу. Там леса и пустоши, путь довольно унылый, городов нет. Так, небольшие селения.
— А эти три, — он вновь глянул на давешнего слугу, — как они называются?
— Тош, Вайтерли и Кименг, — завороженно глядя на хозяина, пробормотал тот.
— Эти самые Тош, Вайтерли и Кименг далеко ли расположены от дороги к Бристольскому заливу?
— Как раз по пути!
— Вот, значит, как. — Фортификатор запустил пятерню в свои густые волосы, точно гребнем прочесывая их ото лба к макушке. — Ну, стало быть, сыскался, друзья мои, следок принца Стефана! Да, черт возьми, сыскался, не будь я Гринрой!
* * *
Брат Россаль помедлил у порога, не решаясь потревожить благочестивые размышления настоятеля Клервоской обители. Даже для сурового устава монастыря время было чересчур позднее, и хотя шептались, что Бернар во всякий час не смыкает глаз и бодрствует от восхода до восхода, лишь крайняя необходимость могла заставить смиренных братьев потревожить сейчас отца-настоятеля. Но прибывшее известие по указанию самого Бернара как раз и относилось к особо важным. Брат Россаль поднял руку, чтобы постучать, когда услышал из-за двери:
— Входи же скорее, любезный брат! Что так долго медлишь?
Россаль удивленно воззрился на плотно сбитую дверь, в щели которой и солнечный луч не смог бы втиснуть свое жало. Как и всякий монах в обители, он двигался тихо, дабы шагами не отвлекать братию от молитв, пения псалмов и иных богоугодных занятий. Но задумываться, что и откуда знает отец-настоятель, с некоторого времени не стоило труда. Брат Россаль приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы в келью могла проскользнуть его сухопарая, изможденная постом оболочка души, и тут же невольно опустил глаза, встретившись с пылающим взглядом аббата.
— Говори же, — заторопил его Бернар. — Брат Гондемар прислал голубя?
— Да, — смущенно подтвердил монах. — Но… откуда вам сие известно?
— Мне было видение. Ангел Господень снизошел к моим мольбам и поведал, что наш посланец уже у цели.
— Брат Гондемар сообщает о том же, ваше преподобие!
— Еще бы! — Бернар ликующе воздел персты. — Когда Господь посылает нам знак милости своей, разве могут смертные помешать свершиться воле его? Как можем мы ныне видеть, посланец наш и впрямь достойный рыцарь, силою Божьего Креста одолевающий все трудности долгого и опасного пути. Теперь же его меч должен прийти на помощь Кресту Господню.
— Но он один против целого сонмища врагов истинной веры.
— Когда будет на то Господня воля, расточатся врази пред клинком его, как бежали они пред мечом огненным архангела Михаила. И поразит он великое множество врагов во славу Божью, — с жаром, скороговоркой выдохнул Бернар, глядя на брата Россаля горящими, точно свет маяка во тьме, глазами.
— Но ведь… — монах замялся, — в тех землях тоже обитают христиане.
— Что ты такое говоришь, брат мой? Они схизматики, они хуже неверных! Ибо неверный, упорствуя в своих заблуждениях, не ведает света истинной веры, эти же, извратив Божье слово, подвергают истину поруганию и потому достойны гибели. И пусть это будет кровь, реки крови, но так истина отмоется от скверны!
Помнишь, как сказано у Блаженного Августина? «Когда воин убивает врага, как судья или палач, которые обрекают на казнь преступника, я не считаю это грехом, ибо, поступая так, они исполняют закон».
Я же скажу тебе больше о воине христовом. Когда он предает смерти злодея, это не убийство человека, а дерзну сказать, искоренение зла. Он мстит за Христа тем, кто творит зло, он защищает христиан. Если он сам падет в бою, то не погибнет, а достигнет своей цели. Ведь он несет смерть во благо Христа, а принимает ее — во имя блага собственного.
Слова настоятеля звенели набатной бронзой, повергая в трепет смиренного монаха, опешившего от неожиданного яростного натиска.
— Что же сообщает нам сей достойный муж? — помолчав мгновение, спросил Бернар.
— По утверждению брата Гондемара, он поведал о вещах, более чем странных. По его словам выходит, что рутены намерены в ближайшее время напасть на Британию.
— Вот оно что? Прежде сии земли не вызывали у них сколь-нибудь заметного интереса.
— Вот и я говорю о том же.
— О чем же это свидетельствует?
— О чем?
Бернар досадливо поморщился.
— О том, что рутены действуют по слову, перечить коему не в силах даже эти возомнившие себя христианами варвары. Я уверен, что голова святого Иоанна, это величайшее сокровище веры, ведет их за море с неведомой, но благой целью. — Аббат вдруг замолчал. — А впрочем, отчего же неведомой? Я слышу, как она будто бы речет нам, требуя свершить подвиг, требуя идти в бриттские земли, дабы покарать нечестивцев и обрести утерянный светоч христианского мира.
— Так… что же следует отписать рыцарю? — с трудом выдавил брат Гондемар.
— Пусть сердце его наполнится жаром христианской веры, но ум остается хладным. Пусть вызнает, где скрывают рутены усекновенную главу Предтечи. Пусть действует смело и без колебаний — Господь простер над ним свою длань.
* * *
Треск ломающихся веток спугнул ночную птаху, заставив ее в ужасе замолкнуть.
— Убийца! — кричал Анджело Майорано, выхватывая из ножен меч.
Симеон Гаврас наработанным движением повернулся на пятках, принимая широкую стойку и готовясь отразить удар.
— Досточтимый господин Майорано! — раздался за спиной капитана «Шершня» чуть насмешливый голос Камдила. — Не надо так спешить! Вы уже всюду успели.
Вряд ли нашелся бы в Европе исповедник, который решился бы отпустить грехи Мултазим Иблису. Но в одном его точно нельзя было упрекнуть. Он вовсе не был трусом. Мгновенно сообразив, что устроенная им засада обернулась западней для него самого, Анджело Майорано зайцем скакнул в сторону и прижался спиной к толстому, в три обхвата дубу, надеясь таким образом защитить тыл. И в тот же миг длинная, в ярд, стрела, сбив кору за шиворот венецианцу, вонзилась в дерево, чуть-чуть не срезав прядь его волос.
— Бросьте оружие, дон Анджело. Если вы думаете, что Лис промахнулся, то лучше вам избавиться от этого заблуждения до того, как вы поймете, насколько оно пагубно.
— Что происходит? — возмутился наконец обретший дар речи Симеон Гаврас. — Объясните…
— Снимите накидку с дамы, — не сводя глаз с Майорано, кинул рыцарь. — Она такая же Никотея, как я — патриарх Константинопольский.
— Проклятие! — тихо выругался турмарх, поворачивая к себе несчастную бесчувственную девицу.
— О! А это что?
Анджело Майорано скрипнул зубами, вскользь глянул на Гавраса, рассматривающего поднятую с земли изукрашенную каменьями гривну, и сделал почти неуловимое движение вдоль ствола, точно перекатываясь на месте. В тот же миг еще одна стрела вонзилась у его щеки.
— Анджело, без глупостей! Мой друг видит в темноте как кошка, но сейчас и он может не рассчитать прицел. Бросайте меч на землю!
— А смысл? — оскалился капитан «Шершня». — Я сдохну либо сражаясь против вас двоих, либо получу стрелу от вашего чертова дружка. Так уж лучше я отдам концы с мечом в руках.
— Смысл прост, — поморщился Вальтарэ Камдель, — вы говорите, кто и зачем нанял вас, и живете дальше или же остаетесь лежать здесь — по вашему выбору.
— Нет! — взорвался Гаврас. — Этот проклятый фряжский недоносок желал моей смерти, отчего же я должен щадить его?
Глаза Мултазим Иблиса блеснули невольной радостью. Перебранка в стане врагов давала ему пусть крошечный, но шанс.
— Бюро Варваров! — резко выкрикнул он.
— Але, капитан, у нас гости! — послышался на канале связи встревоженный голос Лиса. — Полторы дюжины рыл в броне, буквально как жар горя. Ни дать, ни взять ночной дозор. Блин! Шуметь меньше надо было. Щас нам устроят «Всем выйти из сумрака»!
* * *
Безответные овцы с кроткой печалью глядели на раззадоренных кровью чужаков, и с жалобным блеяньем падали одна за другой под кинжалами, бьющими без промаха.
— Грузи! — слышалось поодаль. — Да как ты берешь? Давай за ноги! Давай, раз, два…
Стефан Блуаский глядел на творимое вокруг побоище задумчиво, точно не видя происходящего.
— Прикажете зажигать, милорд? — Один из всадников свиты графа вопросительно поглядел на господина.
— Да, — кивнул, едва выходя из оцепенения, внук Завоевателя. — Бросайте факелы в окна.
Вопрошавший махнул рукой, и над крышами скотного двора и амбара взвились языки пламени, спеша упрятать среди обугленных головешек следы убийства.
— Господь не простит вам этих смертей, — тихо, но твердо проговорила вдовствующая императрица Матильда.
— Вот и посмотрим. — Стефан Блуаский метнул на пленницу насмешливый взгляд. — Не ты ли еще вчера утверждала, что именно Господь послал навстречу кораблю этого перекормленного угря?
— Так оно и есть. Твои прегрешения, Стефан, взывают об отмщении.
— Ты уже могла отмстить, но не сделала этого, стало быть, именно Господь удержал твою руку. Подумай сама, моя дорогая кузина, ведь не дьявол же, в самом деле?! — Принц иронично поклонился «спасительнице». — Когда б не Кракемар, будь он неладен, которому вдруг пришла в голову мысль полюбоваться на нас, мы бы уже подплывали к Уэльсу. И все эти деревенщины с их жалким скарбом жили бы себе до самой смерти. Но так не произошло. Стало быть, это не было угодно Господу. Уж не знаю, зачем ему понадобилось избирать меня своим орудием для расправы с этим сбродом, но сути дела это не меняет.
— Ты богохульствуешь, Стефан.
— Я богохульствую? — неподдельно возмутился граф Блуаский. — Дорогая кузина! Ты бы послушала речи своего отца! Вот кто богохульник, так богохульник! Кстати, готов держать пари, что, случись добрейшему королю Генриху бежать через полстраны, поджав хвост, точно заяц от борзой, твой батюшка поступал бы точно так же. Уж я-то его знаю.
— Но это делаешь ты, а не он.
— Пустое! Сегодня я, завтра он. Это мало что меняет, — отмахнулся ее собеседник. — Я бы с интересом поглядел, как бы действовала ты сама на моем месте.
— Я бы не оказалась на нем.
— Слова, слова. — Принц Стефан оскалился. — Впрочем, ты, возможно, и вправду ни на что такое не способна. Зачем тебе корона, Матильда? Зачем тебе свобода? Сиди в монастыре, вышивай гобелены. Ты даже мне, ужасному грешнику, не смогла перерезать горло. Куда тебе править? Отрекись от мира, этот крест не для тебя.
— Я сожалею, что не сделала того, о чем ты столько говоришь, — глядя, как пламя костра пожирает дочиста ограбленные строения манора, с надменной гордостью произнесла дочь Генриха Боклерка.
— Вот и сожалей. На это занятие у тебя еще будет много времени. — Он хлопнул в ладоши. — Где там этот храбрец?
Для подручных графа Блуаского не было нужды растолковывать, о ком идет речь. С отменной резвостью они бросились куда-то за дом и приволокли верзилу с широченной грудной клеткой и массивными бицепсами. На шею пленника была надета петля, руки покрывали глубокие порезы, из которых обильно сочилась кровь.
— Как тебя звать? — обратился к нему принц.
— Джек.
— Джек, — повторил Стефан Блуаский, — хорошее имя. Ты смельчак, Джек! Не каждый бы решился броситься в одиночку против десятка воинов. Когда б с копьем и мечом ты управлялся так же ловко, как с вилами, цены бы тебе не было.
— Мне хватало вил.
— Видишь, не хватило, — усмехнулся Стефан Блуаский.
— Настанет день, когда вам не хватит и всех мечей Англии.
Потомок Вильгельма Нормандского звонко расхохотался, аплодируя резкой фразе связанного накрепко собеседника.
— Смельчак! Люблю смельчаков. — Граф спешился и, подойдя к пленнику, водрузил ему руку на плечо. — Тут вот какое дело, Джек. Встреться мы в иное время в ином месте, я бы с радостью взял тебя под свое знамя. Из тебя бы вышел славный воин.
— Мне не нравится убивать людей.
— Знаешь, скажу тебе честно, мне тоже, — вздохнул племянник Генриха Боклерка. — Но что делать, Господь не оставил нам иного пути. Конечно, если не идти в монахи. Да и то… Но убивать я не люблю. И все же мне придется это сделать, ибо другого выбора нет. Но гордись, храбрец, ты умираешь не в петле, не от презренной старости. Ты примешь смерть от руки английского принца.
С этими словами Стефан Блуаский выхватил кинжал, висевший у него на поясе, и, не говоря ни слова более, вонзил его крестьянину в горло.
— Так ты уже никому ничего не скажешь. Вот что такое власть, моя дорогая кузина. — Принц развел руками. — Вот на что приходится идти.
— Мерзость, — коротко выдохнула Матильда.
— Быть может так, милая сестрица. Но овце никогда не править волчьей стаей. Все! — Он снова хлопнул в ладоши. — Заканчивайте погрузку и уходим. — Стефан провел ладонью по лицу, будто пытаясь стереть с него накатывающую усталость. — Проклятие! Мы слишком медленно бежим. Если среди тех, кто остался здесь, на юге, найдется хоть один умник, который потрудится глянуть, как расположены места пожаров, он без труда догонит нас. Стоило бы уйти в сторону и проследить, увязалась ли за нами уже погоня или еще нет. Но время, время поджимает. Мы не можем петлять и путать след. Дорогой мой тесть весьма обидится, если я опоздаю к свадьбе. Сделаем вот что. — Стефан Блуаский повернулся к ожидающим приказа воинам. — Ты и ты возьмите по пять всадников, вы движетесь налево, вы — направо. Жгите все, что встретите. Если след нельзя спрятать, его нужно размазать. Если Господь на моей стороне, я буду ждать вас в Бристоле.
* * *
Владимир Мономах исподлобья глядел на приведенного к нему иноземца. Когда чуть свет ему доложили, что глубоко заполночь дворцовая стража нашла в лесу близ Выдубечского монастыря всю троицу благородных господ, прибывших с севастой, готовых устроить друг меж другом смертоубийство, Великий князь только что дара речи не лишился от удивления. Когда же командир разъезда ночной стражи к тому добавил, что один из них в голос крикнул про, не к ночи помянуто будет, зловещее Бюро Варваров, люди коего в чужих землях шныряют, точно крысы подвальные, да все вынюхивают, выглядывают, самое, что ни на есть сокровенное вызнают, тут Мономаху и совсем худо сделалось.
Опознать крикуна было делом плевым, и вот теперь тот стоял пред государем русов, вперив в него немигающий, холодный, точно ледяная сосулька, взгляд.
— Ну что? — обернулся Мономах к толмачу. — Переведи ему, что коли сознается, да все как есть, до крупицы изложит, то пощажу я его и смертью лютой казнить не буду. А ежели нет, на кол посажу, иным татям[60] на устрашение.
— Казнить и миловать — воля ваша, — не сводя жесткого взгляда с Великого князя, проговорил Анджело Майорано. — Мне себя корить не в чем. Те вины, что на мне есть, выложу без утайки. А чего не было — на себя не приму.
Переводчик в одеянии монаха-василианина бойко превратил звучную итальянскую речь в русскую, стараясь, по возможности, сохранить интонации сказанного.
— Какой хороший мальчик! — раздалось у него в голове. — Видать, уже объяснили, шо чистосердечное признание смягчает кожу спины и препятствует образованию рубцов и шрамов.
— Вас интересует, отчего я кричал: «Бюро Варваров»? Могу сказать. Да оттого, что в этом самом Бюро меня принудили согласие дать, что ежели вдруг сын ваш Мстислав, оженившись, прелестным напевам женки своей угождать не станет и василевсу Иоанну не покорится, то этак тихонечко его порешить.
— Разумеешь ли ты, что говоришь? — процедил Мономах. Вдыхаемый им воздух начал казаться князю до невозможности густым, и грудь тяжело вздымалась при каждом вдохе.
— Отчего же нет? Ясное дело, разумею. Сами посудите, — как ни в чем не бывало продолжал Майорано, — я ведь не ромей, родился в той самой земле, где Ромул брата своего прирезал. Долгие годы на море разбойничал. И за Магомета, и за Христа кровь проливал, по большей мере чужую, но и своей немало. Не так давно бросить решил, купил себе корабль, начал товары возить, паломников в Святую землю…
И вот ни с того ни с сего в Херсонесе меня хватают, припоминают старые грехи и говорят: «Когда сослужишь нам службу, и корабль тебе вернем, и наградим. А нет — то живьем в стену замуруем». Выбор невелик. Ну да я убивать-то сына вашего не желал, мне бы от соглядатаев избавиться было.
— О ком речь держишь?
— Ну, так понятное дело. О Вальдарио Камдиле и спутнике его. Их ведь там, в Херсонесе, тоже в каменный мешок кинули, а потом вдруг глянь — они в свите у госпожи севасты оказались.
— По твоим словам, они тоже Бюро Варваров подкуплены?
— Ну, подкуплены или иным каким средством принуждены — того я не скажу, врать не буду. А только замешать их в это дело у Бюро Варваров прямой резон имеется. Что я, что дон Вальдарио — фрязины, он так и вовсе сицилийского короля родич. Дружок его вообще невесть из какой земли. Одно ясно — не ромей. Не скажу, на вас ли они охотились или на второго вашего сына. Но только когда бы случилось смертоубийство, то вышло бы, что ромеи с их василевсом ни при чем. Это ж фрязины злоумышляли.
— Стало быть, и ты, и содруги твои на семью мою ножи точили?
— Когда б я точил, то уже бы в ход пустил, он у меня завсегда острый. А я бежать хотел. Нашел себе здесь полюбовницу, чтоб у нее по перву делу укрыться, а они меня выследили. А тут еще и турмарх этот.
— С ним-то что? — резко осведомился Великий князь.
— С ним-то ничего, я ж, когда кричал, как раз у него заступничества искал. Да вот в чем беда-то, турмарх этот Никотеи полюбовник. Право сказать, так он ее обожает, что стоит ей на кого глянуть, так он сразу того и убить готов. А севаста, как на грех, в последние дни на него и не взглянет, а меня привечает. Я ей разные истории о далеких землях сказывал, ну и всякое такое. А Гаврасу почудилось, что она его на меня сменяла. Ну, он и взъярился. И меня, и ее жизни лишить хотел.
— Не, ну как, сволочь, излагает, — возмутился Лис на канале закрытой связи, — и хоть бы глазом моргнул! Вот те и «не вывернется»!
— …Девицу вон как оглушил — чуть жива осталась.
— А она говорит, будто ты ее.
— Так он же из кустов со спины выскочил, меч наголо. Я к дереву отпрянул, а он подружку мою по затылку — хрясь! Она и понять-то ничего не успела.
— А гривна, севасте дареная, в том месте откуда взялась?
— Ума не приложу! Да я так и не видел ее вовсе. Нечто и впрямь там оказалась? Эк оно все заковыристо!
Владимир Мономах кинул на собеседника недовольный взгляд. Тот казался утомленным, но вовсе даже не встревоженным. Будто все, что донимало Мултазим Иблиса в эту минуту — бессонная ночь. Он видел, как багровеет лицо Великого князя при его словах, и чем дальше, тем больше. Увиденное несказанно радовало Анджело Майорано. Теперь он мог достойно расквитаться с обидчиками за пережитое сегодня ночью.
— Если государь пожелает, — опережая возможные расспросы, вновь заговорил капитан «Шершня», — то я кое-какие размышления свои изложу, может, вздор, а может, вам и пригодится.
— Давай говори, — процедил Владимир Мономах.
— Севаста Никотея — девушка, что душой кривить, весьма прельстительная и василевса ромейского племянница. Да только мать-то ее — известная мятежница, и сама Никотея при дворе жила из милости. А за бесплатные милости порою очень дорого платить надобно.
— Толком говори! — оборвал его Мономах.
— Говорю толком, ни слова лишнего. — Мултазим Иблис выставил перед собой ладони, точно огораживаясь от несправедливых упреков. — Константинополю очень нужен мир с Киевом. Для того они севасту вроде бы как в странствие и отправили. Удастся ей сына вашего обаять да на себе женить — быть тому миру и дружбе, не удастся — на то Бюро Варваров фрязинов наняло. Как ни кинь — а все клин выходит. Даже если Никотею в чем и заподозрят — не велика потеря.
Ну, а что севасту, племянницу самого василевса тронуть посмели, так на то Симеон Гаврас с войском имеется. Чуть вы за порог, а он тут как тут. Не удивлюсь, если войско его уж из Херсонеса в ваши земли путь держит. Одно только не учли. Что самого Гавраса страсть так обуяла, что он про долг и отечество — про все забудет.
Мономах хмуро поглядел на умолкнувшего фрязина. Нарисованная им картина была очень похожа на правду, во всяком случае, вполне могла ею быть.
— Увести покуда, — тихо скомандовал он, поднимаясь с места. Владимир Мономах подошел к двери, и ждавшие за нею отроки приветственно распахнули створки перед Великим князем. — За мною не идите, — скомандовал тот свите, — думу буду думать.
Глава 22
Жизнь — замечательная вещь, поэтому я желаю продать ее подороже.
Фитц-Алан чуть приоткрыл дверь и осторожно заглянул в образовавшуюся щель. В последние дни его господин был сильно не в духе. Он вопреки обыкновению сделался немногословен и мрачен, что было куда страшнее, чем обычно клокочущая в Генрихе Боклерке ярость. Об этом могли бы рассказать все те, чьи выставленные на копьях головы недвусмысленно указывали путь от Лондона в сторону шотландской границы.
Все, кто был лишь заподозрен в сочувствии, не говоря уже о приязни к Стефану Блуаскому, без лишних разговоров становились жутким украшением над воротами встречных городов и замков. Король глядел на провинившихся не мигая, точно пытаясь взглядом прожечь дыру во лбу очередного мятежника. Затем указывал на того пальцем и проводил ладонью вдоль горла. Дальнейших объяснений не требовалось. Стоит ли говорить, что все, кому по долгу и происхождению было положено становиться под знамена короля конно и оружно, спешили выступить навстречу государю, не ожидая призыва и опасаясь навлечь на себя подозрения самым кратчайшим промедлением.
Сегодня у королевского секретаря было чем порадовать сюзерена, и потому, убедившись, что тот молчаливо разглядывает украшающий стену гобелен, он тихо втиснулся в залу и негромко кашлянул, оповещая о своем присутствии.
— Что у тебя, Фитц-Алан? — жестко отрезал король, метнув тяжелый взгляд на вошедшего.
— Только что прибыл барон Фатлмоунт, посланный вами с отрядом на Криксвордскую дорогу.
— Чертов болтун! — процедил король в пространство с нескрываемым раздражением. — Я знаю, куда посылал этого данского волкодава. На чьей шее он на этот раз повис?
— Там на дороге, — опасаясь вызвать у монарха очередную вспышку гнева, продолжил Фитц-Алан, — барон нагнал отряд рыцарей, шедший на помощь графу Пембруку.
— Судя по тому, что Фатлмоунт вернулся, Пембрук может ожидать помощи до Люциферова венчания?
Фитц-Алан тихо скривился, радуясь, что государь не видит его лица. Ему, с младых ногтей готовившему себя к служению Господу, было тягостно слышать богохульные речи господина. Каждый раз, выходя из королевских покоев, он заново решал для себя, на счастье или на беду он, тогда еще юный богослов повстречал на приеме у архиепископа Кентерберийского столь же юного принца Генриха.
— Вы правы, мой лорд. Изменники уничтожены. Вернее, почти все уничтожены, как вы и велели, барон не брал пленных… Кроме одного.
— Что еще за нежности? — Генрих Боклерк нахмурился и резко повернулся к секретарю. — Сыновья барона вместе с ним, кто там еще — отец, брат? Хотя нет, отец уже лет пять как в могиле.
— Это сэр Роберт Клиффорд, знаменщик принца Стефана.
— Что-о? — Генрих Боклерк оскалился. — Клиффорд? Он может разговаривать?
— Барон доставил его в целости.
— Волоки сюда эту паскуду! — прорычал король, резво шагнув к стоявшему навытяжку Фитц-Алану. — Давай, пошел!
Королевский секретарь торопливо кивнул, машинально прикладывая руку к шелковому бурнусу, по новой моде прикрывавшему высокое чело государственного мужа, и стремглав выскочил за дверь.
Король сжал кулаки, желая что-то еще крикнуть вслед расторопному слуге, но вдруг почувствовал, как перехватывает дыхание и к глазам невесть откуда подкатывают слезы. Он сцепил зубы до хруста, резко отвернулся и издал такой утробный рык, что дежурившие у дверей стражники сочли за лучшее вжаться в стену. Но когда закованный в кандалы Роберт Клиффорд предстал пред грозные королевские очи, перед ним был холодный, бесчувственный, точно крепостная башня, грозный монарх.
— Где твой господин, ублюдочный выродок? — глухо спросил Генрих Боклерк.
— Мне это неведомо, — цепенея под леденящим взглядом обычно щедрого на эмоции короля, негромко произнес пленный рыцарь.
— Ты думаешь, я с тобой играю, — хватая за ухо знаменщика принца Стефана, сквозь зубы процедил король. — Думаешь, я начну умиляться, какой ты храбрец. Так вот. Я не буду умиляться. Я зарою тебя живьем. Или утоплю в навозной куче. Ты будешь умирать долго и мучительно. И если не сейчас, то через пару часов или завтра утром все равно скажешь, где этот мерзавец.
Роберт Клиффорд с отчаянием глядел на короля. Ему вовсе не хотелось умирать, но к этому он был готов, как и всякий, избравший войну своим ремеслом. Понятное дело, смерть в бою представлялась ему куда предпочтительней, нежели те перспективы, которые нынче сулил ему король. Но из верности сюзерену он бы, возможно, пошел и на это.
Когда б не одно маленькое «но». В силу ли врожденных качеств или же из-за «дурного воспитания» Роберт Клиффорд был человеком не только храбрым, но и честным. Он искренне считал благом для Англии видеть королем принца Стефана, а уж никак не слабую женщину, да еще и проведшую столько лет при чужом дворе. Он искренне верил, что, если порождение святотатственного блуда, Матильда, взойдет на английский престол, королевство ждет неминуемая Божья кара.
Но то, что произошло в контрабандистской гавани неподалеку от Бродвелла, наполнило душу его тревогой и недоумением. Посланный своим господином на север к Перси и Пембруку, Клиффорд не пропускал ни одного аббатства на своем пути, чтобы не отслужить там мессу и не попросить Господа очистить его душу.
Он живо представлял себе, как предстанет перед мятежными вельможами и оповестит их, что принца Стефана, ради которого они взялись за оружие, ждать не стоит, — он не придет никогда, потому что никогда и не собирался сюда идти.
Роберт Клиффорд не любил Генриха Боклерка, да что там не любил — на дух не выносил, как на дух не выносят овчарки бешеных волков. Но по сути своей разве злодейское похищение вдовствующей императрицы чем-то лучше, нежели выходки короля? Об этом знаменщик Стефана Блуаского размышлял все последние дни. И выводы, к которым он приходил, удручали его не менее, чем предстоящая гибель.
— Ты что же, отрыжка пьяного мула, решил играть со мной в молчанку?! Если тебе не нужен язык, кивни — я тебе его вырву. Сам. Собственноручно. Раскаленными щипцами.
— Я не знаю, где Стефан, — коротко выдохнул пленник.
— Так! — зарычал Генрих Боклерк. — Эй, Фитц-Алан, сходи-ка распорядись, чтобы весь имеющийся в лагере навоз сгребли в одну кучу. Да, и попроси кузнеца, чтобы он приготовил мне молот. Я раскрошу этому недоумочному хорьку все кости в его никчемном теле.
Побледнев, королевский секретарь бегом направился к двери.
— Я не знаю, где Стефан, — повторил Роберт Клиффорд. — Он отправил меня на север, сам же на корабле отплыл на юг.
— На юг? — после долгой паузы выдавил король Англии. — Ты сказал «на юг»?
— Это чистая правда, — глядя поверх головы монарха, четко проговорил рыцарь.
— Господи, Господи! — Король сжал кулаками виски, пытаясь удержать колотившую в них кровь. Больше всего в этот миг ему хотелось, чтобы вместо короны его лоб и затылок сковали железным обручем, точно винную бочку. — Я старый дурак. Этот чертов щенок, этот паскудный гаденыш обвел меня вокруг пальца! Каков выродок! Я клюнул на приманку. Как голодная крыса на кусок сыра. Дурак! Старый дурак.
Фитц-Алан, замерший было у приоткрытой двери королевских апартаментов, поскорее отпрянул и поспешил оказаться подальше от этого недоброго места. Генрих Боклерк нечасто признавал свои ошибки, совсем уже редко именовал себя дураком, и никому из подданных не рекомендовалось в этот миг находиться подле государя. Ибо свидетелям подобного ждать пощады не приходилось.
Передать распоряжение господина было делом минутным. Однако возвращаться к впавшему в самобичевание королю Фитц-Алан не торопился. Если бы ему вручили сейчас в руки лопату и заставили лично сгребать навоз, и в этом случае он бы, пожалуй, предпочел столь безрадостный удел перспективе вновь лицезреть Боклерка. Но желающих предложить лопату королевскому секретарю во всем лагере не сыскалось, и потому тот шел между шатрами, свысока глядя на чистящих коней оруженосцев, рыцарей, скрупулезно проверяющих заклепки на кольчугах и шлемах, и лучников, флегматично вощивших древки стрел.
Между шатров временами встречались монахи, без особой надежды смиренно внушавшие грубым воякам постулаты божеского отношения к противнику. Признавая в Фитц-Алане своего, монахи смиренно приветствовали королевского секретаря и уступали ему дорогу.
— Pax vobiscum![61] — услышал докладчик государя откуда-то чуть сбоку. Он повернулся, чтобы ответить, да так и замер с приоткрытым ртом.
— Не делай такое дурацкое лицо, будто тебе в пиво опять налили чернил! — послышалось из-под капюшона, и Фитц-Алан увидел, как губы, явно не привыкшие шептать молитвы, сложились в самодовольную улыбку. — Это точно я, Блэк Боб Мак-Леод.
Когда бы из-под сутаны бенедиктинца сейчас выглянул призрак самого Вильгельма Завоевателя, пожалуй, Фитц-Алан вряд ли бы удивился больше. Лет тридцать тому назад Боб Мак-Леод и сам нынешний королевский секретарь протирали штаны в епископской школе Дарема. Отец Боба пророчил своему пятому сыну аббатскую шапку. Но, судя по замашкам неуемного, бойкого на язык и кулак скотта, к церковной кафедре его нельзя было подпускать на выстрел из ростового лука.
Вот уже четверть века Фитц-Алан не видел своего бывшего однокашника, но слышать о нем иногда доводилось. То рассказывали, как он вместе с королем Александром Свирепым верхом в броне форсировал пролив, чтобы задать жару мятежным вассалам. То он вдруг оказывался в Париже, близ короля Людовика Толстого, то возвращался из Иерусалима с богатыми трофеями…
— Фитц, ну что ты стал, как виселичный столб? Можешь меня потрогать, только чур не щипаться. Это будет выглядеть непристойно. Идем, и позволь бедному монаху развлечь тебя беседой.
— Ты прибыл шпионить? — благостно улыбаясь, кивнул Фитц-Алан, понимая, что если его догадка верна, то при малейшей попытке закричать и позвать на помощь Блэк Боб не замедлит ткнуть его под ребра кинжалом.
— Фитц, дорогой мой, не будь остолопом! Если бы я прибыл сюда, чтобы пересчитать ноги ваших коней, я уж как-нибудь удержался бы, чтобы не броситься в объятия школьного дружка!
— Что же тебе надо, несчастный?
— Странный вопрос! Быть счастливым! Ну и тебе по старой дружбе уделить чуток.
— Говори толком.
— Я прибыл от короля Дэвида.
— А почему в таком виде и тайно?
— Потому что мне значительно больше нравится ходить по земле, чем висеть над ней. Фитц, если мы обо всем договоримся, завтра я могу прибыть со свитой, как и подобает лорду-маршалу.
— Хорошо, я слушаю тебя.
— Король Дэвид не желает войны. Он готов предоставить любые доказательства того, что мы не помогаем мятежникам и не укрываем их. Мой государь напоминает, что его любимая сестра Мод, увы, ныне покойная, долгие годы была не менее любимой супругой Генриха Боклерка.
Он готов поклясться на мощах святого Коломбана, что всецело на стороне своего дражайшего родственника. И уж точно тем, кто посягает на жизнь, честь и свободу любимой племянницы короля Дэвида, не следует искать помощи в наших горах и равнинах.
Король Дэвид рад был бы помочь своему родичу против мятежников. И чтобы доказать свою неизменную дружбу и самые добрые чувства к любезному королю Генриху, он готов предоставить ему или же названным им вельможам ряд достойных замков и поместий в Скоттии, дабы оттуда сии благородные мужи могли лично наблюдать за тем, насколько искренни слова моего государя.
Лично тебе, Фитц, скажу по секрету, король желал подарить замок Киркинейл со всеми угодьями, пашнями и правами охоты.
— Ты не шутишь? — Оторопело глядя на бывшего одноклассника, решился уточнить Фитц-Алан. О богатстве Киркинейла он слышал еще в детские годы. Но тогда он и в самых радужных мечтах подумать не смел, что когда-то это поместье сможет принадлежать ему.
— Фитц, вдохни и выдохни! Неужели ты думаешь, что я пришел сюда, чтобы пошутить над старым приятелем? Сегодня ты уговариваешь Боклерка, завтра я приезжаю к нему во главе королевского посольства, послезавтра ты становишься лордом Киркинейлом.
— Хорошо, Боб. Я сделаю, что смогу, — кивнул Фитц-Алан. — Как дать тебе знать, если все удастся?
— В полночь пусть на колокольне ударят лишний раз в колокол. Да будет с вами благословение Господа! — тошнотворно-умилительными тоном добавил Мак-Леод и, крестя Фитц-Алана, замер на месте, позволяя королевскому секретарю продолжать свой путь.
Когда обескураженный встречей сановник наконец предстал пред неистовым королем, тот уже вновь носился по комнате, подобный разъяренному льву. Клиффорда в зале не было. У Фитц-Алана нехорошо заныло сердце.
— Где тебя носит, чертов писарь? — с порога заорал король. — Ты, что же, уже в Лондоне побывал?
— Как вы и велели, мой государь, я распорядился сгрести навоз и приготовить вам кувалду.
— Навоз, ослиная башка? Ну так сожри его теперь!
Фитц-Алан промолчал, не спеша, впрочем, отправляться выполнять королевский приказ.
— Садись и пиши.
— Я готов, мой король, — снимая с пояса чернильницу и тубус с остро отточенными перьями, негромко проговорил секретарь.
— Я желаю отписать графам Перси и Пембруку о том, как мило поступил с ними мой дорогой племянник. И, поскольку это порождение блудливой собаки выставил обоих графов баранами для королевской трапезы, то я готов их помиловать, если завтра они сложат оружие, и наградить, если встанут под мои знамена, чтобы покарать своего обидчика. Напиши это в самых изящных выражениях, и уж конечно, не зови их болванами, хотя, по сути, даже столь гордого имени они не заслуживают.
— Приступлю сейчас же, — смиренно ответил Фитц-Алан. — Кого же мой государь желает послать с письмом к мятежникам?
— Ты что, остолоп, ума лишился? Впрочем, чего там было лишаться, когда между ушами ветер завывает, точно в каминной трубе. Конечно же, Роберта Клиффорда! Кто лучше него расскажет о милой выходке моего распрекрасного племянника?
И вот еще что. Когда закончишь это письмо, надо будет составить еще одно, очень важное. Королю Дэвиду. Не хватало еще, чтобы он, увидев наши спины, решил от щедрот разукрасить их стрелами!
Отпиши ему, что, памятуя наше близкое родство и давние приятнейшие отношения, которые всегда связывали меня с его старшим братом, королем Александром, а уж тем паче с его сестрой, моей незабвенной Мод, я бы желал видеть в короле Дэвиде верного друга и соратника. А если еще он пришлет мне на подмогу своих голоногих лайрдов,[62] я готов в знак дружбы подарить ему и тем, кто снискает воинскую славу на поле боя, замки и поместья в своем королевстве.
— На поле боя? — переспросил Фитц-Алан, разворачивая пергамент.
— Ты, что же, еще и глуховат стал вдобавок к тупости? — взрыкнул король. И добавил, успокаиваясь: — Поместья, конечно же, в Британии, а не на поле боя! Вернее всего, Стефан объявится в Уэльсе. Он для того и кинул нам эту кость, чтобы ударить в спину. Ничего, мы еще потягаемся. А ты давай, пиши! — прикрикнул он. — Да так, чтобы сердца у тех, кто прочтет твою писанину, растаяли, а глаза покраснели от слез умиления. Уразумел?
— Да, мой государь. — Фитц-Алан склонил голову, чтобы скрыть невольную улыбку.
«Ибо никогда, — прошептал он себе под нос, — столь великое не достигалось столь малым».
* * *
Владимир Мономах угрюмо вышагивал по двору, точно обходя его напоследок перед дальней дорогой. Амбары, овины, конюшни… Он шел, не замечая поклонов челяди, думая горькую думу и, вопреки собственному намерению, не решаясь предстать пред всезнающей головой.
Открывшаяся поутру ситуация печалила Великого князя и зудела, словно застрявшая в седалище заноза. «Если то, о чем поведал фряжский разбойник-душегубец, правда, то след бросить лукавых гостей в острог, дабы прочим неповадно было злоумышлять против Великого князя и ближних его. А если это — черный поклеп, не ладное дело ближних людей девицы из дома самого василевса казнить да ущемлять.
У ромеев сила великая и богатства неисчислимые. Сколько лет они половцам злато-серебро давали, чтоб те набегами по Руси ходили. Любить их, ясное дело, не за что, но и в драку лезть попусту — дурная затея. Оно бы и хорошо дедовское наследие вернуть, да на этакий кус, пожалуй, рта не хватит.
А вот коли братья меж собою ладно все порешат, то тут в самый раз с ромеями все может выйти. Тогда-то родство с Комнинами пригодится. А стало быть, как ни крути, севасту обижать не след. Ее надо холить и лелеять. Так что ж, на людей ее рукой махнуть? А вдруг они и впрямь злоумышляют…»
Думы Великого князя были прерваны самым бесцеремонным образом.
— Ай, держи его!.. На, получи!.. Ой, да он кусается!
Владимир Мономах поднял глаза. На сеновале близ конюшни трое подростков пытались навесить тумаков четвертому, по одежде судя, не здешнему.
Один из отроков, самый крупный, быстро выкинул правый кулак, стараясь попасть бедолаге в голову. Но тот ушел, да что там, перетек по-змеиному под руку обидчика и быстро, хотя и легко, ткнул крепыша сложенными в жало пальцами куда-то в плечо. Парень взвыл, хватаясь за руку, а чужеземец, будто змей, обвивающийся вокруг ствола, оказался вдруг у него за спиной и подсек ноги.
— Ужо я вас! А ну стойте, неслухи! — рявкнул Владимир Мономах, невольно радуясь возможности переключить внимание с кесарской брани на детскую перебранку. — Почто втроем на одного кидаетесь?
— Так он не по-честному дерется! — поднимаясь с земли, пожаловался заводила. — А то б я ему враз кулаками всю рожу раскровянил бы.
— Если бы, да кабы, во рту выросли б грибы. Стой уж, вахлак. — Великий князь махнул рукой. — А тебя как звать, малец?
— Во святом крещении Федором, — опасливо глядя на государя русов, проговорил отрок, — а по прозванию — Кочедыжник, потому как я в день святого Ивана Купалы родился.
— Ишь ты, огнецвет. — Мономах покачал головой. — А драться этак ловко где выучился?
— Отец выучил. А его — дед. Почитай, все у нас Влесовым ратоборством супостата бивали.
— Влесово?[63] — нахмурил брови князь. — Змеево, что ли?
— Точно-точно, батюшка, Великий князь! Федорка тот все змиев нахваливал, — затараторил обвалянный в сене противник Кочедыжника. — А еще молвил, что глава, та, что для устрашения ворогов на колу средь двора поставлена, вовсе даже и не змия лютого, что в Днепре обитал да крещеный люд жрал, а невесть чья. Оттого-то я и не стерпел поругания.
— И мы не стерпели! — подтвердили скорбным тоном понурившиеся юнцы. — Почто он главу хулил?
— Правду бают? — Мономах строго глянул на Федюню.
— Правду, — исподлобья зыркнув на князя, ответил тот.
— Это с чего ж ты такую дурь взял?
— Не змиева эта голова.
— Как не змиева? Змиева, а то чья же!
— То мне неведомо. А только не его. Да и то сказать, кто глаза змиевы хоть раз узрит, тот их ни с чем не спутает. А тут не глаза, а тьфу! Буркала какие-то.
— А точно, — всполошился один из отроков, — были там глаза. Я их сам видел! Что ни на есть, воочию. Ух, какие там глаза были! Такие, что просто… Ух!..
Мономах еще более нахмурился.
— Экую несусветицу плетете! А ну, вон подите! Да впредь рукам волю не давайте. А когда узнаю, что ослушались, велю на конюшне вожжами отстегать. Уразумели?
— Уразумели, батюшка! — поясно склонились юнцы.
— И коли языком начнете рожь молоть, тоже отлупцевать велю. А теперь ступайте. Вздуть бы вас хорошенько, да недосуг мне!
Дверь особливой молеленки Великого князя затворилась на хорошо смазанных петлях без малейшего скрипа. Владимир Мономах аккуратно приладил засов на место и вздохнул тяжело, предчувствуя неприятную беседу.
— Отчего против слов моих идешь? — послышалось за его спиной, и в сумраке, подобно маячным огням, вспыхнули два немигающих глаза. — Или я когда дурное тебе посоветовал, или солгал когда?
— Не обессудь, — с поклоном ответил Мономах, — не сростно было ехать. Из ромейских земель от самого василевса посольство в Киев прибыло. Не мог я пред носом у таких-то гостей дверью хлопнуть.
— Отчего ж не мог? Очень даже мог. И должен был. Да и посольство, о коем ты речь ведешь, по сути, и не посольство вовсе. Так, клубок хитростей да гнездовище обмана.
— Как раз о том с тобой совет держать хотел. Мне о них один лихой человек сказал, что все там, как есть, соглядатаи и душегубцы.
— Правду сказывал, — не спуская с Великого князя леденящего взгляда, ответил едва различимый в темноте лик собеседника. — Но в правде той лжи через край.
— Как то понимать?
— Как есть, так и понимай. Неужто мне следует Великому князю все разжевать да в рот положить? Одно тебе скажу: пойдешь тут с плеча рубить — и на своих плечах головы недосчитаешься.
— Ишь ты! — досадливо отозвался Мономах. — Ты, демон, вон уже, гляжу, недосчитался. А кстати, об иной главе сегодня пустое болтали.
— О чем ты?
— Да нынче малец один во дворе языком трепал, что башка, которую Мстислав у змия речного снес, и не змиева вовсе, а невесть чья.
— Малец трепался? — Горящие в темноте глаза, казалось, увеличились в два раза. — Как звать?
— Кочедыжником.
— Вот, значит, как. — Княжий советник понизил голос. — Ну что ж, это меняет дело. Ты вопрошал, как тебе со злыднями ромейскими поступить.
— Думал только спросить.
— Сие не важно. С собою бери.
— Так ведь…
Глаза собеседника внезапно погасли, знаменуя окончание разговора.
— Тьфу ты, демон! — под нос себе пробормотал Владимир Мономах. — Ну, с собой, так с собой.
* * *
Шериф графства Дорсет с тоской глядел на пожаловавшего к нему официала, переводя взгляд с него на королевский указ с печатью на красном воске. Его глубоко уязвляло, что государь доверял каким-то заморским наемникам давать указания таким верным и преданным подданным, как он. Но королевская воля есть королевская воля.
— Мой государь, — через переводчика надменно вещал иноземец, — велел передать вам, что негодяй, устраивающий на ваших землях убийства и поджоги, не кто иной, как граф Стефан Блуаский. С ним отряд неизвестной, но, вероятно, сравнительно небольшой численности.
Этот мятежник ведет свое войско в Уэльс, где сможет заручиться поддержкой куда более сильной армии. Мне надлежало его разыскать, вам — надлежит изловить. Я требую, чтоб вы немедленно приняли все меры для этого. И помните, куда легче затушить костер в лесу, нежели потом бороться с пожаром, охватившим всю округу.
Шериф Дорсета сглотнул невесть откуда взявшийся в горле комок. Ему представилось, как этот заносчивый брабассон[64] станет докладывать королю о бездействии хранителя графства.
— Я непременно сделаю все, что в моих силах, — выдавил шериф, — но извольте понять. Король Генрих забрал к северной границе едва ли не всех, кто может носить оружие. Даже если я нынче велю созвать арьербан,[65] на сборы уйдет слишком много времени! Все, что я могу вам сейчас предоставить, — один рыцарь и пяток лучников.
— Я не удивлюсь, если король Генрих заподозрит вас в измене, — резко отчеканил официал.
— Увы, сэр, я тоже не удивлюсь, если так произойдет, — горестно вздохнул шериф, — но поверьте — это неправда!
Не говоря более ни слова, королевский посланец развернулся и зашагал к выходу.
«Господи, что же будет?» — глядя ему вслед, думал шериф. В тот миг ему и в голову не могло прийти, насколько был бы ошеломлен Генрих Боклерк, узнай он о снаряжаемой его именем погоне. Ибо никогда в жизни он и в глаза не видел Йоганна Гринроя и тем более не подписывал грамоты на его имя, повелевающей шерифам, баронам, комендантам, бальи et cetera оказывать предъявителю сего максимальное содействие.
По своему обыкновению, бывший оруженосец Конрада Швабского не стал утруждать себя формальностями. Найдя в одной из лондонских таверн какого-то полупьяного служителя королевского архива, он довел забулдыгу-писца до состояния полного счастья и уже на следующий день держал в руках свежевыскобленный пергамент с королевской печатью и подписью. Все остальное и вовсе было делом получаса. Благо, читать и писать на высокой латыни выросший под монастырской сенью Йоганн Гринрой умел сызмальства.
Но всего этого шериф не знал, и потому, глядя вслед удаляющемуся рыцарю надкушенного яблока, шептал: «Miserere mea!».[66]
* * *
Никогда за годы странствий из варяг в греки и обратно купец Ставр не принимал на свой корабль столь негодящего слуги. Силищи тот, конечно, был неимоверной, да только Ставру его сила была поперек горла, точно рыбья кость. Сколь ни пытался купец выучить принятого на борт человека ворочать тяжелым веслом, да все впустую. Тот лишь срывал брызги с речной глади, дергал лопасть, словно удочку, а стоило молвить ему слово поперек, так глядел исподлобья, что невольно в груди начинало колоть. Если и была польза от него, так и то лишь от коней на волоке.
Как-то было решились иные гребцы проучить дармоеда, да он, не моргнув глазом, двоих лбами стукнул так, что они чуть жизни не лишились. Еще двоих с кулака попотчевал. А ведь стояли пред ним не хлипкие мозгляки, а мужи крепости отменной. Даже ночью, стоило лишь приблизиться к спящему злыдню, тот вмиг открывал глаза и пятерня его тут же смыкалась на рукояти лежащего в изголовье меча.
Едва увидев вдали купола Софии Киевской, Ставр вздохнул облегченно, перекрестился и списал громилу-дармоеда на берег. И тут же на сердце у него стало радостно, и колокольный звон, висевший над Днепром, наполнил душу его счастливой благостью.
— Отчего звонят? — спросил он какого-то мальца, хлопочущего на пирсе.
— Так ить ясное дело — Великий князь с сынами Мстиславом и Святославом в поход на Светлояр-озеро отбывают.
— Эх, чуток бы ранее поспеть, — огорченно вздохнул Ставр, — то ж сколько всего продать можно было бы.
Он с негодованием кинул взгляд на удаляющегося громилу-тунеядца, ведущего в поводу андалузских скакунов.
— Вот же ж напасть! Как есть из-за этой дубины стоеросовой не поспели!
Глава 23
Мстить грешно. Вместо этого просто возлюби ближнего, как он тебя.
Король Людовик, кряхтя, повернулся в широком, сделанном специально по его размеру кресле. «Пожалуй, таких юных красавчиков, как этот виночерпий, здесь могло бы поместиться трое», — подумал он с тоской, глядя на статного юношу с лицом мужественным, из тех, что бывают у детей, выросших среди военного лагеря.
Молодой человек еще не слишком ловко управлялся с серебряным кувшином, из которого в подставленный кубок лилась тугая струя красного вина. Несмотря на младые лета, ему куда сподручнее были меч и копье, нежели драгоценная посуда. Неловкость и скованность чувствовались в каждом движении кравчего. И все же король поглядывал на него с явным удовольствием. Еще бы. Сын и наследник графа Анжуйского уже неделю служил при дворе государя Франции и, стало быть, не имел ни малейшей возможности оказаться гостем короля Британии.
— Благодарю! — Людовик Толстый чуть заметно склонил голову, принимая наполненный кубок из рук виночерпия. — Я вот гляжу на тебя, Фульк, и думаю, как повезло твоему отцу иметь такого сына.
— Ваша похвала для меня — высокая честь, мой государь! — не замедлил с ответом анжуец.
— Пустое, — отмахнулся король и пригубил вино. — Что уж тут моя похвала, когда сам Господь благословил ваш род. Я уверен, что и внуки у твоего отца будут такими же удалыми красавцами, как ты.
— Но, мой король! — Юноша удивленно взглянул на государя. — К чему говорить о внуках? Я еще и не думал жениться.
— А вот это глупо. В твои годы, мой дорогой мальчик, уже следует об этом думать.
— Но ведь я еще даже не рыцарь.
— Когда ты станешь рыцарем, у тебя и подавно не будет времени для прекрасных дам. Войны, походы, постоянно что-нибудь происходит, вечно в седле, вечно куда-то мчишься. И в результате либо гибнешь, так и не продолжив свой род, либо спохватываешься, когда силы уже не те, зато по двору бегает толпа бастардов.
— Но, мой король… — Юноша чуть заметно покраснел.
— Ну ладно, ладно, — добродушно усмехнулся Людовик Толстый. — Понимаю, дело молодое, всякие улыбочки, глазки — хлоп-хлоп, голову кружат. Но ведь ты не просто безвестный шевалье, ты — один из первейших королевских вассалов. Я не могу допустить, чтобы представитель столь знатного и славного рода распоряжался судьбой, точно пьянчуга — найденной посреди дороги монеткой. Я уже подумал о твоей женитьбе.
Глаза юноши удивленно расширились.
— Ну что ты на меня так смотришь? Подумал и вот нынче отписал твоему отцу. Полагаю, он вполне одобрит предложенную мной партию.
— Мой государь, но кто же эта девушка? — не в силах еще прийти в себя от услышанного, выдавил Фульк Анжуйский.
— О, ты скоро ее увидишь. Поверь, она весьма хороша собой, не глупа, из очень хорошего рода и с немалым приданым. Это дочь герцога Эсташа Буйонского, Мария.
— Но, мой король…
— Что еще за «но»? — Людовик нахмурился, но продолжить фразу не успел. Дверь приоткрылась, и стража отсалютовала копьями, пропуская в королевскую трапезную аббата Сугерия. Преподобный отец осенил присутствующих благословляющим жестом, однако по лицу его было видно, что он прибыл из Сен-Дени не только для того, чтоб призвать милость Господню на голову духовного сына и его челяди.
— Выйди! — скомандовал король Фульку Анжуйскому. — Потом договорим.
Монарх уже много лет знал своего доверенного советника и догадывался, что обещает встревоженное выражение его лица.
— Что-то произошло? — спросил он, когда закрылась дверь за виночерпием.
— Пока не многое, — стараясь говорить как обычно спокойно и взвешенно, начал аббат. — Гуго де Пайен с рыцарями прибыл во Францию.
— Мы ожидали этого. Сколько их.
— Едва ли дюжина. Меньше. Остальные под командованием Жофруа де Сент-Омера остались в Святой земле.
— Вот и прекрасно! Дюжина — это даже меньше, чем предполагалось. Что же тебя беспокоит?
— Я затрудняюсь ответить. Предчувствие. Вернее, то, чем оно вызвано.
— Ты говоришь загадками, любезный Сугерий.
— Все оттого, сын мой, что я сам ищу ответ на загадку и пока, увы, не нахожу его.
— О чем речь?
— Нынче утром чуть свет ко мне прибыл Бернар Клервоский.
— Он что же, откуда-то прознал, что мы намерены отправить его нашим посланцем в Рим?
— Нет, он не знал об этом, — покачал головой настоятель Сен-Дени. — Но я лично открыл ему нынче и то, что вы желаете видеть его епископом, и то, что намерены отправить представителем христианнейшего короля к престолу святейшего Папы.
— И что же он?
— Решительно отверг и то, и другое.
— Вот как? Аббат, категорически отвергающий епископский посох и не желающий ехать ко двору понтифика? Что еще за нелепая блажь?
— Это еще не блажь. Бернар объявил, что намедни ему явился ангел Божий и велел объявить крестовый поход против короля Генриха Боклерка.
— Что?! — Людовик Толстый с неожиданной легкостью подскочил с кресла. — Вот же дикая нелепость! Он, что же, окончательно выжил из ума?
Аббат Сугерий пожал плечами.
— Я бы не говорил столь резко, когда речь идет о Божьих ангелах. Но, признаюсь, и меня изрядно удивляет этот случай. По словам аббата Клервоского, ангел объявил, что король Британии — святотатец и королевство его погрязло в ереси. И что именно ему, Бернару, надлежит покарать нечестивцев и вновь мечом и Божьим словом восстановить поруганный крест по ту сторону Ла-Манша.
— И все же мне представляется, что этот святоша от чересчур ревностных молитв решительно тронулся умом. В целом мире никто не может сказать, что я хорошо отношусь к Боклерку, но крестовый поход… Лондон — не Иерусалим. И хотя, как утверждают трубадуры, где-то в тех землях сокрыта чаша Святого Грааля, но у моих воинов есть дела куда более насущные, чем глупые подвиги на радость звонкоголосым сострясателям воздуха.
— Бернар не ждет от вас военной помощи.
— Еще бы!
— Он просит лишь корабль, — продолжал аббат Сугерий, — чтобы перевезти туда де Пайена с его рыцарями. С этой просьбой он и прибыл ко мне.
— Бернар Клервоский намерен разгромить короля Генриха Боклерка с дюжиной рыцарей?
— Их даже меньше дюжины, — заметил Сугерий.
— Тем более. Какая чушь! Мне и с войском пока не удалось одолеть этого нормандского выродка.
— Ангел Господень обещал ему победу.
— Глупо спорить с Божьим ангелом! — хмыкнул Людовик Толстый. — Но ведь это… Хотя… О чем я забочусь? Бернар Клервоский намерен избавить нас от своего присутствия, а также от своих последователей. Что может быть лучше? Если он и его люди сложат головы по ту сторону пролива — мы были послушны Божьей воле. Если вдруг, паче чаяния, они победят — и тут мы следовали Господнему слову и проявили искреннюю веру во всемогущество Творца Небесного. Я не вижу причин отказать настоятелю Клервоской обители.
— Если он победит, слава его возрастет многократно. И это, конечно же, в сотни раз увеличит его силы и влияние.
— Если он победит… — опустошая кубок, усмехнулся король. — Если он победит, мы подумаем, что с этим делать, но не ранее того.
— Боюсь, это неосмотрительно, сын мой, — покачал головой Сугерий. — Тем более… — Он замялся.
— Ну что еще?
— Мой человек, находящийся вблизи Бернара Клервоского, сообщает, что тот получил известие издалека… Из Киева. Ему доносят, что принц русов, Мстислав, сын Гиты Английской, собирается в поход на Британию, дабы отвоевать земли своей матери.
— Если память мне не изменяет, Мстислав приходится мне троюродным братом по бабке Анне.
— Именно так, сын мой.
— Выходит, и Бернар, и мой дорогой родственник намерены оказаться там примерно в одно время? Ты, что же, видишь в этом сговор? Они намерены объединиться? — Король встревоженно поглядел на верного советника.
— Мстислав схизматик, — напомнил аббат Сугерий. — Бернар же, как бы там ни было, вернейший из сынов матери нашей римской церкви.
— Тогда выходит, аббат со своей дюжиной намерен сражаться как против нормандского волка, так и против рутенского медведя.
— Выходит, так.
— И что бы это означало?
— Вот сие как раз и есть та загадка, которая не дает мне покоя.
* * *
Воевода Киевский Борис Корнилович, сын воеводы Корнилы Буревея, был немало раздосадован явлением полуденного гостя. Тот стоял пред ним в блистающей ромейской броне, поверх которой был накинут плащ с пурпурной каймой, свидетельствующий о высокородности нежданного гостя.
— Император послал меня сообщить своей дорогой племяннице, севасте Никотее, весьма срочные новости.
— Чуток не поспели, — вздохнул раздосадованный воевода. — Намедни севаста ваша с Великим князем Владимиром и сынами его в путь к Светлояр-озеру пустилась.
— Мне сие уже ведомо, — кивнул гонец.
Во всем, что он сказал киевскому воеводе, это были первые слова правды. Конечно же, Михаил Аргир не мог быть посланцем василевса, да и всего пару месяцев назад был бы глубоко оскорблен, ежели б вдруг Иоанну Комнину пришла в голову столь нелепая идея. Но здесь, в Киеве, о нем мало кто слышал, и, стало быть, появление одного из знатнейших патрикиев в столь ничтожном звании вряд ли кого могло удивить.
Он прибыл в Киев как раз в тот момент, когда хвост колонны покидал столицу русов. В первые минуты Михаил Аргир просто задохнулся от ярости и со зла ткнул локтем попавшегося ему под руку коробейника. Тот отлетел, врезался спиной в ближайший тын, сполз по нему, да так и остался сидеть с открытым ртом и выпученными в недоумении глазами, силясь понять, за что, собственно, пострадал. Соплеменники с возмущением бросились было на помощь бедолаге, но, перехватив взгляд дебошира и верно оценив сомкнувшиеся на рукоятях мечей лопатообразные пятерни, отпрянули, давая буяну идти беспрепятственно своей дорогой.
Своей дороги у Аргира не было. Он метался по Киеву, стараясь придумать, как ему быть дальше. В первые мгновения он хотел попросту догнать растянувшийся не менее чем на три версты княжий поезд и запроситься в дружинники к самому Великому князю или же к одному из его сыновей.
Пару минут эта идея даже казалась ему совсем неплохой. Однако же, вовремя сообразив, сколько человек легко могут опознать его еще до того, как он сможет подобраться к Никотее, Аргир с досадой отбросил эту мысль как полностью несостоятельную.
Есть две разновидности преследователей. Первых можно сравнить с гепардами. Они мчатся стремительно и неудержимо, рьяно атакуют жертву, но, если в момент атаки той удалось спастись, извернуться или же оказать достойное сопротивление, такие люди теряют интерес к несостоявшейся добыче. Вторая категория куда ближе к волчьей породе. Эти могут преследовать долго и планомерно. И чем дольше они идут по следу, тем меньше шансов, что свернут или же потеряют интерес к объекту погони.
Михаил Аргир, несомненно, принадлежал к волчьй породе. Вся некогда сжигавшая его любовь к прекрасной севасте теперь обратилась в ненависть, не менее жгучую, чем прежняя страсть. Сейчас он хотел не просто отомстить ей, не просто убить. Он желал видеть, как она страдает, слышать ее мольбы о пощаде и с каждым мигом все приближать и приближать неотвратимую, как щелчок волчьих челюстей на холке загнанного оленя, минуту окончательной расплаты.
Более всего ему хотелось сделать это не здесь, в стране диких варваров, а в Константинополе, куда он приволочет коварную изменницу, чтобы казнить ее на глазах рукоплещущего ему императора. Осознав это, Михаил Аргир и впрямь почувствовал себя вестником неумолимого правосудия, гонцом покорной василевсу Фемиды. Дав себе день на отдых, продав одного из коней и приведя себя в надлежащий вид, явился к воеводе Борису Корниловичу.
— Я должен незамедлительно доставить послание от моего государя, — надменно, сверху вниз глядя на кряжистого воеводу, отчеканил Аргир. — Я оставил позади своих людей и мчался сюда, не зная устали, только б успеть.
— Эх, а что мне с тобой делать? — махнул рукой осанистый богатырь. — Дам я тебе проводника, пару гридней, еды, питья в путь. Ну и скатертью тебе дорога.
Смысл последнего выражения топотириту палатинов был не совсем ясен, но суть предыдущей фразы он уловил сполна.
— Василевс будет вам благодарен за помощь, — кратко отчеканил Аргир. — Когда я могу отправляться?
— Да хоть бы и нынче. Голому одеться — только подпоясаться, вот и вся недолга.
* * *
Владимир Мономах хмуро созерцал с высокого холма буйноцветное раздолье своих владений. В глубине души Великий князь понимал, что любуется всеми этими лесами, пашнями, пойменными лугами в последний раз. Понимал и не испытывал ни страха, ни радости. Какое-то удручающее его самого тоскливое безразличие.
Там, в киевских хоромах, слушая вполуха стародавние напевы гусляров, он все хотел, как прежде облачась в броню, промчать по чистому полю, чтобы ветер щекотал ноздри и развевал седые волосы. Вот, теперь он был в поле. Теперь перед ним открывались безмерные, безграничные просторы его земли, за долгие годы княжения ставшие мирными и процветающими. Он собрал их в кулаке, как вожжи горячего жеребца, и усмирил, покорил своей железной воле.
И все же сегодня его донимала тоска. Холодная, противно леденящая кровь, будто не великую державу оставлял он после себя, а пустой, никому не нужный звук своего имени. «Что же, вот и прошла жизнь, — думал Великий князь. — Вот и все. Еще чуток. Так, самый краешек, корочка. А того ли хотелось, о том ли мечталось в юные годы?!» И сердце подсказывало ему: «Того».
Он получил от жизни, взял своей рукой все, что желал. Он не боялся смерти, и все же холод заполнял его жилы, и неуемная печаль змеиным клубком шевелилась в сердце.
«Любопытно, — подумал Владимир, глядя, как впряженные в повозки волы тащат многие пуды драгоценной княжьей поклажи. — А и впрямь эти фрязины злоумышляли против меня и сыновей моих?» Ответа не было. Даже мудрая голова не смогла, а вернее, не пожелала рассказать ему всю правду об этом деле. Великий князь знал, что у головы свой нрав и свой резон. Уж если чего она говорить не захочет, то ни угрозами, ни посулами от нее ничего не добьешься.
Оставалось либо верить фряжскому кормчему, говорившему недоброе о свите прелестной севасты, либо же счесть все это гнусным поклепом и казнить для устрашения прочих татей заезжего выжигу лютой смертью.
До сего часа Мономах все никак не мог принять окончательного решения. Он велел заковать разбойника в кандалы и везти его с собой в зарешеченной деревянной повозке с малой дверцей, выбраться сквозь которую можно было лишь ползком. С прочими спутниками севасты дело обстояло по-иному. Он хотя и приказал следить за ними неотступно, но оставил их на свободе, мудро рассудив, что ежели они ни в чем не виновны, то и славно, а ежели фрязин-вероотступник все ж таки не сбрехал, то непременно чем-нибудь себя да выдадут.
Сложнее всего, понятное дело, было с архонтским сыном. Тут, как ни мудрствуй, а с кондачка решать нельзя. Архонтский сын — фигура не простая. Ему препоны чинить без великой нужды не стоит. Иначе беды не оберешься. Херсонес — сосед близкий и сильный, а за ним — Константинополь, с коим и вовсе без особой надобности заводиться не след.
Но и отпускать Симеона Гавраса с поклоном восвояси Мономаху тоже в этот час представлялось неосторожным. А что как если разбойник правду сказал, и херсониты спят и видят, как бы, воспользовавшись княжьим отъездом, на Киев великою силой грянуть? А Симеон хоть при севасте гостем и пришел, а на самом деле — тайный соглядатай и лично желает все досконально высмотреть да разузнать? Если так, то до поры до времени в отчие края ему ворочаться не след. Чай, не просто будет херсонитам без турмарха своего походом идти.
С великим почетом он предложил Симеону Гаврасу сопровождать княжий поезд в странствии к дальнему пределу земли Русской, «дабы смог он воочию узреть, сколь велика и сильна его держава».
Прямо сказать, Великий князь не слишком верил в удачу своего предприятия, уже подумывал, не послать ли ему на южный тракт засаду, дабы на время перенять Симеона с его людьми. Но, к великому удивлению Мономаха, архонтов сын легко согласился отправиться в дальние края в свите досточтимой севасты Никотеи. «Ох, неспроста это», — под нос себе пробормотал Великий князь и велел людям своим с Симеона Гавраса очей не спускать.
«Эх, не ко времени идем», — Мономах тронул шпорами бока мощного данского скакуна, равного которому в прежние годы не сыскалось бы по всей Руси ни на скаку, ни в копейной сшибке. Теперь конь своими конскими годами был едва ли не старше самого Мономаха. Он неспешно и горделиво начал спускаться с холма, казалось, с той же грустью, что и хозяин, созерцая поросшую густотравьем равнину и маячивший вдали лес.
* * *
Пламя костра быстро пожирало смолистые дрова, стреляло шишками и выбрасывало в темное небо целые фейерверки ярких искр. Недовольные голодные комары, привлеченные духом бородатых носителей не отведанной еще крови, кружили вокруг, мерзко изнывая и шарахаясь от клубов медленно перекатывающегося из стороны в сторону дыма.
— Да ты, голуба, не сомневайся, — на скверном греческом вещал верзиле-гонцу добродушный проводник. — Уже завтра, если Бог даст, то и до полудня нагоним мы Великого князя. У него ж возы запряжены волами, а те поспешать не любят. То ли дело кони! Ежели б такие все, как у тебя, были, то, глядишь бы, и еще нынче вечером поспели. Ну да ничего. Нынче ли, завтра — в том уже разницы нет.
Михаил Аргир слушал его и кивал в ответ. Для него была немалая разница, нынче или на днях, однако говорить о том с людьми киевского воеводы он вовсе не был намерен.
— Сегодня, поди, князь у Щепина Камня ночевку делать будет. Сказывают, что в старые времена под тем камнем сам змеиный царь Влес жил. А как стал он супротив небесного бога, Перуна-молнейника свою голову поднимать, так Перун в него копье огненное и метнул. Оно тот камень и расщепило. А под ним и змия того, значится.
— Вот как. — Михаил снова кивнул и украдкой перевел взгляд на двух воинов, спящих тут же у костра в ожидании своей очереди ночной сторожи.
— А вот, скажем, Светлояр-озеро, куда наш Великий князь походом идет, знаешь ли, чем знаменито?
— Нет, — мотнул головой Михаил Аргир.
— То-то же, не знаешь. Откуда ж тебе там за морем знать, — усмехнулся проводник. — А дело так обстояло. Прежде там, где ныне озеро, крепость была. Немалая, сказывают, крепость. Народу там уйма жила. Торговлишка разная. Люди бают, что столь искусные чаши и тарели в том краю выделывали, что из многих стран за ними приезжали.
Как-то раз прибыли к стенам его не гости чужестранные, а несметная вражья рать. На копье ту крепость взять не удалось. А потому села она в облогу как гвоздь, по самую шляпку. И так уж вышло, что и подмоги ждать неоткуда. Ну, долго ли, коротко, а есть в крепости стало нечего. Вот и взмолились жители тамошние своим богам, чтоб не допустили они супостата в городские стены. Как уж из слова в слово молили — о том не ведомо. А только наутро проснулись злые вороги, а града того нет — ни домов, ни церквей, ни стен крепостных. Заместо них озеро плещется.
— Для богов было бы разумнее утопить вражескую армию, — коротко проговорил топотирит палатинов.
— Ну, разумно-неразумно — то не нам решать, — усмехнулся проводник. — А только говорят, что иной раз из-под вод того озера голоса слышны и вроде как звон колокольный. Вот тебе и разумно.
— Нет. — Аргир покачал головой. — Это неразумно.
Он поднялся со вздохом и, в одно движение обнажив висевший на поясе кинжал, вогнал его в горло рассказчика. И тот, не охнув, повалился в огонь.
— А вот это — разумно.
Он переступил через лежавшее у костровища бревно, с тихим шуршанием обнажил меч и направился к спящим воинам.
— И вот это разумно. Мне нужны кони, еда и питье. И не нужны лишние глаза и болтливые языки.
* * *
С утра севаста Никотея была не в духе. Еще бы, цель, ради которой она проделала столь долгий и опасный путь, норовила вновь отдалиться на неведомую дистанцию. Спасибо еще, Великий князь, должно быть, снизойдя к уговорам сына Мстислава, пригласил ее со свитой в это дурацкое путешествие. Нет, конечно, она понимала, сколь благостно и достойно паломничество по святым местам, но что, скажите на милость, за святое место для истинного христианина какое-то там озеро? Какая-то дремучая языческая мистерия, в которой она волей-неволей должна принимать участие!
Но более всего Никотея досадовала из-за разыгравшейся почти у стен княжьих хором дикой, нелепой схватки между вельможами ее свиты. На прямой вопрос, заданный Симеону, тот досадливо скривился и поспешил довольно неловко перевести разговор на другую тему.
Вальтарэ Камдель скупо сообщил, что Майорано желал стравить его с Гаврасом, но ему удалось раскусить хитрость капитана «Шершня» и не дать пролиться крови. Подобное объяснение мало что давало Никотее. Она и прежде с опаской поглядывала на затесавшегося в ее свиту фрязина. Как, впрочем, и на всех тех, кто не спешил поддаваться ее чарам. Но совершенно не понимала, зачем вдруг тому нужно было устраивать поединок между двумя ее верными поклонниками.
Упоминание же о Бюро Варваров, о котором, по словам Симеона, вопил фрязин, и вовсе вносило разлад в ее мысли. Подобно всему, чего она не понимала, подобная двусмысленная неопределенность раздражала Никотею, толкая на активные действия. Если Камдель с Гаврасом пытались от нее что-то утаить, следовало дать слово дону Анджело. И потому, подозвав черноокую Мафраз, она велела ей на привале отвлечь внимание стражников от зарешеченной повозки, и та склонила голову в ответ, улыбаясь с тем хищным сладострастием, что заставляет в мгновение закипать кровь мужчины.
Когда звонкий рожок протрубил над растянувшейся колонной полдень и собратья его, повторив, разнесли сигнал из конца в конец княжьего поезда, Никотея пересела на коня и отправилась к зарешеченной повозке, стоящей в тени на лесной опушке.
Как и предполагала севаста, стражи рядом не оказалось. На какое-то мгновение Никотее безумно захотелось поглядеть, чем сейчас занята Мафраз, но она незамедлительно отогнала от себя эту мысль. Ибо грешно поддаваться любопытству, когда речь идет о судьбах державы.
— Мое приветствие, добрая госпожа! — увидев приближающуюся севасту, из темноты «собачьего ящика» негромко проговорил Анджело Майорано. — Судя по тому, что недавно здесь крутилась ваша наперсница, вы хотели видеть меня? Я польщен!
Никотея сдержала досадливую гримасу. Ей было неприятно, что беспомощный узник столь легко разгадал ее уловку.
— Я хотела узнать, что произошло той ночью.
— Эх, — вздохнул капитан «Шершня» с тягостной обреченностью, — знал бы я месяц назад, что случится эта самая ночь, никогда бы не повел «Святого Ангела» на помощь вашему дромону! Уж как хотите, но все это дурные последствия моей доброты.
— Опустите предисловие. У меня мало времени, — с неизменной очаровательной улыбкой оборвала его Никотея.
— А что говорить? Я вас спас, в Херсонесе меня схватили, отобрали корабль и потребовали всадить кинжал в князя Мстислава, если некто, мне неведомый, сославшись на Бюро Варваров, отдаст такой приказ.
— Убить Мстислава?
— А вы как думали? — оскалился Майорано. — А Камдель с дружком, должно быть, к Святославу приставлены, а может, и к самому Владимиру — уж этого я не знаю. Но только мне Мстислав тот ни к чему. Мне бы корабль свой вернуть — и поминай как звали. Вот и решился я бежать. Но с пустым кошельком в бега подаваться глупо. Чтоб корабль силой вернуть, деньги нужны — людей нанять.
Вот и решился я украсть у вас гривну, принцем подаренную. И покупателя искать нужды не было. Видели б вы, как Гаврас на Мстислава глаза пялил, когда он вам ту гривну дарил! А мне ж того и надо! Ему хорошо, понадобится — он гривну враз найдет, нет — последний дар Мстислава хорошенько припрячет. А только мы с ним, получится, одной ниточкой связаны, и, стало быть, в Херсонесе он меня не выдаст. Да на беду, граф ваш меня выследил и, когда я с Гаврасом встретиться должен был, вдруг и нагрянул.
— Вот оно как? — чуть прикрыла глаза Никотея. Объяснение получалось довольно стройным, хотя на месте Гавраса она бы поспешила непременно избавиться от нежелательного соучастника. Но Симеон-то был не таков…
Сама по себе гривна мало заботила прелестную севасту. Она любила украшения, но все же годы, проведенные в монастыре, внушили ей довольно пренебрежительное отношение к злату и каменьям. Они были всего лишь приятными забавами. Важнее сейчас было другое.
— Почему же ты решил, несчастный, что гривна — последний дар Мстислава?
— Известное дело, — приникая лицом к решетке, ухмыльнулся Майорано, — от Светлояр-озера Мстислав в Киев не вернется. Он в бриттские земли войною идти намерен. Там уж одному Богу ведомо, как у него все сложится. Но только я слышал, что король бриттский, точно волк лютый. Палец ему дай — и вся рука пропала.
Вот и получается, что ближним часом княжич вряд ли что подарит. А и впредь — сомнительно. Вон граф с архонтским сыном как на вас зыркают — ежли друг друга не поубивают, точно руки просить будут.
В прелестной головке Никотеи моментально возникла шкала достоинств и недостатков обоих союзов. Родственник сицилийского короля, кажется, не особо ладит со своей родней, брак с сыном архонта, несомненно, удобен сейчас для Иоанна Комнина, но для нее… Вряд ли Херсонес сможет один поднять оружие против Константинополя.
— Вот как оно, судьба-то поворачивается, — со вздохом продолжил Майорано. — Мстислав на вас как есть не налюбуется. А ему в чужедальние земли идти. И против воли отцовской не попрешь, и к вам он душой прикипел. А все пустое. — Майорано проникновенно глянул на задумавшуюся девушку. — Вам, я так вижу, принц русов как раз больше всех на сердце лег. Эка незадача! Не бывать вам с ним.
— Так уж и не бывать! — упрямо сверкнула глазами Никотея.
— На все, конечно, Божья воля… Но… Хотя…
— Что «хотя»?
— Когда б король русов отправился на небеса, то Мстислав бы его трон унаследовал — он из близнецов старший. Так что, ежели вдруг Камдель свою задачу исполнил бы, глядишь, и не довелось бы избраннику вашему в волчью пасть соваться. Братец бы его туда пошел.
— Хорошо придумано. — Лазурные очи севасты перехватили взгляд антрацитово-черных глаз Майорано, и Мултазим Иблис вдруг осознал, что чего-то не учел в своих расчетах. — Но вот где ошибка. Вы принимаете меня за красивую дуру. А это не совсем так.
Должно быть, вы шли за нами из Константинополя. И хотя я не уверена в этом, полагаю, что наша встреча в море не была случайностью. Я не берусь утверждать, что вы убили капитана дромона, но его смерть была вам очень на руку. Вы намеренно привели корабль к месту его гибели. По случайности вы проговорились об этом, когда спасали меня, чтобы передать в руки сицилийцев. Тогда вы сказали приятелям, что «Шершень» ожидает в Херсонесе. Вы думали, я не понимаю ваш родной язык. И это правда. Но я прекрасно владею латынью. Признаюсь, я была очень удивлена, увидев «Святого Ангела» в гавани Херсонеса. И потому я склонна считать, что все это время вы пытались мне помешать.
— Но я не знаю, чего вы желали.
— Это не важно. — Никотея пресекла дальнейшие разглагольствования пирата. — Важно другое. Вы умеете убивать спокойно и без зазрения совести. Ни граф Квинталамонте, ни уж подавно Гаврас этого делать не могут. А потому слушайте внимательно. Я даю вам шанс, вероятно, последний. Когда я сочту нужным, освобожу вас. Вы же убьете Владимира Мономаха.
— Я?!
— Да, вы. После этого я помогу вам скрыться.
Лицо Майорано помрачнело.
— Отчего я должен вам верить?
— Можете не верить. Но тогда вам не увидеть священных вод Светлояр-озера.
* * *
Стефан Блуаский внимательно глядел на склонившихся перед ним воинов.
— Мое имя Пит Харли, — возвестил один из них, — и война — мое ремесло. Я слышал, милорд собирается воевать, так, может, я и мои люди ему пригодимся?
— Почему же вы не с королем?
— Не так давно я дрался под знаменами барона Сокса. И, честно скажу, не слишком жажду попадаться на глаза Боклерку.
— Что ж, разумно. Сколько же ты хочешь?
— Шиллинг в день мне, по три пенни моим людям, ну и, понятное дело, доля в добыче.
Императрица Матильда, восседавшая на коне по левую руку «дорогого кузена», с брезгливостью следила за торгом.
— У меня хорошие бойцы, — продолжал наемник. — Эй, Грин! Покажи-ка, на что способен!
Воин потянул меч из ножен, подошел к стоящей поблизости сосенке, оглядел ствол… Матильда невольно повернулась к нему, привлеченная зрелищем. Между тем пес войны взмахнул мечом и, чуть просев, наискось перемахнул древесный ствол.
— Хороший удар, — кивнул принц Стефан.
— Гринрой? — обескураженно прошептала Матильда.
Глава 24
И рекоше княжичи, бияху себя пятами в зерцала харалужные…
Никотея ясным взором глядела на довольное лицо чернобровой Мафраз. У той был вид кошки, которой вместо обрыдших мышей достался целый жбан сливок. Ее темные глаза, в устах поэтов звавшиеся очами трепетной газели, так жмурились от удовольствия, что севаста вдруг почувствовала острый укол зависти.
— Им было хорошо с тобой? — негромко поинтересовалась племянница императора.
— Я выполняла повеления моей госпожи…
— Я помню. Но спрашиваю о другом. Им было хорошо с тобой?
— Да, о сиятельная повелительница.
— А тебе с ними?
— О да, моя госпожа.
— Что ж, вот и замечательно. — Пунцовые губы Никотеи тронула улыбка. — Сказал мне нынче сам кесарь Владимир Мономах, что до Светлояр-озера еще несколько дней пути. Ты будешь ходить к стражникам каждый день, ублажать их со всей страстью, о которой ты не раз рассказывала в своих диковинных историях, и каждый раз приносить им вино.
— Сделать это будет несложно, моя госпожа, и даже приятно.
— Вот видишь, я люблю свою Мафраз и не обременяю ее тяжелой службой. Но будь готова, когда я прикажу тебе, доставить твоим любовникам вина, от которого они уснут надолго. Очень крепким сном.
— Это не составит труда, о пресветлая госпожа. Как вы сами могли видеть, в здешних полях великое множество алых цветов, слезы которых дарят покой и радость самым яростным и беспокойным душам.
Никотея лишь кивнула, услышав воркующую речь персиянки.
— И не забудь высмотреть, где стража хранит ключи.
* * *
Князь Мстислав скучал. Ему, доблестному витязю, с младых ногтей ходившему против ворога на все рубежи земли Русской, подобная никчемушная прогулка казалась нелепой затеей старика отца. Но спорить не приходилось. К тому же Мстислав сызмальства привык верить в незыблемую мудрость батюшкиного слова. Ибо как он молвил, так и случалось.
Но и понять, зачем вдруг вместо того, чтобы вести дружину в Новгород, терять время на столь бесцельное странствие, он тоже не мог. Мономашич гарцевал на своем вороном аргамаке, то бросая его в галоп и вырываясь далеко вперед колонны, то переходя на шаг и потешая себя пущанием стрел в поднятых с озер уток.
Попадавшиеся на пути села и города встречали Великого князя и его свиту колокольным звоном да щедрым хлебосольем. Но тот сильно поспешал и вовсе не был настроен разнообразить долгий путь веселыми празднествами. Мстислав тоже недовольно торопил время, ибо до начала похода не ведал, чем заняться.
До поры до времени, пока суть дела выяснится, Мономах запретил сыновьям близко видеться с прелестной гостьей из ромейской земли. И хотя этот наказ Мстислав исполнял хуже всего, однако же остаться с очаровательной севастой открыто более чем на единый миг ему никак не удавалось. А поскольку всякий раз, когда он появлялся вблизи повозки племянницы императора ромеев, лазурные глаза девы вспыхивали радостью и нежная улыбка наполняла страстью ее зовущие к поцелую губы, то во всякое иное время князь тосковал.
Пожалуй, единственной отрадой ему, исключая, конечно, охоту, были долгие беседы с обходительным и красноречивым толмачом, которого, за немощью собственных лет, рекомендовал ему в духовники старец Амвросий.
Впервые Мстислав по достоинству оценил смиренного монаха-василианина, когда, собираясь в поход, предложил ему спокойного, но бойкого на ходу мула. Поблагодарив князя за доброту, монах в одно движение взлетел в конское седло и, подняв на дыбы горячего скакуна, заставил его сделать курбет.
В эту минуту князь, и сам лихой наездник, проникся к толмачу невольным уважением. Когда же оказалось, что голова монаха по самую макушку наполнена обширными познаниями и всяческими премудростями, Мстислав окончательно убедился, что его духовник нашел любимому воспитаннику воистину золотой самородок в куче золы. Ибо если что и могло теперь развеять скуку храброго витязя, так это долгие разговоры с отцом Георгием.
— …А что, святый отче, — пуская шагом ретивого скакуна близ неспешно выступающего коня монаха-василианина, молвил князь, — может, и в бриттских землях вам бывать доводилось?
Монах поглядел на статного бородача с какой-то неизъяснимой печалью.
— Доводилось, сын мой. Иначе откуда бы мне язык их знать?
— Ишь ты, — покачал головой Мстислав, — где Константинов град, а где земли бриттские — экая даль.
— В прежние времена, — ответствовал Георгий Варнац, — от земель персов и до земель бриттов все единая держава была, в одной руке, под одним венцом. Нынешняя ромейская империя — лишь кусочек, огарочек империи прежней.
— Вон оно как! Это ж какой силищей-то обладать нужно было, чтоб столько-то земли под свою руку взять!
— Силу немалую, но ведь не за раз же, а там, как говорится, капля и камень точит. Все достижимо постепенством да прилежанием.
— Вот и Амвросий так же сказывал. А как по мне, так ежли мысль быстрее стрелы, а в жилах — огнь пламенный, а не водица студеная, то куда более достичь можно, нежели унылым прилежанием да усердием.
— «Пришел, увидел, победил», — усмехнулся отец Георгий.
— Что?
— «Пришел, увидел, победил», — повторил монах, — это великий Цезарь сказал, когда в понтийских землях разгромил армию некоего мятежника. Кстати, земли бриттские к империи тоже он присоединил.
— Вона как, — покачал головой Мстислав, — наш пострел везде поспел. А не в честь ли него кесарское прозвание заведено?
— Верно мыслишь, сын мой. В его честь.
— Силен, видать, богатырь, — задумчиво ухмыльнулся Мономашич, — коли имя его этак прилепилось. Ну да ничего, и я, чай, не лыком шит. Дай срок, тоже свое покажем.
— Цезарь, или, как иначе звали его, Кесарь, плохо кончил дни свои. Его убили завистники из ближних людей и первейших вельмож империи.
Мстислав нахмурил брови.
— Почто ты мне это говоришь?
— Ибо такова истина, — пожал плечами монах, — и тот, кому много дано, не смеет корить судьбу за то, что она вопрошает с него ответа за свои дары.
Несколько минут они ехали молча. Мстислав отвернув голову в сторону раскинувшегося, сколь видел глаз, ржаного поля, думал о чем-то своем. То ли о превратностях судьбы Кесаря, то ли о необходимости усилить охрану.
— Ладно уж, — прервал он молчание, — что старые времена поминать. Ты вот лучше скажи, отче, тебя-то каким ветром в столь дальние края занесло? Ты, чай, не кесарь.
— Господь хранил, — смиренно отозвался Георгий Варнац. — Дела меня туда привели церковные и доблестному воителю малоинтересные.
— Ну а все же?
— Все дело в том, сын мой, что церковь в тех местах до последних времен не признавала главенства над собою нечестивого отступника, именующего себя Папой Римским, по сути же — мятежного римского епископа, присвоившего власть над изрядной частью христианского мира.
С тех лет, когда отец нынешнего короля бриттов готовил свой поход, он заручился поддержкой богомерзкого самозванца Папы, в то время как местное духовенство всецело поддерживало вашего славного деда Гарольда. Повелением же святейшего патриарха Константинопольского я был послан в бриттские земли, дабы своими глазами увидеть притеснения, чинимые сторонникам прежней веры, и, буде то возможно, установить добрые отношения с теми из отцов тамошней церкви, кои видят благо в возвращении оной в прежнее русло.
— И что, таковые сыскались?
— Сыскались в немалом числе, — кивнул монах, — но голос их тих, ибо как нынешний король Генрих Боклерк, так и брат, а уж тем паче отец его приложили немало сил, дабы никто не посмел иметь свою волю в их владениях. Вернее, — Георгий Варнац с упрятанной в мягкую оболочку непреклонной твердостью поглядел на князя, — в ваших землях, по сию пору захваченных этими волками в человечьем образе.
— Ну ничего, ужо я доберусь до них. А поведай мне, каковы земли те.
— Обширны и преизрядны. И холмов и рек там великое множество. А леса так, может, и поболее, чем здесь, будет. А только через те чащобы с кесаревых времен широкие тракты проложены, на коих по велению прежних государей повозка невесты не должна зацепить телегу с мертвецом. Не здешним чета.
— И сказал бы я, что мудро, — усмехнулся князь, — да только ж, сам посуди, пойдут дожди, дороги размоет, стало быть, не ты силой ратною, а уж сам Господь Бог попущением своим сию землю хранит. Ибо никакой ворог через хляби наши не проберется. А там — всякую пору ходи куда вздумается и когда вздумается. Тут уж не до сна.
— Так ведь и самим же не проехать.
— А куда ехать? Вон как нынче, к Светлояр-озеру? Так одному батюшке ведомо, чего ради мы туда путь держим. А как по мне, так и делать там нечего. — Он усмехнулся и хлопнул монаха по плечу. — Ну да ладно! А кроме трактов какие чудеса и диковинки в тех краях имеются?
— Ну уж чего-чего, а диковинок в тех краях превеликое множество. Вот, скажем, в некой местности, именуемой Гвир, есть церковь, а в ней — алтарь, коий уж сотню лет как висит посреди церкви, ни на что не опираясь.
— Да знамо ли дело? — удивился Мстислав.
— На то оно и чудо! — Георгий Варнац развел руками. — Сказывают, в далекие времена святой Ильтуд узрел в море лодку, в коей два гребца везли к берегу усопшего. А над тем усопшим как раз алтарь и парил. Гребцы поведали, что сей усопший — человек святой жизни, и след похоронить его в освященной земле, сокрыв имя, дабы им впредь не клялись. Когда же было сделано по тому, над последним земным пристанищем неведомого святого Ильтуд воздвиг церковь, в коей алтарь и по сей день парит.
— И что ж, никто не пытался его наземь поставить?
— Отчего ж, находились безумцы. Один из местных вельмож обвязал тот алтарь поясом да силился его поколебать. Пояс сей же миг лопнул, а вельможа тот и месяца не прожил с урочного дня. Другой нечестивец снизу под алтарь вздумал подлезть да глянуть, что там.
— И что же?
— Вмиг ослеп. А вскоре тоже помер.
— Да-а… Хитрое место. Ты уж упреди меня, как рядом будем.
— Непременно упрежу, князь-надежа.
— А еще чем бриттские земли ведомы и знамениты?
— Есть там, скажем, могила разверстая, кто бы к ней ни пришел, хлипкий ли коротышка или же, наоборот, кто дородный и великорослый — все едино могила впору придется.
— А кому ж та могила предназначена?
— Сие-то как раз неведомо. А только сказывают, что ежли в ней три ночи кряду провести, то печали никогда более знать не будешь.
— Ведомое дело — могила от печали лечит! — усмехнулся Мстислав. — Да только здесь срок уж больно малый.
— А то вот еще есть диво, — как ни в чем не бывало продолжал монах. — В давние времена жил в бриттских землях король по прозванию Артур. И была у того короля советчица.
— Девица, что ли?
— Да вроде бы не девица, — с сомнением произнес Георгий Варнац, — но достоверно сие мне неведомо. Советчица же та была глава усекновенная. И хоть ниже шеи у нее ничегошеньки не было, а только Артуру она на все вопросы точнехонький ответ давала самым что ни на есть человеческим языком.
— Да, — вздохнул князь, — вот уж вещь поистине для всякого правителя незаменимая. Да где ж такую взять?
— Так, на эту разводку клиент не повелся, — с досадой в голосе констатировал Лис.
— Может, скрывает? — предположил его напарник. — Хотя если это действительно так, то следует аплодировать актерскому мастерству вашего подопечного, дорогой дядюшка.
— Я все же полагаю, что он действительно ничего не знает об искомом артефакте. Хотя ума не приложу, как все эти годы Владимиру удавалось скрывать его. Если, конечно, предположить, что мы идем по верному следу. Потому как по сей день, увы, все наши предположения суть игра воображения.
— Да уж. История с двумя неизвестными. Первое неизвестное — говорящая невесть кому невесть что голова, и второе — имеется ли оная в наличии, — усмехнулся Камдил.
— Есть, конечно, одна занятная блат-хата, именуемая личная, буквально особливая Мономашья походная молельня. Очень было бы интересно туда сунуться, — с сомнением проговорил Лис. — Но вокруг постоянно трется ограниченный контингент с неограниченными полномочиями, рыл так в пятьдесят. И каждое рыло не во всякий жбан влезет.
— Да, место занятное, — согласился Джордж Баренс. — Но если бы у меня был столь необычный, ну, скажем так, бортовой компьютер, я не стал бы хранить его в походной молельне. Ибо сие — первое место, которое привлекает к себе пристальное внимание.
— И все же сбрасывать такую возможность со счетов нельзя. В конце концов авторитет Мономаха здесь настолько велик, что у него попросту и в голове не может уложиться, что кто-то посмеет ослушаться его слова и сунуться туда, куда он не велит, — транслировал на канале закрытой связи Камдил.
— В этом ты, пожалуй, прав, мой дорогой племянник. Вариант с часовней в любом случае необходимо отработать.
— Постараюсь что-нибудь придумать.
— Только, капитан, знаю я твои придумки! За ради бога, поменьше грохота и спецэффектов! Я не хочу, шобы в родной земле мое имя вошло в былины наравне с Горынычем, Тугарином-змеем и прочими гадами ползучими. Как говорится, слишком много для Лиса, слишком мало для зеленого змия.
* * *
Ипподром ликовал. Добела обожженный солнцем песок взлетал из-под копыт разноцветных квадриг.[67]
— Зеленые! — вопила одна из трибун.
— Голубые! — перекрикивала ее другая.
Прочие участники захватывающего поединка хранили горестное молчание, ибо всякому было видно, что лишь эти две квадриги да, может быть, если счастье улыбнется, белые имеют шансы на победу.
Многие века состязания колесниц были излюбленным времяпрепровождением тысяч жителей Константинополя. Церковь долгое время смотрела на эти увеселения с нескрываемым осуждением. Но в этот раз ее недовольство так и осталось внутри храмовых стен, где священники всякого ранга многократно призывали возбужденную любимым зрелищем паству отказаться от посещения «бесовских игрищ». Их слова уже никто не принимал всерьез. Тем более что то одного, то другого епископа видели переодетым на цветных трибунах. Поговаривали, что и понтифики, скрыв лицо под капюшоном, тоже временами посещали веселящие кровь скачки.
Да и кто бы стал слушать речи святош, когда история Константинополя хорошо помнила, как быстро и легко почитатели той или иной раскрашенной квадриги превращались в настоящую политическую партию и брались за оружие против самого императора. Одного из них они чуть было не заставили бежать из страны. Когда б не жена его, Феодора, в прошлом танцовщица и блудница, каковая объявила, что порфира — лучший саван, да верный полководец Велизарий — конец бы настал его правлению…
Так думал император Иоанн II Комнин, прозванный некогда Прекрасным Иоанном, глядя исподлобья, как мчатся полем ипподрома подгоняемые бичом кони. Он не любил эти состязания и частенько говорил в кругу близких друзей, что плоха та победа, которая достигается лишним ударом кнута. Но то, что мог позволить себе Иоанн Комнин, было недопустимой вольностью для императора ромеев.
Когда стражники, завидев великого доместика и логофета дрома, быстрым шагом приближающегося к императорской ложе, отсалютовали копьями и с заученным слитным грохотом опустили древки на каменные плиты, Калоиоанн немедля повернул голову, улыбнулся и чуть кивнул, узнав пришедшего.
— Новости из земель рутенов, мой господин, — подходя к величественному резному сиденью василевса, тихо заговорил Иоанн Аксух.
— Слушаю тебя, Хасан, — так же чуть слышно произнес император.
— Только что прибыл гонец из Бюро Варваров Херсонеса. Они подтверждают прежнюю информацию, что князь Мстислав намерен идти в земли бриттов.
— Это очень кстати. А что моя племянница?
— Она прибыла в Кияву и с почетом и радостью принята как Владимиром Мономахом, так и его сыновьями. По донесению посланного мной человека, а он передает мне их лично тайным путем, куда более скорым, нежели все известное катаскопоям, Мстислав очарован красотой Никотеи. Когда б не воля отца, заставившая его и весь двор совершить некое странное паломничество, он бы с радостью остался в Кияве, дабы… — Иоанн Аксух на мгновение замялся, — продолжить знакомство с благородной севастой. Однако благодаря усилиям моего человека и сам он, и ваша племянница также зачислены в ряды паломников.
Василевс покачал головой.
— И все же, согласись, мой дорогой крестник, это странная выдумка. Что подвигло Никотею отправиться в Кияву, а не ждать, как мы уговаривались, посланников от Мстислава в Херсонесе.
— Георгий Варнац говорит о неуемной любознательности севасты, которая желает увидеть свет, ибо все прежние годы провела либо в столице, либо и вовсе в монастырских стенах.
— И все же ей не пристало самой отправляться в Кияву. Тем более если Мстислав и впрямь склонен просить ее руки. Хотя и правда… — он вздохнул, — так быстрее и надежнее. А что слышно о Михаиле Аргире?
— Здесь трудно сказать что-то определенное. По утверждению моего человека, севаста объявила именно его виновником гибели юного Алексея Гавраса. Так это или нет — ему, да, впрочем, и никому другому, неведомо. Однако, по слухам, Михаил Аргир выжил во время кораблекрушения и, опять же по слухам, преследует свою разоблачительницу.
— Да, очень запутанная история, мой друг, очень запутанная. Отсюда в ней не разобраться. Передай своему человеку, чтобы он всеми силами хранил жизнь, здоровье и красоту нашей очаровательной племянницы, ибо сейчас от них зависит очень многое. Что же касается Аргира, лучше всего, если его доставят живым сюда. Хотя порой в жизни случается и не лучшим образом.
— Я понял, мой государь, — поклонился Иоанн Аксух. — Что еще передать моему человеку?
— Передай ему вот что: Бриттия в прежние времена была частью империи, и лишь несчастливая судьба исторгла ее из оной. Когда Мстислав, пойдя войной в те земли, сможет одолеть нынешнего правителя и твердой ногой стать средь бриттских холмов, мы с радостью признаем потомка Мономаха кесарем в этих исконно имперских владениях.
— Я не премину сообщить ему вашу волю.
— Да уж, конечно, не премини, — кивнул василевс. — И еще. Слова — это всего лишь слова, сколь бы лестными они ни были. Распорядись заготовить рескрипт о возведении Мстислава в кесарское достоинство. Позаботься также о том, чтобы наши ювелиры изготовили подобающий венец для будущего повелителя бриттов.
— Я непременно сделаю все, как вы велите, мой государь.
— Зеленые! — взорвались ревом трибуны. — Зеленые победили!
— Как просто даются нелепые победы. — Втайне радуясь, что более не обязан присутствовать при этом всенародном ликовании, Иоанн Комнин поднялся и, устало опираясь на вызолоченный, изукрашенный каменьями посох, направился к выходу.
* * *
Колонна неспешно тянулась, углубляя и без того наезженную колею проселочной дороги. Сберегая «конскую силу» до более важного случая, Джордж Баренс двигался шагом, чуть в стороне от тянущихся к горизонту возов. «И все же, — думал он, — как велика в человеческой натуре тяга к познанию запретного, тайного… Вероятно, еще с райского сада и пресловутого яблока, скормленного Еве лукавым змеем. А может быть, со времен Дельфийского оракула».
Ему воочию припомнился треножник в виде трех сплетенных змей, чаша, клубящийся над сосудом тайн смрадный дым и опьяненная жрица, выкрикивающая бессвязные слова, неведомым образом складывающиеся в мудреные, но точные пророчества.
«Как ни вникай, как ни исследуй историю человечества, вся она, как одежда швами, пронизана упоминаниями о вестниках грядущего, о прорицании сокрытого, о пророчествах и внезапном открытии запредельного. Не могло же это все появиться ниоткуда? Из естественного желания знать все загодя?! Обретение подобных сокровенных знаков свыше во все века было пусть и не обычной, но тем не менее частью повседневности. Таким себе ожидаемым чудом. Почему — вопрос. Откуда?»
— Джокер-1 вызывает Джокера-2 и Звездочета. Я, кажется, придумал, как проникнуть в особливую молельню!
— Организовать туда экскурсию зарубежных туристов? — тут же выпалил Лис. — Шо-то мне подсказывает, не поведется Мономах на такую ботву.
— Нет, — заговорщицким тоном, откровенно радуясь собственной выдумке, промолвил Камдил. — Совсем другой вариант. Впрочем, надо сказать, лежавший близко к поверхности.
— Слушай, недрокопатель, не тяни! Шо ты там надумал?
— Как говорил Шерлок Холмс, «элементарно, Ватсон!». Кстати, именно он и натолкнул меня на мысль.
— Милый мой племянник, — озадаченно заговорил Баренс, — признаться, я тоже с нетерпением жду объяснений. Но должен тебе напомнить, что после вашего злосчастного рандеву на днепровской круче за каждым нашим шагом следит множество глаз. Причем весьма зорких.
— Ну, вот и прекрасно! Эти самые глаза обеспечат нам алиби.
— Капитан, шо за нездоровый блеск ума? Мне не нравится слово «алиби» в приложении к «Русской правде». Оно там, мягко говоря, не упомянуто.
— Джентльмены, ну что вы в самом деле! Давайте вспомним, что я здесь тоже не только своей, верней, институтской волей, но и Божьим промыслом, если, конечно, верить Бернару Клервоскому. И, стало быть, грех этим не воспользоваться. Мой план таков.
Беседа продолжалась еще несколько минут, покуда Лис, слово которого обязательно должно было быть последним, подытожил:
— Да, Божий промышленник, есть мое авторитетное мнение, шо наворотим мы тут делов по самое не балуйся.
Как обычно, ближе к вечеру, когда привал обещал отдых после долгого дня пути, все многочисленные участники похода разместились вкруг костров, спеша разбить шатры, приготовить ужин и отойти ко сну сытыми и довольными, дабы поутру вновь пуститься в дорогу во исполнение непреклонной княжьей воли.
Для самого Великого князя, его ближних и вельмочтимых гостей, когда позволяла погода, выставлялись длинные столы покоем, за которыми не зазорно было бы пировать и в княжьем тереме. Поверх вечернего пиршества натягивался обширный навес, смахивающий на купол цирка-шапито. Внутри его прыгали и кувыркались плясуны, голосили задорные припевки скоморохи, а под конец трапезы, когда съеденное и выпитое уже изрядно давало о себе знать, заводили бесконечные песни гусляры, повествуя о великих подвигах Ильи Муромца и побратима его Добрыни Никитича, о великане Святогоре, которого и земля снести не могла, и торговом госте Садко, ходившем в подводное царство радовать напевами самого морского владыку.
Лучезарная севаста Никотея, высокородный сын херсонесского архонта Симеон Гаврас, а с ними и сородич короля сицилийского числились среди тех, кто бы зван ежевечерне к великокняжеской трапезе. Правда, в отличие от большинства самозабвенно бражничающих гостей, он старался не наедаться, а уж тем паче не напиваться на ночь. Но тут уж, как говорится, своя рука владыка. Все это вызывало определенное удивление меж иных гостей, но не кормить же витязя силком, точно дитя малое.
В тот вечер у Вальдара Камдила был отменный аппетит. Он шутил, смеялся проделкам разухабистых скоморохов, размахивал руками, как, впрочем, и все иные вокруг. И так же, как они, объев кость и высосав из нее мозг, кидал под стол обглоданные костомахи.
Никто не заметил, да и некому было заметить, как оказался в первой из них свернутый кусочек пергамента. Никто также не заметил, как бродивший у стола черный пес, один из многих, ожидавших подачки, молнией бросился к внезапно образовавшейся добыче и, ухватив ее едва ли не на лету, устремился прочь от стола. Никто не услышал, как служка, наполняющий чару рыцаря, шепнул ему почти в самое ухо: «Гляди левее!» И уж кому какое дело было до того, куда с этого мгновения смотрел Вальтарэ Камдель!
Гораздо больше занимали присутствующих шутки, кувырки да напевы, раздававшиеся меж столов. И потому никто из собравшихся не заметил или не обратил внимания, как прочертили небо одна за другой три стрелы, три колеблющихся огонька в почти сгустившихся ночных сумерках.
— Горит! — крикнул Вальтарэ Камдель, вскакивая и бросаясь через стол в ту сторону, где вдруг, точно по мановению волшебной палочки вздернулся к небу язык пламени. — За мной!
— Пожар! Туши! Лови! Горит! — раздалось вокруг.
С упорством игрока в американский футбол, схватившего мяч и не замечающего ничего на своем пути, «родственник сицилийского короля» мчался через лагерь, сбивая кого-то с ног, перепрыгивая через лежащие у костров седла, ныряя под чьи-то руки… Его варанги мчали перед ним, тараном пробивая дорогу командиру. В одно мгновение он было почувствовал, как твердая, привыкшая к веслу и мечу рука клещами схватила его за плечо. Но в тот же миг захват ослаб.
— Шо ты вцепился в него, как в родного? — раздался за спиной голос Лиса. — Огнетушитель хватай!
— Какой такой тушитель?
— Пенный, дубина стоеросовая!
— Так ить нету!
— Пропил, скотина? Ужо доложу князю!
Продолжения разговора Камдил не слышал. Прорвавшись сквозь занятую тушением горящей крыши стражу, он живым снарядом ударил по двери, срывая ее с петель. Плечо немедля отозвалось острой болью, но Вальдару было не до того. Он оглянулся, стараясь не пропустить впотьмах чего-нибудь важного. Но ничто важное не предстало взору рыцаря.
Первые христиане вполне могли бы одобрить скромное внутреннее убранство молельни, когда бы здесь нашелся хотя бы один крест, икона или же какой-никакой предмет церковной утвари. Посреди лишенного окон деревянного сруба на простом, сделанном, должно быть, из дубового комеля возвышении стоял небольшой шатерок, в котором, точно забытое после одинокой трапезы, красовалось пустое серебряное блюдо.
На какое-то мгновение Камдил замер на месте, пытаясь осознать увиденное. Если походная молельня была ловушкой, то мышеловка сработала идеально.
— Герой-пожарный! — раздался снаружи голос Лиса. — Рискуя жизнью рванулся в пламень спасать реликвии и святыни! Чудотворные мощи и прочие немощи! Капитан, ты шо, обалдел?! Вали оттуда скорее! Счас крыша рухнет. Говорил же я, шо ты со своим долбаным планом без гари угорел!
Крик Лиса в голове вывел его из состояния немого ступора. А в следующее мгновение от крыльца разнесся иной, похожий на рев уязвленного стрелой буйвола:
— Вон все пошли!
Схватив блюдо, единственное, что можно было здесь добыть, Камдил ринулся из молельни и в дверях едва ли не лоб в лоб столкнулся с Великим князем.
— А?.. — хватаясь за спасенный Камдилом предмет, хрипло выдохнул Мономах, силясь при этом заглянуть за спину рыцаря. Видимо, это ему удалось. Ибо ни с того, ни с сего он схватился за грудь и, едва найдя силы спуститься по ступеням приставного крыльца, обеспамятовав, рухнул наземь.
Глава 25
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне — дна.
Сотни благородных рыцарей были бы готовы мчаться на край света, очертя голову и обнажив меч за один только взгляд прелестной Никотеи. Большинство из них, правда, еще не знали об этом, ибо превратности судьбы лишили их завидной возможности лицезреть ее воочию. Но если бы им представился такой случай, ни отвесные скалы, ни морская пучина, ни крепости, до сей поры считающиеся неприступными, не смогли бы удержать их от столь героического и столь же неразумного шага.
Владимир Мономах не принадлежал к числу этих доблестных безумцев. Он лежал на земле в беспамятстве, не чувствуя устремленного на него заинтересованного взгляда лазурных, точно воды Адриатики, очей. Примятая Великим князем трава ерошилась во все стороны, точно колючки дикобраза.
— Он чуть жив, — накидывая на плечи благородной севасты сброшенный ею на бегу плащ, на гортанном персидском языке проворковала Мафраз.
— Я вижу, — в тон ей отвечала Никотея.
— Ему следует омыть голени троекратно очищенной паром жидкостью из испражнений и посыпать их сверху порошком из осадка, коий выходит при очистительной возгонке из твердого человеческого выделения. И немочь его как рукой снимет.
— Это лишнее. Достаточно и нюхательной соли.
— О бесподобная, такие потрясения весьма опасны для здоровья господина столь преклонных лет.
— Да. — Она чуть помедлила с ответом, глядя, как по лицу Мономаха пробегает судорога. — Но этот крепок. Он скоро придет в себя.
— Ведуна! Где ведун! — неслось над собравшейся вокруг толпой.
У тела Великого князя уже суетились подбежавшие люди, и Мстислав что-то кричал, хватаясь за меч.
— И все же сердце его может не выдержать.
— Твой Аллах не всегда милостив. Сегодня ты пойдешь, как обычно, ублажать стражу, и если до завтра Мономах не околеет, освободишь пленника.
— Уже завтра?
— По утверждению принца Мстислава, завтрашняя ночевка будет как раз на берегу Светлояр-озера. Мы не можем оставить столь важное дело на волю случая.
— Я повинуюсь, моя госпожа.
Дымящуюся молельню все еще заливали из ведер речной водой. Вальдар Камдил, продолжая стоять на крыльце, ошарашенно глядел то на лежащего тут же в траве Великого князя, то на собравшуюся вокруг оробевшую толпу, то на чеканное серебряное блюдо, которое он продолжал сжимать в руках.
— Ах ты, вражина злая! — Мстислав Владимирович, растолкав собравшихся, выхватил из ножен меч. — На батюшку моего руку поднял? — Его клинок рассек воздух. Этот едва слышный, но такой привычный звук выдернул Камдила из внезапного оцепенения, словно рев сигнального рога. Уходя с линии атаки, он выставил над головой спасенное блюдо, точно щит… Толпа взвыла…
— Ни фига себе «Рабочий и колхозница»! — раздался в голове оперативника ошеломленный выкрик Лиса.
Среди людей, толпившихся у крыльца, едва ли не все, кроме, пожалуй, прелестной севасты и ее служанки, сызмальства имели дело с оружием. И потому, когда князь Мстислав с богатырского размаху рубанул стоящего перед ним противника, на выбор могли предложить лишь два варианта: либо меч сокрушит преграду, либо преграда остановит меч.
Однако на этот раз произошло нечто, недоступное пониманию. С неожиданной ясностью Камдил вдруг осознал, что вовсе не почувствовал удара, который, попади он, скажем, в плечо, мог бы раскроить человека до пояса. Но что было еще более странно, так это поведение самого князя после нанесения удара. Он стоял, точно меч его приклеился к блюду, и пытался осознать, что произошло.
Картина, представшая взору многочисленной толпы, действительно поражала воображение суровых воинов. Со стороны казалось, что меч глубоко вошел в серебряное блюдо и, по сути, должен был, разрубив, торчать из него самым недвусмысленным образом. Но кроме рукояти, зажатой в кулаке могучего витязя, и торчащей из чеканного блюда пяты клинка, ничего и близко похожего на меч видно не было.
— Колдовство! — пополз шепоток по толпе. — Чары!
Между тем Мстислав, сглотнув комок в горле, медленно и словно бы удивляясь, потянул оружие на себя. Булатная сталь кладенца мягко, будто из тюка шерсти, начала выходить из ниоткуда.
— Ой-е! — снова взвыла толпа.
— Не бил он батюшку вашего, — бросился на помощь соратнику Георгий Варнац, — я сам воочию видел.
— Тот у крыльца узрел фрязина, так враз и обеспамятовал, — поддержал монаха Симеон Гаврас. — А он добро ваше спасал, головой рисковал.
— Граф! — Лис перескочил через перила. — Ты цел? Ну стоит же ж отвернуться, чтоб докричаться до ноль-один… Непревзойденный герой — в воде не горит, в огне не тонет! Вальдар, шо ты стал — пошли! Уходим тихо и без суеты, пока я тут ставлю рекорд по обмолоту воздуха. Пропустите пострадавшего! Буквально закоптившегося за Русь святую!
— Ушел! — раздался над головами собравшихся досадливый голос подскакавшего князя Святослава. — Только лук-то и нашли.
— Кто ушел? — выходя из ступора, отозвался Мстислав.
— Да кто-кто — не день же вчерашний! Поджигатель, ворог лютый! Только в спину и видели. Росту огроменного, а по одеже — вроде наш.
— Ишь ты, подкрался ворог, как тать в ночи.
Сквозь толпу к лежащему на земле, но уже проявляющему чуть заметные признаки жизни Мономаху пробивался местный травник с туеском снадобий.
— Ну, шо вы столпились? — Лис расталкивал сгрудившихся бояр и нарочитых мужей, освобождая дорогу Камдилу, впившемуся в чеканное блюдо, точно в спасительный образ чудотворной иконы. — Дайте князю воздух и нам дорогу! Пропустите жертву чужестранной агрессии!
— Эй, блюдо-то верни! — вдруг обернулся на лисовский крик Мстислав и, подтверждая слова действием, уцепился в край спасенного артефакта.
— Ах, черт! Не покатило! — с досадой отозвался Лис. — Да возьми ты свою тарелку! Помыть не забудь — небось, как прошлый раз закусывали, так и не мыли!
* * *
Анджело Майорано изнывал от безделия. За всю его жизнь, не слишком долгую, но стремительную, точно галера, идущая с попутным ветром, он не испытывал столь тягостного и изнурительного безделья. Убогая клетушка, в которой он был заперт, позволяла либо сидеть, прислонившись к стенке и живо ощущая все дорожные ухабы, либо стоять, пожирая взглядом зарешеченные виды чужестранного раздолья. Можно было еще, конечно, наблюдать за дорогой через небольшую дырку в полу, но этот вид и вовсе не радовал.
Порою Анджело казалось, что он сходит с ума. Тогда он скрипел зубами, бил кулаками о стены и выкрикивал непонятные итальянские, греческие, персидские и арабские ругательства вперемешку с немузыкальными воплями, долженствующими обозначать суровые песни о безрадостной судьбе скитающихся по свету моряков.
Когда завывания капитана «Шершня» окончательно выводили стражу из себя, в зарешеченное оконце просовывалось острие копья и начинало не сильно, но планомерно тыкаться в темноту. Глядя на появляющийся и исчезающий над головой наконечник, Майорано с тоской мечтал, как бы он мог перехватить бестолково снующее меж решетин древко, выдернуть противника из седла, вонзить ему это самое копье в горло, и дальше — ногу в стремя, и поминай как звали.
Но это были лишь мечты. Для того чтобы проделать то, что ему грезилось, нужно было находиться на воле, а никто и не думал его отпускать. Впрочем, судить или казнить его, кажется, тоже никто не думал. Об узнике, влачащем свой безрадостный жребий в собачьем ящике, похоже, все забыли. День сменял день, верста тянулась за верстой, до хитроумного Анджело Майорано никому не было дела!
Изредка до капитана «Шершня» доносились слухи о происходящем за стенами его передвижной темницы. Он знал, что Великий князь нынче едва жив и что какие-то злые вороги пытались сжечь его в молельне. И это тем более злило Майорано, что единственный шанс на освобождение ему виделся как раз в затеянном Никотеей убийстве. В первый день, когда блистательная севаста, не меняя выражения своего безмятежного лица, назначила ценой его свободы смерть Великого князя, он был готов, не задумываясь, нанести решительный удар. Но день шел за днем, верста сменяла версту.
Слух о том, что колонна наконец достигла заветного озера, докатился до походной темницы. Он заставил дона Анджело взвыть от безысходной ненависти, вновь что-то загорланить и опять уклоняться от проклятого копья. Но когда ночь опустилась на лагерь и доносимые ветром голоса начали стихать, у повозки, едва заметная в свете нарождающейся луны, мелькнула женская тень.
Неслышным шагом девушка приблизилась к «тюремному экипажу», чуть замешкалась, и до чуткого носа Майорано донесся запах лампадного масла. «Должно быть, замок смазывает, чтоб не скрежетал», — подумал дон Анджело. Ключ неслышно повернулся, размыкая крендель замочной скобы, и у самых ног венецианца открылся лаз, карабкаться через который более пристало дворовому псу, а не прославленному от Джебель-аль-Тарик до Херсонеса Мултазим Иблису. Через это отверстие у самого пола каждый день ему просовывали миску с просяной кашей, служившей единственной пищей заключенному все эти дни. Мысль о том, что хорошо бы сейчас съесть кусок жареного мяса, была первой, возникшей в голове Анджело Майорано, едва открылся перед ним просвет свободы. Недолго думая, он скользнул в щель и, ожесточенно работая руками, извиваясь всем телом, выполз наружу и рухнул к ногам черноокой Мафраз.
— Вставай, — на родном наречии проговорила та. — У тебя нет времени разлеживаться. Сейчас в лагере многие спят, очень многие. Они отведали слез огненного цветка и не проснутся до утра. Но все же далеко не все. Ты не должен медлить. Вот тебе кинжал. Убей шахиншаха русов, и тебя ждет конь и полный кошель золота. До реки Итиль здесь недалеко. Переберешься через нее — на том берегу уже Булгарское царство. Они не выдают русам беглецов.
Анджело Майорано принял из рук персиянки кинжал. «А что если полоснуть ее по горлу и просто скрыться? — мелькнуло у него в голове. — Зачем рисковать своей головой, когда можно рискнуть чужой?»
— И не вздумай бежать, — точно подслушав его мысли, прошептала Мафраз. — Ты ведь отведал сегодняшнего варева. Если не управишься с делом в ближайший час, очень скоро почувствуешь резь в животе, затем резь превратится в настоящее пламя. Потом тебя начнет…
— Хватит! — огрызнулся Мултазим Иблис, мгновенно сообразивший, что слова наперсницы блистательной севасты вполне могут оказаться истиной, а не блефом. — Где шатер?
— Там, — махнула рукой Мафраз, до глаз завернувшись в черную накидку, отступила на несколько шагов назад и растаяла в темноте. — Мои глаза смотрят на тебя, — услышал он напоследок, — и не только мои!..
— Шайтанская отрыжка! — процедил дон Анджело, подкидывая в руке кинжал. — Ладно, глянем, что можно сделать. Но для начала, где-то тут должны спать без задних ног мои караульщики. Не желают ли они одолжить мне, ну скажем, плащ и шлем и продолжать спать дальше? — Майорано усмехнулся, и эта улыбка не предвещала спящим воякам ничего хорошего. — До того часа, пока архангел Гавриил не протрубит им подъем.
* * *
Шатер графа Квинталамонте сотрясала настоящая буря.
— Блин! Шо за на фиг?.. — на неведомом окружающим наречии вещал менестрель, самый воинственный из всех живущих в его эпоху менестрелей. — Это ж портал! Натуральный портал!
— А то я без тебя не догадался! — хмуро отозвался рыцарь, по-турецки устроившийся на походной кушетке. — Но, во-первых, портал есть, а искомого артефакта нет, а во-вторых, ты что же, предлагаешь устроить дым коромыслом еще раз?
— Не, ну вчерашняя хохма — сегодня уже не хохма, это ежу понятно! И так надымили выше крыши! Но ты ж голова, тебе ж специальный чайник с рогами положен, шоб ты мозги не застудил! Вот и напряги извилины! А то ж на фига козе баян? В смысле, Мстиславу — портал. С него баяна хватило бы!
— Какого еще баяна?
— Ну ты темный, шо дым! Вещего, конечно.
— Так, джентльмены, — перебил невнятную перебранку монах-василианин, — пока ясно одно: мои предположения оказались верны и перед нами действительно предмет, абсолютно не имеющий отношения к данной цивилизации.
— У нас наличествует подставка под этот самый предмет, да вообще-то и не у нас. А сам предмет, как бы это так покрасивше завернуть, блюданулся.
— Что-что? — не сговариваясь, переспросили Камдил с Баренсом.
— Ушел в блюдо, я так полагаю. — Лис хотел еще что-то добавить, но в этот момент снаружи послышался вполне отчетливый лязг железа.
— Идут! — насторожился Вальдар, подтягивая к себе перевязь меча.
— Да уж точно не ползут, — кивнул Лис, — а шо-то я не слышал о том, шоб ночью тут намечался смотр строя и песни. Пойти, што ль, глянуть?
— Вместе пойдем, — поднялся Вальдар Камдил.
* * *
Пола великокняжьего шатра распахнулась.
— Батюшка, батюшка! — от входа скороговоркой начал вбежавший князь Мстислав. — Мне нынче такое во сне привиделось…
Государь земли Русской возлежал на подушках, набитых лебяжьим пухом, устало смежив грозные очи. Однако же он и не думал спать. Благословенное отдохновение не приходило, но явь, которую всего лишь несколько мгновений назад он зрил перед собой, была чудней всякого сна.
— Диво дивное, батюшка! — подбегая к ложу, возбужденно тараторил Мстислав. — Как и сказать — не ведаю!
— Говори! — сумрачно перебил его Владимир Мономах.
— Нонче после трапезы сон меня обуял, будто кто по голове дубиной саданул. Как стоял близ шатра своего, так, не входя, как есть, под открытым небом очи и смежил. И вдруг снится мне, вроде как человек, а и не человек. Ликом горд, видом грозен, очи пылают. И молвит так повелительно, будто на то право имеет: «Проснись и дружину свою разбуди. Иди, — говорит, — к брегу Светлояр-озера, оттель тебе открою путь твой».
Я всколыхнулся, вздернулся, на ноги подхватился — сна как и не бывало. Братца давай будить, а он сопит в две дырки, хошь в колокол бей, хошь вприсяд пляши. И кругом тоже несусветица творится — мои дружинники глаза уж продрали, а святославовы — храпака давят…
— Цыть! — перебил его отец. — Так, стало быть, так. Потому как — никак иначе. Мне тоже видение было. Слушай меня да не прекословь.
— Как можно, батюшка?!
— Кликни людей, пусть возьмут мое ложе, да тихо, чтоб не растрясти, несут его к брегу. Там челн увидите расписной с гнутой шеей, точно у лебедя.
— Не было челна с вечера!
— Не перечь! Вишь, слово молвить невмоготу! — оборвал его Великий князь. — Положите меня в тот челн да оттолкните от берега.
— Да вестимо ли дело?! Как же ж так? — начал было Мстислав, но, перехватив суровый взгляд отца, лишь поклонился ему поясно и крикнул слуг.
* * *
Анджело Майорано смотрел на пробуждающийся лагерь. «Обманула, ведьма! Спят, как же!» Картина, представшая перед глазами Мултазим Иблиса, действительно не слишком соответствовала тому, что обещала Мафраз. Лагерь уныло просыпался. То здесь, то там показывались какие-то шатающиеся фигуры, дико озирающиеся по сторонам, будто не очень соображая, где и почему они находятся.
«Да уж, тут к шатру не пройти, наверняка окликнут. А прорубаться через целое войско — глупее ничего и придумать нельзя». Анджело Майорано оглянулся. Чуть в стороне, еще более темный, чем окружающая темень, виднелся лес, откуда-то слышалось ржание, должно быть, переговаривались между собой, обсуждая виды на овес, выгнанные в ночное кони.
«Сейчас бы самое время бежать, — подумалось старому пирату. — Знать бы только, правда ли эта шайтанская кобра намешала мне адского зелья в просяную бурду или же снова ложь. И все ж рисковать не стоит!»
Капитан «Шершня» постарался вспомнить, отличалась ли на вкус вчерашняя похлебка от нынешней. «Господи, разве было у этого мерзкого варева вообще что-либо, похожее на вкус?!» К тому же Майорано не раз слышал, что восточные умельцы весьма преуспели в составлении ядов, о наличии которых не догадаешься, даже будь они добавлены в чистую воду. «Не стоит рисковать, — еще раз подумал он и тут же одернул себя. — Как же не рисковать? Неужто напасть на шатер Великого князя русов — меньший риск?» «Не меньший, — тут же ответил в глубине души какой-то другой голос, очень знакомый. Точно с нынешним капитаном „Шершня“ беседовал юный сын несчастного Франческо Майорано, сгинувшего в шторм на своей рыбачьей лодке. — Но одно дело погибнуть с оружием в руках, совсем другое — словно бродячий пес, подавившись куском отравленного мяса».
При упоминании о мясе у него опять забурлило в животе и очень захотелось перерезать еще кому-нибудь горло. «Что за бред? — оборвал он себя. — Погибнуть с оружием в руках. Эти глупости хороши для благородных недоумков вроде чертова графа. А я должен победить и остаться живым! Обманула ведьма или нет? — вновь дамокловым мечом навис у него над головой безответный вопрос. — Что же делать?»
Издали опять раздалось тихое ржание. «А что если?..» Губы Мултазим Иблиса сложились в злорадную ухмылку. «Пожалуй, это может пройти».
* * *
За многие дни, а вернее, ночи путешествия от Киева к Светлояр-озеру среди новиков утвердилось однозначное мнение, что Федюня Кочедыжник, заморского витязя юнак, как есть всамделишный колдун. Стоило ему пойти с прочими в ночное да что-то пошептать у самой земли, а затем обойти табун кругом три раза, и хоть всю ночь дрыхни — никакого ущерба не будет. Ни кони тебе не разбредутся, ни лютый зверь добычу не учует.
А и такое было, что вроде как намерится какой скакун поноровистее за препону выскочить, домчит, сломя голову, до невидимой черты, Федюниными ногами натоптанной, и вдруг как по мановению волшебной палочки станет как вкопанный и давай озираться недоуменно, как будто стена пред ним вдруг из ниоткуда выросла. А потом слышится под ногами конскими тихое шипение, ни дать ни взять змеиное, и тут же аргамак, словно ужаленный, срывается с места и галопом вскачь обратно к табуну несется.
В ту ночь у озера Федюня вновь дежурил в ночном. И когда друзья-приятели его, искупав коней и отгорланив молодецких песен, завалились на боковую, он, отчего-то пробираемый неясной дрожью, спустился к самой кромке берега и, устроившись близ озерной воды, начал шептать свои чародейские словеса не иначе как водяному на ухо.
Никто и любопытствовать не стал, с какими духами он разговор ведет, а уж тем паче о чем. И сам он сидел, глядя в черную безлунной ночью, чуть плещущуюся воду, будто бы забывшись. Так и не услышал тихого шага вблизи. А когда услышал — поздно было. Сомкнулась у него на плече железная пятерня, вторая ухватила за горло, не давая и пискнуть.
— А ну тихо, поскребыш!
Федюня с ужасом разглядел прямо перед собою хладные глаза фряжского кормчего. Малец, как уж смог, кивнул. Красовавшийся на Анджело Майорано шлем, плащ, кольчуга не оставляли сомнений в том, что вольная его воля кому-то очень дорого стоила.
— Я знал, что ты где-то тут. По твоему слову кони здесь толкутся и с места не идут?
Федюня опять кивнул.
— Снимай заклятие, тварь худородная, а не то я тебе глотку перережу.
В тот же миг Анджело Майорано почувствовал, как под твердыми, словно абордажные крючья пальцами, сжимающими горло мальчишки, прокатывается тугой комок, и радостно отметил, что умирать за чужих коней Федюня, кажется, вовсе не намерен. Он разжал руки, давая воздуху проникнуть в легкие подростка, и вытянул из-за пояса кинжал.
— Только посмей крикнуть!
Федюня резко замотал головой и припал к земле, нашептывая что-то себе под нос. Дону Анджело пришлось наклониться, удерживая мальчишку за плечо, но подобные мелочи его не смущали. Он уже ясно представлял, как подхлестываемый Федюниным словом взъяренный табун, не разбирая дороги, помчит через пробуждающийся лагерь, сметая все на своем пути. А посреди табуна в непроглядной-то ночи и ему укрыться будет несложно. Ну а скакунам, мчащим куда глаза переполошные глядят, без разницы, степь ли перед ними широкая или великокняжий шатер.
— Давай, давай быстрее! — поторопил Анджело.
Мальчишка чуть приподнялся, точно собираясь оставить лбом отметину на грунте, выставил молитвенным жестом руки вперед и… резко ушел в кувырок, срывая захват.
— Ах ты!.. — вскрикнул Анджело Майорано, выкидывая вперед вооруженную руку.
Но тщетно — Федюня вьюном ушел под клинок и, опрометью метнувшись к берегу, прыгнул в воду, крича во все горло:
— Майорано! Майорано!
— Проклятие! — Мултазим Иблис заскрежетал зубами и бросился к лесу.
От ближних шатров, привлеченные криками, в сторону выпаса двигались какие-то фигуры.
«Господь моя защита! — крутилось у него в голове. — Обманула ведьма, как есть обманула, не было в еде отравы! Точно не было, иншалла![68]»
* * *
В этот вечер солнце взошло в судьбе турмарха Херсонеса Симеона Гавраса! Причем взошло оно с наступлением темноты и прямо в шатре сына архонта. Блистательная севаста, должно быть, терзаясь непонятной грубым мужланам хандрой из-за невыносимо долгих странствий, соизволила посетить походное обиталище соотечественника, дабы скоротать время за неспешной беседой.
Тому были веские причины. Как заметила во время очередной вечерней трапезы Никотея, Симеон Гаврас и не притронулся к приправленному опием вину. А значит, следовало до минимума свести возможность того, что, привлеченный каким-либо нечаянным шумом, турмарх примчится с мечом наголо в самый неподходящий момент спасать очередную жертву.
Севаста, чуть склоня голову к плечу, с благожелательной улыбкой слушала повествование Симеона Гавраса о недавних сражениях, приучая себя к мысли, что мужчины считают необыкновенно возбуждающим рассказ о том, как именно копье вонзается меж пластин доспеха и как далеко после сражения бегут чудом спасшиеся.
— …С тех пор они надолго запомнили, каково оно, ходить набегом на земли Херсонесской фемы!
Он хотел еще что-то добавить, открыл рот, но вдруг захлопнул его и прислушался.
— Кричат! Кто-то зовет на помощь!
— Почудилось, — нежно проворковала Никотея, досадуя на бог весть откуда взявшегося крикуна.
— Да нет же, кричат! Кричат: «Майорано»!
Симеон Гаврас, не раздумывая, обнажил лежавший тут же меч и, едва бросив слова извинения, выскочил из шатра. Никотея последовала за ним, но куда медленнее. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь в этот миг видел гримасу, невольно исказившую ее лицо. Она досадовала на то, что план ее под угрозой срыва, на то, что не смогла удержаться от проявления истинных чувств, и лихорадочно думала, что предпринять дальше.
— Это Федюня, — прошептала возникшая рядом с пологом шатра Мафраз. — Этот шакалий выродок Майорано хотел украсть коня и сбежать, но паж фряжского графа поднял тревогу. Надо было и впрямь отравить ему похлебку!
Никотея метнула на служанку раздраженный взгляд. Она и сама подумывала о том, чтобы добавить яда к однообразной тюремной пище, и по сути, ее остановило лишь одно. Никогда точно не угадаешь, как скоро начнет действовать медленный яд, тем более в истощенном недоеданием организме.
Не хватало еще, чтоб этот негодяй издох у самого шатра Мономаха, так и не выполнив ее приказа. Впрочем, теперь это было все равно. Теперь Майорано и хотел бы, не мог сунуться «в гости» к Великому князю. Лучше всего, если верный пес Симеон Гаврас догонит его и, к вящей радости, проткнет или уж там разрубит пополам — как ему будет сподручнее.
Сейчас нужно было изобрести что-нибудь новое, и очень быстро. Она обвела взглядом лагерь в отчаянной надежде, быть может, найти какую-нибудь зацепку для мысли.
— Постой! — она ухватила Мафраз за руку. — Что там происходит?
Разворачивающееся в этот миг действо и впрямь могло вызвать недоумение и у человека, видавшего куда более, нежели юная севаста. От великокняжьего шатра в сторону озера двигалась странная процессия. Шестеро витязей во главе с князем Мстиславом, возложив на рамена[69] ложе Владимира Мономаха, двигались к берегу. Следом с копьями под высь, огородившись стеной червленых щитов, шествовала княжья дружина.
— Быть может, он умер и эти варвары по своему обычаю должны предать тело государя воде? — предположила удивленная не менее, чем хозяйка, сообразительная персиянка.
— Они христиане, — напомнила ей Никотея, — какие ни есть, а христиане.
Между тем процессия была уже на берегу.
— Смотрите же, моя госпожа, они кладут государя в лодку! Один из варангов во дворце вашего дяди говорил мне, что в их народе существовал такой обычай. А ведь сказывают, сей Мономах ведет свой род не только от императоров Константинополя, но и от владык Севера.
В это самое время Мстислав со другами положили импровизированные носилки в челн, и Мафраз с Никотеей вдруг увидели, как поднимается от ложа рука Великого князя, как пожимает государь русов ладонь сына…
— Он жив! — не сговариваясь, выдохнули девушки, каждая на своем языке, и поглядели друг на друга в полном недоумении.
— Господь Всеблагой! — прошептала Никотея. — Он вовсе даже не мертв!
В этот миг Мстислав, упершись плечом в гнутый ахтерштевень[70] расписного челна, невесть откуда взявшегося на берегу, столкнул его в воду. Та вдруг забурлила и понесла утлое суденышко без руля и ветрил прямо на середину озера.
В этом месте лодка остановилась, будто вкопанная или же приклеенная к озерной глади. Пучина близ нее засветилась, пошла валами, и вдруг у бортов лодки, откуда ни возьмись, появились странного вида люди, точно стоявшие по пояс в воде. Ропот смущения прошел по войску, невольно отшатнувшемуся от берега.
Между тем Светлояр-озеро вдруг забурлило неведомо с чего, пошло стремительным водоворотом, затягивая в глубь свою и челн, и живого еще Великого князя. Ужас сковал молчанием уста всех присутствующих. И рады бы они были крикнуть, да от увиденного язык присох к нёбу.
Но в тот же миг вода пошла крутиться обратным ходом, будто норовя теперь из воронки воздвигнуться горою. И точно, вспучилась темная бездна, стала бугром, осветилась вновь. И будто не исчезал совсем, встал над тем прозрачным холмом Великий князь и государь земли Русской Владимир Мономах.
— Заждались, поди? — зычно крикнул он, приветственно разводя руки, словно для объятия. — Почитай, девять ден меня не было!
Рать на берегу застонала.
— Почто ревете, словно быки не евшие? Жив я, живехонек! И вам о жизни много дивного порасскажу! Ступайте-ка ко мне, в светлояровы хоромы. Отсель вам путь далее будет.
С этими словами он хлопнул в ладоши, и воды расступились как по мановению ока, обнажая мощеный тракт, ведущий к распахнутым воротам в четырехсаженной надвратной башне.
— Чур, чур! — раздалось со всех сторон.
— Я иду! — рявкнул Мстислав. — Коли отец зовет, так хоть в глыбь, хоть в пламень! — И он ступил на открывшуюся средь пучины дорогу. — Кто верен мне, без промедления следом за мной ступайте!
Один, второй, третий ратник потянулись вслед князю. Затем в сумрачном молчании строй двинулся туда, где несколько мгновений назад плескалась озерная вода.
— Совсем как в Священном Писании — народ израилев прошел сквозь волны морские… — прошептала ошеломленная Никотея.
— Но там были еще колесницы фараоновы, — тотчас напомнила Мафраз, — и вода сомкнулась над ними.
— Для тех, кто столь вольно обращается с волнами, не составило бы труда смыть этот лагерь ночью в единое мгновение. И ни к чему был бы весь сей диковинный обряд.
— Но, моя госпожа…
— Ради того, чтоб увидеть такое, и впрямь стоило проехать через полсвета. Неужели же ты думаешь, что я упущу случай разузнать обо всем досконально?
— Но это так опасно, моя госпожа.
— Мы, Комнины, не боимся опасностей. Они манят нас, словно пламя — мотыльков. Иначе нам бы никогда не видать трона. Я иду туда. И ты, Мафраз, идешь со мной.
Глава 26
Искусство побеждать всецело зависит от умения крепко сидеть в седле, особенно же если седла нет.
Надсадный крик Федюни Кочедыжника убил ночную тишь.
— Шо он там голосит, как певчий в аду? — напряженно прислушался Лис. — О, Майорано поминает!
— Сомневаюсь, чтобы он его звал, — нахмурился Вальдар Камдил, резко поднимаясь с места и обнажая меч.
— Джентльмены, я все-таки призываю вас не забывать, что мы здесь не совсем для того, чтобы решать местные проблемы, — поджал губы лорд Баренс. — В лагере сотни воинов. Стражи больше, чем в Букингемском дворце в день тезоименитства.[71] У нас здесь серьезная миссия, и, кажется, наконец мы приблизились вплотную к ее выполнению. Оставьте местным воякам разбираться с этим прохвостом.
— Вот про хвост не надо! — возмутился Лис. — Хрен с тем Майорано, но это ж наш мальчишка!
— Мы скоро, — пообещал Камдил, выскакивая из шатра.
— М-да… — Баренс покачал головой, выходя следом. — Некоторые делают историю, влипая в нее.
Ни славный рыцарь, ни его хитроумный спутник не слышали этих слов. Они уже были почти на берегу. Оттуда доносился громогласный крик Лиса: «Федюня, держись! Ща я тебя вытащу!» Но опасения бойкого не только на язык менестреля были излишни. Извиваясь ужом, мальчишка стремительно рассекал воду, но отчего-то двигаясь не к берегу, а к середине озера.
— Ты че, сдурел? Куда тебя несет? Север южнее!
— Вот видите, джентльмены, — догнал соратников монах-василианин. — Похоже, вашему протеже вовсе не нужна никакая помощь. Он сам прекрасно управляется с…
В этот миг Федюня вдруг нырнул, точно выпрыгнувшая на мгновение из воды рыба, и ушел в пучину, призывно махнув на прощание рукою.
— Не понял! — Лис резко начал стягивать высокие мягкие сапоги. — С какого перепугу он утопиться решил?
Он был уже в одном сапоге, да так и застыл, увидев происходящее в этот миг на берегу. И то сказать, процессия, которая двигалась в это время к блестящей черным лаком воде, заслуживала внимания.
— Шо-то я не пойму, — совсем уж удивленно проговорил Лис, указывая сапогом на процессию, — такое впечатление, шо Владимира решили похоронить по старинному варяжскому обычаю, причем задумано было еще в Киеве, а вчера, шоб не огорчать публику, он уже решил начинать потихоньку давать дуба.
— Да нет, — в тон другу проговорил рыцарь, пристально вглядываясь в освещенную факелами сцену прощания Мстислава с отцом. — Мономах-то… кажется, жив.
— Ага, плохо справился с порученным заданием. Недоработка на местах. — Лис покрутил головой, будто надеясь, что происходящее — лишь проделки какой-то нечисти, и стоит только встряхнуться, чтобы навь рассеялась. — Ласты недоклеены, дуб недорезан… — Он хотел еще что-то добавить, но диковинная реальность превзошла самые смелые его выдумки. Великий князь исчез из виду вместе с челном, затем вновь появился, но уже без челна, стоя по пояс во вспучившейся воде, сказал краткую, но содержательную речь, вследствие чего вода расступилась, и Мстислав, что-то прокричав дружине, направился по внезапно открывшейся человеческому взору мостовой к распахнутым подводным воротам.
— Кто-нибудь понимает, что происходит? — озадаченно продолжая рассматривать открывающуюся взору картину, поинтересовался Вальдар.
— А хрен его знает! — с высоты недюжинного оперативного опыта прокомментировал увиденное Лис. — Однозначно надо сходить проверить. Федюня явно туда пометелил. Он в таких вещах фишку рубит.
— Неизвестно, что он там рубит, — оборвал его лорд Баренс, — но я бы не рекомендовал туда идти. Это вполне может оказаться западней, каким-нибудь массовым гипнозом…
— Навряд ли, — не спуская взгляда с уходящих в подводный город воинов, отозвался Камдил. — Они не похожи на загипнотизированных. Да и крепость… Вероятно, это и впрямь тот самый легендарный Китеж.
— Как бы то ни было, легендарный Китеж — прекрасная находка для Индианы Джонса. У нас же здесь совсем иная задача. Я не думаю, чтобы обнаруженный вчера портал был как-то связан с допотопным Китежем.
— Почему нет?
— Скажи на милость, для чего местным жителям Киевский Великий князь?
— О, кстати, — перебил их Лис, — хто как думает, Мономах блюдо с собой прихватил или на базе оставил?
— Не было видно. — Камдил пожал плечами.
— Метнусь-ка я проверю. Потому как в суматохе могли и оставить.
На лице Джорджа Баренса появилась недовольная гримаса. С одной стороны, набег с целью захвата чужого имущества ему глубоко претил, с другой же — дело есть дело. Если что-то сейчас и давало ключ к решению загадки «говорящей головы», то лишь это самое блюдо-портал.
— Только будь осторожен! — крикнул он вслед удаляющемуся соратнику, но тот его уже не слышал, ибо бегал Лис быстро, а время и впрямь поджимало.
Рыцарь и монах-василианин в молчании глядели, как с мерным топотом уходит по дну Светлояр-озера могутная рать, как вдруг, точно повинуясь неслышимой команде, промчался следом в расступившуюся бездну дотоле спокойно пасшийся табун, как открываются ворота подводной цитадели, впуская долгожданных гостей…
Но тут, едва уступая по скорости перемещения в пространстве только что промчавшимся скакунам, к их наблюдательному пункту подлетел Лис с конфискованной серебряной посудиной. Лицо его сияло так, что, казалось, даже ночная тьма отступала под напором этого сияния.
— Ну, шо я говорил? Еще вчера чуть друг другу фэйсы не отретушировали за эту штуковину, а сегодня токо шо рыбу на ней не хряцали! Так сказать, сувенир на память о хорошем человеке и просто Великом князе Владимире, не побоюсь этого слова, Мономахе. — Он протянул блюдо Баренсу. — Шеф, посуда наша, закусь ваша!
— Это, по-твоему, посуда?! — возмутился лорд Джордж, пытаясь разглядеть вычеканенный сюжет при свете лисовских глаз. — Это, должно быть, волны посреди, кажется, человек, ему кто-то протягивает руку… Что у нас тут? Похоже, это крыло… Не понять!
В этот момент с блюдом что-то произошло. Оно точно осветилось изнутри, и на том месте, где только что красовался описываемый Баренсом рисунок, вдруг сама собой, так, будто была здесь всегда, образовалась голова, весьма похожая на человеческую, но почти лишенная губ и с круглыми, широко расставленными глазами навыкате. Очи неведомого существа смотрели пристально, и казалось, будто они источают желтоватый свет.
— Эт-то… — Лорд Баренс протянул руку, пытаясь дотронуться до красующейся на блюде головы. Еще мгновение…
Едва пальцы лорда Джорджа коснулись высокого, покрытого налипшими мокрыми черными волосами лба, как тут же раздался хлопок, будто кто-то очень быстро втянул в себя через соломинку содержимое большого стакана, и тут же лопнул.
— А… — Лис и Камдил поглядели друг на друга, ошарашенно хватая воздух ртом и разводя нелепо руками. — Где?
Ни головы, ни блюда, ни, что самое ужасное, Джорджа Баренса не было и в помине.
— Шо за хрень? — наконец выдавил сладкоголосый менестрель, осматривая место, на котором еще минуту назад находился смиренный монах-василианин.
— Ничего не понимаю, — под нос себе, оглядываясь, пробормотал Вальдар Камдил. — Что бы это могло быть?!
— Магия, что ль, какая? — предположил Сергей, ползая по траве в поисках хоть какого-то следа.
— Наверняка. Я пытаюсь вызвать Баренса по закрытой связи. Без малейшего успеха.
— Ни фига себе посудина! Шо ж теперь делать?
— Ты думаешь, у меня есть готовый ответ?
— Да ну, ничего я не думаю! Ты давай, мозгами шурупай — вон у тебя какая голова большая!
Вальдар Камдил молчал пару минут.
— Так, слушай внимательно. Если я в чем-то ошибаюсь — поправь. Никакой внятной причины у Мономаха идти к этому озеру не было.
— Ну, где-то как-то вроде, — кивнул Лис, — во всяком случае, о ней никто ничего не знал.
— Когда дружина наконец пришла сюда, начался весь этот тарарам с расступающейся водой и прочими радостями жизни.
— Ну? Не томи!
— Мне кажется, что голова, которую мы сейчас видели, удивительно похожа на голову одного из тех… Ну… назовем их жителями Китежа, которые появлялись рядом с челном Великого князя.
— Ты думаешь, это их проделки?
— Я не знаю, при чем здесь Майорано, но в целом думаю, что их. И еще, — добавил Вальдар Камдил, — мне кажется, что наш Федюня не просто так с перепугу туда поплыл. Он, не сомневаюсь, что-то знает.
— Ну, если он там знает, шо мы тут стоим? Вперед, вперед!
* * *
Михаил Аргир был опытным охотником. Он не любил дубовые леса, где под ногами то и дело норовила хрустнуть сухая ветка, предательски шуршали опавшие листья, а торчащие во все стороны сучья так и ждали мига в темноте воткнуться в глаз. Но здесь, почти у самого берега, высокого, обрывистого, поросшего кустарником, имелась песчаная тропка, судя по следам, кабанья.
Топотирит палатинов шел по ней чуть слышно, стараясь лишним шорохом не спугнуть ночную тишь. Опытный глаз охотника, а быть может, даже и не глаз, а выработанное с годами чутье выхватили у склонившегося над самым обрывом куста бузины нечто темное, почти бесформенное, но явно плотное.
Аргир остановился и очень тихо вытащил меч. От кустов вдруг послышалось негромкое бормотание, затем всхрап. «Часовой спит, — догадался ромей. — Конечно, вот они пришли к месту — самое время отдохнуть! Готов поспорить, сегодня в лагере все перепились. Вот и пробил час долгожданной мести!»
Он миновал спящего и, поправив на голове шлем-еловец, чуть наклонив голову, зашагал в сторону видневшихся вдалеке костров. Теперь скрываться не имело смысла. Наоборот, следовало идти уверенно и спокойно — кто в такой темноте разберет лицо. А так, витязь себе и витязь, мало ли что тут делает. До ветру ходил.
Оно, конечно, может, у часовых для опознания своих и чужих тайные слова имеются, но, с одной стороны, всякий рядовой знать их не обязан, а с другой — если суждено нынче кому-то из недостаточно упившихся русов встретиться с ним нос к носу, то, стало быть, судьба тому голову сложить. Ибо сама десница Господня направляет его руку, а сказано: «Мне отмщенье, и аз воздам».
Едва успел он подумать об этом, как из-за поворота быстрым шагом, почти бегом навстречу ему выскочил какой-то гридень в кольчуге, шлеме, с мечом у пояса, но без щита. Аргир чуть посторонился, пропуская мимо торопыгу. «На пост, должно быть, спешит», — подумалось ему. Он еще раз окинул взором пробежавшего мимо воина. «Но почему же без щита?» — вновь мелькнуло в мозгу топотирита палатинов. Точно поймав на себе заинтересованный взгляд, гридень попытался отвернуться и прибавить шаг, но было поздно.
— Майорано?!
— Клыки шайтана! — Капитан «Шершня» резко прыгнул вперед и повернулся, обнажая меч. Он видел в темноте как кошка и едва ли не в первое же мгновение опознал в громадине-витязе знатного ромея. Для этого достаточно было, даже не глядя в его лицо, посмотреть, как он ступает по земле.
— Ах ты, негодяй! — Аргир, на мгновение забыв об изменнице-севасте, бросился на проклятого капитана, едва не погубившего его в морской пучине.
Анджело Майорано вовсе не был трусом. Он прекрасно владел мечом, был весьма ловок и, невзирая на явное преимущество ромея в силе, наверняка мог бы оказаться довольно опасным противником даже столь опытному воину, как Аргир. Но он спешил, чертовски спешил. И вовсе не был намерен останавливаться ради того, чтобы скрестить клинки с невесть откуда взявшимся ромеем.
Зыркнув по сторонам, он стремительно отскочил, пропуская мимо первый удар, и припустил со всех ног, норовя свернуть с тропинки в кустарник, чтобы потеряться из виду неистового гиганта. Он бежал что есть сил, слыша за спиной почти явственно нечто вроде шипения: «Стой, трус! Я до тебя доберусь!»
Ну уж нет, останавливаться Анджело Майорано вовсе не собирался! Он мчал, пока едва не споткнулся о лежащее у куста бузины тело. «Мертв? Нет, сопит — жив. Вот и славно!» Майорано подхватил спящего часового под мышки и, не давая тому проснуться, спихнул в воду.
— А-а-а! — тут же заголосил он. — Салваторе миа! — И как можно тише отпрянул в тень соседнего куста.
Аргир был на этом месте ровно через мгновение. Он наклонился над кромкой берега, глядя, как, размахивая суматошно руками, пытается выплыть несчастный вояка.
— Как бы не так! — оскалил зубы в усмешке Аргир. — На дно ты мог пойти там, у Херсонеса. А здесь ты должен умереть от моей руки! — Он выхватил из-за голенища засапожный нож и прыгнул следом. Ему не впервой было плавать в доспехе, как, впрочем, и любому из палатинов. Это искусство, перенятое у северян-варангов, нередко позволяло им оказываться совсем не там, где ожидал их враг, переправляясь вплавь через реки едва ли не в полном вооружении.
«Нет, ну каков дурак! — глядя, как летит вниз в черную гладь озера яростный гигант, с довольной усмешкой констатировал Майорано. — Пожалуй, надо было ткнуть его мечом, пока он глядел в воду и доставал свой нож. Ну да ничего, и так сойдет. Хорошая получилась шутка. Однако надо спешить! Неровен час, погоня нагрянет». Он, было, повернулся, чтобы уйти, но вдруг внимание его привлек челн, сам собою пересекающий озеро. «А это еще что такое?» — пробормотал он, удивленно застывая на месте.
* * *
Король Англии в недоумении глядел на своего верного Фитц-Алана.
— Скажи, Фитц, это что же, ты такой ослоголовый болван, что решаешь сообщить мне сейчас подобную ерунду или же лягушатники французы нашли где-то толику ума, чтоб ее немедленно лишиться?
Фитц-Алан молча согнулся в поклоне, ему предстояло сообщить новость куда худшую, нежели та, что только сейчас он доложил своему господину. Однако тот был в ярости уже и от первого известия.
— Меня, покровителя церкви и защитника веры, какой-то выскочка аббат именует посланцем дьявола? Да он сам и до посланца не дорос! Он — дерьмо Вельзевула! Люциферова отрыжка! Да как он посмел?
Генрих Боклерк повернулся к столу, ища, что бы запустить в собеседника, но тот предусмотрительно скрылся за толстой колонной, поддерживающей арочный свод. Не найдя ничего достойного монаршьей длани — не кидаться же листами пергамента, заточенными перьями или, подобно школяру, полной чернильницей, — он смахнул все, что находилось на столешнице, и застучал по ней кулаками.
— Куда смотрит этот недоношенный римский шакал, которому мы посылаем десятую часть от доходов нашей церкви?! Почему его лакеи осмеливаются объявлять мне крестовый поход?
— Мой государь, — скосив глаза из-за колонны, проговорил Фитц-Алан, — это какие-то сумасшедшие. Там всего около дюжины рыцарей, аббат Бернар и толпа черни.
— Ты это уже говорил, мошенник! — хмуро огрызнулся Боклерк. — Ты уже сказал, что они прибыли на одном корабле, который сопровождало множество рыбачьих лодок и только что не бревен, на которых плыли какие-то нищие, желающие поживиться моим добром. Почему их не утопили?
— Видите ли, мой лорд, — вновь прячась от неласкового взгляда гневливого властителя, сокрушенно вздохнул королевский секретарь, — когда ваши корабли уже намеревались выйти из гавани, вдруг среди бела дня обрушилась старая башня. Говорят, ее построили еще при Эдуарде Исповеднике, и она была совсем ветхая.
— Дьявольщина! — выругался Боклерк. — И они, конечно же, сочли это дурным предзнаменованием!
— Каменные обломки загородили выход из гавани, — вздохнул Фитц-Алан, — но французы как раз сочли это добрым предзнаменованием.
— Проклятие! — рыкнул король. — Ну ничего! Сейчас я разделаюсь с этим недоноском Стефаном и отучу французов верить в предзнаменования! Отпиши коменданту Лондона: если хоть один француз появится на улицах столицы, я прикажу на каждой из них скормить псам по части его тела.
— Прости меня, Господи! — прошептал Фитц-Алан, обдумывая, как бы ему смягчить формулировку послания. — Ибо велики прегрешения мои.
— Ну что ты там спрятался, как крыса? Иди, подбирай свое добро, — уже чуть спокойнее добавил король.
— Повинуюсь, мой государь! — проговорил Фитц-Алан, появляясь из-за колонны, дабы поднять с пола разбросанные перья и заляпанные чернилами листы пергамента.
— Что там ты еще хотел сказать?
— Во дворе замка ждут две дюжины графов и баронов, кои испрашивают аудиенции у вас, мой государь.
— Чего им надо?
— Я не ведаю о том, — покривил душой королевский секретарь, — могу лишь сказать, что отряды сих господ стоят вкруг замка в ожидании возвращения сюзеренов.
— Вот оно как? — Генрих нахмурился, и в тоне его вновь послышалось плохо скрытое рычание. — Что ж, пусть войдут. А ты вели страже быть наготове и еще распорядись, что, когда эти господа очистят двор, пусть будут немедленно заперты ворота и заняты все посты на стенах.
— У нас мало людей для обороны замка, — чуть слышно, не поднимаясь с колен, вскользь напомнил Фитц-Алан.
— …И еще меньше ума! У некоторых его вообще не больше, чем в той чернильнице! — Он кивнул на пустую емкость, сиротливо лежащую на каменном полу. — Не забывай, остолоп, что речь идет о моих верных вассалах! Я не думаю с ними воевать! Главное, чтоб они не вздумали отчего-то воевать со мной. Ну что ты ухватился за эти чертовы перья? Крыльев из них ты себе не смастеришь! А потому шевели ногами, не заставляй лордов, а уж тем паче своего короля ждать!
— Спешу, мой государь! — подхватываясь на ноги, воскликнул Фитц-Алан и немедля бросился к выходу.
Едва он скрылся за дверью, король с натугой, точно под одеянием его таились железные вериги, дотащился до грубого табурета у стола и, рухнув на него, в изнеможении опустил голову в ладони.
— Господи, за что ты караешь меня, Отец Небесный? Пронеси мимо эту чашу! На тебя, Боже, уповаю! — Он закрыл глаза, но даже сквозь опущенные веки и сомкнутые пальцы видел жарко полыхающий в камине огонь. Или же то был не камин…
Тихий кашель прервал его уединенные размышления.
Они стояли перед своим королем. Две дюжины первейших графов и баронов. Две дюжины лиц, храбрых и непреклонных. Две дюжины испытанных воинов, составлявшие гордость королевского войска.
— Вы хотели видеть меня? — поднимаясь с места с юношеской легкостью, улыбнулся Генрих.
— Да, государь, — ответил граф Норфолк, должно быть, избранный остальными в качестве переговорщика.
— Что ж, вот и увидели. — Король подошел к грозному воину и обнял его за плечи. — Дружище, я тоже чертовски рад видеть моих старых и верных соратников! Надеюсь, вы пришли сказать, что отставшие хвосты уже наконец подтянулись и мы снова можем выступить в путь.
— Да, мой государь. Отставшие из-за дождей отряды уже в лагере. И мы, пожалуй, могли бы выступать к Уэльсу.
— Могли бы? Норфолк, ты сказал «могли бы»? Я не ослышался? Кто же мешает тебе и всем моим славным баронам повиноваться королевской воле?
— Мой государь, я пришел объявить о том, что срок, в течении которого мы по закону обязаны стоять под твоими знаменами, истек. И я, и мои собратья намерены теперь же отправляться в свои замки, дабы, как и предписывает обычай, верой и правдой служить тебе в наших землях, охраняя мир и покой в королевстве.
Король пронзил боевого товарища долгим тоскливым взглядом, точно чья-то безжалостная рука тащила из его сердца зазубренную, подобно гарпуну, занозу.
— Продолжай, Норфолк. Я слушаю тебя.
— Поход к границам Скоттии не принес ни славы, ни добычи. Мы уже вынуждены сократить выделяемое людям пропитание. И кто знает, не является ли валлийский след очередной уловкой принца Стефана. Мы слышали, войско французов высадилось…
— Не войско, так, шайка сумасшедших и бездельников, возомнивших себя крестоносцами.
— Мы не можем, подобно затравленной лисе, носиться из конца в конец Британии, подвергая разорению не только себя, но и все королевство.
— Что же ты предлагаешь, Норфолк?
— Если французы, — начал граф, — столь немногочисленны, вы без труда разобьете их силами рыцарей короны. Что же касается Уэльса, нам следует ждать, пока там не появится что-либо определенное.
— Тебя ли я слышу, дружище Норфолк? Ждать, пока… что-то определенное… Ты постарел! В прежние времена ты бы не стал говорить мне нелепости, граничащие с изменой.
— Я бы счел изменником себя и моих соратников, когда бы сейчас просил моего короля заплатить полновесным золотом за продолжение столь неосмотрительного похода в Уэльс. Я знаю, что казна пуста. Если не считать вашей короны, в ней — лишь долговые расписки.
— Да, ты прав, верный Норфолк. У меня осталась лишь корона. — Генрих Боклерк подошел к одной из узких бойниц, прорезавших каменную толщу башни, и выглянул во двор. Лучники у зубчатого крепостного парапета замерли со стрелами на тетивах в ожидании приказа. — Ты прав, Норфолк, как всегда, прав. Но! — Печальный глас короля внезапно окреп и зазвенел привычной сталью. — Корона все еще у меня. А потому будет так. Либо вы повинуетесь мне и я даю вам королевское слово, что вы получите и славу, и золото, и мое забвение нынешней вашей дурацкой выходки, и мы, обнявшись, как подобает верным друзьям, пойдем и задавим этого гаденыша, по Божьему недосмотру моего племянника. Либо… — Генрих Боклерк улыбнулся, — у каждого из вас по нескольку оруженосцев. И когда ваши головы будут красоваться на зубцах крепостной стены, я сделаю тех из них, кто продемонстрирует мне свою верность, баронами и графами вместо вас. Они еще не отбыли в этом году своей рыцарской службы.
— Ты не посмеешь сделать этого, Генрих, — нахмурился граф Норфолк.
— Дружище!.. Погляди-ка туда. И вы, господа, поглядите. — Он указал собравшимся на бойницу. — А теперь поглядите сюда. — Король хлопнул в ладоши, и толпа стражников вломилась в залу. — Я сделаю это, Норфолк. Ибо корона, как ты правильно заметил, все еще моя. И только Господь и я ведаем, как ею распорядиться! Итак, — король отыскал взглядом висевшее на стене распятие, — те из вас, кто готов и далее следовать за мной, клянитесь на этом распятии Господу и мне в незыблемой верности. Остальным же в знак признания их прежних заслуг я дарую право назвать своих преемников. Но дабы не умножать и без того пролитой крови, прошу вас назвать тех, кто пойдет за мной. А теперь, господа благородные рыцари, поторопитесь сделать выбор. У нас мало времени.
— Клянусь, — после короткой паузы хрипло выдохнул граф Норфолк.
— Клянусь! Клянусь! Клянусь! — вторили ему прочие голоса.
— Ну вот и славно! — Генрих Боклерк расплылся в улыбке. — Я знал, что могу вам доверять. А теперь пусть трубачи сигналят команду «Сбор». Мы выступаем.
— Кажется, обошлось, — перекрестился стоявший за дверью Фитц-Алан. Он пропустил мимо хмурого как ноябрьское утро Норфолка, но и тот вынужден был прижаться к стене, дабы не столкнуться со взмыленным гонцом, несущимся вверх по винтовой лестнице замковой башни, точно заяц от борзой.
— Срочно! Срочно! К королю! — кричал посланец в полубессознательном состоянии. — Меня и так задержали в воротах! Срочно!
— Что такое? — Фитц-Алан поймал задыхающегося гонца, и тот бессильно обмяк у него на руках.
— Я скакал трое суток, — выдавил он почти без сил, — свеи и русы высадились в Йорке. Много! Больше тысячи кораблей.
* * *
В своей долгой жизни Анджело Майорано повидал всякое. Он видел, как люди ездят на огромных серых тварях с кривыми клыками, как у вепря, но только куда больше, и змеей вместо носа. Видел летучие копья, испускающие пламень и пронзающие коня вместе со всадником за добрую сотню шагов…
Но такого, как сейчас, ему не доводилось ни видеть, ни слышать. Мстислав во главе дружины под развевающимся стягом уходил невесть куда в расступившиеся воды столь уверенно и спокойно, будто всякий день ходил этакой необычной дорогой.
— Что ж происходит-то? — под нос себе бормотал капитан «Шершня», вглядываясь в освещенную неведомым подводным сиянием даль. — Это ж как же такое быть только может? Ба! А вот это, кажется, и сама госпожа Никотея за Мстиславом отправилась! Точно она, кому же еще… вон и персиянка при ней. И, кажется, граф с менестрелем…
— Ну вот и все! — послышался за спиной Мултазим Иблиса насмешливый голос Симеона Гавраса, и в бармицу шлема уперлось острие меча.
Майорано, отпрянув, развернулся. Сопротивление было бессмысленно. За спиной турмарха ясно вырисовывались силуэты одоспешенных херсонитов. Позади же дона Анджело был лишь обрыв, хотя и довольно высокий.
— Положите оружие, и я пощажу вам жизнь.
Майорано невольно усмехнулся. Среди всех пород врагов Симеон Гаврас принадлежал к самой им любимой, отчего-то вдруг вбившей себе в голову, что благородству есть место на войне.
— О да, конечно, достойный господин! — Анджело Майорано изысканно поклонился и протянул свое оружие рукоятью вперед. — Отчего вы решили, что я намерен сражаться с вами? Все, что я должен был сделать, уже сделано. Теперь, мой господин, самое время возвращаться домой.
— Не пытайся меня обмануть, негодяй. Ты — хитрая бестия, но меня тебе вокруг пальца не обвести.
— И в мыслях не было ничего подобного! Взгляните туда! — Анджело Майорано указал рукой в сторону расступившихся вод озера, куда неспешным шагом направлялись возы Мстиславова обоза. — Да вы не бойтесь, я не убегу. Мне здесь некуда бежать. Разве что последовать за вашим старым приятелем Аргиром.
— Что?!
— Пока вы там ловили меня, достойный сеньор Гаврас, мы с Михаилом Аргиром сошлись тут в последней для него схватке.
— Ты врешь, наглец!
— Ну зачем вы так? Поглядите сами — здесь мы боролись, а вон следы на песке. Кто еще мог оставить вмятины такой величины? Он рухнул в воду.
— Наглец! Я знаю Аргира уже несколько лет. Он умеет плавать в доспехе.
— Возможно. Но сегодня с водой в этом озере происходит что-то очень непонятное. Да вы смотрите, смотрите! Гляньте туда!
Спутники турмарха, повинуясь его приказу, обступили пленника. Симеон перевел взгляд, но было уже поздно. Последний воз прокатился дорогой в бездну, даже походная молельня с обгорелой крышей последовала тем же путем, и на глазах у Симеона Гавраса волны сошлись, будто и не бывало здесь иного пути, кроме как по глади вод.
— Теперь сеньор Гаврас верит моим словам?
— Тот обманется, кто тебе поверит!
— О, святой Эржен, проясняющий мысли безумцев! Пошли толику здравого смысла сему достойному воину! — Венецианец демонстративно воздел руки к небу. — Сеньор Гаврас! Я повторяю вам то, что пытался сказать там, на берегу Днепра. Я представляю здесь Бюро Варваров. Вы же знаете, что такое Бюро Варваров.
— Ты лжец! Ты искал моей гибели.
— Что за бред? Если бы я искал вашей гибели, я заколол бы вас спящим еще по дороге в столицу русов, когда вы еще ни сном ни духом не подозревали обо мне. Говорю вам, я послан убить Мстислава, если он паче чаяния пожелает идти войной на Константинополь. Теперь достоверно известно, что князь не пойдет войной на Константинов град. Бес его знает, что увлекло их всех под воду, но поверьте мне, старому морскому волку, оттуда обратного пути нет.
А потому умоляю вас, нам следует скорейшим образом возвращаться в Херсонес. Мне велели вернуть вас еще там, в Киеве. Отец крайне недоволен вашим отъездом. Если бы все сложилось так, как я задумал там, у Борисфеновых круч, вас бы просто-напросто сопроводили с эскортом на родину, как возмутителя спокойствия в столице русов. И вы бы никоим образом не отправились в этот дурацкий поход.
Нынче, славнейший турмарх, нам следует уносить ноги подобру-поздорову еще быстрее, нежели там, в Киеве. Ибо сейчас в озере — Великий князь Владимир и его сын Мстислав. Святослав же с его людьми отчего-то остался на берегу. Когда поутру они проснутся, наверняка захотят узнать, куда пропали их родные и соплеменники. У русов на подобные вопросы один ответ: измена и вероломство. А кому здесь выгодно исчезновение государя русов и его наследника?
Симеон нахмурился.
— То-то же, — усмехнулся Майорано. — У нас есть время до утра, чтобы скрыться. Не следует его терять.
— Тогда они и подавно заподозрят нас в измене.
— Ничуть. Мы исчезнем, как и многие другие. Кто узнает, куда мы подевались?
— И все же я тебе не верю.
— Ну что ж. Есть два пути. Либо я, как посланец Бюро Варваров, доставлю вас к жаждущему встречи отцу, либо вы, когда мои слова не убедили сеньора, можете доставить пленника катаскопоям, чтобы услышать подтверждение того, что я вам нынче рассказал. Решайте!
— Надо предупредить Никотею.
— Не стоит, — мотнул головой Майорано. — Она тоже там.
— Что?!
— Я видел, как она уходила под воду вслед за Мстиславом. О, Святой Эржен!..
Не дослушав его, Симеон Гаврас сорвался с места и что есть силы помчал обратно в лагерь.
— Ну что вы застыли? — тут же перехватывая инициативу, взревел Анджело Майорано, обращаясь к оторопевшим стражам. — Я не собираюсь убегать, мне нужно в Херсонес. Скорее за ним! Он же утопится!
Они нашли Симеона Гавраса сидящим на берегу, обхватив колени, в отчаянии глядящим на озеро, чуть светлеющее в предвкушении восхода солнца. Вода стекала с него ручьем, образуя лужу, быстро впитывающуюся в песок. По всему было видно, что он нырял, и не раз. Турмарх сидел, бессмысленно глядя перед собой и, кажется, не замечая приближения Анджело и воинов своего эскорта.
— Ну, давайте же, не медлите! — скомандовал Майорано. — Вы же видите, он не в себе! Следует уходить как можно скорее — берите его под руки, и вперед!
Глава 27
Вы думаете, все так просто?
Да, все просто. Но совсем не так.
Отряд Стефана Блуаского продолжал стремительный марш к Уэльсу. Обширные пустоши и малоезжие леса, по которым шло его немногочисленное войско, слабо подходили для прокорма даже и его одного. Граница Уэльса была уже совсем близка, но голод и усталость валили с ног обессиленных латников, заставляя осунувшегося, но оттого не менее яростного принца Стефана подгонять людей грозными окриками, порою даже и ударами меча плашмя по спине.
Крестьяне, довольно быстро сообразившие, куда рвется кровожадный душегуб, от греха подальше норовили убраться из своих домов и, главное, угнать скот, полагаясь на Божью милость и собственное умение прятаться. Посланные графом Блуаским фуражиры всякий раз возвращались ни с чем. Однако в этот день удача довольно криво, но все же улыбнулась претенденту на английский престол.
Подобранные им по дороге наемники, демонстрируя воистину непревзойденное мародерское чутье, пригнали откуда-то целый воз, груженный солеными окороками и бочонками с дешевым вином для какого-то трактира.
Обрадованный трофеем, принц Стефан хотел было все же продолжать движение, но с началом сумерек тихий ропот в отряде перерос в открытое возмущение и скрепя сердце гордый внук Завоевателя был вынужден отдать приказ о привале, не дойдя какого-то десятка миль до границы с Уэльсом.
Спустя час лагерь радостно шумел, теснясь у костров и возбужденно обсуждая что, кто и в какой компании будет есть и пить очень скоро, когда принц Стефан наконец станет королем. Однако соленый окорок требовал залить жар в горле, а приправленное селитрой вино, хотя на краткий миг и горячило кровь, но валило с ног не хуже, чем удар палицы.
— Это была хорошая мысль, устроить пирушку для оголодавших стервятников, — глядя на бывшего торговца шерстью, ухмыльнулся Гринрой.
— Ну так ясное дело! Я уже сколько раз здесь езжу. Жрать тут нечего, хоть самому трактир открывай, да только и ездят тут кто-никто.
— О своих планах позже мне расскажешь, пока послушай о моих. Возле шатра императрицы пять человек стражи. Стефан велел их накормить, но вина не дал. Возьми парней, бочонок мальвазии и отправляйся к шатру. Если удастся, смени их, пусть себе идут пить со всеми. Ежели нет — напои там. А когда и это не получится — болтай с ними без умолку о чем угодно, только отвлеки их внимание, чтобы я мог поговорить с госпожой. Сможешь?
— Плох тот торговец, который не сможет всучить приговоренному висельнику хорошую пеньковую веревку по достойной цене!
Как и подозревал Гринрой, уйти с поста без приказа часовые, злые от неучастия в общем веселье, отказались. Ибо, сколь ни велико было кипевшее в их душах негодование на злую судьбу, доброго принца Стефана они боялись куда больше. Но отогнать самозваных компаньонов оказалось делом столь же трудным, как, отрицательно мотая головой, стряхнуть вцепившегося в горло мастиффа.
Очень скоро в торге участвовала вся стража, с нескрываемым вожделением глядящая на увесистый бочонок с дармовым вином. Гринрой с радостью бы еще полюбовался длившимся представлением, но времени было мало. Стараясь шуметь как можно меньше, он взрезал ткань шатра у самого пола и ползком, точно змея, проскользнул в образовавшуюся щель.
— Тихо! — шикнул он на служанок, заметивших в полутьме невесть откуда взявшегося мужчину. — Вы не куры, а я не хорек.
— Тихо! — величаво повторила Матильда, изучающим взглядом смерив гостя. — Я знаю этого человека.
— О, моя госпожа, я польщен, что вы помните недостойного слугу…
— Недостойного слугу недостойного господина, — тихо произнесла вдовствующая императрица. — Что привело тебя сюда, Гринрой?
— Ну вот, я прошел столько опасностей, чтобы найти вас…
— Я прошла не менее твоего. И отнюдь не по доброй воле.
— Да?! — не удержался от усмешки Гринрой. — А то я уж было подумал…
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Мой господин, доблестнейший герцог Конрад, узнав о вашем бедственном положении, послал меня освободить вас.
— Послал тебя с горсткой наемников против армии Стефана Блуаского?
— Ну, на самом деле он послал одного меня.
Матильда смерила незваного гостя долгим изучающим взором, пытаясь догадаться, зачем же на самом деле Конрад Швабский прислал сюда своего прохвоста-оруженосца. После услышанного недавно о друге своего детства, она могла предположить самое худшее. Однако ловкий прощелыга, кажется, вовсе не думал предпринимать что-либо против нее. «Вероятно, это какая-то новая западня, — подумала Матильда, — какая-то хитрость, уразуметь которую мне пока не под силу».
— Моя госпожа! — между тем тихо проговорил Гринрой. — Сейчас лучшее время бежать. Впереди граница Уэльса, и если вы попадете туда, то, быть может, и войска не хватит, чтобы разыскать вас и освободить. Сейчас почти все в лагере перепились. Мы сможем тихо скрыться.
«Нет, это не может быть правдой, — думала Матильда, — это, конечно же, обман. Снова коварство и гнусные расчеты, в которых на меня смотрят как на деревянную фигуру, которой надлежит двигаться по клеткам доски определенным образом, выполняя прихоти игроков».
— Поторопитесь же, моя госпожа! Ночь безлунна, в лагере пьяны, но Стефан может вас хватиться в любую минуту.
— К чему торопиться? Я не пойду с тобой, Гринрой.
— Что? Я не ослышался? Вы желаете остаться в руках этого взбесившегося пса?
— Не забывайтесь. Он мой родственник, — нахмурилась императрица. — Нет, я вовсе не хочу находиться здесь, и уж конечно, не желаю служить планам Стефана Блуаского. Но изволь понять. Я не верю тебе, Гринрой, и не верю более твоему господину.
— Конраду? С чего это вдруг?
— Он предал меня.
— Господи! Он — предал? Да что вы такое говорите? Он влюблен в вас, как школяр в жену наставника! Оттого и пускается на всякие безумства!
— Он предал меня, и я ему не верю, — очень тихо и очень спокойно проговорила дочь Генриха Боклерка.
— Вы это серьезно? — осекся Гринрой. — Вот оно как бывает. И что ж вы мне прикажете делать по этому поводу?
— Я прикажу тебе незамедлительно вернуться к герцогу Конраду, рассказать ему о том, чему ты был свидетелем, и сказать, что я передаю судьбу свою в руки Господа. И что горше всех остальных терзаний, выпавших на мою долю, то низкое коварство, которое мне довелось испытать от человека, коего я с детских лет называла своим другом.
— И вот эти вот все слова я должен передать герцогу? — обескураженно переспросил лженаемник.
— Да. И чем скорее, тем лучше. А сейчас, Гринрой, покинь меня. Я намерена отойти ко сну.
— Государыня, скажите, что вы шутите!
— О нет, никоим образом. Ступай.
Не в силах еще прийти в себя от удивления, Гринрой скользнул в проделанный лаз, силясь хотя бы задним умом найти слова для увещевания императрицы. Столько трудностей, столько опасностей, столько ловкости и хитрости и… все зря?! Нет, этого просто не может быть! Ну, потому, что не может быть никогда!
— Ну что? — подскочил к нему один из соратников. — Где она? Кони наготове.
— Оставайтесь здесь, — чуть слышно скомандовал Гринрой. — Берегите ее, как зеницу ока. А я… Я постараюсь найти ее отца. Вот же ж упрямая порода!
* * *
Сжимая в руке засапожный нож, Михаил Аргир широкими гребками выталкивал свое мощное тело все ближе и ближе к барахтающейся у берега жертве. Он почти настиг ее, когда та как-то нелепо вдруг сразу исчезла из вида. «Так не тонут», — едва успел подумать Аргир, но внезапно почувствовал, как что-то, подобно железному обручу, смыкается вокруг его ног, обвивает тело по пояс и тащит за собой.
Он попытался вывернуться и полоснуть ножом по неведомой бестии, однако не тут-то было. Сквозь водную толщу на его локоть обрушился удар такой силы, что засапожник попросту вылетел из крепкой, будто тиски, руки ромея и камнем пошел на дно. Аргир напрягся, стараясь удержать в груди как можно больше остававшегося там воздуха, и снова дернул. Никакого результата.
Он уже видел темное, длинное, будто змеиное тело рядом с собой и приготовился вскоре увидеть огромную пасть, чтоб хоть напоследок ткнуть в нее кулаком или вцепиться зубами. Но пасть так и не показалась. Вместо этого лица топотирита палатинов коснулись длинные, непонятным образом сухие пальцы и с силой, будто пытаясь раздавить ему голову как орех, сжали подвернувшуюся добычу. Аргир мотнул головой, вырвался, выдохнул, попытался перехватить обидчику запястье, и только сейчас заметил, что дышит под водой. Пусть и с трудом, тяжело, точно втягивая воздух через забитый простудой нос, но дышит!
Змеиные кольца разжались, не отпуская окончательно, но теперь лишь направляя движения пленника. Он удивленно огляделся, пытаясь хоть как-то совместить то, что происходило вокруг, с тем, что он когда-либо видел или слышал. Ничего подобного ни наблюдать, ни хоть отдаленно представлять себе ему не доводилось.
Между тем диковинное плавание стремительно заканчивалось. Перед собою Аргир видел крепостные башни, такие, как ему уже доводилось встречать у попадавшихся на пути городов. Ворота в одной из башен были открыты, к ним вела дорога. Казалось, что она совершенно, то есть абсолютно сухая, как будто многие недели на нее не пролилось ни единой капли.
«Что за небывальщина?» — едва успел подумать ромей. В этот миг кольца мягко скользнули по нему, окончательно опадая, и длинный хвост неуловимо легким движением будто подтолкнул его на эту самую дорогу. Михаил Аргир почувствовал под ногами твердую почву, выпрямился в полный рост и, все еще не веря своим ощущениям, осознал, что может абсолютно спокойно ступать по мощенному гладким камнем тракту.
Он удивленно оглянулся. Длиннохвостые существа с отчетливо и недвусмысленно обозначенными руками и человеческой головой скользили в воде совсем рядом, не предпринимая ни малейшей попытки атаковать.
«Что здесь происходит? — недоуменно озираясь, подумал он, и вдруг его пронзила острая, точно раскаленная игла, мысль. — Сейчас ворота закроют, колдовство развеется, и вода затопит все и вся». Он попробовал было развернуться в ту сторону, где, по его предположению, находился берег, туда, куда вела мощеная дорога, но вдруг поймал на себе взгляд одного из плывущих рядом существ и с ужасом осознал, что не в силах повернуться. Ноги точно корнями вросли в камень.
«Они от меня чего-то хотят», — хмуро догадался Михаил Аргир и сделал шаг к воротам. Ноги вновь слушались, как и прежде, ничего не затрудняло его пружинистую львиную походку. «Колдовство!» — прошептал топотирит палатинов, но пошел, ускоряя шаг. Ворота закрылись за ним, точно лишь того и ожидая. Мимо проплывали, словно птицы по воздуху, змеехвостые существа, впереди толпились дружинники, над головой светлело серовато-голубое, или вернее голубовато-серое, небо.
Кажется, сейчас никто не обращал внимания на появление чужака. Стараясь не привлекать его и дальше, он приблизился к толпе воинов, заполнявшей площадь, должно быть, некогда служившую местом проведения ярмарки. Посреди нее парило одно из хвостатых исчадий и, довольно странно артикулируя, произносило что-то, занимавшее все без остатка внимание прочих, здесь присутствующих.
— …И вот, когда мы поверили его словам и весь город ушел под воду, спасаясь тем самым от злого врага и рождаясь для новой жизни…
«Что за нелепица?» — под нос себе пробормотал Аргир, но вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, склонил голову и поспешил смешаться с толпой.
* * *
Джордж Баренс огляделся и с невольным удивлением осознал, что имеет возможность оглядеться. Это было немного, и все же, по сути, являлось единственной радостью в сложившейся, точно карточный домик, ситуации. Вокруг была темнота, и человеческий глаз не улавливал ровным счетом ничего.
Какое-то звериное чутье, почти атрофировавшееся у современного городского жителя, заставляло предполагать близость иного существа, ощущать движение и тяжесть чужого взгляда. Лорд Баренс ощупал себя, стараясь сделать это незаметно, хотя и не совсем осознавал, от кого он таится. Руки, ноги, голова были на месте, и, судя по ощущениям, он не спит.
— Где это я? — не ожидая ответа на вопрос, лишь желая развеять окружавшую его тишину, проговорил он вслух.
— Здесь, — коротко раздалось в ответ.
— С кем я разговариваю?
— С тем, с кем хотел говорить.
В темноте зажглись два ярко-желтых глаза с почти круглыми черными точками зрачков.
— О черт! — пробормотал Баренс.
— Я не черт, уж во всяком случае, не то, что вы под этим подразумеваете. Я Андай из рода Атримпов. А вот ты кто?
— Меня зовут Георгий Варнац. Я — монах из ромейской земли и оказался здесь не по своей воле.
— Оказался ты здесь по моей воле, это верно. Все остальное — ложь. Ты не монах, не ромей и даже не Георгий Варнац. Если бы вдруг у меня были сомнения по этому поводу, я бы все равно пришел к такому умозаключению, наблюдая за тобой мгновение назад.
— Это еще почему? — досадливо поинтересовался Баренс, по спокойному, уверенному тону говорившего догадавшись, что у Андая нет и тени сомнения в правоте своих слов.
— Очутившись в непроглядной тьме, монах стал бы призывать на помощь Господа, увидев же мои глаза — так и подавно рухнул бы на колени и стал сотрясать воздух своими дурацкими причитаниями-молитвами.
— В недавнем прошлом я был воином, — попробовал было выстроить линию защиты лорд Баренс.
— Вот это правда. Но ты был воином не здесь. А еще, бывший воин, ты и твои соратники искали меня. Вот я здесь. Говори же, что тебе нужно.
— Ты… Мимир?
— Я Андай. Из рода Атримпов, — вновь повторил хозяин положения. — Но то, что вы называли головой Мимира, — тоже я. Может, теперь, Джордж Баренс, ты назовешь свое имя?
— Джордж Баренс, — обескураженно повторил стационарный агент Института.
— Вот так-то лучше. А то складывается впечатление, что на мою искренность хотят ответить низкой ложью. Это глупо. Ни у тебя, ни у кого-либо другого это попросту не выйдет. И поверь, я вполне бы мог обойтись без твоего участия в нашей беседе. И уж если предлагаю тебе такую форму общения, то не столько для того, чтоб узнать твои мысли, сколько для того, чтоб передать тебе свои.
— Мне?
— Вам. Тебе и тем, кто стоит за тобой. Неужели это неясно? Итак, Джордж Баренс, или, если тебе удобней, Георгий Варнац, ты не числишься среди живых этого мира. Откуда ты?
— Из другого мира, — вздохнул лорд Баренс.
— Уже хорошо. Но ты и сейчас находишься в другом мире. Не совсем в том, из которого исчез.
— То есть как?
— У вас это, кажется, именуется четвертым измерением. То есть ты находишься не совсем там, где стоял, и уж точно совсем не тогда.
— Понятно, — вздохнул агент Института.
— Я очень на это надеялся. А теперь объясни мне, из какого мира пришел ты и для чего тебе понадобилась голова Мимира.
— Я — сотрудник Института экспериментальной истории, — стараясь не отводить взгляда от сияющих во тьме глаз, произнес Джордж Баренс. — Наша цивилизация ушла на десять веков вперед, и мы несколько корректируем ход истории в сопредельных мирах, чтобы не допустить энергетического коллапса и сопутствующих ему катастроф, возникающих при орбитемпоральных связях. Представляете? Это как в системе сообщающихся сосудов…
— Здесь аукнется, там откликнется, — прокомментировал Андай.
— Да, именно так. Видите ли, та негативная энергия, которая аккумулируется в этом мире или же каком-нибудь ином сопредельном, она легко попадает в соседние миры, вызывает там глобальные возмущения…
— И потому вы считаете себя вправе приходить к ним, в их дом, и навязывать им свои порядки?
— Мы не навязываем. Мы лишь чуть подправляем. К тому же мы делаем это таким образом, что живущие в этом мире не подозревают о нашем присутствии. Вы — исключение из правил.
— Да, — не мигая, подтвердил Андай. — Но мне не нравятся ваши правила. У этого мира — своя история. Хороша она или плоха, но такова, какова есть. И я не вижу оснований менять ее ради того, чтобы вам было спокойней.
— Если в городе неразумные дети, играя с огнем, рискуют поджечь свой дом, неужели же тот, кто понимает это и имеет такую возможность, не должен остановить шалунов-поджигателей?
— Это их дом. Их опыт. И если его не будет, дети вырастут и сожгут свое жилище.
— Но ведь пожар может охватить не только обиталище поджигателей, но и все окрестные дома.
— Пусть соседи держат песок и воду наготове, — отрезал Андай из рода Атримпов. — В любом случае, зачем вы, иномирцы, желали отыскать меня?
— Честно говоря, мы предполагали, что вы — тоже иномирец, — сознался лорд Баренс, — а потому хотели выяснить, что за планы вы строите, давая советы владыкам этого мира.
Джорджу Баренсу показалось, что существо, с которым он уже столь долго ведет беседу, впервые с ее начала усмехнулось.
— Забавно! — подтвердил его предположение собеседник. — Ну что ж, сейчас вы достигли своей цели. Вы знаете, что я — часть этого мира и живу, в отличие от вас, в своем доме. Если желаете, я могу ответить на ваши вопросы, но потом вам надлежит исчезнуть из нашего дома насколько можно быстро и передать тем у вас, кто принимает решения, что, если вы сюда вернетесь еще когда-либо, вам не будут рады.
— Но… как я могу узнать, что вы и впрямь часть этого мира?
— Что ж, это первый вопрос. Здесь надлежит поведать все по порядку. Ты знаешь, кто такие Атримпы?
— Если память мне не изменяет, так назывался бог рек, озер, морей и прочих водоемов у славян. Он имел диковинный вид — змея с человеческой головой…
— Верно, — с заметным удовольствием подтвердил представитель рода, и тьма, в которую был погружен собеседник до сего момента, в тот же миг начала рассеиваться, точно утренний туман, унесенный поднявшимся вдруг ветром.
— Матерь Божья! — прошептал Джордж Баренс, наблюдая, как проступает из темноты огромный змеиный хвост, плавно, без всяких конечностей переходящий в человеческую голову.
— В этом одно только не правильно. Я отнюдь не бог. И, чтобы сразу развеять ваши предположения, вовсе не дьявол, шайтан, или уж как вы там пожелаете назвать воплощение сил зла.
— А кто же?
Андай вздохнул, словно досадуя, что ему приходится в который раз пересказывать азбучные истины.
— У нас говорят, что когда Творец первоначальности создавал мир, он сам не ведал, какую часть его населить разумными существами — воздух, землю или же воду. И потому, желая посмотреть, как будет лучше, он населил все три части мира созданиями одного рода. Их звали Ангел, Ангдам и Ангус. Те, что обитали в небесах, могли летать, как птицы. Те, что жили на земле, — ходили, бегали, карабкались по деревьям и скалам. Мы же обитаем в воде и счастливы этим.
— Однако, насколько можно понять, человеку ваш Творец дал меньше всех. Уж во всяком случае, он не удосужился научить его перемещаться в четвертом измерении.
— Он не удосужился научить их летать и плавать, — резко проговорил Андай. — А вот с четвертым измерением у человека все было хорошо. Он сам отказался от него, считая чем-то опасным и, как это ни удивительно, богопротивным.
— Почему же удивительно?
— Потому что все людские пророки, все ясновидящие используют это самое четвертое измерение столь же естественно, как дышат. Впрочем, для справедливости должен заметить, что и все маги тоже его используют, на тех же самых основаниях. Но мы отвлеклись. Тебе, конечно же, известна легенда о том, что коварный змий в райском саду убедил праматерь и праотца рода человеческого отведать яблоко познания добра и зла, за что те были изгнаны и вынуждены в поте лица добывать себе пищу.
— Конечно, — кивнул Баренс.
— Ты, несомненно, понимаешь, что обычный змей шипением мог лишь испугать Еву, но уж никак не убедить.
— Да. Я думаю, да.
— В этой глупой байке не много правды. Она придумана нашими крылатыми собратьями совсем не для того, чтоб рассказать, как на самом деле все обстояло.
— Я полагал, что история с райским садом и яблоком — вообще плод фантазии.
— Непоследовательно для человека, выдающего себя за служителя наших крылатых собратьев. Но, впрочем, ты прав. Плод фантазии, пожалуй, единственный плод, который отведали ходящие по земле в тот день, когда мой предок, Атримп, явился перед ними.
Здесь сказалась разница, как бы так поточней выразиться, мироощущения. Крылатые восприняли сам факт парения над землей, как неоспоримый знак близости к Господу.
Никто и никогда не видел Предвечного Творца. Неведомо, существует ли он вообще в зримом образе, лично я полагаю, что это — кипящая пустота.
Но крылатые не утруждались осознанием неведомого, они создали нового бога, который вручил им этот мир и дал человека в качестве послушного, хотя и неразумного слуги. Мы же полагали совсем по-иному. Мы видели в людях собратьев, живущих на суше, и потому охотно делились своими познаниями.
Так уж вышло, что ходящие по земле, живя в том, что именовалось «райские кущи», не ведали отказа ни в чем и жили себе, положением своим мало чем отличаясь от диких зверей. Но они, впрочем, как и мы, как и крылатые, были любознательны. Крылатые понимали, что всякая крупица знания, полученная человеком, на эту самую крупицу приближает оного к детям света, как они себя изволили величать. Естественно, они не желали этого. И, естественно, вовсе не были рады тому, что мы стоим на их пути к власти над родом человеческим.
Но устраивать тот гнусный погром, который они стыдливо наименовали изгнанием человека из рая, никто не давал им права! Что же касается нас, то, если вы посмотрите легенды многих и многих народов, то сами увидите, что повсеместно кто-либо из моих родичей обучил людей математике, медицине, астрономии, ремеслам, искусствам и многому-многому другому. И как бы их ни звали: Энки,[72] Номмо,[73] Наги,[74] Кекропс,[75] Фуси и Нюйва,[76] Сем[77] — все они представители нашего рода.
Но так уж повелось среди людей, они быстро перестают ценить то, что у них есть, и всегда стремятся к тому, чего у них нет. Мы научили их плавать очень-очень давно. И они перестали считать это даром. Теперь люди смотрят в небо и мечтают взлететь. Но ангелы никогда не дадут им свои крылья. И потому навсегда останутся великими, таинственными и несущими откровения. Ибо почтение вызывает то, что непонятно.
— Именно поэтому вы придумали чудо с головой, дающей советы? — вопросительно глядя на Андая, поинтересовался Джордж Баренс.
— Ну да. Все именно так и было.
— Но зачем?
— Я и некая часть народа моего все еще сохраняем веру в то, что потомкам Ангуса, нашего прародителя, и Ангдама, прародителя живущих на земле, следует жить в мире и согласии. Только этот путь подобает нам всем.
К сожалению, даже в подводном мире так думают уже немногие. Но посудите сами, человеческая неблагодарность не знает предела. Мы не желаем быть воплощением зла, и мы не являемся таковыми!
Здесь, в водах Светлояр-озера, обитают внуки и правнуки тех, кто населял когда-то град Китеж. Здесь же будет теперь жить и Великий князь Владимир Мономах. И по человеческим меркам он будет жить практически вечно. Но если не показать людям как можно более убедительно, что такой мир возможен, род человеческий так и не поверит в столь очевидные истины. Надеюсь, Джордж Баренс, я ответил на твой вопрос.
— Да, — склонил голову агент.
— И ты донесешь мои слова до тех, кто послал тебя сюда?
— Обязательно, слово в слово.
— Вот и хорошо.
— Но я не могу обещать, что Институт не пришлет сюда новые группы.
— А вот это дурно. Нам здесь не нужны чужаки. И… вот еще. Покуда мы беседовали, я прочитал все, что хранится в твоей памяти, даже то, что ты сам давным-давно позабыл. Конечно, мне не нужно было знать, что на третьем курсе колледжа ты стащил шлем у полисмена, но там было много о том мире, из которого ты прибыл…
Так вот, покуда я буду жив, я не позволю вам подправлять нашу историю и давать нам советы!
* * *
Князь Святослав, прозванный Удалым, поднял тяжелые веки и уставился на окружающий мир грозными очами, судорожно пытаясь сообразить, где это он находится. Хмурый взгляд выхватил среди прочих соратников, ждущих пробуждения государя, осанистую фигуру кравчего.
— Ну, что стоишь как неживой? Квасу неси! Ковш. — Святослав задумчиво прислушался к ощущениям. — А то и два.
Когда обе емкости были осушены, князь утер белым платом усы и бороду и вновь поглядел на ожидающих его слова бояр и витязей.
— Ох и лютое вино у батюшки вечор подавали, — подпоясывая свежую рубаху, бросил Святослав. — С ног, что арканом, валит.
— Ох и лютое, — повторили в толпе, — что тот аркан.
— А вот знаете, други милые, какой сон мне приснился? — Князь обвел взглядом лица собравшихся. — Будто воды озерные сами собой расступились…
— Когда батюшка ваш в челне поплыл? — нерешительно поинтересовался один из бояр.
— Да! А ты откель знаешь?
— Тот сон нынче все, кто остался, видели.
— Постой! Да что ты такое городишь? Как так все один сон видели? В своем ли ты уме?
— Верно он говорит, надежа-князь. Как есть, все его видели. И как воды расступились, и как Мстислав, братец ваш любезный, в подводный град ушел. А в граде том живут вроде как люди, да только с хвостами змеиными.
— А приняли их там хорошо, — добавил еще кто-то из княжьих гридней, — точно званых гостей.
Святослав отпихнул слугу, протянувшего господину алый с золотой каймой по подолу плащ, и бросился к выходу из шатра.
— Не обессудь, князь-надежа, — удержал его у выхода старый годун, боярин Олег Харвикович, — нет там боле ни батюшки твоего, ни брата.
— Да что ж ты мелешь? — рявкнул Святослав Удалой.
— Хоть как на старика кричи, а нету. Видать, и впрямь в град Китеж ушли.
— Быть того не может!
— Может. Ибо есмь. Должно быть, вещий тот сон был, ангелами небесными посланный. Так что, как ни суди, а с нынешней полуночи ты, надежа-князь, всея Руси государь.
— О, Господи! — Святослав, пошатываясь, не ведая ни что сказать, ни что сделать, подошел к стоявшей у стены шатра лавке и без сил рухнул на нее.
— Ворочаться надо, княже, — присаживаясь рядом и обнимая выученика своего за плечи, проговорил боярин. — Здесь уж ничем не помочь. Божьей волею все без нас произошло. Тебя же Мономахов венец ждет. До Киева путь дальний, поспешать надо.
Святослав Удалой молча кивнул, вспоминая виденный во сне град Китеж и отца своего в окружении хвостатых нелюдей с человечьими руками и головой.
— Ангелам своим заповедаю охранять тебя на путях твоих, — прошептал он и стиснул зубы.
* * *
Воды озера расступились, и Мстислав, ведя в поводу коня, вышел на берег. Следом, храня походный строй, двигалась его дружина.
— Эх, холодна водица тут! — заметил кто-то, зачерпнув ладонью корабликом из озера. — Прям студеная!
— Да что вода! — оборвал разговор Мстислав. — Гляньте-ка, что кругом-то.
— Ишь ты, — оглядываясь в предрассветной дымке, заговорили дружинники. — Горы!
— Так ить не было!
— Целых пять штук!
— Не иначе марево!
— Точно, колдовство!
— Как есть чары!
— Это не чары, — послышался голос чуть в отдалении.
Мстислав резко обернулся и увидел саженях в десяти от себя монаха-василианина, печально сидящего на валуне.
— Сие не колдовство, — повторил он. — Вернее, горы — не колдовство. Это — не Светлояр-озеро. Это Сноудон. Вы в Уэльсе, доблестный княже. Совсем рядом с наследными землями матушки вашей.
Глава 28
Одним — нести на Голгофу крест, другим же — молоток и гвозди.
Король Англии сидел, обхватив голову руками. В ней противно грохотало, и глаза наливались такой бронзовой тяжестью, что казалось, встань он из-за стола, и голова сама собой потянет его к полу. Превозмогая боль, Генрих Боклерк поднял сощуренные глаза, заставляя себя осознать, что пред ним стоит человек, стоит молча и уже давно, опасаясь хоть звуком нарушить королевское молчание.
— Фитц-Алан, мне нужен гонец, — с трудом держа глаза открытыми, требовательно объявил король. — А лучше — три. Найти мне самых ловких и смышленых оруженосцев. Пусть отправляются в Нормандию. Разными дорогами, из разных портов. Напиши каждому из них рескрипт с требованием оказывать моим посланцам всю необходимую помощь.
Пока не поздно, необходимо вызвать подмогу из Руана. Пусть каждый второй воин, находящийся там, нынче же… как только будет получен мой приказ, — поправился король, — отправляется в Англию. Отпиши также де Мерлю, пусть и дальше бунтует против короля Людовика. Обещай ему что угодно, хоть трон Франции в награду, но пусть не прекращает драть перья из хвоста галльского петуха. В нормандском же герцогстве пусть запрутся в пограничных крепостях и держатся против жалкого венценосного обжоры, покуда я не приду на помощь.
— Но… как долго? — делая пометки на грифельной доске, счет нужным уточнить секретарь.
— Фитц-Алан, ты осел, — тихо проговорил, едва только не простонал король. — Я же говорю тебе. Пока я… не приду… им на помощь… Даже если это будет на следующий день после Страшного суда, пусть держатся. Так я хочу, так я велю, пусть доводом моим будет моя воля.
— Я все записал, мой государь.
— Далее. Получившийся отряд я поручаю возглавить графу де Лорану. Рауль — дельный малый и, к счастью, куда более сведущ в атаке, нежели в обороне. Пусть он переправляется на остров, разобьет и скормит рыбам оголтелую шайку этого безмозглого кликуши аббата. Такой подвиг не должен занять у него много времени. А затем пусть идет на Йорк.
Надеюсь, русы со свеями не посмеют тащиться за мной следом, имея на фланге этакую угрозу. Я знаю, де Лоран горяч, и все же отпиши, что я велю ему по возможности не вступать в бой, а лишь создавать угрозу. Пусть он дождется, пока я разгромлю моего недоноска-племянника, и вместе мы обрушимся на чертовых северян.
— Но… мой государь… — нерешительно начал Фитц-Алан, рассматривая наиболее удобные траектории быстрого ухода в укрытие.
— Ну что еще? — простонал Генрих Боклерк. — Ты что же, жабий сын, вздумал меня уморить своими гнусными речами? Пиши, да побыстрее.
— Но, мой государь… — с тоскою повторил Вильям Фитц-Алан. — Есть новости, — негромко произнес он, но королю отчего-то почудилось, будто слова эти отозвались многократным эхом и ударили ему по ушам из всех углов залы.
— М-м-м, — застонал он, — что ты орешь, змеиный выползок? Где твое христианское милосердие? Ты что же, не видишь? — Он осекся, не желая открывать правды даже вернейшему из верных.
— Есть новости, — подходя еще ближе и с тоской оглядываясь на спасительную колонну, повторил королевский наперсник, — плохие новости.
— Надо же, — губы Боклерка сложились в кривой улыбке, — я и забыл давно, что новости бывают хорошими. Давай, святоша, язви меня своим тернием!
— Король Роже… — Фитц-Алан замялся.
— Ну что там? Говори уж, коли начал.
— Король Роже Сицилийский высадился в Нормандии. Его корабли снуют в Английском проливе, точно сельди. Как нынче сообщили, Роже Сицилийский ведет переговоры с Людовиком Толстым.
Генрих Боклерк с усилием поднял веки и безучастно уставился на секретаря. На какой-то миг Фитц-Алану показалось, что он разговаривает с мертвецом. В эту секунду он бы дорого дал за то, чтоб его государь вновь заорал, вскочил, бросил в него первое, что подвернулось бы под руку. Но король сидел неподвижно и глядел, будто бы сквозь него.
В тишине, повисшей в зале, Фитц-Алан слышал, как отстукивает мгновения жизни его сердце. Он чувствовал, как оно колотит в грудную клетку, и понимал, что оно, быть может, торопится отмерить его последний час.
— О чем?.. — едва шевеля губами, проговорил Генрих Боклерк.
— Роже Сицилийский, — с неохотой вновь заговорил секретарь, — урожденный Роже д’Отвилль, как и многие из его соратников, по сути, нормандец.
— Я знаю, — все так же почти шепотом процедил король.
— Он предложил королю Франции сделку. Людовик Толстый признает Роже герцогом Нормандии, тот приносит оммаж[78] и в тот же день уступает герцогство королю за сто двадцать тысяч турских ливров серебром.
— Отвилль… — тихо проговорил король Англии, и в его устах это имя прозвучало куда мрачнее, нежели самое грязное ругательство. — И все из-за какого-то лекаришки… — Он замолчал, в упор глядя на ждущего распоряжений Фитц-Алана.
Тот стоял, не смея проронить ни слова и с душевной скорбью понимая, каково сейчас его королю. Он понимал, что подмоги из Нормандии ждать не приходится. Что-то подсказало ему умолчать о том, что неустрашимый граф де Лоран осажден в замке Фекана, и что, возможно, за время, пока гонец окольными тропами добирался до Британии, а затем и до кочующего по ее просторам короля, крепость уже могла пасть. В конечном итоге, что это меняло? Ждать помощи было неоткуда. И его король, храбрый, мудрый король это понимал. Не мог не понимать.
— Фитц-Алан, — Генрих Боклерк наконец прервал молчание, — если Господь будет милостив, я приду в Нормандию во главе войска и заставлю сицилийского выскочку сожрать его собственные кишки. А заодно с ним и толстяка Луи. Пока же забудь, что я тебе говорил, ничего уже не надо писать. Передай командирам отрядов, что мы выступаем немедля.
— Но, мой государь, — глаза секретаря расширились, — но вы, как же вы?
— Не городи чушь, песий выродок! Ты что же, не уразумел? Мы выступаем! — оборвал его король.
— Я повинуюсь, мой господин. Но… куда?
— О Господи! — удерживаясь за стол рукой, чтоб не упасть, процедил король. — Зачем ты послал мне этого юродивого? Мы выступаем против моего нечестивого ублюдочного племянника Стефана Блуаского, что же тут непонятного?
— Но русы, свеи…
— Если они имеют толику думательного вещества между ушей, то пойдут за нами следом. К несчастью, свеи хорошо знают дороги Британии, а потому нам следует не просто спешить, а лететь, как птица.
— Быть может, следует начать переговоры с русами…
— Фитц-Алан, Господь велик, и быть может, кто-нибудь из твоих потомков тоже станет королем. Вот и оставь ему свои поучения. Нынче мы должны разгромить Стефана. И если после этого я буду все еще жив, верю, что Господь дарует мне силы придумать, как поступить дальше.
* * *
Комендант Джиллингема хмуро глянул сквозь прорезь бойницы на подступающую к городу разношерстную толпу. Среди крестьянских вил и цепов, среди перекованных кос и шипастых дубин виднелось несколько рыцарских значков, развевавшихся на ветру.
— Мразь! — процедил комендант. — Как они могли связаться с этим сбродом? Хотел бы я знать, о чем они думают, пытаясь штурмовать крепость с этаким быдлом!
— Они полагают, что их ведет в бой перст Господень, и ни высокие башни, ни острые стрелы, ни сталь, ни пламень не страшат их. Как говорит их предводитель, «когда Господь не хранит стены, напрасно бодрствует стража», — негромко произнес командир лучников, наблюдающий картину приближения вражеского отряда.
— Вот сейчас и посмотрим, что там за персты. — Ухмылка коменданта не предвещала ничего хорошего. — Лучникам изготовиться пустить стрелы! — скомандовал он и повернулся к пожилому рыцарю, стоящему от него по левую руку. — Сэр Томас, пусть твои всадники будут готовы ударить по этим паршивым тварям, как только лучники обратят их в бегство.
— Все будет сделано, милорд, — склонил голову начальник оставленного в крепости небольшого конного отряда.
— Милорд! — Командир лучников, из-под ладони наблюдающий действия противника, не отвлекаясь от созерцания, позвал коменданта. — Похоже, они желают вступить с нами в переговоры.
— Мне не о чем с ними переговариваться, — отрезал комендант. — Но им следует выслушать меня. Велите трубить в рог. Пусть твои люди, Майкл, пустят стрелы, да объяви, что те, кто ступит за них хоть шаг, будут убиты.
— Будет исполнено, — склонил голову командир лучников.
— Затем вели кому-нибудь поголосистей прокричать, что тем, кто сейчас, сейчас, а не потом когда-нибудь, — повторил комендант, — сложит оружие, я сохраню жизнь. Те же негодяи и разбойники, что не пожелают воспользоваться моим христианским милосердием, будут развешаны вдоль дороги вместо желудей на окрестных дубах. Да пусть скажет, что это одинаково касается как голодранцев с вилами, так и тех мерзавцев, кто обрядился в броню или же сутану.
— Как вам будет угодно, сэр.
— Поспеши же. Подпусти их на короткую дистанцию так, чтоб они расслышали, какой выбор я им предлагаю. И накрепко запомни, а заодно и расскажи своим парням, что первая нога, заступившая за линию стрел, — сигнал к началу боя. Убивайте всех. И если у святого Петра нынче будет полно работы, это уже не моя вина.
Оперения стрел косо торчали из притоптанной травы, образуя вполне заметную границу. Гуго де Пайен смерил взглядом дистанцию от линии дрожащих на ветру усеченных гусиных перьев и чуть заметно покачал головой.
— Святой отец, — склонился он в седле к стоящему рядом Бернару Клервоскому, — как вы сами видите, крепость не намерена сдаваться. Нам следует отступить и приготовиться к бою. У людей почти нет щитов, нужны хоть плетеные корзины с сеном. Можно использовать захваченные возы, чтобы сделать манталеты.[79] Иначе нас всех перестреляют еще до того, как мы дойдем до куртин.
— …Если же кто-нибудь, — ревел со стены чей-то густой бас, — осмелится заступить за обозначенную черту, смерть да будет ему наказанием!
Бернар Клервоский с сожалением поглядел на родственника.
— Гуго, неужели ты полагаешь, что мы будем штурмовать стены?
— У нас нет ни малейшего шанса взять город осадой.
— Мы войдем в ворота, — ничтоже сумняшеся объявил настоятель Клервоской обители и спокойно шагнул за обозначенную стрелами линию. — За истину страждущие, — возгласил Бернар, неспешно, точно прогулочным шагом направляясь к воротам, — не почтут себя несчастными и не устрашатся врага рода человеческого и слуг его.
— Изогнуть луки, — послышалось со стены. — Пускайте стрелы.
Несколько десятков стрел, со свистом рассекая воздух, помчались в сторону неспешно шагающего аббата. Одна из них вонзилась в дюйме от того места, где только что была его нога, все же прочие пришли в землю в окружности трех ярдов от него, не причинив вреда никому, кроме, пожалуй, подъеденной общинным стадом травы. Прекраснейшие британские лучники, на лету сбивавшие жаворонка, казалось, не в силах были попасть в столь крупную мишень.
— Цельте лучше, косорукие! — послышалось со стены.
Бернар продолжал идти столь же неспешно, казалось, и не замечая грозящей ему смертельной опасности.
Он и вправду не замечал ее. Он почти не видел даже тех ворот, к которым направлял стопы. Все, что было перед ним, — златокудрый ангел в сияющем одеянии, парящий над полем и указующим жестом направляющий шаг верного слуги.
— Ступай, Бернар, — слышалось ему. — Ступай, ибо Господь через тебя явит могущество свое и дарует победу слабейшему, дабы посрамить гордыню мощного. Ступай, Бернар, ибо ничто не сильно пред силой Вышнего. Пусть бы и скрепами железными скованы были те ворота, но распахнутся пред тобою и воинством твоим в единый миг, ибо и стены Иерихонские по слову Божьему пали при звуке труб Иисуса Навина.
— Да узрит каждый, что верность слову Господнему сотворяет чудеса, что нет иной защиты, кроме защиты Божьей… — возвышая голос, уже почти кричал Бернар, а новые стрелы все ложились и ложились, даже и близко не задевая его. — Нет власти кроме как от Бога, — продолжал он, и голос его все креп. Казалось, что даже городские стены содрогаются под раскатами его. — И всяк, кто противится той власти, — еретик, и коли не склонит он выю и не возопит сердцем и душою «Верую!», меч огненный рассечет нечестивца!
Как сокрушил архангел Михаил врага рода человеческого, так и всякий, дерзнувший встать против слова Божьего, против верных служителей его, будет повержен в прах и попран, и сотрется имя его со скрижалей вечности.
— Куда стреляют твои чертовы проходимцы? — схватив за грудки командира лучников, горланил комендант Джиллингема. — Они с трех ярдов в корову не попадут!
— Сэр, но… — Старый лучник ткнул пальцем куда-то за стену. — Это невозможно, сэр.
— Дьяволово отродье!
Внезапная яркая вспышка заставила его бросить обескураженного ветерана и судорожно закрыть ладонями глаза… Слитный рев то ли ужаса, то ли удивления прокатился над округой, и вдруг, не сговариваясь, над стеной и полем зазвучали благословенные слова Мизерере: «Помилуй мя, Господи!»
— Ну что еще? — зарычал комендант, оглядываясь.
Расправив широкие, куда больше орлиных, крыла, в струящихся по ветру белых одеяниях, затмевая солнце сиянием лучезарно гордого лика, над смиренным монахом парил ангел. И щит небесной сини был в его шуйце, и огненный меч пылал в деснице его.
— Знамение! — прохрипел командир лучников, не смея отвести взгляда от грозной фигуры ангела.
— Знать ничего не желаю! — взревел комендант. — Пусть твои люди стреляют по этому проклятому сброду! Гляди, он уже попер на крепость! А со святошей я расправлюсь сам. — Комендант сцепил зубы и упрямо наклонил голову. — Пусть даже бы и все ангелы небесного воинства в этот миг ополчились на меня, но сдать крепость разбойничьей шайке — никогда!
Комендант повернулся было, чтобы спуститься во двор, где ждал его оседланный боевой конь. Но едва положил он руку на крестовину меча, холодная сталь вонзилась ему в горло. Всего лишь мгновение отмерено было старому вояке до того, как смертная мгла заполнила его очи. Последний раз он ошеломленно глянул на командира лучников, выдергивающего кинжал из раны.
— Такова воля Божья, — громогласно объявил тот и, тут же забыв о рухнувшем на каменные плиты мертвеце, крикнул вниз тоном, не допускающим возражений, — открыть ворота! Мы капитулируем.
* * *
Лис был непривычно тих и серьезен. Он ехал шагом рядом с повозкой, на которой восседал княжий толмач, и тихо переговаривался с ним на языке Шекспира.
— Шо, так и сказал, шо если мы сюда опять сунемся, он нам бестолковки пообрывает?
— Ну, справедливости ради, надо уточнить, что такого он не говорил, — покачал головой Джордж Баренс, — но суть ты уловил верно.
— И как думаешь?
— Полагаю, возможности у него для этого есть.
— Обалденная ситуевина, — скривился менестрель. — Ни дать ни взять хозяин сада застал нас, когда мы обносили его яблони, и пообещал, шо ежли мы еще сунемся, то снимет нам штаны и набьет рожу. Маманя дорогая! Шо в этом свете деется?
— Понятно, что делается, — вмешался дежуривший близ Никотеи Вальдар Камдил. — Налицо уже четко доказанное сосуществование как минимум трех самостоятельных цивилизаций, находящихся между собой в тесном контакте. Более того, борьба двух цивилизаций между собой за доминирование над третьей.
— Заметь, дорогой племянник, в нашем мире, судя по всему практически объему мифической информации, налицо та же ситуация.
— Я заметил, — отозвался Камдил. — И можно не сомневаться, что Институт тоже мимо такого факта не пройдет. Готов поставить месячное жалованье против дырявой шляпы, что, невзирая на предостережения премудрого Андая, работа наблюдателей, а вероятнее всего и оперативников, здесь будет продолжена или даже расширена.
— Полагаю, что ты прав, мой дорогой племянник, — с грустью согласился Джордж Баренс. — Но это означает практически неизбежное начало войны.
— Увы, да. Но Институт должен отдавать себе отчет, что подобное вмешательство уж точно перекроит историю этого мира самым непредсказуемым образом.
— Да уж, дилемма. И без наблюдения такой сопредел оставлять опасно, и соваться в него — тоже хорошего мало.
— Добавьте к этому, что мы представления не имеем о реальных способностях и возможностях как потомков Ангуса, так и потомков Ангела.
— Эт да, — вмешался в разговор соратников Лис, — шутка юмора с исчезновением княжьей дружины в одном озере и появлением в другом — это неслабый выход из-за печки, я вам скажу. Хотел бы я на эту тему с Федюней нашим тщательно перетереть. Он, зуб даю, знает куда больше, чем нам рассказывал. И шо его дернуло там остаться?
— Да уж, — подтвердил Вальдар Камдил, — не вовремя это он. Но похоже, его туда неведомая покуда нам сила тянула. Предопределение, что ли… — Он на миг замолчал. — А я вот что хотел сказать. Судя по легендам, посредине этого озера тоже стоял город, некогда ушедший под воду. Правил этим городом король Тегид Фоэль, именовавшийся весьма образно и емко — Островной Дракон. А жена его, между прочим, бабушка знаменитого Мерлина. И вот в одну прекрасную ночь этот самый город точно так же, как и Китеж, ушел под воду и продолжил свое активное существование в таком вот положении.
— Зачудительная история, — отозвался Лис.
— Можно еще вспомнить, что несколько позже здесь должно произойти сражение между местным принцем Гриффитом Гвинедским и королем Эдвардом I Плантагенетом, — начал Баренс.
— Какое сражение? — переспросил Сергей.
— Между валлийцами и англичанами, после которого титул принца Уэльского навсегда будет принадлежать наследникам английского престола.
— Ну, в этом мире, как говорится, возможны варианты, — усмехнулся Лис. — И ежели Мстислав вернет себе мамашины огороды, то Плантагенетов здесь, вероятно, уже не будет. Звыняйте, люди добрые, ежели и появится какой-нибудь Ростислав Львиное Сердце, то генет у него будет явно не тот.
— Я уже думал об этом, — хмуро отозвался лорд Джордж, — и полагаю, институтским разработчикам данный вариант очень не понравится…
* * *
Мстислав был хмур и молчалив. Произошедшее ночью оглушило его, точно кто-то с размаху увесистым кистенем навернул по шелому. Все это не вписывалось в привычную картину мира, созданную годами личного опыта и усилиями отца Амвросия. Полулюди-полузмеи, обитающие в озерных водах, и уж не без колдовства случившийся перенос от предела отчей земли к пределу земли матерной — все это было нереально, невозможно. Но это было. И потому князь ехал впереди войска с тяжелой думой на челе и мрачным огнем в очах.
Единственным, быть может, приятным открытием для него было известие о том, что толмач, приданный ему по завету отца Амвросия, ориентируется в этих диких пустынных местах с той легкостью, с какой он сам находил дорогу в опочивальне.
И все же ситуация оставалась непонятной, а услышанное ночью от хвостатых тварей — невероятным, хотя усомниться в их речах повода не находилось. Пуще же всего заботила Мстислава судьба отца, ибо хоть и заверил змей людоголовый, что Владимир вовек в хоромах подводных обитать будет, но вид прочих жителей подводного града Китежа уж больно удручал его. Диким и нелепым представлялся ему облик Великого князя в этаком несуразном виде. А мальчонка, ишь, из фряжской свиты, а сам по доброй воле остаться пожелал. Чудны дела твои, Господи!
Видя мрачный лик князя, прочие дружинники, не менее оного недоумевавшие, что за диво дивное с ними приключилось, не решались все же вопрошать государя своего.
На первом же привале, когда все прочие собрались у костров, князь Мстислав, не поднимая очей от земли, побрел в раздумьях, сам не ведая куда. Да так, погруженный в мысли, и наткнулся на походную батюшкину молельню, запряженную двенадцатью битюгами. Недоумевая, к чему теперь сие диковинное строение, поднялся он на резное крыльцо, немедля слугами к часовенке приставленное, и отворил дверь в темное, без окон, без единой свечки или лампады помещение.
— Входи! — раздалось из темноты негромкое, но требовательное слово, сказанное так, что ноги будто сами внесли князя внутрь молельни. — И дверь прикрой, да поплотнее.
Мстислав в недоумении повиновался. И тут же во тьме зажглись завораживающие желтым пламенем два глаза, вроде бы и человечьих, но почти круглых и с туманной поволокой.
— Вот и свиделись вновь, княже.
— Правду сказать, я не чаял, — оглядываясь и стараясь узреть еще хоть что-нибудь в непроглядной тьме, сознался Мстислав.
— Отчего же? Коли взялся я вам в подмогу быть, то что мне за резон на полпути дело бросать?
— Так ведь и помогать мне резон не велик.
— Ой ли?
Мономашичу показалось, что его собеседник усмехнулся.
— А кому ж помогать, как не тебе? Ты житие-бытие наше воочию зрил, а когда здесь на великий стол в граде Лондоне сядешь, то слову твоему велика цена будет.
— Так что ж тебе, змей-искуситель, от рода нашего потребно, что ты так о нас печешься?
— Немногого желаю. Или же многого — то не мне решать. Хочу я, — произнес тихий, но властный голос, — вражду меж родом людским и моим племенем навек закончить. О том, кто мы на самом деле есть, вам известно, и впредь еще многое узнаете. И то, что вражде меж нами смысла нет, сам, поди, видал.
В молельне повисла тишина, гнетущая и не прерываемая даже малейшим шорохом.
— Почто молчишь? — наконец вновь заговорил Андай, так и не дождавшись слов князя.
— А что мне говорить? — хмуро отозвался Мстислав. — Батюшка мой у вас в залоге, так что лишнего слова уже не скажи.
— Нечто так и не понял? — с тоской в голосе вздохнул его собеседник. — Ну что ж за упрямый народ? Не в залоге он у меня, а гостем дорогим в палатах наилучших обретается.
— Ну, слово-то что, — отозвался Мстислав.
— И окромя слов тебе резоны будут, — жестко проговорил Андай. — А нынче ступай в праву сторонь от восхода, там судьбе твоей путь начертан. И запомни, что владетели земли этой испокон веку великими драконами звались, на местном языке Пендрагонами. А только драконьего в них ничего и не было.
* * *
Гринрой погонял коня.
— Господи! Что за напасть? — крутилось у него в мозгу. — Что за несносная порода эти венценосцы? Они ничегошеньки не умеют делать сами, и стоит им посоветовать что-нибудь путное, как расхлебывать все, что они наломают, приходится мне! Сначала Конрад с его ловкостью сонного медведя, потом бешеный волк Стефан, потом Матильда. — Гринрой задумался, желая приклеить к вдовствующей императрице какое-нибудь хлесткое звериное сравнение, но тут же отвлекся иным, маячащим впереди образом разъяренного льва с занозами во всех четырех лапах, но все еще, как и прежде, отважного и клыкастого. — Что-то надо будет говорить королю Генриху…
Ведь не объяснять же ему, право слово, отчего это вдруг я очутился в его землях и каким таким образом оказался рядом с его дочерью. А то ведь, не ровен час, не поверит, решит, что я хочу его в западню, как водится, заманить. У этого книгочея, рассказывают, от гнева до расправы и «Отче наш» не всегда прочтешь.
Размышляя таким образом, Гринрой выскочил из леса на обширную пустошь и собрался было уже пустить коня широкой рысью, но вдруг распахнул изумленно глаза, обомлел и, натянув поводья, поднял скакуна на дыбы. Прямо на него, теряясь в туманном далеке, тянулась огромная колонна рыцарей в диковинных, невиданных прежде доспехах с заостренными книзу каплевидными щитами.
— Неужели это валлийцы? — поворачивая дестроера, прошептал Гринрой. По его представлению, воины Уэльса должны были выглядеть по-иному. Однако же кто их знает? В любом случае, никакого дружественного войска, по мнению рыцаря Надкушенного Яблока, здесь однозначно не предполагалось.
Он поворотил уже коня и дал ему шпоры, как вдруг тугая петля невесть откуда взвилась у него над головой и, затянувшись на плечах, выдернула из седла, как выдергивает цирюльник изо рта больной зуб. Удар о землю — всегда неприятная штука, когда же он происходит с высоты конской спины, так и подавно.
Оглушенный падением, Гринрой открыл глаза, мотнул головой, отгоняя дурноту, и начал подниматься на колени. Вокруг него, с не меньшим удивлением разглядывая пленника, гарцевало несколько всадников в кожаных доспехах и мохнатых шапках, с колчанами, полными стрел, и гнутыми из рога луками. «Неужто сарацины? Откуда бы им здесь взяться?»
Заметив, что пленник цел и пришел в себя, дикого вида наездники подхватили его с двух сторон под локти, не смущаясь нимало громкими протестами, и поволокли к статному бородатому всаднику в остроконечном шлеме и блестящей пластинчатой броне, покрытой алым плащом.
— Кто есмь? — глядя исподлобья на полоненного, пробасил предводитель неведомого воинства.
Брови Гринроя поползли вверх. В прежние времена ему доводилось видеть приезжавших по торговым делам в Трир, Майнц и Кельн купцов из рутенских земель. Он не понимал их речи, но готов был побожиться, что перед ним никакие не валлийцы, а самые что ни на есть настоящие рутены.
— Кто ты? Как тебя зовут? — перевел Гринрою спешно приведенный к властителю благообразный монах.
— Мое имя Йоган Гринрой, — пытаясь стать в горделивую позу со связанными за спиной руками, объявил бывший оруженосец герцога Конрада Швабского.
Служитель Господа перевел его слова мрачному всаднику и тут же повернулся к допрашиваемому:
— Ты алеман?
— Я рыцарь из свиты императрицы Матильды! — объявил тот, невольно радуясь, что никто не может уличить его во лжи.
И вновь монах отвернулся, чтобы перевести повелителю смысл иноземных слов. Гринрой безучастно начал разглядывать обступавшее его воинство. И тут его точно обожгло.
— Моя госпожа — дочь короля Генриха. Она попала в руки шайки разбойников. Она молит освободить ее! — почти со слезой в голосе затараторил он. — Доблестные воины, умоляю вас, заклинаю вас законами чести, едиными для всех воителей во всех краях света, спасите бедную женщину из рук кровопийцы-супостата! — уже вопил он во весь голос.
Но в голове его крутилась только одна мысль: «И все же, откуда здесь взялись рутены?»
Глава 29
Несложно пустить лошадь вплавь.
То ли дело научить ее плавать на спине!
«В тот день пришел он в Кентербери и молился там от заутренней до вечерни. А всякого звания люд собрался у стен аббатства и в молчании ждал, пока выйдет просветленный отец Бернар из храма. Был в тот день ливень и молнии без числа, однако же никто и не подумал уйти от того места и укрыться от непогоды. И было собравшихся там столь великое число, и столь плотно стояли они, что, куда ни глянь от стен аббатства, везде были видны их страждущие лица с воздетыми к нему глазами».
Так описал этот день неведомый хроникер в своей летописи бриттов, наблюдавший столпотворение своими испуганными, полными религиозного экстаза глазами.
Бернар Клервоский не видел всего этого и не слышал сдавленный шепот толпы, перерастающий в глухой рев. Он стоял на коленях у распятия и молил Всевышнего открыть ему, что надлежит далее предпринять нижайшему из слуг Господних. Храм был пуст, огромный неф его едва освещался горевшими на алтаре свечами, но потом и они угасли, погружая наполненное величием здание во мрак. Войдя сюда, всякий прихожанин должен был почувствовать свою малость пред ликом Творца Предвечного. Бернар Клервоский чувствовал ее, и в то же время он, его тихий, но требовательный голос, его мысли заполняли весь храм. Его душа точно сама обратилась в дом Господа, в нетленное вместилище его.
По окнам били дождевые капли, и струи воды стекали там, за стеной, в ином мире, оставленном Бернаром ради крупицы вышней мудрости.
— Помилуй раба своего, Господи! — шептал настоятель Клервоской обители, вкладывая в слова невероятную, разрывающую душу страсть, которая, буде на то воля Божья, могла бы воспламенить не только свечи в пустом мрачном храме, но и весь захваченный поутру Лондон, этот вертеп злодейства и греха.
Но Отец Небесный был милостив, и пламя, бушевавшее в сердце Бернара, с яростным напором выливалось в его словах, обращенных к Божьему престолу.
— Укрепи меня, ибо слаб я и темен мой путь! — Бернар вновь, в который раз за сегодняшний день, осенил себя крестным знамением и вновь лобызал окровавленные ноги Спасителя.
— Встань, Бернар! — услышал он гордый зов. И повинуясь с ревностью, вскочил, едва не падая, едва чувствуя ноги от коленей до стоп. Мягкое сияние разлилось по храму и собравшиеся за его стенами, увидев сквозь окна неведомый свет, ревом восторга и молитвой встретили сие знамение.
— Внемли мне! — продолжал ангел, паря в воздухе над алтарем. — Немало прошел ты и немало сделал во славу Божью. Однако все это лишь капля в море. И как неисчислимы сии капли, так и грехам людским несть числа. Ты же избран Всевышним, дабы стать заступником за человецей пред ликом Его. А потому да не будет ведом тебе покой дотоле, покуда не свершится воля Божья.
— Прах я пред тобой, — завороженно глядя на ширококрылого ангела, простонал в экстазе Бернар. — Ничтожная щепоть праха! Располагай же мной, как будет угодно воле твоей!
— Встань и иди. — Гордо изрек ангел. — Ты, воинствующий духом, скажи людям своим, принявшим крест и воплотившим его в праведном мече веры, чтоб отобрали лучших и вернейших, дабы без страха и устали следовали за тобою.
— Но куда следовать мне? — вновь заговорил возликовавший душою аббат.
— Молчи и внимай, — перебил его ангел. — Как зажег Господь звезду для волхвов, пришедших к колыбели Спасителя с земными дарами, так и тебе будет подан знак для обретения дара небесного. И помни, — голос ангела стал требовательным, едва ли не трубным, — что бы ни узрел ты, десница Божья над тобой, и да не устрашишься ты в час, когда слову надлежит стать деянием. Теперь же ступай. Зри и увидишь.
Двери храма сами собой отворились пред ним, и Бернар Клервоский вышел, пошатываясь, так, что чудилось, еще шаг — и он рухнет без сил. Но вместе с тем казалось, да нет, не казалось, а виделось, как в непроглядно-хмуром небе вкруг него светятся капли падающего с небес дождя.
— Гляньте, гляньте! — вдруг закричал кто-то в толпе, указывая пальцем в ту сторону, где в ясные дни был виден восход. — Звезда летит!
И все подняли глаза к небу и увидели, как с востока на запад, перерезая, рассекая, точно пламенеющим клинком унылую серость небесного свода, летит яркая хвостатая звезда, небесный огонь, предвестница чуда или несчастья.
— Благодарю тебя, Господи, за милость твою! — не отрывая затянутых слезами глаз от обещанного знака, прошептал обессиленный Бернар. — Да свершится все по воле Твоей!
* * *
Мстислав внимательно слушал толмача, пытаясь вникнуть в ситуацию, и без того не простую. Еще вчера он планировал отбыть с дружиной в Новгород и, всем собранным воинством навалясь, одолеть злокозненного супостата, исхитившего наследные его земли. А вот сегодня, поди ж ты, уже идет с войском по чужой земле, не ведая толком, куда следует направить стопы и где искать злого ворога.
И вдруг — нате, явилась откуда ни возьмись дочь этого самого вражины лютого в разбойных лихоимных когтях. И дела вроде бы ему нет до того, оно ж, чем хуже врагу, тем лучше. А все ж негоже девицу на растерзание лютых волков оставлять. Не лепо сие, да и не по христианскому обычаю.
— Спроси его, сколько разбойничков в той шайке, — наконец прервал свое молчание князь.
— Он говорит, около семи десятков, — выслушав ответ, перевел толмач.
— Немалый отряд. — Мстислав оглянулся. Дробить сейчас и без того неполную рать никак не хотелось. Семь десятков лихих вояк при умном голове много чего наделать могут. В чужой земле да в глухом лесу их поди сыщи. Это ж не в чистом поле в честном бою один на один съехаться, а там уж чья возьмет. Тут горы, чащобы да буераки — и трое на одного не много будет.
— Товарищ лорд Баренс! — вдруг раздалось на канале закрытой связи. — Имеется вопрос, кто больше матери-истории ценен?
— В каком смысле? — озадаченно уточнил монах-василианин.
— В осмысленном, — тут же отозвался Лис. — Ежели те уроки по истории вашей родины, которые мне тут начитывались, не прошли даром, то подруга, о которой поет этот тоскливого вида страдалец, — бабуля вашего разлюбезного короля Ричарда.
— Если он говорит правду, то именно так. Хотя теперь…
— Да, я все помню. Но это ж не причина, шоб оставлять бедную, ну, может, не совсем бедную, но с попаданием в руки разбойников сильно обедневшую девушку в этих самых отродясь не мытых руках!
— Ну, в общем, ты прав.
— А то я в этом сомневался?! Шо касательно девушек, то я всегда прав. Но о моих заслугах перед ними потом. Мы тут посовещались и пришли к подкупающему новизной выводу: а давай мы ее освободим!
— В каком смысле «мы»?
— Тю, как обычно, я и Вальдар.
— А он почему молчит?
— А он уже километраж считает.
— До чего?
— До победы.
— Лис дело говорит, — вмешался Вальдар Камдил.
— А в Институт что будем докладывать? — поинтересовался Баренс.
— Ну вот, мы пока будем освобождать, а ты как раз все просчитаешь и доложишь. Нам все равно топопривязка понадобится, так шо по-любому без помощи базы не обойтись. Исходя из вышеизложенного, пока Мстислав Владимирович в задумчивости, вы уж предложите. Нам для этого много не потребуется — медный пятак, пара комплектов доспехов и четкое следование намеченному плану.
* * *
Они стояли перед Стефаном Блуаским, не опуская глаз под его тяжелым, точно кузнечная наковальня, взглядом. Суровый кряжистый валлиец, лобастый, широкоплечий, с мощной грудью прирожденного бойца, и наемник, недавно приставший к отряду принца, затем невесть куда пропавший и теперь вновь появившийся, но уже не в прежнем лихом, а в самом что ни на есть плачевном виде. Лицо наемника было покрыто множеством синяков, губы разбиты…
— М-да, Вальдар, по-моему, с членовредительством ты малость перестарался! Ну зачем ты оставил в истории болезни этого достойного члена общества такой значительный след? Того, шо я ему пятаком натер, уже б хватило, шоб на паперти насобирать на вполне пристойную вечеринку!
— Лис, ну что ты такое говоришь? Били-били, столько синяков оставили, а ничего не разбили?
— Это были тайные шаолиньские бойцы стиля русо-цюань. Им наши предки знаешь как владели — всадника в доспехах на полном галопе защекотать могли!
Между тем принц Стефан перевел мрачный взгляд с валлийца на своего незадачливого соратника.
— Где ты пропадал, мерзавец?
Гринрой с трудом поднял глаза на Стефана и выразительно застонал, сплевывая кровь.
— Он был в плену, — четким тоном, не допускающим двух толкований, ответил его спутник.
— Тебе откуда известно?
— Я тоже был там, — жестко выдохнул валлиец.
— Как тебя звать?
— Ллевелин.
— Откуда ты?
— Из Каренруда.
— Как же ты попал в плен, Ллевелин из Каренруда?
— Принц Гриффит послал нас навстречу тебе.
— Мне?
— Верные люди по ту сторону границы донесли, что ты идешь к Бристолю.
— Вот как? — дернул щекой принц Стефан.
— Да, так. Нас было всего три сотни. И тут они. Кто ж мог подумать, что они здесь появятся? Да и откуда?
— Кто «они»?
— Рутены, принц! Погляди, это рутенские доспехи.
Стефан Блуаский с интересом принялся рассматривать беглых пленников. Прекрасные новгородские брони, стоившие в бриттских землях целое состояние, диковинные восточные шлемы с острым шпилем — все это заставляло думать, что валлиец говорит правду.
— Что делают рутены в этих землях? — медленно, с трудом пытаясь осознать услышанное и увиденное, проговорил внук Завоевателя.
— Для начала они разгромили наш отряд, — ответил, почти огрызнулся валлиец. — Я со своими людьми прикрывал отход. Но там с ними какие-то и вовсе сарацины с кожаными петлями. — Он замолчал и хмуро поглядел на сотоварища.
— Его тоже так, я видел.
Лис тихо всхлипнул на канале связи:
— Моя школа! Вальдар, я горжусь тобой!
— Их много?
— Да, очень. Там был один монах. Он разбирает заморскую речь, и его заставляют переводить с их языка на наш. Он сказал, что рутенов нанял Боклерк.
— Чертов выродок! Как же он извернулся?
— Это еще не все, — бесцеремонно оборвал слова принца грубый валлиец. — Сам Генрих Боклерк с войском уже идет по твоему следу. Он почти у границ наших земель.
— Ты хочешь сказать…
— Сзади и справа король Англии, впереди — рутены, слева — Бристольский залив. Вот что я хочу сказать.
— Проклятие!
— Но и это не все, — не обращая, казалось, внимания на отчетливо заскрипевшего зубами Стефана Блуаского, исподлобья продолжал Ллевелин. — Часть нашего отряда все же смогла уйти. Они предупредят принца Гриффита. И он придет незамедлительно на помощь…
— Да, он наверняка ждет меня с войском наготове.
— Конечно, ждет. Но сейчас вам бы позаботиться о том, чтоб он, дождавшись, приветствовал вашу персону целиком, а не отдельные ее части. Как сказал монах, Генрих обещал разорвать вас конями.
— Это на него похоже, — прошипел Стефан.
— Но пока есть выход, маленький шанс.
— Какой же? — встрепенулся королевский племянник.
— Мой замок неподалеку отсюда. Местность там безлюдная, в скалах много тайных ходов. Там можно спрятаться так, что никто вовек не отыщет.
— Вот и прекрасно! — В глазах принца блеснул красный отсвет, какой бывает в волчьих зрачках, когда зверю удается найти брешь в облоге.
— Но только нужно спешить, очень спешить. Иначе рутены перережут нам дорогу.
— Да, несомненно. Снимаемся с лагеря! — рявкнул Стефан. — Немедля! Поторопитесь! Ты поведешь нас.
— Конечно. А с ним что?
Принц с тоской поглядел в лицо наемника, больше напоминавшее окровавленное кукушкино яйцо. Пожалуй, в других условиях он бы, не задумываясь, велел прикончить этого самого Грина. Но руки-ноги у парня, похоже, были целы, что же касается лица, то не под венец же ему идти.
— Очухается — злее будет, — процедил он. — Кинь эту падаль Матильде и ее служанкам — они любят заботиться о сирых и убогих. А ты запомни, если завтра поутру не будешь на ногах, то ноги тебе больше не понадобятся.
— Я буду, мой государь, — простонал Гринрой. — Клянусь, завтра и конь не угонится за мной!
— Пустое! — отмахнулся Стефан Блуаский, теряя интерес к раненому. Давайте, давайте скорее пошевеливайтесь!
— А у нас говорят: «Поспешишь — людей насмешишь». Ну шо, джентльмены, готовим рот к широкому добродушному оскалу.
* * *
Фульк Анжуйский распахнул двери залы королевского дворца, приблизился к трону и, не доходя всего нескольких шагов, опустился на колено.
— Мой государь, он прибыл.
— Так что же мы медлим? — Людовик VI поглядел на смиренно ждущего у ступеней трона отца Сугерия. — Все уже готово?
— С самого утра, сын мой.
— Пусть он войдет. — Король Франции перевел глаза на анжуйца. — И пусть на всем пути следования стража салютует ему копьями.
— Мой государь. — Фульк Анжуйский склонил голову и, быстро поднявшись, с поклоном вышел.
— Этот день — особый день. Отметь его красным цветом в летописи своей.
— Так победоносно шествует воля Божья на земле, сын мой! — величаво кивая, произнес аббат Сен-Дени.
Приветственные крики и слитный перестук опускаемых на каменные плиты копий донеслись до Людовика еще со двора. Затем, предшествуя желанному гостю, волна людского восторга прокатилась по лестнице, по коридорам, и наконец он появился сам. Статный, широкоплечий, с отважным, хотя и не по-северному темным лицом викинга, одетый по-восточному пышно, будто и не христианский монарх, а некий заморский султан, король обеих Сицилий Роже д’Отвилль. Людовик встал и, опираясь на руку аббата Сугерия, спустился по ступеням, пройдя три шага навстречу долгожданному гостю.
— Я счастлив видеть тебя, мой дорогой родственник! — обратился к вошедшему король Франции. — Слава предшествует тебе, храбрый Роже Сицилийский! Она летит на крыльях, подобно ангелам небесным, опережая даже твое победоносное воинство!
— Я несказанно рад встрече, мой дорогой родственник! — склоняя голову, ответствовал пришедший.
Еще недавно предки государя Франции вряд ли посмотрели бы в сторону предков того, кого нынче было велено именовать чуть ли не братом.
— Я принес вам ключи от Руана. За мной следуют нормандские бароны, они пришли, дабы передать законному монарху всех земель, некогда принадлежавших Карлу Великому, сбитые замки от прочих нормандских крепостей.
— Это неоценимый дар, — принимая из рук д’Отвилля посеребренные массивные ключи от столицы Нормандии, провозгласил король Франции.
Он дал знак кравчему, и юный наследник Анжу незамедлительно поспешил к государю с наполненными кубками.
— Ты открыл мне ворота Нормандии, — торжественно объявил Людовик Толстый, — я же преподношу тебе ее корону, отринув права, захваченные низким коварством еще со времен богопротивного герцога Робера Диавола. Пусть же это вино скрепит наш союз до скончания времен.
Осушив кубок, король Роже величественно преклонил колено перед государем Франции на заботливо подложенную алую бархатную подушку с золотыми кистями и вложил свои руки в руки Людовика.
— Я твой человек, мой король, — склонив обнаженную голову с рассыпавшимися по плечам роскошными подвитыми кудрями, объявил сицилиец.
В тот же миг король поднял его с колена и, поцеловав в уста, объявил герцогом Нормандским. Трубы, повинуясь сигналу Фулька Анжуйского, взревели над Парижем, и народ на улицах криками ликования приветствовал счастливую весть об окончании многолетней войны.
Никого уже в этот миг не интересовало, что, вынужденный делами государства постоянно отсутствовать в своей новой вотчине, Роже д’Отвилль почти незаметно вернул корону Нормандии Людовику. Кого, в сущности, беспокоило, что король обеих Сицилий, не особо задерживаясь в зловонном Париже, спешит в благодатный солнечный Палермо с многими тысячами турских ливров, что в Фекане еще из последних сил держит оборону граф Рауль де Лоран, а в самом Орлеане вместо новоиспеченного герцога Роже сидит его двоюродный брат, королевский наместник Арман д’Отвилль?
Франция ликовала. Небо, несомненно, было на ее стороне.
* * *
Стефан Блуаский горячил коня.
— Быстрее, быстрее! Поторапливайтесь!
Его отряд, уже вполне осознавший, к чему могут привести минуты промедления, и без того сворачивал шатры и тушил огонь под котлами со всей возможной поспешностью.
Но принца Стефана их усердие не устраивало. Он гарцевал между суетящихся вояк, время от времени потчуя тех, кто подворачивался под руку, ударом плети. «Избитого рутенами» наемника его собратья по оружию, как и было приказано, отволокли в деревенский возок, на скорую руку приспособленный для путешествия вдовствующей императрицы и ее дам. Вслед за этим наемники заняли места в седлах неподалеку от примитивного дорожного экипажа Матильды. Когда б Стефан мог, он давно бы уже бросил эту проклятую обузу, замедлявшую ход его крошечного войска. Но без такого щита, как Матильда, едва ли вообще какое-либо войско смогло бы защитить его от скорой и неминуемой расправы.
— О-о! — стонал из-за кожаного полога «раненый». — Они убили меня! Неужели же и на том свете трясет, совсем как на этом?
Матильда ошеломленно глядела на непрошеного пассажира. Тот лежал, закинув руки за голову, точно на холме, взирая в синее небо, и стонал так, что у лошадей наворачивались слезы.
— Что это за фарс, Гринрой? — тихо поинтересовалась она.
— Это вы меня спрашиваете? Это я бы должен вас спросить, — понижая голос, не замедлил перейти в контратаку рыцарь Надкушенного Яблока. — Я, между прочим, лишь выполняю приказ. Мой господин велел во что бы то ни стало доставить бывшую или нет, будущую императрицу, и я, как доблестный рыцарь, должен совершить этот подвиг, будь он неладен! А вы отчего-то мне постоянно мешаете. Отчего вы мне мешаете? Вы, что же, в сговоре с принцем Стефаном?!
— Наглец! — возмутилась дочь Генриха Боклерка.
— Принимаю этот звонкий титул, хотя с ним и не сопряжены никакие владения. Однако это не ответ на вопрос.
— Конечно, нет, — надменно выпрямляя спину, проговорила Матильда.
— Моя госпожа, тише! Я думаю, блуаский упырь в этом и так не сомневается, а остальным об этом знать вовсе не обязательно.
— Конечно, нет, — повторила императрица уже много тише.
— Тогда, полагаю, разлука с ним не доставит вам тяжелых переживаний.
— Я не намерена отправляться к твоему господину. Он не многим лучше моего кузена Стефана.
— То есть вы признаете, что он лучше? В ваших силах сделать его почти святым! Вы что же, государыня, так не любите народ, много лет не чаявший в вас души, что не желаете ему почти святого государя?
— Конрад все еще очень далек от трона, чтоб вот так запросто называть его государем.
— О, я чувствую, пошло деловое обсуждение вопроса! — Гринрой облизнул разбитые губы. — Я не зря проливал кровь!
Матильда вспыхнула.
— Я не намерена…
— Тс-с! — перебил ее великий притворщик. — Если вы не настаиваете на том, что предпочитаете обсуждать ваши намерения в высоком звании пленницы, давайте обсудим их на свободе. Уже темнеет, моя госпожа. Ночь, как известно, уносит старый день и рождает новый.
Колонна принца Стефана с максимально возможной скоростью тянулась по лесной дороге. Она бы, может, двигалась быстрее, и подступавшая ночь требовала, чтобы она двигалась быстрее, но экипаж императрицы отнюдь не напоминал колесницу на константинопольском ипподроме. И катил он вслед за всадниками, то и дело отставая и заставляя принца сбавлять ход.
Стефан бы с радостью пересадил на коней кузину и ее дам. Те, происходя из знатнейших семей империи, и сами по себе были ценными заложницами, но свободных коней в отряде не было. Да и начнись вдруг заваруха, не ровен час послужит Матильда щитом, но только в самом что ни на есть прямом смысле этого слова.
— Эх, — раздавалось между тем на канале закрытой связи, — до боли знакомые места! Давно мы здесь не были! Это, считай, со времен смерти блаженной памяти короля Артура! Столько всего изменилось! Вон, деревья вековые почти до луны вымахали, а у нас все то же — партизаним себе помаленьку во славу, не поймите меня правильно, британской короны.
— Лис, что это тебя на мемуары вдруг проняло?
— Да так, ветром навеяло. Вспомнилось, как мы с тобой и святым Карантоком замок тут взрывали. Виверна бы нам сейчас не помешала.
— Как-нибудь обойдемся без виверны. Что там у тебя?
— У меня уже клиент заходит на финишную посадку. Счас колонна повернет, в распадок втянется, тут мы ей хвост и купируем. О! К вопросу о хвостах. Комета на запад потянулась. Не Галлея ли часом? Она, как известно, такого напредвещает, шо черпаком не расхлебаешь.
— Ерунда, это не Галлея. Галлея была в 1066 году, аккурат в год высадки Вильгельма Завоевателя.
— Вот видишь, до сих пор расхлебываем, — не замедлил прокомментировать Лис и вдруг начал распевно:
И вот плывет между созвездий,
Волнуясь черными ужами,
Лицо отмщенья и возмездий…
— Лис, это что еще за поэтический вечер?
— Вечер как вечер. К нашим зрелищам и осязалищам немного Хлебникова не помешает. Или тебе уже и председатель земного шара где-то на мозоль наступил? Не в салоне ли на Большой Морской?
— Оставь свои намеки! Доложи лучше обстановку.
— Да шо с ней станется. Обстановка обстоятельно обстоит. Впереди возка, как и обещал потерпевший, его люди, позади отирается еще парочка энтузиастов. В общем и целом все штатно.
— В общем и целом… — повторил Камдил. — Ладно, надеюсь, этот мошенник, выдающий себя за рыцаря, справится со своим делом.
— Не беспокойся. Ежли я шо-то в чем-то понимаю, он справится. А шо наш рыцарь, выдающий себя за мошенника?
— Все замечательно. Не волнуйся. Баренс сообщил, что встреча уже готова.
— Аминь! — выдохнул Лис. — Ну шо, смертнички, покувыркаемся?
Над лесом предвестником беды ухнул филин, и тут же захохотал ночным демоном, будто радуясь скорой поживе.
— Постойте, постойте! — раздался из возка испуганный женский голос. — Он умер!
Передовые всадники, казалось, не обратили внимания на этот крик и продолжили движение, впрочем, очень скоро остановившись в отдалении.
— Да помогите же! — возбужденно, со всхлипом вторила первой вторая служанка императрицы.
Возница натянул вожжи, останавливая экипаж. Всадники, следовавшие за ним, спешились и направились было к возку. Они не успели понять, что произошло в следующий миг, что за ветка взметнулась перед ними и почему они вдруг повисли над лесной дорогой с петлями на ногах.
— Джентльмены, тихо! — появившийся из-за куста Лис в одно мгновение заткнул открытые от удивления рты кусками пакли. — Не переживайте, будете хорошо себя вести — скоро вас снимут. И вот тогда вы поймете, какой я добрый человек!
Послав воздушный поцелуй пойманным в силки висельникам, Лис бросился к возку.
— Ну, что у тебя?
Гринрой молча указал ему на связанного возницу с рукавом от платья во рту.
— О! — восхитился Лис. — Это куда изящней, чем кусок пакли.
— Имперские нравы, — не замедлил с ответом Гринрой. — Однако пора совершить небольшую прогулку по бездорожью. — Он свистнул, призывая соратников, и указал на чащу.
* * *
Темень все более густела, растущая луна, поднимаясь над лесом, давала не много света.
— Скоро, уже совсем скоро, — сквозь зубы цедил валлиец, указывая принцу Стефану куда-то вдаль. — Сейчас там за холмом будет пустошь. Нам ее надо проскочить как можно быстрей. Оттуда до моего замка не более трех миль. Дорога там плохая, вряд ли рутены сунутся.
— Это хорошо, что плохая, — пробормотал Стефан.
Лес закончился внезапно. Тропа поднималась в гору, все выше устремляя к темному небу верхушки деревьев. И вдруг чащу будто обрезало. Вниз с холма тянулась открытая равнина, на которой множеством огней переливался широко раскинувшийся военный лагерь.
— О, проклятие! Не успели.
— Может быть, попробуем? — разглядывая неприятеля, тихо произнес Стефан Блуаский. — Ночь, темно. Если быстро, то могут и не заметить.
— Как у тебя дела, дорогой племянничек?
— Вот, стоим, разглядываем ваши костры.
— Что ж, значит, я не ошибся, именно вас я сейчас на холме и вижу. Начинаем представление. И раз, и два, и три — оркестр, парад-алле!
— Можем и попробовать. — Валлиец, придерживая коня, начал спускаться с холма, и вдруг ночь взорвалась дикими гортанными криками и улюлюканьем всадников аланской кавалерии. Валлиец обернулся к ближайшему воину Стефана и вырвал у него копье.
— Это те самые сарацины! — с клекотом проговорил он. — Уходите, принц, я их задержу! Скорее, скорее, вы еще можете спастись!
Боевой клич «Фри вей» несся над равниной, одинокий рыцарь скакал в гущу «неприятельских» всадников, геройски потрясая копьем. Но в голове его звучало совсем другое.
— Браво, дорогой племянник, ты все правильно рассчитал!
— Ваша школа, любезный дядюшка! Как же могло быть иначе? Самый отъявленный мерзавец готов поверить в благородство, если оно направлено на его спасение.
* * *
Вопреки ожиданиям Михаила Аргира, появление его среди воинства рутенов не слишком удивило дружинников. Выяснив, что новичок, даже среди рослых варягов казавшийся верзилой, едва может связать три слова на их языке, гридни быстро сыскали меж своих одного витязя, который в прежние годы в Корсуне служил и ромейский говор разумел.
Объяснение Аргир придумал на ходу, да и не было у него времени для долгих раздумий. Рассказ о том, как, сослужив у булгарского каана службу, решил он вернуться домой, да неловко в озеро оступился, вполне удовлетворил новых собратьев по оружию. Как говорится, сослужил, так сослужил, а теперь новая служба пойдет. Уж больно велико было у всех потрясение от ночной прогулки в глубь озера и не менее странного утреннего из той глыби выхода, чтобы зачем-то в голове держать этакие пустяки. И потому стал Михаил Аргир Михайлой Китежанином, и с радостью был принят одним из Мстиславовых бояр к себе в отряд.
Знатный ромей не слыхивал пословицы «близок локоть, да не укусишь», но смысл ее понимал отлично. Стараясь не попасться на глаза кому-либо из тех, кто знал его в лицо, он держался в гуще дружинников, окруженный сотнями зорких глаз и крепких рук. Никотея была совсем рядом. Он несколько раз видел ее украдкой, но подойти так и не смог. Злость клокотала в нем, точно кипящая вода в закрытом котле, не имея выхода и грозя взорвать его сердце.
Потому Михайло Китежанин был хмур, нелюдим и мрачен. Так дальше продолжаться не могло. Месть должна была свершиться, и свершиться как можно скорее. Нападение на шатер севасты он наметил на ночь, когда в лагере все уснут. Незамеченный дружинниками, Михаил отдалился от костровища и, стараясь не привлекать внимания, мерной поступью человека абсолютно спокойного и уверенного в том, что он делает, отправился в сторону шатра предательницы.
«Этой ночью решится все». Он поднял глаза к небу, точно спрашивая у звезд ответа на незаданный вопрос. В черном небосклоне, будто стрела, выпущенная из лунного полумесяца, висела пламенеющая далеким огнем летучая звезда. «Комета предвещает беду, — вспомнилось ему. — Кому предвещает она беду? — спросил он себя. И ответил сам же: — Конечно, Никотее. Кому ж еще!»
Он был совсем рядом с местом, когда в лагере вдруг завыли сигнальные рожки, с гиканьем и посвистом рванулись в сторону чернеющего вдали леса аланские всадники, служившие, как и сам он нынче, князю Мстиславу, а еще чуть позже отовсюду послышался гул ликования, точно после великой победы.
— Что произошло? — поинтересовался Аргир, на удачу, совсем рядом увидав давешнего знакомца-херсонита.
— Наши-то королевишну отбили тутошнюю, — радостно выдохнул тот. — Вон ее везут.
Михаил Аргир бросил взгляд туда, куда указывал гридень. У самой ограды виднелось несколько всадников. У некоторых из них за спиной маячили женские фигуры.
— То-то же! — невесть к чему весомо заметил новый знакомец, указывая перстом в небо.
«Что ж, это, может, даже и к лучшему, — подумал Аргир, — пусть радуются. Лучше времени не сыскать, чтобы навестить блистательную севасту».
Близ шатра он остановился, чтобы оглядеться и присмотреть возможные пути к отступлению. Казалось, никому не было до него дела. Он вслушался, стараясь понять, кто еще, кроме Никотеи и ее верной персиянки находится в шатре. Оттуда неслась гневная речь, Аргир напряг слух и с недоумением признал голос Никотеи. Она говорила по-ромейски, властно и жестко. Ничего в ней не было сейчас от того небесного ангела, каким он ее помнил.
— Так вот, Мафраз! — произносила севаста. — Я рисковала всем. Я последовала за этим неотесанным рутенским медведем на дно озера и далее на край света. Я терплю лишения, чтобы прибрать этого мужлана к рукам, и вот теперь откуда ни возьмись появляется дочь местного короля.
— Но, моя госпожа, это еще ничего не значит.
— Дочь короля не может ничего не значить! — отрезала Никотея. — Этот бородатый варвар шел сюда, чтобы отвоевать землю своей матери. Похоже, ему ворожат демоны. И скорее всего именно они преподнесли Мстиславу этакий подарок. Но я не желаю, чтоб кто-либо, будь то люди или демоны, мешали мне в задуманном деле. Ты поняла, Мафраз?
— Я поняла, моя госпожа.
— Тогда что ты стоишь? Ступай! Да позови мне стражу, я желаю засвидетельствовать почтение и сестринскую любовь этому порождению ехидны.
«Благодарю тебя, Господи, — перекрестился Михаил Аргир, — что ты отверз очи мои!»
* * *
Лис плеснул струю воды из кувшина в подставленные руки.
— Да ты, приятель, не волнуйся. Отмыть эти «синяки» ты счас не отмоешь, но они сами в несколько дней сойдут.
— А это? — Гринрой с укоризной показал на разбитые губы.
— Шрам на роже, шрам на роже — мужику всего дороже! — обнадежил его менестрель. — Опять же, если бы сэр рыцарь серьезно вложился, то, поверь мне на слово, сошел бы не след, сошел бы ты, буквально, в царство мрачного Аида.
— Вот спасибо! — хмыкнул Гринрой, плеская себе на лицо воду. — О! — Он остановился с очередной порцией воды в ладонях, сложенных лодочкой. — А это что за небесное видение?
В нескольких шагах от него в окружении десятка факельщиков к стоящему неподалеку шатру двигалась процессия, впереди которой, любезно переговариваясь на звучной латыни, шествовали вдовствующая императрица Матильда и девушка столь неземной красоты, что сердце останавливалось, не смея лишним стуком прервать счастливое видение.
— Это? Эт Никотея, племянница императора ромеев.
— Она невеста вашего принца? — не спуская глаз с красавицы, спросил Гринрой.
— Я думаю, в душе она уже его вдова.
— Не может быть!
— Поверь мне, приятель, на этом свете может быть много такого, чего не может быть в принципе. Эта девушка себе уже все решила. А уж как далеко зашла ее решимость, одному Богу известно.
— Ну, этого я сколько и о чем бы ни спрашивал, он всегда отмалчивается. А что она здесь делает?
— Берет себе в мужья Мстислава. Он, вишь, попытался от нее в Британию сдернуть, но это легче собаке от собственного хвоста убежать.
— Я вижу, ты ее недолюбливаешь.
— Приятель, здесь такая толпа желающих ее долюбить, шо я не протолкнусь.
— Похоже, моя госпожа другого мнения.
— Вот это меня и напрягает.
— Что? — переспросил Гринрой.
— Не суть важно. — Он протянул рыцарю Надкушенного Яблока кусок полотна, глядя, как скрываются за пологом шатра величественно-прекрасная Матильда и ослепительная Никотея.
— Капитан, — раздавалось в этот миг на канале связи, — как ты думаешь, с чего бы это вдруг у твоей подруги Никотеи на ночь глядя образовался острый приступ гостеприимства?
— А что в этом странного? Одна знатная дама принимает другую знатную даму. Так сказать, женский шатер в лагере один.
— Ну да, ну да, конечно. Но тут есть маленькая нестыковка. Никотее эту ночную гостью особо любить не за что. Они, как говорится, естественные конкурентки.
— Ну что ты такое говоришь? Да и, кроме того, вряд ли Никотея, даже и пожелай она избавиться от, как ты утверждаешь, конкурентки, может сейчас что-либо предпринять. Слишком много людей вокруг.
— Да ну? А ежели, скажем, завтра императрице станет плохо, то всегда можно будет обвинить в убийстве Стефана. Как раз сейчас и действовать.
— Лис, ты заблуждаешься…
— Отравили! — послышалось из шатра.
— Это она, она кубок подавала, хватай!
Крики сопровождал женский визг и вопль ужаса.
— Хрен я когда заблуждаюсь, — Лис бросился к шатру. — Где Баренс?
— Только что лег.
— Так буди его!
Стройная женская фигурка, отпахнув полог шатра, выскочила наружу и, сбивая с ног зазевавшегося стражника, бросилась к коновязи.
— Стой! — крикнул один из дежуривших там воинов, пытаясь ухватить беглянку за плечо. Он уже уцепился за край плаща, но тут пальцы его вдруг разжались, и сам он, обмякнув, рухнул наземь.
Никотее было не до этого. Рывком, как некогда на императорской охоте, вскочила она на коня, и, колотя пятками по бокам, пустила его с места в галоп. Она мчалась в ночь, досадуя на неловкость служанки, на несправедливость судьбы и попустительство оставивших ее святых. Мчалась, не разбирая дороги и не ведая, что делать дальше.
Севасте не было дела до того, что следом за ней из лагеря, перескочив на благородном андалузском жеребце наскоро выставленный заслон, вылетел еще один всадник, а за ним — еще один, куда менее рослый, но чисто умытый.
Глава 30
Гром победы провоцирует исторические грозы.
Принц Стефан вцепился зубами в кожаную перчатку и молча терзал ее, чтобы не разжать зубы и не взвыть от бессильной ярости. Спасибо еще безмозглому, но отважному валлийцу, который отвлек на себя этих невесть откуда взявшихся диких варваров. Краем глаза он видел, как те окружили его и как смыкается вкруг Ллевелина из Каренруда смертельное кольцо. Эта заминка дала ему и его людям возможность укрыться в лесу.
Вначале столь легкое окончание стычки, грозившей стать для него последней, даже обрадовало принца. Но всего через несколько мгновений примчавшийся из хвоста колонны всадник с ужасом в глазах сообщил, что возок императрицы Матильды пуст. Если, конечно, не считать связанного возницы, невнятно бормочущего что-то об ожившем мертвеце. И что неподалеку найдены двое охранников, подвешенных за ноги, и что самой Матильды и ее служанок, а также и всех наемников — след простыл.
В этот миг Стефан понял все. Он размахнулся, чтобы сгоряча огреть кулаком гонца недоброй вести, но в отчаянном гневе вцепился зубами в перчатку и молча стоял, бешено вращая глазами и мотая головой. Его люди, и сами не отличавшиеся смиренным нравом, тихо пятились, боясь лишним шумом вызвать извержение вулкана кипевшей в принце ярости.
«Что делать? — крутилось у него в голове. — Это западня, капкан. Даже если Боклерка нет сзади, там уже полно войск графа Дорсета! Впереди — рутены, эти уж точно здесь. Надо разделиться и пытаться хоть как-то добраться до валлийцев. Но зачем, зачем разделяться? Какой смысл, если кто-нибудь из этих тварей спасется, а я погибну? Быть может, поспешить к Бристольскому заливу? Там найдутся какие-нибудь лодки, чтобы переправиться. Или же действительно спрятаться и переждать. Но где?»
— На тропе всадник, мой принц! — доложил один из воинов передового дозора. — Нет, это не всадник, это всадница.
— Всадница? — Стефан отпустил прокушенную перчатку. — Откуда бы здесь взяться всаднице?
«Неужели Матильда? Господи, сделай так, чтоб это была Матильда!»
— Коня! — рявкнул он и вскочил в седло, едва ирландский дестроер был подведен к нему.
В этот миг его не интересовало, что могло побудить императрицу, бросив всех и вся, в одиночку мчать по лесной дороге. Он молился, молился истово, как никогда прежде, и пришпоривал скакуна навстречу неведомой всаднице.
Он появился перед ней как тень, как лесной демон, внезапно, прямо нос к носу. Конь полуночной наездницы вздыбился, увидев пред собой неожиданную преграду, и всадница едва удержалась на его спине.
— Стой! — заорал, не скрывая звериной ярости, принц Стефан, пытаясь ухватить любительницу ночных прогулок. Он уже видел, что перед ним вовсе не беглая императрица, а совсем неведомая ему красотка. Но в этот миг перед ним была жертва, и вырвавшийся изнутри на волю инстинкт свирепого хищника требовал сейчас одолеть эту жертву во что бы то ни стало.
Стефан не слышал криков соратников, предупреждающих о появлении еще одного всадника, не видел, как в единый миг разваливается тело одного из воинов, разрубленное от плеча до седла. Он лишь краем глаза отметил что-то огромное, стремительно приближающееся к нему. Одна рука его схватилась за меч, другая — за плечо неведомой красотки…
И вдруг, к ужасу своему, он почувствовал, что рука, удерживающая девицу, уже не повинуется ему, более того, она висит отдельно…
Спазм боли свел его скулы, не давая закричать в первый миг. Второго же для него уже не было. Булатный меч неудержимого в атаке Михаила Аргира раскроил его череп и вошел в грудную клетку. Теряя интерес к рухнувшему на дорогу мертвецу, топотирит палатинов повернул коня к замершей в ужасе Никотее.
— Ты узнаешь меня, изменница?
Чаща наполнилась ревом, со всех сторон на лесную дорогу вывалили конные и пешие воины.
— С дороги! Все с дороги! — потревоженным драконом ревел Михаил Аргир, рубя направо и налево и каждый раз возвращая меч со следами новой крови.
У него хватило времени, чтобы вырвать Никотею из седла, но повернуть коня обратно возможности уже не было. Десятки мечей и копий обрушились на страшного в ярости ромея, ища его гибели. Он не чувствовал ран, рычал и рубил, желая только одного в этот миг — крушить и убивать. Впервые за последние месяцы он дал полную свободу закипавшим в нем чувствам и сейчас был почти счастлив.
Ощутив, как вдруг ослабла рука топотирита палатинов, прижимающая ее к себе, Никотея дернулась, нелепо по-лягушачьи шлепнулась на дорогу и тут же перекатилась, чтобы не попасть по лошадиные копыта. «Господи, какой ужас!» — шептала она, осознавая, что по лицу ее течет что-то липкое.
Никотея ползком, рывками между конских ног добралась до ближайших кустов, пытаясь среди общего кошмара понять, ранена ли она сама. Боли не было. Оказавшись среди кустов, севаста остановилась, приподнялась на четвереньки, пытаясь отдышаться и перевести дух. «Какой ужас!» — повторила она. И в тот же миг чья-то рука мягко, но без излишних сантиментов закрыла ей рот.
— Тихо! — на довольно сносной латыни прошептал ей кто-то на ухо. — Не вздумайте верещать! Это зрелище не для ваших глаз, а очень скоро оно станет еще более душераздирающим. Слышите грохот копыт? Это рутены. Вам надо уходить. И если у вас хорошая память, госпожа, то я согласен вам в этом помочь.
Никотея молча кивнула и, не говоря ни слова, устремилась за незнакомцем.
— Получай! Получай! Смерть вам! — ревел Михаил Аргир, с невольным удивлением осознавая, что удары становятся все медленней и тело отчего-то перестает слушаться. Очередной раз повернувшись, он увидел всадника, направившего копье ему в грудь, во весь опор мчащего навстречу скорой гибели. — Ага! — прохрипел топотирит палатинов, очень явственно представляя, как его меч отбивает в сторону древко копья и вонзается аккурат в горло нечестивцу.
Он направил коня навстречу… Лунный отблеск, пробившись сквозь листву, осветил щит его противника. «Вепрь!» — вдруг неожиданно для себя отметил Аргир. На алом щите англичанина был нарисован серебряный вепрь с золотыми клыками.
— Вепрь! — выдохнул ромей, с ужасом чувствуя, как долго-долго тянется его рука с мечом к вражескому древку, как она не успевает, и длинное острие вонзается в грудь, выбивая мертвое тело из седла.
Ему не дано было увидеть, как смыкается кольцо вокруг останков истрепанного отряда принца Стефана, как гибнут те из его воинов, которые не успели или же не пожелали бросить оружие, как склоняются над ним ненавистные ему русы, и, утирая пот со лба, один из них, силясь поднять окровавленное, десятки раз израненное огромное тело, с уважением говорит другому: «Экий хоробрый воин-то был Михайло Китежанин. Земля ему пухом».
* * *
Георгий Варнац смочил водой пересохшие губы Матильды.
— Пить! — шептала она, судорожно хватаясь за руку монаха. — Кто вы? Я лечу! Почему я лечу?
— Свечку! — скомандовал Джордж Баренс и провел пляшущим на сквозняке огоньком перед глазами мечущейся на ложе женщины. Очи ее были распахнуты, но казалось, она не видит близкого пламени.
— Небо такое холодное!
— Ну что там у вас? — раздался в его голове встревоженный голос Камдила.
— Жажда, судороги, сухость во рту, нарушение сердцебиения, галлюцинации, перевозбуждение. Скорее всего отравление семенами белены черной.
— Для белены как-то слишком быстро, — усомнился Камдил.
— В принципе, да. Но организм ослабленный, утомленный. Ее сразу вытошнило. Она не успела выпить много, но, с другой стороны, если бы все это произошло несколько позже, легко можно было бы свалить отравление на Стефана: мол, чувствуя, что попал в западню, он решил опоить пленницу.
— Понятно. А Мафраз что говорит?
— Если б кто-то из вас вместо того, чтобы мчаться в очередную схватку, занялся бы Мафраз, возможно, она бы что-нибудь и говорила!
— Ее, что же, убили?
— Формально — нет. А по сути… Ей влили в рот все, что не успела выпить Матильда.
— Час от часу не легче! Пожалуй, она единственная здесь, у кого могло быть противоядие.
— Одна надежда, что и Матильда, и Мафраз выпили все же по полкубка. Хотя никто уже не может сказать, в какой концентрации эта милая персиянка намешала отравы.
— Да уж, как для себя, не пожалела.
— Шутник.
— Это я от досады.
— Что, все плохо?
— Не то чтобы совсем, но в высшей мере странно. Блуасцев мы разбили, ну да это и понятно было. Но когда мы прибыли на место, картина была ужасающая. Израненный Михаил Аргир, распластанный поверх кучи трупов, в основании которой, кстати, отыскался и принц Стефан без руки и с раскроенной головой.
— М-да. На прощание судьба преподнесла им хороший подарок. Оба умерли в бою.
— А Никотея пропала. Лис со следопытами ее ищет, но пока безуспешно. Ни ее, ни этого самого «бедного рыцаря» из свиты Матильды.
— Занятный дуэт, — криво усмехнулся лорд Баренс. — Будем надеяться, что они все же найдутся.
— Пить! Дайте мне пить! — порывисто шептала императрица, намертво вцепившись в рукав монашеской сутаны. — Это небо без дождя…
— Да, сурово у вас там все, — вздохнул Камдил, наблюдающий картину глазами лорда Баренса.
— Я велел служанкам промывать им желудок, объяснил, как делать массаж сердца, но… остальное не в моих силах. Тут нужен сведущий лекарь, а не здешние ведуны!
— А Мстислав что говорит?
— Ничего не говорит. Он постоял здесь молча, развернулся и ушел.
— Куда?!
— Как мне сказали, в отцовскую молельню.
* * *
Мстислав еле держался на ногах. События последних дней, вернее даже последних суток, были столь необычны и столь выходили за рамки всего того, о чем он раньше имел хоть какое-то представление, что князь просто не находил слов. Не успел он прийти в себя от мгновенного переноса в чужестранные земли его самого и всей его рати, как новые диковинные события обрушились бурным потоком, едва только не сбивая с ног.
Он не мог поверить, что милая нежная севаста Никотея, столь отважно последовавшая за ним в озерную бездну, вдруг распорядилась отравить ни в чем не повинную дочь здешнего короля, только что вырванную из плена и с открытым сердцем доверившуюся ей.
В первый миг у него слабой надеждой блеснула мысль, что сама Мафраз, а вовсе не ее хозяйка решила погубить императрицу. Но зачем бы это ей? И зачем Никотее бежать сломя голову?
Он поплотнее затворил за собой двери батюшкиной молельни и собрался было преклонить колени, чтобы упрашивать подводного демона свершить чудо.
— Если ты не будешь терять здесь времени, она останется жива, — донеслось из темноты и тотчас же в ней зажглись уже виденные прежде горящие внутренним пламенем глаза.
— Что я должен сделать за то?
— За то — ничего, — с легкой досадой отвечал его собеседник. — Примерно в тридцати милях к востоку отсюда есть монастырь. Туда недавно привезли человека, спасенного при кораблекрушении. Его почитают безумным, но это не так. Пошли за ним самых быстрых всадников. Он искусный лекарь. И только ему под силу поднять на ноги и Матильду, и персиянку.
— Так что же я…
— Поспешай! Время дорого. У тебя нынче и без того будет много хлопот.
* * *
Рассвет не радовал Генриха Боклерка. Он зыркнул исподлобья по сторонам, словно ожидая увидеть, чем земля Уэльса отличается от его собственной, британской. Затем глянул в небо, негодуя, почему солнце еще находится так низко над линией горизонта, и, задержавшись взглядом на блистающей посреди серовато розового небосклона яркой хвостатой звезде, с негодованием обратился к секретарю:
— Это еще что такое? Какого дьявола она, — король указал пальцем в небо, — там делает?
— Мне сие неведомо, государь.
— А кому это должно быть ведомо?
— Господу нашему.
— Так спроси у него, чертов недоумок! Коня мне!
Один из королевских оруженосцев подвел рослого скакуна, серого в яблоках, с аккуратно расчесанной длинной гривой.
— Что нового произошло за ночь? — Король довольно тяжело, но без помощи мигом оказавшихся рядом эсквайров[80] взобрался в седло.
— Высланный дозор еще не вернулся, у нас же все тихо.
— Тихо, — хмуро повторил король. — Что слышно из Лондона?
— Увы, ничего, мой государь, — развел руками Фитц-Алан. — Но ширятся слухи, будто аббат Бернар со своим воинством… — Фитц-Алан замялся, не зная, как скрасить вполне уже достоверно известную ему скорбную новость. — …Что столица в тяжелом положении…
— Фитц-Алан, я прикажу защемить твой язык щипцами и тащить волоком за твоим собственным конем, привязав к его хвосту! Ты что же думаешь — если ты соврешь мне, то ложь станет правдой? Говори как есть! Они взяли его?
— Да, мой государь.
— Я так и знал, — процедил король. — Невероятно! Какая-то шайка разбойников во главе с кликушей аббатом захватила столицу королевства. Какой позор!
— Будут ли какие-нибудь приказания на этот счет?
— Да, будут. — Боклерк закрыл глаза и заслонил их рукой, словно начисто отрезая себя от всего окружающего мира. — Идти вперед и разгромить этого гадючьего выползка Стефана.
— А как же Лондон?
— Фитц-Алан, если это в твоих силах, перенеси Лондон куда-нибудь сюда. Или же изгони оттуда толпу оголтелых мерзавцев словом Божьим. А если нет, до того момента, пока я не увижу мертвого Стефана Блуаского, не задавай мне этого вопроса.
— Дозор, мой государь! — подбежал к королю один из оруженосцев.
— Что «дозор», недоумок?
— Дозор возвращается!
— Так приведи их сюда. Что торчишь здесь, как пень? — Он вновь закрыл глаза, погружаясь в свои размышления. И когда открыл их, всадники передового дозора были уже перед ним.
— Ну, что там?
— Впереди… — Наблюдатель замялся.
— То, что сзади, я и так знаю! — рявкнул Генрих Боклерк. — Что там впереди?
— Там войско.
— Валлийцы уже здесь?
— Мой государь, это не валлийцы.
— Неужто же племянничек умудрился где-то найти таких же мерзавцев, как он сам?
— Но… Это и не принц Стефан.
— Тогда кто же? Лесные феи? Эльфы из полых холмов?
— Мой лорд, судя по доспехам и говору, это рутены.
— Рутены? Какого черта здесь делают рутены? Ты бредишь? Пьян или спятил от усталости.
— Это рутены, мой государь.
— Откуда здесь могут быть рутены? Они же сзади!
— Выходит, что и впереди.
— Что за нелепость? — Генрих Боклерк сжал пальцами виски. Уже которую ночь он не мог толком выспаться, и усталость волнами накатывала на него, словно очерчивая границу земной тверди и все яснее указывая ему предел сил.
Король хотел было разразиться гневной тирадой, но вдруг осознал, что не может этого сделать. Неожиданно для себя он понял, что ему отчего-то безразлично, что впереди рутены и что сзади совсем рядом тоже дышит ему в затылок их войско. Это была западня, медвежий капкан, не было сомнений, что он попался и шансов выбраться, вероятно, уже нет.
Король попытался вздернуть себя, будто коня на дыбы, но сознание отвечало ему глухой апатией. Лишь только повторенное в уме имя дочери заставило его открыть глаза и прервать молчание.
— Фитц-Алан, отправляйся к рутенам. Скажи им, что я почту за честь сразиться с ними, но прежде я должен свести счеты с моим племянником и отобрать у него захваченную этим гнойным исчадием дочь. Я прошу владыку рутенов, кто бы он там ни был, снизойти к моим отцовским чувствам и пропустить меня. Я ему даю рыцарское слово, что, как только расправлюсь с мерзавцем, я незамедлительно вернусь и буду готов принять бой в том месте, в каком ему заблагорассудится.
— Но… мой государь…
— Я не желаю слушать твои «но», мерзкая крыса! Ступай быстрее! У меня нет времени ждать.
— Но я же не знаю ни слова по-рутенски!
— Ежели они пришли сюда, наверняка у них с собой есть толмачи! Давай пошевеливайся, чертов негодяй! И будь так убедителен, как не был никогда.
— Я повинуюсь, мой государь, — вздохнул королевский секретарь, мысленно содрогаясь от грядущей встречи. Он было уже занял место в седле, но тут к мрачному, точно грозовое небо, Боклерку вновь подбежал давешний оруженосец.
— Мой лорд! Там гонец.
— Какой еще гонец?
— Рутенский. Какой-то монах.
— Снова эти чернильные души. Веди его сюда!
Приказ короля был исполнен незамедлительно, и через несколько минут осанистый монах-василианин стоял перед королем Британии с видом, полным смирения и достоинства.
— Что тебя послали сказать? — не утруждаясь приветствием, хмуро поинтересовался Генрих Боклерк.
— Князь Мстислав, повелитель русов, пришедший сюда для того, чтобы вернуть принадлежащие ему по праву завещанные матерью, королевишной Гитой…
— К черту королевишну! К черту право, к черту князя! Я знаю, что он пришел сюда драться, и мне нет дела до всего прочего, — перебил его король. — Передай своему господину, что я с радостью скрещу с ним мечи, но сейчас мне не до него. Я должен освободить свою дочь и покарать изменника.
— Мой государь велел передать вам, — столь же бесцеремонно и твердо перебивая короля, продолжал монах, — что принц Стефан Блуаский убит сегодня ночью, ваша же дочь находится у нас.
— Вы пленили ее, — бледнея еще более, с усилием подавляя невесть откуда взявшуюся дурноту, проговорил Генрих Боклерк.
— Принцесса Матильда сейчас больна. Мы освободили ее и готовы передать вам в любой момент, но, как утверждает лекарь, жизнь ее держится сейчас на волоске, и неведомо, выдержит ли ваша дочь дорожную тряску. — Монах умолк, вероятно, желая поглядеть, какую реакцию вызывают его слова.
— Ну, говори же, говори, несчастный, что ж ты замолчал? — прохрипел Боклерк.
— Мой князь велел передать вам, что он приглашает вас быть его гостем, дабы свидеться с дочерью. На время вашего пребывания он обещает полную неприкосновенность вам и всем вашим людям.
— А даже если бы не обещал, — оскалился король. — Фитц-Алан! Что ты стал, точно гоблины уже заколдовали тебя? Давай шевелись! Мы едем.
* * *
Они стояли в шатре у самого полога, и низкорослый длиннорукий лекарь, глядя то на лежащих перед ним женщин, то на хлопочущих служанок, то на монаха-толмача, то на прибывших гостей, скороговоркой орал во всю глотку какие-то неведомые слова на непонятном языке.
— Ну что, что вы здесь собрались? Разве это цирк? Я вам что тут, дрессированная обезьяна? Проваливайте отсюда немедленно! Эй вы, курицы! Где кипяченое вино? Я уже час прошу вас вскипятить вино!
— Это что еще за шут? — глядя на беснующегося наследника Эскулапа, угрюмо спросил Генрих Боклерк.
— Ну-ка, проваливайте! — между тем орал медик. — Им нужно как можно больше воздуха. Откиньте полог. И пошли вон!
— Это доктор Андреа, по прозвищу Сальваторе, — не замедлил с ответом на вопрос короля Джордж Баренс. — Он просит вас удалиться, ибо больным нужен воздух.
— Если ему нужен воздух, пусть берет весь воздух моего королевства, лишь бы дочь стала на ноги.
— Да, я доктор Андреа Сальваторе, — невпопад выпалил, брызгая слюной, ученый муж, — между прочим, личный медик короля Роже Сицилийского! Эй вы, снулые рыбины! Несите вино скорее сюда! И где пустырник? Я велел вам его истолочь. Где пустырник, я спрашиваю вас? А вы? Вы дали им древесный уголь? Я с кем разговариваю? В наших краях и статуи более понятливы, чем вы! — Он вновь махал руками, топал ногами, время от времени вцеплялся в свою и без того поредевшую шевелюру и горланил так, будто никаких других способов разговора попросту не ведал. — Быстрее, быстрее! И тихо все! Пусть будет тихо!
При очередном упоминании средиземноморской державы Боклерк, что-то явно вспоминая, метнул на Фитц-Алана гневный взгляд. Тот лишь молча развел руками.
— Ладно, — пробормотал король, — как бы там ни было, а лекарь здесь оказался очень кстати.
— Княже, — раздалось вдруг поблизости. — От воеводы Бьорна гонец прибыл.
— Да что ж за день сегодня такой? — пробормотал Генрих.
— Она сейчас без сознания, — негромко проговорил Джордж Баренс, — но лекарь говорит, что жизнь ее уже вне опасности.
— Слава Господу! — прошептал Генрих Боклерк и повернулся к Мстиславу. — Я желал бы поговорить с тобой.
— Да, конечно.
— Но… толмач.
— С вашего позволения, — вмешался Баренс, — мессир Вальтарэ может помогать лекарю, он ведь отчасти тоже сицилиец.
— Да, распорядитесь призвать мессира Камделя, — скомандовал Мстислав.
— Он ждет, мой князь.
Мстислав удовлетворенно кивнул и обратил взгляд на серого от усталости гостя.
— Как мне сказали, ты сын Гиты, дочери Гарольда Годвинсона.
— Да, это так.
— И пришел отвоевывать свою родовую землю.
— И это правда.
— Забавно. Вот уж откуда не ждал беды, — вздохнул сын Вильгельма Завоевателя. — Ну что ж, принц, — кладя тяжелую руку на плечо Мстислава, заговорил Боклерк, — извини, я не произнесу твоего имени.
— Мать называла меня Гарольдом.
— Хорошее имя, — усмехнулся король. — Послушай, Гарольд, и вы послушайте. — Генрих Боклерк оглянулся на дворян свиты, в молчании ожидающих у шатра своего повелителя. — Если Матильда встанет на ноги, а я не устаю молить Бога, чтоб она встала на ноги, я был бы рад, чтобы ты стал ей мужем.
— Мужем?
— Да. Насколько я помню, мне говорили, что ты — вдовец.
— Это правда. Но пожелает ли она?
— Пожелает, — усмехнулся король. — Такова моя воля.
— А ее?
— Господи! Ты дослушаешь меня или нет? — рявкнул король. — Так вот, — пристально глядя на удивленно замолкшего князя, продолжил Боклерк. — Я хочу, чтобы ты стал ей мужем, мне — наследником. Я желаю покинуть трон. Сказать по правде, мне противно его занимать.
— Это великий дар, — ошеломленный услышанным, проговорил Мстислав.
— Если ты имеешь в виду мою дочь, то, несомненно, даже больше, нежели ты можешь представить себе. Ежели королевство, то, поверь мне, своему будущему родственнику и, как мне представляется нынче, любящему родственнику, это никудышный дар. Впрочем, скоро ты сам в этом убедишься. А сейчас я направляюсь к своему войску, пусть и там порадуются. — Он повернулся, призывая оруженосца, держащего в поводу коней.
— Быть может, отобедаете сперва?
— Не нынче, — отмахнулся король.
— Мой лорд. — Фитц-Алан склонился перед государем, вдруг как-то сразу постаревшим и осунувшимся. — Как я могу понять, вы желаете посвятить остаток жизни Господу нашему?
— Кому? — Глаза Боклерка яростно сверкнули.
— Господу. Уйти в монастырь.
Плечи Боклерка немедленно расправились.
— Я — в монастырь? Ах ты, гнусавый псаломщик! Ах ты, мокрица клиросная! Слушай меня, негодяй! Я буду жить в замке, охотиться, читать и слушать музыку. Быть может, захочу написать что-нибудь сам. Но если кто-нибудь из подобных тебе боголюбцев посмеет открыть при мне рот без моего на то соизволения, я велю засунуть туда хорька и лично прослежу, чтоб он выгрыз негодяю язык! Я буду жить в замке и велю всей челяди носить черные колпаки с прорезями для глаз, ибо я не желаю видеть их гнусные рожи. — Генрих остановился и задумчиво поглядел на секретаря. — Так и быть, ты можешь ходить без колпака. Твоя тоскливая физиономия меня даже развлекает. Гарольд, дорогой мой зять, возьми за ухо эту духовную особу и проследи, чтобы он все подготовил к свадьбе.
Будущий родственник Боклерка с невольным почтением уставился на разгневанного, пусть уже почти бывшего, короля.
* * *
В тот день Генриху Боклерку все же не суждено было отправиться к своему войску, ибо заключение мира, вернее, окончание войны следовало отпраздновать как подобает. На застолье был приглашен даже изловленный в округе и уже попрощавшийся было с жизнью лазутчик принца Гриффита, определенно недоумевавшего, отчего вдруг британцы решили воевать с рутенами именно в его землях и, что самое противное, отчего вдруг передумали.
Когда долгие заздравные речи сменились краткими и емкими пожеланиями, смысл которых уже никто не понимал, ибо вряд ли мог услышать за общим гомоном, князь Мстислав привлек к себе своего грозного наставника, воеводу Бьорна, и зашептал ему на ухо:
— Ты мне вот что скажи, друг милый, это ж как вдруг случилось, что ты здесь очутился? Я мыслил, ты по сей день в Новгороде дожидаешься.
— Прямо сказать, — так же тихо отвечал ему испытанный в сотнях битв и мелких стычек Бьорн Хромая Смерть, — я и сам вас тут видеть не чаял. Токмо-токмо мы в Новгород пришли, едва в Софии помолились, как тут крик, звон, набат, точно пожар где.
— И что же?
— Выскочили, глядь, а по Волхову, будто по суше, ваш батюшка, Великий князь наш ступает. Мы тут все на колени так и рухнули. А Владимир Всеволодович тут нам и говорит: «Ступайте за море, в земли бриттские. Сына моего не ждите — там его встретите. Как придут свеи, так и отчаливайте с ними».
— Надо же! — ошеломленно покачал головой Мстислав.
— Да хоть кого спросите, все ж, почитай, своими глазами видели! А как сказал то свет наш князь Владимир Мономах, так вмиг пред взорами нашими в воду и канул. А на другой день как раз и свеи пришли.
— Идут, идут! — в княжеский шатер вбежал один из гридней.
— Толком говори, кто идет?
— Люди всякие, числом немерено.
— Нешто эти, как их, валлийцы?
Генрих Боклерк смерил вбежавшего долгим немигающим взглядом.
— Нет, Гарольд, это не валлийцы. Те, пока мы здесь стоим, из своих замков носа не покажут. Эта толпа взбесившихся голодранцев — твой народ. — Он поднялся, опрокинув недопитую чашу вина. — И знаешь, к черту замок, к черту слуг в колпаках. Я желаю в последний раз видеть этих одуревших негодяев и их бесноватого аббата. Фитц-Алан, коня мне!
* * *
«Те Део, Лаудамус»[81] неслось над равниной. Вид грозного воинства, стоявшего по ту ее сторону, мог смутить любого военачальника, но только не тысячи шествующих в экстатическом порыве голодранцев с кольями, вилами и цепами наперевес. Казалось, они не видели перед собой врага, но только небесный свет, указывающий им путь.
Им не дано было знать, как в этот миг Генрих Боклерк, отстранив повелительным жестом своего преемника, зыркнул на него исподлобья и проговорил, как отчеканил:
— Не спеши, Гарольд, начинать правление свое с кровопролития.
Он дал шпоры коню и обезумевшая, казалось, толпа вдруг совсем близко перед собой увидела яростного, точно раненый бык, короля.
— Чертово семя! — проносясь мимо неровной линии передового отряда, гневно проревел Генрих Боклерк. — Как смеете вы поднимать оружие на вашего повелителя? Как могли вы променять своего короля на замухрышку аббата?
— Богохульник! — раздался из толпы неистовый вопль Бернара Клервоского. — Смерть ему! Смерть нечестивцу!
Камни, палки и просто комья грязи полетели в короля, и толпа с ревом бросилась вперед, снося венценосного наездника и продолжая свой путь по его уже бездыханному телу. И в тот же миг соединенные рати русов, свеев и английских баронов с ревом и боевыми кличами устремились на врага. За криками, ржанием коней, стонами раненых, звоном оружия не было слышно, как завопил кто-то, указывая в небо: «Она падает!»
Небесный огонь, и ночью, и днем горевший в Господней тверди, вдруг оборвался и подобно брошенному камню устремился вниз.
Когда бы Господь из горнего чертога наблюдал это необычное сражение, то падающую с небес звезду можно было легко принять за его слезинку. Ибо, как ни велико было рвение поборников Бернара из Клерво, происходящее больше напоминало избиение, нежели настоящее сражение.
Но все же в одном месте дело обстояло совсем иным образом. Отряд рыцарей в белых плащах с нашитым поверх алым крестом с расширяющимися лопастями двигался вперед спокойно и неудержимо, разрезая, будто раскаленный нож, боевые порядки воинства нового короля Гарольда III.
Если бы кто-нибудь мог видеть этот бой со стороны, внимательный глаз заметил бы одну странную закономерность. Все, кто попадал под смертоносные удары рыцарей этого отряда, казалось, попросту не видели приближающейся опасности. И вот из-за этой незримой стены доносился зычный голос аббата Бернара.
— Как стены Иерихонские пред трубами Иисуса Навина, падут враги пред тем крестом!
— Вальдар, ты это слышал? — раздался на канале мыслесвязи встревоженный голос Лиса.
— Конечно!
— Как пить дать, это твои брателлы тамплиеры!
— Это я уже понял! — резко ответил Камдил, разворачивая коня. — Они пробиваются к часовне, их ведет звезда.
— Маманя дорогая, она падает!
— Да, я вижу. Поворачиваем туда.
Молнией, знаком вышнего гнева, огненной полосой прочертив темнеющее небо, звезда, ведшая крестоносное воинство все эти дни, рухнула на крышу походной молельни. И поле боя вдруг залило сияние, заставившее и тех, кто был спиной, а уж тем паче тех, кто был лицом к нему, закрыть покрепче глаза и заслониться руками и щитами от нестерпимого света.
И среди многих тысяч было лишь несколько тех, кто видел, как вздымается до неба фигура ангела с распростертыми крылами и навстречу ему взлетает странная человеческая голова на змеиной шее.
— Ты не рад встрече, Андай?
— Отчего ж, Антанаил?
— Погляди, к чему привело твое провидение.
— Вернее, твое коварство.
— Тогда, выходит, мое коварство сильней твоего предвиденья? Уходи, Андай. Исчезни. Я даю тебе этот шанс. И никогда больше не появляйся и не лезь в мои дела.
— Для чего ты пытаешься испугать меня, Антанаил? И ты, и я знаем, что не можем поразить друг друга. А потому к чему весь этот шум, огненный меч. Уж не меня ли ты собрался испугать?
— Испугать? Пустое. — Не переставая сиять, ангел резко уменьшился в размерах и стал ростом с дуб средней величины. И ты, и я знаем, что я не могу тронуть тебя. — В его тоне слышалась то ли насмешка, то ли примирительная нотка. — Верно, не могу. — Антанаил резко поднял щит. — Но они могут.
Предводительствуемые аббатом Бернаром рыцари вмиг осадили коней, не находя в себе ни сил, ни возможности осознать увиденное.
— А-а-а! Дьявол! Дьявол! — завопил настоятель Клерво. — Поразите его! Сила Божья в мечах ваших! Ангельское воинство за вашими спинами!
— Стойте! — Вальтарэ Камдель вклинился между рыцарями и Андаем, готовясь принять на щит взметнувшиеся было мечи.
— Вальтарэ? — вскричал Гуго де Пайен, узнавая боевого товарища. — Ты здесь?
— Да, это я. Я клянусь и присягаю на кресте, что это — не дьявол.
— Я и так слышу, нечего на кресте присягать, — вмешался Лис. — Если шо, командуйте, стрела на тетиве.
— Он продался дьяволу! — визгливо закричал Бернар, схватившись за меч де Пайена, и с невиданной дотоле силой выдернул его из железного рыцарского кулака.
— Гаплык Бернару! — услышал Камдил и почувствовал, как тяжелая, в ярд длиной стрела, точно удар ломом по спине, вышибает его из седла.
— Вальдар!
— Я жив! — прохрипел Вальдар Камдил, пытаясь встать. — Хороший кевлар[82]. У-у, наверняка ребра сломаны.
— Но я же… — ошеломленный Лис бросился к напарнику. Никогда, ни ночью, ни днем его стрелы не давали промаха, а уж с такой-то дистанции!..
Между тем овладевший рыцарским мечом настоятель Клервоской обители, каким-то невероятным скачком перепрыгнув через лежащего на земле рыцаря, бросился к потомку Ангуса и, вопя что есть мочи «Смерть адскому исчадию!», опустил клинок на шею Андая…
И будто облако опустилось на поле боя, и когда поднялось оно, все стояли, бросив оружие и оглядываясь, точно спрашивая: «Что происходит здесь и для чего все это кровопролитие?»
«…И было пролито слез боле, чем дотоле крови, и нигде не могли сыскать ни Бернара из Клерво, ни его рыцарей, точно и не было их, а было то видение, злокозненная навь».
* * *
Князь Мстислав, король Гарольд III, въезжал в молчащий Лондон. При виде нового короля жители в знак покорности склоняли колени и опускали головы, будто подставляя шеи под удар топора. Рядом с князем, бледная от болезни и от всего пережитого, ехала одетая в траур Матильда. И поднявшись с колен, лондонцы бросали на нее благодарные взгляды, полагая, что только ее заступничеству обязаны они избавлением от справедливой кары.
— Нерадостно начинается ваше правление, мой государь. — Едущий рядом с королем Гарольдом толмач чуть пришпорил коня и оказался совсем близко от Мономашича.
— Нерадостно, — подтвердил тот.
— Эти люди боятся вас, ибо полагают, что вы станете мстить им за своего тестя, которого они страшились пуще чумы.
— Всякий бунт — зло, — коротко ответил король. — Зло и помрачение разума.
— Я знаю способ, как сломить их недоверие.
— Как же, многомудрый отче?
— Мне доподлинно известно, что император Иоанн, памятуя о том, что сии земли некогда входили в состав империи, рад был бы признать вас законным их кесарем и венчать, как и подобает, золотым венцом на царствие. Таким образом, в глазах народа вы будете не свирепым варваром, побившим их в недавней битве, а восстановителем закона и порядка.
Мстислав бросил на монаха негодующий взор.
— Ты городишь нелепицу, Георгий Варнац! Сие есть полная несусветица. По вышнему праву, по матушкину завету, я — сей земли законный повелитель. И ни василевс ромейский, ни алеманский император — никто мне не указ. Ибо по праву аз есмь кесарь земли матерной. А коли кто с тем не согласен, тому сей меч — прямой ответчик. — Гарольд III положил тяжелую руку на крестовину булатного кладенца, и молчаливая толпа вздрогнула, ожидая начала расправы. — А что же до этих касаемо, наступит день, когда они мне радоваться будут. Пока же твое дело — не речи глупые весть, а меня языку их обучить. Уразумел?
— А шо, по-моему, очень доходчиво объяснил, — появился на канале закрытой связи Лис, — очень так по-мономашьи!
— Ну и что означает твой комментарий?! — оскорбился лорд Баренс. — Лучше скажи, как там Вальдар?
— Ну, до того, как ему стрелой ребра поломало, было лучше. Но это ж, блин, какое паскудство! Ох, встречу я того ангела… Я из его перьев сделаю себе модную шляпочку и буду играть в индейцев!
— Очень может быть, что и встретишь, — отозвался монах-василианин. — Я разговаривал с базой. Наша миссия закончена, но Институт не склонен сворачивать деятельность в этом сопределе, а после гибели Андая так и подавно.
— И вот плывет между созвездий,
Волнуясь черными ужами,
Лицо отмщенья и возмездий,
Глава отрублена ножами, —
вдруг продекламировал Лис. — Блин горелый, все-таки Хлебников будто что-то знал.
— Я повинуюсь, — между тем, отставая, склонил голову королевский советник. — Все будет, как вы прикажете, мой государь.
* * *
— Мой герцог! — Йоган Гринрой распахнул двери залы и, разбросав руки, точно для объятия, появился перед Конрадом Швабским.
— Ты?..
Рыцарь Надкушенного Яблока огляделся, затем задумчиво ощупал себя и заявил:
— С утра был я. Я упросил не сообщать обо мне. Ибо после столь долгой разлуки это могло омрачить нашу встречу. Неужто вы мне не рады?
— Раз ты здесь, то, полагаю, и она тут?
— Насколько я понимаю, вы имеете в виду императрицу? — Лицо Гринроя приняло задумчивое выражение.
— Да, проклятие!
— Она здесь.
Конрад бросился в соседнюю комнату и остолбенел на пороге. Пред ним, сияя голубыми, чистыми, как небо Адриатики, глазами, неземным видением, скромно потупившись, стояла Никотея. От неожиданности Конрад не нашелся, что сказать, поклонился, заскочил обратно в комнату и прикрыл дверь.
— Это кто? — почему-то шепотом спросил он.
— Мне представлялось, что я уже сказал. Это — императрица.
— Ты, что же, наглец, дурачить меня вздумал?
— Ну что вы, ваше совершенство, в этом никому не дано преуспеть!
— Где императрица?
— Если вы имеете в виду Матильду, дочь покойного короля Генриха Боклерка, то, насколько мне ведомо, она не так давно обручилась с князем рутенов с непроизносимым именем. Сей князь взошел на английский престол, и отныне его величают Гарольдом III. В связи с этим она перестала быть императрицей.
То же прекрасное видение, что с таким нетерпением ждет вас по ту сторону двери, — племянница василевса Иоанна Комнина. И можете мне поверить, нигде не найти вам девицы более достойной известного вам титула. А посему я, как верный слуга, исключительно заботясь о благе господина, привез вам не бывшую государыню, но императрицу будущую.
Конрад Швабский поглядел на ухмыляющуюся физиономию «преданного слуги», затем вызвал в памяти ангельский лик племянницы императора ромеев.
— Ступай.
— Но… мой господин, я поизносился и поиздержался в пути, свершая немыслимые подвиги в вашу честь.
— Ступай! — с нажимом повторил герцог.
— Нет, конечно, я, как рыцарь, готов с терпением и гордостью сносить все удары судьбы. Но, быть может, вы скажете, что отвечать тем злоязыким негодяям, которые, увидев меня, осмелятся называть моего доброго господина скрягой, а то и попросту нищим, которому, ясное дело, недоступна добродетель щедрости…
— Ступай, Гринрой, я не желаю тебя видеть! — уже борясь с приступом хохота, закричал Конрад Швабский. — И придешь утром. За наградой.
— Вы, как всегда, правы, мой государь! Хорошая баня и обед сейчас мне никак не помешают!
* * *
Бернар извивался и корчился в судорогах, потрясая окровавленным мечом.
— Это дьявол! Это сам дьявол! Рубите его! Я велю вам, рубите его! Ибо мечи ваши — молнии Господни!
— Где мы? — прошептал один из рыцарей, оглядываясь.
— Где? — Гуго де Пайен перехватил запястье бьющегося, точно в лихорадке, родича и мягко выдернул меч из пятерни. — Я не ведаю, каким образом мы здесь очутились, но сама местность мне хорошо знакома.
— Вот даже как?
— Да. В полулье отсюда расположен Клерво. А вон туда, — Гуго махнул рукой на север, — два часа пути до Пайена. На этой пустоши мы в детстве охотились на зайцев.
— Но как мы очутились здесь?
— Я же сказал, не знаю, — отрезал де Пайен.
— И что делать с этим? — один из рыцарей поднял с земли серебряное блюдо, на котором лежала окровавленная бездыханная голова. — И преосвященный Бернар…
— Слушайте меня, — прервал речи соратников магистр. — Сегодня вы поклянетесь никому и никогда не говорить о том, что произошло. Забудьте вообще, что были в Британии. Голову я спрячу! В Пайене есть где надежно скрыть подобную вещь. Аббата мы отвезем в Клерво и скажем, что по пути он заболел. Будем уповать на небеса и верить, что прежняя ясность ума вернется к нему.
— А ежели пойдут слухи? Там ведь было столько народу…
— Твердите одно: в Святой земле мы обрели величайшее достояние христианского мира — истинную нетленную главу Крестителя Иоанна, и она поведала нам многие тайны. Место же сохранения оной главы есть величайший секрет ордена. Клянусь! — проговорил, давая пример, сам Гуго де Пайен, кладя руку на рукоять меча с упрятанными в ней святыми мощами.
— Клянусь!
— Клянусь!
— Клянусь!..
Эпилог
Наступив на хвост змее, главное — не тратить время на извинения.
Дож недоуменно открыл глаза. Рассветные лучи только-только пробивались в окна, давая понять, что лишь монахам для заутренней пристало вставать в такую рань. Однако же слуга не сильно, но упорно трясший его плечо, был неотвязчив, точно полуночный комар.
— Ну что еще такое? — проговорил недовольно правитель Венеции.
— К вам дон Анджело Майорано.
— В такую-то рань? — Дож протер глаза. — Он что, жив?
— Более чем жив, — со вздохом отвечал слуга. — С первыми лучами солнца «Святой ангел» пришвартовался в бухте Риальто, и дон Анджело поспешил нанести вам визит.
— Какой еще визит? Пусть убирается и приходит в час приема.
— Мой повелитель, его люди обезоружили стражников у ворот и в коридорах дворца, и сейчас он держит острие кинжала у горла вашего мажордома.
Дверь спальни распахнулась, в нее спиной, пятясь, вкатился испуганный толстяк-мажордом, а вслед за ним — человек чуть выше среднего роста, с лицом довольно приятным, когда б не чувствовалась в нем не особо скрываемая опасность для всякого двуногого существа.
— Я слышу, вы уже проснулись, блистательный дож.
— Это не повод врываться ко мне! — возмутился тот.
— Согласен. Но я очень спешу. Я прибыл за своим вознаграждением.
— Каким еще вознаграждением?
— Которое было обещано мне за то, что русы не вступят в союз с василевсом Иоанном.
— Но… — Дож нахмурился. — Мне ведомо, что вас не было в Британии. И потому…
— И потому я прибыл сюда несколько ранее пристойного часа, чтобы не дать возможности блистательной Венеции обмануть своего верного и преданного слугу. Русы не стали союзниками ромеев. Это — главное. Все остальное — чепуха. А потому — платите деньги. И дабы не обременять вас своим присутствием, сразу по получении золота я выйду в море.