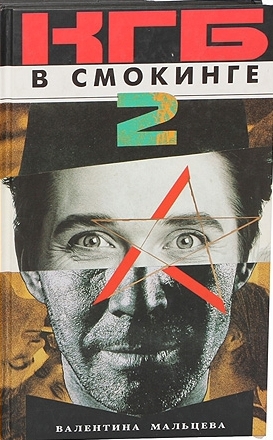
Мальцева Валентина
КГБ в смокинге-2: Женщина из отеля «Мэриотт» Книга 1
ОТ АВТОРА В КАЧЕСТВЕ КОРОТКОГО ПРЕДИСЛОВИЯ
Моей маме с надеждой, что она успеет прочесть эту книгу
После выхода в свет первых двух томов романа «КГБ в смокинге» мне чаще всего задавали один вопрос: «Что в твоей книге правда, а что — вымысел?» И всякий раз мне приходилось, — очевидно, в силу серьезного срастания с образом своей героини, — отвечать вопросом на вопрос: «А что, по-вашему, правда, и что — вымысел?» Уверяю вас, подобная реакция вовсе не означает желание уйти от прямого вопроса. Мне доводилось встречать людей — пожилых, умных и достойных, отсидевших всю войну в тылу, где-нибудь в Ташкенте или Караганде в силу вполне объективных причин — слабого здоровья, неспособности к несению воинской службы, особой ценной гражданской специальности и прочего. Однако потом, после Победы, эти люди начали терпеливо возводить каркас СВОЕГО, индивидуального мира — мира несбывшихся надежд, нереализованных планов, не испытанных ощущений… Они терпеливо, год за годом, облицовывали это ирреальное, созданное только игрой собственного воображения, здание гладкими, надежно состыкованными подробностями о том, как по приказу пьяного комбата они штурмовали высотку где-то под Сталинградом, закапывались в траншею, когда их утюжили немецкие танки, или глухой смоленской ночью переползали линию фронта, чтобы вернуться к своим с «языком»… Но самое невероятное заключается в том, что по истечении десятков лет эти люди искренне верили, что на самом деле ВСЕ ТАК И БЫЛО. Рассуждая формально, сказанное ими детям, внукам, любимым женщинам — ложь, грубое искажение реальности. Но кто швырнет камень в человека, который искренне хотел быть востребованным историей, собственной совестью, своим представлением о том, какой именно должна быть его личность?
Возвращаясь к своим весьма скромным литературным пробам, могу сказать то же самое: я верю в то, что все написанное мной — правда. Настолько, насколько может быть правдой любое литературное произведение, созданное по законам вполне определенного жанра и описывающее события, еще окончательно не размытые пеленой Времени. В противном случае, не было бы никакого смысла вводить в книгу Андропова и Брежнева, Картера и Цвигуна, Устинова и Пономарева… Что же касается РЕАЛЬНОСТИ главной героини, ее внутренних противоречий, изломанной судьбы, а главное, тяжести выпавших на ее долю жизненных испытаний, то лучшим ответом может служить реакция сотен тысяч людей, которые прочли мою первую книгу и, надеюсь, найдут в себе мужество повторить этот беспримерный подвиг.
«КГБ в смокинге-2» — прямое продолжение первых двух книг. Вместе с тем, это совершенно самостоятельный роман, со своей канвой, исторической линией и литературными приемами. Мало того, рискну предположить, что человек, пропустивший первые две книги и прочитавший этот двухтомник, вполне может увидеть совершенно ИНУЮ Валентину Мальцеву. Интервал в написании двух романов составил без малого три года — срок вполне достаточный, чтобы вместе со стремительно меняющимся миром изменился и сам автор. Совершенно нормальное явление для нашего ненормального мира.
И последнее.
Вокруг меня и на отдаленном расстоянии, в России и США, в Израиле и Германии живут, заботятся о родителях и детях, любят, борются с нуждой, строят воздушные замки и отчаянно матерятся несколько десятков мужчин и женщин, без которых все в моей жизни, в том числе и эта книга, теряет изначальный смысл. Приводить их имена страшно: а вдруг случайно выпадет какое- то близкое, очень дорогое мне имя, и к миллионам несправедливостей, происходящим вокруг нас каждую секунду, прибавится еще одна, с моей точки зрения, совершенно непоправимая? А потому я, не называя имена дорогих мне людей, просто признаюсь им в своей любви. В надежде, что они меня поймут, не перестанут любить и обязательно простят…
Пролог
МОСКВА. ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО. ЗДАНИЕ КГБ СССР
Февраль 1978 года
— Доброе утро, Юрий Владимирович! — тон Андрея Александрова-Агентова, помощника Генерального секретаря ЦК КПСС, был абсолютно ровным, без излишнего пиетета и в то же время достаточно уважительным. Подобная тональность вырабатывается годами терпеливого выживания, а также шлифовки характера и манер при очень большом, ни разу не оступившемся в своей политической карьере, начальнике и свидетельствовала о высочайшей степени придворной выучки. Александров, работавший в 1963–1964 годах инструктором Международного отдела ЦК КПСС, курировавшего социалистические страны, уведомлял о поручениях своего всесильного шефа только членов и кандидатов в члены Политбюро.
— Доброе… — Андропов взглянул на кварцевые часы, вмонтированные в торцевую стену его огромного кабинета на Лубянке — 8.38.
— Вы могли бы к девяти быть у Леонида Ильича?
— Буду.
— До свидания, Юрий Владимирович.
— Всего доброго.
Положив трубку кремлевской «вертушки» — единственного из трех десятков аппаратов, стоявшего отдельно, непосредственно под левой рукой, Андропов на секунду задумался. Не было сказано ничего, кроме времени аудиенции. Следовательно, Брежнев решил встретиться с ним внезапно, возможно, даже несколько минут назад. В противном случае Андропова предупредили бы об этом накануне или, в крайнем случае, с самого утра — Александров, державший в своей гордо посаженной седой голове график работы и привычки всех без исключения членов и кандидатов в члены Политбюро, естественно, знал, что Юрий Владимирович Андропов никогда не входил в свой служебный кабинет на площади Дзержинского позднее восьми утра. Да и потом, Александров, опытный кремлевский диспетчер и знаток сановного протокола при Генеральном секретаре ЦК КПСС, никогда бы не поставил такую значительную фигуру, как председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, в унизительное положение, при котором члена Политбюро уведомляют о встрече с Генеральным секретарем партии всего за двадцать минут.
Будь у Юрия Андропова другой характер и не столь принципиальные взгляды на жизнь, он, подобно многим аппаратчикам самого высокого ранга, легко заполучил бы рычаг воздействия на такую, вроде бы, «автономную» фигуру, как личный помощник генерального секретаря ЦК КПСС. Андропову было доподлинно известно, что Александров вовсе не святой и охотно делится «бытовой» информацией о настроении, колебаниях и кое-каких планах своего могущественного патрона, связанных с кадровыми перемещениями, с некоторыми членами Политбюро. Не безвозмездно, естественно, хотя Александров абсолютно ни в чем не нуждался, а в обмен на милые сердцу любого советского человека, даже такого обеспеченного, как помощник генсека, пикантные безделушки вроде бриллиантового кольца в день рождения супруги или как нельзя кстати приуроченные к Новому году пару-тройку ящиков коллекционного коньяка с полным набором фруктов из экзотических южных республик. Однако председатель КГБ СССР никогда не позволял себе опускаться до подобного уровня получения информации. И вовсе не потому, что был снобом или идеалистом. Двенадцать лет, проведенные в самой гуще коварных планов, секретов, бесчисленных интриг и государственных тайн, многие из которых давали Андропову поистине безграничную власть над огромным и казавшимся абсолютно защищенным миром, научили его с должным уважением относится к любому способу получения секретной информации, каким бы циничным, безнравственным или откровенно грязным он ни был. Однако в случае с Александровым и несколькими его коллегами Юрий Андропов знал то, что было недоступно многим членам Политбюро: в общем-то невинные, но, как правило, содержащие в себе некое информационное зерно, фразы, «утекавшие» из легендарного кабинета на Старой площади по якобы болтливости помощника Генерального секретаря, на самом деле строго дозировались и направлялась по конкретным адресам самим Леонидом Брежневым, тщательно проверявшим, как действует эта с виду малозначительная, а подчас откровенно чепуховая информация на его ближайшее окружение и к чему она в итоге приводит.
Юрий Андропов всегда подозревал, что этот не очень хитрый, но весьма эффективный тактический прием Брежнев позаимствовал из арсенала Иосифа Сталина, мрачного гения внутриполитических интриг и всевозможных политических ловушек, частенько использовавшего своего личного помощника Александра Поскребышева в подобного рода «утечках» закрытой, строго секретной информации…
Надо сказать, что в тесном кругу членов Политбюро сама тема отношения к Сталину по традиции являлась вопросом тонким и чрезвычайно щепетильным. Все высшие партийные функционеры из ближайшего брежневского окружения, которые зачастую компенсировали серьезные пробелы в образовании и общечеловеческой культуре скорпионьей интуицией и непостижимой для нормального человека способностью угождать и приспосабливаться, прекрасно понимали, что по своим взглядам, складу ума и жизненному опыту Брежнев просто не мог не боготворить как характер, так и стиль политического руководства Сталина — в конце концов, он был типичным представителем того самого военного поколения, для которого фанатичная любовь вождю и слепое повиновение его железной воле являлись своего рода индульгенцией, прощавшей ее обладателю и подлость, и предательство, и даже садизм. О прямом хрущевском «наследии» — недолгом периоде эмбриональной советской демократии — Леонид Ильич Брежнев размышлял исключительно редко, как правило, скороговоркой, опустив глаза… В эти редкие моменты Генеральный секретарь очень напоминал человека, стесняющегося признаться в том, что вынужден регулярно принимать на ночь слабительное. Даже в застолье, окруженный единомышленниками, неизменно смотревшими ему в рот и изначально готовыми принять любую фразу Генерального секретаря ЦК КПСС за некий перл марксистско-ленинской философии и партийной прозорливости, Леонид Брежнев практически не допускал разговоров о Сталине — ни хороших, ни тем более критических. А если, очень редко, эта тема все-таки возникала, то суровое, с неизменно насупленными бровями и по-азиатски выдающимися скулами лицо Брежнева моментально принимало так не свойственное этому сложному, многоплановому человеку мечтательно-ностальгическое выражение.
Юрий Андропов хорошо помнил заседание Политбюро, в середине семидесятых годов, на котором Брежнев осадил своего «заклятого друга», первого секретаря Московского горкома партии Гришина, неожиданно резко выступившего против расстрельного приговора крупному деятелю «теневой» экономики (впрочем, для Андропова это заступничество неожиданностью не было — он-то прекрасно знал, что большая часть валюты, драгоценностей и антиквариата, приобретенных на деньги от «цеховых» операций, перекочевывали через подставных лиц непосредственно в сейфы первого секретаря МГК КПСС). Гришин тогда долго и путано говорил о нормах правовой демократии в условиях развитого социализма, о гуманизме и неразрывной связи с массами и, скорее всего, — как это уже было не раз, — сумел бы отстоять своего человека, если бы не обронил крайне неосторожную фразу о симптомах возвращения к «сталинским методам». В ту же секунду лицо Брежнева, еще мгновение назад вальяжное и источавшее мужицкую благожелательность, жутко побагровело.
Гришин понял, что сморозил глупость, но было уже поздно. Воцарилась зловещая пауза. Генеральный демонстративно медленно поднял хрустальный стакан с боржоми, осушил его до дна, после чего, ни к кому лично не обращаясь, хрипло процедил: «В старые времена на Руси мужик, который не храпел, мужиком не считался. Бабы об этом говорили так: «Коли храпит, значит, есть мужчина в доме. Так вот, Сталин, к вашему сведению, товарищ Гришин, храпел до последнего дня! Может быть, потому и не проспал ничего, а?..»
Через трое суток «гришинского» цеховика расстреляли.
Тот факт, что сам Александров охотно участвовал в этих брежневских мини-спектаклях, убеждал Андропова в том, что помощник генсека был плохо знаком с новейшей советской историей: Александр Поскребышев, молчаливая тень своего страшного хозяина, бесследно исчез через несколько дней после скоропостижной смерти Генералиссимуса. Если бы Александров это знал, то, по всей вероятности, переложил бы столь сомнительную функцию на какого-нибудь другого, стоящего на ступень ниже, чем он, помощника Генерального секретаря ЦК КПСС.
…Андропов еще раз взглянул на часы, не глядя на боковую приставку к огромному письменному столу с четырьмя рядами телефонных аппаратов, протянул руку, взял трубку красного телефона, после чего полуобернулся в крутящемся кожаном кресле с высокой спинкой и специальным подголовником и набрал три цифры на диске с выпуклым золотым гербом Советского Союза. После двух длинных гудков на другом конце провода прорезался скрипучий старческий баритон.
— Громыко слушает!
— Доброе утро, Андрей Андреич.
— Юрий Владимирович?
— Меня вызвали на девять…
В трубке несколько секунд помолчали.
— Позвоните мне, когда вернетесь, — пробурчал наконец Громыко.
— Значит?..
— Естественно! — голос Громыко стал чуть резче. — Я в кабинете с половины восьмого…
— Всего доброго, Андрей Андреич.
— И вам того же, Юрий Владимирович…
Положив трубку, Андропов снял очки и начал чисто механически, как он делал это всегда в затруднительных, требующих максимальной концентрации внимания и мысли моментах, протирать стекла очков кусочком тонкой замши. Мысли его, словно талые воды, не встречающие на своем пути бетонных плотин времени, стремительно унеслись почти на двенадцать лет назад, в далекий уже май 1967 года, когда он, еще сравнительно молодой, пятидесятилетний секретарь ЦК КПСС по идеологии, был назначен решением Политбюро на пост председателя КГБ СССР. По кремлевской табели о рангах — святая святых любого кадрового перемещения в высших эшелонах, в соответствии с которой конкретному руководителю строго отмерялась конкретная доза власти, почитания и благ, — это было не просто значительное повышение, а нечто несравненно, несоизмеримо большее. Практически это был последний, самый ответственный и смертельно опасный шаг Юрия Андропова, который ему предстояло сделать на пути к ВАС — Вершине Абсолютной Власти.
Сколько же их было всего?..
Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов, Берия, Абакумов, Серов, Шелепин, Семичастный… Все они, ныне уже бесконечно далекие, всесильные и неизменно смотревшие в рот своему хозяину предшественники Андропова, садившиеся в это черное кресло, в котором по-настоящему постигали необозримые, фантастические и от того особенно страшные возможности ПОДЛИННОЙ власти над людьми и событиями в огромной стране, думали примерно так же, как он. Но ни одному из них так и не удалось сделать этот самый последний шаг к сверкающей вершине: когда до заветной цели оставались считанные метры, буквально один шаг, эти умные, коварные, хитрые, просчитывавшие, казалось бы, все на свете люди внезапно срывались в пропасть, не предусмотренную даже их изощренным инстинктом самосохранения, и бесследно исчезали в пучине кипящей лавы не затихающей ни на секунду борьбы за политическую власть в самой непредсказуемой и страшной державе планеты.
Юрий Владимирович Андропов лучше чем кто-либо знал, что в сталинский период ни одному из его предшественников на посту шефа тайной охранки не выпала привычная для большинства простых смертных доля отойти в мир иной естественно, в своей постели, под скорбные причитания родных и сочувственные возгласы друзей. И если прославленную и незапятнанную «ленинскую гвардию» — неподкупного фанатика и изощренного садиста Феликса Дзержинского, а также его преемника на посту шефа ВЧК — ОГПУ, искуснейшего политического интригана и умницу Рудольфа Менжинского торжественно хоронили у Кремлевской стены в крикливо-романтических традициях ссыльно-лагерного постбольшевизма — обернутыми в бархатный кумач пролетарских знамен, под трескучие речи и совершенно убийственные в своей риторической бессмысленности клятвы товарищей по бессмертному делу мировой революции, то с начала тридцатых годов Сталин попросту наплевал на весь этот лубковый исторический макияж и, открыто обвиняя начальников созданного собственными же руками сурового карательного аппарата в измене принципам социалистической законности и коммунистической морали, расстреливал их как бешеных псов, без суда и следствия, в назидание всем. Сталина пережил только один хозяин желтого дома на Лубянке — Лаврентий Павлович Берия. И то ровно на год — ему пустили пулю в затылок в том самом лубянском подвале, где Лаврентий Берия втайне мечтал увидеть когда-нибудь своего валяющегося в ногах с мольбами о прощении рябого, усатого и ненавистного ему на протяжении долгих, мучительных лет хозяина. Впрочем, у Андропова были достаточно веские основания предполагать, что так внезапно грянувший апоплексический удар, сваливший в могилу живучего как кошка и никому не доверявшего до самого конца Иосифа Виссарионовича Сталина, вполне мог быть последним способом самозащиты попавшего в опалу Берия, которому к началу 1953 году практически уже нечего было терять…
Кварцевые часы чуть слышно клацнули, ненавязчиво напомнив хозяину огромного кабинета с шелковыми — как в фойе провинциального академического театра — портьерами о своем перманентном и необратимом существовании.
8.48.
Андропов какое-то время смотрел в одну точку, отмеченную его подсознанием где-то между огромным, во весь рост, портретом еще молодого, стройного, в привычной защитной гимнастерке и фуражке с вышитой красной звездой Феликса Дзержинского и швейцарскими кварцевыми часами фирмы «Лонжин», потом придавил указательным пальцем квадратную клавишу селектора по правую руку от себя, тут же вспыхнувшую в ответ рубиновым сиянием, и, не отрывая сосредоточенного взгляда от выбранной точки, внятно произнес:
— Я в Кремль. Должен быть в девять…
И все же что-то мешало ему встать, проследовать в конец своего необъятного кабинета, натянуть пальто, привычно, заученным движением, нахлобучить шляпу и спуститься на лифте непосредственно в специально отгороженный отсек внутреннего гаража КГБ. Какая-та неведомая сила притягивала взгляд Андропова к магической точке на белой стене и властно уносила мысли от настоящего к прошлому, ушедшему, но тем не менее никогда не покидавшему этот страшный кабинет…
Чуть больше чем Берии и его предшественникам повезло хрущевским выдвиженцам — Серову, Шелепину и Семичастному. Их не расстреляли и даже не репрессировали, — времена изменились, и Хрущев, публично высекший сталинский культ с трибуны XX съезда партии, был вынужден перевести стрелки пролетарского возмездия на более цивилизованные пути. Тем не менее этих людей постепенно «опустили» так фундаментально глубоко и надежно, что, право же, традиционный кремлевский некролог с подписями всех членов и кандидатов в члены Политбюро сослужил бы детям и внукам бывших хозяев дома на площади Дзержинского куда больше практической пользы, нежели жалкое прозябание некогда могущественных председателей КГБ, в течение суток вычеркнутых из всех справочников и энциклопедий, на ничего не значащих должностях за персональную пенсию и унизительное прикрепление к кремлевской «кормушке» по третьей категории, вместе с обслуживающим персоналом союзных министерств и ветеранами революции республиканского масштаба.
Почти двенадцать лет, пролетевшие после назначения Андропова на пост председателя КГБ СССР, практически ничего не изменили в его от природы феноменальной памяти. Он бы и рад был избавиться от тяжких и даже унизительных воспоминаний фрагментов своего беспрецедентного восхождения к этой отвратительно-манящей, вызывающей одновременно ужас и восторг цели, но был бессилен: мозг жил своей собственной жизнью и упрямо не хотел расставаться с эпизодами и подробностями, которые Андропов мечтал навсегда забыть и с которыми он был обречен не расставаться до самой смерти. Были такие вещи, которые никто, кроме разве что самого Брежнева, знать не мог, да и не должен был. Андропова связывали особые отношения с Александром Шелепиным, «железным Шуриком», удивительным человеком и уникальным циником, любимцем советского комсомола, как никто умевшим придавать какой-то особенный, неповторимый блеск любому делу, за которое он брался. Именно Шелепин сумел надежно прикрыть Андропова в очень сложной, запутанной ситуации, когда после свержения Хрущева шла лихорадочная борьба за кремлевский престол, жертвами которой стало великое множество аппаратчиков, единственным прегрешением которых была романтическая увлеченность хрущевскими реформами. Конечно, Шелепин сделал это не из альтруистских соображений — уже тогда, в шестьдесят четвертом году, он, один из главных инициаторов смещения Хрущева, активно формировал команду и, безусловно, рассматривал умного и тонкого Андропова в качестве своей правой руки. Но именно Андропов, трезво оценив политическую конъюнктуру, сумел не только сманеврировать и остаться совершенно незапятнанным в команде победившего Брежнева, но и сыпанул первую горсть земли в политическую могилу Александра Шелепина, организовав накануне лондонского визита «железного Шурика», занимавшего пост председателя ВЦСПС «утечку» строго секретной информации, после которой перед западным обывателем предстали во всей своей неприглядности дела Александра Шелепина на посту председателя КГБ.
Андропов должен был либо предать своего старого покровителя, либо разделить с ним горький хлеб политической опалы.
Андропов выбрал первое и окончательно расчистил себе дорогу наверх, похоронив самого страшного свидетеля.
Он никогда не был легкомысленным идеалистом и, конечно же, прекрасно понимал, что, санкционировав указ о его назначении председателем КГБ при Совете Министров СССР, все члены Политбюро во главе с тогда еще сравнительно молодым и физически очень крепким Леонидом Брежневым, менее всего были заинтересованы в укреплении политического влияния пятидесятилетнего Андропова. Наоборот: именно потому, что «ставропольский очкарик» представлял собой практически идеальный тип ПОЗИТИВНОГО советского партийного функционера — умного, тонкого, не падкого на лесть, скромного в быту, анализирующего каждое слово и каждое решение, неизменно расчетливого, прекрасно ориентирующегося в сложных хитросплетениях внутрикремлевских политических интриг, и по своим данным вполне мог занять со временем пост Генерального секретаря ЦК КПСС, его и направили в Комитет госбезопасности. В тот самый «наиболее ответственный участок идейно-политической борьбы», на котором Юрий Владимирович Андропов мог практически форсированно сломать себе шею и навсегда сойти с дистанции, на которой было традиционно тесно от претендентов на высшую власть в стране и людей, горой стоявших за ними.
По-настоящему Андропов понял это, когда окунулся с головой во внутреннюю ситуацию, сложившуюся в главном аппарате КГБ СССР к моменту его назначения на пост председателя. А была эта ситуация весьма сложной и напряженной. И определялось это положение отнюдь не внутриполитической обстановкой в самой стране, а непримиримыми, глухими распрями между руководителями трех основных оперативных и структурных подразделений КГБ — внешней разведки, контрразведки и военной контрразведки. «Верхушку» в комитете держали бывшие партийные работники сталинской школы, пришедшие в органы безопасности еще в 1951 году, после расстрела Абакумова, и занимавшие на Лубянке практически все ключевые посты. Приток новых кадров после XX съезда партии, в основном, из комсомола (которому, кстати, весьма способствовали и Шелепин, и Семичастный), был им явно не по душе. По прошествии полутора десятков лет эти люди считали себя профессиональными чекистами, претендовали на ведущее положение в этом «государстве в государстве» и практически именно они свели на нет блестящую карьеру непосредственного предшественника Андропова — Александра Семичастного.
Андропов никогда не задавал себе вопрос, а почему, собственно, именно его — не выходца из Днепропетровска или Молдавии, — вытолкнул Брежнев на обагренную кровью арену с прожорливыми и хитрыми львами. И не потому, что его не интересовал ответ — Андропов его прекрасно знал. Во-первых, Брежнев хорошо помнил преподнесенные ему в свое время шелепенские уроки и не хотел больше зависеть от КГБ. Ставя «своего» человека на этот ключевой пост, который, по логике вещей, должен быть обязан ему за это по гроб, он как бы застраховывался от вероятности очередного заговора. Впрочем, была еще одна причина, которая вовсе не считалась государственной тайной в кремлевских коридорах власти: Юрий Андропов должен был либо расчистить органы государственной безопасности, эти авгиевы конюшни мировой державы победившего социализма, от сталинских, хрущевских и шелепинских кадров, глубоко окопавшихся в его бесчисленных кабинетах, либо, свернув себе на этом непростом деле шею, кануть в политическое небытие, уступив кресло председателя КГБ очередной жертве
Политбюро из числа наиболее реальных претендентов на абсолютное лидерство в партии.
И все вроде бы были довольны, кроме самого Андропова, который понимал, что угодил в безвыходное положение: если он преуспеет на своем посту, то его уничтожит Брежнев, заподозрив в нем личного конкурента; если же, напротив, его работа не принесет реальные результаты, это сделает Политбюро.
Юрий Андропов поименно знал всех, кто в течение долгих двенадцати лет борьбы, интриг и бесконечного маневрирования между различными группами терпеливо и безуспешно ждал его, казалось бы, неминуемого краха. Знал, что два его первых заместителя — генералы Цвигун и Цинев — были людьми Брежнева (а Цинев, к тому же, — и родственником генсека) фактически выполняли в стенах КГБ СССР функции надзора непосредственно за его действиями на посту председателя, терпеливо дожидаясь, когда же наконец оступится этот человек с манерами университетского профессора, интуицией профессионального психолога и хваткой натасканного боевого бульдога. Держать в себе этот змеиный клубок бесконечных интриг, тяжкий груз человеческого мусора и каверзных «коридорных» ловушек было весьма непросто. И Юрию Андропову, помимо своей непосредственной работы, приходилось практически в одиночку воздвигать бастионы не только государственной, но и собственной, личной безопасности. Такая борьба могла вымотать куда более молодого и выносливого человека, нежели чем Андропов, у которого уже давно пошаливали почки и были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Иногда у него сдавали нервы, не хватало физических сил, постепенно давали знать о себе возраст и колоссальное психологическое напряжение…
Как-то в разговоре с Юлием Воронцовым, начальником Первого главного управления КГБ, человеком, которому он мог относительно доверять (полностью Андропов не доверял никому, даже детям, которых безумно любил, и потому тщательно оберегал от всего, что имело хоть какое- то отношение к его работе), он без всякой связи внезапно обронил: «Самое обидное, что два этих надутых подонка в генеральских погонах будут стоять в почетном карауле у моего гроба…» А затем, перехватив недоуменный взгляд Воронцова, сразу же перевел разговор на другую тему.
Андропов умел бороться и хорошо знал правила этой борьбы. И чем крепче выглядели его позиции, чем сплоченней, влиятельней и опасней становился руководимый им центральный аппарат КГБ СССР, тем больше остерегался он своих могущественных врагов в Политбюро…
Очередное клацание часов оторвало хозяина кабинета от нелегких раздумий — 8.51.
И Андропов нехотя заставил себя встать.
Дорога в Кремль занимала не больше шести минут. Десятки, сотни раз за годы своей блистательной карьеры этот умный, расчетливый, наделенный особым даром интуиции и потому трудно прогнозируемый политик совершал одну и ту же, ставшую ритуальной, процедуру: спускался на специальном лифте в примыкавший ко внутреннему двору Лубянки отдельный бокс, молча, не глядя на водителя и накаченных мордоворотов в двубортных штатских костюмах из «девятки», садился на заднее сидение бронированного черного «ЗиЛа» и, безмолвно уставившись в боковое окно «членовоза», как называли эти устрашающих размеров советские номенклатурные лимузины вредные на язык москвичи, с бешеной скоростью, но бесшумно и мягко катил в сторону Боровицких ворот Кремля.
И всякий раз, глядя сквозь синеватые, пуленепробиваемые стекла «ЗиЛа» на размытые очертания серых, без возраста и архитектурных особенностей зданий, этот всесильный человек в профессорских очках, шеф самой мощной и, безусловно, самой опасной в мире спецслужбы, реальный годовой бюджет которой мог запросто прокормить и одеть пару десятков государств «третьего мира», не мог отделаться от жуткого, панического предчувствия, что видит эту картину в последний раз; что обратно, на площадь Дзержинского, эта гигантская машина, каждый угол, впадина и изгиб которой словно защищали своего могущественного хозяина и повелителя от малейших беспокойств на самом охраняемом в мире шестиминутном отрезке дороги, повезет уже совсем другого человека…
Книга первая
1. НЬЮ-ЙОРК, ОТЕЛЬ «МЭРИОТТ»
Февраль 1978 года
Вам когда-нибудь доводилось жить рядом с аэропортом?
Не возле какой-нибудь там измочаленной, с проплешинами прошлогоднего снега и коровьего навоза областной полянки с гордо водруженным на шест полосатым чулком, на которую два раза в день выруливают обшарпанные «кукурузники», чтобы, истошно ревя мотором, с колоссальным усилием, будто делая великое одолжение всему миру и министерству гражданской авиации, оторваться от осточертевшей земли, перекатывая в своем брюхе несколько обалдевших от счастья первого полета и потерянных от повседневных хлопот колхозников или пару железных бочек с убийственными химикатами для давно уже привыкших к ним вредителей полузаброшенных полей.
Вы когда-нибудь жили рядом с самым настоящим международным аэропортом — бетонно-величественным и стеклянно-бесконечным, как мечта человека о подлинной, не из книжек, свободе, в котором жизнь не затихает ни днем, ни ночью?
Если нет, то вам никогда не понять моего состояния к исходу одиннадцатого дня пребывания в Соединенных Штатах Америки — цитадели мировой цивилизации, как было откровенно и даже доверительно сообщено в буклете-брошюрке, который висел на внутренней стороне двери, вместе с правилами поведения в случае экстренного возгорания.
Вы помните ту предновогоднюю ахинею, которую в тесных и шумных компаниях нашей молодости мы так любили повторять друг другу, с нетерпением поглядывая на часы с отражавшимися в циферблате счастливыми и безнадежно глупыми лицами, расцвеченными бликами елочных игрушек? Помните? «Как встретишь Новый год — так его и проживешь…»
Кто спорит: встречали мы его всегда замечательно, радостно, пребывая в состоянии чуть подогретой самым дешевым в мире, а потому общедоступным «Советским шампанским» приподнятости и бесшабашной любви ко всему и всем.
Правда, весь последующий год мы жили так хреново!
Но кто, скажите мне по совести, обращал внимание на подобные мелочи бытия в условиях глобальной, бесконечной и совершенно безнадежной, как шуршащие тараканы на обезлюдевшей после массового выселения жильцов коммунальной кухне, борьбы за коммунистические идеалы?
А потом как-то незаметно, буднично, в очередях, одалживаниях тридцатки до зарплаты и поисках чего-то дефицитного, подприлавочного, пролетал еще один год. И мы вновь оказывались за этим же (или другим — какая, к черту, разница!) новогодним столом, и со все той же последовательностью людей, генетически обреченных на торжество эсеровского лозунга «В борьбе обретешь ты счастье свое!», мы вновь убеждали себя: все в порядке, ребята, все просто замечательно! Надо только меньше задумываться над мелочами и больше веселиться! Надо петь, провозглашать совершенно идиотские, если вдуматься, тосты, вроде «За маленькие радости жизни!» или «Где наша не пропадала?!», а еще лучше: «Да гори они все синим пламенем!», греметь без всякой надобности посудой и всем скопом так орать песни Булата Окуджавы, чтобы над нашими взъерошенными головами начинала раскачиваться казавшаяся верхом роскоши помпезная югославская люстра о шести рожках, купленная по блату в магазине «Ядран».
Потому что, как встретишь Новый год…
Впрочем, ладно! Бог с ней, с этой природой нашей уникальной, чисто русской разновидности воинственного и непримиримого самообмана! О другом, совсем о другом думала я, меряя изо дня в день добротное, явно не в конце квартала уложенное ковролиновое покрытие каждого из тридцати квадратных метров номера 4417 нью-йоркского отеля «Мэриотт» и переиначивая на актуальный лад глупое поверье студенческих лет: с какой душой приедешь куда-нибудь, с таким ощущением и жить будешь.
Такая вот незадача!
И это нехитрое на первый взгляд наблюдение казалось мне тогда, в Нью-Йорке, самым точным и убийственным в своей простоте философским откровением, озарившим мое сознание за все двадцать девять лет в общем-то счастливой, но в принципе совершенно бестолковой жизни.
Самое обидное заключалось в том, что нечто подобное я и предполагала. К моменту, когда за несколькими рядами колючей проволоки на каком-то НАТОвском квадрате ужасно симпатичной и бесконечно далекой от моего мытищинского восприятия западного капитализма Бельгии, нас сдержано, без лишних разговоров и дружественных приветствий, принял на борт украшенный белой звездой полувоенный, полу черт знает какой самолет, когда Юджин пристегнул меня ремнями к жесткому креслу, поцеловал в ухо и тихо шепнул: «Все, девушка, расслабься! Теперь уж мы точно летим домой», у меня был накоплен достаточный опыт.
К тому моменту я действительно, без тени кокетства, была уже совсем взрослой, довольно циничной и основательно напуганной девочкой. В противном случае после такой фразы я бы, рвя на себе от радости кофту вместе с ремнями безопасности, сразу же бросилась на шею этому замечательному, доброму и бесконечно любимому человеку, а не чувствовала в горле першение предательского кома отчаяния и безысходной собачьей тоски.
Плакать в такой ситуации было бы черной неблагодарностью по отношению к моему избавителю, а потому я лишь понимающе кивнула, одарила самого дорогого для меня на свете человека вымученной, материнской улыбкой и замолчала.
Так надолго, что это встревожило меня куда больше, чем Юджина — на все десять часов нашего перелета из Европы в Америку.
Надо знать мой характер, мою органическую неспособность молчать больше того времени, которое физиология отпускает нам на не очень глубокий вдох, чтобы по-настоящему оценить все последствия происшедшего.
Я летела с закрытыми глазами, старательно изображала утомленную тяготами и потому безмятежно спящую на пути к капиталистическому раю/аду советскую бесприданницу и никак не могла вырваться из мерзкой паутины воспоминаний и дурных предчувствий — этих безошибочных признаков хронической рефлексии старых холостяков или заматерелых неудачников. Все происшедшее со мной с того момента, когда я упала в глубокий обморок в своей собственной квартире и пришла в себя только после энергичных обмахиваний у моего носа органом ЦК КПСС в исполнении сотрудника КГБ в штатском, представлялось даже не кошмаром (этот период я уже миновала), а некоей фундаментально спланированной и четко выполненной организационно-подготовительной работой по полному духовному и физическому уничтожению гр-ки Мальцевой В.В., навстречу которому она (то есть, я) и удалялась от родного дома еще на восемь тысяч километров.
Вы знаете, я проверила: люди, которые хоть раз в жизни попадали в подобные ситуации, вольно или невольно становились убежденными фаталистами. Моя судьба — классический тому пример. Судите сами: мечта всей жизни провинциальной уроженки славного города Мытищи из семьи с более чем скромным достатком — когда-нибудь, может быть, даже на старости лет, очутиться хоть в какой-нибудь, пусть даже самой захудалой, самой занюханной загранице и краешком глаза увидеть то, о чем я могла только прочесть (как правило, в игривой по форме и очень жесткой по содержанию интерпретации «испытанных бойцов идеологического фронта», — то есть славных советских журналистов-международников, которые, как и я сама впоследствии, совмещали в большинстве случаев вторую древнейшую профессию с работой на советскую внешнюю разведку), вдруг со страшной, сметающей все на своем пути, скоростью реализовалась в течение каких-то четырех месяцев. Не по своей воле (кого она, собственно, интересовала, моя воля?) я побывала в Аргентине, Чили, Франции, Голландии, Польше, Чехословакии, Австрии, Швейцарии… И всякий раз, попадая по короткому и сухому щелчку пальцев неведомого начальника с Лубянки в экзотические на первый взгляд жизненные пространства, я все отчетливее и обреченнее понимала: если ты сходишь с самолетного трапа или с узорчатой подножки спального вагона, ощущая внутри пульсирующий, липкий, животный страх перед неведомым, то он уже не покинет тебя до того самого момента, пока ты вновь не очутишься дома, в своей квартире, на своей ущербной кухоньке — то есть пока ты не вернешься в то единственное на всем белом свете место, где ты — это только ты, и никто иной. То есть самая обычная женщина, с обычной работой и стандартными долгами. И если кто-то на лестничной площадке крикнул тебе в спину: «Разуй глаза, не видишь, я коврики выстирала!», то это не пароль, не условный сигнал, по которому ты должна сразу же упасть навзничь на мостовую или непосредственно в кучу дерьма и прикрыть на всякий случай голову руками, а просто у нижней соседки Марьи Алексеевны очередной запой, под воздействием которого она обычно стирает все половики и вывешивает их в любое время года на лестничную площадку. В конце концов, маленькие радости жизни определяет вовсе не общество, а индивидуум, основательно зажатый этим обществом в самый угол.
Вы скажете, что все это очень печально. А кто же спорит? Конечно, печально! Но зато печаль эта — ваша и ничья более. Ведь даже мечтая перед сном побыть хоть на несколько минут Джиной Лоллобриджидой, вы примеряли на себе ее потрясающую грудь, неотразимый взгляд, сногсшибательные наряды и роскошных мужчин с Жераром Филиппом на правом фланге, а вовсе не лоллобриджидовские проблемы, разбитые иллюзии, неоплаченные счета, поруганную любовь, до которых вам никакого дела нет и быть не может — со своими бы проблемами управиться! Абсолютно ничем не рискуя, помечтав несколько минут о сказочной жизни красавицы-миллионерши, вы засыпали в своей спальне, в собственной ночной рубашке и с принадлежащим только вам (как минимум, по паспорту со штампом ЗАГСа Октябрьского района города Каменец-Подольский) мужчиной на левой половине двухспальной гэдээровской кровати, купленной вследствие жесткого режима экономии. И это нормально, хотя порой, в бытовой мясорубке черной людской неблагодарности, кажется очень скучным делом. Ибо какой советской женщине, умудрившейся не утратить последние признаки пола после восьмичасового верчения швейной машинки на какой-нибудь занюханной фабрике имени 147-й годовщины закладки кладбища Пер-Лашез или окончательно не загнуться от криминального аборта прямо на раздвинутом обеденном столе в квартире преподавательницы домоводства на курсах начинающих акушерок, взбредет в голову совершенно бредовая идея обменять счастье быть самой собой на сомнительное удовольствие изображать из себя специалиста по творчеству Хулио Кортосара? Или искусствоведа, занимающегося изучением колористических особенностей в живописи Винсента Ван-Гога? Кому нужна сомнительная компенсация в виде экзотических странствий по свету, если расплачиваться за эти прелести придется отчетливой — до мелкой вибрации в конечностях — перспективой в любую минуту получить за эти внеземные блага пулю в лоб?
Теперь я уж точно знаю — таких дур нет!
…После того, как мы прилетели в Соединенные Штаты — какой-то безликий бетонированный ангар под открытым небом, обтянутый колючей проволокой и сторожевыми вышками, несколько одинаковых мужчин в пиджаках и при галстуках, смотревших на меня сквозь темные стекла одинаковых зеркальных очков, две одинаковые черные машины с зашторенными по бокам и сзади стеклами, на одной из которых мы с Юджином куда-то долго ехали, я продолжала молчать. В какой-то момент Юджин опустил светонепроницаемое, черное стекло, отделявшее пассажиров этой комфортабельной тюрьмы на колесах от водителя, и бросил ему короткую фразу, смысл которой я не уловила. Но в тот же момент я увидела сквозь широкое лобовое стекло серую, исполосованную четкими белыми линиями ленту шоссе, блестевшую под лучами не по-зимнему яркого солнца, и гигантский рекламный щит на обочине, все пространство которого занимал здоровенный парень в смешной белой шапочке набекрень, улыбающийся всем автомобилистам ослепительно белыми, цвета начищенного до блеска фарфорового унитаза, зубами. Поняв, что я так и не сумела прочесть надпись на щите, Юджин улыбнулся и вновь поднял стекло, отгородив меня от внешнего мира:
— Тренируешься в английском?
— Что там было написано? — Это были мои первые слова, произнесенные с того момента, как мы вылетели из Бельгии.
— «Хочешь увидеть весь мир — запишись в морскую пехоту», — ответил Юджин.
— Хорошая идея, — пробормотала я.
— Тебе на самом деле понравилось?
— Только щит установили неправильно.
— Не под тем утлом?
— Не в том городе.
— А надо было в?..
— А надо было в Москве.
— В Москве?
— Ага. И вместо этого парня с шапочкой изобразить меня.
— Пентагон в таком случае устроил бы прием в твою честь, — улыбнулся Юджин. — Уверен, что предложения в морскую пехоту сразу превысили бы спрос.
— Наоборот, — я резко мотнула головой и вдруг почувствовала, что задыхаюсь. — Набор резко сократился бы, милый. Потому что текст тоже надо было бы чуть подредактировать.
— Что тебе в нем не нравится? — Юджин пожал плечами. — Стандартный и совершенно правдивый, кстати, текст: «Хочешь увидеть весь мир — запишись в морскую пехоту». Это по-американски.
— А надо было: «Хочешь увидеть весь мир — запишись в КГБ». Это уж точно по-русски.
— Разве ты могла тогда знать… — Юджин вытряхнул из пачки очередную сигарету.
— А ты думаешь тот парень в шапочке, — я кивнула назад, — знает, что его ждет? Ты думаешь, что за возможность посмотреть весь мир ему потом не придется расплачиваться своей белозубой улыбочкой?
— Займемся идеологией?
— А что ты предлагаешь? Заняться сексом?
— А ты бы смогла?
— А ты? — я перехватила его отрешенный, тоскливый взгляд, брошенный на непроницаемое стекло и грустно улыбнулась. В этот момент сама себе я казалось такой старой и такой пустой внутри. — Ладно, дорогой, как-нибудь в другой раз. Ты ведь на службе…
Спустя несколько часов я была оставлена Юджином в полном одиночестве, на неопределенный срок и с совершенно непонятной мне целью в 4417-м номере вполне пристойного пятизвездочного отеля «Мэриотт», расположенного в десяти минутах езды от международного нью- йоркского аэропорта имени Дж. Ф. Кеннеди. Понимая, что все равно не получу вразумительных ответов, я ни о чем его не спрашивала, из последних сил демонстрируя так не присущие мне покорность в биохимическом соединении со здравым смыслом (как любила повторять моя бабушка по материнской линии моему напористому в идеологических дискуссиях папе-коммунисту: «Если вы такой умный, Василий, то почему вы такой бедный?» Но Юджин — я чувствовала кожей — был искренне благодарен мне за это сдержанное понимание, которое могло запросто обеспечить ощутимую прохладу даже под палящим солнцем.
В те минуты у меня почему-то не выходил из головы Володя Кичурин, наш заведующий отделом спорта, — наполовину спившийся, наполовину боровшийся за что-то трудно определимое мужчина без возраста, жены и кухонной утвари, искренне веривший, что без сообщений о том, кто именно вырвал на помосте столько-то килограмм, никто нашу бесконечно задорную, комсомольскую газету читать не станет. У Володи было три любимых словечка: «сучара», «обалдемон» и «цугцванг». Первое он использовал в общении с товарищами по работе (кроме редактора и ответсекретаря газеты, к которым старался вообще никак не обращаться, считая их существами низшими), вторым реагировал на любую форму проявления уважительности к его собственной персоне — от сигареты коллеги на редакционном крылечке до честно заработанного им «Золотого пера» Союза журналистов за блестящие спортивные эссе, а третье — только в день получки, когда Володя отходил, пересчитывая смятые трешки и пятирублевки, от зарешеченного бетонированного дота редакционной кассы, в амбразуре которого диковинными фотоэлементами сверкали вечно недовольные, подозревающие всех и все зеленые глаза нашей кассирши Лидочки — сорокатрехлетней девственницы с толстой косой, собранной на голове в корону и очень непростыми проблемами, полностью соответствовавшими ее гормональной недостаточности.
Однажды, извинившись за серость, я спросила у Володи, что такое «цугцванг», на что завотделом спорта удивленно вытаращил на меня постоянно красные от запоев и недосыпа глаза: «Ну, ты даешь, Валентина Васильевна! Это ж даже дети знают: шахматный термин, означающий невозможность сделать полезный ход».
— То есть когда нет выхода, так? — продолжала допытываться я.
— Дура ты, Мальцева, хоть и культурой в газете ведаешь! — хмыкнул Кичурин и потребовал у меня сигарету в качестве аванса за предстоящую разъяснительную лекцию. — Выход всегда есть — так нас классики марксизма- ленинизма в институте учили. А вот когда что бы ты ни сказал, что бы ни сделал, в какую бы сторону не дернулся — и все хреново, вот тогда точно цугцванг!.. Практически, Мальцева, это тоже самое, что пиздец, только со знаком «минус»…
Я всегда подозревала, что водка и цинизм уничтожили в Кичурине великого педагога.
Теперь вы понимаете, что я испытывала, наблюдая за тем, как Юджин, оставив мне как тогда, в Амстердаме, кучу инструкций по правилам безопасности, главным из которых было условие ни при каких обстоятельствах не покидать номер, указав на набитый холодильник, совершенно диковинную микроволновую печь, чудовищные запасы бразильского кофе, несколько десятков блоков с сигаретами «Бенсон и Хеджес» и абсолютно бесполезный телефон (я была полушепотом проинформирована, что он отключен и ни при каких обстоятельствах по назначению использован быть не может), порекомендовал не раздергивать шторы, не звать никого на помощь, не пытаться выломать дверь, чмокнул меня куда-то посередине между ухом и шеей, и исчез?
Короче, полный цугцванг!
Единственное, что мне реально не возбранялось — это возможность любоваться действительно великолепным видом, открывавшимся с высоты четырнадцатого этажа на международный аэропорт имени Джона Фитцджеральда Кеннеди.
— Какая тюрьма считается в Америке самой надежной? — спросила я у Юджина перед тем, как он исчез в первый раз.
— Кого ты собираешься туда упрятать?
— Ты хочешь сказать, что такой тюрьмы нет в природе?
— Синг-Синг. — Он ответил автоматически, думая о чем-то своем.
— Там что, нет женского отделения?
— Думаю, есть.
— Почему же сразу не туда?
— Кого?
— Меня, милый! Объясни: почему, когда ты притворяешься тупым, у тебя такое умное выражение лица? Тебя учили специально или это качество врожденное?
— Думаю, это просто природное дарование, — скромно улыбнулся Юджин. — Что же касается Синг-Синга, там тебе было бы неудобно.
— Во всяком случае, не было бы проблем с горячей пищей…
— У тебя есть микроволновая печь.
— Я ее вижу впервые в жизни и потому боюсь. После твоих объяснений, она вызывает во мне ассоциации с циклотроном в Серпуховском ядерном центре.
— Не бойся, я тебе покажу, как с ней управляться. Можешь быть спокойной, девушка: Хиросима с Нагасаки больше не повторятся. Особенно теперь, когда Советский Союз уже не может рассчитывать на тебя.
— Покажи лучше, как управляться с тобой. А то мне кажется, что я забыла, где у тебя расположена кнопка включения…
— Ты недолго здесь пробудешь, Вэл. Даю слово.
— Мне почему-то тоже так кажется, — кивнула я, подошла к окну и деловито осмотрелась. — Возможно, даже меньше часа…
— С чего это вдруг?
— А где у тебя гарантии, милый, что отважный советский снайпер с дипломатическим паспортом атташе по вопросам культуры и изящности, вот в том здании напротив, уже не приладил винтовку с оптическим прицелом и в эту самую секунду не целится мне прямо в голову?
— Во-первых, всех русских снайперов мы предусмотрительно выдворили на дистанцию свыше десяти километров от твоего отеля. А, во-вторых, у него все равно ничего не получится… — Юджин подошел сзади и бережно, словно только что извлек меня из ящика, на котором было написано: «Стекло. Не кантовать!», обнял за плечи.
— Им на меня пулю жалко?
— Но это вряд ли.
— А, понимаю: в КГБ перевелись ворошиловские стрелки?..
Уже сказав, я прикусила язык: почти наверняка Юджин в этот момент представил себе то же самое, что я — злополучную виллу Бердсли в Буэнос-Айресе и пятерых парней из ЦРУ, которых как куропаток перестреляли Витяня с железнозадым Андреем.
— К сожалению, нет. И не скоро переведутся, судя по всему… — Он плотнее прижал меня к себе. — Просто тебя никто не увидит через это окно, Вэл. Снаружи оно абсолютно непроницаемо. Как зеркало. Эту штуку придумали шведы. Ты видишь все, а тебя — никто…
— И наши шпионы ничего еще против этого не придумали? — совершенно искренне изумилась я. — Совсем зажралась советская наука!
— Не знаю, как ваши, — буркнул Юджин себе под нос, — но наши пока точно не придумали.
— Не расстраивайся так, милый, — пробормотала я, ощущая затылком его теплую грудь. — Придумают, куда ж они денутся?! Подключат десятка три научно-исследовательских институтов, озадачат как следует, установят конкретные сроки и придумают. Им ведь все равно не хрена делать…
В первые дни своего одиночества я часами стояла у этого «одностороннего» окна в чужой, совершенно незнакомый мне мир, с завистью наблюдая за причудливыми изгибами не засыпающего ни на секунду гигантского муравейника из людей, машин, автокаров, огромных, яркораскрашенных самолетов… Звуки до меня практически не доносились, — стекла защищали не только от посторонних глаз, но и от ненужных, с точки зрения неведомых шведских изобретателей, шумов. И чтобы хоть как-то озвучить, оживить и приблизить к себе этот немой документальный фильм про улетающие и возвращающиеся самолеты, я включала на всю мощность телевизор, находила какой-нибудь музыкальный канал и пыталась подобрать мелодию, наиболее соответствующую ритму и цветовой гамме оконных видений. Расстояние до аэропорта было довольно приличным, рассмотреть лицо какого-нибудь пассажира было невозможно, а бинокля или иных оптических приспособлений Юджин мне не оставил И в течение первых трех дней я часами простаивала у окна, представляя себе, что в толпе встречающих, спешивших к этим модернистским кубам из стекла и бетона, решительно перечеркнутых пандусами и виадуками, находятся моя мама, моя непотопляемая подружка, наша редакционная вахтерша тетя Нюся… И все они здесь, на другом конце света, только по одному поводу — из-за меня.
А ночью мне приснился ужасный сон. Будто меня вызвал к себе по селектору редактор, я слышу в трубку его ироничный голос, понимаю, что это совершенно невозможно, что его нет в живых, но как на крыльях лечу в такой знакомый, такой родной кабинет и вижу, что за его столом сидит пожилой мужчина в дурацком сером френче с большими, клочкообразными усами и с трубкой в прокуренных зубах. Лицо его мне до боли знакомо, но я забыла его имя и чувствую только огромную, какую-то нечеловеческую силу, которую словно излучает эта хлипкая, старческая фигура. А он смотрит на меня исподлобья, и взгляд такой лукавый, хитрый, словно знает он нечто такое, чего не знаю я.
— Это не ваш кабинет, — возмущенно заявила я. — По какому праву вы расселись на месте человека, который со дня на день должен вернуться?
— Мертвые возвращаются только в плохих снах, товарищ Мальцева, — тихо отвечает мужчина с усами и протягивает мне трубку. — В жизни же все бывает иначе. И это замечательно, товарищ Мальцева! Потому что нет человека — нет проблемы. Затянуться хотите? Табак очень хороший, его собирали и сушили по особому рецепту, специально для меня…
Меня переполняет омерзение, но почему-то я не могу, не смею отказаться, беру из его очень маленьких, почти детских рук трубку, прикасаюсь к ней губами и чувствую солоноватый привкус. Я затягиваюсь, однако, без какого- либо эффекта — никотин в легкие не поступает, только на губах этот странный привкус…
— Возвращайтесь к себе, товарищ Мальцева, — все так же тихо приказал мужчина. — И ни о чем не беспокойтесь — я вас встречу в аэропорту.
— В каком аэропорту, товарищ?! Я никуда не собираюсь улетать. У меня авторских материалов на два ящика стола…
— А то, что вы думаете все время о работе, это хорошо, товарищ Мальцева. Это правильно.
— У вашей трубки такой странный привкус…
— Это ваш привкус…
Открыв глаза, я провела указательным пальцем по нижней губе. Палец был в крови, нижняя губа — искусана. И тогда я поняла, что смотреть в «одностороннее» окно больше не буду.
Где ты, Володя Кичурин? И почему я не могу объяснить тебе, такому всезнающему, умному и циничному, что все твои дешевые рассуждения гроша ломаного не стоят? Что только я могу объяснить, что такое настоящий цугцванг?..
2. ЛЭНГЛИ (ВИРДЖИНИЯ). ШТАБ-КВАРТИРА ЦРУ США
Февраль 1978 года
— Хорошая работа! — директор ЦРУ аккуратно положил на огромный — в половину бейсбольной базы — стол тонкую зеленую папку и легонько подтолкнул ее в сторону расположившегося напротив Уолша. — Будь жив Даллес, он бы под такой документ выгреб из казны пару миллиардов долларов. Не меньше!
— Но поскольку сегодня в этом кабинете не Аллен Даллес, а вы, сэр, на это рассчитывать не стоит? Я вас верно понял?
— Вы меня верно поняли, Уолш.
— Что вам не понравилось в этом анализе?
— Его категоричность.
— Сэр, справка составлена на основе порядка шестисот документов совершенно секретного, стратегического характера. Я привлек к работе ведущих аналитиков фирмы. Парни работали без выходных, как рабы на плантациях.
— Передайте им от моего имени благодарность.
— А что передать мне?
— Уолш, старина, по-моему этот документ должен отлежаться какое-то время.
— Вы считаете, еще рано?
— А вы так не считаете?
— Помните ту справку госдепартамента, которую вам передал президент?
— Помню. И все равно не могу взять в толк, зачем сегодня форсировать события?
— Попробую объяснить, — пробормотал Уолш, вытаскивая из нагрудного кармана пиджака сигару в пластмассовом патроне. — Брежнев не жилец на этом свете…
— Мне тут шепнул парень в приемной, что господин Брежнев все еще жив, — улыбнулся директор ЦРУ. — Во всяком случае, пятнадцать минут назад так оно и было.
— А информация о его болезнях? — не принимая добродушной иронии своего начальника продолжал наседать Уолш.
— Обычный набор возрастных проблем… — Уловив вопросительный взгляд Уолша, директор кивнул и тычком подтолкнул ему тяжелую глиняную пепельницу. — Повышенное давление, атеросклероз, кое-какие шероховатости с координацией речи… Короче, слухи о его предстоящей кончине сильно преувеличены.
— Брежнев не слезает с таблеток.
— Вы знаете, я тоже, Уолш, — хмыкнул директор. — Мы с господином Брежневым ровесники. А в нашем возрасте без снотворного и слабительного обойтись трудновато.
— Вы прочли в записке заключение врачей?
— Единственное заключение врачей, в которое можно поверить на сто процентов — это свидетельство о смерти пациента. Возможно, они правы, а может быть, заблуждаются. Но не забывайте, Уолш, что Брежнев находится под неусыпным контролем сотни советских профессоров и кандидатов медицины. В создание политического имиджа Брежнева вложены такие сумасшедшие силы и деньги, что, поверьте мне, Уолш, так просто его на тот свет не отпустят. Его выжмут, как лимон, до конца. А уже потом… Так что, как мне это представляется сегодня, лет пять-шесть этот почтенный джентльмен еще проживет. Стоит ли так форсировать события, Уолш?
— Одним словом, вы не верите в такое развитие событий, — Уолш уже не спрашивал, а констатировал.
— Да поймите же вы, Уолш, я не могу вызвать Создателя в этот кабинет и получить от него толковый ответ на вопрос, что именно произойдет в Кремле через четыре года! — Директор пожал плечами. — Нам остается только предполагать…
— Сэр, вы помните, кто первым принес Кеннеди фотографии русских ракетных установок на Кубе?
— Роберт Макнамара, — буркнул директор.
— Люди Даллеса записали весь этот разговор. Наверняка, сэр, вы его читали много раз.
— Вы нашли еще одну запись?
— Нет, просто время от времени я возвращаюсь к ней, потому что хочу найти ответ только на один вопрос — почему после того, как Кеннеди отдал приказ Макнамаре атаковать русские ракетные установки на Кубе, он в самый последний момент отменил его?
— Вы невнимательно вслушивались в запись, Уолш, — директор ЦРУ поморщился. — В ней есть ответ. Кеннеди спросил Макнамару, смогут ли русские дать ответный залп и, получив утвердительный ответ, отменил свой же собственный приказ. Президент просто испугался, Уолш. Джон Кеннеди испугался войны с русскими, считал себя не в праве подвергать нацию прямой угрозе ядерной войны.
— М-да, — Уолш очень аккуратно поднес сигару к пепельнице и умудрился поставить серый столбик пепла строго вертикально. — И я так думал. Пока до меня не дошло наконец, что Джи Эф Кей боялся вовсе, не войны.
— А чего же он боялся?
— Политического краха Хрущева. Понимаете, сэр? Смена тогдашнего политического руководства в России была бы для нас катастрофой куда более серьезного масштаба, чем ограниченная, пусть даже ядерная, война против Кастро и его советских друзей. Кеннеди страшно боялся возвращения сталинистов к власти в СССР. То есть боялся той самой третьей мировой войны, уже ничем и никем не ограниченной, которую эти фанатики все равно бы развязали.
— Ой ли, Уолш! Какая, черт побери, разница? В шестьдесят четвертом лысого все равно скинули. И что? Началась третья мировая война?
— Фактически, своим решением Кеннеди выиграл пять лет, — пыхнув сигарой, мягко возразил Уолш. — Целых пять лет, сэр! За это время политические реформы Хрущева проникли так глубоко, а советский народ вкусил недоступные ранее демократические вольности до такой степени, что сама идея реставрации сталинских порядков в полном масштабе перестала вдохновлять даже коммунистических фанатиков. Президент выиграл время, сэр…
— Куда вы клоните, Уолш? Что, в конце концов, происходит, черт вас подери?! Какой-то странный разговор!..
— Сэр, мы ведем с русскими серьезные переговоры по стратегическим наступательным вооружениям…
— Да, я читал об этом утром в «Уолл-стрит джорнэл», — буркнул директор ЦРУ, демонстративно отмахиваясь от сизых клубов сигарного дыма.
— Необходимо знать, с кем нам предстоит иметь дело в ближайшие семь-восемь лет. — Идеально выбритое лицо Уолша на глазах стало покрываться пунцовыми пятнами. — Необходимо знать также, будет ли Брежнев в состоянии решать эти вопросы самостоятельно, насколько реально влияние на него какого-то лица или лиц, и если да, то чье именно влияние окажется решающим и кто завтра будет наверху. От этого зависит наша стратегия переговоров с русскими по ракетным вооружениям. В противном же случае, сэр, жизнь по обе стороны океана превращается в одно бесконечное боевое дежурство и томительное ожидание итогов первого обмена ракетно-ядерными ударами. Как я себе это представляю, босс, речь идет о большой политике, стало быть, об очень больших деньгах. И мне бы не хотелось, чтобы главными советчиками президента в этих вопросах оказались ушлые парни из государственного департамента, а не наша фирма, сэр. Тем более что они давно уже стремятся играть на нашей половине, причем в ущерб своим непосредственным обязанностям…
Директор внимательно посмотрел на Уолша и задумался. В том, что говорил шеф оперативного управления ЦРУ, был определенный резон. Государственный департамент, деятельность которого по ряду важнейших внешнеполитических вопросов по сути дела граничила с работой зарубежных резидентур ЦРУ, с каждым днем становился все активнее. Были здесь и политические нюансы — до президентских выборов оставалось два года…
— Сэр, мы просчитали довольно запутанную, противоречивую картину, — Уолш коротко взглянул на директора, чувствуя, что в беседе наступил перелом. — Нам необходимо сделать верную ставку именно сегодня. В ближайшие год-два Брежнев будет уже не в состоянии полностью контролировать ситуацию. Это прекрасно понимают в Москве, но, к сожалению, недооценивают в Вашингтоне. Следовательно, вопрос его политического преемника превращается для нас в задачу колоссальной стратегической важности.
— Почему вы предлагаете сделать ставку именно на Андропова? — очень тихо спросил директор ЦРУ. — Чем умнее твой враг, тем сложнее его обуздать. А этот господин умен, черт бы его подрал. Вам мало неприятностей, которые он доставляет нам в последние десять лет?
— По многим причинам, сэр…
Уолш загасил наконец свою сигару и засунул в нагрудный карман пиджака пустой пластмассовый футляр. Директор знал, что врачи категорически запретили Уолшу курить — шеф оперативного управления ЦРУ страдал приступами стенокардии. И Уолш придумал хитрый маневр: он выторговал себе право курить только одну сигару в день и в качестве подтверждения неизменно использовал пустой футляр — дескать, вот моя дневная норма и доказательство, что я не лгу. Как и когда Уолш заполнял свой универсальный пластмассовый футляр новой сигарой, оставалось загадкой для всех окружающих.
— Я слушаю вас, Уолш.
— Основной аргумент в пользу такого выбора дают непосредственно почти все члены нынешнего Политбюро, готовые пойти на очень многое, да на что угодно, лишь бы не стать свидетелями момента, когда Андропов пересядет в брежневское кресло. И потом, сэр, Юрий Андропов — прагматик. Согласен: другом нашим он никогда не был и вряд ли станет. Но это единственный на мой взгляд человек в Москве, с которым можно будет вести переговоры. Он способен на компромисс, в достижении своих целей он оперируют реальными, конкретными категориями. Одним словом, сэр, он не фанатик, не зашоренный коммунист из числа тех крикунов, которые искренне верят в написанную для них галиматью. Любой другой вариант брежневского преемника — Гришин, Романов, Алиев, Черненко — будет равнозначен для нас катастрофе.
— Почему?
— Эти люди слишком повязаны на партноменклатуре, каждый из них поднимался по партийной лестнице, благодаря КОМУ-ТО. У них есть свои долги. То есть, поднявшись на самый верх, они должны будут платить по старым векселям. Следовательно, эти люди — заложники партаппарата, заложники армии и КГБ. И сидя с нами за столом переговоров, они в правой руке будут держать паркеровскую ручку с респектабельным золотым пером, а в левой, под столом, — дистанционный пульт для пуска межконтинентальных ракет. Их мозги, сэр, устроены очень странно: понятие «маневр» для них имеет только два значения — внутриполитическое и военное. Во внешней политике они оперируют сталинским принципом — «Все для фронта, все для победы!». Так что, рано или поздно чья-нибудь вельможная рука под столом обязательно нажмет на кнопку этого проклятого пульта.
— А на Андропова, по вашему, влиять не смогут, так, Уолш?
— Сэр, практически, этот человек сделал себя сам.
— О чем вы говорите, Уолш?! Андропов — выдвиженец сталинского периода.
— Да, но он каким-то непостижимым образом умудрился не только не остаться сталинистом, но даже сделать себе на этом политическую карьеру. Обратите внимание на его аттестации — не лизоблюд, не паркетный шаркун, самостоятелен, любит держаться в тени, не склонен к барству… Отто Куссинен — человек, запустивший Андропова на политическую орбиту Советов, — мертв. Если что и было не то в андроповской биографии, так это Куссинен унес с собой в могилу. И потом: Андропов — что вообще не характерно для постояльцев этого борделя на Старой площади — пользуется объективным уважением. Его ненавидят, его боятся, против него интригуют, но его ПРИЗНАЮТ, сэр. А объективное признание в этих кругах равносильно двум вещам: теоретически — скорому воцарению на престоле, а практически — еще более скорой смертью. От старости, нервного перенапряжения или скоротечной опухоли мозга. Для людей андроповского калибра просто не существуют таких понятий, как «пенсия» или «заслуженный отдых». Как правило, они заслуживают либо золотые звезды героев, либо пулю в затылок. Третьего не дано.
— Но ведь не убрали же Хрущева, — пожал плечами директор. — Сидел себе на даче и даже мемуары пописывал.
— Хрущев уже БЫЛ Генеральным секретарем партии, а Андропов только намеревается СТАТЬ им. Разница принципиальная, сэр.
— Бред какой-то! — хмыкнул директор. — По счастью, нас с вами, Уолш, никто не слышит. Иначе как бы я смог объяснить, почему в кабинете директора Центрального разведывательного управления США на полном серьезе обговаривается план возведения на коммунистический престол нынешнего председателя КГБ СССР?
— Не уверен, сэр, что нас не слышат, — улыбнулся Уолш. — Знаем же мы, о чем говорили в Овальном кабинете Джон Фитцджеральд Кеннеди с Робертом Макнамарой…
— Да поймите, Уолш, этот человек мне ненавистен! Как ненавистен он любому здравомыслящему американцу!..
— Стандарты, сэр, — улыбнулся Уолш. — Наши любимые национальные стандарты. А если бы Андропов занимал, скажем, пост председателя Госплана или министра здравоохранения, вам и американскому народу было бы значительно легче, не правда ли?
— Как все просто! — На губах директора ЦРУ скользнула саркастическая усмешка. — Вы что же думаете, Уолш, каменные жопы сидят только в Кремле? А в нашем Конгрессе их нет? Да меня вытолкают взашей, если я только рот открою…
— Разве я сказал, что все так просто? — пожал плечами Уолш.
— Короче!
— Андропова могут свалить в ближайшие несколько месяцев, — явно игнорируя эмоциональный окрик обычно корректного директора ЦРУ, продолжал Уолш. — А возможно, и в течение двух-трех недель. Резюме: либо мы спокойно, как на концерте маэстро Бернстайна в Карнеги-холл, наблюдаем за этим, либо решительно препятствуем исчезновению с кремлевской доски фигуры Юрия Андропова и предпринимаем оперативно-тактические усилия. Решать вам, сэр.
— Уолш, а вы не преувеличиваете его уязвимость? В конце концов, за Андроповым стоит Громыко — далеко не последняя, кстати, масть в этом раскладе.
— Андрей Громыко потому и пережил всех своих хозяев, что ни разу за свою долгую жизнь не делал резких движений в политике, сэр. Он никогда не станет на сторону Андропова в открытую. Тем более если поймет, что ситуация складывается в пользу другого претендента. Этот человек работал под Сталиным, под Берией, под Молотовым, под Хрущевым… На старости лет Громыко никогда не станет камикадзе. Даже если бы был японцем по происхождению. А он русский. Да еще какой русский…
— Насколько серьезна информация о Цвигуне и Циневе?
— Источники самые надежные. В их числе, кстати, наш человек в Третьем главном управлении КГБ. Хотя, по крупному счету, ничего особенно нового они не сообщают. Семен Цвигун, имея за плечами поддержку Брежнева, интригует против Андропова практически в открытую. Цинев, как шеф военной контрразведки КГБ, работает в одной упряжке с Цвигуном и делает все возможное, чтобы вызвать в армии соответствующее отношение к Андропову. Результат налицо: фигура Андропова в армии крайне непопулярна, чему также способствует еще один брежневский дружок — Устинов. Позитивность этих распрей для нас совершенно очевидна: ГРУ всячески стремится перебежать дорогу КГБ. Однако это всего лишь тактическое преимущество, вроде рождественских сейлов. Кончатся праздники и цены подскочат. Короче, если сегодня мы упустим свой шанс, то завтра в Кремле появится человек, который сумеет шикнуть на кого надо и скоординировать действия двух этих мощных спецслужб. А это очень нехорошо для нас, сэр.
— Я так понимаю, Брежнев заниматься координацией действий КГБ и ГРУ уже не будет?
— А зачем? — прищурился Уолш. — Для того, чтобы заниматься этим непосредственно, у него нет ни опыта, ни знаний, ни здоровья. Подчинить политическую и военную разведку одному человеку — величайшая глупость, которая тут же приведет к возникновению нового злодея, вроде Лаврентия Берии. Так что Брежнев пока маневрирует, приглядывается… Однако все концы крепко держит в своих руках. Причем на фоне общего согласия. Даже самый захудалый секретарь провинциального обкома партии прекрасно понимает: не будет Брежнева — не станет и его. Все слишком прочно повязано, сэр. Это система, которую Брежнев и его ближайшее окружение создавали больше десяти лет. И эта система может пропустить наверх только такого же, как Леонид Брежнев.
— Почему вы решили, что именно сегодня у них появился шанс свалить Андропова?
— С 1967 года, то есть с того самого момента, когда Андропов возглавил КГБ, такого провала еще не было.
— Южная Америка?
— Именно, босс. Операции подобного масштаба санкционирует только Политбюро. И оно же спросит с Андропова.
— Насколько мне известно, в центральном аппарате КГБ очень хорошо отлажен механизм, не позволяющий растечься важной информации. Я сужу по нашей конторе: скрыть от президента и Конгресса крупный провал где-нибудь в Габоне, возможно, нам и не удастся, но в нюансах разбираемся мы и только мы. А обернуть любой провал в тактическую хитрость, сознательную комбинационную жертву — вопрос техники и профессионализма. Кто, кроме самого Андропова, в состоянии обрисовать членам Политбюро истинные масштабы и детали случившегося в Латинской Америке? Это же секретные счета в иностранных банках, явки, шифровки нелегалов, связи с зарубежными агентурами…
— Семен Цвигун, его первый заместитель.
— Вы в этом уверенны, Уолш?
— Да, сэр.
— Андропов держит его на голодном пайке. Разве не так?
— Пытается держать, сэр, — Уолш слегка нажал на глагол «пытается». — Но за Цвигуном стоит Брежнев. И в центральном аппарате КГБ есть немало высокопоставленных сотрудников, для которых это важно.
— Брежнев и раньше стоял за ним.
— Раньше Андропов никогда так скверно не отбивал мяч.
— Помнится, пару месяцев назад вы говорили мне о некоей прохладце в их отношениях? А это что?
— Было такое: на встрече с руководством КГБ Брежнев демонстративно устроил трепку именно Цвигуну. Причем из-за какой-то ерунды.
— А на самом деле?
— Маневры, сэр, классические маневры хитрого политика. По всей видимости, Цвигун тогда чем-то сильно насолил Андропову, тот об этом сказал Брежневу, а генсек решил выравнять ситуацию.
— Очередной этюд?
— Да, сэр. Причем на фоне багровых ковров кремлевского кабинета. Реально же Брежнев стоит за Цвигуном намертво. Надо сказать, сэр, что для политика такого масштаба Брежнев на удивление сентиментален и своих старых друзей не сдает никогда. То есть он больше напоминает крестного отца сицилийской мафии, нежели вождя советских коммунистов. На этих связях, кстати, Брежнев и держится так крепко. И поэтому же все держатся за него. Репутация личного друга и родственника Брежнева, получше любой отмычки, открывает Цвигуну практически все замки. И он выложит на стол своего хозяина все, чтобы убрать Андропова.
— Вопрос будет вынесен на Политбюро, — не обращаясь к Уолшу, пробормотал директор.
— И Политбюро такой шанс убрать навсегда Андропова не упустит. Они его похоронят, устроят танец на его костях, а потом дружно споют «Интернационал» и мирно разойдутся по домам.
— А сам Брежнев?
— А что Брежнев? — хмыкнул Уолш. — Он хоть и симпатизирует Андропову, все равно непременно сдаст его.
— Почему непременно?
— По многим причинам, сэр. Вероятность этого прогноза очень высока. Беда Андропова, босс, в том, что объективно он — самая вероятная и достойная замена Брежневу. А тот… Тут уже чистая психология. Как говорится, видеть в зеркале либо себя, либо никого другого. Брежнев стремительно стареет, сэр, становится капризным, раздражительным, своенравным… Генеральный секретарь ЦК КПСС стал главной фигурой самых остроумных анекдотов. Страна смеется над Брежневым, сэр. И этим пользуется его ближайшее окружение, понимая, что место генсека вот-вот станет вакантным, и прокладывая дорожку своим людям. А Андропов НИЧЕЙ, сэр! Короче, сейчас он один и помочь ему не сможет никто — слишком опасно.
— И все-таки, сделать то, что вы предлагаете — безумие!
— Почему, сэр?
— Тут резонов масса. Но у вас, Уолш, я хочу выяснить только одно: как вы представляете себе все это технически? Мы что, планируем открыть при ЦРУ филиал благотворительного общества по спасению Юрия Андропова от коммунистического произвола?
— При чем здесь благотворительность, сэр? — седые брови Уолша стремительно взлетели. — Это сделка.
— Сделка?
— Именно, сэр.
— С тем самым, да? — Глаза директора ЦРУ сузились. — С членом Политбюро ЦК КПСС? С председателем КГБ СССР?
— Да, сэр, — невозмутимо произнес Уолш. — Мы с вами говорим об одном и том же человеке — о Юрии Андропове.
— Он не поддастся на шантаж, Уолш, как вы этого не понимаете?! Не та фигура, не те мотивы…
— Это не шантаж, сэр! — Уолш мотнул головой, словно отметая возражение своего шефа. — Это политическая сделка, которая выгодна обеим сторонам. Если сегодня мы поможем Андропову удержаться на плаву еще пару- тройку лет, пока Брежнев окончательно не выживет из ума и не утратит реальную власть в этой сумасшедшей стране, то завтра мы будем вправе рассчитывать на появление в Кремле трезво мыслящего политика, с которым можно разговаривать, не обмениваясь при этом ударами рукоятки пистолета по голове.
— А если он, оставшись с нашей помощью у власти, покажет нам потом кукиш в кармане?
— Не покажет, сэр. Речь ведь идет не об обмене любезностями на приеме в советском посольстве по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Не беспокойтесь, сэр, мы подстрахуемся таким образом и так надежно, чтобы у господина Андропова и мысли не возникало отплатить нам за оказанную любезность черной неблагодарностью.
— Стало быть, Андропов непременно должен знать, что политической властью в своей стране он обязан американской разведке?
— Соединенным Штатам Америки, — сухо поправил Уолш.
— Я что-то не улавливаю нюанс.
— А он очевиден, сэр! — Уолш поднялся. — Я принес вам не агентурный план вербовки крупного советского военачальника или физика-ядерщика, а стратегический расклад на ближайшие годы. Реализация этого плана — гарантия мирового порядка, обеспечение относительной стабильности, без которой человечество просто не в состоянии нормально функционировать, а также надежда, что когда-нибудь наступит день и все ядерные ракеты с обеих сторон будут сняты с боевого дежурства. Кто-то из старых стратегов говорил, что войны начинаются именно тогда, когда из рук вон плохо работала разведка. У нас с вами, сэр, есть внуки…
— Уолш, вы, часом, не собираетесь баллотироваться в Конгресс от штата Вирджиния?
— Чтобы убедить вас, сэр, я готов даже на такое безумие, — улыбнулся начальник оперативного управления ЦРУ.
— Как Андропов узнает обо всем? Чем мы должны пожертвовать? Во что этот план вообще нам обойдется?
— Это уже тактические детали операции, сэр, которые полностью отработаны. Но давайте вначале закончим со стратегией.
— Вы же понимаете, Уолш, что все это мне нужно объяснить президенту?
— Я даже знаю, когда вы это сделаете.
— Когда же?
— Сейчас, — Уолш кивнул на отдельно стоящий красный телефон прямой связи с президентом США.
— Он в Кемп-Дэвиде, Уолш! — в голосе директора звучала укоризна. — Президент США должен хоть изредка отдыхать в кругу семьи.
— Вы только представьте себе, сэр, насколько сложнее была бы ваша задача, если бы президент отдыхал в кругу семьи на Филиппинах…
3. МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЗДАНИЕ ЦК КПСС
Февраль 1978 года
В рабочий кабинет Генерального секретаря ЦК КПСС на Старой площади Юрий Андропов вошел ровно в 9.00. Брежнев, с дымящейся сигаретой, по привычке зажатой между средним и указательным пальцами левой руки, склонился над бумагами и что-то меланхолично подчеркивал красным карандашом.
Даже если бы Андропов и захотел привлечь внимание генсека фактом своего появления, сделать это было не так просто: пол огромного кабинета полностью закрывал толстенный туркменский ковер в сдержанно-коричневых тонах, который, словно губка, поглощал все посторонние звуки. В кабинете было тепло, но в меру — два мощных японских кондиционера работали абсолютно бесшумно.
Неслышно ступая, Андропов приблизился к столу и сел на один из двух стульев с высокой резной спинкой, входивших в комплект кабинетной мебели, купленной в прошлом году через представителя «Совэкспортлеса» в Финляндии специально для кремлевского кабинета Брежнева. Хотя в последнее время его хозяин предпочитал чаще работать на даче.
В понимании и трактовке безмолвных кабинетных игр, к одной из которых явно прибегал могущественный Генеральный секретарь ЦК КПСС, никак не отреагировавший на появление в кабинете члена Политбюро и председателя КГБ, Юрий Андропов был самым настоящим профессором и мог просветить на сей счет наиболее тонких и изощренных толкователей иезуитского кремлевского протокола. В данный момент Леонид Ильич Брежнев всем своим озабоченно-деловым видом демонстрировал скрытое неудовольствие, а Андропов, в соответствии с правилами игры, обязан был понять это и ни в коем случае не форсировать события, не задавать вопросы, не начинать беседу первым и уж тем более не проявлять собственную встревоженность. Железное терпение, внутренний такт и уважительность в позе — вот, собственно, и все, что требовалось по правилам этой идиотской, недостойной государственных мужей, игры от приглашенных в кабинет Брежнева.
Андропов молча изучал склонившуюся над бумагами буйную, без малейшего намека на облысение шевелюру Генерального секретаря и как-то отстраненно, вяло подумал о том, что знает об этом человеке практически все. Он никогда не ставил перед своими подчиненными конкретную цель — целенаправленно собирать некий «компромат» на главу Коммунистической партии и Советского государства. В этом, собственно, не было никакой необходимости, ибо сама система работы Девятого управления КГБ СССР или «девятки», как по традиции называли службу охраны высокопоставленных партийных и государственных деятелей, включала в себя неизменные ежесуточные отчеты об охране «первого лица». То есть, на бумаге отражался ВЕСЬ день Леонида Брежнева, ВСЕ события, ВСЕ его перемещения… Фиксировались его разговоры, название блюд, количество съеденного и выпитого, содержание и точное — до долей секунды — время, потраченное Брежневым буквально на все — от важной беседы с канцлером Австрии до незапланированного пребывания Генерального секретаря ЦК КПСС в туалете на предмет мучившего его запора.
Андропов знал имена тех людей, кто тайно информирует и консультирует Генерального секретаря по тем или иным вопросам, номера валютных счетов в банках Швейцарии и Люксембурга, куда, по его распоряжению, переправляются довольно крупные суммы из средств партии. Он был в курсе того, что Брежнев практически не ведет интимную жизнь со своей супругой и знал почему. Ему были известны имена трех постоянных любовниц генсека, поскольку зарплату они получали по ведомостям одного из подразделений КГБ. Андропов знал имя помощника, который приводил женщин (иногда сразу трех) в его спальню, знал, сколько времени уходит у генсека на оргазм и какой именно способ его достижения Брежнев считает наиболее приятным. Андропову было точно известно, какое именно количество специально изготавливаемых лично для него сигарет «Новость» выкуривает генсек сверх нормы, установленной для него прикрепленными лечащими врачами «кремлевки» и его женой, сколько водки он выпивает в одиночестве, кого чаще приглашает на охоту, каких именно артистов предпочитает видеть на своих днях рождения, какие пластинки любит слушать и к какому игроку московского «Спартака» благоволит больше всего…
Андропов знал массу мелочей, казалось, бы, не имевших никакого практического значения — например, что на своей подмосковной даче в одиночестве генсек предпочитает слушать пластинки с довоенными песнями Утесова; что он терпеть не может ни классический, ни тем более современный балет и страшно нервничает, когда вынужден по протоколу проводить в правительственной ложе Большого театра Союза ССР больше трех часов; что любовь к московскому «Спартаку» — это единственная страсть, сближающая — причем довольно крепко — генсека с первым секретарем МГК Виктором Гришиным, которого Брежнев терпеть не может, но вынужден мириться, ибо московская партийная организация слишком крепка и сплочена, чтобы выдергивать из нее признанного лидера…
Думая об этой грязи, Юрий Андропов проклинал свою работу, проклинал свою непреднамеренную, продиктованную ужасной спецификой службы, глубочайшую посвященность во все и вся — ту самую посвященность, которую Леонид Ильич Брежнев, даже при достаточно хорошем и неизменно корректном отношении к председателю КГБ, никогда не простил бы ему и, стало быть, никогда не простит. Ибо Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Совета Обороны конечно же знал, что Андропов знает о нем ВСЕ. И, в свою очередь, старался не отстать в этом знании от человека, явно метившего в его преемники.
— О чем задумались, Юрий Владимирович?
Густой бас Брежнева моментально вернул Андропова на землю. «Кажется, я начинаю стареть для этих идиотских церемоний, — подумал 61-летний Юрий Андропов. — Предаваться размышлениям в кабинете Генерального секретаря — такого со мной еще не бывало!..»
— Так, будничные проблемы, Леонид Ильич.
— Скромничаете?
— В чем скромничаю, Леонид Ильич?
— Ну, что проблемы у вас будничные… — Брежнев хмыкнул, пригладил волосы и откинулся на спинку высокого черного кресла. — Тут мне докладывают, что в конторе вашей, Юрий Владимирович, проблемы как раз не будничные, а самые что ни на есть глобальные. Может быть, поделитесь с Генеральным секретарем партии?
— О чем это вы, Леонид Ильич?
Андропов был готов к частичной утечке информации о провале в Женеве, об угрозе высылки около тридцати своих людей с дипломатическими паспортами из стран Латинской Америки и сейчас пытался выгадать хоть немного времени, чтобы выяснить: как много знает генсек? И, соответственно, как долго он может маневрировать, избегая открытого разговора?
— Юрий Владимирович, — Брежнев прокашлялся и, подперев ладонью тяжелый подбородок, с неприязнью посмотрел на Андропова. — Насколько я понимаю, обещанная вами смена власти в Колумбии откладывается? Так?
— ВРЕМЕННО откладывается, Леонид Ильич, — негромко поправил генсека Андропов. — Вы же понимаете, что не все так просто. В Латинской Америке нам противостоит очень сильный соперник.
— Он и раньше нам противостоял, — Брежнев негромко стукнул тупым концом граненого карандаша по столу. — А Кастро, глядишь ты, по-прежнему верховодит.
— Куба, Леонид Ильич — это микроскопический остров. Колумбия же — огромное государство. Разница существенная.
— Спасибо, что напомнили, Юрий Владимирович, — в басе генсека отчетливо прозвучало так не свойственное Брежневу ехидство.
— Повторяю: мы столкнулись с кое-какими проблемами, решение которых требует перегруппировки сил и времени.
— Сколько времени вам еще понадобится, товарищ Андропов? Год? Два? Десять лет? — Брежнев вдруг широко улыбнулся, словно ранимый школьный преподаватель, только что посадивший в лужу лучшего ученика класса.
— В данный момент я не готов ответить на ваш вопрос, Леонид Ильич. Над этим сейчас работают мои люди.
— Некрасивая история получается, Юрий Владимирович… — Брежнев медленно оторвал спину от кресла и навалился всей тяжестью своего тела на крышку письменного стола. — На кого спишем без малого миллиард долларов? Или сколько там еще у вас ушло на эту затею за последние годы? Я имею в виду деньги, которые вы угрохали на свои латиноамериканские проекты?
— Эти проекты были одобрены на заседании Политбюро, Леонид Ильич, — тихо возразил Андропов. — И если возникла реальная необходимость, я могу предоставить товарищам отчет по каждой потраченной копейке…
— Пять лет, с тех самых пор, как убили Альенде, вы регулярно обещаете на Политбюро образование социалистического государства в Южной Америке, — широченные брови Брежнева сдвинулись к переносице, от чего его лицо стало похоже на застывшую восковую маску, каким советского лидера часто изображали карикатуристы на страницах западной прессы. — Не было ни одной вашей просьбы, Юрий Владимирович, которую бы не поддержали наши товарищи. Вы знаете, что в стране колоссальные экономические проблемы, однако мы никогда не жалели сил и средств для мирного наступления социализма. В ваши руки, уважаемый товарищ Андропов, партия передала колоссальную власть, ресурсы, людей, материальные средства. А как вы ими распоряжаетесь?..
— Леонид Ильич, — голос Андропова звучал абсолютно ровно, словно этот человек в профессорских очках не понимал, во что в итоге может вылиться гнев Генерального секретаря партии. — Объясните, пожалуйста, что происходит? Чем, собственно, недовольны товарищи в Политбюро?
— Им нужны результаты! — Брежнев резко хлопнул ладонью по столу. — И мне нужны результаты, чтобы закрыть кое-кому рты. Например, Суслову Михал Андреевичу, другу вашему доброжелательному. Вы это понимаете, дорогой товарищ председатель Комитета государственной безопасности?!
Наступила гнетущая пауза. Но Андропов и не думал отвечать, а тем более оправдываться. Он просто уставился на генсека своими блеклыми голубыми глазами, неестественно увеличенными линзами очков, уставился без всякого выражения, но с каким-то внутренним нажимом, словно внушая своему собеседнику, что разговор в подобных тонах не просто неприемлем — он просто невозможен.
Это был особый, «фирменный» взгляд Андропова, к которому он прибегал исключительно редко. Ни один человек в Политбюро, кроме председателя КГБ, никогда бы не позволил себе вот так, пристально, в упор, с почти нескрываемой укоризной и едва обозначенной иронией, смотреть в глаза первой фигуры советского государства, в глаза человека, сосредоточившего в своих руках власть, даже о половине которой и мечтать не мог Никита Хрущев.
Брежнев испытывал к председателю КГБ сложные, зачастую противоречивые чувства. С одной стороны, он искренне уважал Андропова и практически не сомневался, что у этого человека вполне достаточно ума и прозорливости, чтобы не переметнуться в стан врагов, не примкнуть к какой-нибудь кабинетной коалиции и уж тем более не начать против него лично открытую войну за власть. Однако авторитет Андропова, становившийся с каждым годом все ощутимее, по-настоящему пугал Брежнева. Разве тогда, в конце шестидесятых, когда он, вопреки мнению многих членов Политбюро ЦК КПСС, собственным волевым решением добился перевода Андропова с должности секретаря ЦК КПСС на пост председателя КГБ, он мог подумать, что именно на этой должности, в самом большом, а потому самом опасном лубянском кресле, Андропов сумеет развернуться по-настоящему?
Михаил Суслов, бессменный и несгибаемый идеолог партии, автор концепции «развитого социализма», ненавидевший Андропова по целому ряду причин и имевший определенное влияние на Брежнева, еще в 1974 году, навестив Генерального секретаря в Крыму во время отдыха, пожаловался генеральному:
— Не наш он человек, Леонид Ильич! Ох, не наш! Типичный ревизионист, доложу я вам. Сердце каменное, расчетливое, холодное, без революционного огня, без горения души. Одно слово — прагматик! А эти его постоянные заигрывания с интеллигенцией, эти демонстративные посещения авангардистских театров, эта, с позволения сказать, художественная литература, которую он, не стесняясь, кстати, заказывает себе в кремлевском магазине на дом, для личной библиотеки — Мандельштам, Булгаков, Набоков… Мало того, мне докладывали, что он и сам стихи кропает. Каково?! И что настораживает, дорогой Леонид Ильич: на Андропова ведь равняются некоторые аппаратчики, он у нас в некотором смысле — провозвестник нового стиля руководства…
Брежнев молча слушал окающего и размахивающего длинными руками Суслова, понимающе кивал головой, хотя уже тогда прекрасно знал, что предпринять что-либо конкретное против Андропова он не сможет, что благоприятный момент, когда эту политическую фигуру можно было без излишних хлопот убрать за кулисы главных событий, он безнадежно упустил.
Брежнев не просто не хотел — он элементарно БОЯЛСЯ подумать о том, как много знает Юрий Андропов и во что может превратиться это знание, в случае, если оно попадает в руки его РЕАЛЬНОГО политического врага. На заседаниях Политбюро Андропов никогда — ни словом, ни жестом — не давал понять, что хоть как-то интересуется нюансами внутрипартийной жизни страны. Назначения на посты первых секретарей крупнейших областей и краев России, на должности первых секретарей союзных республик Андропов неизменно принимал молча, без реплик или вопросов, всем видом своим демонстрируя полную лояльность и согласие с линией партией, с тактикой ее признанного лидера, стоявшего буквально за каждым серьезным назначением. В то же время в свою епархию на Лубянке этот человек не пускал никого, даже Генерального секретаря ЦК КПСС. С самого начала своей работы в КГБ Андропов методично проводил линию на ЗАКРЫТЫЙ характер деятельности возглавляемого им комитета госбезопасности. Любые попытки влиятельных, ревниво следящих друг за другом членов Политбюро, каким-то образом откорректировать или даже направить в определенное русло работу КГБ неизменно наталкивались на бетонную стену андроповских контраргументов, суть которых сводилась к следующему: КГБ СССР — подразделение партии, выполняющее работу ДЕЛИКАТНОГО характера. При этом председатель КГБ неизменно бросал выразительный взгляд в сторону Брежнева.
Слово «деликатность» в лексиконе Андропова было одним из наиболее часто употребляемых. И всякий раз, ощущая на себе холодный, ПРОНИКАЮЩИЙ андроповский взгляд, Брежнев внутренне сжимался. Ибо большая часть того, что приходилось делать Генеральному секретарю ЦК КПСС — будь то бесконтрольное манипулирование колоссальными средствами из партийной кассы, заигрывание с военными за спинами членов Политбюро или негласное, через высокопоставленных кремлевских посредников, покровительство откровенно мафиозным структурам, динамично просачивавшимся в основные структуры управления, носило именно деликатный характер.
…Первым не выдержал паузу Брежнев. Взгляд Генерального секретаря чуть потеплел, смягчился:
— Ты уж прости меня, Юрий Владимирович, за резкость, но речь идет о серьезных вещах… — Брежнев, не глядя, вытянул из пачки очередную сигарету и, щелкнув массивным золотым «Ронсоном», с которым он никогда не расставался (Андропов знал, что эту зажигалку ему подарил Кунаев, когда генсек еще работал в Казахстане), закурил. — Как будешь отчитываться перед товарищами?
— Леонид Ильич, — все так же негромко, вкрадчиво, произнес Андропов. — Давайте я вам кое-что поясню по нашим делам. Видите ли…
И он начал рассказывать Брежневу ситуацию, сложившуюся накануне запланированного переворота в Колумбии, одновременно прокручивая в голове причины и ОБОСНОВАННОСТЬ этого странного вызова в Кремль. Андропов отработал этот прием в разговорах с руководством очень давно, еще во времена «межцарствования», когда Сталина уже не было, а Хрущев только собирался подчинить себе страну. В свое время Отто Вильгельмович Куусинен — фигура в кремлевской обойме парадоксальная, выпускник и магистр философского факультета Гельсингфорского университета, свободно владевший немецким, шведским, французским, финским языками — не без юмора рассказывал ему, на чем «горели» даже самые опытные партийные функционеры.
«Понимаешь, сынок, — Куусинен до последнего дня жизни не смог (а, может быть, просто не стремился) избавиться от пришепетывающего выговора так до конца и не обрусевшего финна. — Причиной внезапного, внепланового вызова на ковер к большому начальству может быть только одно обстоятельство: внезапное появление некоей, непременно важной и опасной информации, причем направленной именно против тебя. Запомни, — внушал он молодому Андропову. — Ты не дождешься срочного вызова среди ночи или с самого раннего утра по поводу консультации относительно чьей-то кандидатуры, вручения тебе правительственной награды или понижения в должности. Все это — суть вопросы рутинные, способы их доведения до сведения отрабатывались сталинским аппаратом десятилетиями. А рутина никогда не ходит под ручку со спешкой. Отсюда задача: непосредственно во время разговора с большим боссом понять, насколько правдива и опасна информация против тебя, тут же, на месте, разобраться во всем и постараться во что бы то ни стало отвести от себя нависшую угрозу. Разберешься — выкарабкаешься. Не разберешься — считай, что тебя уже нет. Помню, в пятидесятом году меня среди ночи, где-то в три часа, вызвали к Сталину. Ты, Юра, не верь этой болтовне, что Сталин был маньяком или самодуром, который дергал всех без исключения людей исключительно потому, что страдал манией преследования и просто органически не переносил, когда кто-либо из его подчиненных спокойно спал. Он, к вашему сведению, молодой человек, постоянно РАБОТАЛ. Причем работал не только с бумагами (хотя и это делал великолепно, как настоящий канцелярист), но и, главным образом, с живым материалом, с людьми. Независимо от того, какой пост эти люди занимали. И если вызывал к себе, значит, имел на то основания, значит, что-то хотел выяснить лично, без аппарата. Его ведь постоянно информировали. Все вокруг. А он, на основе этой информации, делал выводы. Собственные выводы, которыми ни с кем не делился. Так вот, вхожу в его кремлевский кабинет. Сталин в наглухо застегнутом кителе, без звезды Героя, сидит за столом, головы не поднимает. А в кабинете полумрак, только лампа под зеленым абажуром на его столе. Жду, когда он меня заметит, подзовет. А Сталин словно и не видит меня, — вытащил из кармана трубку, не глядя, нащупал коробок, вытащил спичку, чиркнул — не загорается, гаснет. Раз чиркнул — не горит. Второй раз — не загорается, третий, четвертый, пятый — тот же результат. Собственно, я все понял на второй спичке. У Сталина была феноменальная память — он держал в голове номера полков и кадрированных частей, знал по имени-отчеству второстепенных начальников отделов главков и директоров провинциальных фабрик. Однако после войны потихоньку стал сдавать — склероз-то прогрессировал, работать в привычную силу он уже не мог. Но признаваться в этом не хотел. Сталин ведь не использовал своих помощников, Поскребышева, в частности, так, как это делают сейчас — в качестве консультантов, советчиков, поставщиков справочного материала, просто энциклопедистов. Вот и решил: раз спички плохие, виновато дерево. А дерево — это Карело-Финская автономная область. А Карело-Финская АССР — это Отто Куусинен. А раз Куусинен плохие спички делает, то одно из двух: или он работник плохой, или — что вероятнее всего — его, Сталина, личный враг. Ему бы спросить у помощника, кто, собственно, в гигантской стране занимается производством спичек. Но Сталин никогда не опускался до таких вопросов. Он знал все. Во всяком случае, народ в это верил свято… На шестой спичке я глубоко вздохнул, чтобы хоть немного успокоиться, и говорю: «Иосиф Виссарионович, в Карелии заготавливают лес, но спичками никогда не занимались. Основное производство сосредоточено в Белоруссии…» Он поднял голову и улыбнулся: «А, это ты, Отто! Хорошо, что пришел, есть у меня одна идея — построить в твоих краях крупный комбинат. Стране, товарищ Куусинен, позарез нужна бумага высокого качества…» Как ни в чем ни бывало, понимаешь?! Хотя про комбинат этот он со мной толковал буквально месяц назад…»
Андропов продолжал говорить, и по его спокойному, даже бесстрастному лицу никак нельзя было догадаться, что под этим высоким, мощной лепки лбом, лихорадочно просчитываются сложнейшие варианты. «Цвигун, опять эта мразь! — думал Андропов, излагая Генеральному секретарю ЦК КПСС позиция КГБ в центральной части Латинской Америки. — Но что он мог знать об этой операции? Какая информация к нему попала? Через кого?.. Воронцов? Карпеня? Нет, эти не могли. Этим нет никакого резона — сами шею подставляют. Тогда кто?.. По линии военной разведки? Но там крохи, по ним картину не воссоздать — так, мелочи. Неужели Громыко? Но какой ему смысл? Он же мог сделать это раньше и с большим эффектом — когда ЦРУ через него пыталось оказать на меня давление. Нет, это нереально. А Брежнев знает что-то КРУПНОЕ. Это очевидно, иначе откуда в нем такая прыть? Как же Цвигун разнюхал? И главное, что именно этот мерзавец знает?..»
— Юрий Владимирович, — к концу монолога председателя КГБ бас Брежнева звучал уже примирительно. — А как ты объяснишь мне вот это? — Генсек явно для видимости порылся в стопке бумаг и передал Андропову два сколотых листка, напечатанных на машинке с крупным шрифтом.
Андропов взял протянутые листы, но читать не стал и положил их перед собой. Затем полез во внутренний карман пиджака, вытащил бархотку и тщательно протер стекла очков. И только потом, чуть отодвинув страницы от глаз, как и все дальнозоркие люди, начал читать.
«ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС тов. БРЕЖНЕВУ Л.И. Лично. Напечатано в 1 экз.
Судя по данным наших источников в Бразилии и Аргентине, а также по сообщениям ряда средств массовой информации, в ряде стран Латинской Америки местными спецслужбами при активном содействии ЦРУ США была раскрыта попытка государственного переворота при участии левоэкстремистских сил и при активном содействии КГБ СССР. В самое ближайшее время ожидается высылка из Колумбии, Аргентины, Бразилии и Эквадора порядка тридцати советских дипломатов, прямо обвиненных в причастности к работе на КГБ СССР».
Подписи под этой справкой не было.
Андропов не торопился отвечать и еще раз — уже внимательней — перечитал документ.
— Откуда у вас это, Леонид Ильич?
— Юрий Владимирович, — Брежнев широко улыбнулся и развел руками. — Международный отдел ЦК КПСС всегда работал неплохо. Что же мы, задарма людей кормим?..
«Естественно, — подумал про себя Андропов и внутренне передернулся. — Особенно, если учесть, что твой международный отдел консультирует мой первый заместитель».
— Что дает вам основания верить в объективность данной информации? — Этот вопрос Андропов задал очень медленно, почти по слогам.
— А она что, необъективна? — простодушие Брежнева казалось совершенно естественным, но Андропов знал, что это всего лишь привычная маска, давно уже ставшая второй натурой генсека. Когда-то, в начале 60-х годов, именно это внешнее простодушие Брежнева, его бесхитростная, простецкая манера излагать собственные мысли сыграли решающую роль в новом, послехрущевском раскладе: Брежнев — чего от него никто не ожидал — сумел сыграть на противоречиях куда более сильных соперников и оказаться на самой вершине власти.
— Насколько мне известно, за последние несколько лет ни одного нашего дипломата из Южной Америки не депортировали.
— Но там ведь ясно написано, — Брежнев потянул к себе справку и, найдя пальцем нужное место, прочел: «В самое ближайшее время».
— Леонид Ильич, — толстые губы Андропова изогнулись в гримасе, которую с большой натяжкой можно было бы назвать улыбкой. — Не так давно в «Нью-Йорк тайме» я собственными глазами читал, что в течение ближайших трех месяцев вы уйдете в отставку по состоянию здоровья, а пост генерального секретаря займет товарищ Гришин В.В.
— Ну да?! — Брежнев как-то неуверенно хохотнул. — Неужели и впрямь Гришин?
— Я переправлю вам эту статью сразу же, как вернусь на работу.
— А чем мотивируют? Почему не Суслов? Не Устинов? Не Романов? Не ты, в конце концов?..
— А Бог их знает, Леонид Ильич! — Андропов выразительно повел плечами, как бы подчеркивая всю незначительность этой информации. — Да и вообще, мало ли что можно предположить! Слух пикантный, почему не развеять настроение публики и не поднять при этом тираж?
— А Гришин об этом знает? — Брежнев заерзал в кресле и потянулся за очередной сигаретой.
— Так от Гришина эта информация и идет, Леонид Ильич, — одними губами вяло улыбнулся Андропов. — За три недели до появления этой статьи он принимал в своем служебном кабинете в МГК собственного корреспондента «Нью-Йорк тайме» в Москве Стивена Олдрича…
— Может и мне этого американца пригласить, — как- то неуверенно хохотнул генсек. — Чтобы своими глазами убедился остолоп: пока я в этом кресле, а не товарищ Гришин, а?
— Это я возьму на себя, Леонид Ильич, — внятно произнес Андропов. — С Олдричем встретятся и все объяснят. А вот вы лучше пригласите автора этой записки. Было бы неплохо довести до его сведения, что пока дипломатов не выслали, подобного рода докладные записки являются непроверенным слухом. И это в лучшем случае…
— Ну и ладно! — совсем уже мирным тоном пробасил генсек и встал. — Извини, что потревожил, Юрий Владимирович, — Брежнев протянул ему руку. — Я, кстати, хотел предупредить тебя, что на конец февраля — начало марта намечено заседание Политбюро. Один из вопросов — обсуждение работы КГБ на современном этапе социалистического строительства. Признаюсь тебе со всей откровенностью, я и сам надеюсь, что слух этот с дипломатами не подтвердится… Но разговор о Латинской Америке будет, это в любом случае.
Андропов довольно вяло ответил на энергичное рукопожатие Брежнева и направился к выходу.
— Да, кстати, Юрий Владимирович! — Брежнев не глядя ткнул догоревшую до самого фильтра сигарету в тяжелую хрустальную пепельницу и в упор посмотрел на Андропова. — А что эти дипломаты?.. Ну, те, что в Латинской Америке работают… Они и вправду твои люди?
— Они НАШИ люди, уважаемый Леонид Ильич, — процедил председатель КГБ, и его глаза холодно блеснули. — Наши с вами. И ничьи больше!..
4. НЬЮ-ЙОРК. ОТЕЛЬ «МЭРИОТТ»
Февраль 1978 года
…Юджин появился только через два дня. Не постучав (да и зачем, собственно, если тебе по определению не могут сказать ни «войдите», ни «нельзя!»), он отомкнул дверь, дважды провернул ключ изнутри и только потом обернулся — осунувшийся, небритый, в потертом черном пальто, весь из себя какой-то неприкаянный, в огромных солнцезащитных очках и без малейшего намека на былую элегантность.
Глядя на совершенно незнакомого Юджина Спарка, я совсем некстати вспомнила нашу редакционную вахтершу тетю Нюсю. Когда завотделом комсомольской жизни нашей редакции с совершенно неподходящей для столь ответственной должности фамилией Загульная (одна из двух редакционных старых дев с плечевым поясом потомственной байдарочницы и склочностью осиротевшей подколодной змеи) попала в аварию на своем «Запорожце» и пребывала в этой связи в состоянии затяжной истерики при большом скоплении редакционного люда и набежавших на крики авторов, наша уборщица саркастически хмыкнула и выдала по этому поводу совершенно убийственный по точности и выразительности комментарий: «Да что вы все дергаетесь! Не видите разве, женщину грузовик в жопу поимел! Вот она и вопит, как чокнутая…»
У меня даже тени сомнений не было, что за те дни, пока я без прописки и даже вида на жительство обитала в благословенной Америке, Юджина, используя лексику тети Нюси, как следует имели. И еще у меня было жуткое ощущение невольной причастности к этому унизительному для взрослого и самостоятельного мужчины процессу.
Жалость напополам с любовью — это, наверное, самый отвратительный коктейль, которым может угостить себя женщина при встрече с любимым человеком. Но я испытывала именно это мерзкое чувство, глядя на огромного, предельно усталого и задерганного человека, МОЕГО мужчину, напоминавшего не то шофера такси, у которого только что угнали машину с недельной выручкой, не то последовательно спивающегося жэковского слесаря-водопроводчика.
— Привет! — он улыбнулся и как-то неуверенно шагнул мне навстречу.
— Ты забежал ко мне побриться? — Я заставила себя улыбнуться и тоже сделала шаг навстречу. — В ванной есть горячая вода и лезвие. Ни в чем себе не отказывай, милый…
— Не злись, Вэл.
— И ты на меня тоже.
Я подошла к нему и ткнулась в колючее пальто, насквозь пропахшее табаком, сыростью и чужой улицей.
— Где ты был так долго?
— На работе.
— Ты от кого-то скрываешься?
— Скрываешься ты.
— А ты?
— А я пытаюсь сделать так, чтобы у тебя это получилось хорошо.
— Твои попытки что-то дали?
— Ты же жива…
— Действительно, я об этом как-то не подумала.
— Тебе не нужно думать об этом, Вэл. Это не твоя проблема.
— Это моя проблема, милый. Просто она стала твоей.
Какая разница, чьей она стала? — Юджин устало повел плечами и прикоснулся кончиками пальцев к моей щеке. — Главное, что эта проблема существует, и ее надо решить. Все очень просто, Вэл. А ты по привычке все усложняешь.
— Ой ли? — Я обхватила его ладонь у своей щеки и крепко сжала ее.
— Не спорь со старшими, советская женщина! И чему тебя только учили в пионерской организации?
— Истинам.
— Истинам учит жизнь.
— Дурачок, это и была наша жизнь.
— И каким истинам вас учили?
— Сам умирай, но друга выручай.
— Потрясающе! А еще что-то умное?
— Учиться, учиться и учиться.
— Чему?
— Коммунизму, естественно!
— Здорово! Еще что-нибудь помнишь?
— А как же! Жить и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия!
— С кем бороться, родная?
— Неужели не понимаешь?! С такими типами, как ты, Милый. Потому что с нашими, как я поняла с возрастом, бороться совершенно бесполезно.
— Но это же несправедливо! — шепнул он мне на ухо.
— А почему, собственно, шепотом? — тихо поинтересовалась я.
— Я пытаюсь создать интимную обстановку.
— Как насчет того, чтобы сделать это в другом месте, причем прихватив меня с собой?
— Я не могу, Вэл! У меня работа!
— Твоя работа — быть со мной.
— Это не работа, милая. Это судьба.
— Меня охраняет много людей?
— Ага! — кивнул он. — Почти как Форт-Нокс. Все последнее время эти люди только тем и занимаются, что решают проблемы одной симпатичной воспитанницы пионерской организации имени Ленина.
— А ты?
— А я — в первую очередь.
— Ты решаешь мои проблемы на дне сточной канавы?
— А что, я на самом деле так плохо выгляжу?
— Не плохо, дорогой. Ты выглядишь отвратительно. Странно, как тебя вообще впустили в приличный отель.
— Я воспользовался грузовым лифтом.
— Неопрятность для мужчины — первый признак отсутствия успеха у женщин.
— Скажи мне еще что-нибудь приятное.
— Я тебя очень люблю, Юджин!
— Скажи еще раз. Только медленно.
— Я тебя о-бо-жа-ю. Я тебя боготворю! Я бы съела тебя целиком, если бы ты додумался в своей канаве принять душ.
— Это правда?
— Под салютом всех вождей!
— Несмотря ни на что?
— Ты лежал в канаве не один?
— Как ты догадалась, дорогая?
— Ты мне изменил?
— Нет. Тот, с кем я лежал в канаве, был мужчиной. Причем очень грубым. Он постоянно матерился и говорил, что ненавидит русских.
— Тогда несмотря ни на что…
— Мне надо уходить, — он взял мою руку и поцеловал в ладонь.
— Я понимаю…
— Мне действительно надо, Вэл.
— Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть!», — пробормотала я. — Везде одно и то же…
— Ты понимаешь, что я не имел права появляться здесь даже на эти несколько минут?
— С моим-то опытом конспиративной работы против таких, как ты?!
— Я очень скоро вернусь, Вэл.
— «Три мушкетера» читал?
— Читал.
— Помнишь, что сказал Атос, когда д'Артаньян, провожая служанку Кэтти в монастырь, пообещал им же соблазненной девушке, что скоро увидится с ней?
— Не помню.
— Он сказал: «Клятва игрока».
— Но я действительно скоро вернусь.
— Не жди от меня вопроса «когда?».
— Спасибо.
— Юджин, — я обхватила его колючие щеки и приблизила это усталое родное лицо совсем близко к своим глазам. — Ответь мне честно только на один вопрос: где я нахожусь? В очередной тюрьме?
— Вэл, побойся Бога! — Он подхватил меня на руки и прижал к себе.
— Отпусти, тебе же тяжело.
— С чего ты взяла?
— Тогда, в Праге, Витяня говорил, что я — перекормленная корова и что у него от напряжения что-то чуть не опустилось до колен.
— Он не уточнил, что именно?
— Да не помню уже, — пробормотала я, чувствуя, что невольно краснею.
— А я не помню, чтобы ты мне рассказывала, как Мишин носил тебя на руках.
— Юджин! — Я ткнулась носом в его колючую щетину. — Случилось страшное: ты меня ревнуешь!
— А я не должен ревновать?
— Как полноценный мужчина ты просто обязан ревновать меня. Но только не к Витяне Мишину.
— А к кому, милая?
— К этому номеру… — Я сделала левой рукой широкий жест, полностью охвативший ненавистную камеру со всеми коммунальными и прочими удобствами. — Ты уж прости меня за вульгарность, но эта обстановка меня уже трахнула. Еще немного, и я здесь рожу самым постыдным образом.
— Тебя внесут в книгу рекордов Гиннеса, — улыбнулся Юджин.
— Меня вынесут отсюда вперед ногами, дорогой.
— Я бы с удовольствием поменялся с тобой местами, Вэл.
— Ага, — кивнула я. — На сутки. Потом бы ты взвыл.
— Вэл, не будь снобкой! — Он аккуратно поставил меня на ноги и придирчиво, по-хозяйски окинул мое очередное пристанище по пути в никуда. — Ты в роскошном отеле, в котором, кстати, иногда останавливается даже Аристотель Онассис, друг и любовник Джекки…
— А теперь вот остановилась Вэл, подруга и любовница Юджина Спарка. Как по-твоему, милый, Аристотель Онассис переживет это соседство? Я ведь запросто могу не понравиться Джекки…
— Ты мне не веришь, да?
— Я знаю, что должна тебе верить. И если ты говоришь, что я в роскошном отеле, а не в тюрьме, значит, так оно и есть. И то, что моя дверь открывается только снаружи, а окно наглухо заварено, так это мелочи. Зачем мне вообще думать о такой ерунде, если взрослый и, по его собственному утверждению, влюбленный в меня мужчина убеждает, что все в порядке?..
— Бога ради, Вэл, не притворяйся тупой!
— Ты переоцениваешь мое актерское дарование.
— Ты же понимаешь, зачем это делается!
— А ты понимаешь, что в этом номере я постепенно превращаюсь в маньячку?
— Что тебе здесь не нравится?
— А ты спроси любого заключенного, что ему не нравится в тюремной камере!
— Кстати, каждые сутки твоего проживания в этой «тюремной камере» обходятся американскому налогоплательщику в 270 долларов. Немалые, между прочим, деньги.
— Да ну? — Я с интересом взглянула на Юджина.
— Ага, — кивнул Юджин с совершенно серьезным видом. — 270 долларов и ни центом меньше!
— Ладно. Я отдам из получки, когда вернусь домой. Частями.
— Ты слышала анекдот о французской проститутке и советском туристе? — Юджин поскреб затылок всей пятерней. — Когда они заперлись в ее номере, несчастная женщина стала истошно кричать: «Нет! Нет! Только не это!!»
— Он что, предложил ей вступить в КПСС и уплатить членские взносы за год вперед?
— Нет, он предложил расплатиться за ее профессиональные услуги советскими рублями.
— То есть ты намекаешь на мою некредитоспособность?
— Ты очень сообразительна, дорогая.
— Если бы! Я вот, к примеру, не могу понять: что, во всех американских отелях телефоны имеют исключительно декоративную функцию?
— Только в отелях для избранных.
— Для VIP?
— Для них, дорогая.
— Скажи, я как-нибудь смогу отблагодарить американского налогоплательщика за столь трогательную заботу о моем вечном покое? Я имею в виду в твоем лице?
— Не просто сможешь — ты обязана сделать это.
— Но не сейчас, да?
— Не сейчас, дорогая.
— И не завтра?
— И не завтра.
— Юджин, ты что, сознательно провоцируешь меня на вопрос: «А когда?»
Я чувствовала, что нахожусь на грани истерики, и, пытаясь предотвратить постыдное зрелище, покрепче зажмурила глаза. Будь трижды проклята эта бабская природа, по странным причудам которой слезы являются либо инструментом завуалированного вымогательства, либо символом абсолютного бессилия.
— Я принес тебе выловленного два часа назад и только что сваренного вкрутую омара. — Юджин улыбнулся и вытащил из бумажного пакета огромный сверток, бока которого были уже основательно промаслены.
— Что мне с ним делать, милый? Я даже не знаю, как с ним обращаться.
— По-человечески.
— Если по-человечески, то его надо выпустить обратно в океан.
— Увы, его уже сварили вкрутую, и он лишен возможности оценить твое благородство.
— Что же мне с ним делать?
— Съесть.
— Съесть?
— Ага! Причем как можно скорее, пока он не остыл.
— Это слишком экзотично и слишком много для одной женщины. Тем более что я по-прежнему мечтаю похудеть на десяток килограмм.
— А он рассчитан на двоих, Вэл.
— То есть на нас, милый?
— Конечно!
— Тогда снимай пальто и давай съедим твое ни в чем не повинное членистоногое вместе.
— Я не могу, Вэл. Мне уже пора идти. А ты ешь его и думай…
— О чем думать, Юджин?
— О том, что мы сидим рядом в красивом и уютном ресторане. Играет тихая музыка, ты одета в то самое черное платье, в котором мы впервые пошли в ресторан. Помнишь, в Буэнос-Айресе?..
— Ты ведешь себя, как садист.
— Я веду себя, как мазохист.
— Уходи.
— Я люблю тебя!
— Уходи, Юджин. И забери с собой этого монстра с клещами! Мне кажется, когда я его разверну, то увижу автопортрет.
— Ты выглядишь намного привлекательнее.
— Это потому, что меня еще не сварили в крутом кипятке! Пока не сварили!..
И он ушел.
Чтобы появиться еще дважды в течение этих одиннадцати дней — на несколько минут, с какой-то ерундой в качестве подарка или черт его знает чего еще. И с каждым разом его поведение все больше и больше напоминало мне вкрадчивые, предупредительные манеры профессионального консультанта немноголюдной и респектабельной клиники для жертв запущенной шизофрении, обязанного по долгу службы хотя бы изредка встречаться с особо тяжелой, практически безнадежной, пациенткой, которую он терпит исключительно потому, что весьма неосмотрительно дал в свое время клятву Гиппократа.
То есть со мной.
После таких открытий у меня обычно возникало острое желание тут же ринуться под душ, дать волю самому мощному напору воды, от которого начинают судорожно гудеть и захлебываться хромированные трубы, и реветь в унисон с этой миниатюрной Ниагарой на семьдесят процентов состоящей из воды и на тридцать — из собственных слез.
Конечно же, я все понимала,
Все!
И что меня вытащили из глубочайшего дерьма, и что из-за меня рисковали жизнью десятки людей, и что после всего случившегося я просто обязана с утра пораньше не зубы чистить и не лежать, раскинув руки и уставившись в одну точку на потолке, а срочно оборудовать в одном из углов комнаты стационарное святилище и ставить свечку, благодаря Создателя за свое непостижимое, невероятное спасение… Но виноватое выражение глаз этого доброго, умного и красивого мужчины, для которого я могла бы сделать все, что угодно, и которого — о, ужас! — я начинала постепенно ненавидеть, по-садистски медленно, мучительно убивало меня. Я чувствовала, что совершенно незаслуженно, по-склочному, в духе самых мерзких разборок в очереди за дефицитной польской косметикой, уже практически готова обвинить Юджина во всем, что со мной произошло. Его тщательно скрываемая, а потому так явно бросавшаяся в глаза виноватая нежность раздражала меня. Мне казалось тогда, что это вовсе не та нежность действительно влюбленного в тебя мужчины, которая растворяла мою душу в страшные моменты испытаний, выпавших на нашу долю. То было нечто принципиально другое — обреченное, вымученное, словно накануне чего-то неизбежного, страшного… Может быть, тогда, как-то сразу переместившись из бурлящего кратера событий в могильную тишину и обреченность домашнего ареста, все это мне только казалось. Допускаю, что я и в самом деле была чрезмерно озлоблена, затравлена, а мои нервы нуждались в длительном стационарном лечении в условиях полной изоляции и активной психотерапии… Однако я ничего не могла с собой поделать и с ужасом чувствовала, что еще немного, буквально самую малость, — и вся эта убивающая душу неопределенность, этот совершенно чуждый мне, вызывающий озлобленную чесотку, гостиничный комфорт, это тупое, неведомо кем санкционированное бездействие и острожалящее раздражение, постепенно переполнявшие меня изнутри, выплеснутся на его ни в чем не повинную голову.
И это уже точно будет полный цугцванг.
…Когда он пришел в последний раз, я смотрела какую- то передачу по телевизору и даже не повернула голову в сторону человека, еще совсем недавно вызывавшего во мне бурю эмоций.
— Ты плохо себя чувствуешь? — в его голосе сквозили нотки искренней заботы о моем здоровье.
— Плохо себя чувствуешь ты, — ответила я, не отрываясь от экрана. — Я же чувствую себя как обычно отвратительно.
— Осталось совсем немного… — Не приближаясь, он стоял в двух метрах от двери, пытаясь сориентироваться в моем нынешнем настроении и явно не желая обострять обстановку.
— Ты забежал, чтобы сообщить мне эту потрясающую новость?
— Я забежал, чтобы увидеть тебя, Вэл.
— Имеешь разрешение? Санкции? Приказ?
— Имею глубокую внутреннюю потребность, — его голос звучал глухо и серьезно, без иронии.
— Я не жрица платонической любви, Юджин, — также тихо ответила я, по-прежнему глядя в экран и воспринимая лишь смену цветовых картинок. — А ты не странствующий романтик с Бодлером в котомке. Мы с тобой, милый, на работе, и каждое твое посещение — это либо десятиминутное свидание в тюрьме, либо производственное совещание, на котором должен прозвучать отчет о проделанной работе. Расскажи мне, как ты меня охранял, потом я поведаю тебе, как я себя чувствую под этой охраной, и все — повестка дня исчерпана! Пора разбегаться.
— Посмотри на меня, Вэл.
Я повернула голову и невольно поморщилась. Словно кто-то схватил мое сердце и резко сжал. Юджин по- прежнему стоял на почтительном удалении, улыбаясь той жалкой, вымученной улыбкой, которая больше соответствовала встрече бывших супругов при разделе совместно нажитого имущества.
— Я не хочу тебя терять, — тихо сказал он.
— И я не хочу тебя терять.
— Так сделай что-нибудь!
— Что я могу сделать?
— Улыбнись. Скажи что-нибудь хорошее. Дай мне знак, что я все еще значу для тебя хоть что-то.
— Я не могу, милый. Внутри у меня все пусто. Это правда. Я не хочу тебя мучить, я люблю тебя, но все получается наоборот, не складывается.
— О чем ты думала перед моим приходом?
— О тебе. Мне показалось вдруг, что я знаю, почему ты поселил меня возле аэропорта.
— Почему, милая?
— Чтобы ты не тратил свои нервы на простаивание в нью-йоркских пробках и сумел вовремя посадить меня на мой рейс.
— О чем ты говоришь, дорогая? На какой еще рейс?
— На мой! Насколько я понимаю, даже невзирая на холодную войну и глобальные, судя по твоим затяжным отлучкам и молниеносным визитам, поиски беглой гражданки Мальцевой, самолеты из Нью-Йорка в Москву все еще летают? Только не говори мне, что я ошибаюсь, ладно?! У меня в окне показывают один и тот же фильм про аэропорт. Самолетов в нем — как мух на дерьме.
— Ты меня путаешь, Вэл.
— А ты пугаешь меня, Юджин! Неужели за те девять дней, что я проедаю здесь доллары твоих налогоплательщиков, Советский Союз объявил войну Америке?
— Советский Союз объявил войну тебе, Вэл.
— Ты хочешь сказать, что меня по-прежнему ищут?
— Нет, тебя поселили в этом отеле, чтобы на практике доказать преимущества капитализма над социализмом, — огрызнулся Юджин, и лицо его сразу же стало чужим, далеким. Обладатель той самой руки, что совсем недавно сжимала мое сердце, решил, видимо, напомнить о себе еще раз и сделал это с удвоенной силой.
— Юджин, прости меня! — Я встала с кровати, подошла к нему и, с трудом дотянувшись до его головы, прижала ее к себе. — Я понимаю, что это черная неблагодарность с моей стороны, но я так больше не могу! Выведи меня хоть на несколько минут отсюда! Я умоляю тебя, родной мой, любимый, давай спустимся вниз, выпьем кофе среди обычных людей, просто походим несколько минут… Ты даже не можешь себе представить, что я напрочь забыла, как звучит человеческая речь, как передвигаются по земле люди, как и над чем они смеются?! Ты хоть раз подумал о том, что я разговариваю исключительно сама с собой. Ты хоть догадываешься, дорогой мой избавитель, что весь этот кошмар является испытанием для людей, начисто лишенных мозгов и нервов?! Когда набирали пациентов в этот сумасшедший дом за 270 долларов за койку, я была совершенно здоровым человеком. За что вы обрекли меня на бесконечные беседы с собой? Поверь мне, милый мой: пять минут общения с такой собеседницей, как я, — и можно со спокойной совестью начинать мылить веревку и искать надежный крюк!
— Потерпи, родная… — Он неслышно подошел, прижал к груди мою голову и ласково, как это делала только мама, стал перебирать мои волосы. — Ведь ты столько перенесла, столько вытерпела. Еще немного…
— Еще немного до чего?
— Вэл, это все, что я могу тебе сказать.
— Но я не могу всю жизнь вытираться гостиничными полотенцами!
— Я попрошу свою маму, она тебе пришлет домашние, без монограмм…
Как-то незаметно я привыкла к одиночеству. Но не к тому, на которое порядочные женщины любят жаловаться своим близким подругам за чаем на кухне. А к самому настоящему, натуральному, ИЗОЛИРОВАННОМУ одиночеству, когда нет возможности ощутить его проклятье как минимум в обществе таких же неприкаянных, как ты сама. Не знаю, додумался ли кто-нибудь написать книжку с практическими советами для тех, кто вынужден пребывать неопределенное время в полной изоляции от людей. Время, не ограниченное четкими рамками, — это самое страшное, что только может случиться с человеком холерического склада. Даже уголовники точно знают, когда именно истекает срок их заключения и в какой именно день они смогут выйти на свободу. Я бы, к примеру, с удовольствием такую книжку прочитала. Но поскольку под рукой у меня ничего, кроме Библии на английском, не было, то приходилось, чтобы окончательно не чокнуться, как-то занимать ничем и ни кем не ограниченное свободное время, выделенное мне щедрыми и законопослушными американскими налогоплательщиками. И вот целых одиннадцать дней я, даже не принюхиваясь к пище, что-то жевала, пялилась, абсолютно ничего не понимая, в экран телевизора, причем делала все это, не покидая жесткую и совершенно неоправданную моей плачевной ситуацией широченную кровать, которой, очевидно, еще не доводилось принимать в свое крахмальностерильное лоно такую отчаянную лежебоку и совершенно безнадежную моралистку.
И думала.
Думала, думала, думала…
Иногда обо всем сразу, от чего мельтешение обрывков мыслей, воспоминаний, предчувствий в голове напоминало старательно записанную стенограмму выяснения отношений в палате для буйнопомешанных. Правда, бывали у меня и редкие минуты просветления — в основном, ночью, когда неведомая сила вдруг стальной, туго скрученной пружиной подбрасывала меня с постели. Какое- то время уходило на то, чтобы вспомнить, кто я, где нахожусь и каким образом я вообще сюда попала. А потом наступала пора тех самых нескольких минут, когда я могла по-настоящему сконцентрировать мозги (как говорила мне в детстве бабушка Софья Абрамовна: «Возьми голову в руки!») и с безжалостной точностью рассмотреть ситуацию, в которую меня угораздило вляпаться под самый занавес. И поскольку за несколько месяцев тесного общения с Комитетом Государственной Безопасности при Совете Министров СССР моими преподавателями — что бы там ни говорили их капиталистические оппоненты — были как-никак весьма и весьма суровые и опытные люди, а преподносившиеся ими жизненные уроки обладали потрясающим свойством впиваться в сознание, печенки и память с остротой и надежностью наглухо вколоченного гвоздя, я уже не испытывала комплексов неполноценности и даже научилась — вот уж во что никогда бы не поверила моя бедная мама! — трезво анализировать (так мне, во всяком случае, это казалось) не только природу происхождения дерьма, свалившегося на мою голову в прошлом, но и неминуемые последствия, ожидающие меня в обозримом будущем.
Нет никакого смысла приводить в качестве подтверждений подробности изнурительных ночных выволочек, которые я сама себе устраивала. Ибо даже в сконцентрированном, полностью отжатом виде в них только теоретически можно было обнаружить легкое, уже почти не слышное дыхание агонизирующей логики — самая заурядная рефлексия зрелой женщины, замешанная на интуиции, любви, суевериях и патологических страхах. А вот вывод, к которому я неизменно приходила в финале, был, как назло, предельно ясным и до обидного тривиальным: при всем уважении к себе, я не могла не понимать, что в данный момент конкретно НИКОМУ НЕ НУЖНА!
Ни-ко-му!
И никто на всем белом свете, кроме моей матери и полностью обезумевшего от свалившихся на него забот Юджина Старка, не был заинтересован в том, чтобы 29- летняя журналистка Валентина Васильевна Мальцева (б/п, не замужем, не состояла, не имею, не привлекалась, была и неоднократно, но не по своей воле), безнадежно скомпрометировавшая себя в достаточно узком, но очень влиятельном и агрессивном кругу представителей целого ряда западных спецслужб как агент ненавистного во всем мире КГБ СССР, до конца дней своих самым бессовестным образом тратила кровно заработанные центы идеологически совершенно чуждых ей американских налогоплательщиков, обжирая почем зря национальную экономику великой страны в комфортабельном номере отеля «Мэриотт».
И вот что убивало меня окончательно: в данном случае никакой принципиальной разницы между соотечественниками-шпионами, отслеживавшими меня с маниакальной настойчивостью юных сборщиков металлолома и их американскими коллегами, упрятавшими меня в номер комфортабельного отеля, практически не было: если первые искали меня повсюду, чтобы немедленно, без церемоний зачитывания приговора и последнего слова уничтожить, то вторые старательно прятали, чтобы сделать то же самое, но только более цивилизованным способом. Все как в той популярной среди хозяйственных и бережливых людей радиопередаче, которая традиционно начинается очень страшной фразой: «Если ваша вешалка пришла в полную негодность, не торопитесь ее выбрасывать — она еще сослужит вам добрую службу в качестве…»
Такие вот, добрые советы на ночь!
В каком качестве меня собирались использовать люди, оплачивавшие мой номер в отеле, я могла только догадываться, потому что вариантов было достаточно.
Могла, но не хотела.
Ибо слишком хорошо понимала, что никогда не дождусь передачи, в которой диктор ласковым голосом сообщит многомиллионной аудитории слушателей, что после вторичного использования пришедшей в негодность вешалки ее, как это ни печально, все равно выкинут на свалку.
Впрочем, был еще один страшный результат моих ночных разборок с самой собой: в какой-то момент, со всей отчетливостью понимая бесперспективность и обреченность явно затянувшейся борьбы за собственное выживание, я мысленно представила себе картину, которая затем преследовала меня с подозрительной и от того тревожной настойчивостью: роскошный, выдержанный в теплых розовых тонах, интерьер моей гостиничной ванной, желтоватая пластиковая коробочка с несколькими блестящими лезвиями «Вилкинсон» на широкой матовой полке под огромным зеркалом и размытая струей горячей воды, в цвет интерьера, собственная кровь, стекающая по изящным чреслам раковины.
Полный цугцванг!..
5. КЭМП-ДЭВИД. РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА США
Февраль 1978 года
Президент США Джеймс Эрл Картер принял директора ЦРУ в курительной комнате, примыкавшей к его спальне, на втором этаже элегантной резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая, хоть и называлась по традиции «летней», на самом деле использовалась всеми без исключения хозяевами Белого дома круглый год.
Никто, в том числе и сам Картер (исключая, естественно, нескольких человек из руководства службы безопасности Кэмп-Дэвида, подчинявшихся непосредственно не ЦРУ, и даже не ФБР, а министерству финансов), так до конца толком и не знал, что именно входит в этот укрепленный с надежностью центра стратегических ядерных исследований комплекс зданий, подземных коммуникаций и вспомогательных пристроек… Эта резиденция, архитектура которой удачно сочетала в себе помпезность викторианского стиля и простоту студенческого кампуса, строилась и технически совершенствовалась в смутные времена растущей «угрозы с Востока», а потому представляла собой поистине неуязвимый командностратегический опорный пункт, охваченный в радиусе добрых двух десятков миль сотнями явных и скрытых постов электронного контроля и слежения. Проникнуть незамеченным на территорию Кэмп-Дэвида было невозможно ни при каких обстоятельствах. Базировавшиеся в непосредственной близости от летней резиденции специальный полк ВВС США и две базы противовоздушной обороны надежно контролировали воздушное пространство. Кроме того, в случае необходимости дальние подступы к летней резиденции президента США могли быть в течение двух минут наглухо перекрыты тремя батальонами морской пехоты и особым мотострелковым полком, имевшим на вооружении, вопреки существующим в Пентагоне нормативам, даже дивизион тактических ракет «земля-земля». Не случайно наиболее важные секретные встречи с главами или полномочными представителями иностранных государств американские президенты, послушно следуя рекомендациям экспертов по безопасности, проводили именно здесь, вдали от скопления людей и транспорта, в резиденции-крепости, только попав внутрь которой по-настоящему можно было оценить выражение «за каменной стеной»…
Джимми Картер — светловолосый, голубоглазый, без грамма лишнего веса пятидесятичетырехлетний мужчина странным образом сочетал в себе импульсивное обаяние несостоявшейся кинозвезды и неброскую, органичную сдержанность, которую 39-й президент США приобрел на службе в военно-морских силах. Явное несоответствие внешности и характера Картер, коренной южанин, уроженец Джорджии, использовал максимально. Его кажущаяся коммуникабельность и душевная открытость, широкая, белозубая улыбка и обаяние зрелого мужчины притягивали к президенту каждого, кто хоть на несколько секунд становился объектом его внимания. И мало кто догадывался, что Джеймс Эрл Картер, триумфально победивший на президентских выборах прошлого года и буквально очаровавший всю Америку, в работе отличался предельной лаконичностью, повышенной требовательностью к подчиненным и совершенно не терпел фамильярности. Мир общепринятых рамок, в который традиционно вписывались обычные для американского политического истеблишмента голливудские «флеш смайлинг», похлопывание по плечу и дружеские вечеринки в тесном кругу сотрудников, на которых мужчины позволяют себе за стаканом виски снимать пиджаки и даже закатывать до локтей рукава партикулярных голубых сорочек, Картер воспринимал как профессионально сколоченную декорацию, за которой маскировался его истинный характер. В работе и общении с близкими людьми Джимми Картер был сухим педантом, человеком без четко обозначенных эмоций, совершенно не умевшим и никому вокруг не позволявшим расслабляться, разряжать накаленную атмосферу, вовремя и к месту пошутить. Все, кто работал в прямом контакте с президентом, говорили примерно одно и то же: «С ним НЕИНТЕРЕСНО». Для Америки — узнай она вдруг истинное лицо своего президента — подобный вывод ближайших сотрудников Картера в одночасье стал бы его политическим приговором: в этой стране внешность президента, его общительность, обаяние, умение найти общий язык с людьми по традиции ставились неизменно выше, нежели аналитический ум, обширные знания и мудрость при принятии важных решений. Но Америка знала ДРУГОГО Джеймса Эрла Картера и потому, в отличие от сотрудников аппарата Белого дома, вовсе не считала случайным его появление в Овальном кабинете.
Впрочем, у директора ЦРУ, усаживавшегося в широкое кожаное кресло в курительной комнате и наблюдавшего, как президент, несмотря на поздний воскресный вечер и неофициальную обстановку, в строгом черном костюме, голубой рубашке и темно-синем в мелкий белый горошек галстуке, аккуратно поправляет манжеты, имел на сей счет свое мнение: в этот момент Джеймс Эрл Картер был единственным на всем огромном пространстве Соединенных Штатов Америки политиком, который сумел бы понять и оценить суть его предложения. У директора были все основания так считать, ибо работая с Картером в непосредственном контакте почти два года, он сумел по-настоящему оценить, что впервые после Франклина Делано Рузвельта в Овальном кабинете хозяйничает очень тонкий и искушенный СТРАТЕГ, явно тяготеющий к решению глобальных, мировых проблем.
Едва очутившись на самом верху пирамиды государственной власти, Картер, что называется, всем корпусом развернулся в сторону проблемы военного противостояния с Советским Союзом и взялся за поиски реальной концепции ограничения стратегических наступательных вооружений — то есть за самое гиблое, с точки зрения большинства аналитиков и экспертов, дело. Столь явный крен в сторону Востока незамеченным не остался. Пресса, — вначале осторожно, а потом все смелее и смелее, стала отпускать язвительные шпильки в адрес президента, который явно увлекался внешнеполитическими проблемами в ущерб внутренним. Картер в ответ широко улыбался, отпускал на брифингах заготовленные помощниками остроты и продолжал свое дело с присущей ему железной последовательностью.
По традиции директор ЦРУ, если только он не являлся близким другом президента или не был членом его команды в период президентских выборов, никогда не вмешивался по собственной инициативе во внутриполитические проблемы и тем более в вопросы укрепления президентского престижа в Америке. Уже позднее, видя, как неуклонно снижается популярность Джимми Картера среди избирателей, директор ЦРУ предположил, что президент, по всей видимости, просто лишен дара политического чутья и не понимает, какие именно решения способны поднять его престиж в стране. И только со временем он понял, что Джеймс Эрл Картер — куда более сложная и противоречивая личность, что он себе представлял.
В одной из бесед, в ходе которой директор ЦРУ вскользь, не педалируя, обмолвился, что картеровское решение сократить ассигнования на муниципальные нужды может иметь самые непредсказуемые последствия на предстоящих через три года президентских выборах, Картер флегматично пожал плечами, набросал в блокноте несколько колонок цифр, аккуратно, словно только что заполнил чек на огромную сумму, оторвал лист блокнота и протянул его директору:
«Вот расчеты, — пояснил президент. — Вторая графа — куда именно будут переброшены сэкономленные 72 миллиона долларов. А в третьем столбике — экономический эффект от данной перестановки… Что же касается выборов, то… — президент аккуратно водворил автоматический «Пеликан» в специальное гнездо-поставку. — Президенты, мой друг, приходят и уходят, а Америка остается…»
В тот момент директор по-настоящему осознал две вещи: во-первых, что этого человека никогда не переизберут на второй срок, а во-вторых, что Джимми Картер в принципе способен на ПОСТУПОК. Как способен на ПОСТУПОК любой человек, не проверяющий время от времени прочность своего кресла. Редкий, практически вымирающий тип профессионального политика.
— Я слушаю вас. — Голос Картера звучал глухо. — Что- то случилось?
— Господин президент, — директор щелкнул цифровыми замками своего «кейса», извлек оттуда лист бумаги и аккуратно положил его на стеклянную поверхность курительного столика. — Прочтите, пожалуйста, это…
Картер потянулся к нагрудному карману пиджака, вытащил старомодный черепаховый футляр и водрузил на широкий, утиный нос очки в металлической оправе с очень узкими стеклами и только потом взял бумагу.
Директор ЦРУ автоматически взглянул на свой «Роллекс» — подарок жены к «серебряной» свадьбе. Ему было известно, что, как и Кеннеди, Джимми Картер в свое время прошел курсы ускоренного чтения, легко расправляясь с огромным количеством документов и докладов, которые ему приходится прочитывать ежедневно. И директору ЦРУ вдруг стало по-детски обидно, что конспект этой фантастической, иррациональной и смертельно опасной, как клубок гремучих змей, затеи, на составление которого он потратил три часа перед вылетом в Кемп-Дэвид, президент прочтет за какое-то мгновение. Однако секундная стрелка на его «Роллексе» уже завершала первый оборот, пошла на второй, а президент все читал записку. Директор недоуменно взглянул на Картера и вдруг понял что он уже несколько раз ПЕРЕЧИТЫВАЕТ документ.
Пауза становилась тягостной.
— Признаюсь, вы меня озадачили, — эту фразу президент, по-прежнему державший бумагу в руках, произнес ПУСТО, без интонаций.
— Что именно озадачило вас, господин президент?
— Наличие в этом плане четко прослеживающегося элемента авантюризма, который, насколько мне известно, вам совершенно не присущ. Или, — поправился президент, — не был присущ.
— Признаюсь вам честно, господин президент, — улыбнулся директор, — моя первая реакция на этот план была примерно такой же…
— Следовательно, я, по-вашему, заблуждаюсь? — быстро спросил Картер.
— Я этого не говорил, господин президент, — пробормотал директор ЦРУ.
— У нас сегодня воскресенье, выходной день, сэр, — напомнил визитеру Джимми Картер. — Причем время уже позднее, завтра с утра и вам, и мне на службу. Попрошу вас не так явно придерживаться этикета. Ведь вы бы не приехали ко мне, считая это… предложение некорректным, не так ли?
— Я считаю его достаточно корректным, господин президент, — твердо ответил директор. — Настолько, что позволил себе попросить об этой встрече.
— Тогда объяснитесь, в чем я заблуждаюсь?
— Позвольте, господин президент, ответить вам вопросом на вопрос: а что именно вы считаете авантюрой?
— Любое манипулирование национальными интересами США, — не задумываясь, словно отвечая на давно уже решенный для себя вопрос, ответил Картер.
— По содержанию или по форме, господин президент?
Картер буквально полоснул собеседника острым, исподлобья, взглядом, на секунду задумался, после чего негромко поинтересовался:
— Вы считаете, что одиннадцатый час ночи — это время для философских дискуссий?
— Я предлагаю рассмотреть только практические аспекты данного вопроса, господин президент, — быстро ответил директор. — Полностью согласен с вами: элемент авантюризма в данном плане присутствует. Но только по форме этой идеи: используя конкретно сложившуюся обстановку и собственные каналы информации, действуя
НЕ АФИШИРОВАННО, тайно, опираясь на наши связи, средства и технические возможности, посадить на советский коммунистический престол удобного для США политика. Что же касается содержания, то здесь, на мой взгляд, все наоборот: выполнение такой задачи полностью соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Добавлю от себя — высшим национальным интересам. Позвольте спросить вас, господин президент: вы согласны с главным выводом конспекта?
— Юрий Андропов на посту генерального секретаря?
Директор ЦРУ кивнул.
— Согласен, — подумав несколько секунд, ответил Картер.
— Как лицо, отвечающее за внешнеполитический курс США и имеющее контакты с нынешним кремлевским руководством, считаете ли вы, что приход Андропова к власти в России будет способствовать общей разрядке международной напряженности и относительной стабилизации двусторонних отношений с перспективой вероятного сближения?
— Пожалуй, да, — чуть помедлив, ответил Джимми Картер.
— Так в чем же, господин президент, вы усматриваете манипулирование национальными интересами США?
— В ситуации, при которой Брежневу станет об этом известно! — Лицо президента приняло угрюмое выражение. — Вы просчитывали такое развитие событий, сэр? Вы понимаете, чем это чревато?
— Просчитывал, господин президент. Простите, но я не вижу ничего противоестественного в самой постановке вопроса. Мы же не ставим перед собой СЕГОДНЯ цель свергнуть социалистический строй в Советском Союзе или провозгласить в этой стране частную собственность на средства производства. Речь идет всего лишь об очередном дворцовом перевороте, политической интриге, тяга к которым, как вам это известно, у русских в крови. Получится — замечательно, не получится — что ж, значит, не судьба. В определенном смысле в большой политике стоит быть фаталистом.
— Причастность США к этому, как вы изволили выразиться, дворцовому перевороту, отбросит наши отношения с русскими на уровень сорок седьмого года… — Картер кивнул на алого цвета телефонный аппарат прямой связи с Кремлем, установленной на специальной подставке. — Меня ведь могут даже не предупредить о начале ядерной атаки. Во всяком случае, по этому телефону. В такие игры, сэр, я играть не приучен. О ставках уже и говорить нечего…
— Господин президент, официально к этой операции не будет привлечен ни один гражданин США, ни одно должностное лицо, ни один американский дипломат. Господин Брежнев и его ближайшее окружение, в том случае, естественно, если наш план сорвется по каким-то причинам, не получит ни одного подтверждения, ни одного официального факта причастности Соединенных Штатов к данной акции. Изящность этого плана, господин президент, в том и заключается, что вся его ПОДРЫВНАЯ часть будет осуществлена гражданами других государств…
— …которые на допросе сразу же признаются, что работают по заданию Центрального разведывательного управления США, — мрачно завершил тираду директора ЦРУ Джимми Катер.
— Признаться они могут в чем угодно, господин президент, — голос директора вдруг зазвучал на тон выше. — Принципиально другое — что они смогут предъявить в качестве ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. А сказать можно все, что угодно…
— Но ведь вам же нужна помощь! — возразил Картер. — Госдепартамента, посольств, кое-каких чиновников, военных… В чем вы пытаетесь меня убедить, сэр? Что два-три ваших человека смогут привести к власти политика, которого практически уже загнали в угол и списали со счетов?
— Два-три человека, которые смогут привести Андропова к власти — это мы с вами, господин президент, — тщательно подбирая слова, ответил директор ЦРУ. — Только мы располагаем реальными возможностями для акции подобного масштаба. И потом, речь пока идет всего лишь о том, чтобы не дать смахнуть эту фигуру с доски. Вопрос о приходе Андропова к власти — это вопрос не менее трех-четырех ближайших лет. Что же касается помощи, то она действительно нужна. Но помощь ОФИЦИАЛЬНАЯ, господин президент. Это как буквы в буриме — каждая ставится на определенное место, в четко обозначенную клетку, но ни одна из них не догадывается, какое же слово будет в итоге составлено с ее помощью. Схема эта апробирована сотни раз, господин президент, это основа любой тайной операции, эффективность которой тем выше, чем меньше людей знает о конечной цели…
— А сам Андропов? — тихо спросил президент. — Мало того, что это действительно умный политик, он ведь еще и шеф КГБ, то есть человек, сосредоточивший в своих руках огромную власть. А вы не боитесь, сэр, что он попытается развернуть ваш план в свою пользу? Что он использует скрытые механизмы этой операции, чтобы САМОСТОЯТЕЛЬНО выбраться из тупика и тем самым укрепить свое пошатнувшееся положение?
— Такая вероятность существует, господин президент, — кивнул директор. — Но только теоретически. То есть в том случае, если бы этот господин имел хотя бы незначительный резерв времени. Но этого резерва у Андропова нет. И что любопытно, господин президент, цейтнот во времени Андропову создали мы, а вот воспользоваться этим готовы его непосредственные политические противники в Кремле…
— То есть вы хотите сказать, что главная заслуга в том, что Андропов, возможно, навсегда исчезнет из кремлевского пасьянса, принадлежит… вам?
— Увы, господин президент, — директор поправил галстук. — К сожалению, я вынужден это признать. Так, кстати, часто бывает в нашей работе: ты из последних сил стремишься опрокинуть врага, а когда он уже на волосок от смерти, начинаешь задумываться, где он будет полезнее для тебя — на этом свете или на том?
— И вы полагаете, что ситуация все еще подконтрольна?
— Я НАДЕЮСЬ на это, господин президент. Как мы себе это представляем, сигналом к окончательному поражению Андропова станет высылка из четырех государств Латинской Америки двадцати семи советских дипломатов, работающих на КГБ. Конкретные сроки депортации зависят от нас…
— Стало быть, — Джимми Картер пытливо взглянул на собеседника, — если мы придем к решению э-э-э… сохранить политические перспективы господина Андропова, дипломаты высланы не будут?
— Совершенно верно, господин президент.
— Но ведь это…
— Это уже чистая формальность, — директор ЦРУ улыбнулся. — Мы знаем, кто эти люди, и Андропову, в свою очередь, известно, что мы это знаем. Практически их карьера завершена. В результате просчетов руководства КГБ в этом регионе, господину Юрию Андропову или человеку, который его заменит, потребуется не менее трех лет, чтобы заново сманеврировать и укрепить свои резидентуры. То есть в профессиональном аспекте это чистый проигрыш. Этих господ с площади Дзержинского давно уже не посылали в такой глубокий нокаут. И если мы не станем ОФИЦИАЛЬНО высылать из Латинской Америки его парней, Андропов отзовет их сам, правда, не сразу, а постепенно, с соблюдением правил их игры. В конце концов, ротация кадров во внешней разведке — процедура обычная и придраться к ней не так просто.
— Н-да, убедительно, — пробормотал Картер и медленно снял очки. — Скажите, у Андропова есть шансы самостоятельно, без нас, вылезти из этого капкана?
— Не думаю, господин президент. — Директор решительно мотнул головой. — Буквально за несколько минут перед тем, как сесть на вертолет, я получил донесение из Москвы от нашего источника: утром Андропова вызвал в свой кабинет на Старой площади Брежнев. Беседа была с глазу на глаз и длилась около сорока минут. Из Кремля Андропов отправился на Лубянку. Думаю, господин президент, что связь между нашей беседой и этим разговором в Кремле очевидна. Андропова начали прижимать и теперь, очевидно, с нетерпением ждут начала высылки дипломатов. Он обречен.
— Брежневу так невтерпеж избавиться от шефа КГБ? — впервые за всю беседу Картер улыбнулся.
— Понять мотивы этого человека весьма непросто, — улыбнулся в ответ директор ЦРУ. — Вам это известно лучше, чем мне, господин президент. Короче, времени у Андропова в обрез. И теперь все в наших руках. Вернее, в ваших, господин президент.
— Приступайте! — Выражение лица Картера было мрачным, словно только что он принял решение лечь в больницу на сложную операцию. — Завтра утром я переговорю с кем надо. Необходимую помощь вы получите. Финансирование?
— Мы укладываемся в бюджет, господин президент.
— Я хотел бы быть в курсе всего, вплоть до нюансов.
— Естественно, господин президент.
— Число официальных лиц, посвященных в это дело?
— Кроме нас с вами, господин президент, еще один человек. МОЙ человек, — подчеркнул директор ЦРУ.
— Кстати, кому принадлежит идея этой акции?
— Господин президент, она не обсуждалась на расширенном заседании оперативного руководства ЦРУ.
— А где она обсуждалась? — Картер взял бумагу, стремительно окинул ее по диагонали и вновь положил на стол.
— Это предложение шефа оперативного управления Генри Уолша. Он пришел с ним непосредственно ко мне. А я, в свою очередь, — к вам, господин президент.
— Это и есть ВАШ человек?
— Да, господин президент.
— Уолш? — Джимми Картер наморщил высокий лоб. — Тот самый бригадный генерал, который выступал в семьдесят третьем на заседании сенатской комиссии по обороне?
— Да, господин президент.
— С какого времени он в ЦРУ?
— С момента образования фирмы, господин президент. Там было несколько молодых офицеров, которых Даллес перехватил у Донована. Генри Уолш — один из них.
— Сколько ему сейчас?
— Шестьдесят шесть, господин президент.
— Здоров?
— Насколько это возможно при таком возрасте, — уклончиво ответил директор ЦРУ, силясь понять, куда клонит президент.
— То есть пенсию он уже заслужил, не так ли?
— Он заслужил значительно больше, господин президент, — тихо ответил директор ЦРУ. — В обозримом будущем я не вижу РЕАЛЬНУЮ кандидатуру, которая могла бы сменить Уолша на посту шефа оперативного управления ЦРУ.
— Вы считаете, он нуждается в замене?
— Мне показалось…
— Я просто прикидываю, насколько продлится ваше… э-э-э… предприятие и сможет ли господин Генри Уолш остаться в команде до самого конца.
— Убежден, что сможет, — улыбнулся директор. — По статистике раньше умирают не курильщики, а те, кто их окружают.
— А Уолш — курильщик? — Картер встал и протянул собеседнику руку.
— И еще какой, господин президент! — Директор ЦРУ поднялся и пожал горячую ладонь президента.
— Да, и вот еще что!.. — Картер кивнул на листок белой бумаги. — Сколько экземпляров этого документа существует в природе?
— Один, — директор ЦРУ недоуменно пожал плечами. — Я напечатал его на своей машинке, в своем рабочем кабинете, господин президент.
— Значит, ни одного, — почти неслышно пробормотал Джимми Картер, щелкая массивной зажигалкой и поднося к оранжевому язычку пламени уголок белого листка. — Не было, нет и не будет. Ни одной бумаги, связанной с этим делом. Вы меня поняли?
— Да, господин президент!
— Вы решили добираться в Вашингтон на ночь глядя? Не хотите утром полететь со мной?
— Благодарю вас, господин президент! — Директор ЦРУ чуть наклонил голову. — Я обещал супруге встретить ее из театра.
— Во сколько заканчивается спектакль?
— К часу.
— Успеете.
— Успею, господин президент. К счастью, в воздухе еще нет пробок…
6. ИЗРАИЛЬ. БАЗА МОССАДА В НАГАРИИ
Февраль 1978 года
— Все-таки ты настоящий русский, — улыбнулся Дов.
— А вы все это время искали в моем генеалогическом древе иудейские корни? — пожал плечами Мишин и хмыкнул. — Оч-чень умно! А то у вас все дети малые и не знают, что в мою контору, а тем более на оперативную работу, с прожидью не берут.
— Да я о другом, — отмахнулся Дов. — Только настоящий русский способен завершить работу по собственному уничтожению, недоделанную его врагом. Наши врачи, уважаемый товарищ подполковник КГБ СССР, собрали тебя в полном смысле слова из запасных частей. Причем, обрати внимание, Виктор, даже в твоей хваленой кремлевской больнице на такое не сподобился бы ни один профессор. Тебя, Виктор, вернули с того света…
— Я их об этом не просил.
— Не будь таким неблагодарным!
— Да здравствует великий и неделимый Израиль — оплот мирового сионизма! — гаркнул Мишин.
— Оставь в покое Израиль! Объясни лучше, зачем ты выкуриваешь по три пачки сигарет в день? Ты что, Виктор, маньяк?
— Организм требует, еврейский брат.
— Твой организм требует полного покоя и усиленного питания.
— Мне лучше знать, чего именно требует мой организм! — огрызнулся Мишин.
— Блажен, кто верует, — пробормотал израильтянин.
— Знаешь, Дов, чем отличаются люди нашей профессии от врачей с университетскими дипломами?
— Знаю: они без всякого риска зарабатывают на жизнь частной практикой куда больше, чем мы?
— Ваши врачи, может быть. Но только не советские, — усмехнулся Мишин и сделал глубокую затяжку. — Так вот, нас, перед выполнением конкретного задания, учат четко формулировать цель и взвешивать последствия. А врачи сразу же бросаются спасать своего пациента, даже не задумываясь, нужно ли это вообще кому-нибудь. В частности, самому пациенту.
— Ты хочешь сказать, что тем людям, которые, рискуя головой, умудрились вытащить из-под носа чешской контрразведки то немногое, что от тебя осталось, надо было предварительно посоветоваться с тобой, да?
— Я не понимаю, зачем вы меня вообще вытащили из Праги, Дов? — Витяня поморщился, словно представил себе в этот момент, как жена застает его с любовницей на супружеском ложе. — Ты же профессионал и прекрасно понимаешь: я лез головой непосредственно в петлю, я СОЗНАТЕЛЬНО шел на этот финал, понимаешь? И мне казалось, что вас такой расклад тоже устраивает. Объясни мне, зачем вообще нужен был весь этот вестерн с пальбой и криками?
— В КГБ что, операции проводят без подстраховки?
— Да оставь ты в покое этот несчастный КГБ! — взорвался Мишин. — Я был в бегах, ты же знаешь!
— Знаю, — кивнул израильтянин.
— А ты сам когда-нибудь пробовал оторваться от своей фирмы?
— Я что, похож на идиота? — улыбнулся Дов.
— А если бы тебя решили спустить свои же, тогда что?
— Ну, есть несколько способов… — Дов на секунду задумался. — Пустил бы пулю в рот.
— А я, дубина, сразу до этого не додумался, понимаешь? Смерти я не боюсь, приятель, просто злость разобрала: что же это, вот так, как безмозглый баран, собственными ногами потопать на бойню?..
— И ты решился на автономное плавание?
— Ну! — кивнул Мишин. — Тогда мне эта идея показалась заманчивой. Я словно очумел на несколько недель, забыв, с кем имею дело. У меня были люди, кое-какие средства, плюс это опьяняющее чувство свободы, полной независимости… Но даже не это самое важное. В конце концов, со своими я как-нибудь разобрался бы… В дело вмешались вы, ребятки носатые, сразу же дав понять, что мои интимные отношения с собственной конторой для вас секретом не являются. И только тогда я понял, что проигрываю в любом случае. Сколько можно бежать в никуда? Надоело!..
— И ты решил устроить в Праге финальную сцену, — Дов звонко прищелкнул языком. — Очень романтично!
— Очень, не очень — дело мое! — огрызнулся Витяня. — Главное, что цели своей я достиг: человека вашего вытащил, коллегам своим напоследок насолил и свои шесть пуль в брюхо из родного Калашникова — как в тире на Лубянке — честно заработал. С этим живут недолго — на сей счет существует статистика. А не окочурился бы сам по себе — дружки из родной конторы помогли бы отмучиться. Так на хрена я вам, жидярам дотошным, сдался, а?
— Ты выполнял НАШЕ задание, Мишин.
— Да херня все это! Я выполнял СВОЕ задание, понимаешь ты это?! У меня собственный счет к этому кабаку!..
— И тем не менее, — упрямо гнул свое израильтянин, — ты работал на нас.
— Ну и дальше что?! Ведь не обманул же. Все сделал как надо, на совесть. Так что вам еще приспичило? Ты же понимаешь: благодарность моя вам — как зайцу стоп-сигнал на жопе, в еврейство я не обращусь даже под угрозой кастрации, а работать на вас, даже если бы я этого хотел, мне все равно уже не придется…
— Любопытно, — хмыкнул Дов. — Почему ты так уверен в этом?
— Ты знаешь, где я находился в семьдесят третьем году?
— Знаю, — улыбнулся Дов. — Я про тебя вообще знаю все. В 1973 году ты находился в Каире. Офицер разведки при советском посольстве.
— Знаешь, что я там делал?
— Сказал же: я знаю о тебе все, Виктор. Не трать время на изложение автобиографии.
— Тогда к чему весь этот базар?
— Ты не ответил на мой вопрос… — Дов встал и открыл небольшое оконце походного домика-вагончика, чтобы вытянуло табачный дым.
— Как по-твоему, Дов, в КГБ поверили бы сотруднику израильской политической разведки, решившему переметнуться по каким-то своим соображениям?
— Смотря в чем? — Дов выразительно пожал плечами и ухмыльнулся. — Если бы, к примеру, он признался, что женат на русской, то, вполне возможно, поверили бы.
— И сразу же зачислили бы в штат, поставили на денежное и вещевое довольствие, выдали табельное оружие и посадили бы за стол в оперативном отделе Ближнего Востока?
— Ну, это вряд ли, — хмыкнул израильтянин.
— И кстати, не только потому, что все без исключения русские — убежденные антисемиты. Примерно так же отнеслись бы к китайцу, французу, немцу…
— Возможно.
— Но что-то же с ним сделали бы, а, Дов? В награду за то, что этот иностранный агент честно отработал на враждебную спецслужбу и даже отправил в мир иной по понятным только ему причинам почти десяток своих соотечественников?
— Его бы постарались как-то использовать…
— Умная еврейская голова! — Мишин от возбуждения даже сел в постели. — И меня вы постараетесь каким-то способом ИСПОЛЬЗОВАТЬ — нравится тебе этот глагол или нет.
— Но…
— Я знаю, что ты хочешь сказать, Дов, — Мишин закурил очередную сигарету. — Что вы меня уже как следует использовали. В Голландии, Польше, Чехословакии… Но это не более, чем иллюзия, дорогой еврейский коллега. Потому, что я ХОТЕЛ быть использованным, у меня были на сей счет свои резоны, и ваш отдел планирования здесь абсолютно ни при чем, что бы он там о себе ни думал…
— И больше, стало быть, не хочешь?
— Ты прав, — кивнул Мишин. — Не хочу. И не буду. А теперь подбей бабки, Дов, и озадачь себя вопросом: какого рожна вы меня оттуда вытащили? Чтобы я испытывал комплекс вины перед вами и неполноценности перед собой?
— А если это нужно будет сделать для ТВОЕЙ страны, Виктор?
— Дов! — Мишин поморщился. — Я знаю, что у профессиональных разведчиков нет объединенного международного профсоюза. Тем не менее существует неписаный закон профессионалов — при любой ситуации не трендеть об идеологии! И не использовать ее в качестве дискуссионного приема. Я прощаю тебя на первый раз только потому, что этот закон, возможно, еще не успели перевести на иврит…
— Это не идеология, Виктор! — Дов выглядел очень спокойным и наблюдал за Мишиным с нескрываемым любопытством.
— Это идеология, Дов! — Мишин со злостью сплюнул прямо на пол. — Я знаю, ты сейчас начнешь убеждать меня в том, что Советский Союз является исчадием зла, что его несчастный народ стонет под игом коммунистов, что ему нужна свобода, демократия и счастье. Только не забывай, пожалуйста, что я тоже коммунист, причем со стажем.
— Ну и что? — хмыкнул израильтянин. — Что это доказывает или опровергает? И мой отец тоже коммунист.
— Да ну? — Мишин не смог скрыть удивления. — И как тебя с такой биографией в Моссаде-то держат?
— Так ведь меня же держат, не отца.
— Отец небось сидит?
— Да нет, — усмехнулся Дов. — Преподает политологию в Иерусалимском университете. Он, кстати, профессор.
— Веселая у тебя семейка.
— Нормальная.
— О чем мы вообще говорим?
— Начали с разговора о вреде чрезмерного курения в послеоперационный период, — флегматично напомнил Дов. — Потом растеклись немного…
— Знаешь, меня что-то сморило, — Мишин ненатурально зевнул и откинулся на подушки. — Ты не возражаешь, Дов, если я подремлю немного?
— Даже несмотря на выкуриваемые в день три пачки сигарет, ты находишься в отменном состоянии, — улыбнулся Дов. — Во всяком случае, вполне нормальном, чтобы не испытывать внезапных приступов сонливости.
— Ты сам себе противоречишь, приятель, — пробурчал Мишин, поправляя одеяло. — Только что ты говорил, что своим курением я свожу на нет титанический труд великих еврейских хирургов, теперь же утверждаешь, что я нахожусь в отменном состоянии…
— Меня беспокоила твоя душа, Виктор, а вовсе не тело.
— Так зачем ты пришел? — Двумя яростными хуками Мишин взбил чахлую подушку и поудобнее устроился. — За моей душой?
— Я пришел поставить диагноз, — улыбнулся Дов. — Или, еще точнее, меня УПОЛНОМОЧИЛИ поставить тебе диагноз.
— У обреченных есть только один диагноз, — пробормотал Мишин.
— По-настоящему обреченные люди очень редко говорят о своей обреченности, — возразил израильтянин. — Как правило, они рисуют самые радужные планы на будущее.
— И не только радужные, но и умилительные, — вяло подхватил Витяня. — Например, как после ампутации обеих ног они пробегут стометровку.
— Никотин делает тебя желчным.
— Чего ты хочешь от меня?
— Ты нужен, Виктор.
— Кому?
— Об этом я скажу тебе чуть попозже. А пока я поясню, КАК именно ты нужен.
— И как же я нужен?
— В лучшем виде. С залеченным телом, здоровой душой и в прекрасной психологической форме. Мне бы хотелось, Виктор, чтобы ты понял: этот разговор очень и очень важен. И особенно принципиальное значение имеет твоя реакция на него…
— Насколько мне известна механика этих приемчиков, у тебя сложная задача, Дов: с одной стороны, ты никогда не раскроешь мне истинную цель задуманного вами, а с другой, ты должен подписать меня на какое-то сомнительное предприятие, заполучив в порядке гарантии мою смиренную душу грешника? Так или нет?
— Знаешь, краешком глаза я видел последний лист досье, которое завело на тебя ЦРУ…
— Еврей и вдруг краешком глаза? — усмехнулся Мишин. — За кого ты меня принимаешь, дружище?
— Ну, ладно, я видел все досье, — улыбнулся Дов.
— Свое досье на меня вы составляли на основе американского?
— Виктор, — взгляд Дова был укоризненным. — Мы же союзники с американцами. А союзники тем и отличаются, что ДОБРОВОЛЬНО делятся чем бы то ни было только в том крайнем случае, когда иного выхода не остается. Это американцы составили свое досье на основе нашего.
— И что интересного ты вычитал в американском варианте?
— Резюме. Последняя строчка, в которой они оказались — надо признать это объективно, — прозорливее нас. Знаешь, что там было написано?
— Откуда мне знать! — пожал плечами Мишин.
— Умный зверь.
— Что?
— Там было написано: «Умный зверь», — тихо повторил израильтянин.
— Ты полагаешь, это комплимент? — глаза Мишина потемнели.
— Я полагаю, это правда, Виктор.
— А даже если и так, Дов. Что дальше?
— Они хотят с тобой встретиться.
— Кто? — взгляд Мишина сразу же принял осмысленное, конкретное выражение. — Американцы?
— Да. Тебя затребовало ЦРУ. На некоторое время.
— Вот так просто, — пробормотал себе под нос Мишин. — Как бандерольку с книжкой о еврейской национальной кухне.
— Вовсе не так просто, как тебе это представляется, но затребовало.
— Тебя это удивляет, Дов?
— А тебя нет, Виктор?
— Нет.
— Совсем?
— Месяц назад я бы сказал, что меня это пугает. Но сегодня мне все равно, — пожал плечами Мишин. — Какая в конце концов разница, с кем беседовать о смысле жизни, тем более когда его и в помине нет?..
— А если без философии, Виктор? — Израильтянин поморщился. — Как по-твоему, зачем ты им вдруг понадобился?
— А если без философии, Дов, то иди ты в жопу! — огрызнулся Мишин. — Я что вам тут, эксперт по Лэнгли? Может быть, у них смена начальства произошла, и новый шеф решил рассчитаться со мной за Буэнос-Айрес…
— Нет, — покачал головой Дов. — Шеф прежний, а рассчитаться с тобой за трупы своих людей они могли по меньшей мере пять раз и без всей этой союзнической процедуры. Тут что-то другое…
— Возможно, я понадобился им в качестве свидетеля…
— В качестве свидетеля кадровый офицер разведки, а тем более, советской, может выступать только на свадьбе близкого друга, — внятно произнес Дов. — И то под вымышленным именем и с измененной внешностью. Во всех остальных случаях люди нашей с тобой профессии свидетельствуют с того света…
— Тогда остается единственное, — Мишин запустил обе пятерни в свою соломенную шевелюру и откинул волосы назад. — Ваши старшие братишки просчитали на своих компьютерах очередную пакость против моих любимых соотечественников и теперь ищут подходящих исполнителей…
— Допустим, ты прав и все обстоит действительно так. Как ты лично относишься к подобной перспективе?
— А как я должен к ней относиться? — Мишин бросил на собеседника испытующий взгляд. — Мне казалось, что эту проблему мы недавно обсудили. Мне не нравится, когда меня используют в качестве тарана против своих же.
— Ты же говорил, что у тебя свой счет к этому кабаку на Лубянке…
— У русских всегда очень сложные внутренние разборки, Дов, — задумчиво произнес Мишин. — Логика для них — что презерватив, о котором все слышали, но которым практически никто не пользуется. Все у них от порыва, импульса, секундного состояния души. Именно в этом состоянии они казнят близких друзей и приближают злейших врагов. Бросают любимую женщину и до старости делят постель с уродиной с кокономотальной фабрики. От всего сердца одалживают соседу по коммуналке последний червонец, а потом пишут на него же донос в райком партии… Короче, не пытайся в этом разобраться, приятель, все равно ничего не поймешь.
— Дело твое, Виктор… — Израильтянин пожал плечами. — Только смотри, не ошибись.
— Дов, я такой же подполковник разведки, как и ты. Не надо объяснять мне алфавит!..
— Ивритский — необходимо. Потому что ты в нем ориентируешься так же слабо, как я — в разборках между русскими.
— Ты это серьезно?
— Ответь мне всего на один вопрос, — Дов пододвинул к кровати табуретку. — Только честно. От твоего ответа зависит целесообразность нашей дальнейшей беседы.
— Я уже говорил в самом начале: я — не еврей!
— Виктор, у нас нет времени на шутки. Американцы — как дети малые: если им чего-то вдруг захотелось, они начинают припадочно вопить, как грудные младенцы, но при этом оказывают психологическое давление с настойчивостью профессиональных садистов. Мы не родовитые англичане, Виктор, у нас никогда не было колоний и нет никаких заслуг в освоении американского континента. Мы — всего лишь потомки испанских кочевников и местечковых европейских евреев, а потому не всегда можем объяснить старшему братцу, что так в приличном обществе себя не ведут…
— Что ты хотел спросить, Дов?
— Ты хочешь жить?
— Хочу ли я жить?
— Я не спрашиваю, как именно, а просто жить. В принципе?
— В принципе хочу.
— Отлично, Виктор! — Дов стремительно вскочил с табурета и потер руки. — Тогда слушай внимательно. Ты был абсолютно прав: Моссад — слишком ЗАКРЫТАЯ разведка, чтобы использовать в своей работе агентов иностранных спецслужб. Даже бывших. И даже таких профессионалов, как ты, Виктор. Следовательно, после окончательного выздоровления ты получил бы израильский паспорт, другое имя, другую внешность, другой род занятий, небольшую, но вполне достаточную для одинокого мужчины пенсию и навеки вечные обрек бы себя на безвыездное проживание на Святой земле и родине трех мировых религий…
— Здорово-то как! — пробормотал Витяня и прикурил новую сигарету от догоревшего окурка. — Не умереть бы от счастья, как говорит одна моя приятельница.
— Согласен, — кивнул Дов и энергично замахал руками, отгоняя от своего лица густое облако сигаретного дыма. — Не Бог весть что, особенно для убежденного атеиста без, как ты выражаешься, прожиди. Тем не менее это все-таки жизнь. Причем без страха, что тебя снимет из винтовки спрятавшийся в кустах снайпер или отравит в баре какая-нибудь советская Мата Хари, выдающая себя за честную израильскую служащую. У нас здесь такие номера — во всяком случае, пока — не проходят. И мы с тобой, подполковник Виктор Мишин, были бы в полном расчете за твое участие в пражской операции, хотя я и не взял бы на себя ответственность гарантировать, что в течение пяти — семи ближайших лет за тобой не приглядывали бы наши люди. Очень тактично, неназойливо, в целях твоей же собственной безопасности. Ты мне веришь, Виктор?
— Пока да.
— Хорошо! Но тут вмешиваются американцы и, через очень высокое начальство, кстати, даже не по нашему ведомству, срочно требуют тебя за океан. Естественно, они даже не опускаются до объяснений, зачем ты им вдруг так спешно понадобился. Тебе, наверное, известно, что у нас с ними традиционно сложные отношения. Послушать их, так Израиль потому и не исчезает с политической карты мира, что так решили в Вашингтоне в ходе ланча…
— А на самом деле это не так? — улыбнулся Мишин.
— В Вашингтоне действительно решили, — глаза Дова недобро блеснули. — Но только после того, как поняли две вещи: во-первых, что Израиль прекрасно просуществует и без американцев, и, во-вторых, что Америка, в свою очередь, никак не может просуществовать без ближневосточной нефти. А теперь вопрос: что должны делать в такой ситуации мы? Не глава правительства, для которого ты не более чем абстрактная фигура, не министр иностранных дел, которому вообще нет дела до наших проблем, а мы, то есть Моссад? Вот так вот, запросто, отдать тебя мы не имеем права…
— Это почему?
— Потому, что никто не знает, где, когда, каким образом и против кого ты можешь быть использован американцами. И, главное, никто не может дать нам гарантию, что твое задание, полученное в Лэнгли, не нанесет, — пусть даже косвенно, опосредованно, — ущерб безопасности Израиля. Такой вот расклад, приятель.
— Дов, это же сплошная гипотетика, — пробормотал Мишин. — Побойся вашего еврейского Бога!
— Это вовсе не гипотетика, а железный принцип нашей работы, — неожиданно жестко отрезал израильтянин. — А внешняя разведка, которая нарушает собственные принципы, превращается со временем в бардак вроде вашего.
— Ох, не любишь ты КГБ, Дов, — с напускной печалью улыбнулся Мишин.
— Не люблю, — признался израильтянин.
— Хорошо, — кивнул Мишин. — Но и не отдать меня вы тоже не можете, ведь так? При всей вашей национальной амбициозности. Приказ командира — закон для подчиненного.
— Не можем, — согласился Дов и, сделав несколько шагов, прикрыл окно — в комнате становилось прохладно. — А потому у нас остается только два выхода: либо перед тем, как отправиться за океан, ты уже на самом деле становишься НАШИМ человеком, со всеми вытекающими отсюда обязательствами и прочим, либо…
— …ранения бывшего подполковника КГБ СССР Виктора Мишина, заочно приговоренного на Лубянке к расстрелу, оказались настолько тяжелыми, что его ослабевший от потери крови и нескольких операций организм с ними не справился, — грустно улыбнулся Мишин. — Тело было кремировано и в силу нееврейского происхождения вышеупомянутого Мишина предано земле на некоем арабском кладбище на временно удерживаемых Израилем территориях.
— Формулировку можно откорректировать, но смысл передан точно, — совершенно серьезно кивнул моссадовец.
— Просто поразительно, как внезапно наша беседа приняла интимный характер, — пробурчал Мишин.
— Мне нужен ответ.
— Я могу немного подумать? — спросил Витяня.
— Только совсем немного, ладно? — улыбнулся Дов. — Минут десять, пока ты будешь одеваться, а я — проветривать помещение.
— Мы куда-то едем?
— В любом случае.
— И конечная цель?..
— Зависит от твоего решения…
На ничем не примечательной «субару» мышиного цвета они ехали довольно долго, почти час. Дов — высокий, худощавый и абсолютно седой, несмотря на относительную молодость (про себя Мишин прикинул, что ему не больше тридцати пяти) вертел баранку и непринужденно разглагольствовал о неоспоримых преимуществах русской кухни.
— Ты когда-нибудь жил в России? — спросил Мишин, думая о своем.
— Никогда. Мама моя родом из Пинска, папа из Вроцлава, а родили они меня уже здесь. Правда, тогда эти места назывались не Израилем, а Палестиной. Но к русскому языку и к русской кухне родители приучили меня с детства. Мать до последнего дня жизни делала борщ — пальчики оближешь! И иногда мне кажется, что я никуда не уезжал из твоей страны.
— А ты хоть раз был в России?
— А ты как думаешь?
— Думаю, бывал. И не раз.
— Это с моим-то акцентом? — удивление израильтянина выглядело совершенно естественным.
— Ну, во-первых, запросто мог бы сойти за прибалта.
— А во-вторых?
— А во-вторых, — глядя в окно, рассеяно ответил Мишин, — не смотри ты так часто советские фильмы, Дов. Ты делаешь ту же ошибку, что и наши актеры, изображающие из себя иностранцев.
— То есть?
— Понимаешь, часть слов они произносят с жутким акцентом, а часть — причем довольно сложные слова, такие, к примеру, как коммунистическая партия или ортодоксальный марксизм, — абсолютно без акцента. Точно так же, как ты, Дов…
Седовласый подполковник израильской разведки хмыкнул и покачал головой.
— Ты что, обиделся?
— Все нормально, Виктор. Спасибо за совет.
— Да не за что, — Мишин пожал плечами. — Может быть, отплатишь когда-нибудь той же монетой…
— А вот и Тель-Авив, Виктор! Мы почти приехали…
Несмотря на то, что уже стемнело, освещенные желтыми фонарями улицы города казались неестественно белыми, словно выкрашенными известкой, и почти безлюдными.
— Почему так мало народа? — спросил Мишин. — Еще ведь и девяти нет…
— Все уже разошлись по домам. Израиль очень рано встает и рано ложится… — Дов включил левый поворотник и скосил взгляд в боковое зеркальце, — Устали, отдыхают. Сегодня ведь обычный рабочий день, не праздник… — Он мягко притормозил у красивого двухэтажного дома и выключил зажигание. — Все, Виктор, приехали…
— И без приключений, — кивнул Мишин.
— Ты ждал приключений?
— Учитывая количество сопровождающих, — нет. — Витяня улыбнулся и с чисто профессиональным интересом спросил: — И сколько же машин нас сопровождало?
— А сколько ты насчитал, подполковник?
— Две сзади — лендровер и опель, и одну спереди — синий форд «мустанг» шестьдесят девятого года.
Дов повернулся к Мишину и неожиданно улыбнулся:
— Ты в хорошей форме, Виктор.
— Смотря для чего? — возразил Мишин.
— Для того, чтобы ответить на мое предложение.
— Я согласен.
— Тогда выходи, коллега, тебя уже заждались…
7. БУДАПЕШТ. ЗДАНИЕ ЦК ВСРП
Март 1978 года
Атилле Хорвату, заведующему отделом административных органов ЦК Венгерской социалистической рабочей партии, накануне исполнилось ровно сорок пять лет. Хотя выглядел этот жгучий брюнет с осанкой древнеримского сенатора, орлиным носом, пронзительно синими глазами и неизменно заботливо уложенной, без единого седого волоска, пышной шевелюрой, лет на десять моложе.
В коридорах ЦК ВСРП, где по традиции все знали все обо всех, стремительное восхождение Хорвата по ступеням партийной карьеры и, главное, то кресло, которое Атилла занимал последние два года, курируя прокуратуру, суды, полицию и органы безопасности, считалось хоть и объяснимым, но все-таки своеобразным номенклатурным феноменом. Поскольку до тридцати пяти лет Атилла Хорват не имел ни малейшего представления о партийной работе, занимаясь областью беспредельно далекой от вершения судеб целого народа — спортом. В девятнадцать лет Атилла стал вице-чемпионом мира по современному пятиборью, потом завоевал олимпийскую медаль, несколько раз выигрывал Кубки мира, после чего стал считаться чуть ли не национальным героем Венгрии.
Статный, красивый, удачливый, прекрасно обеспеченный, неизменно окруженный толпами поклонниц и воздыхательниц, Атилла тем не менее умудрялся оставаться таким же скромным, дружелюбным и порядочным парнем, каким, собственно, и попал волею судеб в сверкающий, прекрасный и недоступный Будапешт из глубокой провинции, где вырос без отца в семье из пятерых детей. Несмотря на мировую спортивную славу, потоки неизменно восторженных отзывов в прессе и бесконечные разъезды по самым экзотическим уголкам планеты, имя Атиллы Хорвата ни разу не фигурировало в скандальных хрониках или полицейских протоколах. В отличие от большинства своих коллег, Хорват игнорировал алкоголь, не курил, никогда не занимался фарцовкой, не был связан с криминальными типами, не устраивал дебоши в ресторанах, жил один в скромной двухкомнатной квартире в Пеште, подаренной ему правительством за выдающиеся спортивные достижения, ездил на также презентованной властями двухдверной «татре» и являл собой достойный пример добропорядочности и человеческой скромности. О его личной жизни было известно только, что, женившись в девятнадцать лет, почти сразу же после того, как добился первого крупного успеха на международной спортивной арене, он вскоре развелся, после чего предпочитал одиночество шумным вечеринкам в компаниях своих сверстников. Поговаривали, что время от времени в холостяцкой квартире Атиллы появлялись женщины, но, как правило, долго они там не задерживались.
Спортивный век Атиллы оказался не только весьма удачным, но и довольно долгим: из профессионального спорта он ушел в тридцатилетием возрасте, в пике славы, хотя, по единодушному мнению специалистов, Хорват вполне мог выступать еще несколько лет. Ему сразу же предложили пост главного тренера сборной Венгрии по современному пятиборью, на котором Атилла довольно быстро доказал, что и на этом поприще у него нет проблем — его питомцы неизменно выигрывали все крупнейшие соревнования, победили командой на Олимпийских играх, принеся маленькой Венгрии славу мировой спортивной державы.
В день, когда Атилле исполнилось тридцать пять лет, ему позвонили из приемной ЦК ВСРП и сообщили, что с ним хочет побеседовать генеральный секретарь ЦК товарищ Янош Кадар. Вначале Атилла подумал, что его, по случаю дня рождения, решили разыграть товарищи и просто положил трубку. Однако через секунду раздался повторный звонок и все тот же голос, посетовав на плохую работу телефонной связи, сообщил, что за ним высылается машина и что ровно через полчаса товарищу Атилле Хорвату надлежит спуститься к подъезду своего дома.
И только тогда он понял, что это совсем не розыгрыш.
Разговор с Яношем Кадаром — маленьким, с широкими борцовскими плечами и основательно побитым оспинами лицом был недолгим, но запоминающимся. Генсек признался Атилле, что всегда был его горячим поклонником, с восхищением следил за блестящими победами Хорвата в современном пятиборье и предложил ему перейти на работу в ЦК ВСРП инструктором.
Хорват, неизменно отличавшийся независимостью во всем, что имело отношение к нему лично, довольно смело возразил всесильному и мстительному генеральному секретарю ЦК ВСРП, что не знает и не любит партийную работу, а потому плохо представляет себя в кресле партийного функционера.
Но Кадар, как ни странно, принял возражение Атиллы с пониманием:
— Это естественное заблуждение, дорогой товарищ Хорват, — сказал тогда генсек, глубоко, словно в последний раз в жизни, затягиваясь крепчайшим «Коигути». — Суть истинной, не на публику и не ради привилегий, партийной работы — в умении находить общий язык с людьми и соответствующим образом влиять на них. А у вас, дорогой Атилла, это получается превосходно…
Когда Хорват вышел из кабинета генсека, ему прямо в приемной вручили удостоверение инструктора общего отдела ЦК ВСРП.
Как выяснилось позднее, Кадар оказался блестящим психологом. Тогда многие представляли себе неожиданное назначение Хорвата как некую блажь, каприз генерального секретаря, чье увлечение спортом и знаменитыми спортсменами ни для кого секретом не являлось. Однако Атилла Хорват — немногословный, вдумчивый, умеющий вызвать к себе уважение собеседника, еще ничего толком не сказав, чурающийся любых разговоров «за спиной», идеально вписался в очень непростой стиль новой работы и, что называется, устремился резко в гору. Все десять лет после памятного разговора с Кадаром прошли в непрекращающейся динамике кадровых перемещений Атиллы. ЦК ВСРП стал для него своеобразной базой, откуда его периодически бросали то в министерство внутренних дел, то в МИД, где он курировал связи внешнеполитического ведомства с международным отделом ЦК, то в контрразведку… В ЦК он неизменно возвращался, причем всякий раз пусть с незначительным, но повышением в должности. На пост шефа отдела административных органов его назначили два года назад, и теперь мало кто сомневался, что Атилла Хорват уже в самом ближайшем будущем займет пост секретаря ЦК по оргработе…
Его уважали, ему завидовали, к его мнению прислушивались, с ним старались не портить отношения, что, учитывая так и не изменившийся, корректный нрав Хорвата, было совсем несложно. И ни один человек даже подумать не мог, что этот респектабельный красавец без тени намека на барские замашки, которыми так быстро обрастали те, кто хоть какое-то время находился у кормила реальной власти, этот человек без внешних амбиций, неизменно вызывавший доброжелательную и даже горделивую улыбку самого Яноша Кадара, являлся глубоко законспирированным «кротом» ЦРУ, которого американская разведка, причем без видимых усилий, завербовала еще в период его блистательных спортивных побед…
В 1958 году двадцатипятилетний Атилла, уже в зените спортивной славы, прилетев в составе сборной Венгрии на чемпионат мира в Филадельфию, сумел поздним вечером, после отбоя, ускользнуть незамеченным из отеля и, добравшись до ближайшего полицейского участка, заявил дежурному полисмену, что хочет остаться в США и просит политическое убежище. По счастью, «коп», дослуживавший в полицейском участке до пенсии, когда-то работал в ФБР и сумел верно сориентироваться. Попросив красавца венгра немного подождать, он связался с одним из своих старых приятелей в Вашингтоне:
— Льюис, я знаю этого парня. Это Хорват, знаменитый венгерский пятиборец. Так что здесь нет никакой провокации, — сказал он приятелю.
Через час Льюис Прескотт, шеф эмиграционного отдела ФБР, прибыл в Филадельфию на вертолете и застал Хорвата безмятежно спавшим на жесткой скамейке в дежурном отделении.
Прескотт осторожно тронул парня за плечо, и Атилла сразу же открыл глаза.
— Вы Атилла Хорват?
— Да.
— Говорите по-английски?
— Немного.
— Кто-нибудь знает, что вы здесь?
— Никто.
— Вы твердо решили остаться в Штатах?
— Да.
— Можете назвать причину?
— Моего отца убили в пятьдесят шестом…
— С вашей стороны это месть?
— С моей стороны это ненависть!..
Прескотт задумался.
— Вы можете помочь мне? — Хорвату явно не понравился этот тип в светлом плаще и дурацкой шляпе, заломленной на затылок. — Или мне надо обратиться куда повыше?
— Могу. Но для этого мне необходимо время.
— А, это не страшно! — Хорват облегченно откинулся на спинку жесткой скамьи, отполированной до зеркального блеска не одним поколением правонарушителей. — Теперь я уже никуда не тороплюсь…
— Где вы живете?
— Отель «Холидей инн».
— Вы один в номере или с соседом?
— Один.
— Можете незаметно вернуться в свой номер? Так, чтобы ваши товарищи не знали, что вы покидали отель?
— В принципе, да… — Атилла недоуменно уставился на Прескотта. — Но зачем?
— Я же сказал вам: мне нужно время. Это совсем не простая процедура, молодой человек…
— Но послезавтра мы улетаем! — Атилла встал и только в этот момент Прескотт увидел, что венгр выше его примерно на голову. — Когда еще мне представится такая возможность?!
— Вас в чем-то подозревают?
— Да ни в чем меня не подозревают! — сорвался Атилла. — Просто я не могу больше жить в этой стране, среди лжи, рядом с людьми, растоптавшими моего отца!..
— Положитесь во всем на меня, — Льюис Прескотт положил руку на плечо Атиллы. — Я все устрою…
Наутро участники чемпионата мира собрались в городском ботаническом саду, где была проложена дистанция последнего вида современного пятиборья — легкоатлетического кросса. Когда до старта оставалось около часа, и Хорват начал разминаться, к нему подошел врач венгерской сборной.
— Как себя чувствуешь?
— Нормально. Что-то случилось?
— Тебе придется пройти допинг-контроль.
— С чего это вдруг? — удивился Атилла.
— Оргкомитет назвал выборочно имена пяти человек из разных команд, в том числе и твое имя тоже. По жребию…
Хорват нахмурился.
— В чем дело, Атилла? — врач пожал плечами. — У тебя нет никаких оснований беспокоиться. Ты единоличный лидер чемпионата и ты чист, как стеклышко, я отвечаю за это как врач сборной…
Допинг-контроль проводили в отдельном флигеле, примыкавшем к главному зданию, в котором размещалась администрация филадельфийского ботанического сада. Когда Атилла вошел в небольшую комнату, сидевший за столом пожилой лысый мужчина в белом халате вопросительно поднял голову:
— Мистер Атилла Хорват?
— Да, это я.
— Присаживайтесь, — лысый радушно кивнул на стул, но увидев, что Атилла по-прежнему стоит у двери, добавил негромко. — Мне рассказывал о вас Льюис Прескотт…
Впоследствии, вспоминая эту молниеносную вербовку и доказательства, с помощью которых лысый «врач» сумел разубедить его в стремление обязательно остаться в Штатах и логично объяснить, что Атилла может принести куда больше пользы и отомстить тем самым за смерть отца, оставаясь еще какое-то время гражданином Венгрии и настоящим другом Америки, Хорват часто задавал себе вопрос: почему американцы ему сразу поверили? Почему не заподозрили его в сотрудничестве с венгерской политической разведкой, работавшей, как и все спецслужбы социалистических стран, в тесном контакте с КГБ? Атилла был умным парнем и прекрасно понимал, что настоящую опасность для него лично таил в себе ключевой вопрос, которым просто не могли не задаться американцы: почему венгерские власти спокойной выпускают за границу сына мятежника и врага народа? Впоследствии в ЦРУ убедились, что Атилла Хорват не лгал, рассказав, что в 1955 году его отец развелся с матерью, видимо, уже тогда понимая, к чему себя готовит и не желая впутывать жену и пятерых детей. Дьюла Хорват принял воистину мученическую смерть — под гусеницами советского танка Т-34, когда он пытался бросить в лязгающую машину «коктейль Молотова» — бутылку с зажигательной смесью. Сначала Дьюлу Хорвата прошили очередью из танкового пулемета, а потом вмуровали еще живого мятежника стальными танковыми траками в будапештский асфальт. Идентифицировать труп было невозможно, а единственный документ, найденный при отце Атиллы, представлял собой фальшивый читательский билет в городскую библиотеку, выписанный на взятое с потолка имя Дьердя Нилаши. Трупов было много, особенно разбираться с ними никто не хотел, останки Дьюлы Хорвата и нескольких сотен его товарищей по сопротивлению были поспешно сброшены в общую могилу, вырытую за городом, и забросаны землей.
О судьбе своего мужа мать Атиллы узнала спустя несколько месяцев от его друга, чудом уцелевшего после подавления мятежа и скрывавшегося под вымышленным именем, чтобы, улучив подходящий момент, просочиться через границу и навсегда исчезнуть из Венгрии. Этот же человек порекомендовал вдове своего друга не навлекать беду на своих детей и никому не говорить о том, что на самом деле произошло с Дьюлой Хорватом. И мать сдержала слово, поделившись страшной тайной только со своим старшим сыном — Атиллой. Но тогда американцы просто пошли на риск, поверив в эту жуткую историю. И выиграли. Потому что «Молотов» — именно под этой фамилией фигурировал Атилла Хорват в агентурных списках ЦРУ (по всей видимости, агентурная кличка знаменитого спортсмена должна была постоянно напоминать, при каких обстоятельствах погиб его отец), — стал со временем одним из самых активных и надежных источников информации в странах восточного блока. А после того, как Атилла стала работать в ЦК ВСРП и сумел сделать там блестящую карьеру, его шифрованные донесения в Лэнгли доставлялись уже непосредственно директору ЦРУ — настолько важными и секретными были факты, которыми Молотов снабжал американскую разведку.
В 1972 году связной передал Молотову, что руководство Центрального разведывательного управления, опасаясь возможного провала своего ведущего агента, не настаивает на его дальнейшей работе в Будапеште и готово организовать специальный «коридор», через которой Атилла может выехать в Штаты, где получит американское гражданство, а также порядка пятисот тысяч долларов, отложенных на его счет за двенадцать лет конспиративной работы на Лэнгли. Однако, к удивлению американцев, Атилла Хорват отказался.
«Я считаю, что именно сейчас передо мной открываются по-настоящему неограниченные возможности для активной борьбы с коммунистическим режимом Кадара, — написал он в шифровке. — Работая в ЦК, я имею практически неограниченный доступ к секретной информации не только в самой Венгрии, но и во всех странах блока, включая Советский Союз. Кроме того, я был и продолжаю оставаться венгром, патриотом своей страны и, с вашей помощью, готов работать до конца, а если нужно, пожертвовать собой для достижения этой цели. За отложенные на мой счет деньги спасибо, однако я ни в чем не нуждаюсь. В свое время я дам вам знать, как распорядиться упомянутой вами суммой. Молотов».
После получения этой шифровки в Лэнгли на Атиллу Хорвата, что называется, боялись лишний раз дохнуть. К его услугам в ЦРУ прибегали в исключительных случаях, имея на руках приказ высшего руководства и стараясь максимально обезопасить этого бесценного агента, работавшего — что случается в разведке исключительно редко — на чистой идее. Принцип конспиративной работы Молотова сформировывался годами и полностью устраивал ЦРУ: агент никогда не гнал секретную информацию потоком, без разбора, а раз в семь-восемь месяцев выдавал систематизированные, без «воды» стратегические секреты. К примеру, информацию о готовившемся вторжении русских в Чехословакию в 1968 году Молотов сообщил в Лэнгли через восемь часов после того, как оно было официально принято на заседании советского Политбюро. Помимо положения дел, кадровых перестановок, секретных решений и отдельных противоречий в высшем руководстве коммунистических и рабочих партий, Молотов регулярно информировал ЦРУ о передислокациях советских ракет среднего и дальнего радиусов действия в странах социалистического лагеря, а также о всех новых видах наступательного оружия, которое периодически перебрасывалось на западные рубежи «мирового лагеря социализма». Эксперты ЦРУ полностью отдавали себе отчет в том, что информацию подобного масштаба и уровня секретности они получали только от Олега Пеньковского до 1962 года.
В то утро, когда Атилле Хорвату исполнилось ровно 45 лет, его разбудил телефонный звонок.
— Квартира Сегеди? — женский голос в трубке звучал визгливо.
— Вы ошиблись, — ответил Атилла.
— Ох, простите! Третий раз набираю не тот номер…
Через час Атилла Хорват уже был в стрелковом тире
общества «Ференцварош», где два-три раза в месяц по старой привычке упражнялся в стрельбе из мелкокалиберного пистолета. Переодевшись и сдав ключ от своего шкафчика старому завхозу, который работал здесь еще во времена спортивной славы Атиллы, он подошел к своему излюбленному боксу — третьему по счету, если считать с левой стороны, натянул бейсбольную кепку с длинным козырьком, вставил в пистолет обойму и надел наушники. На расстоянии ста метров от него, в противоположном конце узкого тира, появилась маленькая черная мишень с белыми концентрическими кругами. Атилла встал в позу дуэлянта конца прошлого века — в пол-оборота к мишени, заложив левую руку за спину, медленно поднял пистолет и начал стрелять, выпуская пули с интервалом в доли секунды. И если бы в этот момент за стрельбой наблюдал посторонний, он бы наверняка сказал, что этот мощный, хотя и несколько погрузневший с годами, атлет, буквально сросшийся со спортивным оружием, обладает потрясающей способностью концентрироваться, благодаря чему пули — одна за другой — точнехонько ложились в «десятку». И был бы прав. Поскольку в этот момент все внимание Атиллы Хорвата было действительно максимально сосредоточенно. Но не на мишени, а на мужском голосе, негромко, но очень отчетливо сообщавшего в наушники заведующему отделом административных органов ЦК ВСРП его очередное задание. Что же касается точной стрельбы, то Атилла научился делать это автоматически еще до того, как получил кличку Молотов…
В то утро, сразу же после тира, Хорват заехал в ЦК, получил в подарок от своих подчиненных роскошное охотничье ружье, сдержано поблагодарил товарищей за внимание, попросил секретаря не беспокоить его без острой необходимости и просидел в своем служебном кабинете до позднего вечера. Его секретарь был молодым и очень честолюбивым выдвиженцем, чьим-то дальним родственником, свято верившим, что путь к вершине власти лежит через беспрекословное понимание требований непосредственного начальника. А потому в кабинете Атиллы не появился ни один посетитель, не раздался ни один телефонный звонок. К вечеру, исчеркав бессмысленными каракулями пару десятков листов писчей бумаги, Атилла взял трубку желтого телефона без наборного диска. Через минуту трубка ожила:
— Да! — По тону Яноша Кадара чувствовалось, что звонок оторвал его от чего-то важного.
— Добрый вечер. Это Хорват…
— А, Атилла! — Тон генерального секретаря ЦК ВСРП чуть смягчился. — Поздравляю тебя с днем рождения. Совсем времени нет, черт бы подрал все эти дела. Ну, ничего, подарок за мной…
— Мне нужно с вами поговорить.
— Что-нибудь важное?
— Иначе я бы не стал вас беспокоить.
— Срочно?
— Желательно.
— До завтрашнего утра потерпит? У меня тут товарищи…
— Я в ЦК, — тихо сказал Хорват. — Так что могу подождать…
— Действительно так срочно?
— Да, товарищ Кадар.
— Ладно. Давай ровно через час…
Ровно через час Атилле из приемной Кадара передали, что генеральный секретарь ждет его.
В кабинете Кадара, обставленным с изысканным вкусом, Хорват бывал много раз и знал здесь каждый угол. Было сильно накурено, и хотя пепельницы на письменном столе генсека и примыкавшим к нему перпендикулярно отполированной дубовой приставке были идеально чисты, запах и напряжение недавнего разговора словно витали в воздухе.
— Странный ты человек, Атилла, — тихо обронил Кадар, пригласив Хорвата сесть. — У тебя сегодня день рождения. Сорок пять, не так ли?
Атилла молча кивнул.
— Круглая дата, событие, можно сказать. А ты сидишь на работе в десятом часу вечера…
— Дел больше, чем времени, товарищ Кадар.
— Дел… — пробурчал себе под нос генсек, взял с небольшой приставки по левую руку от него початую бутылку коллекционного токая и разлил вино в хрустальные фужеры. — Давай выпьем, товарищ Хорват, за твое здоровье. Оно только кажется тебе железным, на самом же деле время работает против нас и очень скоро ты в этом убедишься. Будь здоров! — Кадар залпом опрокинул в себя янтарную жидкость.
Хорват едва пригубил вино и аккуратно поставил бокал.
— Что стряслось? — Кадар по-крестьянски вытер губы тыльной стороной ладони и пристально посмотрел на Хорвата.
— Я могу почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что Мольнар готовит заговор против вас, товарищ Кадар…
— Значит, подтвердилось… — по лицу Кадара скользнула брезгливая гримаса, обнажившая его желтые зубы застарелого курильщика. — Подонок!
— У меня есть запись трех его телефонных бесед с Сусловым, — спокойно продолжал Хорват. — Кроме того, известно, что несколько человек из нашего орготдела во время своих командировок в Москву передавали помощнику Суслова конфиденциальную информацию, связанную непосредственно с вами, товарищ Кадар. В частности, в этих сообщениях критиковались ряд ваших кадровых перестановок, а также принятое вами на январском пленуме решение о частичной приватизации сферы обслуживания…
— Ты верно сделал, что не стал откладывать этого разговора, — глухо отозвался Кадар. — Что предлагаешь сделать, Атилла?
— Я думал об этом весь день, товарищ Кадар… — Атилла говорил медленно, тщательно подбирая слова и при этом смотрел прямо в глаза генеральному секретарю. — Прижать Мольнара вы не сможете. Во всяком случае, в открытую — уж слишком доверительны его отношения с Кремлем…
— Ты имеешь в виду Суслова?
— Не только. Мольнару явно симпатизирует Борис Пономарев, секретарь ЦК КПСС.
— Что же делать, Атилла? Сидеть сложа руки и ждать, пока этот интриган окончательно не расколет партию на фракционные группировки?
— Я подумал, товарищ Кадар, что оптимальный способ решить данную проблему заключается в том, чтобы сделать это чужими руками…
— То есть? — Кадар с огромным интересом смотрел на своего протеже.
— Идея вот в чем, товарищ Кадар: а что, если использовать ваши личные связи с Андроповым? Насколько мне известно, он всегда относился к вам с симпатией.
— С Андроповым? — лицо Кадара немного просветлело. — Да, но…
— Если объяснить ему суть возникших противоречий, он, безусловно, займет вашу сторону, товарищ Кадар. И, вполне возможно, дезавуирует Мольнара, используя свои рычаги в Кремле. Главное, чтобы отставка Мольнара не воспринималась здесь, в Будапеште, как акт вашей личной мести…
— Это не телефонный разговор, Атилла.
— Конечно, товарищ Кадар! — подхватил Хорват. — Вам необходимо встретиться с Андроповым с глазу на глаз. Кроме того, есть кое-какие документы, которые можно предъявить только при встрече…
— Где? В Москве?
— Думаю, что ваше появление в Москве и тем более встреча с Андроповым, которую скрыть все равно не удастся, тут же объяснит все последующие события. Более естественным, как мне кажется, будет его приезд в Будапешт. Все знают, что Андропов неравнодушен к Венгрии и любит здесь отдыхать. Давняя привязанность! — глаза Хорвата сверкнули.
— Но сейчас не лето, Атилла, — хмыкнул Кадар, морща низкий лоб. — И Андропову тоже как-то нужно будет объяснить, чего это вдруг он вылетает в Венгрию. На отдых? Сейчас не время. По делу? Моментально возникнет вопрос: по какому именно?
— А если вы попросите разрешение на этот визит у Брежнева? — предложил Хорват после секундного раздумья. — Причиной могут быть кое-какие вопросы, возникшие у вас в связи с работой наших спецслужб. Допустим, вы недовольны Палом Фаркаши, шефом нашей контрразведки, и хотите, чтобы в Венгрию был командирован какой-нибудь ответственный сотрудник КГБ, который, в порядке оказания братской помощи, какое-то время поработал с ним вместе, направляя его и консультируя.
— Ну и что? — пожал плечами Кадар. — Из Москвы тут же прилетит какой-нибудь генерал КГБ. И что я с ним буду делать?
— По протоколу встречаться по такого рода вопросам с первым секретарем ЦК ВСРП может только член Политбюро ЦК КПСС. А там есть единственный человек, компетентный в этих вопросах — Юрий Андропов. Мне кажется, товарищ Кадар, что Брежнев вряд ли что-то заподозрит в вашей просьбе. Да и потом, Андропов вам нужен максимум на день, не больше. То есть он может прилететь утром, а уже вечером отбыть в Москву. Одного дня вполне хватит, чтобы ввести его в курс дела, показать кое-какие документы и даже пообедать в тесном кругу…
— Пожалуй, ты прав, Атилла, — Кадар кивнул и потянулся за красным телефоном прямой связи с Кремлем.
— Вы хотите звонить прямо сейчас? — негромко поинтересовался Хорват.
— А чего тянуть? — фыркнул Кадар. — Чем скорее я избавлюсь от этого интригана, тем лучше. И потом, — генсек прижал трубку плечом к уху и набрал четыре цифры. — Я вовсе не уверен, что Мольнар уже не предпринял нечто такое, что сделает нереальным твой прекрасный план, Атилла. Как бы нам не опоздать…
— Добрый вечер! — По-русски генеральный секретарь ЦК ВСРП говорил очень неплохо, но с сильным акцентом. — У телефона Янош Кадар. Мне бы хотелось переговорить с товарищем Брежневым…
Спустя несколько секунд Атилла явственно услышал, как зарокотал в трубке брежневский бас.
— И я приветствую вас, дорогой Леонид Ильич!.. — тон Кадара был максимально дружелюбным, однако на лице застыло брезгливое выражение. — Спасибо… Ну, конечно… У нас тут возникла одна проблема… Что?.. Думаю, ничего страшного, но дело отлагательства не терпит — вопрос обеспечения безопасности… Не только… Нужен хороший совет. Да… Ну, конечно… Я был бы вам очень благодарен, Леонид Ильич. Да, одного дня будет вполне достаточно. Благодарю, Леонид Ильич… Да, но до лета я не теряю надежду увидеть вас в Будапеште… Хорошо, договорились! И вам спокойной ночи!
— Он сам предложил прислать Андропова, — выдохнул Кадар. — Что-то подозрительно гладко все складывается.
— Когда он прилетает, товарищ Кадар?
— Послезавтра утром. Подготовься, Атилла, как следует…
8. НЬЮ-ЙОРК. ОТЕЛЬ «МЭРИОТТ»
Февраль 1978 года
Как это часто бывало, радикальные перемены в жизни начались с того, что у меня кончилось терпение.
В тот самый момент, когда я серьезнейшим образом обдумывала ответ на вопрос, насколько оперативна нью- йоркская пожарная охрана и успеет ли она спасти постоялицу отеля «Мэриотт» от последствий пожара, который сама же постоялица, в приступе безысходности, затеяла в собственном номере, раздался уже хорошо знакомый мне по стремительным, татаро-монгольским набегам Юджина, звук проворачиваемого в двери ключа. Надо сказать, что план пожара я обдумывала в наиболее подходящей для активной творческой деятельности позе — лежа на разобранной постели, в трусах, но без лифчика. Разобравшись с системой управления встроенного в подоконник кондиционера, я выставила себе температуру + 20 и оттаивала от суровой безысходности своего пятизвездочного острога. Так что мою реакцию на внезапное вторжение постороннего может без особого труда понять любая нормальная женщина: даже не успев задуматься над тем, кто именно входит в мой номер — любимый мужчина с цветами или наемный убийца с пистолетом, я первым делом взвизгнула, прикрыла обеими руками грудь и ринулась в ванную, где, дрожа всем телом, в изнеможении прислонилась к прохладной двери и навострила уши.
До меня донесся звук проворачиваемого уже изнутри ключа, несколько неуверенных шагов и вкрадчивый голос:
— Эй! Есть здесь кто-нибудь?..
Я похолодела: голос был хоть и мужской, но не Юджина. Правда, в нем не было и намека на родные русские интонации, и последнее обстоятельство, вполне естественно, насторожило меня еще больше.
— Мисс Мальцева?! Где вы?
— Да, я вас слушаю, — стараясь не издавать лишнего шума, я повернула внутреннюю задвижку на два оборота, однако спокойнее себя так и не почувствовала.
— Вы что, в ванной? — поинтересовался незнакомец.
— А вам-то что до этого? — огрызнулась я. — Вы вообще зачем сюда явились?! Вам что, помыться негде?
— Я приехал за вами, мисс, — дружелюбно откликнулся голос, явно не желавший вступать в препирательства. — Вы не беспокойтесь, мисс, я подожду, пока вы не закончите все свои дела…
— Да что вы говорите?!
— Вы мне не верите, мисс?
— Как вас зовут, сударь? — набрасывая тяжелый махровый халат с гостиничной эмблемой, продолжала я этот совершенно бессмысленный допрос, ибо ясно отдавала себе отчет: даже если незнакомец с вкрадчивым голосом представится мне через секунду президентом Соединенных Штатов Америки, я, во-первых, ему все равно не поверю, а во-вторых, своими ногами никуда из ванной не выйду. Секундой позже до меня дошло, что обращение «сударь» к незнакомцу вообще не лезло ни в какие ворота. Все равно, что обращаться к сексуальному маньяку, явившемуся тебя изнасиловать, по имени-отчеству. Бред какой-то!..
— Пожалуйста, не беспокойтесь, мисс Мальцева…
Голос общался со мной на довольно приличном французском, явно принадлежал не очень молодому человеку, что, к слову говоря, ровным счетом ничего не проясняло. «Почему пожилой? Почему не Юджин? Почему меня не предупредили? А кто мог меня предупредить, как не Юджин? Он знает, что я владею французским. Ну и что? Об этом уже вся площадь Дзержинского знает. Включая командировочных в очереди за хлопчатобумажными колготками в «Детском мире». Кто этот человек за дверью? Что вообще происходит?» — эти вопросы пронеслись в моей голове куда быстрее, чем я могла бы их сформулировать.
— А почему, собственно, я должна беспокоиться? — скрывая противную вибрацию в голосовых связках, поинтересовалась я, автоматически завязывая пояс банного халата на три морских узла и усматривая в этом подсознательном движении завсегдатая приемной психбольницы некую гарантию личной безопасности. — У меня между прочим здесь, на раковине, лежит автомат Калашникова (господи, почему именно на раковине? Почему не на унитазе, не на вешалке для полотенец или не прямо в биде?).
— Кто, простите, лежит у вас на раковине? — озадаченно переспросил голос за дверью.
— Не кто, а что! — Непонятливость гостя казалась мне наигранной на все сто процентов. — Автомат Калашникова. Знаете, это такое автоматическое оружие. У него есть ствол, приклад и…
— Я понимаю, что вы имеете в виду, мисс Мальцева.
— К нему у меня есть еще три магазина плюс парочка гранат… Я не знаю, как именно они называются, но у них такое ребристое покрытие. Как рубероид, если вам это о чем-то говорит… — Весь этот бред я постаралась произнести очень отчетливо, как логопед в школе для тугослышащих дебилов. — Так что, сударь, беспокоиться должны вы…
— Это какое-то недоразумение, — заволновался голос. — Я вам все объясню, мисс…
— Вы знаете… — Я постаралась придать своему тембру максимально доверительные и даже интимные интонации. — За последние несколько месяцев я очень сильно издергалась. Много странствий, случайных знакомых, неожиданных встреч… Нервы, видите ли, ни к черту… Понимаю, выглядит это, наверное, очень глупо. И как всякая уважающая себя женщина, в номер которой без приглашения, открыв дверь собственным ключом, вошел незнакомый мужчина, я должна сейчас расчесываться перед зеркалом или накладывать грим на лицо, чтобы произвести на вас самое благоприятное впечатление… Но почему-то я держу в руках автомат и даже — поверьте сударь, это происходит помимо моей воли, — сняла его с предохранителя. Возможно, вам это неизвестно, но отель, в котором я живу, — очень тихий и респектабельный. Вы же понимаете, сударь, господин Аристотель Онассис где попало останавливаться не станет. Это с его-то возможностями! Так что мне бы не хотелось лишнего шума, я обязана думать о собственной репутации. Я вам вот что предлагаю, сударь: давайте отложим наше свидание на более подходящее время. Тем более, что я к нему совершенно не готова — ни физически, ни морально…
— Мисс Мальцева, — вдруг резко зачастил пожилой голос. — Моя фамилия Стеймацки. Лука Стеймацки. Я — сотрудник Центрального разведывательного управления США. Господин Юджин Спарк, которого вы достаточно хорошо знаете, является моим коллегой и даже в некотором смысле учеником. Правда, это было довольно давно. Я имею в виду годы его ученичества. В настоящее время Юджин находится со специальным заданием за границей. Ему пришлось вылететь срочно, и только поэтому сюда явился я, а не он, как это происходило раньше. У вас совершенно нет причин опасаться меня, поверьте мне. Я ваш друг и вхожу в оперативную группу сотрудников ЦРУ, на которую возложена ваша личная безопасность. В данный момент я имею поручение срочно отвезти вас к одному господину…
— К какому еще господину?! — Мое возмущение было мгновенным и чисто рефлексивным. В принципе я не очень-то и вслушивалась в сбивчивые объяснения незваного визитера. В тот момент меня по-настоящему интересовали только две вещи: можно ли каким-то образом покинуть ванную через узкое оконце-бойницу, выходившее на четырнадцатый этаж, и какой природный, рукотворный звук сможет убедить Стеймацки в том, что я, потеряв терпение, взвожу затвор мифологизированного автомата Калашникова. — Кроме господина Спарка я никого в Америке больше не знаю. Мало того, и знать не хочу. Понимаете, сударь, большую часть своей жизни я провела в католическом монастыре, а там, если вам это неизвестно, такие…
— Вы встречались с этим человеком три месяца назад в Буэнос-Айресе, — все с той же поспешностью сообщил незнакомец.
— А вам откуда это известно?
— Юджин сказал мне об этом сам.
— Эта наша личная тайна. Он не мог вам ее раскрыть.
— Тем не менее это так, мисс.
— Хорошо. В чем я была на этой встрече?
— О таких деталях речь не шла.
— Опишите человека, к которому вы должны меня отвезти! — потребовала я тоном комендантши женского общежития при крупной ткацкой фабрике. — Только будьте осторожны, господин Стеймацки: одно неверное слово, одна неточность в описаниях и я…
— Знаю, вы открываете по мне огонь из автомата Калашникова, — пробурчал Стеймацки. — И забрасываете гранатами… Итак, мэм, человек, который послал меня за вами, — пожилой мужчина за шестьдесят, невысокого роста, седой, говорит хриплым басом и часто курит зловонные сигары. Хотя по части запаха я, возможно, заблуждаюсь. Видите ли, мисс Мальцева, я принципиальный противник никотина…
— Господин Стеймацки, а вы знаете, кто я?
Естественно, я не поверила ни в одно его слово. Впрочем, надо было обладать реакцией сельского милиционера в предпенсионном возрасте, чтобы не узнать в описании мужчины, курящего зловонные сигары, юджиновского шефа Генри Уолша. В то же время у меня не было ни малейших гарантий, что эти пикантные подробности неизвестны даже постовому на проходной Лубянки. С другой стороны, мне очень не хотелось, чтобы Стеймацки все это понял и перешел от дипломатических переговоров к форсированным агрессивным действиям. И потому с фанатизмом ленинского стипендиата на последнем этапе подготовки к летней сессии я пыталась направить нашу совершенно идиотскую беседу через дверь в светское русло.
— Да, мэм, я знаю, кто вы.
— Вы женаты?
— Господи, а это вам зачем?
— Господин Стеймацки, вы женаты?
— Д-да.
— Так вот, представьте себе на секунду, что на моем месте, вот в этой ванной, находилась бы ваша супруга…
Стеймацки что-то быстро забормотал на латыни. Я разобрала только «Иисус Христос» и «Пресвятая дева Мария».
— Вы что-то сказали, сударь?
— Нет, я просто представил себе эту картину, мэм.
— Мне почему-то кажется, что ваша жена, господин Стеймацки, женщина умная.
— Возможно, мэм, — как-то неохотно согласился Стеймацки.
— Следовательно, на моем месте она бы задала себе вопрос: «А что, собственно, такого сообщил тебе этот явившийся без спроса мужчина, чего не мог бы знать человек, специально направленный КГБ?»
— Я понимаю ваши сомнения, мисс Мальцева.
— А раз так, то, пожалуйста, извините, что не могу принять вас надлежащим образом — я, знаете ли, никого в гости не ждала. До свидания, господин Стеймацки!..
— Минуточку! — по тому, как в голосе Стеймацки прорезались визгливые нотки, я сразу же поняла, что светская часть нашей так мирно складывавшейся беседы близка к завершающему аккорду. — Мне аттестовали вас, как умную женщину…
— Вы даже не представляете себе, господин Стеймацки, как прекрасно работает отдел дезинформации КГБ СССР. Не в пример отделу планирования операций. Они…
— Перестаньте меня перебивать, черт бы вас подрал! — неожиданно взревел голос непрошенного гостя. — Вы трещите без умолку, болтаете откровенную чушь и проявляете элементарное неуважение к старшему по возрасту!..
Сообразив наконец, что мирные переговоры зашли в тупик, я поняла, что терять мне больше нечего, и решила, не теряя темпа, не отсиживаться в пассивной обороне и перейти в решительную контратаку:
— А почему, собственно, вы на меня орете, сударь?! Кто вам дал на это право? Какого хрена, в конце-то концов?!
— Я старше вас на двадцать три года! — не унимался очень ранимый, судя по болезненной реакции, Стеймацки. — Имейте уважение к взрослому человеку, который, кстати, находится при исполнении служебных обязанностей, и извольте выслушать меня до конца!
— Дяденька, извини засранку, — пробормотала я по-русски, рефлекторно пытаясь соорудить на поясе банного халата четвертый узел.
— Что вы сказали?
— Я извинилась перед вами на родном языке моей матери.
— О'кей! — Тон непрошенного визитера чуть смягчился, но по-прежнему сохранял интонации классного руководителя самого отстающего класса в школе. — Если бы я был тем, за кого вы меня принимаете, вас бы уже не было в живых, мэм. Я выломал бы эту хлипкую дверь и утопил бы вас в ванной. И без кретинских разговоров о моей супруге, о которой вы возомнили черт знает что. Причем сделал бы это так тихо, что господин Онассис, на которого вы тут ссылались, ничего об этом не узнал. Вместе с администрацией вашего долбаного отеля. И перестаньте, ради Иисуса, грозить мне автоматом. У вас там, в ванной, кроме зубной щетки и тампонов ничего нет…
— Не хамите мне, сударь! — вновь повинуясь рефлексам, вяло взвизгнула я. Я понимала, что безнадежно проигрываю этот раунд задверных переговоров, и пыталась, наподобие опозоренных жен японских самураев, сохранить напоследок лицо. — В конце концов, я женщина, а не угол от бани, на который мочится всякий, кому не лень!..
На этот раз Стеймацки замолчал на добрую минуту. Очевидно переваривал только что услышанное.
— Прошу прощения, мэм, — пробормотал он примирительно. — Вы меня просто вывели из себя…
Наступило томительное молчание. Порезвившись вдоволь, я поняла, что пришло время выбрасывать белый флаг. Где-то в глубине души я чувствовала, что этот самый Стеймацки не врет. Впрочем, даже если бы и врал, что я могла сделать? Изображать героя «Трех поросят» с хижиной из соломы? Решив про себя капитулировать не сразу, а постепенно и с достоинством, я возобновила прерванный диалог через дверь:
— Ну, хорошо, ваша осведомленность в вопросах женских… м-м-м… мелочей выдает в вас цивилизованного человека.
— Слава Иисусу!
— Но кто сказал, что цивилизованный человек не может состоять на службе у КГБ? У них тоже есть супруги, а некоторые из них уже давно перешли с ваты на тампоны. И потом…
— Да вы что, мэм, издеваетесь надо мной?!
— Хотите доказать мне свою лояльность, сударь?
— А что, у меня есть другой выход? — судя по имени и фамилии, мой визитер явно происходил из итальянской семьи, однако свой последний вопрос задал с неподражаемой еврейской интонацией, сделавшей честь моей покойной бабушке Фане Абрамовне.
— Тогда выйдите, пожалуйста, из моего номера. Дайте мне десять минут. Я оденусь, приведу себя в порядок, после чего я в вашем полном распоряжении.
— И это все?! — судя по облегченно-восторженному возгласу, Стеймацки ожидал, что я потребую от него в качестве гарантий слетать в эту саму «заграницу», куда так экстренно отправили моего единственного на данный момент мужчину, и привезти с собой Юджина в качестве парламентера.
— Это все! — торжественно подтвердила я. — Ваше счастье, сударь, что у меня мягкий, доверчивый характер.
— Ага. Мягкий. С таким характером в серпентарии надо работать! — прошипел визитер. — Со змеями-девственницами!..
Ровно через минуту после того, как дверь за Стеймацки захлопнулась, я вышла из ванной, быстро оделась, навела на лице некое подобие косметического марафета, которое практически все советские женщины осуществляют в жестком цейтноте и под девизом «Домажусь на работе!», после чего плюхнулась в кресло с сигаретой и стала ждать. Кем бы на самом деле не был этот человек (хотя после того, как незваный визитер так убедительно доказал мне инженерную несостоятельность моих защитных бастионов в виде хлипкой двери ванной, я чувствовала, что, скорее всего, Стеймацки именно тот, за кого выдает себя), у меня все равно не было выбора. Как ни странно, но то ли от того, что я впервые за эти долгие две недели оделась «на выход», то ли в предчувствии хоть каких-то перемен в своем беспросветном бытие заложницы развитого капитализма, настроение у меня заметно улучшилось.
— Все русские очень недоверчивы, — проворчал Стеймацки, появившись в номере, как и большинство его коллег, совершенно бесшумно. Этот секрет (Господи, да разве только этот?!) я так и не могла постигнуть.
Преодолев секундную нерешительность, я взглянула на обладателя немолодого голоса, к которому уже успела привыкнуть. Стеймацки действительно выглядел намного старше меня — на вид ему было лет шестьдесят, не меньше. Обычный мужчина средней упитанности с невыразительным, чуть сморщенным лицом, зачесанными назад седыми волосами, понимающими темными глазами, чуть приподнятыми, как у паяца, уголками тонких губ и вздернутым по-вологодски носом, который казался на этом лице явно чужеродной деталью, пришпандоренной Создателем в самый последний момент, когда он обнаружил отсутствие в своем конструкторе под названием «Сделай сам» именно этой детали. Короче, ничего особенного. Моя непотопляемая подруга, воспринимающая любую особь мужского пола, вне зависимости от его возраста, убеждений и социального статуса в качестве потенциального спутника жизни, о таких мужиках всегда говорила одно и то же: «С этого лица воду не пить. Засуха!»
— Вы не правы, господин Стеймацки! — возразила я, вставая. — Нет народа более доверчивого, чем русские. Просто их постоянно обманывают.
— Вы готовы, мисс? — Стеймацки явно не желал вступать со мной в дискуссию по национальному вопросу, чем еще раз подтвердил свое несоветское происхождение.
— Вы даже не представляете себе, как я готова!
— Оденьте это, — Стеймацки протянул мне огромные, в пол-лица темные очки.
— Ну да, конечно, — пробормотала я, водворяя очки на переносицу. — В них я сразу стану неузнаваемой.
Женщина в темных очках в разгар зимы как-то естественно сливается с толпой. И как я не подумала об этом!..
— Вы что, иронизируете? — мой поводырь полуобернулся.
— Да Бог с вами, господин Стеймацки, — я одарила его совершенно искренней, лучезарной улыбкой. — А если даже иронизирую, то исключительно над собой. Это, кстати, еще одна сугубо национальная русская черта. Знаете, складывается такое ощущение, словно меня оставили на второй год и заставляют заново учить уже пройденный материал.
— Вы имеете в виду черные очки?
— И черные очки тоже.
— Если бы вы учили этот материал нормально, как полагается, то вас не оставили бы на второй год, — процедил Стеймацки, доказывая, что с логикой у него все в порядке.
— Резонно, — кивнула я. — В вас чувствуется глубокое понимание психологии второгодника.
— А теперь следуйте за мной! — по бодрому тону Стеймацки чувствовалось, что из состояния вялой депрессии, вызванной утомительной перепалкой в моем номере, он наконец-то очутился в естественной стихии.
— Родная команда, — пробормотала я себе под нос и покорно поплелась за наставником Юджина. — До боли в сердце…
Мы спускались примерно в том же ключе, в каком, собственно, я и прожила почти две недели в этом роскошном и противном отеле. То есть не как нормальные люди, приехавшие в Нью-Йорк погостить пару деньков и поприсутствовать на премьере какого-нибудь театра на Бродвее, а как бандиты-рецидивисты, только что ограбившие комнату богатого постояльца и спрятавшие труп свидетельницы-кастелянши в платяной шкаф. То есть какими-то коридорчиками, не очень опрятными лестничными клетками и грузовыми лифтами, которыми даже стройматериалы, имей они дар речи и конституционное право голоса, отказались бы пользоваться по соображениям гигиены.
…Машина, поджидавшая нас в полуосвещенном подземном гараже, была огромной и неправдоподобно длинной. Метров, наверное, в десять, не меньше. Черная, с красивыми серебряными блямбочками, она как-то сразу напомнила мне, что я не на Масловке и еду, увы, не в редакцию родной комсомольской газеты. Стеймацки любезно приоткрыл дверь и пропустил меня внутрь этого чудо- автомобиля, салон которого был чуть меньше, чем наш редакционный холл, в котором мы принимали особо почетных гостей. Сев рядом со мной, он протянул руку к дверце, нажал на выступ красной кнопки и на расстоянии четырех метров от моего носа медленно шипя, словно усталая змея из корзины факира, поднялось черное матовое стекло.
— Изолируете? — отстраненно поинтересовалась я.
— Изолирую, — кивнул конвоир.
— Господин Стеймацки, а что именно я не должна видеть в ходе нашей поездки: планировку улиц города Нью- Йорка или косматый затылок вашего водителя?
— Таковы правила, мэм. Вы иностранная подданная, мэм, и попали в Штаты… м-м-м… не совсем обычным путем.
— Вы что, на самом деле верите, что я смогу когда-нибудь вернуться в Москву и рассказать на Лубянке, что в номерах отеля «Мэриотт» после двенадцати ночи не отключают горячую воду?
Мой провожатый вздохнул.
— Мисс Мальцева, я просто исполнитель и только. Рядовой чиновник с рутинными обязанностями в некоем департаменте, о котором пишут и придумывают значительно больше, чем он того заслуживает. Мне было приказано доставить вас в целости и сохранности по указанному адресу. Меня зовут Лука Бенедикто Стеймацки, до пенсии мне осталось три месяца, семь дней и семнадцать с половиной часов. И клянусь пресвятой девой Марией, что я выполню это поручение, дабы не лишиться честно заработанной пенсии, которая даст мне возможность уйти на заслуженный отдых и навсегда отгородиться от человеческой глупости.
— Вы считаете этот план реальным?
— Какой именно? Мой уход на пенсию?
— Нет, я имею в виду самоизоляцию от человеческой глупости.
— А почему бы, собственно, и нет? — мой конвоир недоуменно пожал плечами.
— Вы идеалист, господин Лука Стеймацки, — тихо сообщила я.
— Да ну?! — Стеймацки одарил меня каким-то особым взглядом. Так брезгливые мужчины смотрят на совершенно посторонних грудных младенцев, которых, по странному стечению обстоятельств, необходимо срочно выкупать и перепеленать.
— Ага. День, когда вы действительно сумеете отгородиться от человеческой глупости, будет выбит на вашей надгробной плите в виде даты смерти. Сделать это при жизни, насколько мне известно, не удавалось еще никому…
Стеймацки открыл рот, явно желая возразить, но потом, видимо, передумал и, протянув вперед руку, выдвинул вмонтированный в спинку переднего сидения объемистый бар с бутылками и хрустальными стаканами.
— Пить хотите, мэм?
— Нет.
— А выпить?
— Тем более.
— Не пьете вообще? — Стеймацки смотрел на меня с нескрываемым интересом.
— Ага, — кивнула я. — Боюсь спиться. Вы же понимаете, — при моем-то образе жизни…
— Может, вы проголодались?
— Вы не говорили, что одним из условий транспортировки в этом собачьем ящике является поддержание моего веса.
— Юджин вас так и описывал, — без всякой связи пробормотал Стеймацки и вздохнул.
— Как это «так»? — я сразу же насторожилась.
— Он сказал, что вы, мисс — аномальная женщина.
— Вы уверены, что правильно его поняли? — Я полуобернулась к Стеймацки. Женское начало, пребывавшее, казалось бы, в беспробудной летаргии, вдруг на секунду проснулось и открыло глаза. — Может быть, он сказал «аморальная женщина»?
— Мэм, — ледяным голосом откликнулся Стеймацки, глядя в непроницаемое черное стекло так, словно видел его насквозь. — Не знаю, с кем вам раньше доводилось сталкиваться, но я в свое время закончил Корнельский университет, если название данного учебного заведения вам о чем-нибудь говорит…
— Как вы думаете, господин Стеймацки, это комплимент? — с некоторым промедлением откликнулась я, думая о своем.
— Вы имеете в виду мою учебу в Корнельском университете?
— Я имею в виду аномальную женщину.
— А-а-а… — Стеймацки понимающе кивнул, потянулся к бару, плеснул в широкий толстый стакан немного виски, набил его доверху льдом и как следует приложился к своему типично американскому питью. — Я обычно доверяю не словам, а тону, каким они сказаны. Или выражению лица. Возраст, знаете ли. Так вот, у Юджина оно было… как бы это точнее сказать… Ну, словно отвязанное. Понимаете, что я имею в виду?
— Еще как понимаю! — кивнула я. — Мало того, я даже догадываюсь, от кого именно оно было отвязано…
— Боюсь, что вы меня не так поняли, мэм, — осторожно проговорил Стеймацки, и уголки его губ, словно усы гусара, вздернулись еще выше.
— Как и все мужчины, господин Стеймацки, — желчно процедила я, — вы серьезно переоцениваете сложность собственной натуры. Многомерность, сударь — это понятие геометрическое, и к черепной коробке мужчин отношение не имеющее в принципе. Поверьте моему личному опыту.
— По-моему, я что-то не то сказал, — пробурчал Стеймацки под свой вологодский нос.
— Ну, что вы? — мрачно выдавила я. — Вы так мало говорите, что даже теоретически застрахованы от того, чтобы сказать что-то не то. Последний вопрос, господин Стеймацки, и я дам вам от себя отдохнуть: может, сообщите девушке, куда мы едем?
— Неблизко, мэм.
— Неблизко?
— Неблизко, — флегматично подтвердил Стеймацки.
— Это что, название штата?
— Штат, о котором вы подумали, называется Небраска, — буркнул мой провожатый. — Мы же едем в Вашингтон.
— Господин Стеймацки, вы уж меня извините, но когда в школе проходили географию США, я болела свинкой… Вашингтон, в который вы меня везете — это тот самый?
— Тот самый, мэм, — кивнул Стеймацки. — Федеральный округ Колумбия.
— Похоже, что после двухнедельного заточения меня решили познакомить с Америкой? К чему бы это?
— Скорее наоборот, — словно пробуя каждое слово на язык, ответил Лука Стеймацки и протянул мне здоровенный бутерброд с ветчиной и салатом. — Это Америка решила узнать вас поближе.
— Хрен редьки не слаще, — вздохнула я по-русски и впилась зубами в дареный бутерброд.
— Вкусно?
— Скажите мне, господин Стеймацки, а?..
— Вместо одного вопроса, мисс Мальцева, вы задали уже пять.
— Четыре, — уточнила я. — Обещаю вам, что этот — последний.
— Что еще?
— Собственно, это даже не вопрос. Я хотела поделиться с вами неприятным ощущением.
— Вы всегда так щедры?
— Видите ли, — не реагируя на его университетский юмор, ответила я. — Как-то не по себе стало после этой странной фразы — «Узнать поближе».
— Что именно вас так встревожило?
— Там, где я родилась и выросла, в нее вкладывают совершенно определенный смысл.
— Какой же?
— Можно я вначале доем? — кисло улыбнулась я. — Как-то не хочется портить себе аппетит…
9. МОСКВА. ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО. ЗДАНИЕ КГБ СССР
Февраль 1978 года
Едва сев в машину, Андропов взялся за вмонтированный в специальный выступ телефон внутренней правительственной связи и набрал три цифры. После первого же длинного гудка трубку подняли:
— Генерал Воронцов. Слушаю.
— Юлий Александрович, через десять минут, у меня…
И повесил трубку.
Только сейчас, откинувшись на мягкую спинку бронированного «ЗиЛа», Андропов в полной мере ощутил, каким изнурительным, опустошающим был только что состоявшийся разговор с Генеральным секретарем. «Шакал, — думал председатель КГБ, закрыв глаза и восстанавливая силы. — Все они шакалы. Старые, хитрые и гнусные. Господи, с кем мне приходится работать?! Нелюди какие-то… Неужели на этот раз им действительно удастся меня прижать?..»
Аккуратно повесив на вешалку пальто, Андропов придавил кнопку селектора:
— Крепкий чай с лимоном. Воронцов здесь?
— Так точно.
— И кофе. Пусть войдет…
Начальник Первого главного управления КГБ СССР Юлий Александрович Воронцов выглядел, как всегда, свежим, отдохнувшим и уверенным в себе ровно настолько, чтобы не раздражать начальство. «Это школа, — подумал Андропов, наблюдая, как пятидесятитрехлетний кадровый офицер разведки, который до сорока пяти лет жил преимущественно за границей и возвращался в Россию только в отпуск, неторопливо, с достоинством, пересекает огромный кабинет и усаживается напротив. — Аппаратчики ЦК ходят иначе. Ведут себя иначе. И думают, сволочи, тоже по-особенному, словно им эти правила поведения вместе с тригонометрией в школе объясняли…» Андропов вспомнил, как один из немногочисленных друзей его юности, профессиональный дипломат еще литвиновской школы, с которым он когда-то работал вместе в Венгрии, сказал недавно: «Этот молодняк в коридорах на Старой площади меня просто убивает. Все на одно лицо: костюмы одинаковые, галстуки одинаковые, даже прически, мать их, как из-под одной руки. Они, Юра, и спать, по-моему, ложатся не в пижаме, а в темно-синем костюме, и под щеку, вместо ладошки, папку «К докладу» подсовывают. Чтобы форму не потерять…»
Дежурный офицер из приемной неслышно поставил поднос и так же неслышно удалился.
Андропов потянул к себе тонкий хрустальный стакан в массивном серебряном подстаканнике и осторожно подул на обжигающую жидкость.
— Доброе утро, Юрий Владимирович, — напомнил о себе Воронцов.
— Если бы, — пробурчал председатель КГБ и поставил подстаканник на поднос. — Я только что со Старой площади…
— Да уж догадался, — кивнул Воронцов и, в свою очередь, подул на кофе. — Что-то подозрительно быстро нам предъявляют счет, вам не кажется?
— Не нам, Юлий Александрович, — негромко поправил Андропов и, поморщившись, отодвинул от себя подстаканник. — Мне.
— Насколько существенно эта поправка меняет суть дела?
— А то вы не понимаете! — Андропов усмехнулся. — С Цвигуном виделись в последние дни?
— Нет, Юрий Владимирович. Тем более, что вчера он вылетел в Челябинск.
— Что-то срочное?
— Насколько мне известно, первый зампред решил лично ознакомиться с этим делом диссидентов.
— Ну да, — кивнул Андропов. — Всегда при деле, всегда на боевом посту…
— Думаете, он?
— А больше некому.
— Что он мог знать, Юрий Владимирович? — нахмурился Воронцов. — Все документы проходили исключительно через мое управление. Утечка информации невозможна даже теоретически…
— Это потом, — отмахнулся Андропов. — Я разберусь сам. А пока докладывайте, что нового?
— Пока ничего.
— Что в Латинской Америке?
— Ждем, Юрий Владимирович.
— Чего вы ждете? — поморщился Андропов. — Официального объявления наших людей персонами нон-грата?
— Мне показалось, что любая инициатива с нашей стороны может только усугубить ситуацию.
— А вы считаете, что это еще возможно?
— Ну, теоретически…
— Когда это может произойти?
— В любой момент, Юрий Владимирович. — Воронцов слишком давно и хорошо знал своего шефа, органически не терпевшего подтасовок и требовавшего от всех своих подчиненных исключительно объективную информацию. — Не исключаю, что это уже происходит. Возможно, сейчас, пока мы с вами говорим.
— Это нельзя допустить, Юлий Александрович, — голос Андропова звучал глухо. — А в свете разговора, который у меня состоялся только что, — просто невозможно.
— Я понимаю, Юрий Владимирович… — Воронцов сидел на стуле прямо, вся его поза свидетельствовала о предельной собранности. — Но что можно сделать?
— Неужели никаких идей? — прищурился председатель КГБ СССР, вновь потянул к себе подстаканник, убедился, что чай остыл, и сделал небольшой глоток.
— Конструктивных — ни одной. Третьи сутки головы ломаем, Юрий Владимирович.
— Прецеденты?
— На моей памяти — только два случая, когда аргументированное решение о высылке дипломатов, заподозренных в связях с советской разведкой, было отменено.
— Поконкретней, пожалуйста.
— В 1958 году нашего человека, который работал под крышей посольства в ФРГ, взяли с поличным в Дюссельдорфе — он передавал пакет одному деятелю ХСС…
— Как замяли?
— Вышли через третье лицо на БНД, передали немцам кое-какие документы с крепким компроматом на их человека в Индонезии. Те для приличия поторговались немного, но потом пошли на попятную. И того, и другого отозвали, но без шума в прессе. А второй случай в 1962 году, в Канаде. В принципе та же самая схема…
— А нам что, Юлий Александрович, нечего предложить колумбийцам взамен?
— В принципе есть… — Воронцов на секунду запнулся. — Но разговаривать с ними сейчас абсолютно бессмысленно, Юрий Владимирович, — все концы в руках американцев. В настоящее время они там платят и именно они принимают на себя все долги.
— Какие именно концы? Пожалуйста, точнее, Юлий Александрович.
— Полное признание Кошты в том, что его завербовал председатель КГБ СССР…
— Слова, — пожал плечами Андропов. — Обычные слова…
— Этими словами Кошта подписал себе смертный приговор. Я имею в виду, политический смертный приговор.
— Дальше! — потребовал Андропов.
— Есть письменное признание в том, что его, колумбийского сенатора, КГБ намеревался использовать как ключевую фигуру в организации государственного переворота с целью прихода к власти в Колумбии леворадикальных элементов.
— Еще!
— Официальное заявление спикера парламента Колумбии, которому, собственно, и признался Кошта.
— Все?
— Нет, Юрий Владимирович, к сожалению, не все. Есть еще материалы по делам Мишина, Гескина, Тополева, Мальцевой, которые в совокупности могут помочь воссоздать приблизительную картину планировавшегося переворота… Документы получаются крепкие, Юрий Владимирович, опровергнуть их будет непросто…
— Так чего они ждут?
— Простите? — Воронцов вскинул на председателя КГБ недоуменный взгляд.
— Я спрашиваю вас, Юлий Александрович, чего ждут американцы? Почему не дают команду о высылке наших дипломатов?
— Ну… — Воронцов как-то совсем не в своем стиле, по-крестьянски, поскреб пальцем кончик носа. — Просчитывают, должно быть…
— Что именно?
— Масштабы скандала, хотя бы. Дело нешуточное, Юрий Владимирович, они должны предусмотреть все нюансы, проконсультироваться с госдепартаментом и военными, предусмотреть наши ответные шаги. По идее, мы ведь не будем сидеть сложа руки. Правда, со стороны это слишком уж точно укладывается в схему «Сам дурак!» Прав, обычно, тот, кто начинает первым. Тем более, если он действительно прав. И особенно, в нашем ремесле, Юрий Владимирович…
— Пожалуйста, поподробнее, — Андропов придвинулся к столу вплотную и почти лег на него грудью. — Вы говорите об ответных шагах! Но каких?
— Не знаю, Юрий Владимирович. На мой взгляд, дело абсолютно безнадежное…
— Верно! А они думают. Значит, есть что-то такое, чего они опасаются? И чего, возможно, мы не предусмотрели? Как думаете, Юлий Александрович?
— А что тут думать?! — пожал плечами Воронцов. — В настоящий момент мы можем замотивированно выслать из СССР за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, максимум двух американских дипломатов. И то выглядеть это будет, скорее, как жест отчаяния… Не говоря уже о том, что это — крайняя мера, и Громыко, думаю, так просто на подобный обмен пощечинами не согласится — это уже будет бить по нему лично.
— Кстати, о крайних мерах, — Андропов откинулся на спинку кресла. — Выяснили, где Мальцева?
— Вероятнее всего, в Штатах.
— Ищите?
— Я распорядился временно прекратить поиски.
— Почему? — на толстых губах Андропова скользнула гримаса неудовольствия. — И почему мне об этом ничего не сказали?
— Видите ли, Юрий Владимирович, я по собственному опыту знаю: в таких ситуациях должно пройти какое-то время. Сейчас, очевиднее всего, американцы прячут нашу знакомую на какой-нибудь явке, пока не разберутся окончательно, что с ней делать дальше. Для ее поисков понадобятся огромные усилия. С таким же успехом я могу поставить перед американской резидентурой задачу отыскать иголку в стоге сена. Однако все наши люди в курсе дела, через пару недель поиск будет возобновлен. Так что, думаю, рано или поздно результат будет.
— Что Мишин?
— Он в Израиле.
— Вы не сомневаетесь?
— Практически, нет. Есть несколько косвенных свидетельств, Юрий Владимирович. Кроме того, это логично.
— Что вы имеете в виду?
— Моссад — единственная западная спецслужба в мире, которая закроет глаза на практически доказанный факт, что наш выкормыш отправил на тот свет пятерых людей ЦРУ. У них там свои счеты…
— Вы думаете, евреи могут использовать Мишина против нас?
— Только в том случае, если решат им пожертвовать. Но это вряд ли, Юрий Владимирович. Мишин прекрасный оперативник, уж мы то это знаем. А география работы Моссада — весь мир. Думаю, если израильтяне действительно решатся его использовать, то рано или поздно Мишин проклюнется где-нибудь в Европе или в Африке. Ну а уж мы постараемся его не упустить.
— Его необходимо убрать, Юлий Александрович. Равно как и Мальцеву. — Выражение лица Андропова — чуть рассеянное, отражавшее интенсивную работу мысли, никак не соответствовало жесткости только что вынесенного смертного приговора. — И дело тут, кстати, не только в предательстве. Оба этих человека связаны с делами, о которых не должен знать никто. Тем более, в данной конкретной ситуации…
— Вы имеете в виду государственную тайну, Юрий Владимирович?
— Я имею в виду наши ошибки, Юлий Александрович. — Андропов уставился на Воронцова тяжелым взглядом. — Помните об этих людях всегда. Без них нас могут просто лишить постов, правительственных санаториев, прикрепления к кремлевской больнице и персональной пенсии союзного значения. А вот с ними…
— Я понимаю вас, Юрий Владимирович.
— Хорошо, — кивнул Андропов. — Вернемся к нашей проблеме… Может быть, поздравить Кошту с каким-нибудь праздником?
— Что это нам даст? — Воронцов как-то виновато улыбнулся. — Все уже задокументировано и легло в архивы сразу нескольких спецслужб. Причем с достаточно серьезными подтверждениями Тополева. Что же касается м-м-м… безвременной кончины сенатора Кошты, то она может превратить данную ситуацию и вовсе в бесперспективную. Хотя бесперспективнее, по-моему, не бывает.
— Да уж, — процедил Андропов. — Действительно, беспросвет какой-то выходит.
— Юрий Владимирович, ну а что, в конце-то концов, страшного? Ну, допустим, выслали они тридцать наших человек с дипломатическими паспортами. Так ведь, не в первый же раз такое происходит. Ну, пошумят, закатят пару нот протеста, несколько месяцев отношения будут натянутыми… Потом же все рассосется. А мы создадим новую сеть…
— Это уже не со мной, Юлий Александрович, — пробормотал Андропов и залпом опорожнил остывший чай. — И, соответственно, не с вами…
Воронцов опустил голову.
— Будьте у себя, Юлий Александрович, — приказал Андропов. — Вы можете понадобиться мне в любую минуту…
Когда Воронцов ушел, Андропов нажал кнопку селектора.
— Слушаю, Юрий Владимирович.
— В приемной ты один?
— Так точно!
— Тополев. Камера 81. Ко мне. На моем лифте. Без сопровождающих. Только ты и он. Срочно!
…Андропов предполагал, что две недели, которые бывший подполковник, а также личный помощник и консультант председателя КГБ СССР Матвей Тополев провел после возвращения из Швейцарии в камере-одиночке во внутренней тюрьме КГБ, изменят его до неузнаваемости. Однако когда Тополев появился в его кабинете, Андропов был поражен. Потому, что внешне Матвей выглядел вполне пристойно: свежая рубашка с расстегнутым воротом, ладно сидящий на атлетической фигуре пиджак, чисто выбритое лицо… Правда, его выражение не оставляло и тени сомнений: Тополев с трудом сдерживал себя.
— Неплохо выглядите, подполковник, — натянуто улыбнулся Андропов.
— Я уже не подполковник, Юрий Владимирович.
— Ты ВСЕ ЕЩЕ подполковник, Матвей. И, вполне может статься, даже получишь очередное звание.
— Но только, если?
— Но только если сумеешь убедить меня в кое-каких вещах.
— Вы же знаете, Юрий Владимирович, что я ни в чем не виноват…
— Матвей, — Андропов поморщился. — Не трать мое время попусту. Поверь, у меня действительно нет даже лишней секунды. Давай разговаривать так, словно ничего не изменилось. Я — председатель КГБ СССР, ты мой помощник, поверенный в моих служебных делах. И говорить мы будем о человеке, по имени Матвей Тополев. Вернее, о том, насколько я могу в дальнейшем рассчитывать на него. Согласен?
Тополев молча кивнул.
— Что ты рассказал обо мне американцам?
— Ничего такого, что могло бы повредить вам, Юрий Владимирович!
— Вот так, да?
— Вы мне не верите?
— А ты что, Матвей, привез с собой из ЦРУ в качестве подтверждения стенограммы собственных допросов с подписью директора ЦРУ и печатью президента США, чтобы я мог проверить твою искренность?
— Почему вы мне не верите?
— А почему я должен тебе верить?
— Потому что я почти пятнадцать лет в органах. Потому, что мне известно столько всякого, что развяжи я по- настоящему язык, рухнуло бы очень многое.
— Тебя проверяли на полиграфе?
— Да.
— Тебе вкалывали химию?
— Д-да.
— Значит, ты сказал все, что знал, Матвей Тополев, — негромко произнес Андропов и, словно ставя восклицательный знак в конце предложения, воткнул изящный серебряный ножичек для фруктов точно в серединку крупного крымского яблока. — А известно тебе было, к сожалению, действительно немало. И знаешь, Матвей, в чем заключается действительно большая проблема? В том, что ныне, по твоей милости, все мы обречены на пассивное ожидание. Мы даже подумать не можем ни об одном из наших проектов двух-трехгодичной давности — ты о них все сказал в Лэнгли. Согласен: ты этого не хотел, так получилось. Но что это меняет? Отныне мы можем только начинать ЗАНОВО. Ты понимаешь, Матвей, что значит для серьезной внешней разведки, каковой, собственно, является наша организация, все начинать заново? Ты хоть представляешь себе, во что это обойдется нам с тобой, нашим товарищам за границей, нашей стране?
Тополев молчал, опустив голову.
— Но не из-за этого мне хотелось поговорить с тобой… — Андропов точными движениями разрезал яблоко на дольки и отправлял их в рот, тщательно пережевывая. — Есть еще один важный вопрос. Лично для меня важный… Скажи, Матвей, тебя навещал в камере генерал Цвигун?
— Нет, Юрий Владимирович.
— А генерал Цинев?
— Навещал.
— Когда?
— Позавчера.
— О чем вы с ним говорили?
Тополев запустил обе пятерни в свои жидкие волосы.
— Неужели это было так давно? — грустно улыбнулся Андропов, расправляясь с последней долькой яблока. — Неужели, чтобы вспомнить разговор с первым заместителем председателя КГБ СССР тебе, Матвей, необходимы такие титанические усилия? Да и к тому же, как я понимаю, Цинев был единственным представителем руководства КГБ, который встречался с тобой в нашей тюрьме, не так ли?
Тополев кивнул.
— Так о чем он с тобой разговаривал?
— Понимаете, Юрий Владимирович…
— Матвей, — Андропов аккуратно промокнул губы льняной салфеткой и швырнул ее в мусорную корзину под столом. — Либо ты говоришь ВСЕ, либо возвращаешься в камеру. Я ясно выразил свою мысль?
— Вполне.
— Отвечай только на мои вопросы, Матвей, — голос Андропова стал жестким. — Рассуждения твои пока мне не нужны. Ты сейчас не мой помощник. Ты находишься под следствием.
— Понятно, Юрий Владимирович.
— Ты рассказал ему о латиноамериканской операции?
— Да.
— В деталях?
— Нет.
— Ты назвал имя Кошты?
— Да.
— Ты рассказал Циневу, как именно вербовали Кошту?
— Да.
— Он тебя спрашивал, кому принадлежала идея провести вербовку непосредственно в международном аэропорту Шереметьево?
— Спрашивал.
— Что ты ответил?
— Я сказал, что это была ваша идея.
— То есть, ты солгал первому заместителю КГБ СССР, — уточнил Андропов.
— Но решение действительно принимали вы, Юрий Владимирович…
— Ты рассказал ему о Мишине?
— Только то, что он находится в бегах.
— Он спрашивал, при каких обстоятельствах тебя взяли американцы?
— Да.
— Что ты ответил? Собственно, зачем я спрашиваю? Ты наверняка постарался выгородить себя и изобразить все таким образом, чтобы представить провал в Волендаме как грубую ошибку Центра, верно?
— Я вообще не вдавался в детали, — пробормотал Матвей и покраснел.
— Короче, Матвей, практически ты рассказал Циневу все, что знал?
— Нет, Юрий Владимирович, я только отвечал на его вопросы.
— А Цинев умеет их задавать, — медленно, словно напоминая об этом самому себе, проговорил Андропов.
— Умеет, — унылым эхом откликнулся Тополев.
— Скверно. Очень скверно, Матвей… — выражение лица Андропова оставалось бесстрастным и только глаза как-то неестественно заблестели. — Зачем ты это сделал?
— Он сказал мне, что я покойник, — быстро проговорил Тополев, не глядя на своего бывшего шефа. — Что я — свидетель, которого вы без колебаний уберете сразу же после того, как основательно выпотрошите. И только он может гарантировать мою физическую неприкосновенность. Что только он является гарантом моей безопасности. Идея противовеса, Юрий Владимирович… Его доводы показались мне логичными. В самом деле, Юрий Владимирович, ИМ я необходим как живой свидетель, в то время как для вас я — отработанный материал, мусор, живое напоминание о серии катастрофических провалов… То, что я так о многом рассказал Циневу — это ужасно, я понимаю. Но, с другой стороны, меня тоже можно понять! После того как я очутился в одиночке, со мной практически не разговаривали, меня забыли, Юрий Владимирович!
— Тебе известен характер моих отношений с Цвигуном и Циневым, не так ли?
— Да, Юрий Владимирович.
— Тебе известно, КАКУЮ именно функцию выполняют два этих, с позволения сказать, генерала в центральном аппарате КГБ?
— Да, Юрий Владимирович, мне это известно.
— Так как же ты, умница, аналитик, человек, участвовавший в разработке стратегических операций советской внешней разведки, мог купиться на такую туфту, а?! — Губы Андропова сжались в брезгливой гримасе, — Неужели ты не понимаешь, Матвей: идет борьба за высшую власть в стране, война против меня лично. И тебя, трусливый мальчишка, сопляк, использовали в этой кремлевской междоусобице как дешевую провинциальную проститутку за коробку конфет и обещание московской прописки…
— Я боролся за свою жизнь, — без особой уверенности в голосе возразил Тополев. — Мне нужно было что-то предпринимать…
— А что ей, собственно, угрожало, твоей жизни? А, Матвей? Смотреть мне в глаза! — голос Андропова сорвался на крик и тут же вновь стал сдержанным, негромким. — Ты был включен в список людей, подлежащих обмену, надеюсь, ты это помнишь? Из-за тебя, паршивца, отпустили на вольные хлеба редкую в наших краях птицу — кадрового агента Моссада, а еще одного человека, кстати, немало сделавшего для нашей страны, сдали американцам просто так, в качестве нагрузки. Хотя теперь я понимаю, что куда проще и правильнее было выронить тебя, Матвей, из того самого самолета, который специально из-за тебя гнали в Цюрих и обратно!
— Меня две недели держат в одиночной камере…
— А где, по-твоему, тебя должны были держать? Особенно, после того, как тебя, Матвей, словно мешок с Дерьмом, переправили в Лэнгли, вытащили из тебя всю информацию и вернули обратно из-за предложенного нами же, твоими товарищами по работе, обмена? В санатории? В сауне с березовыми веничками, водкой и бабами? Или в твоей пятикомнатной квартире на Кутузовском в окружении жены и тещи?..
Уперев локти в колени Тополев сидел, обхватив руками голову и чуть заметно покачивался из стороны в сторону.
— Переизбыток адреналина в крови полностью нейтрализовал, уничтожил твои блестящие мозги, Тополев, — Андропов говорил ровно, уже без всяких интонаций, словно зачитывал текст приговора. — Ты трус, Матвей Тополев, и, очутившись в тюрьме, повел себя как самая настоящая истеричка. Думаю, что даже у обслуживающего персонала в столовой КГБ больше мужества, чем у тебя. Если бы животный страх не парализовал твои хваленые извилины, то ты сообразил бы, что, после возвращения в Москву, ничего твоей драгоценной жизни не угрожало. Ни-че-го, Матвей! В противном случае тебя бы закатали в асфальт там, в Женеве, сразу же после того, как американцы передали тебя в наши руки, а не везли спецсамолетом в Москву. Тюрьмой он, видите ли, недоволен! — Андропов так сильно стукнул кулаком по столу, что верхнее яблоко из фруктовой пирамиды, заботливо уложенной в хрустальной «лодочке», гулко скатилось на полированный стол и, побалансировав самую малость на краю, бесшумно упало вниз, на толстый ковер. — А ты рассчитывал на апартаменты в «Национале», сопляк?!
— Извините меня, Юрий Владимирович… — Андропов отчетливо увидел, как на длинных ресницах подполковника задрожали слезы. — В какой-то момент мне показалось, что я уже никому не нужен, что меня решили заживо похоронить в этой страшной камере… Вы правы: я действительно испугался…
— Мне не нужны твои извинения, Матвей. Слишком поздно… — Андропов снял очки и стал массировать переносицу большим и указательным пальцами. — Если, благодаря твоим излияниям, к власти придут ОНИ, — председатель КГБ коротко кивнул в сторону огромного окна, из которого отчетливо просматривался шпиль Спасской башни, — то тебя ликвидируют немедленно…
— А если нет?! — голос Тополева звучал хрипло, с надрывом. — Я откажусь от своих показаний, Юрий Владимирович! Я скажу, что все это просто придумал, что генерал Цинев спровоцировал меня на откровения, угрожая физической расправой, смертью…
— Кому ты это скажешь? — Андропов подслеповато уставился на своего помощника. — Им? Перед расстрелом?
— Но…
— Значит, мне? — уточнил Андропов. — В том случае, если я останусь в этом кресле?..
Андропов водворил очки на мясистый нос и в тот же момент бифокальные стекла зловеще блеснули:
— А мне это уже не нужно, Матвей. Ни твои признания, ни, тем более, раскаяния. Твой финал ужасен, Матвей Тополев. Ибо страх в одиночной камере, панический ужас ожидания смерти достанет тебя даже быстрее, чем пуля в затылок, которую ты заслужил по всем законам профессиональной справедливости. Прощай, Матвей Тополев, ты мне омерзителен…
Андропов нажал кнопку селектора.
— Арестованного в камеру, — коротко бросил председатель КГБ, глядя в глаза дежурного офицера в штатском. — Тем же маршрутом, что и привели. Все свидания с арестованным — только по моему устному разрешению. Никаких исключений. Никому! Ясно?
— Так точно! — кивнул офицер.
— Выполняйте!
«Ну, вот и все… — Андропов снял очки, аккуратно положил их перед собой и откинулся в кресле, закрыв глаза. — Осталось только подождать чуть-чуть, пока топор, занесенный врагами (своими? чужими? всеми сразу?), не обрушится на мою шею. А, может быть, не стоит ждать? Мне ведь всегда лучше других удавалось опережать события. Я, собственно, и выжил в этом бардаке исключительно потому, что раньше предвидел, раньше реагировал, раньше принимал решения…»
Чуть оттолкнувшись ногами, Юрий Андропов съехал на кресле вправо, в сторону тумбы своего необъятных размеров рабочего стола, выдвинул второй ящик сверху и извлек темно-коричневую кобуру с табельным ПМ — пистолетом Макарова. Председатель КГБ никогда не испытывал слабости к оружию, не любил охоту, ненавидел грохот пальбы… А после незабываемых венгерских событий, когда в течение нескольких, самых горячих дней, Андропов перед сном нащупывал под подушкой рубчатую рукоять автоматического пистолета, его сдержанная неприязнь к оружию переросла в ненависть. Потому-то его личный Макаров, за который очень давно, еще в 1967 году, Юрий Андропов расписался в ведомости, почти двенадцать лет пролежал невостребованным в ящике письменного стола. Долгое время Андропову это казалось совершенно естественным. Ибо даже теоретически было трудно представить себе такую ситуацию, при которой председателю КГБ СССР и члену Политбюро ЦК КПСС могло РЕАЛЬНО понадобиться личное оружие. Если только не…
Андропов вытянул из кобуры тяжелый пистолет и положил его перед собой на полированную поверхность абсолютно пустого — без единой бумажки — письменного стола. Затем, не торопясь, словно ощущая на вкус каждое Движение, Андропов надел очки и стал внимательно, словно впервые в жизни увидел настоящее, готовое к бою, оружие, разглядывать серо-черный ствол, отделанную коричневой пластмассой рукоятку, изящную стальную запятую спускового крючка…
«Я буду первым из всех своих предшественников, кто решился на этот отчаянный шаг, — вдруг подумал Андропов и почему-то улыбнулся собственным мыслям. — Но почему этого не делал никто больше? Никто?! Неужели именно я был настолько плохим, неумным, недальновидным, что угодил в ситуацию, из которой нет более достойного выхода? А, может быть, у других просто не хватало мужества? Разве не знал Ягода, что он обречен, что его смертный приговор уже подписан? А Ежов? А Абакумов? Конечно, знали! Но надеялись — вдруг пронесет! А, может, действительно пронесет?..»
Очень медленно, словно в слепой, подсознательной надежде на неисправность оружия, Андропов снял пистолет с предохранителя, осторожно оттянул на себя затвор и увидел, как желтая тупорылая пуля, мелькнув в металлической прорези Макарова, юрко, как маленькая хитрая мышь, прошмыгнула в ствол.
Оружие было в полной исправности. Как, собственно, и все, что находилось в этом огромном и неуютном кабинете.
Взяв пистолет двумя руками, Андропов поднял ствол на уровень лба, просунул большой палец правой руки под спусковой крючок и глубоко вздохнул.
И в этот момент коротко тренькнул прямой телефон, связывавший Андропова только с Генеральным секретарем ЦК КПСС…
10. ЧЕЛЯБИНСК. ДОМ ГОСТЕЙ ОБКОМА КПСС
Март 1978 года
В роскошном двухэтажном особняке для особо важных, «центровых» гостей Челябинской области, который своим вычурным, затейливо изогнутым коньком, расписными наличниками и высоким крыльцом только снаружи напоминал старинные боярские хоромы, первый заместитель КГБ СССР генерал-полковник Семен Кузьмич Цвигун пребывал в гордом одиночестве. Внутри же «объект № 7», как именовалась обкомовская госдача в специальном телефонном справочнике, изданном для узкого круга местной партноменклатуры на мелованной финской бумаге в сафьяновом переплете, почти в точности воспроизводил президентский «люкс» самого респектабельного отеля Копенгагена или Лозанны. Гостевые хоромы челябинского партийного воеводы были обставлены и отделаны с такой вызывающей, ВОИНСТВЕННОЙ роскошью, что даже Цвигуну, давно уже свыкшемуся с повсеместными проявлениями барства провинциальных партийных лидеров, становилось как-то не по себе от давящей атмосферы подпольного склада шведской мебели, японской электроники и коллекционной посуды. Шестеро дюжих молодцов с лицами профессиональных убийц, приписанных к областному управлению КГБ, круглосуточно сменяя друг друга, попарно стерегли госдачу и ее очередного постояльца. Цвигун их попросту не замечал, да и сами телохранители старались как можно реже попадаться на глаза грозному и неразговорчивому генералу с Лубянки, который вторые сутки подряд возвращался на «объект № 7» злой, как некормленный цепной пес.
…В тот вечер, вернувшись в обкомовский гостевой дом в двенадцатом часу, генерал Цвигун, облаченный в распахнутое настежь мешковатое драповое пальто и дорогую шапку из якутской норки, пнул ногой входную дверь, не снимая верхней одежды, рывком стянул ненавистный галстук, никогда не затягивавшийся до конца на его бычьей шее бывшего борца, швырнул в угол туфли и, рухнув в простеганное светло-коричневое кресло, усеянное блестящими медными заклепками, включил дистанционным пультом огромный японский телевизор. Москва показывала в записи встречу Брежнева с рабочими автозавода имени Лихачева. Какое-то время Цвигун тупо смотрел на бровастое, вытянутое как у лошади, лицо своего могущественного покровителя и друга, не слыша, что именно говорит рабочим Генеральный секретарь ЦК КПСС, а потом, словно очнувшись, схватил трубку диковинного кнопочного телефона.
— Это Цвигун, — не здороваясь, рявкнул генерал в трубку. — Срочно соедините меня с Москвой, телефон 113-27-71. Жду…
По-прежнему не снимая пальто, генерал тяжело встал, подошел к роскошной шведской стенке из орехового дерева, потянул на себя панель бара, вытащил из зеркальной ниши початую бутылку французского «Курвуазье», основательно приложился к матовому черному горлышку, после чего, поморщившись, вытер толстые губы тыльной стороной ладони и презрительно сплюнул прямо на толстый китайский ковер с вытканными синими лилиями. В вопросах спиртного Цвигун был патриотом, признавая только отечественные водку и коньяк. «Дурачье проклятое, партийные руководители, мать их!.. — пробормотал себе под нос генерал, с остервенением стащив пальто и швырнув его на диван. — Совсем с жиру сбесились! Это ж как надо совесть потерять, чтобы лакать этот одеколон пахучий по полтиннику за бутылку! Усатого на них нет, на недельку-две, не больше! Этот уж разобрался бы со всеми…»
Коротко тренькнул телефон.
— Алло, Москва?
— Слушаю вас, — в трубке раздался женский голос, по которому Цвигун сразу же узнал эффектную супругу министра внутренних дел СССР Николая Щелокова:
— Добрый вечер, это Семен Кузьмич… Да нет, из Челябинска… Супруг уже дома? Пусть возьмет трубочку…
— Семен Кузьмич, это ты? — голос в трубке был высоким и звонким, словно принадлежал совсем еще молодому человеку.
— Приветствую, Коля… — Цвигун поудобнее устроился в кресле и положил обе ноги в носках на покрытый черным лаком драгоценный вьетнамский столик ручной работы. Под слоем лака таинственно мерцала инкрустированная картина — сбор урожая риса. — Есть кое-какие новости… Нет, не очень… Я этого не говорил… Короче, Николай, нам необходимо как можно быстрее встретиться и потолковать… Нет, дело в том, что к одиннадцати меня уже ждет хозяин… Давай так: сейчас у нас 23.35. В Москве, стало быть, 21.35. Считай, вся дорога займет у меня пять часов, может быть, чуть больше. В общем, к половине третьего по вашему встречай меня во Внуково-2. Один, без водителя. И без твоих архаровцев с мигалками, они нам без надобности… Добро!
Положив трубку, Цвигун набрал номер из пяти цифр.
— Это генерал Цвигун. Где Рогачев?.. Рогачев, это ты? Мне нужно срочно вылетать в Москву. Что? Твои проблемы, приятель!.. Возьми самолет первого, мне без разницы на чем лететь. Ну вот и добро! Через десять минут я выезжаю…
Тяжело поднявшись с кресла, Цвигун проследовал в свою спальню к черному телефонному аппарату без наборного диска и поднял трубку.
— Через десять минут машину и сопровождение. Я улетаю…
В совершенно пустом «ИЛ-18», официально приписанном к местному авиапредприятию как рядовой пассажирский самолет, а на самом деле являвшемуся личным транспортным средством первого секретаря Челябинского обкома партии, Семен Цвигун выпил в одиночку бутылку «Посольской» водки, закусил четырьмя гигантскими бутербродами с черной икрой и, скорее, по привычке, чем испытывая в этом реальную потребность, лениво подмигнул хорошенькой стюардессе, внимательно наблюдавшей за единственным пассажиром из-за раздернутой занавески в буфетном отсеке самолета.
Стройная светловолосая девица в синем аэрофлотовском кителе, силуэт которого выгодно подчеркивал тонкую талию и высокую, полную грудь, тут же подошла к подлокотнику генеральского кресла и чуть наклонилась.
— Что-нибудь еще, Семен Кузьмич?
— Не сейчас, — пробормотал Цвигун, погладив стюардессу по плотному девичьему бедру. — Попозже. Умаялся за день…
Однако сон не шел. Взбудораженные событиями предшествующих двух дней и солидной порцией алкоголя мозги упорно сопротивлялись, не желая расслабиться. В голову лезла всякая ерунда, и Цвигун, годами выстраивавший свою жизнь и карьеру по принципу движения дореволюционного курьерского поезда, — строго по расписанию, никаких отклонений от маршрута и точное прибытие на станцию назначения, тревожно заерзал в широком кожаном кресле.
«Эх, Коля, Коля! — тяжело вздохнул про себя Цвигун и на мгновение закрыл тяжелые, воспаленные веки. — Что же мне с тобой делать, друг ситный?..»
Николай Щелоков, на которого, без преувеличения, буквально молилась вся советская милиция, — неизменно подтянутый, моложавый, умный, не по должности современный, в числе первых осмелившийся разъезжать по Москве на сверкающем черном «мерседесе» и сумевший, благодаря своим колоссальным связям в высших эшелонах власти, поднять авторитет МВД СССР на совершенно недосягаемый уровень, был не просто близким другом первого заместителя председателя Комитета госбезопасности генерала Семена Цвигуна. Это была настоящая палочка- выручалочка в очень многих щепетильных вопросах, которыми Цвигун по целому ряду причин заниматься не мог и не хотел. Через Щелокова распределялись на самый «верх» валюта, коллекционные драгоценности, иконы, антиквариат, дефицитная аппаратура, модная одежда… Система этого уникального распределения ценностей, поступавших от «теневиков», безотказно действовала на протяжении нескольких лет и устраивала всех членов и кандидатов в члены Политбюро, которые получали их либо бесплатно, либо по смехотворно низким ценам. В свое время Цвигун тщательно продумал и разработал эту систему. И он же, понимая, что необходим человек, который возьмет на себя ее стабильную реализацию, протолкнул Николая Щелокова в кресло министра внутренних дел СССР. И вскоре он убедился, что сделал прекрасный выбор.
Имея под рукой такого блестящего исполнителя, Цвигун, как опытный лоцман в капризном и непредсказуемом море человеческих страстей и пороков, легко и непринужденно маневрировал между влиятельными министрами и партийными лидерами, председателями госкомитетов и профсоюзными боссами, становясь для них постепенно не просто своим человеком, а благодетелем. При этом Цвигун никогда не забывал вовремя проинформировать Брежнева, обожавшего пикантные подробности о своих подчиненных. Коротая за бутылкой «Посольской» вечера на даче в обществе Семена Цвигуна, бровастый хозяин огромной страны мог часами слушать не без юмора рассказываемые постоянным собутыльником истории, каким образом, к примеру, перекочевал столовый кузнецовский сервиз на сорок восемь персон из конфискованных при обыске у какого-нибудь крупного фарцовщика в «горку» мадам Кириленко, как попала коллекция старинного оружия на настенный ковер страстного поклонника раритетов Дмитрия Федоровича Устинова, или как не хотел выкладывать символические 800 рублей за новенькие «Жигули» для своей восемнадцатилетней любовницы первый секретарь МГК Гришин, доказывая обалдевшему бухгалтеру, что заслужил право получить машину бесплатно…
Долгое время система работала безупречно. Цвигун был доволен: постепенно, метр за метром отвоевывая для себя лично вожделенное пространство безграничной власти, он становился при Брежневе «серым кардиналом».
Первую брешь в этой налаженной системе пробил Юрий Андропов. В самом начале новый председатель КГБ СССР добился принципиально важного изменения в существующих правилах, в соответствии с которыми следствием по валютным операциям и спекуляциям в особо крупных размерах стали заниматься только органы госбезопасности. Сразу же сообразив, насколько опасны для него юридические акции нового председателя КГБ СССР, Цвигун принял решение очень осторожно, не форсируя событий, ввести Андропова в узкий круг КВП — «Клуба высоких потребителей». В декабре 1967 года, когда отмечалось пятидесятилетие органов госбезопасности, он сделал, в общем-то, довольно невинный жест — послал на дом Андропову ящик марочного коньяка, который бесперебойно получал из Азербайджана, где в свое время возглавлял республиканский Комитет госбезопасности, а впоследствии, после того как Брежнев отозвал его в Москву, лично порекомендовал генсеку назначить на пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева, работавшего в шестидесятые годы в КГБ первым заместителем Цвигуна.
Это был классический «пробный шар». Интуитивно Цвигун чувствовал, что Юрий Андропов — малоподходящая кандидатура для членства в КВП, что этот человек разительно отличается от большинства постояльцев «кремлевской кормушки». И все же, не терял надежду. Посланца с коньяком встретила жена Андропова, Татьяна Филипповна. Выслушав поздравления с праздником и оглядев «подарок», она показала пальцем на ящик, затейливо перевязанный голубыми лентами, и сказала:
— Передайте, пожалуйста, Семену Кузьмичу, что у Юрия Владимировича не будет возможности воспользоваться этим коньяком. Так что, везите вы, любезный, этот ящик обратно…
И тогда Цвигун понял, что нажил себе, наверное, самого опасного врага. Как опытный кремлевский интриган, он не стал дожидаться, когда его собьют с ног и попытался ударить первым. Однако все попытки Цвигуна нейтрализовать растущее влияние своего непосредственного начальника, так ничего ему и не дали. Леонид Брежнев, единственный человек, от которого все зависело и с которым Цвигун мог решить практически любой вопрос, неизменно отказывался обсуждать в приватных беседах за компанейским столом поступки нового председателя КГБ. «Да ты пойми, Сеня, — увещевал Брежнев своим дребезжащим басом, подливая в рюмку Цвигуна свою излюбленную «Посольскую». — У него на рыле даже пушинки нет, понимаешь?! Мало того, что мужик крепкий и умный, он еще и личность, какие за нашим столом не водятся. Наград не просит, денег не ворует, баб за жопу не хватает… Короче, человек — не чета нам. Работа — дом — работа. Ты лучше, Сеня, подружись с ним. Ну, постарайся, ты же это умеешь!..»
А Андропов, тем временем, даже не скрывал, что не доверяет своему первому заместителю и мирился с его присутствием под одной крышей, как с некоей неизбежностью, прихотью Генерального секретаря ЦК КПСС, с которой он не мог не считаться. Но все в центральном аппарате КГБ понимали, что это ненадолго…
Цвигун был уверен, что «дело Синельникова», из-за которого он и вылетел в Челябинск, своим острием было направлено против него лично. В конце семьдесят седьмого года на стол Андропова легла секретная докладная записка, из которой следовало, что некий Виктор Синельников, житель Челябинской области, наладил скупку бесценных старинных икон и их продажу за границу. Синельников ворочал колоссальными средствами, действовал масштабно, не особенно маскируясь, и, естественно, попал в фокус внимания милиции. Что-то там не состыковалось, и челябинские оперативники, имея только косвенные доказательства, получили у прокурора области ордер на обыск. Изъятое на даче Синельникова потрясло даже видавших виды специалистов. На Урал срочно вылетел из Москвы следователь по особо важным делам МВД СССР, который на месте тщательно изучил иконы, произвел опись, отобрал наиболее ценные из них, преимущественно XV–XVI век, и улетел в Москву. И тогда кто-то из довольно высоких челябинских милицейских чинов, заподозрив труднообъяснимую заинтересованность в действиях столичного «важняка», отправил с нарочным донесение на Лубянку, к которому были приложены материалы следствия и копия протокола об изъятии.
Так это сугубо «милицейское» дело попало на рабочий стол председателя КГБ СССР.
Когда Цвигун по своим каналам выяснил, в какую опасную сторону развернулись события, вмешиваться было уже поздно да и опасно: к тому времени по личному распоряжению Андропова на квартире у «важняка» был произведен капитальный обыск и изъяты ценнейшие иконы. По сути дела, следователи с площади Дзержинского явно превысили свои служебные полномочия, произведя без санкции прокурора, на свой страх и риск, обыск у следователя по особо важным делам МВД СССР. Но победителей, как известно, не судят: когда «важняка» с Огарева, б основательно прижали фактами, он дал развернутые показания, заявив, в частности, что большая часть конфискованных при обыске икон предназначалась для… министра МВД Николая Щелокова. Андропов, не желая рисковать ценным свидетелем, распорядился содержать подследственного во внутренней тюрьме КГБ, чем практически исключил угрозу «несчастного случая», на который был обречен этот человек, едва только раскрыл свой рот.
Таким образом, на карту была поставлена не только служебная карьера, речь уже шла о свободе, а, возможно, и о жизни Николая Щелокова. Цвигун прекрасно понимал, чем чреват арест и следствие по делу шефа МВД СССР, а потому под предлогом выяснения причин активизации диссидентского движения на Урале, срочно вылетел в Челябинск, где на самом деле занимался только одной проблемой — выявлением имени человека в руководстве областного МВД, который и накатал «телегу» Андропову.
…Когда генерал Цвигун, подняв от пронизывающего, холодного ветра воротник тяжелого драпового пальто, чуть пригнувшись, вышел на шаткую дюралевую платформу трапа, в двадцати метрах от самолета стояла черная «Волга» с московскими номерами. Фары «Волги» были погашены, но мотор, судя по белому дымку из выхлопной трубы, работал. Крепко держась за поручни трапа и аккуратно переставляя ноги по шатким ступеням, Цвигун, не оборачиваясь, махнул экипажу самолета рукой и, приблизившись к «Волге», сел рядом с водителем — еще сравнительно молодым, худощавым человеком в канадской дубленке и кепке из грубого букле, надвинутой почти на глаза. Постороннему человеку было бы очень трудно узнать в водителе министра внутренних дел Николая Щелокова.
— Все в порядке?
— Трогай, — Цвигун махнул рукой и расстегнул пальто.
Машина плавно взяла с места и через несколько секунд исчезла с летного поля правительственного аэропорта «Внуково-2».
— Куда поедем? — негромко спросил Щелоков, когда машина выехала на шоссе.
— Да куда хочешь! — Цвигун поморщился. — Разговор только для машины. Потом высадишь меня где-нибудь на стоянке такси.
— Поздновато уже…
— Ничего. Левака словлю.
— Сеня, ты выяснил, кто там постарался?
— Выяснил… — Цвигун с некоторым усилием полуобернулся к Щелокову. — У тебя выпить есть что-нибудь?
— Посмотри в бардачке.
Цвигун щелкнул задвижкой, не глядя, пошуровал в бардачке правой рукой и вытянул плоскую металлическую флягу с нарезной крышкой.
— Водка?
— Коньяк, — не отрываясь от почти неосвещенной ленты шоссе, ответил Щелоков.
— Французский? — сморщился Цвигун.
— Армянский. «Ахтамар». Сойдет?
— Куда же денешься!
Отвинтив крышку, Цвигун основательно присосался к горлышку. Вылив в себя все содержимое фляги, Цвигун с сожалением потряс ее и вытер губы тыльной стороной ладони.
— Так кто же этот иуда? — тихо спросил Щелоков.
— Прохоров. Замначальника горотдела милиции. Знаком?
— Знаком. Ты с ним разговаривал, Сеня?
— Еще чего?! Обычный мент, майор… Да и зачем?
— Как ты докопался?
— Добрые люди помогли.
— Ты уверен, что это именно Прохоров?
— Уверен, Коля.
— Ладно… — Щелоков оттер левой рукой в замшевой перчатке запотевшее лобовое стекло. — Завтра же решу этот вопрос…
— Только не в Челябинске, Коля, — пробурчал Цвигун. — И не завтра. Пусть его в ближайшие два-три дня в командировку отправят. Куда-нибудь на восток, подальше. И чтобы все было чисто, на этом твоем Прохорове глаз нехороший лежит. Небось знаешь чей…
— Хорошо, — кивнул Щелоков. — Это все?
— Если бы! — Цвигун засопел. — Остался этот придурок гороховый, Соколовский.
— Достать его никак нельзя?
— Тебя что, Коля, самого в нашу тюрягу посадить, чтобы идиотских вопросов не задавал?! — неожиданно взъярился Цвигун.
— Следствие уже закончено? — не реагируя на генеральский взрыв, спросил Щелоков.
— Ты же понимаешь, что меня шибко не информируют, — проворчал Цвигун. — Но, судя по всему, вот-вот завершат.
— Кто занимается?
— Целая группа следователей. Старший — подполковник Шумов из Пятого главного управления.
— Подобраться к нему нельзя никак?
— Чистые руки, холодная голова, горячее сердце, — буркнул Цвигун. — Одним словом, остолоп. Да и кадр андроповский. Этот не продаст. Умеет эта сволочь очкастая с людьми работать, ничего не скажешь!
— Что же делать, Сеня? — Щелоков, заметив в нескольких километрах впереди пост ГАИ, снизил скорость до восьмидесяти и, несмотря на то, что шоссе было совершенно пустынным, — лишь в нескольких километрах позади маячила какая-та легковушка — перестроился в правый ряд. — Ждать, пока они все раскопают и придут за мной?
— Ты можешь ориентировочно сказать, на какую примерно сумму тянут эти засратые иконы, которые он для тебя отложил?
— Не только для меня, Сеня! — вкрадчиво поправил Щелоков. — Одна предназначалась Галочке Брежневой, еще одну — XIV век, кстати, это тебе, Сенечка, не хрен собачий! — очень просил для себя Андрей Павлович Кириленко. Продолжать список заказчиков, или хватит?..
— Коля, не гоношись! — Цвигун поморщился. — Так сколько?
— Им цены нет! — процедил Щелоков сквозь зубы.
— Два миллиона долларов? Три?..
— Сто тридцать три! — рявкнул Щелоков, теряя терпение. — Говорю же, цены им нет! Ты, Семен, вообще, кроме как в водке и коньяке, в чем-нибудь еще разбираешься? — окрысился Щелоков.
— Ага! — Цвигун добродушно кивнул. — В УПК РСФСР. Ущерб государству на сумму выше, чем полмиллиона рублей — заметь, Коленька, не долларов! — и вышак гарантирован. Правда, в последний момент могут изменить на пятнадцать в крытке…
— Ты, Сеня, или не допил, или не доспал! — хмуро бросил Щелоков и покосился на боковое зеркальце. — Видишь «Жигуль» за нами?
— Ну?
— Он с аэропорта в хвосте держится. Может, твой?
— Мои все дома, Коля.
— Ладно, — вздохнул Щелоков и потянул на себя переговорное устройство на витом черном шнуре. — Центральная диспетчерская. Говорит первый…
— Слушаю, первый, — прохрипел сквозь свист атмосферных помех голос в мембране.
— Дмитровское шоссе. С квадрата семнадцать. Перекрыть немедленно! Фронтальная проверка документов у водителей всех проезжающих машин. Выполняйте. У меня все…
— Его надо валить, — хрипло произнес Цвигун. — Пока он всех нас не похоронил…
— Уже второй десяток лет пошел, как ты, Сеня, никак сподобиться не можешь. Не по зубам тебе товарищ Андропов…
— Ты понимаешь, что стоит только закончиться следствию, и он пойдет к хозяину?
— Ты лучше скажи, как сделать, чтобы этого не случилось?
— Есть у меня одна зацепка. Причем довольно серьезная, начальник мой за нее головой поплатиться может. Но надо ждать…
— Сколько?
— А хрен его знает! — Цвигун оглушительно чихнул три раза подряд и утерся платком. — Может быть, сутки, а может и пару недель.
— Опередить его никак нельзя?
— Всю дорогу об этом думаю…
— А что, если?.. — Впервые за весь разговор Щелоков оторвался от дороги и выразительно посмотрел на Цвигуна.
— Ты это серьезно? — удивление Цвигуна было неподдельным.
— Предложи что-нибудь- взамен, Сеня.
— Кто это сделает? Каким образом?
— Это ты мне скажи, Сеня! Мои клиенты — люди хоть и отчаянные, но меченные, их и на пушечный выстрел к охраняемым объектам не подпустят. Не стану же я постового милиционера или следователя с Петровки к теракту готовить… А у вас там, на Лубянке — нелегалы всякие, целые отделы, укомплектованные профессиональными мочилами, секретные базы, недовольные какие-нибудь обязательно есть… Или я не прав, Семен Кузьмич?
— В своей конторе я на правах сторожа со свистком, но без оружия и отвечающего только за будку, в которой сижу, — наливаясь злобой, медленно ответил Цвигун. — Ты что же думаешь, Коленька: Андропов не понимает, что самая сокровенная моя мечта — увидеть его в Колонном зале со сложенными на груди руками и с венком от Политбюро в ногах? Еще как понимает, мерзавец очкастый! А потому держит он меня на почтительном расстоянии от любого человека, любого объекта, любой вещи, которая, по мнению председателя, может представлять ценность для меня лично. Пока он жив, на Лубянке я вне игры, Коля!..
— Подумай как следует, Семен Кузьмич… — Голос Щелокова был мягким и вкрадчивым^ словно он уговаривал первого заместителя председателя КГБ СССР не разводиться с женой. — В Ленина стреляли свои, тебе это известно. Несколько покушений на Сталина были также организованы людьми с Лубянки. В конце концов, Берия его добил. На Хрущева покушались, на Брежнева, насколько мне известно, тоже… Неужели твой председатель настолько неуязвим, что ты даже слушать об этом не хочешь? Ну, подумай как следует, Сеня! Какой-нибудь оперативник из провинциального управления КГБ, недовольный тем, что его обошли с очередным званием. Или не дали квартиру, вследствие чего его бросила любимая женщина или неизлечимо заболел единственный ребенок… Варианты всегда есть, Сеня, надо только найти их и действовать!..
— Даже если ты и прав, Коля, подобные вещи требуют основательной подготовки, — устало отмахнулся Цвигун. — А это время, уважаемый товарищ министр внутренних дел. Время, которого у нас нет! Вот ведь в чем проблема, дорогой ты мой.
— Значит, решения нет?
— Пока нет! — Цвигун неведомо кому погрозил толстым указательным пальцем с обгрызенным ногтем. — Пока! У меня ведь тоже есть кое-что против него. И факты, и документики любопытные, и свидетели осведомленные имеются. Но это, Коля, как в дурака играть — нет смысла разбрасывать козыри, пока колода еще на столе, пока карты еще разбирают, в надежде хоть что-то прикупить. Только в самом конце, только под последний звоночек…
— Кого ты успокаиваешь, Сеня: меня или себя? — тихо спросил Щелоков.
— Нас обоих! — Цвигун упрямо мотнул крупной головой. — И не успокаиваю, а пытаюсь настроить. Мы с тобой, Коля, давно в одной упряжке. Ты знаешь: друзей в беде я не бросаю. Особенно таких, от которых сам завишу. Так что, не дергайся, друг: что-нибудь я все равно придумаю, отобьемся. Не бывает так, чтобы хоть в чем- то не подфартило. В конце концов, хозяин наш еще жив, а глаза его завидующие бельмами пока не покрылись…
— Если Андропов положит ему на стол материалы следствия, он нас сдаст за милую душу, Семен!
— Не обязательно. Может быть, и не сдаст. А если даже решит, все равно, сделает это не сразу. Может быть, подумает, что нас лучше вообще убрать.
— Ну и что в этом хорошего?
— Ну, тебя-то, Коля, так просто не уберешь! На Огарева ты как в крепости, там одних стволов побольше чем в Кантемировской дивизии. И менты твои тупые, пока допетрят, что министр их жулик, твой уже след простынет. Да и я для них тоже не подарок, с елки в руки так просто не упаду. Стало быть, какое-то время для отходов у нас обязательно будет…
— О каких отходах ты толкуешь, Семен Кузьмич?
— Ох, не лукавь ты со мной, Коленька! А то я не знаю, что на турецкой границе у тебя коридорчик надежный заготовлен! А на румынской даже прогулочный катерок на приколе стоит. Круглосуточно. На всякий случай. Скажи, товарищ Щелоков, а в Швейцарии есть хоть один банк, в котором у тебя не открыт секретный счет? И правильно: такую прорву валюты — и на один счет! Это же курам на смех!..
— Так и ты, Семен Кузьмич, насколько мне известно, тоже не сидел сложа руки, — саркастически улыбнулся Щелоков, совершенно не удивленный потрясающей осведомленностью первого зампреда КГБ СССР.
— Что же я, тебя глупее, что ли? — Цвигун с хрустом потянулся и широко зевнул. — Так что, думай, Коля, пораскинь мозгами, может и у тебя возникнет стоящая идея. Возле Новослободской тормозни — я выйду…
11. ВАШИНГТОН. ЧАСТНЫЙ ДОМ В ПРИГОРОДЕ
Февраль 1978 года
…Когда мы вышли из машины — вначале Стеймацки, а вслед за ним я, уже основательно стемнело. А потому разглядеть толком место, куда привезла меня эта отделанная серебром черная яхта на резиновом ходу, было очень трудно. В непосредственной близости просматривался лишь небольшой внутренний дворик за железной оградой, упиравшийся в глухую кирпичную стену приземистого двухэтажного дома, увитую облысевшим плющом. Располагая единственной информацией, которую выдавил из себя не очень-то щедрый на откровения Лука Стеймацки, я знала только, что нахожусь в Вашингтоне. Хотя, имея уже достаточный опыт общения с профессиональными шпионами, я допускала, что это запросто мог быть не Вашингтон, а какой-нибудь другой город.
Или не город вообще.
— Пройдете чуть вперед, — тихо и как-то вкрадчиво сообщил мне за спиной этот без пяти минут пенсионер, — затем свернете направо и сразу же увидите дверь. Можете не звонить — она открыта. Good luck, мисс Мальцева!..
— А что, нельзя было подвести меня прямо к двери? — огрызнулась я, не оборачиваясь, через плечо. — Или там, за утлом, огонь по сотрудникам ЦРУ открывают без предупреждения?
— Прямой путь не всегда самый верный.
— Где-то я уже нечто подобное читала.
— Ваша аномальность, мисс Мальцева, имеет глубокие социальные корни, — вежливо откликнулся Стеймацки.
— В своем Корнельском университете вы занимались советологией?
— Юриспруденцией. Идите же!..
…Дверь действительно была, причем на том самом месте, где и предсказывал мудрый Стеймацки — добротная, деревянная, покрытая благородным лаком, с длинной бойницей узкого стеклянного окошка, врезанного, очевидно, не столько в целях безопасности, сколько из эстетических соображений. Никаких тебе родных советских «глазков» с металлической шторкой изнутри, в которые мои соотечественники молча, затаив дыхание и согнувшись в три погибели, разглядывают непрошенного гостя, а тот, в свою очередь, делает вид, что ни о чем не догадывается и пытается выглядеть максимально респектабельно. Унизительная процедура, рожденная маниакальным недоверием друг к другу!
Однако в доме, куда меня привез Лука Стеймацки, ко мне, судя по полуоткрытой двери, относились с пониманием и даже радушием. Притворив за собой дверь, я огляделась и увидела, что попала в довольно узкий коридорчик, плотно уставленный ящиками для обуви, вешалками и зеркалами в роскошных бронзовых рамах.
— Здесь есть кто-нибудь? — громко спросила я по- французски и на всякий случай остановилась.
— Госпожа Мальцева, вы прекрасно выглядите! — французский Уолша, появившегося в противоположном от меня конце коридора, явно нуждался в более интенсивной практике.
— Моим врагам! — пробормотала я себе под нос по-русски, изображая на лице довольно жалкое подобие благодарной улыбки и направляясь в сторону хозяина.
Он протянул мне сухую и крепкую, как доска, ладонь.
— Добрый вечер, Вэл. — Уолш как-то странно посмотрел на меня и улыбнулся, — Вы позволите мне называть вас так или придумаем что-нибудь другое?
— Мне нравится это имя.
— Валентина звучит грубее, не так ли?
— Валентина постоянно напоминает мне, откуда взялась Вэл…
Он хмыкнул, очень аккуратно взяв меня под локоть, и развернул в сторону огромного холла с неизменным камином и изобилием мягкой мебели. Занимавший целиком угол у широкого зашторенного окна черный рояль, уставленный фотографиями в рамочках и подсвечниками, смотрелся здесь так, словно его внесли по ошибке, перепутав адрес.
— Вы голодны?
— Вы пригласили меня на обед?
— А разве вам этого не сказали?
— А мне должны были об этом сказать? — Я села на огромный диван с высокой спинкой и одернула юбку.
— Но вы же ехали не одна, не так ли?
— А вы этого не знаете?
— Я вот думаю, кто из нас первым скажет предложение без вопросительного знака в конце?
— А вы как думаете?
— Значит, не вы.
— Извините, — пробормотала я, продолжая сражение с подолом юбки.
— Любите равиоли?
— Я не знаю, что это такое.
— Поверите мне на слово, что это очень вкусно?
— Ну, должна же я хоть во что-то верить.
— Вы очень расстроены, да, Вэл?
— Вы правы господин Уолш…
— Генри. В Америке даже к бабушке обращаются по имени и на ты.
— Вы правы, Генри, я очень расстроена. Может быть, отложим пока ваши… равиоли и поговорим об этом?
— Давайте лучше пообедаем, а все дела — потом.
— Тогда, в Буэнос-Айресе, вы решили мою судьбу без обеда.
— Тогда я вас толком не знал.
— Вы хотите сказать, что с кем попало не обедаете?
— На вилле, принадлежащей Центральному разведывательному управлению США?! — Уолш совершенно искренне (так, во всяком случае, мне показалось) пожал плечами. — Никогда!
— Я очень боюсь конспиративных вилл, Генри.
— У вас есть на это причины.
— И не только на это.
— Вы не возражаете, если мы поедим на кухне?
— А нельзя куда-нибудь поехать? В кафе или в ресторан? Я, видите ли, две недели находилась в замкнутом пространстве…
— Увы, пока нельзя. — Уолш чуть нажал на «пока».
— Один вопрос, — я автоматически подняла руку, как когда-то, в школе, — С Юджином все в порядке?
— Абсолютно.
— Я его увижу?
— Конечно увидите.
— Но не сегодня?
— Но не сегодня.
— Значит, то, о чем вы собираетесь со мной поговорить, его касаться не будет?
— Вэл, давайте все-таки вначале пообедаем, — Уолш поднял обе руки, словно сдаваясь. — Вы молоды, умны, в вас сосредоточено огромное количество энергии. А мне, пожилому человеку, необходимо вовремя и качественно питаться, чтобы поспевать за вами.
— А вы хотите за мной поспеть?
— Я должен! — улыбнулся Уолш. — Это же моя работа, Вэл. И я не тороплюсь на пенсию.
— Пенсионерам в Америке мало платят?
— Пенсионерам в Америке не дают работать.
— А обед вы приготовили сами?
— Хороший вопрос! Вы знаете, я очень люблю готовить, — Уолш, который так и не садился, сделал приглашающий жест. Я встала и покорно поплелась за хозяином в другой конец холла. — Но сегодня готовил не я. Мне так хотелось произвести на вас хорошее впечатление, что я пригласил на обед еще одного человека. Когда-то, кстати, именно он учил меня делать равиоли, пиццу, лазанью и прочие прелести настоящей итальянской кухни…
Следуя за Уолшем, я миновала довольно просторную комнату, уставленную компьютерами и книжными полками, и оказалась в ослепительно белой, похожей на операционную, кухне. Единственным разнообразием в этой стерильной цветовой гамме был черный, без скатерти, стол, уставленный приборами и бокалами. В центре горела толстая свеча, накрытая пузатым стеклянным абажуром. А в торце стола, строго напротив двери, сидела белая как лунь — в тон кухне — женщина.
— Познакомься, Паулина, — пророкотал Уолш, — это и есть наша гостья, мисс Валентина Мальцева, о которой я тебе так много рассказал.
Женщина встала, обошла стол и протянула мне руку:
— Здравствуйте, Валя.
— Здравствуйте, — ответила я, чувствуя, что происходит нечто несуразное. Мне понадобилась ровно секунда, чтобы сообразить: женщина разговаривала со мной по-русски.
Мое замешательство было настолько очевидным, что Паулина улыбнулась и положила мне обе руки на плечи:
— Чему вы так удивились? По происхождению я русская. Правда, воспитывалась не в России, но, благодаря родителям, сумела сохранить язык. Как видите, все очень просто. Впрочем, мы еще успеем об этом поговорить…
— Дамы, к столу! — потребовал Уолш. — Или, чтобы заглушить аппетит, я возьмусь за сигару и тогда уж точно испорчу всем прекрасный обед…
Обед прошел в почти ненарушаемой тишине. Все, казалось, были поглощены действительно прекрасно приготовленными блюдами. Я же, чувствуя себя не в своей тарелке, молчала. Мои мысли витали где-то далеко от лазаньи и чудесного легкого вина, которое то и дело подливал мне Уолш. «И за это ты тоже заплатишь, Валентина, — как-то отстраненно, словно меня все эти размышления и вовсе не касались, ворчала я про себя, не очень убедительно ковыряясь в живописном салате. — Мне вынесли очередной оправдательный приговор и теперь будут думать только о том, как использовать меня с максимальной эффективностью. Как это говорил Витяня? Неотработанный ресурс, кажется. Точно! Я — не до конца отработанный ресурс. Все как в пионерском лагере: поели, ребятки? А теперь — все на трудовой десант! Поможем нашим колхозникам собрать богатый урожай и засыпать его в закрома Родины! Юджина нет — он здесь явно лишний. Что они придумали? Что им нужно от меня на этот раз?..»
В ходе этой молчаливой трапезы мне удалось как следует разглядеть Паулину. Определить ее возраст было непросто. Скорее всего, Паулине было лет 65–70. Впрочем, разобраться в этих нюансах могла только женщина. Ее неестественно гладкое, без единой морщины, по-девичьи чистое лицо красноречиво свидетельствовало о том, на что способна пластическая лицевая хирургия в развитой капиталистической стране. Паулина была абсолютно седой, но как раз седина и подчеркивала ее внешнюю моложавость. Эффект был удивительный, я только потом поняла, в чем, собственно, заключен фокус: на фоне белых волос особенно выразительно смотрелись глаза этой женщины — черные, чуть удлиненные к вискам и какие- то пронзительные, проникающие. Паулина источала ощутимую энергию, на нее все время хотелось смотреть, любое слово, реплика, оброненные ею во время нашего обеда, неизменно вызывали внимание.
Совсем некстати вспомнилась моя незабвенная подруга, которая всегда очень остро чувствовала надвигающуюся опасность — какой-то особенный подвид интуиции. Она заранее, еще до того, как вскрывала конверт, точно знала, приятным будет письмо или печальным. Она невзлюбила моего интимного друга-редактора еще когда мы только переживали с ним упоительный период взаимного увлечения, с цветами, спонтанными, незапланированными встречами где попало и без упоминаний времени, когда заканчивается заседание бюро и надо расходиться по домам. Ее резюме было убийственным: «Тебе с ним не просыпаться!» — сказала она как-то. Как в воду смотрела. Только одного не учла моя многоопытная подруга — что ему, бедненькому, теперь уже вообще ни с кем не проснуться…
Я вдруг представила, что моя подруга сидит здесь, за этим столом, и вместе со мной наблюдает за Паулиной, изучает ее, как это могут делать только бабы — въедливо, придирчиво, до оттенка помады на губах, до тональности крема на лице, до крохотной заусеницы на пальце… Я настолько унеслась в прошлое, что увидела свою подругу с убийственной, а от того тоскливой, очевидностью: с погасшей сигаретой, прилипшей к верхней губе, в одной комбинации, раскладывающей на своем колченогом столе один и тот же пасьянс. Я знала ее страшный приговор, ее формулу дурного предчувствия, и всякий раз с какой-то даже дрожью где-то внутри, под грудью, ожидала, что вот сейчас она сплюнет сигарету, смешает замусоленные карты, с элегантной небрежностью поправит бретельку комбинации и скажет: «Всем на фиг с пляжа! Немедленно!!»
Эта и только эта фраза вертелась в моей голове, когда я чувствовала, как пронизывающий взгляд Паулины проникает глубоко внутрь меня: «Эта женщина очень опасна, Валентина. Очень-очень! Всем на фиг с пляжа!..»
Я знала весь этот сценарий загодя. Иногда мне даже казалось, что я уже вполне созрела для того, чтобы писать их самой, без многоопытных консультантов в смокингах и телогрейках, с вечными перьями и автоматическими пистолетами. Много тепла, участия и внимания, никаких нажимов на психику, плавный переход из одного состояния в другое. А в самом конце — задача. Формулировка. Цель. Хороший сценарий предусматривает отсутствие альтернатив у объекта. Обращенная к арестанту фраза начальника тюрьмы, гремящего связкой ключей: «А куда ж ты, мать твою, денешься?!» — полностью отражает эту ситуацию.
Деваться, действительно, некуда!
— …Согласитесь, что Паулина — великий кулинар, — заявил Уолш, раскуривая сигару.
К этому моменту мы уже сидели в холле и перед каждым стояла чашка крепчайшего «Капуччино».
— Генри, вам известен ключевой вопрос, неизменно ставящийся на всех партийных собраниях в Советском Союзе? — спросила я, без разрешения вытягивая из валявшейся на журнальном столике пачки сигарету.
— Любопытно.
— Председатель собрания спрашивает: «Голосовать будем поименно или списком?» Поскольку все заранее знают, кто и почему должен быть избран, а собрания обычно затягиваются на несколько часов, то неизменно кричат с мест: «Списком!» Люди неизменно хотели пораньше вернуться домой…
— Вы переоцениваете мой французский, Вэл, — Уолш улыбнулся и аккуратно стряхнул толстый столбик сигарного пепла в изящное блюдце, которое использовалось явно не по назначению. — Определенно, вы что-то имеете в виду, но я, к сожалению, не понял…
— Я предлагаю, Генри, не тратить время на обсуждение персоналий и сразу голосовать списком. То есть переходить непосредственно к делу.
Уолш очень коротко, буквально на долю секунды, вопросительно взглянул на Паулину и получил такой же мимолетный кивок. Но я уже была в том состоянии, которое мои друзья-актеры по привычке называют «сучьим мясом», и потому все замечала. Эта седая женщина нравилась мне все меньше и меньше.
— Хорошо, Вэл, — кивнул Уолш и загасил сигару. — Перейдем к делу. Прежде всего, я хочу ввести вас в курс событий, происшедших на вашей родине в то время, пока вы, покорительница сердец офицеров американской внешней разведки, отсиживались в отеле…
Мне до свербящей боли в незалеченном коренном зубе хотелось вставить в тираду юджиновского начальника пару замечаний уточняющего характера, но я заставила себя промолчать, понимая, что мне предоставляется уникальная возможность — присутствовать при чтении Книги судеб, причем на той самой странице, где значится моя скромная фамилия.
— Итак, мы располагаем исчерпывающими агентурными данными, что ваше отсутствие на родине, Вэл, незамеченным не прошло. Мало того, вас разыскивают именно здесь, в Штатах, и, думаю, рано или поздно все равно найдут, если мы не предпримем что-то конкретное… У вас, Вэл, как мне это представляется, есть на выбор два варианта и одно наше предложение. Первый вариант — воспользоваться, так называемой, восьмой государственной программой, получить новое имя, новые документы и, учитывая специфику вашего случая, новое лицо, чтобы начать, соответственно, новую жизнь. Правда, не в Штатах, а в какой-нибудь стране Центральной или Латинской Америки. Риск оказаться в итоге обнаруженной, конечно, существует, но он — поверьте моему опыту — весьма незначителен. Учтите, Вэл, — Уолш поднял указательный палец, призывая меня к вниманию, — право пользования восьмой программой предоставляется правительством США в очень редких случаях и, как правило, только тем людям, чья конкретная помощь Соединенным Штатам была в одинаковой степени полезной и сопряженной с риском для собственной жизни.
Я молча кивнула.
— Второй вариант, — невозмутимо, словно речь шла не о моей жизни, а выборе подходящего места для рыбалки, продолжал Уолш, — это ваше добровольное желание вернуться в Москву. В таком случае, мы, как говорится, умываем руки. Вам, Вэл, будет предоставлена возможность вылететь на родину и в одиночку решать свои проблемы. По мнению наших экспертов, даже при большом желании вы не сможете нанести ущерб интересам национальной безопасности США, так что второй вариант — не тактическая уловка, а вполне честное предложение, которым вы, по своему усмотрению, можете либо воспользоваться, либо пренебречь…
— Я верю в вашу искренность, Генри, — тихо сказала я. — Но вы же прекрасно понимаете, что оба варианта совершенно неприемлемы. Мне нравится мое лицо и совсем не хочется его менять. Равно как и собственную жизнь, которая, за исключением четырех последних месяцев, вполне меня устраивала…
— Есть еще и предложение, — напомнил Уолш.
— Я слушаю вас.
— Как бы вы отнеслись к решению, которое, с одной стороны, позволило бы вам вернуться домой, а с другой — гарантировало бы относительную безопасность?
— А теперь, Генри, мне кажется, что вы переоцениваете мой французский язык, — стараясь унять дрожь в голосе, сказала я. — Что вы имеете в виду под словами «относительная безопасность»?
— Элемент риска.
— Значит, мне вновь предстоит рисковать?
— Увы.
— И чем?
— Ничего нового, Вэл, — головой.
— Вы в этом заинтересованы?
— Вы имеете в виду свою голову?
— Нет, ваше предложение.
— Естественно, заинтересован.
— Вы хотите решить свои проблемы и одновременно как-то помочь мне?
— Несколько расплывчато, но в принципе верно. Такова идея.
— Я ведь не ваша родственница, ведь так, Генри? И даже не гражданка США. Почему я должна верить в то, что вы действительно заинтересованы в решении МОИХ проблем. Даже в комплексе с вашими?
— А я и не говорил, что вы должны верить, — Уолш пожал плечами. — Я просто думаю, что у вас нет иного выхода, кроме как верить нам.
— Что мне нужно будет сделать?
— Я не могу этого сказать, Вэл, до тех пор, пока не получу от вас, во-первых, согласие на словах, а, во-вторых, вашу собственноручную подпись под одним документом.
— И эта подпись будет означать мое согласие работать на ЦРУ?
— Да.
— А что я выигрываю? — Я неожиданно почувствовала, что кончики пальцев на руках и ногах стали ледяными. — По советским законам за шпионаж в пользу иностранного государства полагается расстрел…
— Или 15 лет тюрьмы, — впервые встряла в разговор Паулина.
— Выбор, конечно, широкий, — огрызнулась я, но при такой альтернативе, я предпочитаю первое.
— Наш разговор носит предварительный характер, — Уолш тяжело приподнялся и отряхнул пепел с мешковатых серых брюк. — Вы же, Вэл, задаете вполне конкретные вопросы. Чтобы мы не зашли в тупик, я предлагаю вам такую концепцию нашего возможного союза: вы выполняете для нас определенную работу. В том случае, если эта работа завершится успешно, вы полностью освобождаетесь от каких-либо обязательств по отношению к… фирме, которую я в данный момент представляю. Мало того, я предоставлю вам такие убедительные гарантии только что сказанного, что вы мне поверите. Работа, о которой я говорю, имеет важное значение не только для нас: в случае — опять-таки вынужден это повторить — если вы ее выполните, у вас появится прекрасная возможность вернуться к своей нормальной жизни и работе при полном понимании и согласии ваших соотечественников. То есть перечеркнуть всю эту действительно затянувшуюся историю.
— Словом, и рыбку съесть, и на х… не сесть, — пробормотала я под нос по-русски. — А так вообще бывает, Генри?
— Если честно, то нет, — хмыкнул Уолш. — Но я уже говорил вам, Вэл: вы — очень везучая женщина.
— Вы это серьезно, Генри?
— Как в церкви, на воскресной службе.
— Ответьте мне на один вопрос, Генри, — подумав несколько секунд, попросила я. — Только честно. Или не отвечайте вовсе.
— Попробую.
— Вы ведь не сомневаетесь в том, что я соглашусь на ваше предложение?
— Вы правы, Вэл, — впервые за весь разговор Уолш посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд был властный, но не жесткий. Так обычно смотрят экзаменаторы на способного, но очень ленивого студента. — Я действительно не сомневаюсь, что вы согласитесь.
— И даже скажите мне, почему не сомневаетесь?
— Разреши мне, Генри, — голос Паулины прозвучал очень сухо и решительно. — И извини меня Бога ради, дружок, я скажу ей это по-русски, не возражаешь?
— Учти, что я знаю все ругательства на этом языке, — улыбнулся Уолш.
— Послушай меня внимательно, Валентина, — седая женщина без возраста бережно поправила упавшую на высокий лоб прядь волос и поджала губы. — Я работаю в ЦРУ много-много лет. Во всяком случае, тебя еще не было в природе, когда коллеги, признав меня своей, перестали замечать во мне женщину. По негласным законам Лэнгли это высшее признание профессионализма. Я психолог по образованию и образу жизни и занимаюсь исключительно этим и ничем иным. Ни разу в жизни я не держала пистолет, если на моих руках и было пятнышко крови, то только как следствие неумелых действий маникюрши. Я знаю о тебе практически все. Если ты согласишься, готовить тебя к выполнению этого задания буду только я, и никто другой. Я знаю, о чем идет речь и потому говорю тебе: если ты действительно хочешь вернуться домой, в Москву, и сохранить ту жизнь, которой жила до соприкосновения с Лубянкой, то соглашайся. Ибо это единственный, скажу даже больше, — уникальный шанс. Если же ты не уверена, что действительно хочешь вернуться, если ты чувствуешь, что твои нервы, твое психологическое состояние не выдержат, тогда откажись немедленно, прямо сейчас! Ибо ты рискуешь не просто головой, тебя могут выпотрошить так, что придется пожалеть о дне своего появления на свет. И еще одно, Валентина. Каким бы ни было твое решение, оно в любом случае отразится еще на одном человеке. Ты знаешь, о ком я говорю. В настоящее время его служебное положение блестящим не назовешь. Его уже вывели за рамки сколько-нибудь важных дел. Надеюсь, ты понимаешь почему. Ни один человек, ни в одной разведке мира, не имеет право на поступки, которые себе позволил он. Я не спорю: он — личность, он — мужчина, и как настоящий мужчина никогда тебя не бросит. Ты не можешь воспользоваться первым вариантом, он лишен смысла: зачем собственными ногами направляться к креслу первого класса, чтобы лететь в тюрьму или к стенке? Если ты пойдешь по восьмой программе, то, не сомневаюсь ни на секунду: он немедленно подаст в отставку и будет с тобой столько, сколько ты сможешь это вынести. Но поверь моему опыту, Валя: ни один мужчина, лишенный своего ДЕЛА, еще не принес счастья ни одной женщине на свете. Даже такой сильной и мужественной, как ты, девочка…
— Я это знаю…
— Тогда помоги и себе, и ему.
— Как?
— Это решать тебе, — Паулина откинулась в высоком кресле. — Я сказала вполне достаточно.
— Значит, если я соглашусь на ваше предложение, то…
— Это работа, Валя, — она говорила очень внятно, как гипнотизер на сеансе. — Твоя работа. И как бы ему ни хотелось, нарушить правила он не сможет. Он профессиональный офицер разведки. Один из лучших, кстати. А вся эта история превратила его в комок непредсказуемых поступков. Ты уедешь в один конец света, он — в другой…
— Я его люблю, Паулина, — так же внятно, почти по слогам, напомнила я своей седой собеседнице.
— Есть и другая жизнь, — Паулина прочертила в воздухе замысловатую фигуру.
— Я не верю в реинкарнацию, — буркнула я.
— Такими глупостями в ЦРУ не занимаются, — впервые улыбнулась Паулина. — Все может сложиться так, что тебе повезет, Валя. И тогда ты — человек свободный, ни от кого не зависящий…
— И вы верите, что такое возможно?
— А почему нет? — Паулина развела руками. — Если бы я прочла твою историю без последней страницы, то без тени колебания поставила все свои деньги и акции — а я очень скупа и осторожна, Валя! — на то, что ее главная героиня давно уже на небесах. Но ты ведь жива, Валентина! Мало того, у тебя даже хватает ума говорить не о том, как бы спасти собственную шкуру, а о любви…
— Ум здесь как раз-таки ни при чем, — пробормотала я.
— Ты веришь в судьбу?
— Как и всякая женщина.
— Тогда выбирай…
Сразу же после того как Уолш в общих чертах объяснил мне суть дела, я знала, что соглашусь. И они, конечно же, тоже это знали. А слушала, разговаривала, спорила только потому, что бездумно и наивно оттягивала самый неприятный момент — оглашение реальной цены, в которую мне обойдется очередной бесплатный завтрак.
— Мы закончили, Генри, — проворковала по-английски Паулина.
— Отлично! — Уолш, который так и простоял все время, пока Паулина меня обрабатывала, опустился в кресло и вытащил новую сигару. — Я слушаю вас, Вэл.
Странно, но в тот момент я почему-то не могла выдавить из себя два слова: «Я согласна». Что-то мне мешало. То ли врожденное чувство противоречия, то ли тривиальный страх. Ужасные одиннадцать дней, проведенные в отеле «Мэриотт», вдруг показались мне безмятежным, ласковым сном, который оборвется в самом неподходящем месте, стоит мне только произнести два этих проклятых слова.
— Вас что-то смущает, Вэл? — негромко поинтересовался Уолш.
— Напоминает лотерею. Выиграю — приобрету страшную головную боль, проиграю — и никогда уже не узнаю, что это такое. Все так просто: нет головы — нет боли…
— Думаю, вы несколько преувеличиваете, — заметил Уолш.
— Два условия, прежде чем я соглашусь… — Я тряхнула головой, отгоняя сладостное видение широкой кровати в отеле, на которой я провела, как только что выяснилось, самые безмятежные одиннадцать дней за последние четыре месяца. — Я заранее отказываюсь, если мне придется кого-нибудь убить или, помимо своей воли, лечь с кем-нибудь в постель. Это исключено.
— Принимается, — кивнул Уолш, — Еще что-нибудь?
— Это все.
Уолш встал, сделал несколько шагов к камину, взял с полки лист бумаги, вернулся к журнальному столику и аккуратно положил его передо мной:
— Вам надо подписать это, Вэл.
— Помнится, тогда, в Буэнос-Айресе, я уже подписывала одну бумагу, — проворчала я, вчитываясь в текст, составленный по-русски. — Вы еще большие бюрократы, чем русские.
— Вы льстите американцам, Вэл, — улыбнулся Уолш. — В бюрократизме и в балете с русскими конкурировать совершенно бессмысленно. Вы прочли?
— Да.
— Стало быть, отвечать на вашу критику уже не стоит, так?
— Д-Да.
— Вы уловили разницу в документе, который подписали несколько месяцев назад, и той бумагой, под которой вам нужно будет подписаться сейчас?
— К сожалению, да.
— Ни один человек, — Уолш предостерегающе воздел указательный палец, — повторяю, ни один человек на свете не должен знать, что вы не то что подписывали — видели такой документ! Вы обратили внимание на верхнюю строчку?
— Да, Генри.
— Повторите вслух, что там написано, — приказал Уолш.
— «Составлено в одном экземпляре. Имеет силу только оригинал, — глухо прочитала я. — Копии недействительны».
— Надеюсь, вы догадались, чья подпись стоит под этим документом?
— Да. Подпись вашего президента.
— Верно, — Уолш выглядел в этот момент очень торжественно, словно собирался вручить мне орден. — Самая обычная логика может подсказать вам, Вэл, что никогда, ни в какой инстанции, такой документ не может быть использован против вас. Слишком много значит первая подпись. Следовательно, как только вы завершите свое дело, эта бумага будет немедленно уничтожена. Без следа! Соединенные Штаты Америки не имеют никаких претензий к Валентине Мальцевой, а Валентина Мальцева, в свою очередь, не имеет никаких претензий к Соединенным Штатам Америки.
— Вам не кажется, Генри, что, подписывая подобные документы, я становлюсь слишком важной персоной, чтобы жить потом как нормальный человек?
— Кроме президента, эту бумагу читали директор ЦРУ, Паулина, которая будет работать с вами, и я, непосредственно отвечающий за эту операцию. Стало быть, до тех пор, пока вы не начнете болтать на каждом углу о своих знакомых и характере занятий в период с февраля по март 1978 года, вам угрожают только обычные человеческие напасти. Насморк, например.
— А теперь объясните мне, господин Уолш, что я должна сделать на сей раз? Стать личным референтом Суслова? Эмигрировать в Израиль? Выкрасть Луиса Корвалана? Сорвать московские Олимпийские игры?
— У вас будет очень сложное и крайне опасное задание…
Я напряглась.
— Вам, Вэл, надо будет обязательно встретиться и поговорить по душам с вашим крестным отцом.
— Я не крещенная, Генри.
— Не скромничайте, красавица, — губы Уолша плотно сжались, он был совершенно серьезен. — Вы прошли этот ритуальный обряд в сентябре 1977 года в известном вам здании на площади Дзержинского в городе Москве. И крестил вас человек по имени Юрий Владимирович Андропов…
И я с ужасом почувствовала, как медленно, а со стороны должно быть очень смешно, отвисает моя челюсть. Я хотела подпереть подбородок ладонью, но руки, ставшие враз тяжелыми, как бетонные блоки, уже не подчинялись приказам головного мозга…
12. МОСКВА — БУДАПЕШТ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО-II
Март 1978 года
— Честно говоря, Юрий Владимирович, мне что-то не по душе эта поездка… — Генерал Юлий Воронцов, в изящной черной шляпе с широкими полями и расстегнутом черном пальто, из-под которого выглядывал ворот совершенно неприемлемый для партийных функционеров вишневой «водолазки» из тонкого кашемира, больше напоминал профессионального киноактера, направляющегося на юг для съемок в очередном фильме, а не начальника Первого главного управления КГБ СССР. — К чему такая срочность? Что там стряслось в Будапеште, что потребовалось именно ваше присутствие?
Андропов, рассеянно наблюдавший сквозь идеально вымытый стеклянный витраж «депутатского» отсека аэропорта на безликих мужчин в синих спецовках, сновавших вокруг оборудованного специально для членов и кандидатов в члены Политбюро «Ту-134», на котором ему предстояло лететь в Будапешт, молча пожал плечами.
— Может быть, я все-таки полечу с вами, Юрий Владимирович?
— Не стоит… — Андропов полуобернулся и поправил очки на переносице. — Часам к десяти-одиннадцати вечера я вернусь. И не забудьте, Юлий Александрович: меня интересует генерал Цвигун. Не спускайте с него глаз! Обо всех его перемещениях, встречах, разговорах докладывать лично мне…
— Вы допускаете, что он?.. — Воронцов запнулся, подыскивая точно слово.
— Эта поездка никем не планировалась, — обронил Андропов как бы вскользь. — Следовательно, кому-то, возможно, очень понадобилось удалить меня из Москвы на некоторое время. Это все.
— Я понял вас, Юрий Владимирович.
— Если будет возможность, позвоню из Будапешта. Случится что-то непредвиденное — найдете меня через секретариат Кадара. Будьте все время у себя, Юлий Александрович…
Воронцов молча кивнул и надвинул шляпу на глаза.
Моложавый летчик в форменной синей шинели ГВФ и каракулевой ушанке подошел к Андропову и лихо козырнул:
— Можем лететь, товарищ Андропов!
Повернувшись к Воронцову Андропов тихо повторил:
«Будьте все время у себя», и, не попрощавшись, направился к самолету вслед за командиром…
Ровно через три часа «Ту-134» приземлился в Будапеште. Черный «мерседес-220» с синими шторками на окнах стоял в нескольких метрах от трапа. На некотором удалении от «мерседеса» расположились трое «Жигулей» с охраной. У трапа председателя КГБ встречал Атилла Хорват.
— С благополучным прибытием, Юрий Владимирович! — Атилла протянул высокому гостю руку. — Моя фамилия Атилла Хорват, я заведующий отделом административных органов ЦК ВСРП. Товарищ Янош Кадар поручил мне встретить вас…
Андропов довольно вяло ответил на энергичное рукопожатие, с нескрываемым неудовольствием окинув взглядом высоченного атлета с очень яркой для партийного функционера, запоминающейся внешностью.
— Если мне не изменяет память, товарищ Хорват, мы с вами раньше не встречались?
— Именно так, товарищ Андропов, — кивнул венгр.
— Вы когда-нибудь учились в Москве?
— Нет, товарищ Андропов.
— Откуда такой приличный русский язык?
— У меня было достаточно времени, чтобы выучить его, — сдержанно, строго в рамках этикета, улыбнулся Хорват.
— Куда мы сейчас поедем?
— В вашу резиденцию, товарищ Андропов.
— Когда товарищ Кадар намерен встретиться со мной?
— Как только вы отдохнете с дороги, позавтракаете и ознакомитесь с кое-какими документами.
Андропов посмотрел на наручные часы. Было 10.05.
— Какая у вас разница во времени с Москвой?
— Час. Сейчас 9.05.
— Поехали!
…Сидя впереди, рядом с водителем, Атилла время от времени краешком глаза поглядывал в широкое зеркало обзора, испытывая странные, даже противоречивые чувства. Для истинных патриотов своей страны, с неизменной брезгливостью относившихся к фактической оккупации Венгрии советским «старшим братом», этот пожилой кремлевский сановник с одутловатым лицом нездорового желтого цвета, в одиночестве раскинувшийся на заднем сидении респектабельного лимузина, который использовался только для приема очень высоких гостей, был сущим сатаной, исчадием ада, тем самым злым гением, по идеально выверенному плану которого Москва утопила в крови вооруженный мятеж 1956 года. Таким образом, у Атиллы Хорвата были все основания формально считать Юрия Андропова убийцей своего отца. С другой стороны, Атилла слишком давно вел двойную жизнь, слишком глубоко сросся со смертельно опасной работой на американскую разведку, чтобы позволить себе роскошь идти на поводу у эмоций. Особенно сейчас, когда сидящий за его спиной человек, угрюмо уставившийся в одну точку, по злой иронии судьбы запросто мог повторить в ближайшие несколько часов то, что уже сделал восемнадцать лет назад. Только не с несколькими тысячами патриотов- романтиков, убежденных, что их бунтарское безумство поднимет на баррикады всех венгров, а непосредственно с ним, Атиллой Хорватом.
Чем больше он обдумывал детали предстоящего задания, тем реальнее представлял себе его невероятность. Инструкции, надиктованные ему в наушники неизвестным связным, выходили за мыслимые рамки обширных, но тем не менее имевших четко очерченные границы реальных возможностей. Будь Хорват агентом-профессионалом, классическим «кротом», который долгие годы специально натаскивался на вполне определенный стандарт действий и способы выживания в экстремальных условиях, он, очевиднее всего, пришел бы к выводу, что в ЦРУ по каким-то невероятным соображениям попросту решили им пожертвовать. И был бы, кстати, абсолютно прав: подобные задания поручают только смертникам, людям, которым до такой степени нечего терять, что они сознательно (или в полном заблуждении) идут на совершенно отчаянную авантюру, в которой шансы сорвать крупный куш или задохнуться в петле удавки примерно одинаковы.
Но Хорват профессионалом никогда не был. Мало того, ремесло агента, какими бы высокими профессиональными или патриотическими целями он ни руководствовался, всегда представлялось ему занятием малодостойным. И к своей работе на ЦРУ он подходил с принципиально иных позиций, видя в американцах союзников в своей личной борьбе против коммунистов — как своих, так и советских. А потому, мысленно не переставая анализировать высочайшую степень риска, заложенную в это беспрецедентное предприятие, Атилла думал не о своей жизни — яд, который Хорват уже много лет носил при себе, гарантировал ему безболезненный и мгновенный уход в мир теней. Лично для себя Хорват пытался выяснить совсем другое: насколько же важна цель этого задания, если американцы решили ради нее рискнуть своим лучшим агентом в Восточной Европе…
Гостевая резиденция, представлявшая собой фундаментальный четырехэтажный дом в скандинавском стиле из красного кирпича, с конференц-залом, крытым пятидесятиметровым бассейном, несколькими теннисными кортами и мощной автономной подстанцией на перекрытом со всех сторон огромном участке хвойного леса в пятнадцати километрах к западу от Будапешта, была построена меньше года назад по личному распоряжению Яноша Кадара. Вернувшись из Софии, где Тодор Живков поселил своего венгерского коллегу в роскошном гостевом дворце, прозрачно намекнув при этом, что Брежнев в ходе посещения болгарской столицы был в полном восторге от смелой архитектуры и роскошного убранства, первый секретарь ЦК ВСРП посчитал лично для себя оскорбительным тот факт, что в Венгрии нет ничего подобного. Новый гостевой дом, который работники аппарата ЦК между собой называли «шале», был построен через три с половиной месяца…
В это же время Андропов, как с ним бывало всегда, стоило ему только очутиться в Венгрии, как-то обрывочно, короткими фрагментами вспоминал события пятьдесят шестого года: мятежный, словно наэлектризованный Будапешт, растерянный персонал советского посольства, толпы демонстрантов на улицах, свои бесконечные телефонные переговоры с Москвой… Ему тогда только исполнилось 39 лет — совсем еще молодой Чрезвычайный и Полномочный посол СССР, прошедший непростую жизненную школу и тем не менее абсолютно не имевший опыта дипломатической работы. Возможно, именно поэтому к его неоднократным предупреждениям о том, что события в Венгрии развиваются угрожающе, что контроль за ситуацией в стране ослабевает с каждым днем, в Москве относились с известной долей недоверия. Даже Хрущев, в течение нескольких лет работавший в тесном контакте с Андроповым и знавший его сильные стороны, не мог поверить, что аппаратный работник ЦК КПСС, пусть даже занимавший пост руководителя сектора социалистических стран, способен так тонко и проницательно разобраться в совершенно новой для себя обстановке и сделать правильные выводы. Тогда Хрущев и совершил первую крупную ошибку, отреагировав не на взвешенные аргументы своего посла, а на заверения тогдашнего руководителя Венгрии Имре Надя. Кстати, именно Надь раньше других понял, какую опасность представляет Андропов, и поторопился его дезавуировать, отправив на имя Хрущева телеграмму, в которой заверял советского руководителя: обстановка в Венгрии полностью контролируется, никакой угрозы вспышки внутренней контрреволюции нет, а советский посол просто нервничает.
Еще более страшную ошибку — вторую по счету — Хрущев допустил через несколько недель, откликнувшись на настоятельную просьбу Надя вывести советские войска из Будапешта, дабы «не провоцировать население на контрреволюционные, мятежные действия».
Когда из Москвы запросили мнение Андропова, он ответил одной фразой: «Сразу же после вывода войск начнется вооруженный мятеж»…
Вернувшись в Москву, он был обласкан, повышен в должности, удостоен всех протокольных почестей, на которые Хрущев, в том случае, если испытывал чувство благодарности, никогда не скупился. Но Андропов прекрасно знал цену этим наградам и никому не рассказывал, какие сложные, противоречивые чувства бушевали у него в душе, когда Хрущев в тесном кругу, похохатывая и матерясь, частенько рассказывал о человеке, разрубившем узел венгерского мятежа — об Анастасе Микояне.
«Нет, вы представляете! — хохотал Хрущев, хлопая себя по толстым ляжкам. — Анастас подходит к этому придурку Ракоши, сует ему под нос бумагу и говорит: «Пыши, твою мать! Пыши заявление по собственному желанию!..» Таким в изложении разомлевшего Никиты был финал венгерской трагедии. И только Андропов понимал весь фарс этой глупой, по-партийному чванливой байки. Вздумай он тогда подшутить над непотопляемым армянином, то привез бы Микояна не к Ракоши, а к Кадару. Анастасу Ивановичу было ведь абсолютно все равно, кому передавать инструкцию Москвы. Вот было бы смеху, если бы только-только вытащенный из тюрьмы для коронации на венгерский социалистический престол Янош Кадар услышал из высокопоставленных уст верного соратника всех советских лидеров: «Пыши, твою мать!..»
Андропов был слишком умным и дальновидным человеком, чтобы не понимать простой вещи: без венгерских событий пятьдесят шестого года его политическая карьера по-настоящему никогда бы не состоялась. Его истинная роль в них была настолько неординарной и в то же время очевидной, что на протяжение всех последующих лет служила Андропову чем-то вроде охранной грамоты, политической индульгенции, ношение которой автоматически ограждало его от любых нападок, любых неожиданностей. Когда в шестьдесят четвертом году произошел «тихий переворот», официально оформивший политическое погребение Хрущева, Брежнев, последовательно расправившийся со всеми, кого считал людьми Никиты Сергеевича, не тронул только Юрия Андропова. И этот шаг нового Генерального секретаря партии, стремительное вознесение которого не мог просчитать никто, как ни странно, даже не обсуждался: слишком уж впечатляющей была роль молчаливого, умного и проницательного политика в незабываемых событиях 1956 года. И всякий раз, мысленно возвращаясь к тем годам, Андропов задавал себе один и тот же вопрос: уцелел бы он в той сумасшедшей кремлевской гонке на выживание, не сделай его непредсказуемая судьба политика послом в Венгрии? И неизменно отвечая на этот вопрос отрицательно, он тут же задавался другим: зная, что судьба сложится именно так, согласился бы он пройти этот путь еще раз? Вернуться в осажденное толпами людей здание советского посольства, забываться тревожным, коротким сном, сжимая под подушкой влажную рукоять пистолета, вести бесконечные переговоры с самыми разными людьми, каждый из которых был способен, в зависимости от результатов политического торга, облагодетельствовать его или застрелить в упор, совершать тайные ночные поездки по освещенным факелами повстанцев улицам Будапешта, рискуя в любую минуту напороться на вооруженные патрули и быть растоптанным озверевшей толпой, видевшей именно в нем весь ужас и необратимость советской оккупации?..
И чем дальше река времени уносила Юрия Андропова от того сурового, обагренного кровью берега, тем яснее и отчетливее он понимал: нет, никогда он не согласился бы вернуться в 1956 год. Никогда!..
В огромном вестибюле, противоположный конец которого упирался в широкую лестницу, сработанную из натурального бука и словно подстрахованную с двух сторон буковыми дверцами лифтов, к Андропову и следовавшему чуть позади, в строгом соответствии с протоколом, Атилле Хорвату, подошел широкоплечий мужчина средних лет, одетый в безукоризненный черный костюм, белую сорочку и строгий галстук.
— Товарищ Андропов, — Хорват сделал шаг вперед. — Дьюла проводит вас наверх, в вашу комнату. Я буду ждать вас с документами на втором этаже, в библиотеке… Если хотите, завтрак вам подадут в номер…
— Не будем терять времени, — голос председателя КГБ звучал тихо, словно по рекомендации врача он берег голосовые связки. — Я поел в самолете. Мне нужно пятнадцать минут.
— Дьюла проводит вас потом в библиотеку, — кивнул Хорват.
— Товарищ Кадар приедет сюда? — Андропов задал этот вопрос через плечо, направляясь к лифту.
— Сразу же после того, как вы ознакомитесь с бумагами. Сейчас он в ЦК.
— Хорошо.
Ровно через четверть часа Юрий Андропов появился в библиотеке — просторном зале, три стены которой были с пола до потолка уставлены книжными стеллажами из светлого неполированного дерева. Четвертая стена кабинета была прозрачной — гигантских размеров цельное стекло, открывавшее идеально подстриженный травяной газон и словно полотно импрессиониста, взятое в деревянную раму из такого же, как стеллажи, светлого дерева. В центре кабинета стоял длинный стол для совещаний, в одном углу — небольшой письменный стол с удобный креслом, в противоположном — низкий кожаный диван, два кресла и журнальный столик. Однако масштабы библиотеки были настолько внушительными, что создавалась оптическая иллюзия, будто мебель в кабинете просто обозначена.
Какое-то мгновение Андропов с нескрываемым восхищением любовался библиотекой, а потом, не спрашивая, проследовал к письменному столу, поудобнее устроился в кресле и вопросительно посмотрел на Атиллу:
— Я слушаю вас, товарищ Хорват.
Атилла положил перед председателем КГБ красную папку и сел напротив.
— Я должен прочесть это при вас? — Губы Андропова брезгливо поджались. — Вы свободны, товарищ Хорват. Когда я закончу работать, вас вызовут…
Последнюю фразу Андропов произнес не глядя на Атиллу, открыв папку и читая первый лист.
— Нам необходимо поговорить, Юрий Владимирович…
Хорват поймал себя на том, что его голос чуть дрогнул.
— Что? — Андропов посмотрел на венгра поверх очков. — Что НАМ необходимо?
— Это очень важный разговор, товарищ Андропов, — тихо, но очень отчетливо произнес Хорват, вытащил из заднего кармана тяжелый пепельно-серый люгер и осторожно, без стука, положил пистолет перед собой. — Боюсь, товарищ Андропов, у вас нет иного выхода, как выслушать меня…
— Это единственное, чего вы боитесь? — андроповский тон совершенно не изменился, только глаза за толстыми стеклами очков стали совсем бесцветными.
— В данный момент, да. — Атилла кивнул на люгер, — Демонстрация оружия — это вынужденная необходимость. Между нами пропасть протокола, а преодолеть ее с помощью слов, пусть даже самых убедительных, невозможно.
— Вы не похожи на фанатика, — медленно проговорил Андропов, не отрывая тяжелый взгляд от Хорвата. — Однако то, что вы сейчас делаете — безумство. Что вам нужно?
— Передать вам на словах то, о чем меня попросили мои друзья.
— Слушаю вас.
— Моим друзьям известно, что вы оказались в критическом положении. В их силах сделать так, чтобы преодолеть этот кризис без малейшего ущерба для вас, вашего положения и достоинства видного советского государственного деятеля. Речь идет о совершенно реальном плане, который гарантирует вашу полную неуязвимость в Кремле, который тщательно продуман и санкционирован очень высокими инстанциями. Мне также поручено передать вам просьбу моих друзей о конфиденциальной встрече. Это все, товарищ Андропов.
Также неслышно Атилла взял с письменного стола люгер и вложил его в задний карман брюк.
В библиотеке повисла гнетущая пауза. Только в эту минуту, завершив первую часть своего задания, Хорват почувствовал себя полностью вымотанным. Андропов же, всегда отличавшийся способностью схватывать суть любой ситуации в доли секунды, задавал себе только один вопрос: если это провокация, то кто за ней стоит?
«Неужели они втянули в эту игру и Кадара?..»
Этот вопрос только на долю секунду мелькнул в сознании Андропова и тут же растворился, исчез в потоке других мыслей председателя КГБ, громоздившихся друг на друге в привычных поисках надежной самозащиты в критической ситуации. Интуитивно Андропов чувствовал: дожимать его столь примитивным способом — явный перебор. Да и зачем, собственно, если факты, которыми они располагают или будут располагать в ближайшие дни, дают все необходимое, чтобы отправить его на пенсию или даже на тот свет без этих дешевых приемчиков с «паршивой овцой» из аппарата ЦК ВСРП, его таинственными друзьями и внезапной помощью «из-за бугра», которая возникает вдруг, в самый тяжелый момент?..
— Вы действительно смелый человек, товарищ Хорват? — на одутловатом лице председателя КГБ скользнула легкая тень, которую с равным успехом можно было расценить и как гримасу отвращения, и как улыбку недоверия. — Или просто хотите таким казаться?
— Хочу казаться, — угрюмо произнес Хорват. — Действительно смелым человеком был мой отец, товарищ Андропов. Но он погиб под советским танком в пятьдесят шестом…
— Понятно, — пробормотал Андропов. — Я могу задать вам кое-какие вопросы?
— Конечно, — кивнул Хорват. — Только я не смогу ответить вам. Во всяком случае, на вопросы, связанные с порученным мне делом.
— Почему?
— Потому, что сам ничего об этом не знаю.
— Ну а если я скажу, что предложение ваших друзей — чистый бред? Что у меня нет никаких проблем на моей родине и, соответственно, отсутствуют малейшие резоны вступать в переговоры с кем бы то ни было? Что вы тогда будете делать? Снова вытащите свой пистолет и начнете стрелять в члена Политбюро ЦК КПСС?
— В таком случае я уйду и дам вам возможность дочитать документы, приготовленные товарищем Яношем Кадаром, — Хорват выглядел совершенно невозмутимым. — Кстати, он появится здесь примерно через полтора часа.
— А я не стану ждать его прибытия, подниму трубку этого телефона и сообщу товарищу Кадару, что его завотделом административных органов — иностранный агент. Скорее всего, американский.
— Совершенно верно, — невозмутимо кивнул Хорват.
— Верно, что вы работаете на ЦРУ? — быстро спросил Андропов.
— Верно, что вы вполне можете так сделать.
— И тогда вас расстреляют.
— Повесят, — уточнил Атилла.
— А вы, стало быть, этого не боитесь?
— У вас совсем немного времени, товарищ Андропов, — Хорват заговорил быстрее. — Именно у вас. И давайте не будем загадывать мое будущее — для себя я все решил уже давно. Согласитесь, это странно, что вас волнует будущее рядового сотрудника ЦК ВСРП. Если предложение моих друзей вас не заинтересовало, считайте, что этого разговора не было. Но если это не так, то, пожалуйста, не теряйте времени, поскольку мне надо будет вам рассказать еще кое-что и организовать эту встречу. Решайте, товарищ Андропов!..
Председатель КГБ вздохнул, выразительно посмотрел на венгра и медленно откинулся в кресле.
— До свидания, товарищ Андропов, — Хорват встал, поправил модно повязанный узел темно-синего галстука, сдержано кивнул и направился к двери.
Андропов из-под полуопущенных век смотрел в удалявшуюся широченную спину Хорвата, понимая, что на окончательное решение у него остались доли секунды. Этот венгр мог быть кем угодно — патриотом, провокатором, шпионом, в профессии которого блеф занимал основное место, или просто тупоголовым ортодоксом, свято верившим в наступление коммунизма. Однако кем бы он ни был, определенная логика в том, что сказал Хорват, присутствовала…
— Кто они, ваши друзья, Хорват? — вопрос Андропова прозвучал очень тихо, почти не слышно, но Хорват, уже взявшийся за выгнутую ручку двери, замер и обернулся:
— Просто друзья. Разве этого мало?
— Чьи друзья, Хорват? — Андропов повысил голос. — Чьи?
— Я привык доверять им, а потому уверен: в данный момент — и ваши тоже.
— Вернитесь! — властно приказал Андропов.
Атилла подошел к письменному столу и сел.
— Почему я должен вам верить?
— Этот вопрос не ко мне, товарищ Андропов. Если вы не верите, дайте мне уйти, и решите все сами.
— Где они хотят встретиться?
— В Австрии. Там наиболее безопасно.
— Когда?
— Сегодня ночью.
— Вечером я должен улететь в Москву.
— Повернем ситуацию так, что товарищ Кадар сам попросит вас задержаться еще на день. Это не вызовет подозрений в Москве.
— И что тогда?
— Тогда ночью я вывезу вас через австрийскую границу, вы встретитесь с моими друзьями, а потом мы вернемся в Будапешт. Думаю, часам к шести утра управимся.
— Кто знает о том, что вы задумали?
— Кроме моих друзей? Никто!
— Вы вообще понимаете, чем я рискую, принимая ваше предложение?
— О чем вы, Юрий Владимирович?
— Ночная вылазка из дома гостей ВСРП, агенты охраны на каждом квадратном метре, ночная гонка на машине с фальшивыми номерами, какой-нибудь хитрый коридор на венгерско-австрийской границе, наверняка еще какие-нибудь подложные документы, приклеенные усы… Я всего лишь председатель КГБ, товарищ Хорват, а не оперативник.
— Я привык отвечать за свои действия, — угрюмо процедил Хорват. — Всегда! Вы НИЧЕМ не рискуете, товарищ Андропов. Рисковал только я, выложив перед вами все карты.
— Значит, причина, по которой меня затребовали в Будапешт — только повод, прикрытие?
— Причина реальная и через час вы убедитесь в этом, — пробормотал Хорват. — Товарищ Кадар страшно боится Гезу Мольнара, секретаря ЦК ВСРП по идеологии, который обзавелся очень крепкими покровителями в Кремле, пользуется покровительством Кириленко и основательно копает под моего босса. Поэтому Кадар решил обратиться за помощью лично к вам…
— Почему именно ко мне?
— Вы ему симпатизируете. Во всяком случае, так утверждает Кадар.
— В Политбюро ему симпатизирую не только я.
— Но только вы периодически посещаете Венгрию, да и вообще хорошо… разбираетесь в нашей стране.
— Идея ваша?
— Идея моя.
— Вы это планировали?
— Наоборот, все делалось в страшном цейтноте.
— Работали в контрразведке?
— Курировал.
— А как давно вы… — Андропов замялся. — Имеете контакты со своими друзьями?
— Достаточно давно, товарищ Андропов, чтобы убедиться в их порядочности и понять одну вещь: мои друзья с огромным уважением относятся к моей стране и ее народу. В противном случае между нами не могло возникнуть то, что возникло.
— Вы ведь сомневались в успехе затеянного? — тихо спросил Андропов.
— Я старался об этом не думать.
— Кадар вам доверяет?
— Насколько это возможно в нашем серпентарии.
— Значит, документы, которые вы мне принесли?..
— Крепкий компромат на Мольнара. Он, кстати, действительно мерзавец, каких мало, и вам, товарищ Андропов, следует помочь Кадару. Как минимум для того, чтобы истинная цель вашей командировки стала со временем очевидна в Москве. То, что я сказал вам сейчас, является моей личной точкой зрения и к миссии, порученной мне друзьями, отношения не имеет.
— Складно, ничего не скажешь, — проворчал себе под нос Андропов.
— Мне позвонить товарищу Кадару? — спросил Хорват, вставая. — Или вы сделаете это сами?
Андропов поворошил документы в красной папке и пристально посмотрел на Хорвата:
— Позвоните сами. И скажите ему, что для прочтения мне понадобится примерно час…
— Хорошо, — кивнул Хорват.
— И еще один вопрос… — Андропов снял очки и подслеповато заморгал. — Запись нашего с вами разговора… Она будет храниться у вас, как я понимаю?
— Такие разговоры не записываются, товарищ Андропов! — красивое, словно состоящее из нескольких резких штрихов, лицо Атиллы заострилось. — Я не шантажист и подобными приемами стараюсь не пользоваться. Если хочешь чего-то добиться от человека, давить на него компроматом — последнее дело. Я предпочитаю использовать убеждения человека и его способность мыслить логическими категориями.
— Вы хотите убедить меня в том, что в этой библиотеке нет звукозаписывающих устройств? — одними губами улыбнулся Андропов.
— Почему же нет? Есть, конечно. В левую тумбу письменного стола, за которым вы сейчас сидите, вмонтирован стационарный магнитофон с автоматической подзарядкой и сменой кассет, которые изымаются раз в несколько дней. Магнитофон японский, дает превосходное качество записи и включен круглосуточно…
— Стало быть?..
— В панель письменного стола, — тоном профессионального экскурсовода продолжал Атилла, — вмонтированы две кнопки — зеленая и белая. Зеленая включает работу скрэмбла — системы наведения экрана и искажения звука. Белая же, на всякий случай, полностью стирает уже искаженную запись. А теперь посмотрите на панель, товарищ Андропов: обе кнопки вжаты, то есть, находятся в рабочем состоянии…
— Об этом, как я понимаю, побеспокоились вы?
— У меня в последние несколько дней было столько беспокойств, товарищ Андропов, что сделать это, — Хорват кивнул на письменный стол, — было сплошным удовольствием…
13. ИЗРАИЛЬ. ЖИЛОЙ ДОМ В СЕВЕРНОМ ТЕЛЬ-АВИВЕ
Март 1978 года
…Поднявшись на несколько ступенек к крыльцу двухэтажного домика, Дов толкнул выкрашенную белой масляной краской металлическую дверь и ввел Мишина в просторный холл, реальные масштабы которого скрадывала старинная мебель. Все было выдержано в темно-коричневых тонах и подобрано с очень хорошим вкусом. Приглядевшись, Мишин понял, что обстановка не имитировала старинный стиль, а в самом деле была оригинальной. Чувствовалось, что здесь поработал профессиональный дизайнер, прекрасно разбирающийся в подобного рода раритетах. Два кресла с высокими резными спинками и ломберный столик у окна, огромный стол эллипсоидной формы в центре холла, уставленный строгими, мореного дуба, стульями, тяжелые напольные часы с золотым циферблатом и вычурная китайская ваза в противоположном углу холла были оригиналами, скорее всего, вывезенными из Европы еще в середине прошлого века…
— Садись, — Дов кивнул в сторону кресел. — Располагайся поудобнее и жди…
Израильтянин сразу же исчез, а Виктор послушно проследовал к окну и, понимая что имеет дело с очень ветхим произведением искусства, осторожно опустился в кресло. Как ни странно, хрупкое сооружение, сплошь состоявшее из тончайших реечек и завитушек, даже не скрипнуло под тяжестью его тела. «И реставраторы, видать, тоже постарались», — подумал Мишин и уставился в окно, выходившее на небольшую, аккуратно подстриженную лужайку, окаймленную плотной стеной высоченных эвкалиптов, явно посаженных таким образом, чтобы искусственно отгородить домик от любопытных глаз посторонних…
— Добрый вечер, господин Мишин!.. — откуда-то сбоку прозвучал по-английски чуть надтреснутый голос.
Мишин вздрогнул, резко встал с кресла и повернулся на звук. Перед ним стоял человек лет 70–75, с гладким, без единой морщины, лицом, в старомодной серой тенниске с накладными карманами на груди и по бокам. Совсем жидкие седые волосы были аккуратно зачесаны назад, к яйцеобразной макушке, чтобы скрыть довольно объемистую плешь. И по этой допотопной тенниске, и по зажиму авторучки, украшавшему, наподобие ордена, нагрудный карман, и по манере смотреть на собеседника подслеповато прищурясь, пожилой мужчина сразу же напомнил Мишину советских ветеранов второй мировой войны, зачастую приходивших с жалобами в приемную КГБ на площади Дзержинского.
Уверенной, совсем не старческой, походкой мужчина пересек холл и уселся в кресле напротив Витяни.
— На каком языке предпочитаете говорить, господин Мишин?..
Любезным был только тон старика. Взгляд же из-под редких седых бровей, низко нависших над маленькими, неопределенного цвета, глазами-буравчиками, был колючим и въедливым, словно Мишин был подростком и очутился в этом салоне антикварной мебели только для того, чтобы получить от хозяина основательную выволочку за оконное стекло, разбитое футбольным мячом.
— На каком вам будет угодно, господин…
— Гордон, — быстро ответил старик. — Называйте меня Гордоном. Я предлагаю говорить по-немецки.
— Согласен, — кивнул Мишин.
— Хотите что-нибудь выпить? Кофе, минеральную воду?
— Благодарю. Не сейчас.
— В Израиле нужно много пить.
— По-видимому, я это еще просто не успел понять.
— Я хотел познакомиться с вами лично.
— Я догадался, господин Гордон.
— Вы довольны обращением к вам здесь, в Израиле?
— Вполне.
— Судя по вашему виду, господин Мишин, подлечили вас основательно… — Гордон не спрашивал, он утверждал.
— Я чувствую себя вполне нормально, — кивнул Витяня. — И благодарен вам за это.
— Мы в расчете, — Гордон хрустнул сухими, узловатыми пальцами. — Вы оказали нам хорошую и весьма профессиональную услугу в Праге. Это была прекрасная работа, господин Мишин.
— Благодарю.
— Дов рассказал вам о ситуации?
— Да.
— Тогда не будем тратить время и перейдем сразу к делу… — Гордон буквально впился цепким взглядом в Мишина. — Перед этой встречей я ознакомился с вашим досье, господин Мишин. Не стану лукавить: оно впечатляет. Помимо трех лет, в течение которых вы работали только в Швейцарии, исполняя обязанности заместителя резидента советской разведки, вы наведывались с весьма сложными оперативными заданиями, меняя внешность и используя сфабрикованные документы, в восемнадцать государств Европы, Африки и Южной Америки. Причем ни разу не прокололись. Блестящий, хоть и труднообъяснимый, послужной список…
— А почему он, собственно, труднообъяснимый, господин Гордон?
— Неужели я должен объяснять? — совершенно искренне удивился Гордон.
— Поверьте, мне в самом деле интересно.
— Извольте. От других иностранных разведок КГБ отличается очень высокой степенью интенсивности при использовании своих агентов. Я предлагаю проверить собственную правоту на вашем же примере. С периода с 1973 по 1977 год, то есть за неполные пять лет, вы отправлялись с заданиями за кордон с периодичностью раз в два-три месяца. Тогда как в большинстве других спецслужб к агентам вашего уровня относятся куда более бережно, рискуя ими не более одного раза в год. Причем это — разумный максимум. То есть если исходить из практики, вы должны были свернуть себе шею никак не позднее семьдесят четвертого — семьдесят пятого года.
— Так прямо и свернуть? — пробурчал Мишин.
— Не стоит недооценивать противника. Тем более что за границей вам поручали самую опасную и неблагодарную работу. Вы, господин Мишин, классический оперативник, киллер с колоссальным опытом и прекрасной подготовкой. Таким образом, то, что произошло с вами в конце прошлого года в Буэнос-Айресе, — закономерный результат недопустимой расточительности ваших начальников, засветивших вас самой постановкой задачи. Налет на конспиративную квартиру ЦРУ — это или жест отчаяния или откровенное и труднообъяснимое хулиганство. И в том, и в другом случае — глупость совершенно очевидная. Впрочем, — Гордон по-стариковски пожевал губами, — русские всегда делали акцент на массовость. И, к сожалению, не только в спорте…
— А разве вы, господин Гордон, или те же американцы оценивают работу агента не по конечному результату?
— По результату оценивают работу террориста-фанатика! — эту фразу Гордон произнес на чистейшем, без малейшего намека на акцент, русском языке. — Сколько уничтожил, взорвал, повредил… Что же касается кадров политической разведки, — он вновь перешел на немецкий, — то это обходится так дорого и занимает так много времени, что, право же, нет никакого стратегического резона затыкать своими людьми бреши, образовавшиеся вследствие бездарного планирования операций…
Про себя Мишин не мог не согласиться, что этот старый пердун со старорежимной авторучкой в кармане абсолютно прав. В то же время очень не хотелось соглашаться и признавать, что ему, как желторотому салаге, только что бесплатно прочли краткий спецкурс по методике работы с собственными агентами.
— Вы хотите сказать, господин Гордон, что агенты Моссада никогда не проваливаются? Что ваша разведка не выжимает из своих людей все соки до конца? Что дисциплина внутри израильской разведки основана на высших принципах гуманизма?..
Какое-то время Гордон молча, испытующе смотрел на Мишина. Потом вытащил из нагрудного кармана тенниски белый платок, деликатно, почти неслышно, высморкался и внятно, как на лекции, произнес:
— Это долгий разговор, господин Мишин. Давайте отложим его на некоторое время. Почему-то мне кажется, что оно у нас будет. А пока вернемся к теме нашей беседы. Надеюсь, вы не станете спорить со мной, что как разведчик-нелегал вы кончены? То есть никакой практической пользы уже не представляете?
— Не стану, — угрюмо кивнул Мишин.
— И как вы к этому факту относитесь?
— С чувством глубокого удовлетворения, — по-русски ответил Мишин.
— А-а! — понимающе кивнул Гордон и на его выцветших губах скользнула презрительная усмешка. — Это, кажется, из лексикона вашего партийного лидера?
— Вы правы.
— Пустая фраза.
— Вам не нравится Брежнев?
— А вам, господин Мишин?
— Мне трудно судить, я с ним незнаком лично.
— Вы знаете, я тоже, — кивнул Гордон. — Тем не менее это не мешает мне иметь об этом господине собственное мнение.
— Мне бы хотелось его выслушать, — лицо Мишина нахмурилось еще больше. — Поверьте, господин Гордон, это не праздное любопытство.
— Личные качества вашего лидера не имеют никакого значения, молодой человек, — мрачно процедил Гордон. — В условиях вашей социально-политической системы любой, даже обладающий изощренным умом, лидер, изначально обречен. Его правление и власть носят временный характер. Это только кажется, что он безгранично повелевает массами. На самом же деле, он является заложником. Придет день, когда эти самые массы его и уничтожат.
— Сталин, если мне не изменяет память, скончался без посторонней помощи.
— Спорное заявление, — хмыкнул Гордон. — Такие люди, как Сталин, своей смертью не умирают, уж поверьте старому человеку. Думаю, наступит день, когда эта темная история будет извлечена на свет Божий. Впрочем, не исключено, что вы правы, молодой человек. Дело в том, что Сталин был наверное единственным лидером XX века, владевшим тайной ДОЛГОВЕЧНОЙ власти. Если убивать ежедневно по сто тысяч человек, можно умереть в собственной постели. К великому счастью, моя страна застрахована от подобных монстров у власти — нас слишком мало…
— Гитлер тоже убивал сотни тысяч людей в день.
— Гитлер убивал чужих. А Сталин — своих. Разница существенная, господин Мишин. Впрочем, мы отвлеклись!
— Извините, — улыбнулся Мишин. — Вас действительно интересно слушать.
— Значит, вы согласны, что как профессиональный агент уже не представляете никакой практической ценности, верно?
— Да, я согласен. Мало того, меня это вполне устраивает.
— Прекрасно… — Гордон даже засветился от удовлетворения, словно не кто иной, как он сам, своими собственными руками, списал подполковника КГБ СССР Виктора Мишина в безнадежный тираж. — Как по-вашему, господин Мишин, а американцы это понимают?
— Думаю, даже лучше, чем евреи, — пробормотал Витяня. — Если, конечно, такое возможно в принципе.
— И тем не менее, — подхватил Гордон, — они требуют вас к себе. Чего вдруг? Зачем вы им понадобились?
— Дов уже спрашивал меня об этом.
— Я спрашиваю не вас, Мишин, — неожиданно зло, тут же забыв вежливое «господин», огрызнулся Гордон. — Я задаю этот вопрос самому себе. И не могу отделаться от очень неприятного ощущения, что есть в этом требовании ЦРУ какой-то заковыристый нюанс, который постоянно ускользает от меня. Я думаю об этом с раннего утра, и никак не могу уловить в чем, собственно, заключается подвох…
— Вы говорите о нюансах так, словно понимаете главное, — хмыкнул Мишин.
— Естественно, понимаю, — Гордон презрительно пожал плечами. — Эти умники в Лэнгли явно затевают очередную игру против ваших соотечественников. И все стало бы на свои места, не затребуй они именно вас — засвеченного агента, человека, приговоренного на Лубянке к смертной казни и находящегося во фронтальном поиске. Вы — живой труп, Мишин!
— Благодарю за комплимент, — вежливо кивнул Витяня.
— Так зачем ЦРУ понадобился живой труп? — не реагируя на реплику Мишина воскликнул Гордон и в очередной раз хрустнул узловатыми стариковскими пальцами.
— Вы продолжаете разговаривать сами с собой, господин Гордон, или уже переключились на двустороннюю связь?
— Что? — вскинул брови старик.
— Просто я боюсь показаться невежливым, — пояснил Мишин, сдерживая накипающее раздражение. — Вы что- то спрашиваете, задаете вопросы, а я не знаю, монолог это или диалог.
— Теперь это вопрос к вам, господин Мишин.
— Ну… — Витяня почесал кончик носа. — Живому трупу, как вы изволили выразиться, терять, в общем-то, нечего. Может быть, кого-то надо убрать и…
— И американцы не находят лучшего решения, как обратиться за помощью к евреям, так? — насмешливо изрек Гордон. — Своих киллеров у них нет, им понадобился именно подполковник КГБ Виктор Мишин, которого скоро будет узнавать каждая собака в Европе?
— Может, это просто дезинформация, какой-то отвлекающий маневр? — не очень уверенно предположил Витяня. — Использовать меня, чтобы…
— Где?
— Что, «где»?
— Где они собираются посадить вас на жердочку, чтобы отвлечь чье-то внимание? — Теперь Гордону можно было дать все восемьдесят пять лет, — он вел себя как глубоко обветшалый, брюзгливый и желчный пенсионер со стажем в доме для престарелых, которому нерасторопная сиделка не принесла на завтрак излюбленное яйцо «в мешочек».
— Господи, да где угодно! — фыркнул Мишин. — В Лиссабоне, в Кельне, в Венеции…
— И что вы там будете символизировать, господин Мишин, в качестве отвлекающего маневра? Свое возрождение в амплуа профессионального нелегала, перевербованного ЦРУ? Или Моссадом? А ваши друзья с площади Дзержинского — полные идиоты и думают, что вы в настоящее время замаливаете грехи в монастыре молчальников? Ничего другого на Лубянке от вас и не ждут, Мишин! И потом, что вы сделаете в качестве этого самого, отвлекающего маневра? Будете имитировать подготовку покушения на Вилли Брандта? Начнете подкоп под Ватикан? Склоните к сожительству любимицу всех коммунистов планеты Клаудию Кардинале?.. Нет, господин Мишин, это не дезинформация! Это самый настоящий дрек мид фефер!..
— Понял, — кивнул Витяня. — Говно на палочке.
— Знаете идиш? — резко встрепенулся Гордон.
— Только на уровне междометий и бытовых ругательств. Когда-то, в детстве, жил в коммунальной квартире в Староконюшенном переулке. Арбат, если вам это о чем-нибудь говорит.
— Там жили евреи?
— А где они не жили, господин Гордон?
— Не любите евреев, Мишин?
— А я должен их любить?
— Мы опять отвлеклись… — Гордон вздохнул и с хрустом костолома-садиста переплел свои узловатые пальцы. — Вы им нужны в Москве, Мишин. Только в Москве.
— В качестве трупа? — не без ехидства поинтересовался Мишин.
— Трупа? — Гордон на секунду вынырнул из глубин своих нескончаемых раздумий. — Какого еще трупа? Что вы несете, Мишин?! Раз вы нужны американцам в Москве, стало быть, они придумали такую форму прикрытия, которая гарантирует вам — во всяком случае, на время проведения их операции — надежную крышу и стабильную возможность активно действовать, выполнять задание.
— До крыши, господин Гордон, еще надобно добраться! — огрызнулся Мишин. — Да как вы не понимаете: стоит мне только прилететь в Москву, меня поставят раком прямо на таможне, у окошечка с турникетом?! Если, конечно, еще в самолете не напоят чаем со стрихнином.
Гордон смотрел куда-то сквозь Мишина, однако по выражению его лихорадочно блестевших глаз-буравчиков было видно, что старик не слышит его вовсе, а думает о своем, шевеля губами и морща высокий лоб прирожденного мыслителя и прожженного интригана.
— Господин Гордон, — тихо спросил Мишин, — а если вы так и не додумаетесь?
— У меня есть еще сутки, — процедил старик сквозь идеально выточенные искусственные зубы, которыми он, видимо, очень гордился. — Додумаюсь!..
— Стало быть, я должен молиться за эффективность работы вашего мозга, — пробормотал Мишин.
— За что вы должны молиться? — неожиданно окрысился Гордон.
— За ваши мозги! — рявкнул Мишин, теряя терпение. — Если вы сумеете разгадать коварный замысел ваших заокеанских союзничков, я должен буду расписаться кровью под документом о вербовке, после чего вы немедленно выпихните меня в Соединенные Штаты. А если нет, то сделаете со мной то же самое, что сделают мои коллеги в Москве, имей я тупость там появиться. Так стоит ли так фундаментально ломать голову, господин Гордон? Уж вы меня извините за прямоту, но даже если вы додумаетесь до чего-то путного, речь ведь все равно идет исключительно о МОЕЙ шкуре. И мне решать, как именно ею распоряжаться…
— Не стоит, господин Мишин, демонстрировать передо мной свою отчаянную храбрость… — Гордон высокомерно поджал губы. — Поверьте мне на слово: ваше присутствие здесь, в этом доме, вовсе не тот случай, а я — уж тем более не тот зритель, на которого следует производить впечатление. Таких как вы, причем значительно покруче, я видел сотнями.
— На вас это не действует, да? — Глаза Витяни налились кровью и он непроизвольно подался вперед. — Вы умнее всех на свете? Хитрее, расчетливее? Богом избранная раса, которая настолько поверила в эту метафизическую чушь, что изначально готова причислить к перлам мудрости любую ерунду какого-нибудь бакалейщика или торговца примусами?! Хотите, я скажу сейчас, кто вы такой на самом деле, господин Гордон?
— А зачем? — совершенно искренне удивился Гордон. — С какой целью? Надеюсь, вы не собираетесь меня оскорблять — с вашей стороны, это было бы неуважением к человеку, по возрасту годящемуся вам даже не в отцы — в деды. Да и потом, это крайне неосторожное намерение — вы ведь не знаете, кто я такой. О, вот видите, вы уже немного остыли! Стало быть, сейчас попытаетесь угадать мой пост в Моссаде, верно? Только особого ума, Мишин, здесь не требуется. Понятно, что человек в моем возрасте может выполнять в этой организации единственную функцию — шефа, начальника. Кстати, и в этом случае у вас нет никаких гарантий в том, что я действительно возглавляю израильскую внешнюю разведку. А может быть, я — БЫВШИЙ большой босс, а ныне обычный пенсионер, который по старой памяти изредка консультирует начальство по некоторым вопросам?
— Вы не похожи на консультанта-общественника, — мрачно процедил Мишин.
— Почему?
— Слишком уж нахраписты…
— Умница, — вяло улыбнулся Гордон, — На это у тебя мозгов хватило. Жаль, что их не хватило на другое, чтобы понять куда более важную вещь — ЧТО именно стоит за моим желанием встретиться с тобой, Виктор Мишин. Надеюсь, ты догадываешься, что я не веду светский образ жизни и не коротаю вечера в обществе бывших советских офицеров разведки?..
— Чего вы от меня хотите, господин Гордон?
— Послушай меня внимательно, мальчик, — Гордон придвинулся к ломберному столику и неожиданно накрыл своими узловатыми пальцами руку Витяни. — Твои папа с мамой еще только пошли в школу, когда я уже подкладывал взрывчатку — не пластиковую, заметь, а самодельную, из толовых шашек, сработанную так топорно, что она в любой момент могла разорваться прямо в руках, — под днища английских «виллисов». Вот этими руками, прокравшись ночью в лагерь палестинцев, я одним ножом вырезал почти сорок спящих боевиков и отомстил за свой мошав и своих товарищей, которых за неделю до этого палестинцы также перерезали глухой ночью, по-воровски, когда два семнадцатилетних мальчишки, которым было поручено стоять на дозоре, просто заснули. Я уже прожил свою жизнь, тогда как ты ее только начинаешь. Я знаю ей цену, тогда как ты ею еще играешься, не без кокетства поглядывая на себя со стороны… У меня в роду все долгожители, господин Виктор Мишин. Моя бабушка по материнской линии, старая еврейка из Вильно, будучи абсолютно здоровым человеком, умирала на моих руках в возрасте 94 лет от тривиальной, неотвратимой старости. И сейчас я очень жалею, что ты не видел, как из последних сил она буквально цеплялась за жалкие остатки жизни, как хотелось ей хоть на час, на минуту продлить свое существование на этой бренной земле… Никогда не делай двух вещей, Мишин: не разбрасывайся деньгами и не швыряйся собственной жизнью. В первом случае тебя будут ненавидеть друзья, во втором — Бог. И еще: не болтай лишнего, не говори, чего не знаешь. Мой народ никогда не пользовался особой любовью, зато горя хлебнул практически за всех. На моих руках немало крови, но беззащитных я не убивал никогда. Хотя, порой, очень хотелось — что правда, то правда. Но всякий раз я вспоминал, как беззащитны были мои братья и сестры, которых вели в газовые камеры и на виселицы, и останавливал собственную руку. Тебе вовсе не обязательно молиться на мои мозги — я и без твоих молитв додумаюсь, уж ты не сомневайся! Но если я ПОПРОШУ тебя, то ты поедешь туда, где тебя ждут, и сделаешь то, чего от тебя потребуют. Без угроз. Без подписей и клятв. Как человек…
— Почему вы в этом так уверенны? — тихо наливаясь злобой, прошептал Витяня. — Что дает вам право считать, что я, ваш враг, офицер советских органов государственной безопасности, давший присягу своей Родине, стану СОЗНАТЕЛЬНО работать против нее? Вы вообще в своем уме, господин Гордон?
— Посмотри на себя в зеркало, Мишин! — Голос Гордона звучал ласково и вкрадчиво, он слово гипнотизировал Витяню. — Ты весь изломан внутри. Тебя предали, оболгали, тебя использовали…
— Это мое дело, — угрюмо отрезал Мишин. — Мое и их. Это дерьмо, которое я буду есть один, ни с кем не делясь. Вам-то что до этого?..
— Ты хочешь быть одновременно и суперменом, и обычным человеком, — продолжал Гордон, никак не отреагировав на последнюю фразу Мишина. — Тебе нужен дом, нужна семья, тебе необходимо уважение к себе и хотя бы капелька любви к ближним… Ты не хочешь быть зверем, но, поскольку тебе не оставили иного выхода, ты убеждаешь себя в том, что другая жизнь тебе не дана. Ты обманываешь себя, Мишин! И хочешь обмануть меня. Я готов принять любую позицию, но ПОЗИЦИЮ, молодой человек, а не мальчишеское упрямство, не эту дилетантскую игру в русскую рулетку. Если тебе не нужна жизнь — выброси ее! Пусти себе пулю в лоб! Засунь голову в петлю и оттолкни табуретку, черт бы тебя подрал! Но если ты хочешь жить и заниматься своим делом, не теряя при этом уважения к себе, то разговаривай со мной как профессионал! Не оскорбляй мое достоинство профессионала и мужчины, проработавшего в политической разведке больше пятидесяти лет!..
— У вас очень странная манера вербовки, господин Гордон, — по губам Мишина скользнула саркастическая усмешка. — Причем я даже не могу сказать, что эта манера старомодна. Очень похоже на наши идеологические приемчики, только акцент делается не на задачах коллектива, а на проблеме конкретной личности… Это что, господин Гордон, сионизм с человеческим лицом, да?
— Мне нет никакой необходимости вербовать тебя, Виктор… — Впервые за весь этот сумбурный, нервный разговор Гордон обратился к нему по имени. — Классическая вербовка, как тебе, наверное, известно, предполагает некие гарантии того, что человек, во-первых, не наставит тебе рога, едва выйдя за порог твоего дома, а, во-вторых, не станет впоследствии работать против тебя. Но ты, Мишин, так долго и плодотворно работал против нас, что, право же, тебе вряд ли удастся нанести вреда больше, чем ты уже нанес. Так что, дав свое согласие на твою поездку за океан, я практически ничем не рискую…
— Вы приняли это решение сейчас, не так ли?
— Да, — кивнул старик. — Именно сейчас.
— Но вы же мне не доверяете?
— Я что, похож на человека, который вообще способен на такую глупость?
— Тогда почему?
— Признаюсь тебе честно, Виктор, — Гордон мирно сложил пальцы на животе и закатил глаза. — Я не люблю американцев. Не стану объяснять природу подобного отношения, поскольку не в этом суть. Но как бы коварны, изворотливы и лживы они не были, в одном я никогда не мог их заподозрить — в том, что они СОЗНАТЕЛЬНО стремятся нанести ущерб моему народу. Ты понимаешь, к чему я клоню, Виктор?
— Не очень.
— Однозначно, что цель их операции — Москва. Там сейчас интересно. Я чувствую: там сейчас ОЧЕНЬ интересно… — Гордон, без всякого сомнения, в очередной раз забыл о реальном существовании собеседника и разговаривал сам с собой. — И то, что они намерены там предпринять, явно выходит за рамки тактической операции. Это какая-та крупномасштабная интрига, какой-то стратегический замысел, который эти сытые снобы в Лэнгли решили реализовать с помощью таких покойников, как ты, Виктор. Я не удивлюсь, если там будут фигурировать еще несколько известных нам с тобой людей…
Мишин как зачарованный следил за размышлениями этого уродливого старичка, силясь представить себе одновременно, на ЧТО способен его мозг и как срабатываются с этим монстром в тенниске его непосредственные подчиненные.
— Мне нужно знать все! — Взгляд Гордона принял, наконец, осмысленное выражение и буквально вперился в Мишина. — И ты мне в этом поможешь!
— Зачем? — Мишин почувствовал вдруг, что этот разговор его окончательно вымотал. — Во имя чего?
— Ты сам выбрал себе жизнь волка, — внятно произнес Гордон, не отрывая от Виктора тяжелого взгляда. — Ты и есть самый настоящий волк в человеческом обличье — сильный, матерый, хитрый и беспощадный. Но поверь мне, старику, наступит день, когда твои ноги утратят былую устойчивость, твои клыки, которыми ты можешь сегодня разорвать врага на куски, основательно сотрутся, а никогда не подводившая тебя интуиция, способность чувствовать приближающуюся опасность, притупится. И тогда ты будешь искать спокойное место, нору, чтобы позволить себе хоть небольшую передышку. Нору, в которой тебя не достанут враги, в которой такие же волки хоть и не примут тебя в свою стаю, но не станут рвать на тебе шерсть, не будут грызть тебя заживо, не воспользуются твоей дряхлостью, ибо и им грозит рано или поздно то же самое. Это — максимум, что я могу тебе твердо обещать, Виктор Мишин. В том случае, естественно, если ты ничего не сделаешь против моей страны, во вред моему народу…
— И ради этого?..
— Да, Виктор! — глаза Гордона засверкали. — Именно ради этого ты сделаешь все, о чем я тебя прошу. Я не беру с тебя ни подписи, ни слова, ничего, понимаешь? А ты подумаешь как следует, прикинешь все плюсы и минусы, и сделаешь это для меня.
— Вы в это действительно верите, господин Гордон?
— Глагол «верить» уместен исключительно в синагоге. И то, если человек заранее убедил себя в том, что ХОЧЕТ этого. В разведке же либо знают, либо нет. В данном случае, я — знаю.
— Один мой старый приятель любил повторять: «Не верь в математику, верь в электричество».
— Какая-та изощренная идиома, — поморщился Гордон. — В душе любого, даже самого малообразованного русского человека живет несостоявшийся философ. Что имел в виду ваш приятель, господин Мишин?
— Что дважды два — не всегда четыре, — господин Гордон. — А вот электрический ток, если засунуть в розетку два пальца, обязательно долбанет.
— И вовсе не обязательно, — пожал плечами Гордон. — А только в том случае, если кто-нибудь до этого не додумался обесточить дом…
14. МАЙАМИ-БИЧ (ФЛОРИДА) — ОТЕЛЬ «МЭРИОТТ»
Февраль 1978 года
— Наверное, я не должна спрашивать, как долго мы еще пролежим на этом пекле?..
— Если бы вы действительно так думали, то не спрашивали бы.
— Toushe!
— Потерпите еще немного, — чему-то блаженно улыбаясь, ответила Паулина, не открывая глаз.
Она лежала рядом со мной на белом шезлонге в огромных солнцезащитных очках и смешном пластмассовом наноснике уже второй час подряд. Но, судя по всему, явно не собиралась прекращать прием солнечных ванн. Ее тело, едва прикрытое совершенно неприличными, если учитывать весьма преклонный возраст седовласой Паулины, двумя узенькими черными полосками синтетической ткани, которые в магазине, по всей видимости, назывались купальником и стоили бешеные деньги, покрывал ровный слой великолепного светло-шоколадного загара, и я совершенно не понимала, зачем моему очередному лоцману в бурном море шпионских страстей и премудростей понадобился этот изнурительный сеанс нудистского мазохизма на застекленной террасе.
— А вы не боитесь, Паулина, что пока мы с вами, раскинув телеса, принимаем солнечные ванны, пара-тройка дядечек, озабоченных отнюдь не сексуально, уже изучили нас как следует в бинокль или оптический прицел и в данный момент определили через вымытые стекла две цели, по которым будут стрелять на поражение?
— Нет. Не боюсь.
— Почему?
— По целому ряду причин. Впрочем, есть одна, после которой все остальные уже не играют никакого значения.
— Какая же?
— Вы знаете, Валечка, где совершенно бессмысленно идентифицировать личность женщины?
— В морге.
— Нет, дорогая, в бане. Или на пляже. Или в любом другом месте, где на женщине нет ни одежды, ни макияжа.
— Ах, ну да, конечно же! — пробормотала я. — Почти месяц жизни в условиях цивилизованного общества настолько резко изменил внешний облик советской ткачихи Г., принявшей решение выбрать свободу, что ее не узнала собственная мать. Что-то подобное я уже читала. Или писала…
— Расслабьтесь, Валечка, — прошелестела Паулина. — Мы с вами работали все утро, теперь у нас отдых…
— У вас, Паулина. Для меня ваш отдых является форменной пыткой с садистским использованием ультрафиолета!
— Вы просто не умеете расслабляться и отдыхать.
— Неправда! Я просто ненавижу запах пота!
— А вы представьте себе, как потом он смывается под мощной струей душа. Солнце — это природа, Валечка.
— Ага! А все мы — ее неразумные дети.
— Совершенно зря иронизируете. Именно в природе и заключен разум. А мы лишь пользуемся его крохами, считая при этом, что ничем ей не обязаны. С природой надо жить в гармонии, Валечка.
— Именно этот постулат вы и демонстрируете своим безупречным телом?
— Признайтесь, с первой же минуты знакомства, вас интересует, сколько мне лет? — проворковала без всякой логической связи Паулина, не меняя благостного выражения лица.
— А почему меня это должно интересовать?..
Конечно, как и все москвичи, я безумно любила солнце и всегда мечтала о крымских пляжах в бархатный сезон. Но к исходу второго часа этой пытки на крытой террасе нашего барского номера во втором по счету «Мэриотте», оборудованной какими-то хитрыми приборами для подогрева и увлажнения воздуха, я испытывала огромное желание уменьшиться до размеров нескольких сантиметров и влезть в начиненный льдом стакан со швепсом, который то и дело прикладывала ко лбу и другим частям тела, чтобы не потерять сознание.
— Ну, во-первых, потому, что вы — женщина…
— Вы на редкость наблюдательны, Паулина.
— А, во-вторых, как и всякой женщине, вам, даже несмотря на природную язвительность, хотелось бы выглядеть в моем возрасте так же. Ну, признайтесь, что я права!
— Я столько не проживу, — я прикусила язык секунду спустя, уже после того, как сморозила эту бестактность.
— Проживете, — все тем-же млеющим голосом, словно рядом с ней лежала не потеющая от жары и постоянного страха женщина, а какой-нибудь черноокий красавец с обложки журнала мод, проворковала Паулина. — Обязательно проживете. Если будете умничкой и научитесь извлекать опыт из чужих ошибок.
— У меня серьезные проблемы с первым «если».
— Не обольщайтесь — со вторым тоже.
— Паулина, неужели вы всерьез рассчитываете вбить в меня все эти премудрости?
— Вы когда-нибудь хотели быть женой посла?
— Прежде всего, я бы хотела стать просто женой.
— Если бы действительно хотели, то непременно стали бы.
— Просто женой? Или женой посла?
— Сначала просто женой. А потом женой посла.
— Вы так в этом уверены?
— Положитесь на мой опыт, Валечка.
— А действительно, сколько вам лет, Паулина?
— А вот не скажу!
— Кокетничаете? Со мной?
— Видите ли Валечка… — Паулина поменяла позу для загара, легла на живот и повернула ко мне белую голову в страшных черных очках. — Мне важно добиться вашего полного доверия. А потому я не хочу показаться лгуньей…
— То есть?
— Ну, если я вам скажу, что мне почти семьдесят, вы же все равно мне не поверите.
— А вы предъявите документы. Ну, там, свидетельство о рождении…
— С документов, обычно, и начинается главная ложь.
— Вы очень циничны, да, Паулина? — Эта женщина с седой головой заведующей отделом сортировки публичной библиотеки и великолепным телом зрелой наяды действовала мне на нервы все больше и больше. — Холодны, умны, начитаны… И страшно нравитесь себе?
— К счастью, этот возрастной период я уже давно миновала.
— У вас есть муж, Паулина?
— Был. И не один.
— Сколько же мужей у вас было?
— Много, Валечка.
— А дети?
— Боже, вы еще совсем молоды, — вздохнула Паулина.
— Я же не спрашиваю, откуда они появляются на свет. Вопрос был сформулирован иначе: есть ли у вас дети?
— Сохранить такое тело, родив хоть раз?
— Вам безумно нравится ваше тело, да?
— Да, Валечка. Это единственное чудо природы, которое я могу созерцать когда угодно и где угодно.
— Вы, часом, не больны нарциссизмом?
— Скорее уж, нимфоманией.
— А как насчет души, Паулина?
— Это в воскресенье. В церкви.
— Посещаете храм Божий?
— Естественно, посещаю.
— Следовательно, вы верующая?
— Я же сказала вам, Валечка: в воскресенье.
— Вы странная женщина, Паулина.
— Любая уважающая себя женщина, использующая собственную голову не только для укладки перманента, должна быть хоть немножечко странной. Это придает ей пикантность. Вы не согласны со мной?
— Пикантность для чего?
— Просто пикантность. Разве этого мало?
— Значит, если хочешь вызвать доверие у другого человека и делаешь все, чтобы его оттолкнуть, это, по-вашему, пикантно?
— Вы о себе?
— Я о вас.
— Я вам не нравлюсь, Валечка?
— А вас это удивляет?
— Вы знаете, — Паулина вновь перевернулась на спину, — природа происхождения человека — великий процесс и самая непостижимая тайна на свете. Ни один американец никогда бы не понял ни вас, ни вашей души, ни, соответственно, тех глубинных, подсознательных мотивов, которые заставляют вас говорить и делать то, что вы, Валечка, говорите и делаете…
— А вы со своей русской душой, естественно, все понимаете?
— В том-то и дело, что понимаю я очень мало. Но ЧУВСТВУЮ почти все!
— В вашем роду, Паулина, были исключительно русские?
— Русской была только моя мать. Отец же происходил из очень древнего и богатого германского рода. Его предки были прусскими дворянами и даже имели отдаленное родство с Фридрихом Великим.
— И вы хотите сказать, что ваша генетическая способность чувствовать русскую душу, не понимая ее в принципе, помогает в работе?
— Еще как помогает!
— Я как-то очень смутно все это представляю.
— Напомню вам, Валя, что я психолог, причем, уверяю вас, психолог очень даже недурной, да еще, вдобавок ко всему, имеющий бесценный практический опыт. Для моей профессии почти тридцать лет работы в ЦРУ — это нечто!..
— А в ЦРУ вы занимаетесь исключительно русскими, — вставила я.
— Кто может сказать, чем он вообще занимается! Тем более в таких э-э-э специфических ведомствах! — Паулина легко приподняла свое загорелое тело с шезлонга и встала. — Так вот, для людей, выросших и сформировавшихся в России, или, точнее сказать, на том огромном пространстве, которое зовется ныне Союзом Советских Социалистических Республик, весьма характерно разительное, а с точки зрения продуктов западной цивилизации, патологическое, болезненное несоответствие между словами и поступками, между формой, в которую облекают мысли, намерения, инициативы и их конкретным содержанием…
— Если следовать вашей логике, Паулина, то советская женщина, признаваясь в любви мужчине, на самом деле ждет того момента, когда он уснет, чтобы залить ему глотку уксусной эссенцией или вскрыть ему яремную вену кухонным ножом?
— Не утрируйте, Валечка, — Паулина мягко улыбнулась, взяла с низкого стеклянного столика гигиеническую салфетку и бережно, словно прикоснулась к тончайшему фарфору, промокнула вспотевшее лицо. — Я говорю о поведении человека в экстремальной ситуации. Вы ведь, Валя, живете в зоне правового и нравственного произвола, в условиях автократического строя, сама система которого выстроена таким образом, что рядовая личность, не прикрытая номенклатурными связями, никак не защищена. То есть в экстремальных условиях вы боретесь за себя в одиночку. Мало того, вы прекрасно понимаете ОБРЕЧЕННОСТЬ этой борьбы, поскольку против вас — мощная система, которая практически не дает сбоев. И тогда вы уходите в себя. Но даже во внутреннем противоборстве с собой вы все равно склонны к самообману: понимая, что в одиночку вас непременно сомнут, вы ищите оправдание самой СИСТЕМЕ, оправдывая таким образом свой образ жизни.
— Ну и что? — я пожала плечами, мечтая только об одном — поскорее закончить этот бессмысленный разговор и очутиться под душем. — Чтобы понять это, по-вашему, надо обязательно быть профессиональным психологом и почти тридцать лет проработать в ЦРУ?
— Вы не дослушали меня, Валечка. Я давно уже не читала лекций в университетах, поскольку не занимаюсь обобщениями и теоретической базой, а исключительно конкретной работой.
— В данном случае, мною?
— Верно. Вами. И я должна быть на сто процентов уверена в том, КАК именно вы поведете себя в той или иной ситуации. Что вы не кинетесь на грудь СИСТЕМЕ, в надежде обрести там сочувствие, понимание и прощение. Вы сами вычеркнули себя из гигантской армии советских послушников. Стало быть, должны догадываться, что при ЕСТЕСТВЕННОМ развитии событий прощения вам не будет. Никогда!
— Вы считаете это реальным?
— Что именно? Предусмотреть все?
— Да.
— В рамках конкретного задания, которое будет вам поручено, вполне. Понимаете, Валечка, мы имеем дело с тем самым случаем, когда буквально все совпадает. Психологи определяют такие случаи, как «идеальную мотивацию». То есть затеянное предприятие равным образом выгодно как заказчику, так и исполнителю. Редкий случай, уж вы мне поверьте…
— Мы уже говорили об этом, Паулина… — Я тоже встала. — Правда, в общих чертах, но… Возможно, именно поэтому мне кажется сущей фантастикой, наркотическим миражом для потерявшей надежду неврастенички, все то, что вы мне обещаете.
— Вы имеете в виду ваше возвращение к нормальной жизни в Союзе?
— Да. После всего случившегося со мной, я даже вообразить не могу ситуацию, при которой мне разрешат оставаться на свободе, жить как нормальный человек и даже работать там, где я работала…
— Милочка, если бы вы знали, какую цель преследуем МЫ, право же, решение вашей проблемы показалась бы сущей безделицей, пустяком.
— Я не покажусь вам чрезмерно неблагодарной, если признаюсь, что меня по-прежнему волнуют только собственные проблемы, Паулина, — пробормотала я.
— Но вы ни на секунду не должны забывать, что свою проблему сможете решить исключительно в контексте с нашей. Такая постановка вопроса совершенно естественна, она органична, как родниковая вода. Вы должны мне верить, Валя! И сделать все, что я вам скажу. Вы дали свое согласие, Валя. Вы пошли на очень серьезный риск. И потому я лишаю вас права на инициативу! Даже на минимальную, вы понимаете меня? Вы будете делать только то, что предписано нами, действовать только так, как было решено здесь, в этом номере, и реагировать на любые обстоятельства именно таким манером, который мы определим заранее…
После этого силового монолога Паулина перебросила через плечо голубое банное полотенце, резко раздвинула стеклянную дверь в номер и проследовала в кондиционированный комфорт своей половины королевских апартаментов отеля «Мэриотт» (я уже понимала, что это не совпадение, что совершенно ненормальные с моей точки зрения люди из разведки ничего просто так не делают, а потому старалась не задавать лишних вопросов, связанных с удручающей последовательностью новых опекунов в подборе моего временного места проживания).
Ее половина представляла собой кабинет, спальню и огромную ванную. Впрочем, точно такой же, только в зеркальном отображении, была моя часть номера, куда я и отбыла, проводив седую наставницу молчаливым взглядом.
…За те восемь дней, что мы безвылазно (опять безвылазно!) пробыли с Паулиной в этом сдвоенном номере с кондиционерами, огромной крытой террасой со специальным оборудованием для принятия солнечных ванн и четырехразовым питанием, которое доставлялось в номер служебным лифтом непосредственно в миниатюрный кухонный отсек, я впервые за долгое время ощущала себя относительно ожившей и моментами даже оживленной. Во всяком случае, никакого сравнения с мучительными днями, проведенными в нью-йоркском аналоге этого отеля для VIP, не было. Наблюдая за Паулиной, я вскоре поняла, что эта женщина совершенно одинока. И в столь плачевном для любой нормальной представительницы слабого пола положении она, скорее всего, пребывала постоянно. Максимум, с короткими перерывами. Ибо вряд ли нашелся бы на свете мужчина, который бы рискнул жить под сводом железных правил этого седого старшины в модном купальнике. Она поднимала меня ровно в семь, гнала под холодный душ (я, правда, принимала горячий, но визжала при этом так, что Паулина, похоже, ни о чем не догадывалась. Или делала вид, что не догадывалась), заставляла съедать без остатка гигантский завтрак с обязательными мармеладом, соком грейпфрута и горой основательно прожаренных тостов, после чего сажала меня напротив на своей половине, в кабинете, и начинала говорить, объяснять, настраивать, анализировать… Справедливости ради должна признаться, что то были вовсе не риторические упражнения измученной одиночеством дамы без возраста, а четко направленный поток сконцентрированной информации явно служебного характера, который Паулина перемежала демонстрацией вырезок из газет и журналов, бесчисленных фотографий, картинок и слайдов с изображением людей, городов, улиц, деревьев… Кое-что я неоднократно видела, некоторые изображения попадались мне на глаза впервые — я была в этом абсолютно уверена. Мучила меня Паулина ровно до двух часов дня, после чего я со зверским аппетитом поглощала комплексный обед с обязательным американским десертом в виде огромного куска очень вкусного ежевичного или яблочного пирога и два часа спала. В солнечные дни, в которых фантастически красивый и праздный Майами, несмотря на зиму, недостатка не испытывал, мой послеобеденный сон заменялся на солнечные ванны в условиях застекленной террасы, а вечерами Паулина устраивала видеопросмотры — одна за другой вставляла в видеомагнитофон кассеты и демонстрировала мне весьма любопытные, снятые явно не в павильонах «Мосфильма» учебно-хроникальные ленты, неизменно сопровождая их очень точными, словно уколы булавкой при судороге, комментариями…
Моя голова была настолько перенасыщена информацией (довольно часто я с нежностью вспоминала короткий и простой, как градусник, шпионский инструктаж, который давным-давно, еще в прошлой жизни, провел со мной в «мерседесе» Витяня Мишин), что в одиннадцать, когда по распорядку Паулины мне надлежало находиться в постели, я засыпала как убитая, без всяких раздумий о смысле жизни и причинах резких перемен в моей судьбе.
Время в обществе всезнающей психологини пролетало стремительно, бывали такие дни, когда я ни разу не вспоминала о Юджине. Вначале меня это очень пугало, потом, после нескольких безуспешных попыток выяснить у Паулины, с какой же именно целью он был так неудачно для меня отправлен в заграничную командировку, я немного успокоилась. В плотном режиме пролетали дни, что меня, естественно, устраивало. Несмотря на присущую моему характеру склонность к брюзжанию и природную нелюбовь к любой форме обязательного классного обучения, я не могла не признаться себе, что общение с Паулиной было не только полезным (если, конечно, до конца поверить, что продолжительность моей жизни полностью зависела от глубины усвоения материала: я так понимаю, что это, собственно, и являлось ее профессиональной работой), но также весьма интересным, а в какие-то моменты даже увлекательным. Паулина знала о некоторых советских людях, среди портретов и цитат которых я жила и формировалась много лет, но к которым никогда не имела и не могла иметь прямого доступа, такие сногсшибательные детали, такую убойную информацию, которые, особенно в начале нашего отельного общения, заставляли меня как-то по-дебильски разевать рот и хлопать глазами. Будто жила я не в столице великой страны, не в самом что ни на есть «центре политической, общественной и культурной жизни», и была не заведующим отделом центральной и довольно влиятельной комсомольской газеты, а помощницей доярки на животноводческой ферме в крайнем Заполярье, куда свежая пресса, политические анекдоты, иголки для примусов и тушь «Луи Филипп» поступают только с началом летней навигации.
И был еще один нюанс наших «методических посиделок», который как-то по-особенному согревал мою изрядно огрубевшую в скитаниях душу: чем глубже продвигалось мое ознакомление с некоторыми деталями предстоящего, чем откровеннее и смелее рассказывала седоголовая Паулина о весьма и весьма щепетильных нюансах предстоящей командировки, тем явственней я осознавала приближение финала, начала хоть какого-то шевеления воздуха, когда я, подобно застоявшейся в товарном вагоне скаковой лошади, смогу наконец вырваться на простор дистанции и сломя голову, ни о чем не думая, помчаться к финишной ленточке. Моя любимая подруга хорошо знала это мое нетерпеливое состояние, которое с присущей ей наблюдательностью привычно называла «пионерским костром в жопе».
С течением времени я постепенно разобралась, что в истоках фельдфебельских замашек Паулины и навязанного ее железной рукой казарменного режима лежали, конечно же, не врожденный преподавательский садизм, а острый дефицит времени — она очень торопилась. Или, правильнее сказать, ее очень торопили. Потому-то так внезапно и увесисто свалившаяся мне на голову наставница-психологиня, словно с цепи сорвавшись, стремилась вбухать в мою голову такое количество информации, что в обычной обстановке я бы, пожалуй, все это никогда не осилила. Но к тому моменту я уже как-то сжилась с психологией профессиональной безработной, мозги которой вряд ли могут быть востребованы по назначению; я как-то незаметно забыла, когда в последний раз садилась за свой рабочий стол в редакции и что-то писала, редактировала, с кем-то спорила, о ком-то по- бабски, беззлобно сплетничала… Было совершенно очевидно, что время и события, приведшие меня в конце концов на фантастически красивое побережье Мексиканского залива, стимулировали активную работу моих инстинктов, но не мозга. До Паулины я ни о чем не думала, а только подставляла руки, чтобы смягчить удары, сыпавшиеся на мою голову со всех сторон, когда я из последний сил, на голых рефлексах, ЗАЩИЩАЛАСЬ. Паулина же, загружая меня все новой и новой информацией, впервые за долгие месяцы моих спровоцированных скитаний по свету напомнила о таких привычных, но, увы, изрядно подзабытых понятиях, как самообладание, интеллект, достоинство, интонация, психологический настрой…
Особенно напряженно она работала с моей памятью, на которую я, в общем-то, никогда особенно не жаловалась. Однако методологические натаскивания Паулины принципиально отличались от моих наивных представлений об активизации работы конкретного участка головного мозга. Она тренировала мою память и наблюдательность с последовательностью инструктора физкультуры при городской зоне здоровья, превращающего с помощью специального комплекса упражнений жирные телеса стареющей пациентки в упругое, моложавое тело. Через несколько дней мне было достаточно мельком увидеть чье-то лицо на смазанной, любительской фотографии, чтобы мгновенно вызвать в памяти всю имеющую к ней отношение информацию. Короче, я получала СИСТЕМНЫЙ поток информации, а также кое-какие психологические навыки, с помощью которых могла в долю секунды вызвать его в своей памяти и вычленить самое важное, суть.
Спустя десять дней после начала этого беспримерного шпионского экстерната, она устроила мне генеральную проверку, которая длилась без малого четыре часа и после которой, как мне показалось, у Паулины значительно улучшилось настроение.
— Ты молодец, девочка! — Ее мраморное лицо осветилось улыбкой.
— Дадите Почетную грамоту за успеваемость?
— Ты заслужила больше, чем просто Почетную грамоту.
— Тогда сделайте так, чтобы я его увидела. Хотя бы перед отъездом.
— Это совершенно невозможно, — она покачала своей седой головой. — Даже теоретически.
— Он знает?
— Ровно столько, сколько ему положено.
— Значит, ничего не знает, — пробормотала я и почувствовала, как закипают слезы на ресницах.
— Валентина!
— К чему весь этот дешевый карантин, Паулина? — я с трудом сдерживала раздражение, хотя в глубине души понимала: чем меньше будет знать Юджин, тем спокойнее буду себя чувствовать я.
— Если все завершится удачно, — а я в это верю, — ты получишь ответ лично от него. Договорились?
Я молча кивнула.
— Я хочу сделать тебе подарок в дорогу… — Паулина достала из косого кармана широкой, расклешенной юбки изящную коробочку и медленно раскрыла ее. На нежносинем бархате сверкало золотое кольцо с довольно крупным бриллиантом.
— Надень! — Паулина даже подарки делала в форме приказа, как не очень приятную, но, безусловно, полезную процедуру. Вроде утренних упражнений с брюшным прессом.
Я безучастно надела кольцо на безымянный палец, даже не удивившись, что оно пришлось идеально впору.
— Тебе идет, — улыбнулась Паулина. — Красивые женщины притягивают к себе красивые вещи. Плохо, когда случается наоборот. Но это уже не про тебя.
— Естественно, не про меня! — Я пожала плечами, разглядывая красивую вещицу. В реальной жизни такое кольцо могло появиться у меня только в том случае, если бы меня пригласили сниматься в мелодраме о несчастной любви единственной наследницы швейцарского мультимиллионера. — Лично я, дорогая Паулина, притягиваю к себе только неприятности.
— Не брюзжи, Валентина! — Она взяла мою руку и чуть повернула ее в сторону окна. Крупный и очень чистый камешек, поймав косой солнечный луч, брызнул ослепительным светом. Словно неведомый сварщик только что коснулся его электродом. — О чем ты думаешь?
— Я думаю о том, что это ж-ж-ж — неспроста!
— Что? — Тонюсенькие бровки Паулины сошлись на переносице.
— Так говорил Винни-Пух, не помните, Паулина? Если что-то жужжит — значит пчела. А для чего пчела? Чтобы делать мед. А для чего мед? Чтобы…
— Я читала эту сказку, — процедила Паулина. — Какая связь?
— А какая функция — кроме эстетической, естественно, — отведена этому прелестному колечку?
Засунув руки в карманы юбки, Паулина стояла, чуть покачиваясь с пяток на носки, и пристально смотрела на меня своим по-рентгеновски пронизывающим взглядом.
— Что вы на меня так смотрите? — пробурчала я, ощущая какую-то внутреннюю неловкость. Все равно как тебе делают дорогой подарок, а ты спрашиваешь, не вычли ли для этой цели деньги из твоей собственной зарплаты. — Мы все время были вместе. Я точно знаю, Паулина, что вы не отлучались из этого номера ни на секунду. Следовательно, это кольцо вы не выбирали с любовью в дорогом ювелирном магазине, а просто получили от кого- то из вашей многослойной конторы, кто в курсе не только нашего с вами местонахождения, но даже размера моего безымянного пальца. А поскольку верить в бесплатные завтраки меня отучили хоть и сравнительно недавно, но зато на всю оставшуюся жизнь, я, в строгом соответствии с вашими наставлениями, Паулина, задаю себе дурацкие вопросы: а что, собственно, в этом кольце? Тайный шифр? Контактный яд? Катапультирующее устройство? Или какой-то ультрасовременный телеобъектив, благодаря которому вы сможете сэкономить на моем эскорте?..
— Вот такой вы мне нравитесь по-настоящему, — взгляд Паулины сразу же смягчился и потеплел. — Реакция на любую вещь, которая хоть на микрон покажется вам противоестественной или даже просто странной, должна быть именно такой — точной и мгновенной. Отныне вопрос «Чего вдруг?» должен стать вашим любимым, если не единственным…
— Значит, это действительно не просто бриллиант?
— Просто, Валечка! — проворковала Паулина. — Если только это слово подходит для вещички, стоимостью в несколько тысяч долларов. И это действительно подарок от меня. Единственное, о чем я вас попрошу, Валечка, никогда, ни при каких обстоятельствах, не снимайте это кольцо.
— Почему?
— Уж очень оно вам подходит, милая…
15. АВСТРИЯ. КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ НА РЕКЕ МУР
Март 1978 года
В узком кругу своих сослуживцев и друзей Атилла Хорват слыл человеком малоразговорчивым и прекрасно понимал, что совершенно НЕ ГОДИЛСЯ для той среды, в которой, как правило, самовыражается большинство мужчин среднего возраста с уже сложившимися вкусами, образом жизни и привычками. Как и всякий закоренелый холостяк, Атилла неизменно сторонился общественных мест, не любил новых знакомств, терпеть не мог пустопорожней светской болтовни, был лишен способности со вкусом рассказать пикантный анекдот, сделать женщине приятный комплимент или, на худой конец, поддержать веселую компанию соответствующим выражением лица.
Тем не менее этого статного, молчаливого красавца, живую легенду венгерского спорта, уважали все — и женщины, и мужчины. Но если первые, наткнувшись несколько раз на поистине олимпийское безразличие Хорвата, постепенно теряли к нему интерес, то вторые относились к Атилле с тщательно скрываемым сочувствием, догадываясь, что в душе этого человека живет какая-та тайна, глубокая, незаживающая рана, которая мешает этому странному человеку быть таким, как все. Впрочем, Атиллу такое отношение устраивало вполне…
Сидя за внушительным рулем мощного «мерседеса- 280» с форсированным двигателем и кодовыми номерами Главного управления венгерской контрразведки, который с едва слышимым свистом надвое разрезал сгустившуюся ночную мглу, пронизанную запахом надвигающейся весны, Атилла размышлял о своей жизни, о том, что он совершенно одинок, и чувствовал при этом очень странное, труднообъяснимое, какое-то внутреннее родство с человеком в надвинутой на глаза шляпе, притулившимся в самом углу заднего сидения, который, как и он, не проронил ни слова за все полтора часа ночной гонки в сторону границы с Австрией.
Заверив Андропова в полной безопасности поездки, Хорват лгал. И подозревал, что его вельможный пассажир об этом догадывался. Но у Атиллы не было другого выхода. Практически неуязвимыми, как это ни парадоксально, могут считать себя только отвергнутые обществом бездомные люди, до которых никому нет и быть не может дела, чьи передвижения, встречи и способы добывания хлеба насущного никого не интересуют. Что же касается людей «калибра» его единственного пассажира, то их полную и безграничную безопасность гарантировала только надгробная плита.
Хорват, как опытный канатоходец, уже много лет без страховки балансировавший на головокружительной высоте ежесекундного смертельного риска, трезво учитывал все слабые места затеянного предприятия. В принципе, их было немного, но они тем не менее существовали реально, и Атилла понимал: случись не дай Бог то, чего он опасался, и члена Политбюро ЦК КПСС, председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова попросту не станет. Его ликвидируют еще до того, как выяснят, кто он на самом деле, а уже потом поднаторевшие на подобного рода делах спецы выстроят складную версию нелепой автокатастрофы или скоропостижной смерти одного из самых высокопоставленных кремлевских лидеров по причине почечной болезни, удостоверенной ровно таким количеством подписей, которое потребуется. И все же, от сознания, что именно в эти минуты, прикорнув на заднем сидении, Андропов, возможно, думает примерно о том же самом, Хорвату становилось как-то не по себе. С другой стороны, сама мысль, что он испытывает неосознанное чувство вины перед человеком, являвшимся косвенно причиной гибели его отца, вызывала в Атилле глухое раздражение. Непроизвольно мотнув головой, он попытался сосредоточиться на деле, на конкретной причине, которая так странно, так непредсказуемо свела его судьбу с судьбой этого зловещего и во многом совершенно непонятного ему человека.
«Господи, до чего же должна быть реальной и страшной опасность, нависшая над его головой, что так вот, молчаливым кивком, практически без возражений, он позволил вовлечь себя в эту фантастическую авантюру? — подумал Хорват, плавно вписывая тяжелый «мерседес» в крутой поворот. — У него была прекрасная возможность отказаться, ему ничто не грозило. И тем не менее…»
— Вас не укачивает сзади? — вполголоса поинтересовался Атилла, внутренне презирая себя за невольное, само по себе вырвавшееся проявление заботы о человеке, которого он по-прежнему считал своим врагом.
— Немного, — тихо откликнулся Андропов.
— Может быть, сбавить скорость?
— Это как-то нарушит… м-м-м… наши планы?
— Немного.
— Тогда не стоит. Как-нибудь перетерплю. Сколько нам осталось?
— Еще час. Плюс-минус пять минут.
— Вы чего-то опасаетесь, товарищ Хорват?
— Почему вы так решили? — Атилла бросил косой взгляд на зеркало обзора, в котором смутно угадывался черный силуэт Андропова.
— Я бы хотел услышать ответ на свой вопрос.
— Да.
— Это связано с прохождением границы?
— Да.
— Что вы станете делать, если ваши опасения подтвердятся?
— Постараюсь не рисковать.
— Кем вы постараетесь не рисковать? Собой?
— Вами.
— То есть?
— Боюсь, вам остается только верить мне.
— А почему, собственно, вы этого боитесь?
— Вы вряд ли видите во мне друга.
— Вы не сказали мне, что хотите этого.
— Естественно. Потому что я этого не хочу.
— Любопытный вы собеседник, товарищ Хорват!
По интонации Андропова до Атиллы дошло, что шеф КГБ усмехнулся…
Больше в течение часа, ни один из них не проронил ни слова. И только на подъезде к пограничному КПП, в километре от цели, Хорват, не оборачиваясь, бросил:
— Вам надо лечь на пол, товарищ Андропов, и накрыться. Это минут на десять, не больше…
Притормозив у полосатого шлагбаума, Хорват, не дожидаясь, пока усатый пограничник с витыми погонами старшего капрала подойдет к автомобилю, высунул в окно развернутое удостоверение в темно-вишневом переплете.
— Товарищ Хорват? — подойдя вплотную к окну, но не дотрагиваясь до удостоверения, с какой-то опаской в голосе, спросил старший капрал.
— А там что, вписана другая фамилия?
— По инструкции, товарищ Хорват, я обязан осмотреть автомобиль… — Старший капрал произнес эту фразу с некоторой опаской, но достаточно твердо.
— Багажник открыт, — безразлично пожал плечами Хорват. — Осматривайте, старший капрал, служба есть служба…
Кивнув двум пограничникам, стоявшим за его спиной на некотором отдалении, старший капрал продолжал виновато улыбаться, однако взгляд его был цепким и настороженным.
— Все чисто! — негромко произнес один из пограничников — здоровенный парень с нагловатым рябым лицом.
— Я могу ехать? — спокойно осведомился Хорват.
— По инструкции я должен провести личный досмотр машины, товарищ Хорват, — все так же виновато улыбаясь сообщил старший капрал.
— Ты знаешь, кто я? — не меняя интонаций спросил Хорват.
— Так точно.
— Знаешь, где я работаю?
— Так точно.
— Знаешь, чем я занимаюсь?
— Никак нет.
— Знаешь, что я должен делать по инструкции в такой ситуации?
— Откуда ж мне знать, товарищ Хорват? — пожал плечами старший капрал.
— По инструкции, дружок, я сейчас должен выйти из машины, вырвать твои прокуренные усы и засунуть их тебе в задницу, — доверительно, словно сообщая номера шести выигравших цифр в «Тото», сказал Атилла. — А если ты и после этого не образумишься, то тогда, по все той же инструкции, я должен засунуть в твой неумный рот вот это, — Хорват выставил в оконный проем ствол берет — ты, — и, удостоверившись, что пистолет снят с предохранителя, нажать на спусковой крючок. Ну как, ты хочешь, чтобы я выполнил свою инструкцию, или разрешишь мне делать свою работу?
В течение нескольких секунд старший капрал Иштван Бергер стоял с выпученными глазами, переваривая сказанное. Вызванное открытой демонстрацией огнестрельного оружия секундное просветление в мозгах пограничника на мгновение раскрыло перед ним совершенно ужасную перспективу: только полный идиот стал бы связываться с заведующим отделом административных органов ЦК ВСРП, тем более в тот момент, когда он глухой ночью решил пересечь австро-венгерскую границу.
— Ты что, оглох? — голос Атиллы прозвучал, как щелчок бича.
— Виноват, товарищ Хорват! — Старший капрал щелкнул каблуками, взял под козырек и крикнул рябому пограничнику. — Поднимай шлагбаум, дубина! Да поскорей!
— Фамилия?
— Старший капрал Иштван Бергер.
— До какого часа дежуришь, старший капрал?
— Смена в 4.00, товарищ Хорват.
— Хорошо… — Атилла засунул пистолет за брючный ремень и повернул ключ зажигания. «Мерседес» фыркнул и ровно заурчал. — Сейчас 23.45. Примерно в 2.30 я вернусь обратно. Запомни как следует марку моей машины и ее номера. Если на обратном пути ты или какая-нибудь из твоих тупых тварей меня остановит, учти: старшим капралом ты будешь оставаться ровно столько времени, сколько мне понадобится, чтобы доехать до Будапешта и подняться в свой кабинет. В девять утра ты уже будешь в Управлении пограничных войск. Без погон, ремня и шнурков в ботинках. А в десять ощутишь себя абсолютно свободным. Настолько, что сможешь без помех становиться в очередь на биржу труда. Понял?
— Так точно!
— Тогда пшел вон, дебил!..
Проехав пограничный мост над рекой Мур, Хорват притормозил у австрийского КПП, молча протянул через окна удостоверение пожилому фельдфебелю в каске и, получив в ответ сдержанный молчаливый кивок, погнал уже основательно запыленную машину вдоль реки, мимо жухлых весенних лугов.
Примерно через сорок минут «мерседес» практически неслышно, на нейтральной скорости, вкатил на отгороженный высокими деревянными кольями крестьянский двор, в торце которого высился двухэтажный дом с покатой черепичной крышей, добротно построенный из грубо отесанного серого камня.
Вокруг простиралась глухая мартовская ночь. Было по-деревенски тихо, лишь изредка эту безмятежную пастораль тревожило гулкое уханье филина. Низкие облака надежно отделяли от мерцания звезд возвышенность, на которой располагался дом, а полуразмытая луна практически не давала света.
— Приехали! — тихо сказал Хорват, притормозив у крыльца дома, и повернул ключ в замке зажигания. — Выходите, товарищ Андропов.
— А вы? — откликнулся шеф КГБ СССР, не трогаясь с места.
— Я буду ждать вас в машине. И помните, товарищ Андропов: что бы ни случилось там, в этом доме, к каким бы решениям вы не пришли, ровно в шесть утра вы будете в доме гостей под Будапештом.
— Хорошо…
В обзорное зеркальце Атилла видел, как Андропов вышел из «мерседеса», тихо притворил за собой дверцу и огляделся, а потом, надвинув черную шляпу еще глубже на глаза, чуть сгорбившись, поднялся по ступенькам крыльца и исчез за массивной деревянной дверью.
Хорват глубоко вздохнул, откинулся на кожаное сидение «мерседеса» и закрыл глаза…
Едва переступив порог, Андропов невольно зажмурился: просторный холл был ярко освещен старинной многорожковой люстрой.
— Добрый вечер, Юрий Владимирович. Я рад, что вы нашли возможность приехать на эту встречу…
Все еще щурясь, Андропов сделал несколько шагов вперед и увидел в противоположном от себя конце длинного прямоугольного стола без скатерти невысокого пожилого мужчину в скромном сером костюме. Мужчина стоял, опершись крупными руками о полированную поверхность стола, не сводя цепкого взгляда с гостя.
Андропов кивнул, снял пальто и шляпу, отыскал взглядом прикрепленную к стене в правом углу холла старомодную тирольскую вешалку из ветвистых оленьих рогов, аккуратно повесил одежду и, даже не сделав попытку приблизиться к хозяину дома, сел в противоположном от него торце стола.
Собеседников разделяло без малого восемь метров.
В течение минуты оба внимательно, ТЯЖЕЛО разглядывали друг друга, не произнося ни слова, как в детской игре, в которой заговоривший первым, по условиям, проигрывает.
— С кем имею честь? — глухо произнес Андропов.
— Вы поверите мне, господин Андропов, если я скажу вам, что это не имеет никакого значения?
— Нет.
— В таком случае, Генри Оушен, к вашим услугам.
— Ваши полномочия, господин Оушен?
— Моя осведомленность, а также сам факт, что вы здесь, в Австрии — разве недостаточное подтверждение моих полномочий?
— Кого вы представляете?
— Президента Соединенных Штатов Америки.
— И проверить это также невозможно, как и то, что вас зовут Генри Оушен, — скорее себе, нежели собеседнику, пробормотал под нос Андропов.
— Совершенно верно, господин Андропов, — улыбнулся хозяин дома.
— Что вы хотели мне сообщить?
— Скорее, предложить, — поправил Оушен.
— Хорошо… — Андропов снял очки и устало потер переносицу. — Что вы хотели мне предложить?
— Помощь. Нашу помощь.
— Поконкретней, пожалуйста.
— Мы располагаем информацией, что ваше дальнейшее пребывание в Политбюро и, следовательно, на посту шефа КГБ, более чем сомнительно. Высылка вашей агентуры из некоторых стран Латинской Америки станет для Брежнева и его коллег по Политбюро сигналом к вашему политическому уничтожению. Но это не все, господин Андропов! — Оушен несколько театрально поднял указательный палец. — Генерал Семен Цвигун осуществляет параллельно энергичные меры, направленные против вас лично. Мы располагаем данными, в соответствии с которыми эти меры могут вылиться во что угодно…
— Что вы имеете в виду?
— Судя по всему, господин Андропов, меры, направленные против вас, — это не просто борьба за власть. Здесь что-то большее…
— Цвигун действует в одиночку? — быстро спросил Андропов.
— Кого вы проверяете, господин Андропов? — поджал губы Оушен. — Себя или нас?
— Я бы хотел услышать ответ.
— Непосредственными интересантами вашего устранения являются также генерал Цинев и шеф вашего МВД Щелоков. Вам перечислить имена членов Политбюро, которые охотно воспользуются результатами работы этой троицы?
— Не стоит, — пробормотал Андропов.
— Отлично. Я вас убедил?
— Допустим… — Лицо Андропова выглядело совершенно непроницаемым. — Допустим, что все действительно так, как вы мне только что описали. Мне бы хотелось знать, как далеко простираются ваши возможности? Что вы можете конкретно сделать?
— Работавшие под дипломатической крышей агенты КГБ не будут депортированы. Это даст вам некоторый выигрыш во времени, господин Андропов. Что же касается генерала Цвигуна — главной фигуры в заговоре против вас, то мы разработали поэтапный план его дезавуации…
— В чем суть этого плана?
— Я скажу вам об этом только в том случае, если вы примите наши предложения в принципе.
— Похоже, вы подошли к самому главному?
— Совершенно верно, сэр, — кивнул Оушен. — Все, что требуется от вас, господин Андропов, — это дать событиям развиваться своим естественным ходом…
— Поточнее, пожалуйста.
— Извольте! — Оушен чуть подался вперед. — В случае принципиального решения вопроса о нашем сотрудничестве, вы, господин Андропов, станете после смерти Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС. На этой должности перед вами откроется полный спектр вариантов советско-американского сотрудничества. Нам известна ваша позиция, она нас вполне устраивает, но нам бы хотелось иметь гарантии, что, став советским лидером, вы не измените своей концепции разумного сдерживания и стратегического баланса ядерных сил в угоду ка- ким-либо иным приоритетам или политическим конъюнктурам…
— Поконкретней, пожалуйста.
— Достижение конкретных соглашений о взаимном ограничении гонки стратегических наступательных вооружений, честное политическое партнерство, четкий план поэтапной, с учетом интересов национальной безопасности вашей страны, демилитаризации советской экономики, создание советско-американских институтов по наиболее важным направлениям двусторонних отношений, разграничение сфер влияния и контроль за деятельностью разведок, подписание двусторонних договоров по борьбе с международным терроризмом, по вопросам стратегической целесообразности советского военного присутствия на Дальнем и Ближнем Востоке, производству и Испытаниям химического и бактериологического оружия… Впрочем, зачем нам терять время, господин Андропов, все пункты подробно изложены в документе, который я привез…
Оушен наклонился к стоящему у ног кожаному атташе-кейсу с наборными цифровыми замками, положил его на стол перед собой, отщелкнул крышку и извлек тонкую синюю папку. Затем встал и впервые за весь разговор, нарушив невидимую демаркационную линию, разделявшую собеседников, подошел к Андропову и протянул ему папку.
— Документ составлен по-русски, господин Андропов. Второй документ — идеально точный английский перевод. Тем не менее, чтобы у вас не оставалось сомнений, в каждом из двух документов отдельным пунктом указано, что в случае спорных вопросов, оригиналом считается именно русский текст.
— Хм, — Андропов пожал плечами, водворил очки на переносицу, взял протянутую папку и углубился в чтение. Тонкие губы Оушена тронула едва заметная улыбка. Вернувшись на свое место за столом, он аккуратно закрыл атташе-кейс и поставил его на прежнее место у левой ноги.
— Я нахожу этот документ разумным, — тихо, почти неслышно, произнес Андропов, закрывая папку и аккуратно кладя ее перед собой.
— То есть вы считаете его одинаково полезным как для СССР, так и для США?
— Да, именно так.
— Рад, что наши мнения на этот счет совпадают.
— Но я не увидел под документом подписи вашего президента.
— Совершенно верно, — кивнул Оушен. — Кроме того, никто также не увидит под ним и вашу подпись. Она не требуется.
— Тогда объясните мне разницу между официальным документом и обычным листом машинописного текста, — по-прежнему оставаясь абсолютно спокойным, процедил Андропов.
— Критическая точка переговоров, — улыбнулся Оушен. — Будьте любезны, господин Андропов, поделитесь со мной своими соображениями: кто из двух сторон в данной ситуации рискует больше — советская или американская?
— Это риторический вопрос, господин Оушен.
— И тем не менее, господин Андропов.
— Допустим, американская.
— Я бы изменил «допустим» на «безусловно», — как бы вскользь обронил Оушен. — Ведя с вами переговоры о ваших обязательствах в БУДУЩЕМ, мы предпринимаем ряд очень непростых акций, направленных на усиление ваших политических позиций в Кремле уже СЕГОДНЯ. Я был бы также очень признателен вам, господин Андропов, если бы вы, в свою очередь, изложили, пусть даже вчерне, соображения относительно ВАШИХ гарантий честного партнерства.
— Вам известны мои взгляды на политическое сосуществование с США, — сверкнув линзами очков, пробурчал шеф КГБ. — Этого недостаточно?
— Достаточно. Но только СЕГОДНЯ, когда на календаре март 1978 года, а вы — хоть и очень высокопоставленный, но всего лишь член Политбюро ЦК КПСС и председатель КГБ СССР. А что будет, скажем, в восемьдесят втором? Или в восемьдесят третьем году, когда не станет Брежнева и вы сядете в кресло Генерального секретаря партии?
— Чего вы хотите?
— Письменных обязательств, — молниеносно отреагировал Оушен. — Вы должны собственноручно подписать документ с обязательствами выполнить все то, что вы только что сами назвали разумным, как только возглавите руководство в Советском Союзе. В противном случае, наша сделка состояться не может.
— Значит, в вашем портфеле есть еще один документ?
— Есть, господин Андропов. Скажу вам без всякой лести: в Вашингтоне вас считают наиболее умным и дальновидным советским политиком. Хотя вы прекрасно понимаете, что ваша деятельность на посту шефа КГБ доставляет нам и нашим союзникам немало хлопот. Отношение американского президента к вам, господин Андропов, — это отношение в высшей степени корректное, с должным уважением к вам лично и к стране, на благо которой вы служите. В нашей беседе нет и не может быть места таким унижающим достоинство профессионального политика и честного гражданина приемам, как угрозы, шантаж и прочее. Вы являетесь нашим идеологическим противником, господин Андропов, но мы всегда уважали вашу честность, наличие принципов и последовательность в их отстаивании. Только поэтому мог состояться наш разговор. Поверьте, мы не стремились использовать ваши служебные затруднения, просто они по стечению обстоятельств способствовали достижению ВОЗМОЖНОСТИ, к которой мы стремились очень давно, — поговорить с вами вот так, с глазу на глаз. Вы, господин Андропов, — единственный на сегодня человек в Кремле, в котором США, а, значит, и весь цивилизованный западный мир видит политика, способного коренным образом изменить нынешнюю ситуацию в мире, ослабить и, возможно, окончательно устранить угрозу третьей мировой войны, по- настоящему сблизить народы Запада и Востока. Это долгий процесс, возможно, его конкретные результаты увидят уже наши дети или даже внуки… Но кто-то же должен его начать, господин Андропов! Вы совершенно свободны в своем выборе. В случае, если вас по какой- то причине не устраивают изложенные мною условия, вы вправе сделать все, что вам будет угодно. Заверяю вас от имени своего президента: ни одного слово из нашей беседы никогда не станет достоянием гласности. Да это и невозможно, учитывая уровень и характер соглашения.
— И этот документ?.. — тихо спросил Андропов.
— Полностью идентичен тому, который лежит перед вами. Просто первый вариант составлен как протокол о намерениях, а второй является письменной формой обязательства строго придерживаться его.
— Где он будет храниться?
— Даже если я скажу вам это, господин Андропов, вы, по вполне объективным причинам, все равно будете не в состоянии оценить высочайшую степень тайны его сохранности.
— Но Брежнев может прожить дольше, чем вы предполагаете, — меланхолично улыбнулся Андропов. — Мало того, я могу умереть раньше него…
— Оставим эти вопросы господу Богу, под которым все мы ходим.
— А если то, о чем вы только что говорили, произойдет после очередных выборов в ВАШЕЙ стране? Если к власти придет другой президент, придерживающийся иных позиций?
— Сэр, — Генри Оушен резко вскинул голову. — Представляя в этой беседе президента США, я обращаюсь к вам от имени народа моей страны. Как вам должно быть известно, господин Андропов, в протоколе обращения к президенту отсутствует фамилия. Мы говорим просто: «Господин президент». И все.
— Дайте мне этот документ…
В течение последних пятнадцати минут Оушен во второй раз совершил процедуру с портфелем, подошел к Андропову и положил перед ним один-единственный лист бумаги. Окинув обязательство коротким взглядом, Андропов поднял голову. На его тяжелом, в резких складках, лице застыл немой вопрос.
— Что-то не так? — нахмурился Оушен.
— Если я не стану генсеком, это обязательство ничего не стоит?
— Совершенно верно, господин Андропов. — Кивнул Оушен. — Что вас, собственно, смущает?
— Я — профессиональный политик с тридцатилетним стажем, — глядя куда-то в сторону, мимо Оушена, тихо произнес Андропов. — И хорошо усвоил истину: в политике, господин Оушен, нет места благородству. Это противоестественно…
— Согласен, — кивнул американец. — Рано или поздно за все приходится платить.
— Так чем же придется заплатить мне?
— Памятью, господин Андропов, — твердо ответил Оушен. — Памятью о вас…
— Я не понимаю, — Андропов сконцентрировал наконец тяжелый взгляд на американце и коротким тычком указательного пальца поправил очки на переносице. — Я вас не понимаю!
— Рано или поздно, уже после нашей с вами смерти, этот документ или его устное изложение перестанет быть тайной. В этом и заключается главный риск, ваша единственная плата, господин Андропов. Потомки либо проклянут вас, либо назовут своим спасителем. Лично я верю во второе…
Андропов молча кивнул, обеими руками пригладил редкие волосы, затем засунул руку во внутренний карман двубортного синего пиджака, достал массивный «Паркер» с открытым золотым пером и, на секунду прикрыв блеклые голубые глаза, размашисто подписался.
Ни слова не говоря, Оушен протянул Андропову руку. Председатель КГБ медленно встал и пожал ее.
— Вам пора возвращаться, господин Андропов, — Оушен даже не притронулся к подписанной бумаге. Она так и лежала на полированной поверхности стола, как белый флаг капитуляции. — Мне бы хотелось сказать вам еще кое-что… Первое: постарайтесь не предпринимать ВИДИМЫХ контрмер против Цвигуна — им займемся мы, господин Андропов. Люди, которые с этой секунды будут активно задействованы в дезавуации вашего первого заместителя, не являются гражданами США. По условиям, которые поставил президент моей страны, ни один американец не имеет права и, стало быть, не будет участвовать в этой операции.
— Разумно, — кивнул головой Андропов. — О ком идет речь?
— Вы знаете этих людей, господин Андропов. Я не стану посвящать вас в детали операции, которая не имеет к вам ни малейшего отношения. Правда, должен сделать оговорку: ваше имя и карьерные притязания будут играть в этой операции роль символической морковки для кролика…
— Понимаю… — Андропов сложил толстые губы «сердечком», словно пробовал на вкус конфету. — Что требуется от меня лично?
— Безопасность этих людей — их личная проблема. Перед ними поставлена задача — выманить Цвигуна на такое поле, где этому господину будет очень трудно заниматься чужими проблемами. Но в случае, если эти люди каким-то образом окажутся в поле зрения ВАШИХ подчиненных, господин Андропов, знайте, пожалуйста: де- юре они выполняют наше задание, но де-факто — работают на вас. А точнее, — за вас…
— Они об этом знают?
— Они знают ровно столько, сколько им положено знать. В конце концов, речь идет о простых исполнителях. А простые исполнители, как вам наверняка известно, никогда не посвящаются в стратегическую цель операции. Есть тут, правда, существенный нюанс: эти люди работают, можно сказать, на чистой идее, за право вернуться домой, на родину, которое можете предоставить им только вы, господин Андропов.
— Мне кажется, я догадываюсь, о ком именно вы говорите…
— Тем не менее, чтобы исключить случайности, я назову их имена. Речь идет о заочно приговоренном к расстрелу за предательство подполковнике КГБ Викторе Мишине и сотруднице одной из московских газет Валентине Мальцевой.
— Старые знакомые, — пробормотал себе под нос Андропов и неожиданно широко улыбнулся. — Я вас понял. С завтрашнего утра они перестанут быть объектами преследования…
— Преследования КГБ, — уточнил Оушен.
— Другие спецслужбы я не курирую, — глядя в глаза американца, тихо сказал Андропов.
— Я рад, что мы с вами понимаем друг друга.
— Последний вопрос: в случае, если судьба сведет нас в несколько… иной обстановке, не попаду ли я в неловкое положение, обратившись к вам по имени Генри Оушен?
— Вы никогда не попадете в неловкое положение, сэр, — улыбнулся американец. В этот момент на лицо посланника президента США упал яркий сноп света, и Андропов впервые увидел, что его собеседник очень стар, что ему далеко за семьдесят. — В следующий раз мы можем встретиться — в случае, если я доживу, конечно, — только когда вы станете самым большим человеком в Кремле. Следовательно, по протоколу вам меня представят…
16. КОПЕНГАГЕН. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КАСТРУП
Март 1978 года
Самолет авиакомпании «SAS», совершавший регулярный рейс по маршруту Бонн-Копенгаген, приземлился на полосе номер 4 международного аэропорта столицы Дании точно по расписанию — в 11.10 по местному времени.
Витяня Мишин, облаченный в элегантный черный плащ с небрежно поднятым воротником, по-ковбойски сдвинутую к переносице широкополую черную шляпу, с дорожным саквояжем в правой руке, сдержано кивнул миленькой стюардессе, провожавшей пассажиров «Боинга» у выхода из самолета, и уверенной походкой преуспевающего бизнесмена, прилетевшего в датскую столицу по важным делам, проследовал через телескопический трап в выложенный розовым мрамором зал таможенного досмотра.
…Чисто символически пробежав пальцами по содержанию объемистого светло-коричневого саквояжа из добротной свиной кожи, невысокого роста усатый таможенник в эффектном синем мундире с золотыми позументами извлек довольно увесистую книгу в яркой суперобложке. Это было немецкое издание романа Уильяма Манчестера «Убийство президента Кеннеди».
— Ваша? — поинтересовался датчанин по-немецки, небрежно перелистывая книгу и не отрывая цепкий взгляд от пассажира.
— Моя.
— Вас интересует эта тема?
— А разве есть такие, кого она не интересует? — одними губами улыбнулся Витяня.
— Я несколько раз читал этот роман, — таможенник подался чуть вперед, будто хотел поделиться с Мишиным интимной тайной. — И все равно не могу поверить, что Освальд сделал это один, без посторонней помощи… Желаю вам приятно провести время в нашей стране, майн герр!..
Молча кивнув, Мишин аккуратно положил во внутренний карман пиджака синий с золотым тиснением паспорт гражданина ФРГ на имя Вернера Штрумпфа, прихватил саквояж и, не торопясь, направился в основное здание аэропорта, выглядевшее в эти утренние часы не особенно многолюдным.
Взглянув на часы, Мишин направился в бар, поставил у ног свой саквояж, взгромоздился на высокий табурет с удобной кожаной спинкой и заказал перно. Медленно потягивая напиток и держа под зрительным контролем участок вокруг бара радиусом примерно сто метров, Витяня вдруг вспомнил рассуждения таможенника и непроизвольно хмыкнул. То, что по версии Манчестера, писавшего свою книгу по заказу семьи Кеннеди, сделал 22 ноября 1963 года Ли Харви Освальд, не мог бы сделать никто на свете, даже специально обученный и натасканный на подобного рода делах профессиональный киллер. В памяти Мишина совершенно непроизвольно всплыла мрачная, обвешанная идиотскими пропагандистскими плакатами, комната для занятий в «вышке» — Высшей школе КГБ СССР, и лысая, как колено, голова Игоря Николаевича Серостанова, преподававшего курсантам премудрости древнего как мир диверсионного дела. Об этом человеке в «вышке» ходили легенды. Большинство курсантов, воспитанных на советской военно-патриотической литературе и видевших себя в недалеком будущем в самом логове коварного империалистического врага, где они — умные, натасканные, хладнокровные — будут совершать подвиги во имя родины, — были влюблены в Серостанова — старого, давно уже вышедшего на пенсию, нелегала, большая часть жизни которого прошла в коротких, «закордонных» вылазках, после которых, как правило, скоропостижно умирали враждебно настроенные к Советскому Союзу «вражеские» парламентарии, попадали в автокатастрофы «засвеченные» КГБ сотрудники западных спецслужб или «погибали на боевом посту» сотрудники КГБ, заподозренные начальством в двойной игре. Уже много лет спустя, пройдя примерно тот же путь, что и его наставник, Мишин неожиданно для себя вдруг осознал, что его любимый преподаватель в «вышке» был по сути дела хоть и весьма талантливым и по-своему одаренным, но тем не менее классическим бандитом, террористом, научившимся не видеть за коротким и святым для чекистов ленинской школы словом «оперативное задание» личность человека, которого ему надлежало казнить. Именно Серостанов как-то посвятил целых два академических часа детальному разбору убийства Кеннеди, доказав завороженным курсантам с помощью классной доски, огрызка мела и деревянной указки, что ни один человек в мире не способен под таким утлом и с такой скоростью поразить «движущуюся мишень». Он так и сказал тогда — «движущаяся мишень». Человек по имени Джон Фитцджеральд Кеннеди не интересовал его по определению. Как, впрочем, и весь остальной мир, кроме непосредственного начальника, от которого Серостанов получал приказы.
«Самое поразительное, что старик, скорее всего, был бы мною доволен, — с грустью подумал Мишин о давно уже ушедшем в мир иной Серостанове, расплачиваясь за выпивку и направляясь к выходу, на стоянку такси. — В соответствии с моральными ценностями этого монстра, самое главное заключалось в четком и оперативном выполнении задания. К счастью, он никогда не говорил от кого именно должно исходить это задание, — настолько незыблемой была вера убежденного коммуниста в единственно возможного «заказчика» — государство рабочих и крестьян…
Подъехав к дворцу Кристиансборг — одному из главных мест паломничества туристов, Витяня расплатился с таксистом, получил сдачу, оставил водителю на чай три кроны, затем вышел из машины и усмехнулся. Наверное, шофер такси подумал о нем черт-те что. И впрямь, диковинный пассажир попался датчанину. Судя по внешности — обычный иностранец, скорее всего, бизнесмен. Однако вопросы не задавал, головой по сторонам не вертел, а всю дорогу подстригал усики, любовно оглядывая свою внешность в небольшое зеркальце. В этом нехитром отвлекающем маневре фальшивым было все, кроме зеркальца, с помощью которого Мишин мог убедиться, что в короткой экскурсионной поездке по столице Дании его никто не сопровождал.
Во всяком случае, пока не сопровождал.
Окинув с умеренным любопытством изумительную готику дважды горевшего и дважды восстанавливавшегося дворца Кристиансборг, в котором размещался датский парламент, Мишин пересек выложенную отполированной брусчаткой улицу старого Копенгагена и еще раз взглянул на дворец. Затем, пропустив несколько машин, коротким свистом остановил такси и поехал в обратном направлении. Минут пятнадцать машина петляла в узких улочках старой части Копенгагена. Выйдя на углу Королевской улицы и Банхофф-плац, Витяня подошел к газетному киоску, купил свежий номер «Гамбургер цайтунг», развернул газету и несколько десятков метров брел по улице, погрузившись в чтение, после чего неожиданно резко нырнул в огромный застекленный пассаж и растворился в потоке туристов, с любопытством обозревавших яркие витрины.
Спустя полчаса Мишин уже стоял на блистающей чистотой лестничной площадке третьего этажа старинного и, видимо, совсем недавно отреставрированного дома почти в самом центре Копенгагена. Почти сразу же после того как он легонько вжал белую пуговичку звонка, тяжелая, мореного дуба, дверь с изящной бронзовой ручкой отворилась. На пороге стояла молодая темноволосая женщина со спокойным, чуть надменным выражением тонкого, мраморно-белого лица, которое вполне можно было считать красивым, не порть его несколько тяжеловатый для такой хрупкой дамы подбородок.
— Моя фамилия Зденек. Вацлав Зденек, — представился Витяня на немецком. — Герр Зиппель назвал мне ваш адрес…
— Ах да, конечно! — выражение лица женщины потеплело. — Прошу вас, господин Зденек, проходите…
Освободившись от плаща в почти неосвещенной прихожей, Витяня молча последовал за хозяйкой, отметив про себя, что молодая женщина прекрасно сложена.
Просторная, светлая комната, в которой очутился Мишин, скорее всего, была либо мастерской профессионального художника, либо стилизованным чердаком, которыми так увлекались в конце шестидесятых годов европейские «новые левые». Чувствовалось, что в нее вложили немало труда и средств. Обставляя ее, неведомый дизайнер, по всей видимости, изрядно поломал голову, прежде чем добился столь пронзительного диссонанса между благообразным фасадом старинного дома и внутренним решением мастерской-чердака. Обтянутые черными полиэтиленовыми струнами металлические каркасы кресел и стульев, несколько абстрактных картин в белых рамах на такого же цвета стенах, какая-то причудливая скульптура из бронзы в углу, вызывавшая невольную ассоциацию со сцепившимся в смертельной схватке клубом ядовитых змей, длинный стол из толстого стекла, крепившийся на зигзагообразной ноге из черного металла…
— Присаживайтесь, господин Зденек.
Витяня поскреб пятерней затылок и вздохнул.
— Что-то не так? — на красивом лице хозяйки мелькнула сдержанная гримаса недоумения.
— Простите, я не знаю, как вас зовут.
— Ингрид. Ингрид Кристиансен.
Она непринужденно, без всякого жеманства, протянула руку, и Витяня с неожиданным для себя удовольствием пожал узкую, прохладную руку хозяйки.
— А вы уверены, Ингрид, что эти кресла предназначены для сидения?
— А для чего же, по-вашему, они предназначены? — пожала плечами хозяйка.
— Дело в том, что во мне почти девяносто килограммов, и я не уверен…
— Стулья рассчитаны на значительно больший вес, — улыбнулась Ингрид.
— Вы что, проводили специальные испытания?
— Да, поскольку я сама их делала…
Витяня хмыкнул и осторожно опустился в кресло.
— Ну как? — Ингрид уселась напротив и аккуратно одернула юбку.
— Вроде, ничего… — Для уверенности Витяня немного поерзал, после чего, убедившись в надежности хрупкого изделия, уже свободней откинулся на спинку.
— Хотите что-нибудь выпить?
— Нет, благодарю вас.
— Может быть, вы голодны? Я могу приготовить вам сэндвич.
— Спасибо, Ингрид, я плотно позавтракал в самолете. Вот если бы вы разрешили мне закурить…
— Простите, господин Зденек, но я органически не переношу табачного дыма.
— Извините.
— За несколько минут до вашего прихода мне позвонил Клаус…
— Кто, простите?
— Ну, господин Зиппель!
— Ах, да, — пробормотал Витяня. — И что он сказал?
— Велел передать, что подъедет примерно через полчаса. Так что вам придется немного подождать, господин Зденек. Как я понимаю, вы — заядлый курильщик, с сигаретами почти не расстаетесь…
— Ну, почему же заядлый? Просто курильщик.
— Цвет ваших пальцев на правой руке — указательного и среднего — в живописи называется охрой. Несколько сигарет, выкуренных в течение дня, такого цвета никогда не дадут. Вы курите не меньше трех пачек в день, я не ошиблась?
— Вы очень наблюдательны, Ингрид, — улыбнулся Мишин.
— Это моя профессия. Я занимаюсь дизайном современной мебели. А в этом деле просто необходимо до нюансов разбираться в цветовой гамме.
— Вы, судя по всему, недавно бросили курить, верно?
— Да, это так, — тонкие брови Ингрид чуть изогнулись. — Но как вы догадались?
— Это моя профессия, — впервые за долгие годы Витяня почувствовал, что ему приятно разговаривать с женщиной. Просто так, ни о чем не думая и ничего не опасаясь, болтать о ерунде. — Я занимаюсь человеческой психологией.
— И как, преуспели в своей профессии?
— А вы?
— Мне всегда не нравится то, что я делаю.
— Редкое для женщины качество, — пробормотал Витяня себе под нос.
— Простите?
— Я бы рискнул предположить, что у вас мужской склад ума.
— Вы, по-видимому, хороший психолог.
— Увы, мы с вами схожи в оценках: как и вам, мне почти всегда не нравится то, что я делаю.
— Таким образом, можно сказать, что в каком-то смысле мы с вами коллеги, так?
— Это честь для меня.
— Отчего же?
— У меня никогда не было таких очаровательных коллег, Ингрид, — совершенно искренне улыбнулся Мишин.
— Вы ведь не немец, господин Зденек? — Молодая женщина явно смутилась и перевела разговор в более спокойное русло.
— Разве я говорю по-немецки с акцентом?
— О нет! — Хозяйка мастерской осторожно, словно боясь вызвать боль неосторожным движением, покачала изящной головкой. — Вы РАЗГОВАРИВАЕТЕ не по-немецки.
— Ах да! — хмыкнул Витяня. — Прямо с порога я должен был потребовать у вас свинину с кислой капустой и литровую кружку баварского пива.
— Я думаю, что в ваших жилах течет очень много славянской крови, — не обратив никакого внимания на реплику Мишина, ответила Ингрид.
— Н-да, вы разбираетесь не только в цветовых нюансах.
— Вас расстроило мое замечание?
— Боже упаси! Впрочем, о моем славянском происхождении достаточно красноречиво свидетельствует имя. — Витяня чуть подался вперед. — По матери я — чех.
— Что вы говорите?! — Белое лицо Ингрид буквально осветилось широкой улыбкой. — А я по матери — полька.
— Почти земляки, — улыбнулся Мишин.
И в этот момент в прихожей коротко тренькнул звонок.
— А вот и Клаус!.. — Ингрид непринужденно встала и направилась к двери.
Все, что делала эта женщина, было буквально пронизано каким-то первородным изяществом. В который уже раз Мишин поймал себя на мысли, что ему приятно наблюдать за этой женщиной, которую он знал всего несколько минут. «Я совсем не в форме, — с какой-то усталой обреченностью подумал Витяня. — Или сказываются последствия ранения, или меня разморила дорога, или эта женщина с ее наивной проницательностью напомнила мне о том, что в моем возрасте многие мужчины уже привыкают возвращаться домой после работы, садиться в кресло и просто смотреть на женщину, которая тебе нравится…»
— Вацлав!
На пороге стоял пожилой, импозантный мужчина в добротном темном костюме и красном галстуке-бабочке. В зубах у него была зажата огромная пенковая трубка. — С приездом, мой друг!
Витяня встал и сделал несколько шагов навстречу гостю. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, при этом Клаус с откровенной симпатией похлопал Витяню по стальному плечу.
— Ну, я вас оставлю на время, — улыбнулась Ингрид. — А то мой заказчик, наверное, уже нервничает.
— Но мы тебя дождемся, дорогая? — Клаус бережно привлек к себе Ингрид и шутливо боднул ее изящную головку своей пегой шевелюрой.
— Конечно, Клаус. Я вернусь примерно через час. Не уходите без меня… — Молодая женщина как-то странно взглянула на Мишина и, изящно махнув рукой, вышла из мастерской.
— Прелестное создание, — пробормотал Клаус, проводив Ингрид взглядом и усевшись напротив Витяни. — Ее отец был моим большим другом. И, кстати, прекрасным архитектором…
— То есть это…
— Это действительно дочь моего близкого друга, — очень внятно произнес Клаус. — И никакого отношения к нашим делам ни она, ни ее квартира не имеет. На всякий случай, рекомендую вам это запомнить!
— Да, действительно приятная женщина, — кивнул Мишин, с любопытством разглядывая собеседника.
— Как долетели?
— Нормально.
— Никаких осложнений в пути?
— Вроде бы, никаких.
— Документы вам выдали в Моссаде?
— Те, которые у меня сейчас, — да.
— Как поживает господин Гордон? Не болеет?
— Кто это? — невозмутимо поинтересовался Витяня.
— Вы хотите сказать, что покинули Израиль, не побеседовав с господином Гордоном?
— А если это действительно так, вы что, отправите меня обратно?
— Покажите мне ваш паспорт.
— Прошу! — Витяня протянул документы собеседнику.
— Хороший документ, — пробормотал Клаус, возвращая паспорт. — Умеют работать, носатые…
— Я должен натурализоваться в ФРГ?
— Вы что-то игриво настроены, господин Мишин? — в голосе Клауса отчетливо сквозило раздражение немолодого человека, которого с утра беспокоила печень.
— Вы не очень обидитесь, юноша по имени Клаус, если я скажу, что вы действуете мне на нервы?
— Что? — от изумления у Клауса чуть отвисла челюсть.
— Ты вообще кто такой, твою мать? — непринужденно переходя на английский, вежливо поинтересовался Мишин. — Ты что мне здесь застенок НКВД устраиваешь? Я что-то тебе должен, хмырь? А может, ты спутал меня с кем-то и решил, что наши с тобой страны союзники? Я только прилетел из Израиля, дедушка, а на самом деле я — коренной москвич. С оч-чень Большой Лубянки. Слышал про такое учреждение? Быстро говори, зачем вызывали, пока я твою предстательную железу вместе с анусом не вырвал!..
— Да как вы… — Клаус попытался было что-то возразить, однако под хмурым, сразу приобретшим какой-то оловянный оттенок, взглядом Мишина тут же осекся.
— Испугался, дедунька, — все так же вежливо отметил Мишин и плотоядно улыбнулся. — Тебя, должно быть, не инструктировали, да? Ты, наверное, большая шишка тут, в Копенгагене? Резидент? Первый секретарь посольства? Карманный аналитик? Кто ты, срань в баночке?
— В таком тоне наш разговор продолжаться не может… — Чувствовалось, что Клаус, понемногу пришел в себя и начинает борьбу за так внезапно перехваченную инициативу. — Я вынужден прервать нашу беседу.
— Тогда всего доброго, дедушка!
Резко встав с кресла, Клаус сделал два уверенных шага к выходу, но затем остановился и вперил в Мишина презрительный взгляд.
— Послушайте, Мишин, я — полковник ЦРУ…
— А я — подполковник КГБ, — отрезал Витяня. — Составьте элементарную пропорцию между нашими возрастами и званиями, и вы сразу же поймете, чего стоит каждый.
— Разговаривая так безответственно, вы рискуете головой, Мишин!
— Напоминая мне об этом, вы рискуете своими яйцами, Клаус!
— Вы ведете себя не как профессионал.
— А вы, выпендриваясь передо мной, как купчишка в трактире? Как себя ведете вы, Клаус? Я не ваш агент, это во-первых. У меня достаточно сил и сноровки, чтобы закатать тебя под паркет здесь же, в этой изящной студии.
Это во-вторых. И, в-третьих: идя на встречу с таким человеком, как я, ты должен был принимать во внимание вышеизложенные обстоятельства. Так кто же из нас ведет себя не как профессионал?
— Мы оба погорячились, — вкрадчиво проворковал Клаус, возвращаясь на свое место. — А потому…
— Не свисти, дед! — прервал собеседника Мишин, презрительно сощурившись. — Не мы, а ты. Ты погорячился. А теперь сообразил и пошел на попятную. Тебя что, не учили в твоем бардаке под названием «оплот мировой демократии», как надо разговаривать с профессиональным нелегалом?
— Давайте забудем об этом неприятном инциденте, — как ни в чем ни бывало предложил Клаус. — Я был не прав, однако и ваш темперамент…
— Что вы хотите от меня? — хмуро спросил Мишин, с наслаждением закуривая сигарету и используя в качестве пепельницы пустую коробку от «Мальборо».
— Меня уполномочили сделать вам предложение.
— Кто вас на это уполномочил?
— Руководство Центрального разведывательного управления США.
— В чем заключается это предложение?
— Давайте начнем с конца, — заговорщицки улыбнувшись, предложил Клаус.
— То есть?
— Давайте начнем с того, что ДАСТ вам это предложение. В том случае, естественно, если вы его примите.
— Стало быть, я могу его и не принять? — быстро спросил Мишин.
— Естественно. На такие дела под конвоем не идут.
— Так что оно мне даст?
— Пятьсот тысяч долларов в качестве оплаты ваших услуг, а также возвращение в Москву, в аппарат КГБ СССР, с условием сохранения вашего положения и офицерского чина.
Не отрывая тяжелого взгляда от Клауса, Мишин молчал. Его собеседник, явно довольный произведенным эффектом, откинулся в «полиэтиленовом» кресле и сложил на пухлом животике старческие руки.
— Вы давно работаете в Дании? — без видимой связи поинтересовался Мишин.
— Почти десять лет.
— Оно и чувствуется.
— Не понял! — морщинистое лицо Клауса сразу же утратило благостное выражение.
— Столь длительное пребывание на родине великого сказочника не могло не отразиться на вашей фантазии.
— В моем предложении реально все — от первой до последней буквы, — холодно возразил Клаус. — У вас нет ровным счетом никаких оснований не доверять мне. В конце концов, вам известно, с кем вы имеете дело.
— Меня приговорили к расстрелу, — глухо напомнил Мишин.
— Я знаю.
— За предательство.
— Мне это известно, — кивнул Клаус.
— А вам известно, кто меня приговорил?
— Да. Председатель КГБ Юрий Андропов.
— Даже если в это дело вмешается ваш президент, со всем его влиянием на цивилизованный мир, этот приговор все равно не отменят.
— А если все-таки отменят?
— Пятнадцать лет в тюрьме, — пробормотал Мишин. — Та же смерть, только медленная. Хрен редьки не слаще!
— А если не только отменят, но и вернут вас на рабочее место?
— В качестве подсадной утки ЦРУ?
— В ПРЕЖНЕМ качестве.
— У меня было тяжелое детство, — вздохнул Витяня и с хрустом потянулся. — Мне никто не читал на ночь сказок. Отсюда врожденное недоверие к историям со счастливым концом.
— И тем не менее я еще раз хочу напомнить о нашем предложении.
— В чем его суть?
— Э, нет! — решительно покачал головой Клаус. — Вначале я получу ваше письменное согласие, а уже потом будем говорить о деталях.
— Где гарантия, что вы меня не надуете?
— Вам не понадобятся гарантии, едва только вы узнаете план.
— Вы когда-нибудь работали на профессиональной сцене?
— Боже упаси!
— Неужели вы сами искренне верите в то, что сказали?
— После всех ваших угроз в мой адрес — ну, там, оторвать мне яйца и закатать мое бренное тело под паркет — я подвергаю каждое свое слово двойному контролю. Несмотря на свой преклонный возраст, господин Мишин, состояние собственных гениталий по-прежнему меня волнует. Ну, так как? Будете рисковать или тихо разойдемся по домам?
— В случае, если я откажусь, где вы меня намерены убирать? — спокойно спросил Мишин. — Прямо здесь, на квартире дочери вашего друга? Или выберете более подходящее место?
— Как и все русские, вы очень подозрительны.
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Как я могу на него ответить, если занимаюсь совсем другими проблемами? — хмыкнул Клаус.
— Хорошо, — подумав немного, ответил Мишин. — Я согласен.
— Тогда прочтите эту бумагу, — быстро откликнулся американец, протягивая Мишину сложенный вчетверо лист.
Несколько минут Витяня вчитывался в составленный на английском текст. По мере того как до Мишина доходил смысл затеянного американцами предприятия, его лице принимало все более обескураженное выражение. Наблюдавший за ним из-под опущенных ресниц Клаус даже вида не подал, что искренне рад этой позитивной эволюции в настроении бывшего киллера КГБ.
— Если я правильно понял текст, мне предстоит действовать в одиночку… — Мишин не спрашивал, а констатировал.
— Не совсем так, — поправил Клаус. — Вы можете привлекать того, кого сочтете нужным. Однако ЦРУ не будет иметь к этим действиям НИКАКОГО отношения.
— Мне понадобятся деньги.
— А 500 тысяч долларов это что, по-вашему? Пакетик с кукурузными хлопьями?
— Это МОЕ вознаграждение за риск. Я говорю о расходах на оперативные цели.
— Сколько вам потребуется? — подумав несколько секунд, спросил Клаус.
— Пока не знаю. Мне нужен номер счета, с которого я могу, по мере необходимости, брать деньги. Вы сможете проследить впоследствии за целесообразностью их расходования. В крайнем случае, вычтите из моего гонорара.
— Хорошо, я переговорю с кем надо. Еще вопросы?
— Оружие, взрывчатка, средства связи и прочее?
— Это учтено, — кивнул Клаус. — Вы будете знать, к кому обратиться.
— С кем я поддерживаю связь?
— Ни с кем.
— То есть?
— С того момента, как мы с вами расстанемся, Мишин, вы вновь становитесь человеком, приговоренным на своей родине к расстрелу. Наше присутствие вы почувствуете только в тот момент, когда вам будет прекращено финансирование. Это будет сигналом к тому, что со своей задачей вы не справились. Вам предоставляется полная свобода действий. Вместе с тем вы должны знать: мы не спустим с вас глаз ни на секунду. Где бы вы ни были и как бы не маскировались. Как профессионал вы должны догадываться о масштабах операции.
— Единственная просьба: не путайтесь у меня под ногами.
— Не беспокойтесь, Мишин.
— Беспокоиться должны вы, Клаус, — мрачно уточнил Мишин. — Я не люблю, когда мне дышат в затылок. Особенно, на работе. Рефлексы, знаете ли. Иногда сначала делаешь что-то непоправимое, а уже потом начинаешь думать, насколько это было целесообразно…
— Ваш почерк изучен достаточно хорошо, Мишин, — процедил Клаус. — Но, на всякий случай, запомните одно имя. Только одно — Руперт. Если человек, которому вы захотите свернуть шею, назовется этим именем, значит он НАШ, господин Мишин. Не делайте ему ничего плохого, поверьте мне, нет смысла бередить раны, которые только-только стали затягиваться…
— Я постараюсь, — буркнул Витяня.
— Еще какие-нибудь вопросы?
— Два вопроса. Та милая женщина, которая хоть немного скрасила впечатления от нашей беседы…
— Что вас интересует, Мишин? — чувствовалось, что этот вопрос неприятен американцу.
— Она действительно не в курсе наших с вами дел?
— Я уже сказал: она совершенно ни при чем. Просто мы решили перестраховаться и провести эту встречу на совершенно «чистой» квартире.
— Отлично. И второе: половину причитающегося мне гонорара я хотел бы получить авансом, завтра. На два счета — в Цюрихе и Лондоне. Номера счетов я вам назову в конце нашей беседы.
— Зачем вам столько денег, Мишин? — неожиданно хмыкнул цеэрушник. — Вы же воспитывались на принципах социалистического равенства.
— После своей смерти я переведу их на строительство мемориала жертвам американского империализма.
— Мы составили соглашение не со смертником, — без особой твердости в голосе возразил Клаус. — И вообще, что за мысли? Я уверен, что вы прекрасно справитесь с этой задачей…
— Да и я не очень-то сомневаюсь, — улыбнулся Витяня, хотя глаза его оставались холодными, настороженными. — Другое меня беспокоит, господин Клаус. В документе, который я сейчас подпишу, нет ни слова о том, как сложится моя жизнь ПОСЛЕ выполнения задания.
— A-а, вот вы о чем! — ухмыльнулся Клаус. — А я-то думал, что вы вообще ничего не боитесь.
— Вообще ничего не боится только евнух в гареме, — Витяня по-дружески положил руку на хлипкое колено Клауса и легонько сжал его. На лице американца отчетливо проступила болезненная гримаса. — Все, за что обычно дрожит мужик, ему уже оторвали.
— Нельзя купить себе полную безопасность, — процедил Клаус, легонько массируя потревоженное колено. — Даже за такие внушительные деньги, которыми вы будете располагать.
— Покупаете вы, Клаус, — ответил Мишин, размашисто подписывая лист и протягивая его американцу. — Что же касается меня, то я ее СОЗДАЮ. Собственными руками…
17. МОСКВА. ЖИЛОЙ ДОМ НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Март 1978 года
Спал генерал Цвигун плохо.
Добравшись только в шестом часу утра на такси до своей круглосуточно охраняемой усиленным нарядом Девятого управления КГБ квартиры на Кутузовском проспекте, первый зампред Комитета госбезопасности, не включая свет, стремительно проследовал на кухню, залпом опорожнил два стакана ледяной воды из-под крана, утер губы, сбросил с себя пальто и туфли, добрался до спальни, поставил будильник на восемь утра и тяжело рухнул в одежде поперек огромной семейной кровати.
Жена Цвигуна уже вторую неделю отдыхала на правительственной даче в Пицунде. И хотя время было совсем не отпускное, он настоял на ее отъезде. Никогда не подводившая Цвигуна интуиция подсказывала, что ближайший месяц ему лучше побыть одному.
…Проснувшись от пронзительной трели будильника, Цвигун несколько минут лежал с открытыми глазами, не в силах шевельнуться и чувствуя себя совершенно разбитым. Двухчасовой сон не только не снял усталость с его грузного, широкого тела, а, наоборот, еще больше усилил давящую тяжесть в затылке. С трудом приподнявшись, Цвигун подошел к изумительной красоты трехстворчатому итальянскому трельяжу — предмету законной гордости его супруги, которая приобрела этот мебельный шедевр в стиле ампир в одной из арбатских комиссионок и утверждала, что трельяж этот в свое время стоял в спальне графа Льва Николаевича Толстого. Увидев свое отражение в венецианском зеркале ручной работы, Цвигун ужаснулся: его широкое, скуластое лицо заросло двухдневной щетиной и заметно опухло. Глаза, буравившие собственное отражение из-под коротких, обрамленных редкими ресницами, век, были красными и слезились.
С омерзением стянув с себя несвежую сорочку и синюю динамовскую майку с ромбиком и буквой «Д» в левом углу, Цвигун буквально заставил себя отжаться десять раз подряд, после чего стащил брюки и носки, уже энергичнее дошел до ванной, встал под холодный душ и, визжа от пронизывающей дрожи, простоял под мощным напором ледяной воды пять минут.
Насухо вытершись, Цвигун тщательно побрился старомодной открытой бритвой «Золинген» с коричневой костяной ручкой, протер лицо французским одеколоном «Арамис», после чего вернулся в спальню, где одел чистое белье, свежую сорочку и отглаженный синий костюм, аккуратно повязал синий, перечеркнутый по диагонали двумя тонкими красными полосками итальянский галстук, вдел в манжеты изящные золотые запонки с инициалами «С.Ц.» — подарок жены на «серебряную» свадьбу, и сразу же почувствовал жуткий голод. Потянувшись было к телефону, он в последний момент раздумал и решил не звонить в расположенный на втором этаже «кремлевского» дома блок обслуживания, отвечавший за все бытовые проблемы своих сановных жильцов — от приготовления обедов по спецзаказам до стирки и глажки. Хотелось побыть еще немного одному.
На оборудованной по последнему слову бытовой техники шведской кухне Семен Цвигун открыл двухкамерный американский холодильник «Вестингауз Электрик», извлек оттуда двухсотграммовую банку черной икры, картонку с яйцами, масло и батон финского салями. Бросив в объемистую сковородку желтоватый брикет датского сливочного масла и по-солдатски, на весу, нарезав крупными кусками деликатесную колбасу, Цвигун как следует ее прожарил, а уже потом залил шестью яйцами. Накрыв сковородку крышкой, он подошел к одному из бесчисленных шкафчиков с эффектными бронзовыми ручками, достал с полки пол-литровую фарфоровую кружку с изображением храма Василия Блаженного, бросил в нее сразу четыре пакетика с быстрорастворимым чаем «Липтон» и пять ложек сахарного песку, залил кипятком, с кружкой в руках подошел к стоячему деревянному ларю, извлек оттуда запаянный в полиэтилен длинный батон белого итальянского хлеба, зубами разорвал упаковку, затем ловко вскрыл баночку с черной икрой и, сев за стол, в течение нескольких минут уничтожил обильный завтрак.
Огромные настенные часы на кухне, искусно вмонтированные в расписанную золотыми и черным цветами хохломскую тарелку, показывали 8.50. Цвигун второй раз за утро потянулся к телефону, чтобы вызвать служебную машину, и опять раздумал.
Из головы никак не выходил ночной разговор со Щелоковым. Цвигун, конечно, далеко не все рассказал своему другу, ограничившись замечанием, что имеет на своего могучего шефа достаточно крепкий материал. В конце концов, у каждого из них были свои секреты, свои дела, и оба, даже когда чувствовали потребность поделиться друг с другом, инстинктивно уклонялись от обмена информацией. Чем меньше знаешь — тем спокойнее живешь. Несмотря на ухарские манеры и врожденную решительность, Цвигун был очень осторожным человеком, сумевшим выжить и не околеть в кремлевской конюшне только потому, что никогда не переоценивал свои реальные возможности. Без малого пять лет потратил Цвигун на то, чтобы нащупать ту самую «болевую» точку Юрия Андропова, которая позволила бы ему, не меняя образа жизни и привычек, сосуществовать с председателем КГБ. До самой последней минуты он гнал от себя мысль о прямой конфронтации с этим суровым человеком. И не потому, что сомневался в своих силах — личного мужества Цвигуну было не занимать. Его страшила сама идея рукопашной схватки с Андроповым, шансы на успех в которой, в лучшем случае, выглядели равными. Но даже если бы существовала мизерная вероятность поражения, Цвигун все равно не решился бы открыто выступить против Андропова. И, в первую очередь, в силу уязвимости собственной позиции. Он слишком хорошо знал нравы людей, среди которых жил и сделал блестящую карьеру, чтобы хоть на секунду усомниться в финале. Стоило только Андропову выложить на стол генсека факты, изобличающие его как «толкача» в весьма и весьма сомнительных сделках, как сам Брежнев и вся его камарилья старых пердунов и подающих большие надежды карьеристов среднего поколения тут же позабыли бы, кто именно заполнял их необъятные платяные шкафы и шкатулки для драгоценностей, кто опекал их оборзевших детишек за границей и оплачивал счета вконец одуревших от бесчисленных благ жен, заваливавших во время официальных визитов своих вельможных супругов в самые дорогие частные магазины и отоваривавшихся там с такой жадностью и масштабом, словно представляли они не две-три семьи откормленной «элиты» развитого социализма, а всесильный «Внешпосылторг» с его неограниченными и практически неконтролируемыми валютными запасами. В ту же секунду, с неумолимостью и убийственной силой стального капкана сработал бы безжалостный принцип двойной морали, в соответствии с которым эти ничтожества стали бы потрясать партбилетами и героическим прошлым, и превратили бы Цвигуна в изгоя, врага, отступника, в человека, поправшего святые устои коммунистической морали и ставшего на путь нравственного разложения.
Был момент, когда Цвигун всерьез раздумывал над тем, чтобы отказаться от могущественного покровительства Брежнева и полностью переметнуться на сторону Андропова, слывшего в кругу своих немногочисленных единомышленников человеком слова и чести и дравшихся за своих также, как за себя самого, — жестко, умно и последовательно. Но такой шаг означал бы для Цвигуна безоговорочный отказ от управления рычагами колоссальной власти, которую давала его система, его негласное и признанное всеми, в том числе и самим Брежневым, председательство в КВП — «Клубе Высоких Потребителей». И он не решился, о чем сейчас, после того как Андропов взялся за него по-настоящему, очень жалел.
«А ведь Коля, наверное, прав, — подумал Цвигун, наливая себе вторую кружку чая. — Может быть, сразу под корень и все дела?..» Как ни странно, мысль о физическом устранении Андропова никогда раньше его не посещала. Впрочем, почему, собственно, странно? Ему, изнутри, до мелочей знавшему многоступенчатую систему охраны видных советских партийных и государственных деятелей, было лучше чем кому-либо известно, что ликвидировать такого человека, как Андропов, и при этом остаться за рамками подозрений, можно было разве что только теоретически. На практике же, подобный шаг был равносилен самоубийству.
«Как? — размышлял Цвигун, меряя модерновую кухню широкими шагами. — Как это сделать? Неужели я ничего не придумаю?..»
Он вызвал машину, одел пальто, захлопнул за собой входную дверь и, еще раз окинув себя оценивающим взглядом в зеркальную дверь лифта, вышел во внутренний двор, где его уже ждала служебная черная «Волга» с форсированным двигателем и личным шофером Васей — безмолвным, тупоголовым деревенским мужиком, которого Цвигун, после тщательного отбора, выбрал сам, еще во времена своей службы в Азербайджане. Вася в те годы служил на советско-иранской границе и прославился на весь Закавказский погранотряд тем, что в одиночку продержался около сорока минут против тридцати вооруженных торговцев наркотиками, которые с крупной партией опиума пытались прорваться обратно в Иран через безлюдный и слабо укрепленный погранпост в горах. Его напарника убили сразу же, и Вася, деловито установив на сошках свой ПК и переведя ручной пулемет на режим одиночных выстрелов, на практике продемонстрировал глубокое усвоение материала по тактике ведения полевого боя. Настолько глубокое, что не только продержался против окруживших его плотным кольцом бандитов, но и уложил при этом четырнадцать контрабандистов.
На рабочий стол служебного кабинета Семена Цвигуна в мрачном сером здании на улице Шаумяна, окнами выходящего на Приморский бульвар, лег рапорт о представлении старшего сержанта погранвойск Василия Ступникова к ордену Боевого Красного Знамени. Рапорт Цвигун подписал и тут же затребовал к себе личное дело Ступникова. Убедившись в том, что парень — детдомовец, да еще и с восьмиклассным образованием, Цвигун приказал срочно вызвать героя в Баку.
А через три месяца Вася Ступников получил звание старшины сверхсрочной службы и стал личным водителем председателя КГБ Азербайджана. Проработав с парнем два года, Цвигун понял, что после жены Ступников являлся вторым удачным выбором в его жизни, и потому, получив новое назначение, без раздумий забрал с собой в Москву и своего водителя. У Ступникова, помимо собачьей преданности хозяину, феноменальной физической силы (в течение нескольких лет он был бессменным чемпионом «Динамо» по тяжелой атлетике в среднем весе) и таланта прирожденного снайпера, была черта, за которую Цвигун его особенно ценил: этот мрачный, с вытянутой, шишковатой головой и сильно развитыми надбровными дугами мужчина открывал рот только тогда, когда его о чем-то спрашивали. Причем если спрашивающий был не Цвигуном, то Вася неизменно ограничивался короткими и мало что проясняющими междометиями типа «Ага», «Ну!», «He-а!» и своим излюбленным «ХЗ» («Хрен знает!»). Никто не помнил случая ,чтобы Вася Ступников заговорил сам.
Цвигун знал о своем шофере все и был спокоен: деньги Васю практически не интересовали, жил он в однокомнатной изолированной квартире, внутреннее убранство которой полностью воспроизводило его угол в пограничной казарме — железная койка, продолговатый шкафчик для одежды и прикроватная тумбочка для личных принадлежностей. Кормился он в столовой КГБ, родственников и друзей у него не было, как, впрочем, и ярко выраженных человеческих увлечений. В свободное время Вася любил чистить свой АПС (автомат-пулемет Стечкина) — совсем не табельное оружие, носить которое ему позволили только потому, что так распорядился генерал Цвигун. Кроме того, Ступников обожал приводить в порядок свое обмундирование (под словом «обмундирование» Ступников понимал как мундир прапорщика с орденом Боевого Красного Знамени, нагрудными знаками «Гвардия» и «Отличник пограничной службы», который, в силу специфики службы, носил довольно редко, так и свой единственный двубортный гражданский костюм со странным коричневым отливом, отглаживаемый и отпариваемый Васей с такой остервенелой тщательностью, что только слепой мог не заподозрить в его хозяине профессионального военного).
Василию Ступникову шел тридцать седьмой год, у него была любимая служба, крепкий и надежный командир, свой угол в столице и даже постоянная женщина — неопределенного возраста «разведенка» из комендантского взвода КГБ с короткими, крепкими ногами, лицом скаковой лошади и выразительной фамилией Брынза, с которой они встречались не чаще одного раза в две недели на холостяцкой квартире Васи. Короче, это был счастливый человек, никогда не забывавший, кому он обязан своим счастьем.
— Дела как? — буркнул Цвигун, усаживаясь рядом.
— Порядок, товарищ генерал!
Годы сытой и в целом спокойной жизни при могущественном зампреде КГБ СССР никак не отразились ни на характере, ни на реакции, ни на мировоззрении Васи Ступникова. Он был неизменно собран, подтянут, готов к решительным действиям и по-прежнему свято чтил субординацию. Цвигун понимал, что в своем ущербном, примитивном сознании Вася так и остался простым и исполнительным старшим сержантом пограничной службы, для которого появление генерала на затерянной в безлюдных горах заставе было сродни явлению Христа народу.
— Генерал Цинев на месте?
— Так точно, товарищ генерал!
— Что в конторе?
— Все тихо, товарищ генерал!
— Тихо… — лицо Цвигуна сморщилось. — Ладно, дуй на Лубянку!..
Цвигун взглянул на наручные часы. 9.10. Брежнев ждал его ровно в одиннадцать. В запасе оставалось достаточно времени.
Войдя в свой кабинет через боковой вход, минуя приемную, он небрежно бросил пальто на диван, пригладил густые с проседью волосы, тяжело опустился в кресло и нажал одну из кнопок селектора.
— Подполковник Терехов! — после второго гудка откликнулся тонкий голос начальника внутренней тюрьмы КГБ.
— Здорово, Терехов! — Цвигун автоматически посмотрел на перекидной календарь, всю страницу которого занимала одна запись, сделанная его корявым почерком: «11.00 — у генсека!»
— Здравия желаю, товарищ генерал!
— Значит, вот какое дело: подследственного Тополева ко мне. Срочно!
— Виноват, товарищ генерал, выполнить ваше приказание не могу! — в интонации Терехова вины не было в помине. Мало того, подполковнику, очевидно, доставлял удовольствие сам факт, что хоть в чем-то он может отказать суровому зампреду.
— То есть как это не могу? — Цвигун почувствовал, как кровь резкими толчками стала приливать к голове.
— Приказ председателя, Семен Кузьмич, — все так же радостно сообщил Терехов. — Без его личного распоряжения любые контакты с подследственным запрещены. А председателя на месте вроде бы нет…
— Понятно, — пробормотал Цвигун, не прощаясь отключил селектор и тут же нажал другую кнопку.
— Майор Демичев, — голос его личного адъютанта был бодрым и спокойным. — Слушаю вас, Семен Кузьмич.
— Здравствуй, Игорь.
— С приездом, Семен Кузьмич!
— Что, председателя нет?
— Отсутствует, товарищ генерал.
— Где?
— Не могу знать.
— То есть его не было с самого утра?
— Точно не знаю, Семен Кузьмич, но могу выяснить.
— Так выясни! — рявкнул Цвигун. — И побыстрее! Впрочем, нет. Отставить!
Откинувшись в кресле, Цвигун еще раз, уже автоматически, пригладил волосы и намертво сцепил толстые крепкие пальцы на своем могучем затылке. «Что, черт возьми, происходит? — думал Цвигун, бессмысленно раскатывая граненый синий карандаш по матовой поверхности письменного стола. — Неужели он начал?..»
Часы на стене показывали пять минут одиннадцатого.
Расцепив пальцы на затылке, Цвигун резко встал и, пройдя через приемную, направился к служебному лифту. Поднявшись на шестой этаж, он проследовал по толстой ковровой дорожке в самый конец длинного коридора и толкнул выложенную узорчатыми деревянными планками дверь с массивной бронзовой табличкой: «Цинев Г.К. Первый заместитель председателя КГБ СССР».
В просторной приемной, торцевую стену которой заменяли два огромных окна с видом на площадь Дзержинского, находился только адъютант Цинева — моложавый майор с совершенно седыми висками, с кем-то разговаривавший по городскому телефону. Увидев вошедшего Цвигуна, майор тут же дал отбой, вскочил с места и вытянулся.
— У себя? — пробурчал Цвигун.
— Так точно, товарищ генерал!
— Один?
— Так точно, товарищ генерал!
Цвигун кивнул и исчез за обитыми толстым дерматином двойными дверями кабинета.
Рабочий кабинет Георгия Цинева заметно уступал по площади цвигунскому, но был более уютным, каким-то располагающим. Цинев не выносил яркий свет, старался вообще не бывать на солнце, постоянно носил очки с тонированными стеклами и предпочитал полумрак. Темнозеленые шелковые гардины на огромных окнах были опущены почти до пола, в подвешенной строго по центру кабинета старинной хрустальной люстре, под которой, вполне возможно, вышагивал в раздумьях еще Феликс Дзержинский, не горело ни одной лампочки. Единственный свет в кабинете излучала бронзовая, «сталинская» настольная лампа под широким зеленым абажуром по левую руку от хозяина кабинета. Сам генерал Цинев — невысокий мужчина с твердыми складками у опущенных уголков губ, средних размеров невысоким морщинистым лбом и круглыми, как у филина, темными глазами бесстрастно смотрел на вошедшего Цвигуна, никак не выражая своего отношения к столь раннему визиту коллеги.
— Все пишешь? — буркнул Цвигун, усаживаясь к приставному столику.
— Ты когда приехал? — вопросом на вопрос ответил Цинев.
— Вчера ночью.
— Ну, как дела?
— Где Андропов?
— В Будапеште.
— Где? — на какую-то секунду Цвигун почувствовал, как слегка, совсем незаметно, разжались стальные обручи тревоги, сжимавшие сердце в последние десять минут.
— Ты чего, Сеня, не выспался? — лицо Цинева сохраняло бесстрастное выражение. Он слишком давно и хорошо знал этого грузного, напористого человека, чтобы реагировать на его эмоциональные всплески.
— Что он делает в Будапеште?
— Не доложил.
— Жора! — Цвигун, набычившись, буравил хозяина кабинета тяжелым взглядом.
— Насколько я слышал, какая-то личная просьба Кадара.
— Просьба кому?
— Брежневу. Кадар разговаривал с ним по телефону три минуты.
— Разговор прослушивался?
— Естественно, — Цинев недоуменно пожал плечами.
— Пленка у тебя?
— Пока нет еще.
— Почему?
— А к чему такая спешка? Успеется.
— Ты что, — взвился Цвигун, — ни хрена не понимаешь?!
— Успокойся, Сеня! — Голос Цинева стал мягким, как ватное одеяло. — Если я стану прослушивать все разговоры хозяина с этими соцстрановскими мудаками, у меня не останется времени, чтобы заниматься РЕАЛЬНЫМИ делами.
— Ты уверен, что никакой связи с нашей проблемой?
— В огороде бузина, в Киеве дядька! — Цинев еще раз пожал плечами. — Ну, подумай, Сеня: где Кадар, где Челябинск! Скорее всего, какие-то внутренние вопросы безопасности. Возможно, дело в этом интригане Мольнаре, и Кадар решил проконсультироваться со своим старым дружком и покровителем. Ты же помнишь, Сеня, в пятьдесят шестом наш председатель ходил за Кадаром даже в туалет — так оберегал! Старые приятели, одним словом…
— И Брежнев согласился его отпустить?
— Как видишь.
— Когда он вылетел?
— Думаю, только что… — Цинев посмотрел на настенные часы. — Во всяком случае, из конторы он выехал в 8.15.
— С кем?
— Три машины сопровождения и Воронцов.
— На сколько?
— Думаю, день-два, не больше. Если хочешь знать точно, то надо прослушать запись разговора. — Цинев как-то по-мальчишески шмыгнул носом и спросил: — А что, собственно, происходит, Сеня?
— Пару минут назад я потребовал к себе Тополева, но получил отказ: председатель запретил. Теперь для того, чтобы побеседовать с подследственным Матвеем Тополевым, надо получить устное распоряжение Андропова.
— И это все? — хмыкнул Цинев.
— А что, мало?
— Зачем он тебе, Семен Кузьмич? — Цинев откинулся в кресле. — После того как пленка нашего с ним разговора лежит в сейфе и еще в паре-тройке надежных мест, Тополев тебе не нужен вообще.
— Всплыли кое-какие детали, — пробормотал Цвигун и поморщился. — Уточнить надо.
— Ну что ж, придется обойтись без них.
— Знаешь, не нравится мне эта поездка. И это распоряжение насчет Тополева…
— Я не вижу никакой связи, Сеня.
— Я тоже не вижу, — пробормотал Цвигун. — Но я ее чувствую. Понимаешь, приятель, жопой чувствую! Если Андропов дает такое распоряжение, следовательно, ему уже известно о твоей беседе с Тополевым. Тем более, если учесть, что вчера председатель вызывал его в свой кабинет и имел с ним беседу. Правда, недолгую, минут на десять.
— Откуда ты знаешь?
— Сорока на хвосте принесла! — огрызнулся Цвигун. — Ну, так как, логично?
— Допустим, — Цинев поджал губы.
— С одной стороны, этот запрет понятен: председатель не хочет, чтобы из его незадачливого помощничка вытрясли еще какие-то детали, до которых ты не докопался. Но с другой, зачем в таком случае оставлять этого мудака Тополева в живых? Не проще сыпануть ему чего-нибудь в чай и успокоить на веки вечные?
— Наверное, рисковать не хочет, — не очень уверенно предположил Цинев.
— О каком риске ты толкуешь, Жора?! — Цвигун резко встал и начал мерить кабинет широкими шагами. — Речь ведь о его голове идет, ни больше ни меньше! Да и какой там риск — убрать собственного сотрудника, выпотрошенного ЦРУ и отработанного полностью, без остатка? С тобой Андропов разговаривал?
— Пока нет.
— Вот видишь! Следовательно, он знает, что отныне два его ненаглядных зама в курсе всей этой латиноамериканской заварушки. А поскольку в особой любви к себе, Жора, он нас давно уже не подозревает, то, стало быть, первое, что ему необходимо было сделать, — закопать на три метра в землю эту интеллектуальную мразь, которая станет раскрывать свой поганый рот всякий раз, как его станут бить по яйцам. А он что делает, паскудина? Он вновь сажает парня под замок и при этом официально предупреждает, что доступ к телу пока еще живого Тополева строго ограничен. И тут же отбывает в Будапешт. Тебя этот порядок ходов ни на какие размышления не наводит, генерал Цинев?
— Давай я попробую домыслить, — Цинев подался чуть вперед. — Ты думаешь, Андропов таким образом пытается спровоцировать тебя на какие-то активные действия против Тополева?
— Только не меня, а НАС, Жора.
— Ну, хорошо, нас, — досадливо отмахнулся Цинев.
— Да, именно так я и считаю.
— Но зачем? В чем идея?
— Допустим, Тополев действительно что-то НЕДОСКАЗАЛ тебе. Допустим также, что Андропов это выяснил.
— В таком случае, он действительно убрал бы Тополева, и все дела!
— Естественно! Но тут его приглашает к себе Брежнев и велит срочно вылетать в Будапешт. На день-два, как ты считаешь. То есть, Жора, у него попросту не хватило времени. Это ведь тоже надо обставить. Тем более что Терехов человеком Андропова никогда не был. Таким образом, если его командировка в Венгрию реальна и не является каким-то хитрым тактическим ходом — а я это выясню через несколько минут, — у нас с тобой есть возможность опередить нашего дорогого председателя и попытаться поговорить по душам с Тополевым до его возвращения. Нам нужны хорошие факты, Жора, в противном случае Андропов очень скоро поставит нас раком. Да так, что разогнемся мы только на небесах.
— А если это ловушка, Сеня? — Выражение лица Цинева было по-прежнему бесстрастным. — Если он именно так и планировал?
— Это не ловушка! — Цвигун сверкнул глазами.
— Как ты собираешься это сделать?
— Я?! — Цвигун неожиданно расхохотался. — Да я и пальцем к этому не коснусь. Есть у меня одна идея, друг Жора…
Спецохрана на Боровицких воротах Кремля даже не потребовала документов: лучшим пропуском для проезда на территорию святая святых — во внутреннюю часть кремлевского комплекса — являлась насупленная, вечно чем-то недовольная физиономия генерала КГБ Семена Цвигуна. Усиленные покрышки «Волги» еще пару минут шелестели по отполированной брусчатке, после чего, чуть слышно пискнув, замерли.
Цвигун, кряхтя, вылез из машины, небрежно кивнул двум рослым мужикам в одинаковых черных костюмах, белых сорочках и черных галстуках — сотрудникам «девятки», отвечающим за контроль у входа в бело-розовое здание ЦК КПСС, поднялся на лифте на третий этаж, коротко и невыразительно кивнул Александрову, склонившемуся над бумагами, и, преодолев двойной тамбур, вошел в кабинет Брежнева.
В ту же секунду в приемной, за его спиной, в унисон с кремлевскими курантами, стали бить часы.
11.00.
Увидев Цвигуна, генсек заметно оживился и даже привстал в своем необъятном кресле, правда, еле-еле, чисто символически обозначив этот приветственный жест.
— Ты уже вернулся?
— Прибыл в ваше полное распоряжение, Леонид Ильич! — в четыре шага, словно натренированный спринтер, Цвигун преодолел солидное расстояние от двери до рабочего стола Генерального секретаря ЦК КПСС и энергично пожал вялую руку Брежнева.
— Хочешь что-нибудь выпить, Сеня? — Брежнев кивнул в сторону скромного бара, в глубинах которого, — Цвигун знал это лучше, чем кто-либо другой, — покоилось не менее двухсот бутылок с самыми изысканными и дорогими горячительными напитками — от тривиальной водки до экзотических ликеров.
— Лучше попозже, Леонид Ильич.
— Что так?
— Дела!
— Как ты слетал?
— Успешно, Леонид Ильич.
— Выяснил что-нибудь?
— На сто процентов только одно — Андропов копает, как японский бульдозер.
— Против кого?
— Да против всех, Леонид Ильич. И даже против вас.
— А ты, часом, не преувеличиваешь? — вопрос Брежнева прозвучал мягко, по-отечески, однако Цвигун, хорошо зная характер своего могущественного собутыльника, внутренне напрягся.
— Да я бы и сам рад ошибиться, — простодушно воскликнул Цвигун и даже всплеснул руками для достоверности. — Только ведь против фактов-то не попрешь! Его люди хорошо поработали с этим щелоковским важняком, ну, тот и вывалил на стол такое, что глаза у всех на лоб повылазили. Да и фамилии какие, Леонид Ильич: Кириленко, Устинов, Гришин, Соломенцев, дочь ваша, Галина Леонидовна!.. Ну там про самого Щелокова и меня я уж говорить не стану: в этом пруду мы с ним так, мелочь, плотва…
— Непонятно, — пробормотал Брежнев и закурил сигарету. — Зачем ему это? Он умный человек, крепкий политик, наверху не первый год…
— Так ведь вы сами говорите: лучшая защита — нападение.
— От чего защита, Сеня? — Брежнев вскинул свои карикатурные брови, от чего его вытянутое лицо вдруг стало похоже на безжизненную страшную маску. — Все, что ты мне дал на него, оказалось хреновиной! С твоим компроматом Андропов уел меня прямо здесь, в моем же кабинете, друг Сеня!.. Он не защищался, он меня атаковал, ты это понимаешь?! Меня!!
Цвигун оцепенел.
— Я все понимаю, — голос Брежнева чуть смягчился. — Ты мой друг и никогда не положишь на мой стол непроверенную информацию. Но ты должен знать, с КЕМ имеешь дело. Ты против него салага, Семен, мальчишка, ты просто хрен моржовый, генерал Цвигун. Не можешь мне доказать обратное — отступись, уйди к гребаной матери и никогда не говори мне об этом человеке! Но тогда и не проси меня ни о чем, ежели он тебя вздумает закопать! А Андропов тебя закопает, Сеня. Ты уж мне, старику, поверь на слово…
— Да я за вас!.. — Цвигун мобилизовал все свое недюжинное актерское дарование, изображая страх и преданность холуя, бесконечно влюбленного в своего хозяина. — Вы же знаете, что…
— Помолчи! — В голосе Брежнева уже не ощущалось нависшей непосредственно над головой наэлектризованной грозовой тучи. — Мне нужны такие факты, с которыми не он меня, а я его трахну в задницу. Ты понял, Сеня?
Цвигун молча кивнул, не отрывая от генсека преданного взгляда.
— Сможешь их раскопать — твоя взяла. Не сможешь — не обессудь. Я и пальцем не шевельну, когда он тебя достанет.
— Есть один человек, — начал было Цвигун, но генсек его резко прервал:
— Уж не Тополев ли?
На мгновение Цвигун онемел и только с огромным трудом выдавил из себя:
— Да, Леонид Ильич.
— Он может дать показания против Андропова?
— Да, и очень серьезные.
— И он еще жив? — криво усмехнулся Брежнев.
— Пока жив.
— А ты не спрашивал себя, Сеня, почему?
— Почему Андропов его не убрал?
— Вот-вот!
— Могу только предполагать…
— А мне начхать на твои предположения, Сеня! — добродушно сообщил Брежнев своему собутыльнику. — Плохо мышей ловишь, генерал Цвигун. Зажрался, постарел, девками молодыми балуешься… Короче, Сеня, займись делом, иначе трудно мне будет доказать, что ты — честный коммунист.
— Я заслужил эти слова. — Цвигун вздернул подбородок и с вызовом посмотрел на Брежнева. — Всей дружбой к вам, Леонид Ильич, всей преданностью вам…
— А ты не дуйся, — добродушно пробасил генсек, прикуривая очередную сигарету. — Ты, Сеня, работай как следует. Помнишь, как Хрущев всю Америку на рога одной единственной фразой поставил?
— Н-нет.
— Он, понимаешь, прямо в здании ООН, перед журналистами заявил: «У нас с Америкой разногласия по земельному вопросу. В том смысле, кто кого раньше закопает». Кстати говоря, правду сказал лысый. Так вот, эта фраза прямое отношение к тебе с Андроповым имеет. Если не будешь мышей ловить, друг Сеня, он тебя закопает. Как пить дать. Ступай, генерал Цвигун…
18. РЕЙС «ПАН АМЕРИКЭН» НЬЮ-ЙОРК — КАЙЕННА
Март 1978 года
«Если ты не бросишь курить, то скоро умрешь!..»
Эта суровая фраза-приговор прозвучала так отчетливо и близко, буквально у самого уха, что я непроизвольно дернулась и оглянулась. Однако заподозрить хоть кого-нибудь из нескольких десятков представителей обеих полов с отстраненными выражениями лиц, дожидавшихся в 37-й секции международного аэропорта имени Дж. Ф. Кеннеди объявления посадки на рейс авиакомпании «Пан Америкэн» Нью-Йорк — Кайенна, не смогла. Этим людям не было до меня никакого дела: перед вылетом любой нормальный человек слишком сосредоточен на предстоящем испытании в воздухе, чтобы искать новые знакомства на земле.
«Умрешь, умрешь, умрешь!» — назойливо, с казенными интонациями отдела пропаганды Минздрава СССР, вещал на ухо все тот же голос. Еще раз беспомощно оглядевшись, я наконец сообразила, что этот страшный диагноз принадлежал мне. Вернее, моему внутреннему голосу. В песке оранжевой тумбы-пепельницы, стоявшей по правую руку от жесткого аэропортовского кресла, асимметрично торчали двенадцать желтых сигаретных фильтров.
«Двенадцать пробоин в ваших легких!»
После нелегких вычислений в голове я пришла к выводу, что закуривала новую сигарету каждые пять минут. То есть практически целый час беспрестанно курила.
Тяжело вздохнув, я вонзила в песок тринадцатый окурок, вытащила из сумочки изящную французскую косметичку — еще один подарок в дальнюю дорогу от несгибаемой мучительницы Паулины, — взглянула на себя в прямоугольное зеркальце, вмонтированное в серую перламутровую крышку, и вздохнула еще раз. Увиденное отражение мгновенно вызвало целую цепь ассоциаций, замкнувшихся, как это со мной часто бывало, на одной из трагикомических историй моей непотопляемой подруги. Когда-то она рассказывала мне, из-за чего, собственно, разошлась со своим первым мужем, который — опять-таки по ее словам — влюбился в нее с первого взгляда. Он, как выяснилось, органически не переносил чудовищного количества теней, туши, дермакола и остродефицитных польских румян, которые эта странная женщина, с упорством несостоявшегося художника-пейзажиста, с утра пораньше, пока ее благоверный еще не успевал разверзнуть капризные очи, накладывала на свое многострадальное лицо. Подруга стоически переносила злобные нападки привередливого мужа, но однажды не выдержала и сказала: «В гробу, куда от такой жизни меня положат очень скоро, ты сделаешь мне макияж так, как тебе больше нравится!..»
Впоследствии она утверждала, что то была просто шутка. Однако первый муж моей подруги, даже несмотря на то, что влюбился в нее с первого взгляда, на деле оказался человеком без чувства юмора, а потому понимающе кивнул, небрежно обронил, что у него кончились сигареты, осторожно прикрыл за собой дверь и больше уже в квартире моей подруги никогда не появлялся. Ох уж эта загадочная душа мужчины, обнаружить которую может только опытный уролог!
Так вот с макияжем на лице, к сложным секретам которого иезуитка Паулина приучала меня буквально с первого дня на шпионских курсах повышения квалификации в двойном номере майамского отеля «Мэриотт», я представляла себя исключительно в гробу. В конце концов, Паулина имела университетский диплом доктора психологии, а потому все было продумано и выверено до мелочей. С одной стороны, доведение разреза моих глаз с помощью особой туши до немыслимых размеров профессиональной уличной проститутки, выпущенной из исправительно-трудового учреждения с диагнозом главной надзирательницы «Безнадежно неисправима и социально опасна», очерченный специальным темно-коричневым карандашом и без того заметный рельеф губ и жуткий чахоточный румянец на верхней части скул настолько преображали внешность, что узнать во мне ту самую В.В. Мальцеву, которая еще полгода назад воспринимала любой цвет колготок, кроме телесного, как безошибочный признак самого низкопробного и отвратительного блядства, было практически невозможно. Однако, с другой стороны, все в этом павианьем окрасе лица было настолько ярким, вызывающе броским и крикливо-вульгарным, что воистину надо было родиться человеком без органов зрения и обоняния, чтобы не попытаться разглядеть меня как следует и в итоге, после ощутимых усилий, все-таки узнать.
«Ты — приманка, — вспомнила я нудные, липучие, как репейник, и логичные на все сто процентов наставления седоголовой Паулины, — А работа приманки в том и заключается, чтобы те, для кого она предназначена, были страшно довольны, проглотив ее целиком, не разжевывая и не пробуя на вкус. Ты умная женщина, Валечка, у тебя, безусловно, имеются в наличии мозги и способность рассуждать. Но хватает этих мозгов и рассуждений только для того, чтобы поступать так, как ты поступаешь. То есть, используя своего любовника-разведчика, потерявшего голову и плюнувшего на свою карьеру, раздобыть крепкие документы, сделать жуткий грим, чтобы до невозможности изменить внешность, и скрыться там, где тебя, скорее всего, никто искать не будет и где ждет твой также скрывающийся от начальства любовник. Для этой цели Французская Гвиана — прекрасное место. Забытый Богом утолок Южной Америки, сплошные тропические леса, место ссылки для самых отпетых головорезов и минимум пятнадцать авиарейсов в день в соседнюю Бразилию, которая, собственно, и является конечной целью твоего бегства. Ты знаешь, что тебя ищут. Те, кто тебя ищет, знают, что тебе это известно, а потому ждут от тебя именно тех шагов, которые ты предпринимаешь. В твою сторону будут коситься, кокетливо подмигивать или изображать на лице крайнюю степень брезгливости… Ты будешь чувствовать себя ужасно, омерзительно, не в своей тарелке. Повсюду — в самолете, на улицах, в кафе к тебе начнут клеиться мужчины всех возрастов и предлагать все мыслимые блага жизни — от венчания в римском соборе Святого Петра до тридцати пяти долларов за час любви в номере мотеля… И любой, — запомни, Валя! — любой может оказаться именно тем человеком, которого мы ждем, ради которого и пошли на весь этот карнавал. Если он тебя раскусит, Валя, если этот человек поймет, что на самом деле движет твоей новой внешностью, твоими перемещениями, я не поставлю и цента за твою красивую головку. Тебе просто не дадут времени сделать и сказать то, чему я тебя учила. Но если ты сыграешь точно, если ты постоянно будешь ЕСТЕСТВЕННОЙ, то получишь шанс. И чем дольше ты продержишься, тем больше у тебя будет шансов выжить и победить…»
Очевидно, Паулина и в самом деле владела некоей тайной, секретом чудодейственного рецепта вколачивания в чужие мозги необходимой информации. Я помнила все ее наставления так, словно учила их с детства, с первого класса, когда, совершенно не вдумываясь в смысл, зазубривала строки «Я помню город Петроград в семнадцатом году…». Но что толку от этой пусть даже фундаментальной, но все-таки теории, если на практике я чувствовала себя просто ужасно?
Совсем незначительное просветление на душе от предстоящих перемен, атмосферы дальней дороги и появления хоть чего-то принципиально нового в моем беспросветном бытии абсолютно бесперспективной советской изгнанницы мгновенно испарилось и улетучилось куда-то наверх, под диковинные аэропортовские плафоны, стоило только мне освободиться от опеки Паулины и остаться наедине со своей ручной кладью и невеселыми мыслями в секции тридцать семь. Конечно, я могла и дальше, как та самая несчастная лошадь, натуралистически изображенная на плакате в женской консультации, методично убивать себя никотином, стараясь при этом не думать о зловещем предупреждении Минздрава СССР о том, что «курящая женщина кончает раком»; могла полностью раствориться в чувственных воспоминаниях, представляя руку Юджина на своей щеке, плечах, не думая при этом куда, а главное, на сколько, так таинственно исчез любимый человек; могла вообще плюнуть на все это советско-американское детектив-шоу, ринуться очертя голову в расположенный напротив тридцать седьмой секции бар и вылить в себя разом грамм четыреста водки, чтобы рухнуть без памяти там же, у стойки, и, очнувшись в каком-нибудь американском медвытрезвителе, потребовать у санитаров срочной встречи с советским послом или ангелом смерти, что, в принципе, было одно и то же…
Но что бы это мне дало?
Выход из лабиринта, в котором я окончательно заплутала? Или ответ на вопросы, которые, подобно уксусной эссенции, терзали и жгли меня изнутри? Почему, с какой стати я должна становиться мадам Жозефиной Сават, подданной великой Французской республики, и стремиться не в мытищинскую коммуналку, где в полной непонятке о судьбе единственной дочери тихо, никого не призывая на помощь, наверняка отходит в мир иной моя мама, а в какую-то Богом забытую далекую Кайенну, на побережье Атлантического океана, где никому до меня нет никакого дела? Кроме тех людей-нелюдей, которые рано или поздно обязательно ДОЛЖНЫ узнать в размалеванной кукле с французским паспортом беглую журналистку Валентину Мальцеву, увезти ее на какую-нибудь роскошную виллу или в покрытый плесенью и мраком подвал, дать для профилактики по зубам тыльной стороной жесткой, натренированной ладони и заорать под ослепительный блеск бьющих в глаза рефлекторов: «А ну, сука, рассказывай, как ты…»
«…Повторяю! — вдруг отчетливо донесся до меня шелестящий по-французски женский голос информатора. — Мадам Джозефина Сават, вас просят срочно пройти на посадку в самолет, секция номер 37!»
Я вздрогнула и оглянулась: упомянутая в радиосводке секция напоминала станцию метро «Краснопресненская» в 0.55 с пятницы на субботу — вокруг не было ни единой души. Резко поднявшись, я машинально попыталась одернуть короткую — сантиметров на пятнадцать выше колен — юбку, потом вспомнила, что это невозможно даже теоретически, представила себе вдруг, как в таком наряде я появляюсь в родной редакции, внутренне передернулась и поплелась к стеклянным дверям на фотоэлементах, над которыми призывно мигало зелеными буквами матричное табло: «Авиакомпания «Пан Америкэн». Рейс 154. Нью-Йорк — Кайенна».
…Очевидно, я заснула сразу, едва только, переборов длившееся ровно секунду желание немедленно рвануть в туалет и смыть с лица косметический кошмар, откинулась в удобном кожаном кресле и закрыла глаза. Я словно провалилась в бездонную пропасть. Впервые за долгое время мне абсолютно ничего не снилось, можно было смело вычеркивать из своей жизни эти три часа полного отключения от действительности, ставших, очевидно, реакцией на пережитое в аэропорту.
Проснулась я от легкого прикосновения к локтю.
— Мадам, вы не будете обедать?..
Голос был мужской, приятный, и я, не открывая глаз, подумала, что в моем нынешнем состоянии, после двух недель беспрерывного общения с садисткой Паулиной, стюард — это все-таки лучше, чем даже самая распрекрасная стюардесса.
Открыв глаза я увидела сидящего через одно пустовавшее соседнее кресло мужчину лет сорока пяти в очень дорогом костюме из гладкого серого твида, строгой голубой сорочке и вязаном черном галстуке. Подперев массивный подбородок ладонью, полуобернувшись, он с таким откровенным любопытством рассматривал меня широко расставленными, ярко-зелеными глазами, смотревшимися на изрядно потертом жизнью лице мужчины как чужеродный элемент, словно я появилась в «Каравелле» не как все пассажиры, через ствол телескопического трапа, а уже во время полета, таинственным образом просочившись через толстые стекла иллюминаторов.
— Простите, что я потревожил ваш сон, мадам, — на безупречном французском поставленным баритоном диктора провинциального радио сказал мужчина. — Но только что всех пассажиров попросили подготовить столики для обеда, и я подумал…
— Вы всегда проявляете такую заботу о незнакомых женщинах или исключительно в самолетах? — поинтересовалась я и тут же прикусила язык.
Мужчина с зелеными глазами мне сразу же активно не понравился. Очевидно, мое подсознание восприняло его как потенциального охотника за «наживками». Да и обстоятельства моего пробуждения особого доверия не вызывали. Это только в книгах и импортных кинофильмах твоим попутчиком становится по-настоящему интересный мужчина или обворожительная дама. В жизни же, как правило, буквально все происходит иначе. Помню, у меня в отделе одно время практиковались двое молодых, очень прытких и способных репортера, заканчивавших в то время факультет журналистики МГУ и мнивших себя, как, впрочем, все их сверстники, непризнанными гениями, которым надо только получить «корочки» штатных сотрудников газеты, после чего сразу же приступать к методичному уничтожению редакционных мастодонтов. Однажды, в порыве откровенности, оба признались мне, что когда ходят в кино, то неизменно покупают билеты «через один». То есть эти повесы брали, к примеру, билеты в один ряд, но на 15 и 17 места. В наивной надежде, что на шестнадцатом окажется хорошенькая девица, с которой можно будет завести легкий кинофлирт. Характерно, что ситуацию, при которой вожделенная девица просто посылает их на три буквы, эти прыщавые и амбициозные ребятишки с потными ладонями сексуальных романтиков и наполеоновскими планами реформаторов советской прессы даже не рассматривали. Так вот, по признанию несостоявшихся «акул пера», в кресле между ними с удручающим постоянством оказывались либо древние старушки с пакетиком дешевых карамелек под названием «Морские камушки», либо мужчины с внешностью уголовников, выпущенных на свободу по амнистии.
«Молчи! — вспомнила я Паулинины наставления. — Не открывай свой рот! Если с тобой хотят завести знакомство, помни: женщина, скрывающаяся от преследований советской разведки, никогда не станет непринужденно флиртовать, а уж тем более, пикироваться, с незнакомым мужчиной. Она должна быть НЕЗАМЕТНОЙ. Твой почерк, Валечка, уже изучен и проанализирован на твоей родине досконально. И чем настойчивее тебя будут охмурять, тем незаметнее ты должна казаться. Помни об этом…»
— У вас какой-то странный акцент, — начисто проигнорировав мой вопрос, сообщил незнакомец. — Вы, наверное, парижанка, я угадал?
— Была парижанкой, — пробормотала я. — Просто много лет прожила в Новом Орлеане…
— А в Гвиану по каким делам?
— По делам.
— Бизнес?
— Ага. Хочу наладить торговлю рабами.
— Остроумно! — улыбнулся мужчина и протянул мне через кресло широкую ладонь. — Позвольте представиться, Седрик Бошар.
— Джо, — мне ничего не оставалось, как пожать протянутую ладонь.
— Джо? — Бошар удивленно вскинул брови. — Какой- то американизм, я угадал?
— Сокращенное от Джозефины.
— Понятно…
Чувствуя, что этот незапланированный диалог готов вот-вот перейти в позиционное русло, я демонстративно отвернулась к иллюминатору.
— Я вам неприятен?
Этот наглый по форме вопрос прозвучал с чисто французским изяществом. Сам тон, которым он был задан, его абсолютная естественность почти сразу же убедили меня, что кем бы на самом деле ни являлся мой очередной попутчик по заоблачным высям, русским он не мог быть по определению. Должны же в конце концов существовать на свете вещи, в которых я разбираюсь лучше Паулины?!
— А вас это удивляет? — спросила я, не отрываясь от окна и чувствуя внутри, где-то под грудью, прилив острого остервенения.
— Естественно, удивляет!
— Вот как?! — Таких наглецов я не встречала уже давно. В одну секунду презрев все наставления великой провидицы Паулины («если он не русский, — подумала я, — с какой стати мне его бояться?»), я повернулась к Бошару, испытывая колоссальную внутреннюю потребность посадить этого упакованного в серый твид воздушного героя-любовника на его истинное место. — Хотите, я перечислю для начала три причины, по которым вы мне не просто неприятны, а даже антипатичны?
— Обожаю критику! — пробормотал Бошар, устраиваясь в своем кресле поудобнее. Со стороны могло показаться, что этот болван рассчитывает услышать в моем исполнении колыбельную песню, под которую сможет побороть одолевавшую бессонницу.
— Извольте, — я выдавила из себя змеиную улыбку и, по-моему, даже зашипела. — Вы регулярно красите волосы слабым раствором басмы и еще какого-то химического красителя. Это первая причина. Вы также регулярно закапываете себе в глаза атропин — от этого ваш взгляд, как вам, видимо, кажется, приобретает утраченную моложавость и безнадежно потерянную сексуальную пронзительность. И третье: вы совершенно бессильны в борьбе с методично разрастающимся животом, а потому, заправляя рубашку в брюки, чуть выпускаете ее поверх брючного ремня, чтобы скрыть унизительную, с вашей точки зрения, припухлось, вызванную многолетним чревоугодием и пристрастием к домашнему печеному. Резюме, сударь: вы активно и — поверьте на слово зрелой женщине! — совершенно безнадежно боретесь со своим возрастом. И в этом стремлении вызываете даже не антипатию, а просто жалость. Ибо если вы не понимаете, что СУТЬ настоящего мужчины составляет отнюдь не внешность, стало быть, жалкие остатки вашей былой привлекательности, которые вы заботливо драпируете в дорогую одежду, — это ваш единственный козырь в борьбе за успех у женщин. Мсье Бошар, хочу поставить вас в известность, что вы классический мастодонт — честолюбивый, капризный, не очень умный, мнительный и легко ранимый, каковых в вашей кобелиной породе, увы, еще предостаточно. И учтите, — злорадно добавила я, увидев, что Бошар раскрыл рот для ответа, — названные мною недостатки — результат ПОВЕРХНОСТНОГО анализа. Вы только представьте себе, к каким выводам я могу прийти, если я решу потратить свое время и стану разбирать вашу жалкую личность по косточкам?!
Бошар еще раз — уже не так уверенно — открыл рот и тут же его захлопнул.
Я удовлетворенно откинулась в кресле и закрыла глаза, посчитав, что спокойное, без ненужных разговоров путешествие обеспечено мне как минимум до самой посадки. И не ошиблась: Седрик Бошар так и промолчал весь полет до родины самого жуткого на свете перца.
В аэропорту Кайенны — довольно-таки невзрачном трехэтажном строеньице, фронтон которого гордо украшал огромный трехцветный флаг Франции — мне предстояло перекантоваться около трех часов, до объявления посадки на ближайший рейс в Сан-Пауло, на который сразу же был переправлен мой багаж.
И эта остановка была также запланирована Паулиной.
Предполагалось, что беглянка (то есть, я) не имела ни времени, ни возможности грамотно состыковать рейсы и так торопилась поскорее смыться, что села в Нью-Йорке на первый попавшийся самолет в сторону Бразилии, которым оказался чартерный рейс в Кайенну. Таким образом, до ближайшего самолета на Сан-Пауло у меня оставалось два часа сорок пять минут.
«Это вполне разумное время, в течение которого тебе надо ОСТОРОЖНО ЗАСВЕТИТЬСЯ, — повторила я про себя одну из бесчисленных инструкций Паулины. — Поверь, сделать это в небольшом аэропорту, где буквально каждый человек на виду, — очень даже непросто. А потому, как только очутишься в здании аэропорта, тут же купи какую-нибудь французскую газету и сразу иди в кафе. Второй этаж, в левом от тебя углу. Там есть еще два бистро, но ты должна направиться именно в кафе. Сядешь за столик, сделаешь заказ и все время, пока будешь там находиться, читай эту газету. С выражением умеренной скуки. Как всякий пассажир, который вынужден два с лишним часа торчать в такой непролазной дыре. Но, прошу тебя: пожалуйста, не перебарщивай! Когда будешь есть, газету отложи в сторону, за едой читают только русские. Однако посетителей не разглядывай, уткнись носом в тарелку. Когда принесут кофе, опять принимайся за газету. Значит, договорились, пусть это будет кафе…»
Кто же спорит — пусть будет кафе! Можно подумать, что у меня была возможность поступить как-то иначе и забрести в аэропорту столицы Французской Гвианы в рюмочную или пирожковую…
В который раз за последние полгода судьба швырнула меня по географическому атласу, как жеваный катышек вырванного с мясом тетрадного листка, которыми мальчишки моего ученического детства обстреливали друг
друга на уроках пения, плюясь в стеклянные трубочки. Закинув на плечо ремень дорожной сумки, я поправила на переносице черные очки, огляделась вокруг, совершенно автоматически зафиксировала, что практически ничем не отличаюсь от полураздетых в силу климатических условий и ярко намалеванных вследствие близости к местам коренного обитания индейцев женщин всех возрастов, и пришла к выводу, что увиденное полностью соответствовало фотографиям из учебного пособия, которое про себя я называла «Сказки бабушки Паулины». Странное это чувство: находиться в совершенно новом для себя месте и тем не менее знать в нем буквально каждый угол, каждую скамейку.
Ощущения квартирного вора.
…Усевшись за небольшой столик в самом углу довольно оживленного кафе, я неожиданно подумала, что в подходах советской и американской разведки к подобного рода вещам есть все-таки принципиальная разница: если, работая со мной, любимые соотечественники из желтого дома на площади Дзержинского неизменно точно знали, где именно мне надлежит сесть, с кем именно встретиться, на каком конкретном слове прервать беседу и при упоминании какого междометия падать на пол и прикрывать голову руками, то Паулина выпустила меня, словно мелкую рыбешку в аквариум с грозными и экзотическими рыбами, определив только принципиальную задачу — выжить, все время оставаясь наживкой. Конкретных рецептов, как именно добиться этого, мне никто не давал. И не потому, что в ЦРУ работали безнадежные жлобы, не желающие делиться с посторонними своими фирменными секретами. Я догадывалась, что в таинственной книге о законах человеческого выживания в среде себе подобных таких рецептов просто не было. Что в общем-то необычно, поскольку книга эта пишется постоянно.
Как я себе представляла, в Центральном разведывательном управлении исповедовали концепцию свободного поиска приключений на собственную жопу, очень похожую на участие в некоем многоактном спектакле, где актер (то есть потенциальная жертва) не зажимается в тисках утвержденного заведующим литературной частью текста, а может в любой момент, по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств на сцене или смены настроений в зрительном зале, смело трансформировать драму в водевиль или водевиль — в классическую трагедию.
Первый вариант, естественно, представлялся мне более предпочтительным, однако второй куда больше отвечал принципам социалистического реализма, в которые я верила слепо и безгранично. Как, наверное, и большинство моих высокообразованных соотечественников, вынужденных догадываться по мхатовским спектаклям о драматургических изъянах бродвейских шоу.
…После того как я без всякого аппетита уничтожила огромную тарелку со всеми видами злодейски умерщвленной и выброшенной на рыхлый берег спагетти морской фауны (по всей видимости, составитель меню в свободное от основной работы время писал романтические стихи, ибо ничем иным объяснить название блюда — «Стелла дель мара» — я не могла), прыщавый гарсон неопределенного возраста, чем-то удивительно напоминавший Билли Бонса, обнажив в приветливой улыбке клыкастые желтые зубы, поставил передо мной микроскопическую чашку с «эспрессо».
— Мадам не желает десерт? — поинтересовался гарсон, продолжая активную демонстрацию зубов.
— А что вы можете мне предложить?
— Коктейль из креветок, тунец с ананасами, желе из макрели под лимонным соком…
— У вас что сегодня, рыбный день?
— Простите, мадам?
— Насколько мне известно, рыбу на десерт не едят.
— Где, мадам?
— Что «где»?
— Где не едят рыбу на десерт?
— Нигде не едят рыбу на десерт! — отрезала я. — Понимаете, сударь, ни-где!
— Совершенно верно, мадам! — Гарсон улыбнулся еще шире и от удовольствия даже плотоядно клацнул клыками. — Нигде, кроме Кайенны, мадам! Вы, наверное, из провинции? Парижанка, да?..
«Не раскрывай без необходимости свой рот!» — вспомнила я наставления Паулины и озверела еще больше.
— Мы, в провинции, привыкли к другому десерту.
— Это ваше право, мадам.
— Скажите, а ОБЫЧНЫЕ пирожные у вас есть?
— Конечно, есть, мадам!
— С кремом?
— А разве бывают пирожные без крема?
— Крем, надеюсь, не из трески?
— Простите, мадам?
Здесь я вовремя сообразила, что коренное население Французской Гвианы вполне могло не знать названия самого популярного советского рыбопродукта, и сразу успокоилась.
— Пожалуй, я воздержусь от десерта.
— Как вам будет угодно, мадам…
Понимая, что одна из главных установок Паулины — ОСТОРОЖНО ЗАСВЕТИТЬСЯ — еще не выполнена, я как могла пыталась растянуть процедуру принятия вовнутрь нескольких капель черного как деготь кофе, однако спустя минуту была вынуждена капитулировать: в чашке оставалась только гуща, которую можно было съесть, но никак не выпить, еще раз общаться с клыкастым гарсоном и заказывать второй подряд «эспрессо» мне почему-то не хотелось, чтобы изобразить поглощенность недельной давности номером парижского «Фигаро» нужно было обладать актерским дарованием Сары Бернар, а до посадки на рейс в Сан-Пауло оставалось еще добрых полтора часа. Уткнувшись в статью о причинах забастовки служащих французских почт, я мучительно размышляла, что делать дальше.
— Мадам?
Голос явно принадлежал мужчине, но не имел ничего общего ни с противным тенором гарсона, ни с баритоном молодящегося Бошара.
И я медленно подняла голову…
19. ЛОНДОН. ЖИЛОЙ ДОМ НА ЛЕКСИНГТОН-РОУД
Март 1978 года
Лондонский резидент Главного разведывательного управления Генерального штаба Советской Армии подполковник Станислав Волков, работавший в Великобритании уже четыре с половиной года под именем Реджинальда Бакстона, владельца небольшой конторы по торговле недвижимостью неподалеку от Сохо, люто ненавидел страну своего пребывания за три вещи — неизменно мерзкую погоду, левостороннее движение и пристрастие англичан к пиву.
Закончив в свое время с отличием МВТУ им. Баумана по специальности «Проектирование ракетно-двигательных установок», Волков, получивший уже на пятом курсе официальное предложение остаться на кафедре и писать кандидатскую диссертацию, совершенно неожиданно был приглашен для беседы в Главное разведывательное управление Министерства обороны. Седой великан в мундире генерал-майора танковых войск, встретивший Стаса в кабинете заместителя начальника районного военкомата, куда Волков, как и все призывники, время от времени получал повестки, с таким любопытством рассматривал молоденького выпускника МВТУ, словно именно в этот момент решал мучительный вопрос, выдавать ли за этого симпатичного парня в неопределенного цвета ущербном костюмчике отечественного производства свою единственную дочь. Стас же, воспитанный в семье обычных московских интеллигентов, тративших с трудом отложенные рубли на книги, а свободное время — на нескончаемые разговоры об идиотской сущности развитого социализма, перед военными никогда не робел и, в свою очередь, чтобы хоть как-то заполнить мучительную паузу, пытался определить ширину алых лампасов на генеральских галифе, заправленных в роскошные хромовые сапоги.
— Ну и сколько? — неожиданно спросил генерал.
— Что «сколько»? — Стас даже вздрогнул от неприятного ощущения, что седой генерал угадал его мысли.
— Сколько, Волков, ты будешь получать, когда напишешь свою диссертацию?
— Н-ну, — Стас облегченно вздохнул и поскреб коротко остриженный затылок. — Думаю, рублей двести пятьдесят — двести восемьдесят. Плюс десятка за знание английского.
— Стало быть, — подытожил генерал, — кругом бегом получается триста?
— Да вроде так.
— Причем не сегодня, а через три года.
— Точно.
— А хочешь пятьсот в месяц?
— Через три года?
— Сразу.
— Предлагаете уйти в «оборонку»?
— Сначала ответь на мой вопрос.
— Конечно, хочу! — хмыкнул Стас. — Только за что мне такие блага? Я ведь, товарищ генерал, своими руками еще ни одной баллистической ракеты не сделал.
— Знаешь, что такое ГРУ?
— Знаю, — кивнул Стас. — Военная разведка.
— Хочешь поработать у нас?
— А что мне придется делать?
— Что скажут! — жестко отрубил генерал.
— Тогда не хочу.
— Не уважаешь дисциплину?
— С самого детства, когда с ребятами в прятки играл, всегда проигрывал. С тех пор предпочитаю играть с открытыми глазами…
— Тебя научат выигрывать, Волков. Это у нас хорошо делают.
— То, что вы предлагаете, совсем новое дело для меня, товарищ генерал… — Стас еще раз поскреб в затылке и виновато улыбнулся. — Даже не знаю, чем я смогу быть полезным… Да и потом, зачем я тогда пять лет учился? Нелогично как-то…
— Ты учился в НАШЕМ учебном заведении, — внятно отчеканил седой генерал. — Тебя научили разбираться в вещах, до которых простым людям дела нет и быть не может. Теперь пришло время решить свое будущее: не захочешь — вернешься к своим пульманам и чертежам, неволить не стану. Но я предлагаю тебе дело стоящее, для настоящего мужика. Предлагаю, кстати, тебе единственному, Волков. Единственному со всего твоего курса.
— За что же мне такая честь, товарищ генерал?
— Придет время — отвечу…
Ровно через три месяца Стас сказал родителям, что получил приглашение на работу в «почтовый ящик», причем таким таинственным голосом, что у родителей-интеллигентов, не просто помнивших — живших временами, когда неосторожно оброненное слово могло обернуться десятью годами лагерей, моментально пропало желание выяснять подробности. Такие, например, где находится этот самый пресловутый почтовый ящик и чем там будет заниматься их единственный сын. А Стас к тому времени уже два месяца как учился в Институте военных переводчиков на факультете романских языков. Все в этом закрытом учебном заведении было обставлено как в самом заурядном советском вузе — сессии, экзамены, зубрежка в библиотеках и даже зачетные книжки. Вот только графы учебных дисциплин, против которых преподаватели с незапоминающимися лицами ставили оценки, принципиально не соответствовали изучаемому предмету. Так, на лекциях по истории западноевропейской литературы XIX века на самом деле изучались тонкости взрывного дела, «пятерка» по испанской грамматике означала, что студент великолепно разобрался в тайнах шифрования и дешифровки, а лекции по научному коммунизму и вовсе проводились в гигантском подземном тире, где будущие «военные переводчики» учились поражать идеологического врага из всех существовавших в природе видов огнестрельного и холодного оружия…
После завершения вуза Стаса почти сразу направили на «практику» в Испанию, где он задержался на долгие пять лет. Предъявив на родине Веласкеса фундаментальную «легенду» и не менее основательные документы на имя выпускника Технологического колледжа Тегусигальпы Энрике Сибилласа, молодой «специалист из Гондураса» устроился на работу в конструкторское бюро при крупной авиастроительной фирме, выполнявшей серьезные заказы министерства обороны Испании…
К тридцати семи годам так и не женившийся подполковник Станислав Игоревич Волков сделал весьма солидную карьеру в ГРУ, практически безвылазно проработав двенадцать лет в Испании, Швейцарии, на Мальте и сумев при этом не «засветиться».
…В субботу Реджинальд Бакстон, снимавший две комнаты и крохотную кухоньку в классическом трехэтажном английском доме из красного кирпича в самом начале Лексингтон-роуд, позволял себе спать до десяти утра. Затем он вставал, варил на спиртовке крепчайший кубинские кофе, который, несмотря на глухую экономическую блокаду Острова свободы, без всяких проблем покупал в колониальной лавке за углом, поджаривал два небольших тоста, намазывал их яблочным мармеладом, после чего устраивался с этим нехитрым завтракам в кресле у высокого, викторианского окна и, медленно попивая ароматный кофе без сахара, часами наблюдал за суматошным движением на одной из самых оживленных лондонских улиц. Для Стаса Волкова, чья врожденная нелюдимость и замкнутость были доведены за годы службы в советской военной разведке до подлинного совершенства, это была лучшая форма отдыха в субботний день. За четырнадцать лет, которые буквально пролетели после того памятного разговора с седым генералом в военкомате, Стас так и не стал карьеристом, никогда не ставил перед собой конкретные цели, не обращался с просьбами к высокому начальству. И тем не менее что бы ни делал этот «очень милый», как называла Реджинальда Бакстона хозяйка дома мисс Мэнсфилд, коренастый мужчина с неизменно благожелательной улыбкой, каким-то удивительным образом работало на него. Упорное нежелание Стаса, несмотря на далеко не юношеский возраст, обзаводиться семьей, его высочайший профессионализм и фанатичная любовь ко всему, что имело даже отдаленное отношение к ракетно- космической технике, его неразговорчивость, совершенно уникальный нюх на чужие секреты, полное безразличие к деньгам и вопросам повышения по службе, а также какой-то особый дар воздействовать на посторонних людей не могли не устраивать руководителей ГРУ, прекрасно понимавших: «кроты» с таким редким набором положительных качеств способны работать и приносить пользу очень долгое время. А если учитывать, что Стас никогда не заводил разговоров о том, что устал и хочет вернуться в Москву, чтобы хоть пару лет прожить в естественной среде, то Главное разведывательное управление Генерального штаба Советской Армии, не будь оно сплошь и рядом укомплектовано убежденными атеистами, имело все основания молиться на своего лондонского резидента.
…Допив кофе из большой фаянсовой кружки, Стас какое-то время размышлял, стоит ли повторить, и когда уже почти собрался встать, ожил черный телефонный аппарат на подоконнике. Это был старенький «эриксон» еще довоенного выпуска. Очевидно, молоточек на звонке, упрятанном в эбонитовый корпус, настолько стерся от времени, что издавал даже не звон, а какое-то невнятное кряхтенье.
— Слушаю, — тихо откликнулся Стас.
— Мистер Бакстон? — поинтересовался молодой женский голос.
— Да, это я.
— Этот мисс Розуэлл. Простите, что беспокою вас дома, мистер Бакстон, но у меня неотложное дело…
— Чем могу быть полезен, мэм?
— Я бы хотела отсрочить ровно на неделю выплату по закладным. В случае вашего согласия я готова с нарочным отправить вам гарантийный чек прямо домой…
— Неделя это слишком долго, мисс Розуэлл, — голос Стаса звучал ровно и вежливо. — Максимум, что я могу сделать для вас, мэм, это отсрочить платеж на три дня. То есть до полдня во вторник.
— Хорошо. Меня это устраивает.
— Всего доброго, мисс Розуэлл.
Положив трубку, Стас задумался. В течение минуты он несколько раз прокрутил в голове короткий телефонный разговор, ничего не понимая. Сомнений не было лишь в одном: используя пароль, который мог быть известен только представителю Центра, несколько минут назад назначили встречу в условленном месте. А невероятность ситуации заключалась в том, что этот пароль был заменен новым чуть больше месяца назад. Ни один из подчиненных Стасу агентов знать его не мог…
Волков тяжело вздохнул и откинулся на жесткую спинку стула. Периодическая сменяемость паролей в работе зарубежных резидентур являлась обычной практикой для всех спецслужб. Сама идея была довольно проста, по принципу «береженого Бог бережет». Однако пароль Центра для связи со своим резидентом в Англии не менялся два года. Во-первых, в этом не было никакой необходимости, ибо непосредственно на Стаса шефы ГРУ старались выходить как можно реже. Кроме того, человек, которому поручалось сделать телефонный звонок в Лондон, как правило, звонил из другой страны и даже не предполагал, кому именно он передает просьбу об отмене чека или отсрочке платежа. Иногда, для связи со своими резидентами, ГРУ использовало пенсионеров или просто бездомных бродяг, которые за десять долларов охотно соглашались на столь необременительную услугу. Но даже если бы кому-то вздумалось записать этот разговор, до его сути докопаться было практически невозможно: фамилия клиентки или клиента, от имени которого Стасу звонили домой или в офис, фигурировали в деловых документах принадлежащей ему конторы по торговле недвижимостью, а сам характер просьбы четко соответствовал реальной ситуации. Короче, было предусмотрены все мыслимые меры предосторожности. Однако с тем, что произошло минуту назад, Стас Волков столкнулся впервые за четырнадцать лет своей нелегальной работы за границей. Случившееся не укладывалось в рамки ни одной инструкции, которые предусматривали, казалось, все на свете. Безусловно, это был сигнал опасности, как короткое замыкание в идеально функционировавшей цепи, после которого Стас был обязан немедленно перейти на нелегальное положение и как можно быстрее исчезнуть из страны. Возможно, окажись на месте Стаса «крот» помоложе и не с такими крепкими нервами, он непременно так и сделал бы. Но Волков был опытным нелегалом и понимал: если каким-то непостижимым образом пароль попал в руки МИ-5, то английская контрразведка никогда бы им не воспользовалась. И в первую очередь потому, что знала: пароли периодически меняются, а гарантий, что попавший к ним в руки все еще актуален, никто не даст. Следовательно, они бы поискали более надежный способ проследить за резидентом ГРУ. Конечно, велик соблазн сыграть в свою игру с грозной советской военной разведкой, однако какой смысл идти на очевидный риск, если есть возможность просто взять резидента и, нашпиговав его «химией», без проблем выяснить все, что нужно? Вариант, при котором представитель Центра мог перепутать условные сигналы, Стас отмел сразу же — это смахивало на фантастическую литературу для детей.
Но что тогда?..
Переданный по телефону пароль обязывал Волкова находиться в день звонка от девяти до половины десятого вечера у входа в небольшой театр «Ричард», расположенный в трехстах метрах от Трафальгар-сквер. В случае технической невозможности Стас должен был выйти на встречу в то же самое время ровно через сутки.
У Стаса не было ни рации или каких-нибудь иных возможностей МГНОВЕННОГО выхода на связь с Центром. К концу семидесятых годов ведущие разведки мира почти полностью перешли на тайники, пользование которыми, если неукоснительно следовать инструкциям, практически исключало провал. Конечно же, у Волкова, как, впрочем, и у всех резидентов ГРУ, была возможность самостоятельного выхода на Центр. Однако то была непростая процедура, которая, в зависимости от обстоятельств, занимала от двух до четырех дней. Стас понимал, что времени связаться с руководством, выяснить, что же происходит, и получить соответствующие инструкции, у него нет. Следовательно, ему было необходимо принять самостоятельное решение. Но какое? Он понимал, что, если будет действовать по инструкции, переждет какое-то время на конспиративной квартире, а потом, под чужим именем, скроется из страны (в его распоряжении было несколько подобных вариантов), служебных претензий к его действиям со стороны руководства ГРУ не будет. В конце концов, главная задача любого нелегала — не попасть в руки контрразведки противника. С другой стороны, подобное решение означало бы безоговорочный конец его карьеры профессионального нелегала. Даже самому себе Стас не хотел признаваться, что давно уже органически принял этот образ жизни и просто не представляет себе другой. Именно сейчас, испытывая острую нехватку времени и колоссальное внутреннее напряжение, Волков понял, почему тогда, четырнадцать лет назад, седовласый генерал-майор остановил на нем свой выбор: работа «крота», как предполагал опытный военный разведчик, в итоге заменила Стасу все, что составляет суть жизни любого ОБЫЧНОГО человека, — отца и мать, любимую женщину и детей, круг близких товарищей и привычную среду обитания…
Поднявшись наконец со стула, на котором просидел в нелегких раздумьях несколько часов, Стас направился во вторую комнату, служившую ему одновременно спальней и кабинетом. Присев на корточки перед широкой двуспальной кроватью, Волков вытащил из заднего кармана брюк перочинный нож, аккуратно поддел деревянное основание широкой спинки кровати, оказавшееся внутри полым. Просунув ладонь вовнутрь, он вытащил плоскую картонную коробку, раскрыл ее, извлек обернутый в тряпицу небольшой черный «магнум» 22-го калибра, проверил обойму, рывком затвора послал патрон в ствол и засунул пистолет за пояс брюк…
Ровно в девять вечера Волков уже стоял у афишной тумбы театра «Ричард», с неподдельным интересом вчитываясь в список исполнителей ролей. Судя по афише, в ближайшие три дня в театре шла премьера «Носорога» Ионеско. Стоял исключительно редкий для мартовского Лондона вечер — ясный, без дождя и тумана. Стас поймал себя на мысли, что сравнивает эту чудесную погоду не с Москвой, а с Мадридом, и усмехнулся про себя.
«Ричард» располагался примерно посередине между шумной Трафальгар-сквер и окрашенным в розовый неон Сохо с его стриптиз-барами и рок-клубами. То есть в одном из самых оживленных мест Лондона, где в любую погоду было полно волосатых хиппи, туристов со всего света и праздных бездельников, всем своим видом опровергающих устоявшееся мнение о британском происхождении фразы «Мой дом — моя крепость». С точки зрения безопасности, место встречи с представителем Центра было выбрано идеально — в случае необходимости можно было легко затеряться в толпе. Кроме того, напротив театра располагался открытый до десяти вечера трехэтажный универмаг «Мейси» с выходами на четыре стороны.
— Стас?..
Волков мгновенно справился с секундным спазмом внутреннего напряжения, глубоко вздохнул и обернулся. В метре от него, засунув руки в косые карманы длинного черного пальто, стоял высокий мужчина. Широкополая черная шляпа была надвинута почти на глаза незнакомца, прикрытые тонированными стеклами модных очков в тяжелой роговой оправе.
— Виктор? — Несмотря на железную выдержку, Волков не мог скрыть удивления.
— Не ожидал увидеть меня в этой жизни? — Мишин улыбнулся одними губами.
— Чего это вдруг тебя стали интересовать мои ожидания?
— Кто-нибудь знает об этой встрече?
— Я мог бы задать тебе тот же вопрос.
— Задашь. Но сначала ответь на мой.
— Никто.
— Это хорошо.
— Хорошо для кого?
— Для нас с тобой, мистер Бакстон.
— Хочешь поговорить?
— Естественно, — хмыкнул Витяня и, кинув взгляд куда-то за спину Стаса, неожиданно коротко и резко свистнул. В ту же секунду у афишной тумбы театра «Ричард» притормозил черный «воксхолл» с белыми шашечками на боку.
— Поехали, дружище, — пробормотал Мишин, распахивая дверцу такси. — Покажешь мне достопримечательности славного града Лондона…
Стас напрягся.
— Послушай, земляк, — опершись на открытую дверцу такси, Мишин полуобернулся. — Если уж ты вошел в холодную воду, то не бойся замочить яйца. А то как-то не по-русски получается.
— Чьи яйца? — спросил Стас, не обращая никакого внимания на нетерпеливо урчащий «воксхолл». — Свои или твои?
— Ты же меня знаешь. — Пожал плечами Мишин. — Когда я разговариваю, то не дерусь. Но если уж дерусь, то никогда не болтаю лишнего. Поехали. Нам есть о чем потолковать…
Через двадцать минут они сидели в небольшом баре в Ист-сайде, заняв столик в самом углу полуосвещенного питейного заведения.
— Мне двойной «гиннес». Черный, — бросил Витяня молоденькому прыщавому официанту.
— Мне бурбон.
— Откуда ты взялся, Мишин? — тихо спросил Стас, когда официант направился к стойке за заказом.
— Долго рассказывать.
— Ничего, у меня есть время.
— Зато у меня его в обрез, приятель.
— Я не буду с тобой разговаривать ни о чем до тех пор, пока ты не скажешь мне, откуда тебя известен пароль.
— Что с тобой, Стас? — Мишин улыбнулся и кивком поблагодарил официанта, осторожно поставившего на стул гигантскую кружку с пивом и виски для Волкова. — Вы что там, в ГРУ, совсем охренели? Разве представителю Центра задают такие вопросы? Даже если он работает в другой конторе.
— Ты не представитель МОЕГО Центра, Мишин, — сквозь зубы процедил Стас. — Мало того, что ты из принципиально другой конторы, так еще воспользовался старым паролем. Понимаешь, ста-рым!
— Да что ты говоришь?! — Витяня аккуратно сдул пену. — Ну, извини, Стас, я не хотел тебя обидеть.
— Мишин, ты вообще в своем уме?
— Сомневаешься?
— По инструкции я не могу себе позволить даже это.
— Угрожаешь?
— Какой-то дурацкий разговор.
— Мне нужна твоя помощь, Стас.
— Я уже сказал тебе, что…
— Заткнись! — негромко, но очень внятно прорычал Мишин. — И не будь идиотом! Мне начхать на твои инструкции! Если бы я действительно пришел за тобой, умник, тебе бы уже вешали на ногу бирку с инвентарным номером морга. Твоей безопасности ничего не угрожает, Стас. В свое время, в Мадриде, ты явился ко мне без всякого пароля, однако я тебе помог. Хотя мне это могло стоить куда больше, чем слетевшие погоны. Старый пароль, говоришь? Ну и что? Я ведь получил его не у англичан, не у американцев, а у СВОЕГО начальства, понимаешь, подполковник? В конце концов, мы с тобой едим из одной кормушки, если ты еще не забыл это пикантное обстоятельство, Стас. Да я, если хочешь знать, вообще мог бы обойтись без этого долбаного пароля. Просто не хотел наведываться к тебе на квартиру, светить понапрасну. Еще вопросы есть?
— Что тебе нужно?
— У меня проблемы. Серьезные проблемы, дружище. Короче, я не могу вернуться домой… Я не стану тебе ничего рассказывать — для твоего же блага, Стас. Чем меньше ты узнаешь, тем здоровее будешь… Так вот, мне нужна встреча с одним человеком. В любой точке земли, кроме Союза…
— С кем?
— С Цвигуном.
— С кем? — ошарашенно переспросил Волков.
— С генерал-лейтенантом Семеном Кузьмичом Цвигуном, — отчетливо повторил Витяня. — Только этот человек заинтересован услышать то, что я знаю. И только он может прикрыть мою жопу на Лубянке, решив при этом свои собственные проблемы.
— С каких пор ты в курсе проблем своего зампреда?
— Стас, на тебя плохо действует Лондон!
— Хорошо… Но я-то здесь при чем? Какая связь?
— Никифоров ведь твой шеф?
— Д-допустим, — кивнул Стас.
— И большой дружок Цинева, не так ли?
— И что?
— Не притворяйся тупым, Стас. Речь идет об очень серьезных вещах. Поможешь?
— Почему ты обратился именно ко мне?
— Потому что в своей конторе я приговорен. Приказ подписал первый. И никто со мной общаться не станет. Полюбоваться на труп — совершенно другое дело. Но с живым — никогда. Точка.
— Ты что, не можешь выйти на Цвигуна сам?
— Конечно, могу! Но прежде я услышу от тебя, как это сделать, Стас. — По лицу Витяни скользнула насмешливая улыбка. — Позвонить ему из автомата домой? Воспользоваться голубиной почтой? Или пригласить первого зампреда КГБ на уик-энд с платиновыми блондинками в Швейцарские Альпы?
— Как ты себе все представляешь технически?
— У меня есть неопровержимые, железные доказательства, что Андропов завалил крупномасштабную операцию в Латинской Америке и теперь пытается скрыть эти подробности от пердунов со Старой площади…
— Ты хочешь сказать, что эта операция планировалась и утверждалась в Кремле?
— Стас, тебе только тридцать семь… — Мишин глотнул пиво и поморщился. — Лишняя информация — недосчитанные годы жизни. Уймись и слушай!
— Продолжай.
— Я и еще несколько человек оказались стрелочниками. Или свидетелями — как тебе будет угодно. Нас пытаются убрать, устроили за нашими головами настоящую охоту… Ты понимаешь меня, Стас?
Волков кивнул.
— Я обратился к тебе не только из-за твоих связей. Ты такой же нелегал, как и я. И то, что произошло со мной сегодня, завтра может свалиться и на твою голову. То есть какой-то мудак из Центра с большими звездами на погонах что-то там не просчитает и, чтобы спасти свою шкуру, подставит под нож непосредственных исполнителей…
— Ты уверен, что у Никифорова с Циневым настолько дружеские отношения, что…
— Это не наше с тобой дело, Стас. — Мишин залпом опрокинул половину кружки. — Передай по своим каналам Никифорову то, что я прошу: находящийся в бегах подполковник Мишин желает встретиться лично — подчеркиваю, Стас, только лично! — с Цвигуном. Уверен, что он в этой встрече заинтересован ничуть не меньше, чем я. А, возможно, даже больше. Если они не поверят, значит, мне остается только одно: обратиться в какую-нибудь крупную западную газету и подарить им прелюбопытнейшую историю с именами и фактами о том, как топорно действует некая мощная разведслужба, возглавляемая неким кремлевским крупняком.
— Самоубийство! — пробормотал Волков и впервые за весь разговор пригубил виски. — Что это даст тебе, Виктор?
— Знаешь, чем больше я в бегах, тем активнее развивается во мне мания величия. Хотя бы напоследок мне хочется влезть в шкуру нашего генсека и на практике понять, что же это такое — чувство глубокого удовлетворения.
— Ты же понимаешь, что в нашем деле невозможно оставаться чистым посредником. Как бы то ни было, но ты втягиваешь меня в очень неприятную игру.
— Не втягивайся. — Пожал плечами Мишин. — Скажи мне «нет». Только потом, когда тебя прижопят также — а от этого, земеля, не застрахован никто! — не ищи мои координаты в телефонной книге.
— Я понял тебя, — кивнул Волков и залпом опрокинул виски.
— Единственная просьба: во имя моей и своей безопасности, сделай это так, чтобы до них дошло: я в панике, в бегах, в цейтноте. И как утопающий хватаюсь за соломинку. Пусть это выглядит как твоя рекомендация, Стас. Добавь к тому, что передашь, личные наблюдения. Тем более что они тебя не обманывают. Это все! Связь через тебя. Никаких других посредников я знать не желаю. И последнее. На тот случай, если они вдруг решат разыгрывать со мной гамбиты, пусть знают: в одном из банков есть маленький сейф на одно маленькое, нерусское имя. Там лежат очень любопытные и в такой же степени секретные документы, которые в течение суток — будь они преданы огласке — взорвут нынешнюю Лубянку, а заодно и наше славное Политбюро к гребаной матери. Я отмечаюсь в этом банке строго периодически, как хронический сифилитик в кожвендиспансере. Если в назначенное время от меня не будет условного сигнала, эта бомба срабатывает автоматически. Ты меня понял, Стас?
— Что ты задумал, Виктор? — тихо спросил Волков.
— Ты что, не веришь мне?
— А я должен тебе верить? Тебе, который сваливается как снег на голову, неизвестно откуда, неизвестно кем посланный, неизвестно, какую конкретную цель преследующий?
— Тогда, в Мадриде, я тебе тоже не очень-то доверял. Но сделал то, о чем ты меня просил. По единственной причине — мы с тобой люди одной профессии, одной поганой крови. Да, дело у нас говенное, но другого мы с тобой не знаем, а потому хоть изредка должны помогать друг другу.
— А если это ничего не даст?
— Кому ничего не даст? Тебе, Стас?
— Тебе, Мишин.
— Значит, не судьба.
— Как я объясню Центру твой выход на меня?
— Мы два года просидели за одним столом в некоем высшем учебном заведении. Так что сам факт нашей встречи ни у кого не должен вызывать лишних вопросов. Кроме того, как старый друг, да еще находящийся в бегах, я вполне мог случайно встретиться с тобой и посетовать на свою горькую судьбину. Забудь про пароль — этим ты только настроишь против себя собственное начальство. Вообще не упоминай об этом. Просто случайная встреча…
— Случайности в нашем деле? — Волков презрительно хмыкнул. — За кого ты меня принимаешь, Мишин?! И за кого ты держишь своих и моих шишкарей?
— А ты не веришь в случайности, Стас? — Мишин чуть подался вперед. — Тогда посмотри на меня, дебил! Перед тобой сидит живой пример классической случайности.
— Ты забыл добавить, «пока живой», — усмехнулся Волков.
— Ты прав, — кивнул Витяня. — И тем не менее пока я жив. Так вот, случайно все, что происходит со мной в последние три месяца: что я выжил после тяжелейшего ранения, что не истек кровью на какой-нибудь мусорной куче, что я здесь, в Лондоне, а не в подвале Лубянки, что разговариваю с тобой, что я еще жив в конце концов, хотя существует четкое решение, что именно в этом я заблуждаюсь!..
— И где мы с тобой случайно встретились?
— В общественном сортире, в филиппинском бардаке, на стоянке такси, да где угодно! А ты, умная головушка, выслушав исповедь затравленного зверя и мгновенно просчитав ситуацию, решил посоветоваться со своим непосредственным шефом. Все складно, Стас, если, конечно, ты не решишься на какие-то сомнительные дополнения. Надеюсь, что я в тебя не ошибся.
— Это единственное, на что тебе осталось уповать.
— Как-то не верится, что и ты меня сдашь.
— На меня это похоже?
— Ты всегда был человеком, Стас. — Витяня положил руку на его ладонь. — И это выгодно отличало тебя от других лошадей в наших конкурирующих конюшнях. Сделай то, о чем я прошу. Это действительно важно для меня.
— Как мне найти тебя в случае чего?
— А эта информация может только осложнить твою жизнь, — улыбнулся Мишин. — В наши задницы намертво вшиты таймеры. Нас научили чувствовать время и автоматически определять, когда оно подошло. Я сам тебя разыщу, Стас. И именно в тот момент, когда почувствую, что эта квашня начала подниматься…
20. МОСКВА. ШТАБ-КВАРТИРА ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
Март 1978 года
Генерал-лейтенант Степан Федорович Никифоров, шеф управления внешней разведки ГРУ, получил шифровку из Лондона после обеда. У Никифорова, работавшего в ГРУ больше двадцати лет, было железное правило, которое он не нарушал никогда: при любых обстоятельствах этот костистый, широкозадый, деревенского вида мужчина лет пятидесятивосьми — шестидесяти, с обритой наголо головой, широченными плечами, бычьей шеей, лихо перечеркнутой тремя глубокими складками, и выправкой воспитанника Суворовского училища обедал дома. Формальным объяснение его ежедневных отлучек на полтора часа — с 12.30 до 14.00 — была застарелая язва, требовавшая не просто домашней кухни, но еще и абсолютно спокойной атмосферы в момент принятия пищи. Главный гастролог закрытого военного госпиталя, обслуживавшего только аппарат ГРУ, подтвердил это предписание, и высокое начальство, которое, как и все военные, свято верило во врачебные диагнозы, покорно приняло систематическое полуторачасовое отсутствие на работе шефа внешней разведки.
На самом же деле Никифоров, вообще предпочитавший голод сытому желудку, нуждался не столько в диетических обедах своей супруги Таисии Ивановны, которые он поглощал с безразличием истинного военного, которому, по большому счету, абсолютно все равно, какое количество калорий, углеводов и белков он поглощает, сколько в ежедневном сорокапятиминутном дневном сне. Подремав на сытый желудок дома, Никифоров, вот уже много лет поднимавшийся с петухами, сразу же чувствовал себя полноценным человеком и мог засиживаться на работе до поздней ночи, не теряя удивительной работоспособности, которая приводила в искреннее восхищение даже тех его подчиненных и немногочисленных начальников, которые в душе недолюбливали придирчивого, педантичного и приставучего, как репей, шефа внешней разведки.
Шифровку, подписанную лондонским резидентом ГРУ Станиславом Волковым, ему принесли сразу же, едва только он вернулся на службу и, аккуратно развесив на плечиках серо-малиновую генеральскую шинель, опустился в кресло. Отдохнувшему и пребывавшему в этой связи в бодром рабочем состоянии Никифорову даже не понадобилось напрягать голову и сосредотачивать внимание — невзирая на беспрецедентное содержание шифро-телеграммы, переправленной в Центр по каналам специально разработанной системы, исключавшей даже теоретическую возможность обнаружения первоисточника, Никифоров тут же сообразил, ЧТО стоит за предельно сжатым и профессионально исчерпывающим текстом, стоило ему только окинуть цепким взглядом четыре ряда расшифрованных цифровых колонок. По-настоящему он задумался потом, когда отложил перфорированный по краям лист бумаги в сторону и откинулся в неудобном жестком кресле.
Никифоров, начавший войну молоденьким лейтенантом-связистом, выпускником военного училища и ставший к весне 1945 года полковником, командиром особого полка связи, обеспечивавшего, кстати, установку телефонных линий и приспособлений против тайного прослушивания в посольстве СССР на Тегеранской конференции сорок третьего года, был ярко выраженным сталинистом. Типичный представитель фронтового поколения, он даже слушать не хотел о том, что его суровый и немногословный кумир сгоняет в сибирские концлагеря и ставит к стенке сотни тысяч, миллионы честных коммунистов, как и он, достойно прошедших войну и ничем не запятнавших себя перед партией. Не случайно сразу же после смерти Сталина тридцатипятилетний полковник Никифоров решил, несмотря на реально маячившие в недалеком будущем генеральские звезды, демобилизоваться из армии, неожиданно для своих сослуживцев экстерном закончил Московское высшее техническое училище имени Баумана, защитил кандидатскую диссертацию и занялся преподавательской работой на одной из кафедр МВТУ.
На работу в ГРУ его пригласили уже после XX съезда партии, в пятьдесят девятом году. Хрущев, вошедший к тому времени во вкус безраздельного властвования и спонтанного реформирования, которым он то шокировал, то приводил в неописуемый восторг, а то и откровенно пугал Запад, взялся за сокращение действительно чудовищной по числу людей Советской Армии и комплексных программ вооружений, особенно на военно-морском флоте. Буквально во всех гарнизонах, от Калининграда до Находки, гудел ропот массового недовольства — боевые офицеры, орденоносцы, прошедшие уникальную школу Отечественной войны и еще способные послужить Родине, десятками тысяч увольнялись в запас и оказывались, по сути, выброшенными на улицу. Без жилья, гражданской специальности, перспектив…
Все это Никифоров, в свойственной ему открытой манере, сразу же выложил в беседе с тогдашним начальником ГРУ — подозрительно молодым для погон генерал-полковника крепышом с украинской фамилией и открытым русским лицом, который пригласил его на конфиденциальную беседу в главное здание Министерства обороны.
Внимательно, не перебивая выслушав полковника в отставке, шеф Главного разведывательного управления Генерального штаба Советской Армии внимательно, изучающе посмотрел на Никифорова, после чего сухо, по-деловому процедил:
— Что-то я вас не пойму, уважаемый Степан Федорович. Что вас, собственно, возмущает? Какой именно аспект сокращения нашей армии? Профессиональный или морально-психологический?
— Я кадровый военный, товарищ генерал-полковник, — заявил Никифоров. — И армия для меня — понятие комплексное, многоаспектное. А потому меня волнует и то и другое, поскольку вещи эти, на мой взгляд, глубоко и прочно взаимосвязаны.
— Вы же никогда не были политруком, не правда ли, Степан Федорович?
— Что? — переспросил Никифоров ошарашенно.
— И занимались вы и на фронте, и после войны сугубо конкретным делом — связью, — продолжал шеф ГРУ, никак не реагируя на реакцию Никифорова. — Возможно, в своем возмущении вы и правы, но меня это, вы уж извините, мало интересует. Я ведь организовал эту встречу только для того, чтобы предложить вам ВЕРНУТЬСЯ в армию, а не рассуждать о причинах ее массового сокращения. Впрочем, если вас интересует мое мнение, то в принципе я согласен с теми военными реформами, которые проводят сейчас партия и правительство. Перед нами стоит перспектива принципиально иной войны, уважаемый Степан Федорович, в которой не просто не нужны, а мешать будут, под ногами путаться, почти шесть миллионов военнослужащих. Вы никогда не задавали себе вопрос, а что, собственно, будет делать эта орава средних офицеров, тактически и морально устаревшая и по инерции живущая фланговыми атаками Отечественной войны? Пришла пора, Степан Федорович, переходить к созданию мобильной, хорошо обученной и технически коренным образом перевооруженной армии. Вы же на гражданке не больше шести лет, ведь так?
— Пять с половиной.
— Ну вот. Почти ничего. А изменения, происшедшие в области вооружений за эти годы — колоссальны! Новая бронетехника, реактивная артиллерия, стратегическая авиация… Я уже не говорю о ракетных вооружениях — это новое направление, которое постоянно совершенствуется и за которым будущее. Прокормить самую большую по численности в мире армию и одновременно оснастить ее военной техникой, не уступающей американской, — задача для страны непосильная. Тот самый случай, когда принято говорить: «Не было счастья, да несчастье помогло». Пришло время пожертвовать численностью армии ради повышения ее боеспособности. В конце концов, Суворов был прав, утверждая, что побеждать надо умением, а не числом… А что касается Хрущева и его взглядов на военные реформы, то не думайте вы об этом, Степан Федорович. Мы с вами — люди военные. Политики приходят и уходят, они говорят умные вещи и делают страшные глупости, только вот углубляться в эти дебри не стоит — нам Родину защищать нужно.
— Я с уважением отношусь к вашей точке зрения, — дипломатично ответил Никифоров, несколько сбитый с толку логичными аргументами шефа ГРУ, — однако по ряду моментов мог бы и поспорить.
— Еще поспорим, — неожиданно улыбнулся суровый генерал-полковник. — Но только после того, как станем работать вместе. Я предлагаю вам вернуться на военную службу. Ваши знания, боевой опыт и высокая гражданская квалификация могут быть эффективно использованы у нас, в Главном разведывательном управлении. Предлагаю вам место в Управлении внешней разведки. Будете начальником научно-технического отдела. Работа на редкость увлекательная, перспективная, должность генерал- майорская, зарплата ощутимо выше оклада кандидата технических наук, плюс госдача, ну и всякое такое прочее. Пойдете?
И Никифоров, казалось бы, давно уже абсорбировавшийся в академической среде, занимавшийся преподавательской работой и живший глубоко гражданской, размеренной жизнью, неожиданно для себя сказал:
— Пойду!
Начав службу в ГРУ в сорок лет, Никифоров дослужился до погон генерал-лейтенанта и возглавил управление внешней разведки, пройдя поэтапно реальные испытания Кубой, Вьетнамом, Анголой, Чехословакией, Лаосом, Чили… Звезд с неба этот человек не хватал, иностранными языками не владел, никуда дальше Барвихи не выезжал, однако имел два неоспоримых достоинства, которых, учитывая специфику работы ГРУ — военной разведки и контрразведки мирового уровня — вполне хватало, чтобы оставаться в этой боевой обойме далеко не последним патроном. Во-первых, Никифоров был непревзойденным докой по всем вопросам, имеющим даже касательное отношение к связи, технике передачи информации и шифрам. А во-вторых, обладал цепким и изворотливым умом. Остальные пробелы в непростом деле военной разведки с лихвой компенсировал внушительный штат управления и несколько личных помощников Никифорова.
…Пододвинув к себе шифровку Волкова, шеф Управления внешней разведки ГРУ рассеянно пробежался по колонкам цифр и расшифровке. Он не читал — содержание шифровки уже прочно осело в его памяти. Никифоров просто хотел еще раз удостовериться, что сам факт ее существования — реальность. Поскольку никогда за годы своей работы в ГРУ Никифоров не сталкивался с подобными документами. Шифровка Волкова не подходила ни под одну категорию. То есть не была ни оперативным документом, ни аналитической запиской, ни выкраденной документацией.
Никифоров поморщился, налил себе из графина полный стакан воды и осторожно, глоточками, выпил тепловатую жидкость.
«Что все это значит, черт побери? — думал он, мысленно перескакивая с предположения на предположение. — Провокация?.. Волков один из лучших резидентов, на него это совсем непохоже. Случайность? Я в такие случайности не верю. Вы же понимаете: случайно встретил в Лондоне… Это что, деревня какая-нибудь, где шестнадцать изб и все друг друга знают?! Может быть, чья- то игра? Кто-то решил осуществить некую комбинацию с жертвой и использовать в качестве тарана мощь и влияние ГРУ? Ага! И начинает ее почему-то через одного из самых проверенных наших людей, опытного резидента… Чушь какая-то! А если все-таки игра? Надо что-то предпринимать, не могу же я положить этот документ под сукно. Что делать? Не сообщать ничего Цвигуну? С чего это я должен помогать борову с Лубянки?! Попробовать порыться самому? Но зачем? И, главное, как? Где взять документы об этой таинственной операции в Латинской Америке? По нашей линии такой информации не поступало — все чисто. Кто такой Мишин? Действительно подрасстрельный или международный авантюрист, завербованный какой-нибудь западной спецслужбой? С кем разговаривать, с чего начать? Нет, в одиночку, пожалуй, не получится. С другой стороны, с докладом к шефу тоже торопиться не след. Пойдут вопросы — почему шифровка направлена именно тебе? А кому же еще, товарищ генерал армии, как не к руководителю военной разведки? А почему твой резидент так уверен, что ты передашь это полусообщение, полукроссворд беглого офицера КГБ непосредственно на Лубянку, Цвигуну? У тебя с ним какие- то внеслужебные отношения? А Волков вовсе в этом не уверен, товарищ генерал армии. Он наш резидент в Лондоне, и точка! И его святая обязанность — немедленно и точно информировать Центр обо всем, что заслуживает внимания. А что, это сообщение действительно заслуживает внимания? А что, не заслуживает? Шутка ли, какой- то подполковник, да еще находящийся в бегах, катит телегу на самого Андропова! Это вам, товарищи генералы, не хухры-мухры! Это вам, товарищи маршалы, возможность дать крепкий поджопник нашему главному конкуренту!.. В том случае, конечно, если постоянные пересуды о противостоянии армии и КГБ — не просто чесание языками. А и в самом деле: почему Стас направил эту шифровку? Какие у него резоны? Просто службист, который стремится использовать любую возможность, чтобы доказать начальству — дескать, смотрите, у меня нет никаких секретов от Центра? Вообще-то, на него не похоже. Офицер, конечно, исполнительный, без изъянов, но и не выскочка. К начальству на глаза лишний раз не полезет. Он вообще думал, когда посылал шифровку, или действовал строго по инструкции? Если думал, то это плохо. Просто скверно! Скверно, когда рядовой сотрудник уверен, что его шеф, как почтальон, передаст весточку в конкурирующее ведомство. Особенно если Волков в этом каким-нибудь образом кровно заинтересован. А если он в этом не был уверен, то зачем направил в Центр эту бомбу? Вот свалилось на голову, мать их!..»
Кивнув обритой головой, словно соглашаясь с последней фразой, Никифоров взглянул на настольные часы и поразился: в размышлениях о странной шифровке как-то совершенно незаметно пролетело полтора часа. Надо было что-то предпринимать, но Никифоров был опытным человеком и хорошо знал истинную цену любого неточного решения. Рисковать он не любил, а потому, делая окончательный выбор, был въедлив до неприличия и, во избежание последствий, «вылизывал» собственное решение с иезуитским усердием. Быстро пробежавшись по основным пунктам своих размышлений, генерал-лейтенант Никифоров определил три возможных пути:
1. Немедленно уничтожить шифровку.
2. Доложить о ней начальнику ГРУ.
3. Передать ее Цвигуну, никого не ставя в известность.
Первый вариант Никифоров отмел почти автоматически: все поступающие из-за рубежа шифровки фиксировались в специальном журнале. Учет и контроль за прохождением секретной документации в ГРУ был поставлен безупречно. Правда, объем их поступлений был необъятный, поскольку шифрованные донесения поступали круглосуточно со всех концов света. Понадобилась бы целая ревизионная комиссия, чтобы обнаружить таинственное исчезновение всего лишь одного донесения из Лондона. Тем не менее такая вероятность теоретически существовала, и потому Никифоров мысленно перечеркнул первый вариант.
Выбирая между разговором со своим непосредственным шефом и брежневским любимчиком Цвигуном, генерал-лейтенант Никифоров мучительно морщил лоб и шевелил губами, что случалось с ним исключительно редко, в минуты максимальной концентрации. Как ни странно, но первый вариант, от которого Никифоров так решительно отказался, соответствовал его характеру больше всего — осторожному, склонному к перестраховке и даже трусливому, если речь шла о вероятности личных осложнений. А тут куда уж проще: нет шифровки — нет головной боли!
Оставшиеся же два варианта сулили шефу внешней разведки ГРУ полный набор непредсказуемых последствий. Никифоров, конечно, понимал, что полученная из Лондона шифровка не имела никакого отношения к интересам национальной безопасности СССР — только к политике, причем к политике ВЫСОКОЙ, в которой Никифоров прекрасно ориентировался, но которую, одновременно, боялся как черт ладана. Если кто-то заимел компромат на Андропова и решил в обмен на что-то передать его Семену Цвигуну, значит, биться лбами намерены именно эти господины. Или кто-то еще, кто стоит рядом или даже НАД ними. Интуиция подсказывала Никифорову, что самое спокойное для него — держаться подальше от этих кремлевского-кагэбэшных страстей. Но как это сделать? Доложив начальнику ГРУ о шифровке, Никифоров оказывался вовлеченным в эту свару по определению: понятно, что его шеф тут же побежит к Устинову, министр обороны, соответственно, к Брежневу, генсек, прежде чем предпринять что-то конкретное, начнет разбираться, и на свет божий будет извлечен он — генерал-лейтенант Никифоров. Шансы на успех в столь сомнительном предприятии — 50 на 50. Валить-то хотят не кого-нибудь, а Юрия Андропова — человека в Кремле далеко не последнего. Короче, либо получишь третью большую звезду на погоны, либо — и это в лучшем случае — пенсионное пособие и теплые напутствия друзей вместе с напольными часами в подарок от родного коллектива. Соотношение 50:50 Никифорова не устраивало. Как и все максималисты, он стремился к стопроцентным гарантиям собственной неуязвимости, а потому отбросил второй вариант, целиком сосредоточившись на третьем.
«Дела у Цвигуна, скорее всего, действительно хреноватые, — думал он, едва заметно покачивая головой и шевеля губами. — Судя по всему, этот беглый подполковник действительно что-то имеет на Андропова. Конечно, надо проверить, действительно ли его приговорили к расстрелу на Лубянке, на самом ли деле была какая-та операция в Латинской Америке и тому подобное. Но если все сойдется, мотивация у этого парня очевидная: он вытягивает из дерьма Цвигуна, а тот, в свою очередь, возвращает подполковника на Лубянку. Все логично. А что Цвигун? Как он должен отнестись ко мне? И кто я вообще для него? Представитель конкурирующей конторы, стремящийся прослыть доброхотом и нагреть руки на чужой беде? Ангел-избавитель, возникший на горизонте в критический момент? Неудобный свидетель? А может, просто непосредственный организатор хитрой игры против него самого? В конце концов, это мой резидент передал шифровку из Лондона… Понятно, что Цвигун никуда не побежит и никому ничего не расскажет о шифровке. В отличие от моего шефа, Цвигуну рисоваться не перед кем — он и так собутыльник Брежнева. С другой стороны, Цвигун — мужик тертый. Очень бы не хотелось оказаться у него на крючке. Так ведь окажусь сразу же: я скрыл шифровку от прямого начальства и передал ее лично Цвигуну. Должностное преступление. Опасно! Погоди-погоди, Степан Федорович! Давай копнем глубже… Допустим, все так и есть. И шифровка Волкова — не туфта, а чистая правда. Что предпримет Цвигун? Поедет на встречу? Как? Без ведома Андропова? Ну, допустим, изобразит первый зампред КГБ какую-то срочную необходимость слетать в братскую социалистическую страну. Только ведь этот самый Мишин тоже не идиот. И за «железный занавес» не высунется — ему, имеющему расстрельный приговор, это вовсе ни к чему. Стало быть, надлежит Семену Кузьмичу мотануть на Запад. И не в составе советской партийно-правительственной делегации, а под чужой фамилией, с чужим паспортом. И обязательно одному. Потому как командирование людей с Лубянки происходит только по личному распоряжению Андропова. Как минимум — Воронцова, шефа Первого главного управления. В общем, темный лес получается. Сунет ли Цвигун голову в петлю? Рискованно. В конце концов, за шифровкой может стоять чья-то хитрая игра. Пускаться в путешествие в одиночку — просто непрофессионально. И потом, как? Он же не попрет через какой-нибудь коридор на южной границе? Риск колоссальный, особенно в сложившейся ситуации. И тогда… И тогда, Степан Федорович, он обратится к тебе. Да-да, именно к тебе, потому как сейчас родная контора для него — хуже эмиграции. И ежели его война с Андроповым достигла такого уровня, стало быть, на Лубянке Цвигун под колпаком. Таким образом, наши шансы выравниваются. Скорее даже, он будет обязан мне больше, ведь ГРУ может дать ему то, чего он никогда не получит на Лубянке… Черт! И все же, самое простое было бы уничтожить к гребаной матери эту шифровку, и никакой головной боли!..»
Приняв, наконец, решение, Никифоров раскрыл небольшую серую книжицу с «вертушечными» телефонными номерами, нашел нужную строчку и набрал номер из четырех цифр. На третьем гудке трубка ожила резким басом:
— Генерал Цвигун. Слушаю!
— Здравия желаю, товарищ генерал, — с наигранной бодростью в голосе поприветствовал Цвигуна шеф внешней разведки ГРУ. — Генерал-лейтенант Никифоров из ГРУ побеспокоил.
— Приветствую вас, Степан Федорович, — голос Цвигуна звучал прохладно, предупреждающе. С наголо обритым, как уголовник, генералом ГРУ Цвигун встречался только на официальных мероприятиях, а по телефону и вовсе говорил считанные разы. — Какими судьбами, коллега?
— Возник один щепетильный вопросец, хотелось бы обсудить не по телефону…
— Никаких проблем, Степан Федорович, — автоматически, не думая, ответил Цвигун и почувствовал как резко, сами по себе, стали холодеть кончики пальцев, сжимавшие пластик телефонной трубки. — Вы ко мне или я к вам?
— Предлагаю нейтральную территорию. Как насчет партии в шахматы, Семен Кузьмич? Насколько мне известно, вы этим делом увлекаетесь?
— Да вроде бы увлекался лет пятнадцать назад, когда волос было побольше, а дел поменьше, — пробурчал Цвигун. — Но на одну партию, думаю, силенок хватит…
— Гарнизонный Дом офицеров в Архангельском, конечно же, знаете, Семен Кузьмич?
— Знаю, — отрывисто бросил Цвигун, обматерив про себя Никифорова. «И это он называет нейтральной территорией, фантомас хренов?! Территориальная единица ГРУ, отстойник для нелегалов с парадными мундирами в бабушкиных шифоньерах!..»
— Там, правда, еще не завершился капитальный ремонт, — словно угадывая ход рассуждений Цвигуна, как ни в чем не бывало продолжал Никифоров. — Но, думаю, уютную комнату с хорошей шахматной доской и крепким чаем обеспечить смогу. В 21.00 вас устроит?
— Вполне.
— Тогда жду, — рокотнул никифоровский бас.
Положив трубку, Цвигун несколько минут не шевелясь сидел в кресле, погрузившись в тяжкие размышления. Следуя самой первой, поверхностной реакции на неожиданную материализацию генерал-лейтенанта Никифорова, он попытался обнаружить хоть какую-нибудь связь между только что состоявшимся телефонным разговором и выволочкой, которую утром ему устроил Брежнев, после чего решительно отверг такую возможность. Не тот уровень, не тот стиль. ГРУ — это, прежде всего, Дмитрий Федорович Устинов — старый военный снабженец и хитрован, напяливший на себя, благодаря хорошим отношениям с Брежневым, маршальский мундир, на который он не имел ни малейшего морального права. После Малиновского и Гречко — боевых генералов, за плечами которых были блестящие победы на фронтах Отечественной, — широкозадый и по-граждански рыхлый Устинов, наблюдавший войну на почтительном расстоянии, в окуляры стереотруб или по кадрам кинохроники, смотрелся в погонах с маршальской звездой как исполнитель главной роли в провинциальном театре оперетты. И тем не менее его личные отношения с Устиновым были ровными. Министр обороны всегда недолюбливал Андропова, не опускаясь, правда, до открытых стычек. Цвигуна Устинов держал на почтительном от себя расстоянии, членом КВП он не был. И не потому, кстати, что ни в чем не нуждался. Просто возможности Устинова на одном из трех главных постов в стране были настолько обширными, что давали этому человеку все необходимое без помощи посторонних. В материально-техническом плане Советская Армия всегда являлась государством в государстве, чем, кстати, очень напоминала находящуюся в длительном автономном плавании подводную лодку, обеспечивавшую себя всем необходимым и независимую от базы. И все же подсознательно Цвигун чувствовал, что Устинов ни при каких обстоятельствах не ввяжется в кагэбэшную междоусобицу. Стало быть, Никифоров — типичный службист на военных харчах, который не был завязан ни в одну кремлевскую цепочку — по определению не может быть посланником смерти. Тут что-то другое…
Сняв трубку внутренней связи, Цвигун набрал номер Цинева.
— Слушаю! — по телефону циневский тенор казался еще тоньше.
— Выпить хочешь?
— Есть за что?
— Либо за здравие, либо за упокой, — хмыкнул Цвигун. — Повод есть всегда.
— Что-то случилось?
— Пока нет. Но, возможно, случится. Ты можешь зайти ко мне?
— Это действительно так срочно? У меня в приемной человек.
— Пошли его на хрен.
— Что-то срочное?
— Думаю, что да.
— Иду…
Переключившись на селектор, Цвигун бросил адъютанту:
— Тридцать минут меня ни для кого нет!
— Понял, товарищ генерал!..
Кнопка селекторной связи погасла.
— Ну, что у тебя стряслось? — Цинев, не доходя до рабочего стола Цвигуна, плюхнулся в роскошное кресло в углу кабинета и, подслеповато щуря глаза, стал протирать тонированные стекла очков белоснежным носовым платком.
— Ты знаешь Никифорова? — сразу же переходя к делу, спросил Цвигун, направляясь в угол кабинета и усаживаясь в кресле напротив.
— ГРУ?
— ГРУ.
— Знаю.
— Хорошо знаешь?
— Сеня, не пудри мне мозги! — неожиданно взвился Цинев и водрузил очки на нос. — Кого в этом бардаке можно знать хорошо? Жену? Сына? Себя?
— Ты чего это так разнервничался? — на толстых губах Цвигуна скользнула добродушная улыбка. — В конце концов, это меня сегодня трахнул хозяин, а не тебя.
— Что хотел Никифоров?
— Назначил встречу.
— Где?
— В Архангельском. На их базе.
— Там же ремонт уже третий месяц.
— Все-то ты знаешь, товарищ первый заместитель председателя, — пробормотал Цвигун, мысленно зачеркивая один из примерно двадцати вопросов, возникших у него после разговора с Никифоровым. — Вот что значит военная контрразведка!
— Странно, — Цинев, казалось, совершенно не слышал Цвигуна и поджал губы, словно проверяя прочность нижних зубов. — С чего бы это?
— Вот и я думаю: с чего?
— Возможно, они там тоже решили сыграть?
— Во что? — Цвигун пожал плечами. — И главное, против кого? Против Андропова? Чего вдруг? Нет, Жора, тут другое…
— Что другое?
— Знаешь, в моем партизанском отряде был один мужик из Пинска. Жидяра откровенная, пробы поставить негде было. Но боец, кстати, совсем даже неплохой. Так вот, рассказывал он как-то своим дружкам у костра такую историю. Жил он до войны в одной комнатушке с молодой женой и престарелой бабушкой. Кагал еще тот! И вот как-то под утро его жена-молодка и говорит: «Господи, до чего мне хочется орехов!» На что бабушка, лежавшая в трех метрах, за старым платяным шкафом, тут же выдает: «Моня, это звонок на мальчик!»
— Ну и что? — поморщился Цинев.
— А то, Жора, что появление на нашем горизонте Никифорова — это звонок на мальчик.
— Думаешь?
— У тебя есть что-то на Никифорова?
— Ничего стоящего… — Цинев вскинул глаза, припоминая. — Один сын, работает в каком-то «ящике». Женат. Жена тоже инженер-электронщик. Ну, там у них вообще все на виду, не скроешься. Супруга никифоровская — дама в летах, к тому же страшная, как приклад дробовика. Вообще-то он серьезный человек, этот Никифоров. Доктор наук, крупный спец по шифрам. Мы, кстати, к нему пару раз обращались…
— Помог?
— Нет, конечно!
— Что так? — Цвигун спрашивал не думая. Его мысли витали где-то в другом месте.
— Так это ж армия, Сеня! По любому вопросу надо ставить в известность вышестоящее начальство. В итоге все мало-мальски важное стекается к Устинову. А тот если и почерпнул что-то из военной лексики, так только команду «Отставить!».
— Неужели совсем ничего?
— Боюсь, что нет, Сеня.
— Так с чем я поеду на встречу?
— Поезжай-ка ты с «Макаровым», генерал. И, желательно, проверь обойму…
Совет прозвучал шутливо, однако маленькие черные глаза Цинева, какие-то полуразмытые за дымчатыми стеклами очков, смотрели совершенно серьезно…
21. ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА. АЭРОПОРТ КАЙЕННЫ
Март 1978 года
…Молодой мужчина в белом полотняном костюме и распахнутой на волосатой груди розовой рубашке имел ярко выраженную латиноамериканскую внешность — оливкового цвета удлиненное лицо, жесткие прямые волосы до плеч, ослепительно белые зубы и медальон на толстой рабовладельческой цепи размером в спасательный круг, на который ушло не меньше полкило золота. Короче, эдакий «мачо», мама которого с раннего детства убеждала свое ненаглядное дитятко, что самая сокровенная мечта любой, а тем более белой женщины — это сразу же, без предварительного знакомства и оглядки на консервативную европейскую мораль, забыть обо всем на свете и прыгнуть к нему в постель.
— Мадам? Вы позволите мне присесть за ваш столик?..
У молодого человека был очень приятный, мелодичный голос. По-французски он говорил довольно чисто, слегка пришепетывая на местный манер.
— Зачем?
Убедившись, что «мачо» с цепью на шее не мой соотечественник, я сразу же утратила к нему интерес и вновь уткнулась в ужасно нудную статью, поскольку никак не могла разобраться, что же, собственно, так не устраивает служащих французских почт.
— Мне бы хотелось познакомиться с вами поближе, — очень естественно, и даже доверительно сообщил длинноволосый красавчик и вновь улыбнулся. — Вы не просто красивы, мадам, вы — ослепительно красивы, вы прекрасны! Разрешите представиться: меня зовут Эухенио…
— В Америке ты был бы Юджином, — пробормотала я, не отрываясь от газеты. На какое-то мгновение мне показалось, что время замерло.
— Простите, мадам, что вы сказали?
— Я сказала, что вас очень много, молодой человек!
— Да, но я…
Сидящая через столик от меня пожилая американская пара, явно изнывавшая от безделья, с любопытством наблюдала за разворачивающейся серенадой в прозе и, возможно, уже заключила пари, когда именно оливковый красавец добьется намеченной цели.
— Вы очень любезны, Эухенио, — я изобразила на лице гримасу сдержанной благодарности. — Только не стоит так себя растрачивать. Через час с небольшим я улетаю, у меня просто не будет времени, чтобы по достоинству отблагодарить вас за высокую оценку моей внешности. Поищите что-нибудь за соседними столиками…
— Чуть больше часа?! — воскликнул темпераментный Эухенио, непринужденно присаживаясь за мой столик и вытаскивая сигарету из моей пачки. — Да я даже рассчитывать не смел, что смогу пробыть возле вас так долго! Как вас зовут, мадам?
Я с интересом, по-новому, взглянула на наглеца. С одной стороны, его надо было срочно посылать на несколько букв сразу, пока он не стал докапываться, на какой стороне постели я предпочитаю засыпать. Однако с другой — общаться с этим повесой было все-таки чуточку интереснее, нежели читать статью о социальных проблемах Франции. Кроме того, мне не хотелось привлекать излишнее внимание к своей персоне. Я взглянула на часы, вспомнила наставления Паулины, мысленно отмерила для себя финишную часть предстоящего разговора и сняла очки:
— Меня зовут Джозефина.
— Потрясающее имя! — воскликнул Эухенио и в очередной раз ослепил меня белозубым оскалом.
Это молодой парень был фальшив во всем, кроме благородного металла, из которого отлили его якорную цепь. Не блиставшая новизной схема заведения мимолетных знакомств со скучающими белыми женщинами, наверняка разработанная неведомым мне латиноамериканским знатоком женской психологии, была вбита в гордо посаженную индейскую голову Эухенио весьма фундаментально и содержала, по всей видимости, не более двух пунктов: при любых обстоятельствах говорить женщине только приятное и соглашаться с ней во всем. В принципе, если вдуматься как следует, схема не так уж и плоха. Просто мне она никогда не подходила, о чем белозубый красавец, естественно, знать не мог.
— Эухенио, вы вообще когда-нибудь учились в школе?
— О да, мадам! — «Мачо» щелкнул моей зажигалкой, со вкусом выпустил к потолку изящную струю сигаретного дыма и закинул ногу на ногу. — Я закончил католический лицей в Кайенне. Это очень престижное учебное заведение, смею вас заверить…
— Ваш родной язык?
— Испанский, мадам. Хотя я свободно говорю на французском, английском и португальском. Плюс несколько индейских диалектов.
— А на каком языке вы предпочитаете разговаривать с женщинами?
— На языке любви, мадам.
— Да вы лингвист, Эухенио!
— Я мужчина, мадам!
— Кому вы хотите напомнить об этом досадном обстоятельстве: мне или себе?
— Нам!..
В этот момент тонкие ноздри моего собеседника стали чувственно раздуваться. Передо мной сидел либо величайший актер, либо только что освободившийся из тюрьмы после десятилетней отсидки в одиночной камере сексуальный маньяк. «Все на хрен с пляжа!» — просигналило где-то глубоко в подсознании любимое предупреждение моей подруги. «Но как?» — мысленно поинтересовалась я и, не получив ответ, решила идти проторенными путями:
— Вам совершенно нечего делать, да, Эухенио?
— О, как вы не правы, мадам! — «Мачо» капризно надул губы бантиком. — У меня миллион всяких проблем и обязанностей. Но что поделать, мадам, если я сразу же забыл о них, едва только увидел вас!
— Вас ведь не загонишь в угол, да?
— Как раз наоборот, мадам: своей убийственной красотой вы сделали именно это!
— Уверена, что вы репетируете такие беседы перед зеркалом. Верно?
— Если под зеркалом иметь в виду ваши неповторимые глаза, мадам, то да! — Он вдруг огляделся по сторонам, после чего буквально ощупал меня цепким взглядом. — Послушайте, мадам Джозефина, — проговорил Эухенио, заговорщицки переходя на шепот. — У нас совсем немного времени, и я никогда не прощу себе, что вот так, из-за глупых условностей и наивных представлений о человеческой морали, выпустил из рук, так и не познав, самую красивую женщину, которую мне когда-либо доводилось встречать. Через дорогу от аэропорта находится замечательный отель, в котором есть все, что необходимо для нескольких мгновений ИСТИННОЙ любви. Не делайте меня несчастным на всю жизнь, мадам Джозефина, скажите только «да», и вы никогда не пожалеете об этом! Я унесу вас в такие заоблачные выси, о которых вы, даже прожив до глубокой старости, так никогда и не узнаете…
Он продолжал что-то горячо шептать о неге плотской страсти, о блаженном тепле слившихся воедино губ, о чувственности невесомых прикосновений и прочей хреновине, наверняка почерпнутой из какого-нибудь эротического журнальчика, но я уже как-то плохо врубалась в поток его порносознания, ибо думала совсем о другом: как отвязаться от этого типа, не привлекая внимания общественности? К концу пронизанного страстью любовного монолога Эухенио настолько распалился, что незаметно перешел с адажио на престиссимо и стал ощутимо сокращать дистанцию между нами, по сантиметру подволакивая свой стул к моему. Молниеносно перебрав в голове несколько вариантов, я решила остановиться на самом дурном и, даже толком не подумав, брякнула:
— О какой неземной любви вы говорите, Эухенио? Я — профессионалка.
— Естественно, профессионалка, — латиноамериканец обиженно поджал губы. — Разве я стал бы выворачиваться наизнанку перед какой-нибудь любительницей острых ощущений, черпающей фантазию из дешевых порнокассет? Этот период, мадам Джозефина, я уже давно миновал. Скажите мне лишь одно, мадам: сколько?
— Вы имеете в виду деньги? — осторожно поинтересовалась я.
— А разве есть какая-та иная плата за настоящую любовь? — совершенно серьезно откликнулся Эухенио.
— Н-ну, я не знаю…
— Мадам Джозефина, посмотрите на мои руки! — Эухенио чуть ли не в нос мне уткнул ухоженные, как у женщины, передние конечности, которые и в самом деле нервно подрагивали. — Со мной такого еще никогда не случалось! Мои руки трясутся так, словно я впервые в жизни готов познать женщину!..
— Может быть, это обычный похмельный тремор? — безнадежно спросила я.
— При чем здесь похмелье?! — взвился Эухенио. — Это страсть, мадам!! Если бы вы только могли увидеть, что у меня происходит сейчас там… — Он выразительно опустил глаза.
— Успокойтесь, Эухенио, — сдавленно пробормотала я, чувствуя, что у меня тоже начинают дрожать конечности. Правда, не от сексуального возбуждения, а от вполне объяснимого страха безнадежной девственницы, которой участники группового изнасилования, еще до совершения своих преступных замыслов, на пальцах показывают, что именно собираются с ней сделать.
— Это вы успокойте меня, мадам Джозефина! — взмолился Эухенио. — Скажите сколько, и не станем терять драгоценного времени! До вашего самолета осталось не так много…
Мысленно сконцентрировав в памяти весьма скудную информацию о нравах и обычаях первой древнейшей профессии, я пришла к выводу, что совершенно не ориентируюсь в этом специфическом вопросе. А Эухенио, впившись в меня совершенно сумасшедшим взглядом, уже весь дрожал как осиновый лист. Поняв, что ситуация полностью выходит из-под моего контроля и грозит перерасти в нечто совершенно непотребное, я собралась с духом и, придав своему голосу максимально деловые интонации (наш фотокор Саша как-то, под пьяную лавочку, делился со мной деталями торговли у трех вокзалов с проституткой, из кармана которой выглядывала початая бутылка «Солнцедара»), отчеканила:
— За час ИСТИННОЙ любви я беру пять тысяч долларов США!
Уже назвав цену, я тут же пожалела. А вдруг этот идиот набит долларами? Вдруг он на самом деле отпрыск какого-нибудь местного наркобарона, не торгуясь, выложит на стол пять тысяч и тут же поволочет меня в койку расположенного напротив отеля? Впрочем, убедившись, что у пылкого Эухенио, едва только он услышал сумму, вытянулось и без того продолговатое лицо и сразу же перестали дрожать руки, я немного успокоилась.
— Сколько вы сказали? — трагическим шепотом агонизирующего Эскамильо спросил Эухенио. — Пять тысяч долларов?!
Почувствовав, что инициатива переходит на мою половину столика, я гордо кивнула и добавила:
— При этом учтите, милый Эухенио: моя обычная такса — десять тысяч долларов за час. Однако в данный момент я нахожусь в производственном отпуске и могу позволить себе немного расслабиться. Ничего не поделаешь: эта уступчивость характера никогда не позволит мне стать богатой женщиной…
— Но это невозможно, мадам! — буквально взвыл Эухенио.
— Да бросьте вы, дорогой Эухенио! — небрежно вымолвила я. — Откуда такие средневековые комплексы? И почему я, в конце концов, не могу подарить пять тысяч долларов понравившемуся мужчине? Что я, нищая, что ли?
— Но у меня нет и пяти тысяч! — в голосе Эухенио отчетливо, как складки за ушами после очередной подтяжки, проступали нотки обреченности. — Это огромные деньги, мадам! На них здесь, в Кайенне, можно купить двухэтажный дом с патио.
— Эухенио, вы меня разочаровываете! — воскликнула я, музыкально оформляя капитуляцию этого дебила бравурными звуками «Встречного марша». — Вы готовы променять двухэтажный дом с патио на час ИСТИННОЙ любви со мной? Господи, как была права моя мамочка, которая с раннего детства говорила, что все мужчины — козлы!..
Теперь я уже развлекалась вовсю. Как выяснилось, если тебе не угрожает немедленная профессиональная расплата, есть такие моменты, когда вполне можно побыть и проституткой. Как минимум для разнообразия.
— Но это и впрямь очень дорого, мадам! — совсем уж поникшим голосом пробормотал этот Ромео из Французской Гвианы. — Вы бы не могли по случаю производственного отпуска сделать мне небольшую скидку?
— Вы что, решили меня оскорбить? — теперь уже настала моя очередь взвиться. Честно говоря, в тот момент меня даже испугала та естественность, с какой я чувствовала себя в образе продажной женщины.
— Боже упаси! — Эухенио молитвенно сложил ухоженные руки на волосатой груди. — Просто вы, мадам, скорее всего, не в курсе рыночных цен…
— А мне плевать на рыночные цены! — гордо заявила я. — Мне нет никакого дела до вашего поганого рынка! Вы знаете, КАКИЕ люди рыдали на этой груди?! — С совершенно чуждым мне самоуважением я дотронулась кончиками пальцев, своего ликующего бюста. — Вы знаете, какие люди умоляли меня немедленно бросить свое ремесло и выйти за них замуж? Но я всем отказала! Всем, милый Эухенио! Потому что истинное призвание за рыночные цены не продается!..
— Ну, хотя бы триста долларов! — канючил «мачо».
— Скинуть целых триста долларов?! — воскликнула я и в ту же секунду ужаснулась. Если до желанной цели моему настойчивому клиенту не хватало такой ерунды, то ситуация, еще минуту назад казавшаяся мне абсолютно безопасной, на самом деле была просто плачевной.
— Триста долларов — это все, что у меня есть! — с пафосом воскликнул Эухенио и с юношеским бесстыдством вывернул карманы своих белых штанов. — Это все, что я заработал за последние три месяца! Неужели вы не видите: из-за вспыхнувшей, как ритуальный костер, страсти я готов отдать вам все, что имею?!
Только в этот момент я вдруг поняла, что за нашим коммерческо-романтическим диалогом с нескрываемым восторгом наблюдают буквально все посетители кафе. В основном это были пассажиры мужского пола, с которыми мне еще предстояло лететь до Сан-Пауло. Что же касается пожилой американской пары, то, судя по выражению их округлых глаз, темпераментный образ Эухенио надолго, если не навсегда, затмил в их сознании героев любимых телесериалов.
К счастью, в этот момент подошел гарсон и коротким тычком, словно вколачивал гвоздь в стену, припечатал к пластиковой поверхности столика мой счет.
— За даму заплачу я! — гордо заявил гарсону и мне романтик Эухенио и потянул счет на себя.
— На это уйдет половина вашего месячного дохода, — предупредила я своего воздыхателя.
— Запомните, мадам… — Эухенио вплотную пододвинул свой стул и почти приник к моему уху. — Для любого латиноамериканского мужчины гордость — это больше чем деньги…
Я понимающе кивнула и сделала было попытку чуть отстраниться от пышущего жаром страсти лица Эухенио, но тут же замерла, услышав вторую часть этой фразы, произнесенную уже совершенно незнакомым, чужим голосом:
— Мужчина в серой фетровой шляпе через два столика от вас. Летит из Нью-Йорка. По паспорту голландец. Осторожно приглядитесь к нему, но никаких попыток сблизиться не предпринимайте. Скорее всего, он войдет с вами в контакт уже в Сан-Пауло. Будьте осторожны, Вэл!..
Мое изумление было настолько естественным, что Эухенио победно, словно только что забил решающий гол в ворота соперника, вскинул вверх обе руки:
— Я знал, мадам, я знал, что сумею достучаться до вашего неприступного сердца! Прошу вас, забудьте о своей профессии, помните только о молодости, о страсти, о наших сердцах, тянущихся друг к другу, как побеги бамбука, пробивающиеся к свету и жизни сквозь расплавленный асфальт! Да, мы с вами…
И в этот момент ожил небольшой репродуктор, укрепленный в углу кафе, над стойкой бара, который в самый подходящий момент резко прервал монолог несостоявшегося клиента и вывел меня из состояния глубокого ступора:
— Дамы и господа! Начинается посадка на рейс авиакомпании «Бразилия транс пасифик» Кайенна — Сан-Пауло. Посадка из зала номер три. Повторяю…
Я была настолько ошарашена последней мизансценой в совершенно неподражаемом исполнении белозубого красавца Эухенио, что уже не знала, как и на что реагировать. Честно говоря, я просто боялась взглянуть на мужчину в сером костюме, о существовании которого только что услышала от своего аэропортовского воздыхателя. Мне казалось, что стоит только бросить взгляд в его сторону, как я сразу же узнаю близкое до почечных колик открытое русское лицо — то есть именно то, на что меня так методично нацеливала несгибаемая Паулина. Я просто не могла поверить, что ее мрачные предсказания могут сбыться так быстро и, главное, так неожиданно.
А «мачо» тем временем приступил к финальной части своей неподражаемой роли: заломив в отчаянии руки, он посмотрел на меня взглядом, пронизанным смертельной тоской, и воскликнул:
— Я знаю, мадам: мы больше никогда не увидимся!..
Теперь, когда я поняла, кто на самом деле в течение
полутора часов водил меня за нос, настроение резко испортилось. Меня вдруг разобрала жуткая злость на себя и свою наивность. Я с трудом преодолела огромное, сиюминутное желание схватить обеими руками этого фигляра в опереточной розовой рубашке за его патлы и оттаскать как следует. Не помню уже в который по счету раз я прокляла свое пролетарско-интеллигентское происхождение, обложила самым низкопробным, подворотным матом принципы, вбитые в мое сознание школой и комсомольской организацией, — те самые принципы, в соответствии с которыми любая форма недоверия оскорбляет достоинство человека. В тот унизительный момент с меня, словно иглы с рождественской елки после трехнедельного простаивания в углу нашей мытищинской коммуналки, разом осыпались все профессиональные принципы, которые так старательно вбивала в мою голову Паулина. Мне было наплевать на Эухенио и тот высочайший уровень актерского мастерства, с которым он выполнил свое задание. Меня абсолютно не трогало то бесспорное обстоятельство, что белозубый фигляр, разыгрывавший на глазах у почтенной аэропортовской публики этакого латиноамериканского жиголо, реально ПРИКРЫЛ меня, предупредил об опасности, то есть действовал, как настоящий друг, совершающий доброе дело просто так, ничего не требуя взамен. Все эти мелочи только усиливали мою лютую ненависть к собственной персоне, к моему бесправию, бессилию и непроходимой наивности. Отстраненно наблюдая за отчаянно жестикулировавшим Эухенио, я вдруг с жалящей душу остротой поняла, что ничего в моей жизни, собственно, не изменилось: как и прежде, меня, словно ничего не значащую трефовую «шестерку» из старой, замусоленной колоды, периодически извлекали на свет божий, какое-то время приберегали для конкретной ситуации, а затем небрежно швыряли на игровой стол…
Четко следуя рекомендациям Паулины, я сделала три глубоких вздоха, затем встала, закинула на плечо широкий ремень дорожной сумки и в последний раз взглянула на застывшего в немой мольбе Эухенио. Я могла только догадываться, что конкретно приобрело Центральное разведывательное управление США, имея в своем штатном расписании такого агента, но практически не сомневалась в другом — в этом парне погибал величайший характерный актер. Эухенио не просто играл — он жил этой игрой и не выходил из образа даже тогда, когда все зрители (то есть пассажиры рейса до Сан-Пауло) уже вознаградили его заслуженной порцией неслышных аплодисментов и с явным сожалением покинули зал.
Я подошла к нему вплотную и, чтобы хоть как-то отыграться и не чувствовать себя совсем уж окончательной дурой, тихо сказала:
— Расслабься, Эухенио, на тебя уже никто не смотрит…
Он печально улыбнулся, мягко, почти невесомо, положил свою красивую руку мне на плечо и, приблизив точеное лицо, шепнул:
— Пока ты играешь в эти игры, за тобой смотрят всегда. И отовсюду. Запомни это, красивая белая женщина. И тот, кто не замечает подобных мелочей, становится главным героем поминальной службы…
И уже отстранившись, отчетливо, с умеренным надрывом в голосе, произнес:
— Прощай, любовь моя! Ты заставила меня страдать!..
Его финальный уход за кулисы был бесподобен: Эухенио стремительно направился к бару, опрокинул в себя большую рюмку виски, положил на стойку смятую купюру, затем как-то отрешенно взглянул на меня, недоуменно пожал плечами и, сплюнув себе под ноги, навсегда исчез из моей жизни.
Занавес!
…Я смотрела на простиравшийся под белым, как у акулы, брюхом «Боинга» нескончаемый однотонный ковер тропического леса — такой ослепительно яркий, словно на него опрокинули сверху целый океан берлинской лазури, — и даже не пыталась сосредоточиться на предупреждении Эухенио. Мне не надо было перегибаться через ручку кресла, поправлять свою сумку в багажной полке или имитировать срочное посещение туалета, чтобы окинуть незаметным взглядом пассажиров моего салона и убедиться, что человек в сером костюме, как любил повторять мой незабвенный редактор, имеет место быть. Я ЧУВСТВОВАЛА его присутствие спиной. И не только потому, что была предупреждена об этом. Просто общее состояние тревоги, которое в самом начале я относила за счет неопределенности своей очередной миссии, материализовалось в конце концов в образе конкретного человека, на которого мне незаметно кивнул несостоявшийся король театральных подмостков Эухенио.
Надо сказать, что в своей новой жизни я, зачастую сама того не желая, с изумлением открывала для себя, казалось бы, давно уже усвоенные и основательно переваренные житейские истины. И теперь, совершенно по-новому постигая их изначальный смысл, я, давно уже привыкшая относиться к себе с определенной долей уважения, понимала, насколько примитивным был сам принцип моего восприятия жизненных уроков. В лексиконе простых советских людей (к которым, без всякого кокетства, я относила и собственную персону) само понятие «опасность» было настолько деформированным и извращенным, что постепенно превратило свыше двухсот миллионов рабочих, крестьян и безнадежных в своей зашоренности интеллигентов в некое скопище сознательно ОДОМАШНЕННЫХ животных, загнанных на некую бескрайнюю ферму, предусмотрительно обнесенную высоким и неприступным забором. Войны мы не боялись — кто же ее начнет, если ракеты, пущенные из нашей процветающей фермы, достанут любого врага на пятнадцать минут раньше вражеских?! Преступности мы тоже не боялись — «моя милиция меня бережет». А если бережет, так чего бояться? Стихийных бедствий? Землетрясений там всяких, авиакатастроф, оползней? А у нас их практически никогда не было. А если и были, то без жертв. Стало быть, и бояться нечего. Политических репрессий? С ними мы покончили после XX съезда нашей великой фермы с забором. Пьянства нас приучили не бояться вообще, поскольку это не бедствие вовсе и не угроза, а так, социальные издержки, выход накопившейся от участия в социалистическом соревновании энергии. Как говорится, все болезни от нервов и только сифилис — от удовольствия. Страх потерять работу, остаться без медицинской помощи, без крыши над головой или без пенсии на почте исчезал, так сказать, поэтапно, в процессе изучения школьного курса истории СССР и институтских лекций по научному коммунизму. В основном мы жили МЕЛКИМИ страхами. Причем любопытно, что все они каким-то удивительным образом были связаны с таинственной и малодоступной заграницей. Страх отбиться от родной и спаянной в единый трудовой коллектив туристической группы при осмотре достопримечательностей города Ченстохова. Страх не расплатиться за две пары колготок местного производства в торговом центре города Банья-Лука и оказаться в результате завербованным какой-нибудь империалистической спецслужбой. Страх потерять доверие товарищей по работе и партийной организации и лишиться даже теоретической возможности хоть когда-нибудь получить заграничный паспорт с двухнедельным сроком пребывания за пределами любимой фермы…
Вывод, к которому я пришла после этих сугубо интимных социально-философских выяснений, был совершенно диким: невзирая на весьма чувствительные удары судьбы, нанесенные мне за последние полгода исключительно моими же соотечественниками, я не просто ЛЮБИЛА свою родину, я рвалась туда с безнадежной отчаянностью домашнего голубя-почтаря, взращенного и прикормленного на самостийно застекленном балконе обычной московской многоэтажки, который, покувыркавшись на воле привычные двадцать минут, не может найти родную голубятню. И я не хотела думать об ущербности своего бытия в этой застекленной, любовно обгаженной голубиным пометом, незаасфальтированной ферме, я не желала выдавливать из себя по капле раба, я вообще была бесконечно далека от проявлений ненатурального, такого книжного фрондерства к чудовищной примитивности и ограниченности своего привычного мира. И вовсе не потому, что не видела его вопиющих минусов, — просто я была лишена способности жить в мире ином, жить по другим законам и принципам, в атмосфере другой морали…
«Господи, мы же все инвалиды! — безучастно думала я, убеждая себя в том, что раскинувшиеся внизу тропические джунгли Бразилии чем-то напоминают восточносибирскую тайгу. — Инвалиды жизни. Такой обычный, такой естественный вывих души. И правильно ОНИ делают, не выпуская нас за пределы этой бескрайней травматологической клиники. Потому что люди с вывихнутой душой должны жить и бороться за светлые идеалы в среде себе подобных. Тогда это не болезнь, за которую сразу после детского сада надо назначать пожизненную пенсию, тогда это уже «принципиально новая общность людей — советский народ…».
— А вас прямо не узнать, Валентина Васильевна! — дребезжащим тенорком на безнадежно чистом русском языке сообщил мужчина в сером костюме, уверенно, по- хозяйски опускаясь на соседнее кресло. — Натурально секс-символ какой-то, а не скромная работница идеологического фронта!..
Странно, но внутри у меня ничего не дрогнуло, даже не шевельнулось. Все шло именно так, как и предсказывала Паулина. С таким даром предвидения моя американская наставница, имей она более чистую автобиографию и не такую компрометирующую запись в трудовой книжке, вполне могла рассчитывать на должность завотделом Госплана СССР.
Полуобернувшись к обладателю тенора, я почти сразу же убедилась, что серый костюм моего очередного попутчика идеально подобран в цвет его личности: невыразительное, без запоминающихся черт, гладковыбритое лицо, стандартные серо-голубые глаза под умеренно развитыми надбровными дугами, средней полноты губы, чуть выдвинутый округлый подбородок, который в одинаковой степени мог бы принадлежать как сластолюбцу, так и аскету. От сорока до сорока пяти, от майора до полковника, от Москвы до Магадана… Господи, из какого же сословия их рекрутируют? И сколько же всего осиных гнезд, из которых вылетает этот человеческий ширпотреб с индивидуальными жалами? Наверное, большие начальники, напутствуя своих питомцев в «большую жизнь», говорят им на прощанье: «Бросаясь на амбразуру врага, постарайтесь не броситься ему в глаза!»
— Осмотр закончен, Валентина Васильевна? — вежливо осведомился серый пиджак, демонстрируя профессиональную наблюдательность.
— Так точно! — рявкнула я и изобразила собачью преданность в глазах. — Разрешите сходить в туалет, гражданин начальник, или прикажете под себя?
— Еще раз повысите голос, уважаемая Валентина Васильевна, и в ту же секунду получите пулю в живот, — мягко улыбнулся серый пиджак и для достоверности показал мне пистолет с глушителем, вложенный в разворот утреннего выпуска «Нью-Йорк Таймс». — Я имею приказ действовать по обстоятельствам. А это значит, что не имеет принципиальной разницы, в каком именно состоянии — твердом, жидком или газообразным — вы долетите до Сан-Пауло.
— Увлекаетесь физикой, гражданин начальник?
— Ага! — добродушно кивнул пиджак. — Физикой тела. В данный конкретный момент — вашего тела, Мальцева. Так что ведите себя благоразумно, Валентина Васильевна, если, конечно, хотите еще немного жить.
— Не могли дать мне спокойно долететь? — Я пожала плечами и повернулась к иллюминатору. Пока все шло по плану провидицы Паулины. И все же я бы предпочла, чтобы разработчица его теоретической части взяла бы на себя и практическую реализацию. Впрочем, кого интересовало, что именно я бы предпочла?
— После того как самолет совершит посадку, — все так же вежливо инструктировал серый пиджак, — вы не отходите от меня ни на шаг. Мы познакомились во время полета и вместе направляемся к выходу. Любая ваша попытка лишить меня вашего общества закончится печально для вас. На всякий случай, меня зовут Франк Хернхорст.
— Франк Митрофанович Хернхорст. Типичный голландец, — пробормотала я в затуманенное стекло иллюминатора.
— Обойдетесь без отчества.
— В общем-то, да, — кивнула я. — Почти тридцать лет обходилась, и ничего.
— Вы все поняли?
— Все, — не отрываясь от иллюминатора, ответила я.
— Вопросы есть?
— Надеюсь, до посадки мне больше не нужно будет с вами разговаривать?
— Можете молчать. А еще лучше, молча думать. Тем более что вам есть о чем…
22. АРХАНГЕЛЬСКОЕ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГРУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
Март 1978 года
Когда Вася Ступников уверенно, даже не поворачивая головы к угрюмому как сыч Цвигуну, резко, не включая поворотников, вильнул с Рублевского шоссе налево, под «кирпич», в проложенный высоченными елями живой коридор, следовавшая за «Волгой» Цвигуна черная машина сопровождения с городскими номерами этот маневр не повторила и, проехав примерно с километр, свернула на обочину и встала. Старший группы, сидевший рядом с водителем, вытащил из внутреннего кармана темного, спортивного кроя плаща портативный передатчик, вытянул антенну и поднес эбонитовый корпус к губам:
— Четвертый, вызывает седьмой!
— Слушаю, седьмой, — прохрипел в мембране недовольный голос Цвигуна. — Что там у тебя?
— Хвоста нет, все чисто. Веду наблюдение за въездом.
— Понял, седьмой. Оставайтесь на месте. Конец связи!..
Не глядя швырнув свой передатчик в специальную выемку в передней панели, Семен Цвигун тяжело вздохнул
и, поежившись от внезапного ощущения холода, поднял воротник пальто. Он не переносил запах работающей автопечки, и потому Вася Ступников никогда ею не пользовался. Московская зима всегда отступала неохотно, словно стремясь подольше оставаться на языках хронически тосковавших по теплу и солнцу горожан. И в эти минуты, когда «Волга» медленно, как бы принюхиваясь, катила сквозь черный лесной массив по неосвещенному аппендиксу шоссе, на прокладку которого, судя по аккуратности и идеальному, без единой выбоинки, асфальтовому покрытию дороги, поработала не одна сотня бравых стройбатовцев, Цвигун вдруг без всякой связи вспомнил, что март уже почти закончился, а холодный, терпкий воздух, врывавшийся в салон «Волги» сквозь щель в неплотно поднятом окне Ступникова, был колючим и по-морозному колким, как в начале января.
…Шестиэтажный панельный дом, к которому, миновав распахнутые настежь и ни кем не охраняемые гигантские чугунные ворота с расположенной сбоку проходной будкой, подъехала цвигунская «Волга», напоминал своей нехитрой архитектурой стандартный санаторный корпус с опоясывающими его по периметру полосами балкончиков и выглядел каким-то брошенным, нежилым. Что в общем-то было понятно, поскольку комплекс находился в стадии капитального ремонта. Цвигун, конечно же, прекрасно знал, что, как и всякий объект Министерства обороны, территориальный комплекс ГРУ надежно охранялся. И потому даже не подумал удивляться тому, что ни один человек не вышел навстречу машине, позволив ей беспрепятственно въехать на отторгнутую от внешнего мира высоченной — под три метра — металлической оградой с заостренными, словно наконечники средневековых копий, прутьями территорию. Все подъезды к закрытому объекту — как ближние, так и дальние — контролировались несколькими десятками замаскированных видеокамер, а центральный пульт, скорее всего, находился в каком-нибудь подвальном блоке помещений, представлявших собой, как правило, десятки складских пакгаузов, в которых хранились оружие, боеприпасы, продовольствие, а также помещения для личного состава, бомбоубежища, тиры и обязательная автономная подстанция, обеспечивавшая энергопитанием весь комплекс.
— Со мной! — коротко бросил водителю Цвигун, открыл дверь, кряхтя вылез наружу и огляделся. Окруженный плотной стеной леса один из нескольких десятков центров подготовки ГРУ был погружен в зловещую, неживую тишину и напоминал киностудийный павильон, в котором собирались снимать ударный эпизод из фильма ужасов.
Огромный бетонный козырек, нависший над входом в здание, освещался одной-единственной сорокасвечовой лампочкой. Уверенно толкнув дверь, Цвигун поморщился от резкого запаха олифы и цемента. То, что в перспективе, после ремонта, должно было превратиться в огромный вестибюль с удобными креслами, старомодным гардеробом и обязательными для всех военных учреждений горшками с фикусами и геранью, в данный момент представляло собой замызганную строительную площадку с выразительными следами прерванной в самом разгаре работы. Пол, частично, в основном по краям вестибюля, уже выложенный добротными мраморными плитами, был завален холмиками просеянного строительного песка и бумажными мешками с цементом, судя по латинским надписям — явно не отечественного производства.
— Здравия желаю, товарищ генерал! — негромко произнес коренастый мужичок в хорошо отглаженном штатском костюме и при галстуке, появившийся в вестибюле настолько неожиданно, что даже непробиваемый Вася Ступников коротко, на долю секунды, дернулся. — Генерал Никифоров ждет вас у себя, на шестом этаже. Вы уж извините, товарищ генерал, лифт не работает, придется пешочком…
И, не говоря больше ни слова, мужичок уверенно двинулся к лестнице.
Одарив штатского ненавистным взглядом в спину, Цвигун нехотя последовал за ним, старательно обходя кучи с песком, чтобы не испачкать до блеска начищенные туфли. Ступников, словно преодолевая минное поле, в точности повторял маневры своего начальника, следуя в его мощном кильватере.
Добравшись до шестого этажа, на котором, судя по всему, ремонт уже явно близился к завершению, сопровождающий выразительно кивнул на новенькую, покрытую бесцветным лаком, двухстворчатую дверь почти в самом конце длинного коридора:
— Здесь, товарищ генерал.
— Где ему подождать? — спросил Цвигун, небрежно кивая на Ступникова.
— Да вы не волнуйтесь… — На какое-то мгновение мужичок в штатском приоткрыл в сдержанной улыбке редкие зубы. — Мы с товарищем вместе обождем. Есть тут одно местечко, неподалеку…
Первое, что ему бросилось в глаза, едва только он вошел в просторную, пахнущую совсем свежим ремонтом, залу, был узорчатый дубовый паркет, натертый с таким немыслимым старанием, что в нем зеркально отражались подошвы туфель и обшлага мешковатых брюк Цвигуна. Центральную часть паркетной залы занимал огромный «генеральский» биллиардный стол на старинных, резных ножках и с плотными, ослепительно белыми сетками луз явно ручной работы. Генерал Никифоров, сидевший за курительным столиком в левом от входа углу залы, оторвал свой широкий зад от глубокого кожаного кресле и радушно улыбнулся:
— Добро пожаловать, Семен Кузьмич!
Обогнув биллиардный стол, Цвигун направился в угол генеральской комнаты. Мужчины обменялись коротким рукопожатием.
— Присаживайтесь, Семен Кузьмич. — Никифоров сделал приглашающий жест. Цвигун молча кивнул и опустился в кресло напротив.
— Хотите чаю?
— Не хочу, — Цвигун натянуто улыбнулся. — Мы одни, Степан Федорович?
— Почему вы об этом спрашиваете? — улыбнулся Никифоров. — Вас что-то беспокоит?
— Да нет…
— Ну, судя по вашему настроению, Семен Кузьмич, в шахматы вы со мной играть не будете, — ухмыльнулся шеф внешней разведки ГРУ и потер подбородок. — Впрочем, я так и думал.
— Я слушаю вас, Степан Федорович.
— Конечно, конечно, — пробормотал Никифоров, вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое листок и протянул его Цвигуну. — Прочтите, Семен Кузьмич, вот это…
Цвигун развернул листок, дважды пробежал глазами текст и вопросительно посмотрел на Никифорова.
— Можете оставить это себе, — качнул головой Никифоров. — Тем более что это копия.
— Благодарю, — пробурчал Цвигун и положил шифровку на курительный столик. Потом заерзал и потянулся к заднему карману брюк.
— Надеюсь, вы не собираетесь сделать какую-нибудь глупость? — Никифоров улыбался, однако его голос выдавал внутреннее напряжение.
— Что вы имеете в виду? — рассеянно спросил Цвигун, вытаскивая носовой платок и резким взмахом отирая бисеринки пота, внезапно выступившие на лбу и шее. Через долю секунды, когда до него дошел подтекст вопроса, Цвигун хмыкнул:
— Вы считаете, все настолько скверно, что мне остаются только глупости?
— Мне бы самому хотелось услышать ответ на этот вопрос.
— Зачем? — быстро спросил Цвигун и чуть подался вперед.
— Вы вообще-то понимаете, ЧТО я сейчас сделал, Семен Кузьмич?
— А, собственно, ЧТО вы сейчас сделали, Степан Федорович?
— Минуту назад я совершил должностное преступление, уважаемый Семен Кузьмич, — сухо, без какой-либо интонационной окраски, сказал Никифоров. — Я передал вам в руки строго секретную шифровку, поступившую от нашего резидента в управление внешней разведки ГРУ. И не поставил об этом в известность свое начальство.
— Но вы же передали ее по адресу, не так ли? — возразил Цвигун. — В конце концов, мы оба являемся руководителями служб безопасности, мы советские генералы и одинаково печемся о безопасности нашей страны. Существуют же такие понятия, как взаимовыручка. Даже в нашем ассенизационном обозе. Так что, Степан Федорович, я как-то плохо улавливаю, в чем, собственно, заключается ваше должностное преступление?
— Семен Кузьмич, — Никифоров также подался вперед. — Вы уж простите за прямоту, но времени на демагогию у меня нет. Дайте мне слово офицера, что вы НИКОМУ не расскажете о нашей встрече, вернее, о ее причине, и разойдемся. Время позднее.
Цвигун с нескрываемым любопытством, ИЗУЧАЮЩЕ уставился на Никифорова. Шеф внешней разведки ГРУ, словно принимая вызов, вперил в Цвигуна ответный взгляд.
— Вы ведь не любите неприятности, верно, Степан Федорович?
— Не люблю, — не отводя взгляда, тихо ответил Никифоров. — Так же как и вы, Семен Кузьмич.
— Тогда зачем вам все это?
— Что «все»?
— Вы думаете, только у вас нет времени на демагогию?
— Хотите мне что-то предложить? — быстро спросил Никифоров.
— А вы этого хотите? — мгновенно парировал Цвигун.
— Прежде всего, я хочу знать, ЧТО стоит за этой шифровкой.
— Допустим, я вам расскажу. Что мне это даст?
— Вас ведь загнали в угол, не так ли, Семен Кузьмич?
— Не впадайте в пафос, генерал, — поморщился первый зампред КГБ СССР. — Мы же не на партсобрании.
— Ну, хорошо, — кивнул Никифоров. — Вас почти загнали в угол. Такая формулировка подойдет?
— Предположим.
— Причем загнали свои же?
— Свой.
— Ну, об этом я уже догадался.
— И что?
— Как вы собираетесь выкручиваться?
— Вы так и не сказали мне, генерал, почему вас вдруг стала волновать моя карьера? Может быть, мы с вами родственники?
— Бог миловал! — без тени юмора пробормотал Никифоров. — Скажем так: у меня есть свои резоны.
— Какие резоны? — продолжал наседать Цвигун. — Что вы хотите получить за свое участие? Кресло начальника ГРУ? Звание генерала армии? Фрак посла? Деньги? Драгоценности? Антиквариат? Что?!
— Не так быстро, Иван Кузьмич! — Никифоров вытянул руку ладонью вперед, словно останавливая напористого собеседника. — Я человек немолодой, не так-то просто мне…
— Да перестаньте вы кокетничать! — поморщился Цвигун. — Мы с вами почти ровесники. Поймите, Степан
Федорович, пока я не буду знать, ЧЕМ именно продиктовано ваше горячее участие в моих личных проблемах, я не могу говорить с вами открыто. А тем более принимать вашу помощь.
— Я вам пока не предлагал помощь, Семен Кузьмич.
— А я вам пока ничего не рассказывал, Степан Федорович.
В комнате воцарилось напряженное молчание. Оба генерала молча анализировали первый этап переговоров, прикидывая дальнейшую тактику.
К этому моменту Цвигун полностью успокоился, поняв, а вернее, ПОЧУВСТВОВАВ, что Никифоров, скорее всего, действует в одиночку. То есть, как это бывает порой с вечно вторыми, пустился в самостоятельное и опасное плавание, чтобы к финишу стать первым. Такая мотивация опытного и еще вполне конкурентоспособного гэрэушника Цвигуна устраивала полностью. Оставалось лишь устранить последние сомнения, кое-что принципиально выяснить, и ситуация, казавшаяся ему еще час назад беспросветно тупиковой, вырисовывалась в куда более благоприятном свете.
— Так чего вы хотите, Степан Федорович?
— А если я скажу, что хочу все, что вы, Семен Кузьмич, перечислили минуту назад? Ну, разве что кроме должности посла, которая, как вы понимаете, мне ни к чему? Вас это не испугает?
— Наоборот! — Цвигун совершенно искренне пожал широкими плечами. — Меня это только успокоит.
— И это РЕАЛЬНО?
— Вы готовы поверить мне на слово?
— Я знаю, с кем разговариваю.
— Да. Это реально! — Цвигун заговорил отрывисто, словно уже зачитывал приказ о назначении. — Я даю вам слово боевого офицера, Степан Федорович: если человек, о котором сообщает ваш лондонский резидент, попадет ко мне и э-э-э… материалы, которыми он располагает, действительно помогут мне решить свои проблемы, вопрос вашего назначения на должность начальника ГРУ перестает быть вопросом принципа и превращается в дело времени.
— Какого времени? — быстро спросил Никифоров.
— Времени, которое требует процедура отставки одного человека и назначения на его место другого.
— Я могу задать вам несколько вопросов?
— ТЕПЕРЬ можете, — кивнул Цвигун.
— Насколько я понял, вы не намерены отправляться на встречу с этим… Мишиным?
— Еще чего! — усмехнулся Цвигун. — Даже если бы я считал такое решением умным, оно все равно было бы невозможным по целому ряду причин.
— Стало быть?
— Стало быть, дорогой Степан Федорович, это сделаете для меня вы.
— Каков уровень профессиональной подготовки этого Мишина?
— Эти вопросы я не курирую. Но, судя по отзывам, — очень высокий, — пробормотал Цвигун. — Впрочем, завтра утром вы получите все необходимые материалы, все, что связано с этой операцией. История темная, в ней масса любопытных деталей и не так-то просто отделить реальность от подтасовки. Короче, есть над чем поломать голову. Да, кстати, в числе документов вам будет передана пленка с записью допроса одного офицера, в недавнем прошлом помощника моего шефа…
— Любопытно! — Глаза Никифорова сверкнули, как у кошки.
— В качестве свидетелей, которые могут подтвердить этот провал, помимо Мишина, называется еще одно имя — некая Мальцева Валентина. Подробности на пленке.
— Она тоже в розыске?
— Да, как и Мишин.
— Понял, учту, — кивнул Никифоров и откинулся в глубоком кресле. — А если этот ваш… Мишин затеял игру? Если это ловушка, хорошо подготовленная дезинформация?
— Мишин действительно приговорен к расстрелу, Степан Федорович. Приказ о его немедленной ликвидации разослан во все зарубежные резидентуры КГБ. Это мне известно лично. Да и потом, в чем, собственно, риск? После того как вы его перехватите, можно будет получить ответы на все вопросы.
— Стало быть, не врет парень? — размышляя о своем, вслух пробормотал Никифоров.
— Вам решать, Степан Федорович.
— Это уж точно.
— И учтите, генерал: игра, в которую вы ввязываетесь, очень опасна. Слишком опасна. Пути-дорожки ваших людей запросто могут пересечься с людьми КГБ, вы это понимаете?
— Не в первый раз, — тихо ответил Никифоров. — Вы даже не представляете себе, дорогой Семен Кузьмич, какой у нас в этом деле солидный опыт.
— Кроме того, я обязан предупредить вас, Степан Федорович: в случае, если информация о нашем сотрудничестве просочится наверх или даже в сторону, я ничего не знаю, ни с кем и ни о чем не договаривался. Считаю своим долгом, Степан Федорович, предупредить об этом заранее.
— Это лишнее, — теперь настала очередь поморщиться Никифорову. — Я не первый день в разведке, правилам обучен.
— Вы уверены, что сможете справиться с этим делом?
— Меня смущает только одна деталь…
— Что? — напрягся Цвигун.
— Мой человек сообщает о неких документах, положенных Мишиным в банк.
— Это может быть блеф, — не очень уверенно предположил Цвигун.
— Будем исходить из того, что это правда. В таком раскладе перехватывать парня опасно.
— Почему? — вскинул брови Цвигун. — Вы берете этого Мишина, прижимаете его как следует, и он говорит все, что знает. Процедура не новая…
— Я не случайно спросил об уровне его подготовки, — мрачно улыбнулся Никифоров. — Если возьмем — скажет все. А если нет? Я имею в виду, если мы не сможем взять его живым? Тогда срабатывает счетчик, и секретная информация становится достоянием гласности. А это крах, Семен Кузьмич. Я люблю работать, сводя вероятность риска до минимума. Особенно в таких щепетильных делах… Ладно. — Никифоров решительно качнул бритой головой. — Будем думать.
— Могу теперь я спросить вас кое о чем?
— Да, конечно.
— Как вы намереваетесь действовать, не ставя в курс свое руководство?
— В моем подчинении находятся ВСЕ зарубежные резидентуры ГРУ, — тихо отчеканил Никифоров. — Кроме того, в силу характера этой работы я в своих действиях практически неподотчетен. Короче, это мои проблемы, Семен Кузьмич.
— И еще, меня поджимает время, генерал. Зверски поджимает!
— Догадываюсь, — кивнул Никифоров.
— Когда вы сможете начать?
— Как только ознакомлюсь с документами.
— Вы будете держать меня в курсе дела?
— А вы бы этого хотели, Семен Кузьмич?
— Н-нет, не думаю.
— Значит, мы с вами обменялись словами?
— Да, именно так, Степан Федорович. И тот, кто знает генерала Цвигуна, может подтвердить вам: свое слово он держит всегда. Вы удовлетворены моим ответом, Степан Федорович?
— Вполне.
— Тогда по рукам? — улыбнулся Цвигун и, встав, протянул Никифорову через стол влажную ладонь.
— По рукам…
* * *
Ровно через сутки из шифровального центра ГРУ во все резидентуры советской военной разведки, базировавшиеся в Северной и Южной Америке, а также Западной и Центральной Европе, были разосланы шифрограммы одинакового содержания, в которых резидентам предписывалось предпринять активные меры к обнаружению и задержанию граждан СССР Виктора Мишина и Валентины Мальцевой. К шифрограммам прилагались фотографии объектов розыска, описание личности, места их недавнего пребывания и ряд других оперативных данных, способных максимально ускорить розыск.
После разговора с Цвигуном Никифоров еще раз тщательно продумал все перспективы и вероятные осложнения опасного сотрудничества с первым заместителем председателя КГБ СССР, после чего пошел на весьма рискованный, но очень дальновидный шаг — положил на стол начальника ГРУ текст шифрограммы, приготовленный для отправки резидентам, и попросил его завизировать. Это не было чем-то принципиально новым в практике управления внешней разведки. В течение своей почти двадцатилетней карьеры Никифоров, когда масштабы намечаемых его управлением оперативных мероприятий становились в силу объективных причин чрезмерно громоздкими, несколько раз прибегал к подобного рода личной подстраховке.
Начальник ГРУ придирчиво вчитался в текст шифрограммы и вопросительно поднял седую, гордо посаженную голову:
— Кто такие?
— Любопытная парочка, товарищ генерал армии, — сдержанно ответил Никифоров. — Мишин — подполковник КГБ, больше двух месяцев находится в бегах…
Никифоров специально сделал паузу, чтобы дать своему шефу возможность задать напрашивающийся вопрос.
— А мы-то здесь при чем? — пожал плечами начальник ГРУ. — Пусть Лубянка его и ищет. Их дерьмо.
— Все так, товарищ генерал армии. Только и нам с этим Мишиным поговорить не мешало бы. Желательно, до того, как его свои начнут потрошить.
— О чем, Степан Федорович?
— Офицерика этого беглого три недели назад в Израиле засекли. Причем не где-нибудь, а в районе ядерного центра, в Димоне.
— Так-так! — Шеф ГРУ уже с интересом взглянул на Никифорова. — И чего он там делал?
— Чего он там делал, я не знаю, товарищ генерал армии! — совершенно искренне ответил Никифоров. Естественно, Димона была плодом его импровизации, однако уличить шефа внешней разведки в преднамеренной лжи не взялся бы никто. Поскольку после сличения документов, полученных от Цвигуна, с оперативными данными советской военной разведки факт пребывания Мишина в Израиле подтверждало два не связанных между собой источника. — Но поспрашивать его кое о чем мне бы очень хотелось…
— А что дамочка? Кто такая?
— По всему выходит, она с Мишиным работала на пару, товарищ генерал армии, — пояснил Никифоров. — Потом они разбежались в стороны. Но кое-что она наверняка знает. Хотелось бы выяснить, что именно.
— Ее тоже засекли в Израиле?
— Нет. Но отмечены контакты Мальцевой с двумя агентами Моссада полтора месяца назад.
— Где?
— В Польше, товарищ генерал армии.
— И она тоже в розыске КГБ?
— Насколько мне известно, да, товарищ генерал армии.
— Ну-ну! — задумчиво пробормотал начальник ГРУ и размашисто подмахнул текст шифрограммы…
Выходя из кабинета, Степан Федорович Никифоров не мог сдержать довольной улыбки: он практически обезопасил себя на будущее и, как говорили в разведке, подстелился на случай непредвиденного падения.
А еще через сутки, поздней ночью, с бетонной полосы международного аэропорта Шереметьево тяжело поднялся «Боинг-707» авиакомпании KLM. Набрав высоту, самолет взял курс на Копенгаген, куда и прибыл через 4 часа 50 минут. Четыре стюардессы, буквально сбившиеся с ног, обслуживая 157 пассажиров рейса, не обратили никакого внимания на невзрачного мужчину средних лет в блеклом сером костюме, темно-синей рубашке и черном галстуке, просидевшего, не вставая, весь полет от Москвы до Копенгагена у окошка иллюминатора в салоне для курящих. Впрочем, внешняя непримечательность, умение сливаться с людьми в толпе, магазинах, в транспорте, других общественных местах являлись отличительной чертой, своего рода фирменным знаком всех агентов советской военной разведки. А Вадим Колесников, тридцатилетний капитан Управления внешней разведки ГРУ, который вот уже шестой год мотался по всему свету, выполняя личные и особо щепетильные поручения генерала Никифорова, был своеобразным гением безликости. Его можно было одновременно принять за финна, немца и даже грека, за молодого преподавателя вуза, за студента, подрабатывающего на обучение официантом в ресторане, или за рабочего судоверфи, попавшего под сокращение штатов. Но только в том случае, если у постороннего человека действительно возникало ЖЕЛАНИЕ остановить свой взгляд на этом невыразительном, безусом лице без малейших признаков индивидуальности и задаться вопросом, что же представляет собой его хозяин. Истинная же ценность Колесникова для военной разведки заключалась в том, что подобное желание не возникало практически ни у кого.
По иронии судьбы за пятнадцать минут до приземления в Копенгагене московского рейса на одну из восьми посадочных полос аэропорта Каструп приземлился рейсовый DC-8 авиакомпании «Бритиш Эйруэйз» из Лондона, на котором в датскую столицу вернулся Виктор Мишин. С Колесниковым, который через тридцать минут должен был пересесть на лондонский рейс, они разминулись чудом: когда посланник генерала Никифорова прошел таможенный контроль, предъявив датчанам в мундирах безупречный паспорт гражданина Австрии, выданный на имя Рудольфа Нетцера, Мишин, в надвинутой на глаза широкополой черной шляпе, уже преодолел половину расстояния, отделявшего его от вереницы стеклянных, похожих на пустые аквариумы, таксофонов. Вадим Колесников даже видел его со спины, но, конечно же, и предположить не мог, что объект его очередного заграничного вояжа мог вот так запросто повстречаться в промежуточном аэропорту, на полпути до конечной цели.
Оглядевшись по сторонам, Колесников направился в кафетерий, сел у стойки, заказал себе большую чашку кофе с молоком, загнутую бараньим рогом слоеную булочку с маком и плитку швейцарского шоколада. Подкрепившись, курьер ГРУ еще раз, по привычке, окинул просторный, перекрытый выкрашенными в разные цвета модернистскими балками зал и направился к стойке номер
17, где производилась посадка на самолет в Лондон…
В Хитроу Колесников повторил процедуру с предъявлением паспорта, не останавливаясь вышел на улицу, взял такси и велел водителю отвезти его в район Пэлл-Мэлл. Протянув в отделяющее пассажирский салон от кресла водителя оконце банкноту в десять фунтов стерлингов, Вадим Колесников, не выходя наружу, аккуратно пересчитал сдачу, убедился, что водитель был точен, протянул ему через оконце два шиллинга на чай, после чего вышел на освещенную желтыми неоновыми лампами Пэлл-Мэлл и минут двадцать неторопливо вышагивал, глазея на витрины магазинов и одновременно проверяясь на предмет возможной слежки. Тридцатилетний капитан ГРУ прекрасно знал, что на него никто не обращает внимания, и тем не менее никогда не позволял себе расслабляться. В этом заключалась еще одна ценная оперативная черта Вадима Колесникова.
В довольно невзрачном трехэтажном отеле «Риджент» в нескольких минутах ходьбы от памятника Вильгельму Оранскому он снял на трое суток скромный однокомнатный номер на втором этаже, сразу же оплатил наличными всю сумму проживания — 180 фунтов, поднялся в номер, быстро разделся, нырнул в крохотную душевую кабинку и пустил на полную мощность ледяную воду. Встав под душ, он даже не поморщился. Просто закрыл глаза и с наслаждением прислушивался к низвергавшемуся на его голову водопаду жидкого льда. Выключив через десять минут душ, Колесников насухо растерся банным полотенцем с вышитой буквой «R» в углу, голым вернулся в номер, достал из дорожной сумки чистое белье и свежую рубашку, но надевать их не стал, а аккуратно сложил одежду на полке для чемоданов. Затем сел перед зеркалом и аккуратно расчесал на косой пробор редковатые волосы цвета придорожной пыли.
Взглянув на часы, Колесников погасил свет и юркнул под тоненькое одеяло. Через несколько минут он уже спал. Не храпя, не издавая ни единого звука, с закрытым ртом и сложенными на груди руками. Проснувшись ровно через час, он встал, включил свет, оделся, установил перед входной дверью, у ящика письменного стола и в двух точках разъема своей сумки специальные метки, по которым он мог определить присутствие постороннего лица в свое отсутствие, влез в утепленный плащ и вышел на улицу.
Одиннадцать ударов Большого Бена, донесшиеся вполне отчетливо до кафе «Лилия», в углу которого за чашкой черного кофе притулился Вадим Колесников, Станислав Волков услышал, уже войдя в уютное, не больше чем на двенадцать столиков, кафе — полупустое в поздний час. Не обращая внимания на своего коллегу в углу, Стас направился к подсвеченному голубым неоном бару, поудобнее устроился на табурете и заказал бармену бурбон и пачку сигарет «Голд флейк». Повозившись с своим питьем минут пятнадцать и выкурив с наслаждением две сигареты, Волков спросил у пожилого бармена в расшитом золотыми нитями жилете, нет ли у него вечернего выпуска «Санди тайме». Бармен молча кивнул, наклонился и извлек из-под стойки газету. Волков попытался было приладить газету на узкой стойке, но, убедившись, что это не совсем удобно, полуобернулся к залу, как бы отыскивая уютное место, где бы он мог спокойно пробежать глазами самое скандальное лондонское издание. Потом заказал бармену еще один бурбон, прихватил со стойки толстый стакан и направился к столику Колесникова.
— Вы позволите? — негромко спросил Стас.
— Пожалуйста…
Развернув газету на разделе спорта, Стас закурил сигарету и, внимательно проглядывая набранные мелким шрифтом столбцы текста, вполголоса бросил:
— Как долетел?
— Нормально, — отпивая из чашки, негромко ответил Колесников.
— Привез?
— Привез. Лежит за салфетками.
— Связь завтра. По расписанию.
— Понял.
— Господи, этот «Тоттенхэм» меня просто убивает! — чуть громче произнес Волков, складывая газету и небрежно бросая ее на скромную по размерам поверхность стола из недорогого вишневого пластика. — Боюсь, они так и не научатся играть!..
Колесников понимающе улыбнулся. Так люди, не имеющие никакого отношения к спорту, реагируют на завзятых болельщиков.
Волков залпом допил виски, взял со стола газету, в развороте которой уже находился плотный пакет, перевязанный обычной почтовой бечевкой, сунул «Санди тайме» под мышку и, кивнув на прощание Колесникову, вышел из кафе.
Операция «Бомж» началась…
23. КОПЕНГАГЕН. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КАСТРУП
Апрель 1978 года
…Подойдя к таксофону, Мишин опустил в блестящую прорезь крону и набрал на цифровом табло девятизначный номер. На третьем гудке в трубке мелодично откликнулся женский голос: «Цюрихский Народный банк к вашим услугам!»
— Доброе утро, фройляйн! — Мишин говорил на немецком. — Я попросил бы вас соединить меня с отделом валютных операций.
— Секунду! — Приятная музыка в паузе действительно длилась несколько секунд, после чего ее грубо прервал раскатистый баритон с ощутимым баварским выговором: — Отдел валютных операций, слушаю вас.
— Моя фамилия Либерман. Макс Либерман, — вкрадчиво представился Мишин. — На мой счет в вашем банке должна была поступить некая сумма…
— О какой сумме идет речь, майн герр? — баритон по-прежнему рокотал, но уже с большим обаянием. У любого работника банка с годами вырабатывается чутье пограничника на клиентов с приличными деньгами.
— Порядка двухсот пятидесяти тысяч долларов. Возможно, чуть меньше.
— Секунду… — Баритон растворился в легких потрескиваниях на линии, но почти сразу же ожил. — Да, герр Либерман, вчера на ваш счет поступило ровно двести пятьдесят тысяч долларов. Отправитель — кредитный банк «Чиесна де Спада», Милан.
— Отлично! — Мишин сделал короткую паузу, чтобы баритон как следует осмыслил масштаб суммы и проникся должным уважением к их владельцу. — Я попросил бы вас перевести сто тысяч на мой счет в коммерческий банк «Кнудт Кристианссен и сыновья» в Копенгагене. Номер счета 717236.
— Будьте любезны, ваш секретный код, герр Либерман?
— 22-416 «сигма» GSP.
— Будет исполнено, герр Либерман.
— Когда именно будут переведены деньги?
— Буквально через несколько минут.
— Благодарю вас.
— Еще какие-нибудь распоряжения будут?
— Пока все. До свидания!
— Всего доброго, герр Либерман!..
Повесив трубку, Мишин вытряхнул из пачки «Житан» сигарету без фильтра, закурил и незаметно огляделся. Со стороны это напоминало естественный жест обычного пассажира, у которого после продолжительного полета затекла шея. Ничего вокруг не вызывало подозрений. Впрочем, Мишин слишком хорошо владел своим ремеслом, чтобы не обольщаться на сей счет: в конце концов, все зависит от цели и масштабов наблюдения за конкретным объектом. «Обнаружить профессиональную слежку, как правило, невозможно, — вспомнил Витяня одну из незабываемых лекций в «вышке», — Ее можно только ПОЧУВСТВОВАТЬ». Тот факт, что проповедник данной премудрости сумел после длительного пребывания за «бугром» сохранить все конечности и довольно неглупую голову, очевиднее любых наглядных пособий демонстрировал его глубокую компетентность в данном вопросе. И тем не менее тогда, десять лет назад, эти наставления казались Витяне сущей дребеденью, метафизикой. Только потом, когда Мишин окончательно сросся со своим вторым планом, он оценил ПРАКТИЧЕСКУЮ сторону этой рекомендации. Вот почему, небрежно оглядывая спешащих, удобно расположившихся за столиками кафе, небрежно расплачивающихся у билетных стоек пассажиров, он не искал подозрительных типов с надвинутыми на глаза кепками и шляпами и красящих губы девиц, бросающих редкие проницательные взгляды исподлобья на одинокого элегантного мужчину у телефонного автомата. Мишин ПРИНЮХИВАЛСЯ, он словно пытался учуять опасность, ноздрями вобрать в себя особый, специфический запах преследования. Однако в то раннее первоапрельское утро все вокруг излучало спокойствие, стабильность и сытую будничность. В этом ароматизированном, ЧУЖОМ воздухе свободы Мишин вдруг особенно остро, до нытья в скулах, ощутил, как не хватает ему «дыма Отечества», родной атмосферы, где любой человек, кто бы он ни был, легко ПРОСЧИТЫВАЛСЯ, где он был у себя. Впрочем, это состояние куда точнее выразил один из его коллег, грузин по национальности, с которым Мишин по причудливому стечению обстоятельств столкнулся на другом конце света. «Понимаешь, — сказал тогда опытный «крот», давно уже забывший, когда в последний раз видел свой родной Зугдиди. — Все здесь хорошо, но пресно, не остро, Витя. Короче, без шашлыка!»
Несколько минут Мишин молча курил, не отходя от таксофона и небрежно стряхивая пепел на пол. Затем опустил в прорезь очередную крону и набрал следующий номер, уже шестизначный.
— «Банк Кнудт Кристианссен и сыновья», слушаю!..
Еще один голос в его слуховой коллекции. Пустой
звук в пустом, бестолковом мире.
— Фройляйн, говорит Макс Либерман.
— Доброе утро, господин Либерман! — По форме голос был предельно вежливым, по содержанию — пустым, как граненый стакан в столе запойного. Обладательнице нежного сопрано по ту сторону телефонного кабеля было совершенно безразлично, что в природе, оказывается, существует некий Макс Либерман.
— На мой счет из цюрихского Народного банка должны были только что перевести некоторую сумму денег. Вы бы не могли проверить, поступление уже было?
— Минутку, господин Либерман, не кладите трубку!..
«Все-таки канцелярская работа превращает со временем людей в форменных идиотов, — как-то вяло подумал Витяня, закуривая вторую подряд сигарету. — Почему я, собственно, должен класть трубку, не получив ответ?..»
— Господин Либерман? — несколько обеспокоенно зажурчало сопрано.
— Да, да, я слушаю вас, фройляйн!
— На ваш счет переведено сто тысяч долларов США.
— Я бы мог получить у вас кредитную карточку?
— Конечно!
— Когда?
— Думаю, не раньше чем через час.
— Отлично. Пришлите ее, пожалуйста, в отель «Савой» на мое имя…
Ровно через час Мишин входил в роскошный, меблированный в стиле барокко вестибюль отеля «Савой», расположенный в самом центре Копенгагена. Подойдя к темно-вишневой, мореного дуба, стойке портье, до благородного блеска отполированной не одной тысячей прикосновений холеных рук и локтей, прикрытых тончайшей английской шерстью, Мишин поинтересовался, может ли он заказать комнату.
— Ваша фамилия, сударь? — на прекрасном французском с достоинством поинтересовался пожилой мужчина в черном фраке, ослепительно белой манишке и вишневой — под цвет стойки — «бабочке».
— Макс Либерман.
— Добро пожаловать в «Савой», месье Либерман! Кстати, несколько минут назад для вас прибыл пакет. Судя по фирменному знаку на конверте — из банка «Кнудт Кристианссен и сыновья», — портье протянул Мишину продолговатый конверт.
— Благодарю вас, — кивнул Витяня, небрежно засовывая конверт во внутренний карман плаща.
— Какой номер желаете, мсье?
— Если я вызываю в вас хоть немного симпатии, то счастливый, пожалуйста.
— Я понял вас, месье! — мужчина во фраке сдержанно улыбнулся, выдвинул разбитый на ячейки ящик, извлек оттуда деревянную грушу с прикрепленным на тонкой цепочке плоским английским ключом и очень осторожно, словно в руках у него была ручная граната с только что вырванной чекой, протянул ключ Мишину, как бы слагая с себя всю ответственность за возможные последствия. Приняв грушу, Мишин увидел выбитую в торце цифру «1313».
— Вам не откажешь в чувстве юмора, — пробормотал Витяня.
— Вам также, месье, — вежливо кивнул портье. — Впрочем, лично мне эта цифра всегда приносила удачу. А вам?
— Я не суеверен.
— Стало быть, вы счастливый человек, месье.
— Не то слово, — хмыкнул Витяня.
— Вы позволите ваши документы, месье?
— Да, конечно, — кивнул Мишин и протянул портье темно-синий паспорт с золотым орлом.
— Так вы немец?! — воскликнул словоохотливый портье. — А я решил, что вы из Франции…
— Я гражданин ФРГ, — сдержанно улыбнулся Мишин. — Что, кстати, вовсе не исключает право быть французом по национальности…
Лифт был под стать отелю. То есть старый и роскошный. Поднявшись на тринадцатый этаж, Мишин определил по стрелке, что его номер находится в левом крыле широкого, увешанного картинами в тяжелых бронзовых рамах и освещенного добротными хрустальными люстрами коридора. Подойдя к нежно-розовой с голубоватыми завитушками по бокам двери с цифрой «1313» на начищенном бронзовом ромбике, Витяня вытащил из кармана ключ и уже собирался вставить его в замочную скважину, но неожиданно замер. Он всегда прислушивался к неприятным, вызывающим едва ощутимое покалывание в кончиках пальцев, токам опасности. Его реакция на эти токи была мгновенной, они сразу же всасывались в кровь и с бешеной скоростью разносились по организму, мобилизуя каждую клеточку.
Мишин мгновенно прижался спиной к шероховатой кремовой стене и окинул коротким взглядом коридор. Вокруг было пусто. Выждав несколько минут, он склонился вправо, указательным пальцем вдавил выступ на каблуке кожаного ботинка и извлек оттуда коротенькую металлическую спицу. Затем быстро снял туфли, выдвинул в спице крохотный выступ, наклонившись, поднес отмычку к круглому замку двери и неожиданно почувствовал легкое дуновение ветра. Словно кто-то резко провел рукой перед его лицом. Мишин выпрямился. Использовать отмычку не было никакой необходимости — дверь была не заперта.
Прихватив с покрытого толстым ковром пола туфли, Витяня неслышно толкнул дверь и увидел Дова. Израильтянин, по всей видимости, специально поставил кресло так, чтобы его можно было увидеть сразу же. Дов сидел, закинув ногу на ногу, и ритмично жевал резинку. Выражение его лица было самым что ни на есть благостным, словно ему только что сделали массаж.
— Молодец, приятель. — Витяня сверкнул глазами и швырнул ботинки в угол. — Голова у тебя варит.
— Ты имеешь в виду позицию, в которой я тебя поджидаю? — не меняя позы, спросил Дов. — Просто не хотелось тебя пугать.
— По-прежнему заботишься о моем здоровье? — Мишин снял плащ и швырнул его в другой угол небольшого номера, обставленного в том же стиле, что и лифт. — Или немного о своем тоже? А, приятель?
— Как дела, Виктор? — Израильтянин вытащил изо рта белый комок жевательной резинки и аккуратно приклеил его к донышку пепельницы с эмблемой отеля «Савой».
— А то ты не знаешь, как мои дела! — огрызнулся Мишин и рухнул на широкую кровать с высокой спинкой.
— Кое-что знаю, а кое-что — нет.
— Пасете своего же агента, — пробурчал Мишин, закидывая руки за голову и с наслаждением вытягиваясь. — Нехорошо это, дяденька.
— Почему пасем? — Дов пожал плечами. — Страхуем. Прикрываем. Короче, работаем.
— И много вас, под страховщиков?
— Если ты раздражен моим появлением, то скажи.
— Я раздражен твоим появлением. Сказал.
— Думаешь, мы суем нос в твои дела?
— Ага! — Витяня закрыл глаза. — Именно так я и думаю.
— Значит, так, дружище… — Дов медленно поднялся к креслу, подошел к зашторенному окну, слегка сдвинув плотную ткань, взглянул на улицу и повернулся к Мишину. — Пока на тебя не нашел приступ откровенности, я хочу тебе кое-что рассказать. В общих чертах уже понятно, на что тебя нацеливают наши союзники. Я говорю не о характере твоего задания — о нем, надеюсь, расскажешь мне ты, — а только о СХЕМЕ. Кстати, схему эту, чтобы ты знал, американцы еще лет двадцать назад свистнули у нас. Это мы впервые начали использовать своих соотечественников за границей, не светясь при этом. Конкретные граждане конкретной страны выполняли для нас какие-то задания, что-то доставали, передавали, выспрашивали, однако в случае их провала Моссад был ни при чем. Они просто не знали о его существовании. В крайнем случае могли только догадываться. Удобно, практично и, главное, абсолютно безопасно…
— Ты уверен, что описываешь именно мой случай? — спросил Витяня, не меняя позу.
— В целом да! — кивнул израильтянин. — Если, конечно, отбросить тот факт, что они были евреями, а ты русский, а также, что эти люди работали, как говорится, за идею, а ты — за очень неплохие деньги. 500 тысяч долларов, доложу тебе — это что-то!..
— Они что, все уже вам сообщили? — На лице Мишина мелькнуло искреннее удивление.
— Будь так — меня бы здесь не было.
— Тогда откуда информация?
— Ты, видимо, устал от перелетов.
— Извини, — пробормотал Витяня, рывком поднял свое сухощавое, тренированное тело, сел на кровати и закурил. — Передай мне пепельницу, пожалуйста.
— Так вот, Виктор, — продолжал моссадовец, протягивая Мишину пепельницу и возвращаясь к окну. — У нас есть пара ребяток, они, видишь ли, специализируются исключительно на размышлениях. Хорошая работа, не правда ли? Так вот, эти ребятки, на основании оперативных данных, пришли к выводу: как и прежде, ты действуешь в одиночку. Очевидно, таковы условия. Повторяю: нам пока неизвестен характер твоего задания. С другой стороны, я уже сейчас, ничего толком не зная, могу со стопроцентной гарантией утверждать, что ты, дружище, несколько переоцениваешь свои возможности.
— Любопытно, — хмыкнул Мишин и глубоко затянулся.
— И если тебе это хоть как-то простительно, то твоим заказчикам подобные заблуждения и вовсе не к лицу. Уж больно фирма серьезная. Некорректность в оценках — не в их духе. И нас это беспокоит…
— О чем ты говоришь, Дов? — Витяня пожал плечами и резким тычком вдавил окурок в пепельницу.
— Ты знаешь, сколько заплатили человеку, который взялся убить де Голля? — Тон израильтянина был подчеркнуто равнодушный. Словно он спрашивал, сколько в Дании стоит килограмм кофе в зернах.
— Не знаю.
— Триста пятьдесят тысяч долларов. И даже несмотря на такой солидный куш, он со своей задачей не справился. Да и не мог справиться, Виктор. Одиночка, что бы там ни говорили, — это всегда одиночка. И что бы тебе ни надо было сделать за эти полмиллиона, ты должен знать: тебя отправляют в автономный полет без парашюта и на самолете, у которого уже в воздухе отвалится шасси. Выполнишь ты свое задание или не выполнишь, однозначно ты обречен, приятель.
— А может быть, ты просто преувеличиваешь сложность моего задания? Исходишь ведь ты только из одного посыла — из суммы вознаграждения, верно? А они их мне просто пообещали, ничем, собственно, не рискуя. В надежде, что я раньше загнусь, чем смогу воспользоваться этой прорвой денег. Что скажешь на это?
— Они тебе УЖЕ заплатили, — улыбнулся израильтянин. — Правда, только половину. Но и это немало. Тебе назвать номер твоего счета?
— Достаточно будет, если ты ограничишься городами.
— Лондон и Цюрих. Проверка возможностей Моссада закончена или будут еще какие-нибудь вопросы? — полные губы израильтянина расплылись в иронической улыбке.
— Одно слово, жидяры носатые, — пробормотал Мишин.
— А теперь рассказывай, дружище. В Израиле сейчас половина двенадцатого ночи, и Гордон, пока не получит разъяснений, все равно не заснет. Побереги старика. Он еще нужен одной скромной конторе…
Отчет Мишина занял меньше десяти минут. Впрочем, он мог быть еще короче, если бы Виктор знал, что именно известно Моссаду. Израильтянин ничего не записывал. Очевидно, просто включил в кармане высокочувствительный диктофон.
— Ну, хорошо! — Дов, не скрывая удовлетворения, хрустнул пальцами и потянулся. — Теперь все стало на свои места. Отдыхай, Виктор.
— Ты уходишь?
— Ты что, боишься остаться один?
— Знаешь, отец мой очень любил один анекдот. Правда, рассказывал он его уже после смерти генералиссимуса. Сталин, как тебе, наверное, известно, предпочитал работать по ночам. Так вот, звонит он где-то в четвертом часу утра Молотову и говорит: «А правда, товарищ Молотов, что вы вчера пили водку и о чем-то секретничали с послом США в его резиденции?» Ну, Молотов, естественно, оправдывается, говорит, что все это чушь, наговоры, и с дрожью в голосе спрашивает: «А почему вы заговорили об этом, Иосиф Виссарионович? Случилось что-нибудь? Сказал кто-то?..» «Да вы не беспокойтесь, товарищ Молотов, я просто поинтересовался, и все тут. Мысли кое-какие, ничего серьезного…» После этого Сталин положил трубку и сказал: «Ну вот, товарища успокоил, теперь и сам могу пойти спать!»
Израильтянин негромко рассмеялся, потом сел в кресло и, как-то сразу посерьезнев, сказал:
— Сегодня утром в Каструпе прошел регистрацию один любопытный пассажир. Вылетел он из Москвы, конечная цель — Лондон. В Копенгагене пробыл как транзитник, находился в аэропорту не более сорока минут. Судя по паспорту, он гражданин Австрийской республики по имени Рудольф Нетцер. По нашим же данным, это Вадим Колесников, капитан Главного управления внешней разведки ГРУ. Тебе что-нибудь говорит эта фамилия, Виктор?
— Нет. — Витяня покачал головой.
— Возможно, знаешь его в лицо? — Дов вытащил из внутреннего кармана пиджака плотный конверт и показал Мишину фотографию.
— Нет, это лицо я никогда не видел. — Витяня закурил очередной «Житан». — А какая связь со мной?
— В принципе — никакой. Дело в том, что ничего конкретного за этим парнем нет. Он довольно часто выезжает за границу, по всей видимости, с курьерскими функциями. Возможно, также консультирует. Очень осторожен, хитер, прекрасно уходит от слежки, преследование чувствует спиной. Как следует мы за него пока не брались, ждем, пока он проявится более отчетливо. Кроме того, НАШУ дорогу этот самый Нетцер-Колесников пока не пересекал.
— Его вели в Лондоне? — быстро спросил Мишин.
— Да нет вроде. — Дов поскреб затылок. — Понимаешь, дружище, если мы будем контролировать перемещения по свету курьеров КГБ и ГРУ, а также их коллег из спецслужб социалистического блока, нам не хватит всего бюджета Израиля вместе с американской экономической помощью. Мы работаем по совсем иному принципу… В отличие от вас.
— Ну вот, начинается плач Ярославны, — пробурчал Мишин, выпуская к потолку гигантский клуб сигаретного дыма. — Дов, это не ко мне, я не финансовая комиссия американского Конгресса!
— Если бы у нас была своя Сибирь и мы могли каждый день извлекать золотые самородки килограммами, мы бы тоже были такими же добрыми и широкими, как русские. Когда сидишь на уране, алмазах и нефти, можно позволять себе любые глупости, вплоть до слежки за всеми иностранными туристами в России и советскими — за рубежом. Когда же вокруг песок, камни и арабы, то поневоле начинаешь считать каждую лиру. Это не скаредность, Виктор, это образ жизни.
— Ты считаешь, что этот самый… Колесников летел в Лондон по… нашим делам?
— Может быть, — кивнул израильтянин. — А возможно, с какой-то иной целью. Впрочем, все это проверяется. Если он от тех, кого ты ждешь, то выйдет на Волкова. А уж с этого господина мы теперь не слезем, можешь не сомневаться.
— Поосторожней, Дов! — хмуро предупредил Мишин. — Волков уже почти год под колпаком у ЦРУ. Они его пасут как единственного мериноса в стаде беспородных баранов. Судя по всему, пасут грамотно. Но и Стаса я хорошо знаю. Мужик он неглупый, тертый. Я, кстати, совсем не уверен, что он до конца купился на мою клюкву. Короче, что бы сейчас ни предприняли в ГРУ, Волков будет начеку. С инстинктом самосохранения у него проблем нет.
— Учту, — коротко кивнул израильтянин и встал.
— В следующий раз, перед тем, как решишь встретить меня в моем же номере, напиши записку, — сдержано порекомендовал Мишин и тоже встал. — Или позвони. А то не ровен час…
— И это учту, — улыбнулся Дов. — Я, кстати, так бы и сделал, если бы точно не знал, что ты без оружия.
— Завтра этот пробел в моей экипировке будет заполнен.
— Значит, с завтрашнего дня я и начну новую жизнь. Думаю, что твои каникулы в Копенгагене продлятся недолго. По срокам командировка Колесникова в Лондон вписывается в общий план операции. А раз так, значит, в Москве клюнули на твою приманку и завтра, максимум послезавтра в твое окно обязательно стукнут. Я постараюсь появляться как можно реже, Виктор. Задача у нас тоже нелегкая: с одной стороны, тебя необходимо подстраховывать, с другой — постараться вообще не высовывать уши, чтобы не испортить игру. И заодно не давать повод нашему старшему братишке говорить о черной еврейской неблагодарности. Короче, Виктор, действуй спокойно, ты не один. И не будешь один до тех пор, пока не получишь оставшиеся 250 тысяч долларов и не сможешь их потратить по собственному усмотрению.
— Может быть, у тебя проблемы с деньгами? — Мишин улыбнулся. — Могу помочь материально. Так сказать, в порядке профессиональной взаимопомощи. Я же теперь человек богатый…
Израильтянин молча, не улыбаясь, смотрел Мишину в глаза.
— Что ты набычился, Дов? Я же предлагаю по-дружески, без задней мысли. Ладно, не хочешь брать сам, тогда давай я куплю какую-нибудь сверхсекретную автоматическую пушку для укрепления обороноспособности Израиля? Заодно расквитаюсь с евреями за квалифицированное медицинское обслуживание.
— Ты никому ничего не должен, Виктор, — не принимая шутку, тихо сказал Дов. — Тебя вытаскивали из Праги, как вытаскивают с поля боя раненого друга…
— Ты думаешь, мне следовало бы сказать тебе спасибо? — Мишин запустил обе пятерни в соломенную шевелюру и резко откинул волосы назад.
— За что?
— Ну, за все. И за Прагу в частности…
— Я думаю, тебе следовало бы быть максимально осторожным. — Серые глаза Дова смотрели пристально и серьезно. — Не хочу тебя пугать, Виктор, однако у меня есть все основания думать, что стиль и методы работы ГРУ известны нам лучше, чем тебе.
— Кое-что я знаю, — пробормотал Витяня. — Свое говно…
— А я кое-что испытал на себе лично. Разница между твоей конторой и этой — принципиальная. Какими методами вы бы ни пользовались, Виктор, КГБ — разведка ПОЛИТИЧЕСКАЯ, а уже потом — военно-оперативная. А в ГРУ все как раз наоборот. И это делает ее во много крат опаснее и непредсказуемее. Не забывай, что и у нас есть военная разведка. Так вот, я бы лично поостерегся играть с ними в мячик.
— Спасибо, что предупредил, — улыбнулся Витяня, протягивая моссадовцу руку.
— Спасибо, что принял мое предупреждение всерьез, — ответил Дов, крепко пожимая руку.
Проводив Дова до двери, Мишин повернул ключ на два оборота, подошел к окну, выходившему на фасад отеля «Савой», и, чуть отодвинув портьеру, стал наблюдать за улицей. Он простоял так минут десять, пока не понял, что Дов покинул отель совсем не так, как это делают обычные постояльцы. Впрочем, выполняй Мишин сам подобную миссию, он поступил бы так же…
Опустив портьеру, Витяня пошел в ванную, включил свет, пустил в ванну воду, затем разделся и стал придирчиво разглядывать себя в зеркале. После ранения и трехнедельной госпитализации на родине Дова он немного располнел, но по-прежнему оставался в хорошей форме. Мощный торс, широкие, покрытые обильными веснушками плечи, плоский, с рельефно выступающими мышцами, живот, исчерканный тремя свежими послеоперационными рубцами, выпуклая безволосая грудь…
«Когда-то, миллион лет назад, этот пакет мышц вызывал во мне гордость и даже какую-то мальчишескую чванливость, — подумал Витяня, проводя ладонью по однодневной рыжеватой щетине. — А сегодня я смотрю на него, как на манекен. Мало того, мне, кажется, уже совсем безразлично, что на него наденут — смокинг светского льва или пиджачную пару покойника…»
Совершенно неожиданно, без очевидной связи, в памяти всплыло точеное лицо Ингрид, ее высокомерно-беззащитная улыбка. «Ты просто хочешь женщину, Витяня, — произнес он вслух и подмигнул своему отражению. — А возможно, просто влюбился…»
Вот так — или — или! Без полутонов. Без промежуточных инстанций. Без плавного перехода от увиденного к осознанному. Все по правилам, по науке, все как тебя учили. Чувствуешь опасность — уходи. Увидишь занесенную руку — бей первым. Кажется что-то подозрительным — стреляй. Подумаешь о женщине — бери ее. Или обходи за километр. Не бойся ошибиться, не думай о том, что занесенная рука была ладонью друга, а женщина — человеком, который мог бы стать для тебя всем на свете. Контора принимает на себя всю ответственность за издержки. Лучше перестраховаться, нежели недооценить. Работа есть работа! А думать будешь потом. Когда вернешься в контору, напишешь подробный отчет о проделанной работе, сдашь табельное оружие, отдохнешь две недели в Гаграх или на Рице…
После того как Витяня в изнеможении отмок в ванной, он принял контрастный душ, чисто выбрился, закутался с головой в толстое банное полотенце, прошлепал босыми ногами к кровати, снял трубку телефона и набрал семизначный номер.
На шестой или седьмой гудок на другом конце провода слабо отозвался женский голос:
— У телефона…
И только тут до Витяни дошло, что звонить в первом часу ночи практически незнакомой женщине — верх неприличия. А тем более в церемонной Дании.
— Ингрид?
— Да.
— Простите меня, Бога ради, я посмотрел на часы уже после того, как вы взяли трубку…
— Кто это?
— Вацлав. Вацлав Зденек. Помните, я был у вас позавчера…
— Ох, простите меня, пожалуйста, — голос сразу же потеплел. — Просто я уже спала…
— Это вы простите меня. Если позволите, я перезвоню вам завтра.
— Да нет, все нормально. Кажется, я уже окончательно проснулась. У вас все в порядке, господин Зденек?
— Все… — Витяня поймал себя на том, что улыбается совершенно без всякой причины. — А почему вы спрашиваете?
— Ну, мне показалось…
— Я вижу, ваши блестящие психологические способности проявляются в любое время суток, — сказал Витяня, продолжая улыбаться.
— Значит, не все в порядке?
— Скажите лучше, как ваши дела, Ингрид?
— Как обычно, господин Зденек. У меня все в порядке. Откуда вы звоните?
— Из Цюриха.
— Вы много путешествуете?
— Приходится… Видите ли, Ингрид, завтра днем я буду в Копенгагене. И я подумал, может быть, мы…
— Вы хотите встретиться со мной? — Ее вопрос прозвучал очень естественно. Витяня вдруг подумал, что именно естественность Ингрид поразила его в первую же минуту их знакомства. Когда живешь ложью и во лжи, восприятие таких вещей как-то особенно обостряется, приобретая чуткость пальцев слепого от рождения.
— Да, если вы не возражаете.
— Вы собираетесь в Копенгаген надолго?
— Не думаю. День или два… Не больше.
— Я могу освободиться в два часа дня. Вас устраивает это время?
— Вполне.
— Где?
— Поскольку я намерен остановиться в «Савое» и не очень-то хорошо знаю Копенгаген, то, может быть, встретимся внизу, в баре?
— Хорошо, я обязательно буду.
— Спасибо, Ингрид. Спокойной ночи!
— Погодите! А если вы не успеете?
— Почему я должен не успеть? Мы ведь договорились.
— Ну, не знаю… — в трубке повисла пауза. — Отложат вылет из-за неисправности самолета. Или что-то еще в этом роде.
— Тогда я найму частный самолет.
— А если погода будет нелетная?
— Тогда я возьму в ближайшем прокатном бюро самую мощную машину и все равно приеду вовремя.
— Вы не верите, что бывают безвыходные ситуации?
— Не верю. Пока человек дышит, выход есть всегда.
— Все-таки вы славянин… — Он услышал, как Ингрид улыбается.
— Еще какой!
— Спокойной ночи, господин Зденек!
— Спокойной ночи, Ингрид!..
«Зачем мне понадобилось говорить ей, что я в Цюрихе? — думал Витяня, гася свет и накрываясь с головой толстым одеялом из верблюжьей шерсти. — Наверное, я уже разучился функционировать как нормальный мужчина с нормальной психикой. — Сказал бы правду, и тогда свидание можно было назначить на десять утра. Или даже на девять… Одно слово — мудак…»
Это была последняя мысль перед тем, как прозрачная, подернутая разноцветными всполохами пелена уволокла его в короткое небытие.
Через секунду Мишин уже спал.
24. САН-ПАУЛО. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БЕЛЬВЕДЕР
Март 1978 года
Чтобы понять это вопиющее несоответствие — советский человек под расплавленным солнцем Латинской Америки, надо очень сильно напрячь воображение и представить себе одинокую женщину в норковой шубе и шапке с засунутыми в муфту руками, посаженную на трибуну огромного, заполненного до отказа полураздетыми фанатиками стадиона в тот самый момент, когда любимая команда забивает решающий гол. Если же принять в расчет издержки школьного воспитания, в соответствии с которым коллектив по определению не может быть неправым, то, действуя методом исключения, на этом самом стадионе спонтанного безумия и истошных воплей единственной идиоткой была я.
Следуя под трогательной — в буквальном смысле — опекой очередного голландского опекуна с типичной русской фамилией Хернхорст, которая выражалась в том, что серый пиджак нежно поддерживал меня под руку, одновременно не давая забыть о некоем зловещем предмете, вложенном в «Нью-Йорк Таймс», я на какое-то время полностью отключилась от унизительных деталей собственного конвоирования — настолько влажной, оглушающе шумной и предельно наэлектризованной, словно в гигантской общей бане при горно-обогатительном комбинате, была атмосфера в таможенном отсеке аэропорта.
То ли бразильцы еще не додумались до установки кондиционеров в местах общественного скопления, то ли электрики Сан-Пауло, подхватив начинание служащих парижских почт, решили устроить однодневную забастовку, но вокруг стояла такая одуряющая жара, что по всем законам человеческой справедливости, — если таковая вообще существовала в природе, — пассажиров, прошедших пограничный контроль, должно было встречать не скопление полураздетых тел всех цветов и оттенков в огромном здании аэропорта, а побережье Атлантического океана с песчаным пляжем, белыми шезлонгами и душевыми кабинками.
Истекая потом и с омерзениям чувствуя, как скользит по моему локтю мокрая ладонь советского шпиона с неприличной голландской фамилией, я покорно плелась в лабиринте беспрестанно двигающихся, орущих и жестикулирующих, как обезьяны в горящих джунглях, человеческих голов и рук, мысленно представляя одну и ту же картину — себя, вмурованную в ледяную глыбу и на неопределенное время брошенную в холодильной камере при центральном городском мясокомбинате.
И только очутившись снаружи, в самой гуще пестрой, как штопаное одеяло индейца из дельты Параны, площади перед величественно-стеклянным зданием международного аэропорта Сан-Пауло, я поняла, как наивно переоценила социальную активность бразильских электриков: полуденная жара была такой убийственной, что испарился даже мираж, в котором моя жизнь, целиком вмурованная в лед, еще хоть как-то теплилась. С некоторым опозданием в моих расплавленных мозгах мелькнула наконец вялая догадка: кондиционеры в аэропорту, оказывается, работали!
Впрочем, воспользоваться результатом индивидуального постижения теории относительности, дабы поскорее вернуться под прохладную, казавшуюся теперь осенним Кисловодском, сень аэропорта, я все равно не могла — серый пиджак, темные подмышки которого буквально на моих глазах угрожающе разрастались в диаметре, методично подталкивал меня грозным «Нью-Йорк Таймсом» в совершенно противоположную сторону — к стоянке такси на другом конце площади.
Поняв, что на нас никто не обращает внимания, мой конвоир утратил последние остатки галантности и грубо толкнул меня на заднее сиденье размалеванного, как афишная тумба, желтого такси, после чего плюхнулся рядом, властно положил свою тяжелую, потную руку мне на бедро и что-то прогавкал водителю, чей затылок полностью сливался с безнадежно черной, как ситуация, в которую я угодила, обивкой сиденья. Судя по невообразимому количеству шипящих в короткой фразе, в Институте Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, который наверняка закончил этот недоумок в сером пиджаке с черными подмышками, португальский язык изучали в серпентарии при институтском живом уголке.
Машина взревела, дернулась и, тарахтя мотором, устремилась вперед. Рука этого окончательно запревшего в пиджаке хмыря по-прежнему покоилась на моем правом бедре и даже для надежности сжимала его. Впрочем, сжимала вполне бесстрастно, как поручень в метро. То ли от нестерпимой жары, то ли от омерзения, вызванного прикосновением потной мужской конечности, меня вдруг основательно замутило.
— Послушайте, человек с неприличной фамилий, может быть, для разнообразия уберете свою руку, а? Мне не холодно, так что согревать мое бедро нет никакой оперативной необходимости.
— Не убудет с тебя! — односложно процедил серый пиджак, не отрывая цепкого взгляда от дороги. — Потерпишь.
— Любите потных женщин? — как можно безразличнее поинтересовалась я.
— Почему бы и нет? — внезапно осклабился Херн-хорст.
— Жена приучила-а-а?.. — Растянутость последнего слога была моей единственной реакцией на молниеносный и короткий, как дуновение ветерка, тычок прямыми пальцами в подбрюшину, которым, совершенно не меняя выражение лица, наградил меня этот упырь в пиджаке.
* * *
…Не думаю, что столь незатейливая мера физического усмирения зарвавшейся нахалки могла так надолго лишить меня сознания. Скорее всего, то была естественная реакция на изнурительный перелет, убийственную жару и прикосновение скользких мужских щупалец на собственном бедре, которое я ощутила, едва только пришла в себя. Впрочем, сознание возвращалось ко мне не сразу, а поэтапно. Вначале я убедилась, что пребываю в полном одиночестве, а движение над моей головой исходило от лопастей огромного вентилятора, прикрепленного вместо традиционной люстры к белому потолку. Потом в сознании вяло отразилось, что местом моего возрождения к жизни была обычная комната, вся обстановка которой состояла из никелированной кровати со старомодными медными шишечками, на которой я и очнулась. Затем я увидела обрамленную в белую раму картину звездного неба, перечеркнутую по вертикали и горизонтали жирными коричневатыми полосами. Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы сообразить, что на самом деле это вовсе не картина, а зарешеченное окно, за которым, судя по всему, безмятежно плескалась в огромных и неправдоподобно низко висящих звездах глубокая экваториальная ночь. Замкнутый цикл возвращения к реальности завершился в тот самый момент, когда я почувствовала: если сейчас, сию же секунду, я не выпью три-четы- ре ведра холодной воды, то усохну до состояния египетской мумии и рассыплюсь.
Свесив ноги с кровати, я не без удовольствия нащупала босыми ногами холодный, выложенный керамической плиткой пол (кто снял с меня туфли?!), убедилась, что на мне нет ни смирительной рубашки, ни тюремной робы, ни прозрачного одеяния наложницы, и стала вертеть головой в рефлекторных, животных поисках хоть какого-то водопоя.
Итоги визуального осмотра помещения оказались малоутешительными: по всей видимости, эта комната за- мысливалась безвестным архитектором как малогабаритный филиал безжизненной пустыни. Поскольку ни воды, ни раковины, ни унитаза, ни чего-нибудь иного, что хотя бы ассоциативно напоминало о существовании в природе хоть какой-нибудь влаги, вокруг меня не было в помине.
В ту же секунду я вначале почувствовала дуновение ветра, а уже потом увидела открывающуюся дверь и статного мужчину приблизительно моих лет в ослепительно белых джинсах и модной полосатой тенниске. Незнакомец аккуратно прикрыл за собой дверь, прислонился к притолоке, скрестил на груди крепкие, загорелые руки и с любопытством уставился на меня.
Я по-прежнему изнывала от жажды, место тычка в районе солнечного сплетения чутко реагировало на малейшее движение тела, а появление очередной особи мужского пола о двух ногах не сулило мне ничего хорошего. И я предпочла не нарушать пусть тоскливую, но реально пока ничем не грозившую мне атмосферу затаенного молчания. В глубине души слабо теплилась надежда, что посетитель — глухонемой от рождения, приставленный ко мне в целях профилактики.
А мужчина продолжал изучать меня с пугающим вниманием, словно стремился на глаз, не касаясь руками и не прибегая к помощи складного метра, прикинуть мой рост и объем, чтобы гробовщик дважды не переделывал утомительную работу.
— Так вот ты какой, цветочек аленький! — не выдержала я.
— Что? — довольно спокойно отреагировал мужчина в джинсах.
— Я спрашиваю, чего вы на меня так уставились. Только что вернулись из многомесячной экспедиции в джунгли?
— Что вы там сказали про цветочек? — Мужчина говорил на не оставляющем никаких иллюзий русском языке.
— Судя по вашему возрасту, вы еще должны помнить детство, — вздохнула я. — Впрочем, я вполне допускаю, что оно было тяжелым, без мультиков. Поэтому вы и пошли работать в разведку.
— А кто вам сказал, что я работаю в разведке? — Голос у мужика в тенниске был приятным и даже располагающим. Только на меня эти нюансы уже не действовали. Женщины не только любят ушами. Еще больше они способны ненавидеть.
— А как иначе вы могли попасть в Сан-Пауло? По туристической путевке ВЦСПС? В награду за лишние центнеры пшеницы, собранные с одного гектара?
— А как вы попали в Бразилию? — спокойно поинтересовался мужчина. — Выходит, тоже работаете в разведке?
Я запнулась. В логике ему отказать было трудно.
— Пить хотите?
Вопрос был задан как нельзя кстати, в тот самый момент, когда я пыталась проложить хоть какой-то мостик от дурацкого разговора о советской разведке к теме жизненной важности водных ресурсов в иссушенной зноем экваториальной Бразилии.
— А если я скажу нет, вы подождете, пока не захочу?
— Естественно! — Мужчина в тенниске пожал плечами. — У меня же было тяжелое детство. Без мультиков.
— А третьего варианта нет?
— А третьего варианта нет.
Место тычка вдруг тревожно заныло. «Счастье — это нечто вроде мраморной статуэтки, к которой ты тянешься всю жизнь, — вспомнила я один из жизненных афоризмов моей непотопляемой подруги. — Но в тот момент, когда ты дотягиваешься, следи, чтобы она не упала тебе на голову!»
— Да, я хочу пить.
— Больше того, — подхватил посетитель и печально улыбнулся. — Вам НЕОБХОДИМО что-нибудь выпить.
— Вы врач-диетолог?
— Диета здесь ни при чем: вы пролежали без сознания почти четыре часа.
— Время засекали?
— Да.
— На спор?
— Не вижу предмета спора.
— Ну, придет клиентка в сознание через четыре часа или это случится через восемь. Или не случится никогда.
— Вы мазохистка?
— С чего это вдруг вас заинтересовала моя сексуальная ориентация?
— Почему вы не просите меня принести вам попить?
— А зачем? Просто так вы можете мне дать только по зубам. Или в глаз. Какой вариант вам больше нравится?
— Откуда такая уверенность?
— «И опыт — сын ошибок трудных…» — пробормотала я.
— Знаете, что это такое? — мужчина вытащил из нагрудного кармана тенниски небольшую плоскую коробочку и показал ее мне.
— Знаю. Диктофон.
— Знаете, для чего он предназначен?
— Догадываюсь.
— Давайте не будем беспокоить ваши вполне здоровые зубы и глаза, которым, кстати, ничего не угрожает, и сразу же договоримся: сейчас вы ответите на все мои вопросы, которые я запишу на этот диктофон. После чего вы получите все необходимое, а завтра утром будете отправлены специальным рейсом в Москву и ваша дальнейшая участь будет решаться уже там, на родине. Договорились?
«Паулина! — со злостью думала я, выдерживая паузу. — Ты сволочь, Паулина. Старая, эгоцентричная, маниакально влюбленная в себя сволочь! Лучше бы ты использовала меня втемную, вслепую, чем вот так, чтобы я постепенно, шаг за шагом убеждалась в твоем даре предвидения, в твоем психологическом величии, в точности твоих бесконечных рассуждений о природе человека, о психологии жертвы, об инстинктах преследователя… Я ненавижу тебя! Если я выберусь из этого дерьма, я соглашусь на все, даже на трепанацию черепа, чтобы из моей памяти стерли без остатка все воспоминания, связанные с тобой и твоими мерзкими наставлениями!..»
— Я жду! — сдержанно напомнил о себе мужчина в тенниске.
— Вопросов будет много?
— А вы как думаете?
— В настоящее время я думаю только о воде.
— Я ведь уже сказал…
— Послушайте, господин у двери, не изображайте из себя садиста, вы же советский человек в конце концов! Дайте мне напиться без ваших идиотских условий. Неужели вы не видите, что я просто физически не в состоянии разговаривать!..
Мужчина усмехнулся, приоткрыл дверь и крикнул: «Стеша!»
Судя по оперативности, с которой в комнате материализовалась упомянутая всуе Стеша, оказавшаяся на поверку аппетитной бабенкой с выдвинутыми наподобие ящиков письменного стола бюстом и попой, с самого начала ознакомительной беседы о роли воды в поддержании жизнедеятельности организма человека она дежурила по ту сторону двери. Непринужденно толкая перед собой сервировочный столик на колесиках — брат-близнец того, в котором не так давно Хорхе тайно эвакуировал меня из Буэнос-айресского отеля «Кларин», — Стеша даже не смотрела в мою сторону, целиком сосредоточив внимание подведенных с чисто русской бесшабашностью и размахом карих глаз на транспортируемом грузе — огромной двухлитровой бутылке «Кока-Колы», плоской десертной тарелке с маленькими бутербродами, высоком белом кофейнике, сахарнице, пустой фарфоровой чашке, высоком стакане и пластмассовом ведерке с крупными кубиками льда.
Зафиксировав передвижную скатерть-самобранку в сантиметре от моих колен, Стеша презрительно повернулась ко мне выпуклой и, вне всякого сомнения, аппетитной задницей, туго обтянутой короткой черной юбкой, и, одарив мужика в тенниске царственным взглядом, значение которого могла оценить только женщина, величественно покинула комнату.
— Угощайтесь, Валентина Васильевна, — мужчина сделал рукой приглашающий жест. — Я подожду…
— Я бы хотела сделать это в одиночестве.
— Увы, это невозможно.
— Вы боитесь, что я захлебнусь?
— Существуют инструкции… — Мужчина выразительно повел подбородком. — На вашем столике вполне достаточно колющих и режущих предметов.
— Думаете, что у меня не было возможностей сделать эту глупость раньше?
— Не будем спорить, Валентина Васильевна. — Его голос звучал примирительно. — Пейте, ешьте и постарайтесь не обращать на меня никакого внимания…
Я кивнула и, мигом свернув голову пластмассовой бутылки, жадно прильнула к горлышку. «Какое в конце концов мне дело до того, как выглядит со стороны женщина, лихорадочно двигающая кадыком в пароксизме утоления жажды и не обращающая внимания на то, как струйки липкой коричневатой жидкости, огибая губы и подбородок, бороздками стекают за платье, к выемке груди?!» — лениво думала, чувствуя, как постепенно, клеточка за клеточкой, оживают мои иссохшие внутренности…
Встряхнув пустую бутылку и с сожалением поставив ее на столик, я приоткрыла крышку кофейника, убедилась, что его содержание полностью соответствует форме, наполнила фарфоровую чашку до самых краев обжигающим черным кофе и с наслаждением втянула в себя ароматную, густую жидкость. Вне всякого сомнения, я пила самый настоящий бразильский кофе. Впрочем, из данного факта вовсе не следовало, что меня как-то хотели ублажить. С чего бы это вдруг? «Народ и партия едины, отдельны только магазины». Скорее всего, в этих отдаленных от любимой родины с ее распределителями продуктов местах другого кофе просто не было.
— Жизнь прекрасна, не так ли, Валентина Васильевна? — с едва заметной иронией осведомился мужчина в тенниске.
— Была! — кивнула я, делая очередной глоток. — До того самого момента, пока вы не напомнили об этом.
— Вы бы что-нибудь поели, — порекомендовал мужчина, не реагируя на мою реплику, исполненную черной, как бразильский кофе, злобой. — Вам надо как следует подкрепиться.
— Вы заранее уверены, что ваши вопросы измотают меня до предела, да?
— У вас чудесный характер, Валентина Васильевна!
— Ну, слава Богу! Мне ведь так хотелось вам понравиться.
— У вас еще ничего не потеряно, — успокоил меня очередной кормилец. — Мало того, я бы посоветовал вам постараться преуспеть в этом.
— А иначе?
— А иначе вам удачи не видать, — улыбнулся мужчина.
— Обидно.
— Конечно, обидно! Вы же верите в удачу, верно?
— Как можно верить в то, чего от природы не существует?
— А я верю. Наша сегодняшняя встреча, к примеру, — это большая удача.
— Для кого?
— Я вам отвечу на этот вопрос. Но только после того, как вы ответите на мои.
— Звучит как ультиматум, — пробормотала я и, пока не началось то, что непременно должно было вот-вот начаться, подлила себе еще кофе.
— А это ультиматум и есть.
— Кстати, а где тот потный очаровашка с неприличной фамилией Хернхорст и соответствующим фамилии запахом?
— Успели по нему соскучиться?
— Никак не могу его забыть, — совершенно искренне призналась я и рефлекторно прижала руку к животу.
— Может, начнем?
— Да, конечно… — Я отодвинула от себя сервировочный столик и улыбнулась. — Вы — сто тридцать пятый по счету человек, который напоминает мне, что бесплатных завтраков не бывает. Учитывая, что данная истина, насколько мне известно, родилась в недрах загнивающего капитализма, мне больно наблюдать, как хорошо ее усвоили именно мои соотечественники. Поверьте обладательнице красного диплома МГУ: в научном коммунизме о бесплатных завтраках нет ни строчки.
— Оставьте в покое научный коммунизм. Тем более что это был не завтрак, а, скорее, поздний ужин, Валентина Васильевна, — мягко откорректировал мое замечание мужчина в тенниске, после чего вновь приоткрыл дверь, вытянул оттуда невысокую деревянную табуретку, сел спиной к входу, щелкнул черной кнопкой диктофона и скороговоркой прошептал:
— Сан-Пауло, 19 марта 1978 года. Показания снимает майор Тихомиров Олег Станиславович…
Затем он протянул диктофон в мою сторону:
— Ваша фамилия, имя и отчество?
— А ваша?
Мужчина в джинсах щелкнул кнопкой «стоп», внимательно посмотрел на меня и негромко, с расстановкой, сказал:
— Это допрос, гражданка Мальцева. Повторяю: не светская беседа, не редакционный треп, а допрос, который проводит офицер советской военной разведки. Вы должны отвечать. И только. Задавать вопросы я вам запрещаю. Если вы еще раз позволите себе отвечать не по форме, я прерву наш разговор на некоторое время, свяжу, положу на пол лицом вниз и изобью вас резиновым шлангом. Понятно?
— Только что вы сказали, что моим зубам и глазам ничего не угрожает.
— Я вас не обманывал, — холодно ответил мужчина в тенниске. — Им действительно ничего не угрожает. Потому что резиновым шлангом я буду бить вас по почкам… Представляете?
«Не перегибай палку, — властно-ироничный тон Паулины звучал отчетливо и близко, словно она, воспользовавшись шапкой-невидимкой, проникла в эту суровую комнату, присела рядом со мной и нашептывает свои бесконечные рекомендации прямо мне в ухо, — Ничего не изображай. Будь собой. Веди себя естественно. Дразни, но не увлекайся, не переигрывай. Уступай постепенно, изображай внутреннее сопротивление, борись за себя!..»
— Представляю, — кивнула я.
— Вас когда-нибудь били резиновым шлангом?
— Н-нет, — запнувшись на секунду, ответила я. — Только поливали.
— Вы думаете, я шучу? — он по-прежнему говорил очень ровным голосом, однако глаза мужчина потемнели и сузились.
— Нет, я так не думаю, — искренне призналась я. — Мало того, я уверена, что вы не способны на шутки.
— Вот и хорошо, — кивнул мужчина, вновь щелкнул диктофоном и повторил первый вопрос:
— Ваша фамилия, имя и отчество?
— Мальцева Валентина Васильевна.
— Год рождения?
— Одна тысяча девятьсот сорок девятый.
— Место рождения?
— Мытищи, Московская область.
— Место постоянного жительства?
— Москва.
— Профессия.
— Журналистка.
— Вы выполняли за границей какое-то задание?
— Да.
— Чье задание вы выполняли?
— Комитета государственной безопасности.
— Каким образом вы очутились в США и почему летели в Сан-Пауло?
«Это будет второй или, в крайнем случае, третий вопрос после протокольных, — всплыли в памяти размеренные, взвешивающие каждую букву интонации Паулины. — Если в этом вопросе прозвучат названия «Женева» или, того хуже, «Брюссель» — немедленно переходи на запасной вариант. Если же они начнут со Штатов — это твои клиенты. Это значит, что ты попала именно туда, куда и стремилась попасть. Это значит, что наша игра началась».
Господи, если я куда-то действительно стремилась попасть, так только домой, к маме!
— В США меня вывез один человек.
— Фамилия этого человека?
— Спарк. Юджин Спарк.
— Чем он занимается?
— Насколько мне известно, он работает в ЦРУ.
— Его звание, должность?
— Не знаю.
— В каких отношениях вы состояли с этим человеком?
— В… близких.
— Вы были его любовницей?
— Да.
— Вы отправились в США по заданию КГБ?
— Нет.
— Вы бежали в США?
— Да.
— Откуда?
— Из Брюсселя.
— С кем?
— Со Спарком.
— Почему вы решили бежать в Америку?
— Меня хотели использовать в одной операции… Я просто испугалась. И Юджин… Спарк помог мне.
— Где проводилась эта операция?
— Какая именно? Меня использовали сразу в нескольких операциях. Вначале в Буэнос-Айресе. Потом в Волендаме. Потом в Праге и Женеве.
— В чем заключалась операция в Буэнос-Айресе?
— Юрий Владимирович Андропов так и не поделился со мной этой тайной.
— Мальцева!
— Да не знаю я, чего вы прицепились ко мне?! Мне было велено передать какую-то книгу какому-то колумбийскому сенатору…
— Фамилия сенатора?
— Телевано.
— Что было в книге?
— Не знаю.
— Передали книгу?
— Нет.
— В чем заключалась операция в Волендаме?
«У них к тебе будет очень много вопросов, — продолжала шипеть Паулина в мое взмокшее от напряжения ухо. — Вопросы эти, скорее всего, будут задаваться быстро и бессистемно. Тебя будут путать, перескакивать с темы на тему, возвращаться к уже пройденному… Так надо, такова методика. Ты не должна догадываться, что именно их интересует. Им необходима точная информация, и они почти наверняка знают, что могут получить ее от тебя. Тут наши цели совпадают. Не расслабляйся. Ты должна помнить, что их интересует — если только наши расчеты верны — только одна группа вопросов. Их будут интересовать, прежде всего, вопросы, связанные с твоим бывшим одноклассником. Такова наша основная позиция. Остальную информацию, которой ты набита по самое свое лебединое горлышко, они вытрясут из тебя позднее, в Москве, когда у них будет достаточно времени. Примерно так они станут планировать свою работу с тобой, и, как говорится, на здоровье! Однако допрашивать тебя будут, скорее всего, в цейтноте. Жди этих вопросов. Все время жди! И когда они будут заданы, постарайся сохранить прежний ритм, прежнее дыхание. У тебя все получится, девочка!..»
Ни хрена у меня не получится, старая грымза!
Ни хре-на!
— Насколько я понимаю, с моей помощью люди КГБ хотели арестовать Мишина.
— Имя Мишина?
— Витяня… Виктор.
— Это он? — Мужчина протянул мне фотографию и шепнул в диктофон: «Предъявляю фотографию подполковника Первого главного управления КГБ СССР Виктора Мишина».
— Да, это он.
— Его арестовали?
— Нет.
— Мишин сумел скрыться?
— Да.
— Где сейчас находится Юджин Спарк?
— В Буэнос-Айресе.
— Откуда вы знаете Мишина?
— Учились в одном классе.
— Куда вы намеревались лететь после Сан-Пауло?
— В Буэнос-Айрес.
— Вас должен был там встретить Спарк?
— Да. Мы с ним договорились.
— Вы виделись с Мишиным в Волендаме?
— Я видела его.
— Кто организовал ваш побег из Штатов?
— Спарк.
— Откуда у вас документы на имя французской гражданки?
— Мне дал их Спарк. Вместе с деньгами и билетом на самолет.
— Почему не состоялся арест Мишина в Волендаме?
— Потому что он пришил четверых парней с Лубянки.
— Что значит, «пришил»? Поточнее!
— Убил! Пристрелил. Свернул шею.
— Вас допрашивали в ЦРУ?
— Да.
— Кто помогал Мишину в Волендаме?
— Не знаю.
— Но ему помогал кто-то?
— Откуда мне знать это?!
— Кто вас допрашивал в ЦРУ?
— Мужчина.
— Его имя?
— Он мне не представился.
— Где вы познакомились со Спарком?
— В Буэнос-Айресе.
— Опишите мне мужчину из ЦРУ, который вас допрашивал.
— Невысокий, пожилой, волосы седые, редкие, курит сигары.
— На каком языке вас допрашивал человек из ЦРУ?
— На французском.
— Где проводился допрос?
— На какой-то вилле.
— Город, место?
— Не знаю. Меня привезли в машине с темными стеклами.
— Откуда?
— Из Нью-Йорка.
— Человек из ЦРУ разговаривает по-русски?
— Я не знаю. Со мной не разговаривал.
— Где вы жили в Нью-Йорке?
— В отеле «Мэриотт».
— После Волендама вы больше не встречались с Мишиным?
— Нет.
— Спарк свободно владеет русским?
— В совершенстве.
— Вам известно, куда скрылся Мишин?
— Нет, конечно!
«Этот вопрос будет твоим первым КПП, — предупреждала Паулина. — Первым и самым серьезным. Если ты его пройдешь, если тебя не собьют с ног и не уличат во лжи, то, значит, ты выиграла первый раунд. Вероятность неудачи минимальная. Даже если исходить из худшего. Что именно знал Тополев и что, соответственно, могло просочиться через него в ГРУ? В принципе все, вплоть до того момента, пока его не отправили из Амстердама в Штаты в пластиковом мешке. В дальнейших событиях он не свидетель. Таким образом, объективно нет больше ни одного человека, кроме задействованных в операции сотрудников КГБ, который мог бы подтвердить твои с Мишиным метания по Праге. Запомни, Валя: последний раз ты виделась с Мишиным в Волендаме. И все!..»
— КГБ использовал вас в операции по захвату Мишина в качестве приманки?
— С уверенностью могу сказать, что КГБ меня использовал. А вот как именно, судить не мне.
— А почему Мишин должен был на это клюнуть?
— Насколько я понимаю, Мишин находился в бегах и, решив вступить в какие-то переговоры с КГБ, поставил условие, чтобы на этих переговорах обязательно присутствовала я.
— А почему именно вы, Мальцева? Почему не кто-нибудь другой?
— Я не знаю.
— Спарк знаком с Мишиным?
«Внимание, Валечка! — я настолько отчетливо увидела перед своим носом наманикюренный пальчик Паулины, что даже вздрогнула. — КПП номер 2! Максимум искренности напополам с типично женским неведением, так свойственным при общении со скрытными мужчинами…»
А чего тут играть? В этом самом полном неведении я пребываю с переходного возраста!
— Думаю, что да.
— Вы не уверены?
— Я никогда не видела их вместе.
— Тогда почему вы думаете, что они знакомы?
— Видите ли, тогда, в Волендаме, после того, как Мишин устроил в отеле форменное побоище, он отвез меня в машине к отелю, в котором жил Спарк. А по дороге сказал, что теперь, наконец, его проблемы решены, и помахал новеньким паспортом и каким-то пакетом… Он еще сказал что-то вроде: «Это мои Гарантии, теперь они меня не достанут…»
— И что?
— Я думаю, что Юджин каким-то образом договорился с Витяней. Что-то вроде обмена: Мишин вытаскивает меня, а Юджин снабжает его документами, чтобы тот мог скрыться где-нибудь.
— А при чем здесь пакет? Что в нем было?
— Я не знаю. Может быть, билет на самолет. Или деньги.
— Опишите пакет.
— Синий. Похож на стандартный конверт, только чуть больше.
— Заклеенный?
— Я не обратила внимания.
— Мишин держал их вместе?
— Да, в одной руке.
— А если эти документы Мишин получил не от Спарка?
— К тому, что я сказала, мне больше нечего добавить.
— Сколько людей КГБ сопровождали вас в Волендам?
— Пять человек.
— Знаете их имена?
— Нет.
— Ни одного имени?
— Только одно — Матвей Тополев. Он был старшим в группе.
— Спарк что-нибудь говорил вам о Мишине?
— Нет, — я покачала головой. — Не говорил.
— Не торопитесь. Вспомните. Это очень важно. Повторяю свой вопрос: говорил ли вам Спарк что-либо о Мишине?
— Нет, — я постаралась изобразить уверенность в голосе. — Единственное, что, мне показалось, — хотя, вполне возможно, я заблуждаюсь, — что Юджин не очень-то удивился моему освобождению, тому, что я среди ночи появилась у него в номере отеля. Одна, без своих провожатых.
— Спарк знал о вашей… командировке в Волендам?
— Думаю, знал. Хотя мне ничего об этом не говорил. Потом, естественно, я все ему рассказала.
— В какое время суток Мишин отвез вас в отель к Спарку?
— Было утро. Часов десять — начало одиннадцатого.
— Марка машины?
— Не обратила внимания.
— Что делает Юджин Спарк в Буэнос-Айресе?
— Ждет меня.
— Зачем?
— Мы собирались пожениться.
— Как назывался отель, в который вас привез Мишин?
— «Амстел».
— Это в Волендаме?
— Нет. В Амстердаме.
— Сколько времени вы находились в пути из Волендама в Амстердам?
— Часа полтора-два, точно не помню.
— Мишин останавливался в пути?
— Да.
— Сколько раз?
— По-моему, два. Да, точно, два раза. Вначале на бензоколонке, а потом уже в Амстердаме.
— Где именно? Это была стоянка?
— Нет, он просто притормозил у обочины.
— Где именно?
— Как я могу вам это объяснить? Я ведь совсем не знаю этот город.
— Какие-нибудь ориентиры назвать можете? Ну, памятник, магазин, что-нибудь?..
— Н-нет.
— Как по-вашему, в какую часть города вы попали? Это был деловой центр или историческая часть?
— Скорее всего, деловой. Я обратила внимание на вывески. Ну, там, какие-то фирмы, офисы, банки…
— Каналы рядом были?
— Не было.
— Мишин долго отсутствовал?
— Минут пятнадцать.
— Вы не обратили внимания, куда именно он направился?
— Меня это совершенно не интересовало.
— Когда Мишин вернулся, он что-нибудь сказал вам?
— Нет. Правда, я обратила внимание, что он находился в прекрасном настроении.
— Если попадете на то место, где Мишин припарковал машину, узнаете?
— Скорее всего, да. У меня неплохая зрительная память.
— В ЦРУ знали о планах Спарка жениться на вас?
— Три дня назад Юджин официально подал в отставку…
Москва — Тель-Авив — Брюссель — Лондон — Вашингтон