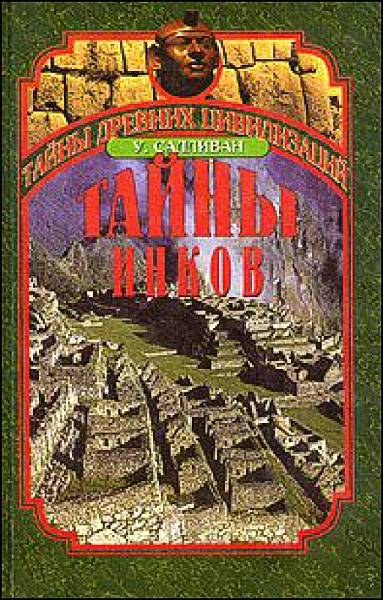
Уильям Салливан
ТАЙНЫ ИНКОВ
Мифология, Астрономия и Война со Временем
ГЛАВА 1
МИФОЛОГИЯ ПРЕДЫСТОРИИ
Так вот, зрение, по моему понятию, — источник высочайшего блага для нас, ибо и слова из нынешнего рассуждения о вселенной нельзя было бы сказать, если бы мы не видели звезд, солнца и неба. Ведь наблюдение за сменой дней и ночей, месяцев и лет, равноденствия и солнцестояния привело к изобретению числа, подарило нам понятие времени и побудило нас к изучению природы мира, которое породило всю нашу философию, и никогда не было и не будет большего блага, ниспосланного небом смертным.
I
Впервые приступив к изучению истории империи Инков, я удивился, узнав, что она просуществовала менее века до своего полного уничтожения испанскими конкистадорами. Еще поразительнее оказались поистине необычные обстоятельства исчезновения этого южноамериканского государства, построенного в результате военных завоеваний и протянувшегося по хребту Анд от нынешней Колумбии до юга Чили и от побережья Тихого океана до восточных предгорий Анд. В 1532 году в центре этого могущественного государства высадился испанский экспедиционный корпус, состоявший из 170 авантюристов и сумевший покорить империю с почти 6 миллионами подданных.
Если бы эта история была выдумкой, ее бы посчитали плодом причудливого воображения. Предводительствовал испанцами Франсиско Писарро — к тому времени уже закаленный искатель приключений, оставивший в четырнадцатилетнем возрасте холодные и бесплодные плато родной Эстрамадуры и отправившийся на поиски золота. Подобно своему предводителю, его люди были обедневшими идальго, потомками воинов, слишком гордыми, чтобы заниматься обычным трудом, и слишком темными, чтобы поступить на королевскую службу, людьми, чьи не столь далекие предки были сущим наказанием для сарацинов. Это были знаменитые испанские терции, наводившие ужас на Европу. Гордые, дерзкие, закованные в легкие стальные кольчуги, верхом на огромных боевых конях, вооруженные мечами из закаленной толедской стали, они были бесстрашными, отважными, безжалостными — и бедными — Ангелами Ада для Европы.
Писарро знал своих людей. Высадившись в конце концов после нескольких неудачных экспедиций на севере Перу и потратив несколько недель на бесплодные стычки и рейды, принесшие кое-какие золотые безделушки и намеки на богатства, накопленные в горной империи, Писарро понял, что у него нет иного выхода, как броситься очертя голову в неизвестность. Его люди не боялись тяжких физических испытаний, не ведали страха и колебаний перед ожидавшими их опасностями, но не потерпели бы нерешительности. Известный историк Уильям Прескот, говоря о конкистадорах, замечал, что невозможно оценить по достоинству роль испанцев в завоевании Перу, не поняв, что испанцы отнюдь не были лицемерами. Они по-своему стремились к Богу, золоту и славе.
Ведомые такими побуждениями, 120 конных и 50 пеших воинов начали подъем на Андский массив. Они даже не подозревали, что в это время высоко над ними шла решающая битва большой гражданской войны. На протяжении нескольких лет братья Уаскар и Атауальпа, сыновья последнего великого инки Уайна Капака, умершего от оспы, которая выкосила коренное население от Карибского моря до самого юга, вели изнурительную войну за. престолонаследие. Сторонники Уаскара сосредоточились в столичном городе Куско в южном Перу, а последователи Атауальпы пришли из Кито — города, построенного и любимого скончавшимся в нем Капаком.
За продвижением испанцев следили с самого момента их высадки на северном побережье. Поглощенный гражданской войной, Атауальпа уже через несколько недель отправил своего посла к Писарро. Посол предложил Писарро встретиться с вождем инков в Кахамарке, недалеко от маршрута следования испанцев. Писарро согласился. Испанцы карабкались по Тропе Инков, столь крутой и изгибистой, что их могли уничтожить несколько раз на этом пути, поскольку кони там не давали им никакого преимущества. Но они поднялись в горы беспрепятственно.
Во второй половине дня 15 ноября 1532 года люди Писарро вступили на плодородную землю широкой долины Кахамарка. Весь накопленный ими опыт со времени прибытия в Новый Свет не мог подготовить их к испытанному ими шоку. В миле справа от них раскинулся лагерь сорокатысячной армии.
Спасти испанцев могла только дерзость. Они проникли в небольшой, обнесенный стеной городок с «обителью» Дев Солнца и отправили своих эмиссаров к Великому Инке. Первыми двумя европейцами, увидевшими Сына Солнца, стали Эрнандо Де Сото и брат предводителя Эрнандо Писарро. Верхом на конях они отважно въехали в центр стоявшего лагерем войска, бесстрашно отклонили проявление гостеприимства со стороны Инки и пригласили его встретиться на следующий день с Франсиско Писарро. Атауальпа дал согласие, и оба Эрнандо ускакали.
Наступила ночь, полная отчаяния, — испанцы понимали, что единственная надежда на спасение — это пленение Инки. Когда он появится, они пригласят его отобедать. Если он откажется, испанцы нападут на него. По трем стенам огороженного поселка Кахамарка проходили галереи, служившие укрытием для коней, ворота в четвертой стене выходили на равнину, а в центре просторной площади высился сруб. Писарро приказал установить в нем пушки. При необходимости они должны были подать сигнал к атаке.
Мало кто спал в ту ночь. Многие исповедовались. Другие писали прощальные письма домой или завещания. Кто-то убивал время в азартных играх. Кто-то ухитрился заснуть. С рассветом напряжение достигло пика, потянулись бесконечные утренние часы, но Инка не появлялся. Вскоре после полудня равнина стала заполняться войском инков. Это длилось несколько часов, и у испанцев было время взвесить свои шансы. Наконец появился Великий Инка, которого несли на паланкине. Эскорт из шести тысяч невооруженных воинов влился через ворота на площадь. В этот момент, как было условлено заранее, навстречу Инке вышел испанский священник и зачитал инквизиторский вариант «предупреждения Миранды»: если Бог-король подчинится королю Испании и Святой римской церкви, ему не будет причинен вред.
Инка заявил, что испанцы обязаны вернуть все награбленное и съеденное ими с момента высадки. Вместо ответа священник протянул ему Библию. Атауальпа с интересом осмотрел ее, явно пораженный тем, что не может стереть со страницы напечатанное, император пришел в ярость, почувствовав, вероятно, что его царственное самообладание подорвано тем впечатлением, которое произвела на него Священная книга, и швырнул ее на землю. Священник вскричал: «Это — Антихрист!», Писарро подал знак пушкарям, и они произвели два выстрела.
И тут из трех галерей на площадь вынеслись огромные, не знающие страха испанские боевые кони. К их хвостам были привязаны погремушки. Ветер свистел в звенящих стальных кольчугах. С боевым кличем «Бей их!» идальго обрушились на пораженную безоружную почетную гвардию, пробиваясь к императору.
Через пять минут Великий Инка был пленен. Множество аристократов-инков, пытавшихся защитить императора, пали, сраженные стальными клинками. Когда испанцы схватили императора, среди оставшихся в живых его воинов возникла такая паника, что они бросились бежать сломя голову к единственному узкому выходу, и саманная стена в шесть футов толщиной не выдержала веса их тел и обрушилась. Перед стоявшей в поле армией инков открылась картина ада. Их товарищи по оружию спасались бегством, преследуемые 120 всадниками, кони которых перепрыгивали через груды поверженных тел. Вся армия инков смешалась и обратилась в бегство. Испанцы преследовали ее по всей долине Кахамарка и убивали инков, пока не стемнело. По примерным оценкам были убиты семь тысяч инков и тяжело ранены еще десять тысяч.
За Великого Инку потребовали выкуп золотом. После этого испанцам сопутствовала удача в сочетании с решимостью и вероломством. В течение нескольких лет с помощью прибывавших из Панамы алчных до золота подкреплений испанцы полностью подавили всякое сопротивление. Самая могущественная из империй Западного полушария пала перед менее чем двумя сотнями людей.
Помню, впервые прочитав о тех далеких событиях в «Завоевании инков» Хемминга, я подумал: «Как такое могло случиться?» В то время я мысленно пожал плечами, не надеясь найти когда-либо ответ на свой вопрос. На уме у меня были иные проблемы.
II
С раннего детства меня влекло к прошлому. Отчасти это каким-то образом связано с опытом, общим для поколения, рожденного под тенью Хиросимы — события, окрасившего даже самое банальное из детских устремлений. Попытка смастерить лук и стрелы давала повод для мечтаний и вопросов. Откуда американские аборигены знали, какое дерево выбрать, как изготовить наконечник, как укрепить его на древке? Усевшись под высоким дубом, я грезил о том, что ухоженные газоны моего родного городка вновь превратились в девственные, как в древние времена, леса. Где они разбивали свой лагерь? Где брали воду? Как изготавливали орудия труда, с помощью которых изготавливали другие орудия? Ведь стоит только вообразить, как по-летнему сонный пригород покрывается дикими зарослями, и ты уже воспринимаешь будущее как прошлое. Дороги зарастают деревьями. Никаких заводов. Никакого водопровода. Такое ведь может случиться. Я задавался вопросом, сумеет ли кто-либо из соседей сделать тетиву из жилы оленя. И я был слишком юн, чтобы посмеяться над подобной перспективой. Ирония — это современное искусство выживания, доступное лишь взрослым. Звенели цикады, и высоко в кронах дубов верещали белки. У них, казалось, была твердая точка опоры в этом мире. Все, что им следовало знать, они несли в своей плоти. Люди же, в отличие от них, пребывали в опасности.
Пройдет много лет, и я наконец пойму, что мифология непосредственно соотносится с подобным восприятием. Человеческая культура неестественна, и установившиеся за тысячелетия огромными усилиями истины внезапно могут стать хрупкими, как орхидеи в снегу. То, что я видел глазами ребенка, было предметами материальной культуры — холодильники, автомобили, поливальные машины, бульдозеры… Они вызывали у меня беспокойство — ты можешь пользоваться ими, но не можешь изготовить их сам. Поэтому я мысленно общался с воображаемым мудрым взрослым, который — несмотря на то, что я его рядил в штаны из оленьей кожи с бахромой и вышивкой бисером, — знал, что к чему.
Мифология — это судно, спроектированное и приспособленное перевозить самое необходимое. На его борту нет места для мякины и отбросов, ибо человеческая память конечна, а мифы передаются из уст в уста. Миф — это ковчег, строители которого заботились только об одном — о благополучии грядущих поколений. То были зрелые люди, принимавшие То, что китайцы назвали «интересными временами», такими, какими они и были, и готовившиеся к потопу. Они стремились измениться, стряхнуть с себя оболочку старых времен прежде, чем она задушит внутренний источник, каковым было знание того, как оставаться человеком. Они смастерили мифологический ковчег ради спасения этого знания от потопа Времени. И они хорошо знали, что такое риск.
Мифы о конце света вездесущи. Традиция создания и разрушения сменяющих друг друга «миров» призвана поведать нам что-то о прошлом и обосновать интуитивное понимание, что временами условия обыденного существования несут в себе срочное послание. Эта древняя традиция сменяющих друг друга эпох признает существование тех редких моментов в тысячелетиях, когда погибают целые образы жизни и возникают новые миры. В такие моменты в воздухе чувствуется напряжение. Давно знакомое борется с тем, что еще предстоит задумать, на поле человеческого сердца. Отсюда изобилие мрачных образов, спроецированных на экране сознания: этакая Кали, богиня созидания и разрушения, благодетельная Мать Земля с ожерельем из черепов. Лес рубят — щепки летят.
В такие времена факты могут неожиданно приобрести новую силу и, сталкиваясь подобно элементарным частицам, высвобождать энергию и порождать новые события:
— В США примерно 80 процентов тех, кто обращается к врачам, болеют только потому, что их иммунитет ослаблен стрессами.
— Карл Юнг выразил озабоченность тем обстоятельством, что американцы совершенно не отдают себе отчета о присутствии в их коллективном подсознании наследия аборигенов.
— Число ныне живущих превосходит число всех людей, живших во все времена и умерших до сих пор, а через сорок лет нас станет девять миллиардов.
— Несколько раз за текущее столетие люди обнаруживали независимо друг от друга, что неграмотные барды в медвежьих углах до сих пор распевают практически дословно большие пассажи из таких эпических поэм как «Легенда о Гильгамеше» или «Илиада», то есть передают, не прибегая к письменным источникам, идеи пятитысячелетней давности.
— В пограничной области изучения поведения животных в среде обитания и человеческой психологии сейчас уже установлено, что из всех высших организмов человеческие существа проявляют наибольшую сопротивляемость к переменам, предпочитая снова и снова повторять поступки, приводящие к нежелательным результатам.
Настоящая книга — продукт своего времени. Она не могла быть написана еще тридцать лет назад — слишком уж она зависит от новой информации и новейшей информатики. Она также связана с особым эмоциональным восприятием, которое, как я полагаю, само является продуктом интересных времен. Это включает и граничащее с тревогой ощущение утраты в связи с проявляемым современным миром безразличием к прошлому. В этом восприятии чувствуется некое едва уловимое давление прошлого: «Не теряйте нас, не забывайте нас, тех, кто ушел раньше, не потому, что мы. нуждаемся в вас (хотя это, может, и так), а потому, что сейчас вы нуждаетесь в нас». И этот призыв подразумевает обещание: где-то, в какой-то области прошлое должно быть доступно потому, что этого пожелали бы ушедшие до нас.
Настоящая книга никогда не была бы написана, если бы в 1974 году один мой приятель не подарил мне две другие книги. Содержавшаяся в них информация вновь пробудила во мне это долго дремавшее ощущение прошлого, как и неуемное любопытство.
Первая из них — «Корни цивилизации» Александера Маршака — представляет из себя исследование, наводящее на совершенно неожиданное толкование определенного рода останков материальной культуры ледникового периода. Представленная в книге Маршака история эволюции поучительна сама по себе, как и сделанные в ней открытия.
Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) поручило научному обозревателю Маршаку рассказать, как человечество пришло к высадке на Луне… Маршак испытал немалые трудности при написании нескольких страниц первой главы, в которой он намеревался проследить зарождение у человечества интереса к Луне, поскольку, как он сам признался, столкнулся со множеством «неожиданностей» в связи с появлением в археологических анналах по Шумеру, Египту и Индии сложнейших солнечно-лунно-звездных календарей, имевших прямое отношение к сельскому хозяйству. По его разумению, их подготовка заняла тысячелетия.
Из изучения имевшейся литературы Маршак извлек только одно обобщение: за всеми этими календарями стояла еще более давняя традиция составления календарей на основе фаз Луны.
Поскольку поджимали сроки, а ему никак не удавалось написать удовлетворительный вариант первой главы, Маршак подобрал наугад статью из «Сайнтифик Америкэн» о кости с насечками, найденной в Ишанго, что в истоках Нила, и датированной примерно серединой седьмого тысячелетия. Автор статьи пришел к заключению, что насечки могли представлять собой некую «арифметическую игру», связанную, быть может, с умножением на два. Найдя такое объяснение неудовлетворительным, поскольку оно не предполагало цели таких отметин, Маршак предположил, не могли ли эти отметины служить своеобразной летописью, своего рода «легендарным значением». Рассуждая таким образом, он отложил в сторону рукопись о Луне для НАСА и решил проверить, не имеет ли рисунок насечек какого-либо сходства с фазами Луны. Уже через пятнадцать минут он понял, что его гипотеза вполне может оказаться верной и что ее никак нельзя исключать.
Маршаку понадобились годы исследований в музеях по всей Европе, прежде чем он смог опубликовать свои выводы, подтверждавшие его первоначальную догадку. «Корни цивилизации» свидетельствуют, что со времени возникновения нашего генотипа — Гомо сапиенс около сорока тысячелетий назад люди уделяли измерению временных периодов, обозначаемых движением небесных тел, не менее пристальное внимание, чем добыванию пропитания и изготовлению орудий труда.
III
Второй из этих книг была «Мельница Гамлета» Джиорджио де Сантильяны — профессора истории науки Массачусетского технологического института и Герты фон Дехенд — историка науки университета Вольфганга Гете во Франкфурте. Гвоздем этой книги было утверждение, что миф представлял собой то, что авторы назвали «техническим языком», выработанным для записи и передачи астрономических наблюдений величайшей сложности, в частности связанных с прецессиями. На деле это исследование — названное авторами «первой разведкой» древней философской системы, основанной на особого рода астрономических знаниях, распространенных по всем районам «высокой культуры» на планете, — вроде бы описывает именно эти знания, утрату которых примерно во времена Платона оплакивал Аристотель.
Это исследование заслуживает того, чтобы о нем рассказали. Открытия были сделаны Дехенд. Будучи выпускницей Франкфуртского университета по специальности «история наук», она пожелала узнать побольше о деус фабер — творце, или боге-созидателе, присутствовавшем во многих культурах в качестве гения ремесел. Особый интерес она проявила к полинезийской мифологии и после прочтения десятка тысяч страниц основного материала пришла к единственному и непреложному выводу, а именно: что не поняла ничего из прочитанного.
В то время Дехенд меньше всего занимала астрономия. В самом деле, ко времени подготовки ею дипломной работы уже было предпринято несколько научных попыток объяснить мифологию астрономическими терминами. Например, «солнечная гипотеза» Макса Мюллера, стремившегося «объяснить» веды (священные книги индусов) с точки зрения всеобъемлющих схем солнечной астрономии, была поначалу весьма популярна, но вскоре получила дурную славу, как только стало очевидным, что подобное построение не в состоянии выдержать полновесное богатство текстов Вед. Затем последовала работа Альфреда Джеремии (1929 год). Хотя Джеремия продемонстрировал сверхъестественную проницательность в понимании мифов на астрономическом уровне, его живой темперамент в сочетании со склонностью выдавать за факты предположения, с которыми не могла согласиться археология, обусловил разочарование не только в его труде, но и в самой идее о том, что существует какая-либо связь между мифом и астрономией.
Вот в такой обстановке и с искренним намерением не связываться никоим образом с астрономией Дехенд упорно продолжала заниматься полинезийским материалом. Теперь она погрузилась в изучение вторичных источников в поисках чего-либо — чего угодно, — что дало бы ей возможность проникнуть в полинезийский образ мышления. И наступил день, когда она попыталась понять второстепенную загадку полинезийской археологии: почему два острова, разделенные тремя тысячами миль водного пространства, оказались заполненными десятками «храмов», архитектура которых ни на что не похожа. Она обратилась к атласу и заметила то, что'раньше никто не замечал, вернее не замечал на протяжении весьма долгого времени: один остров находится на тропике Рака, а другой — на тропике Козерога. И тогда с явной неохотой она воскликнула про себя: «А, астрономия!» Послание было получено.
Последующая работа привела ее к открытию необычайно широкого распространения в цивилизациях всего мира особого набора словесных условностей, призванных зашифровать астрономические наблюдения в рамках мифологии. Она обнаружила, что внимание мифов сосредоточено на феномене, известном под названием «прецессия». Прецессия — это медленное движение оси вращения Земли по круговому конусу, которое вызывает медленное, но неуклонное изменение ориентации Земли среди неподвижных звезд. Это движение весьма напоминает действие гироскопа, который, постоянно вращаясь, начинает через некоторое время смещаться на своей оси. Период полного прецессионного оборота земной оси составляет 26 тысяч лет.
Дабы иметь представление о том, какой прецессия видится невооруженным глазом, вообразите, что некий путешественник взялся во времени фотографировать звезды, восходящие на востоке перед самым восходом солнца во время весеннего равноденствия в Иерусалиме, год за годом, начиная с Рождества Христова и до настоящего времени. Если разложить эти фотографии последовательно друг за другом, то получится картина движения созвездия Рыб, заходящего на востоке, за ним «опускается» созвездие Водолея, которое также смещается на восток, чтобы занять место Рыб. И отмечать весеннее равноденствие (смотри рисунки 1.1а и 1.1b). Итак, «это заря эры Водолея».
Возможно, наиболее важный вклад «Мельницы Гамлета» состоит в объяснении условностей технического языка, посредством которого мифология передает информацию о прецессионном движении. Это три простых правила. Во-первых, животные — это звезды. (Наше слово «зодиак» происходит от греческого слова, означающего «циферблат животных».) Во-вторых, боги — это планеты. И, наконец, топографические упоминания представляют собой метафоры для обозначения местоположения — обычно солнца — на небесной сфере.
Даже сама «земля», как мы убедимся позже, расположена среди звезд между тропиками Рака и Козерога. И многие тысячелетия мифы всего мира, рассказывающие о разрушении этого мира наводнением, огнем, землетрясением и т. п., свидетельствуют вовсе не о незнании геологических процессов, а «излагают» солнечный год на языке «разрушения» (через течение прецессионного времени) старых звезд, отмечавших солнцестояния и равноденствия, а также «создание» нового «мира», параметры которого определяются теперь новыми звездами или «столпами», поддерживающими «землю» во время солнцестояний и равноденствий. Эта «земля», разумеется, опять-таки оказывается «плоской», и дело тут не в невежестве, а в терминологии, в средстве описания идеальной плоскости, эклиптики, «поддерживаемой» четырьмя «столпами». И все «животные» в Ноевом ковчеге, которые пережили «потоп», высадившись на Арарате, «высочайшей горе земли», составляют термин, описывающий особое положение солнца на небесной сфере.
IV
Идеи «Мельницы Гамлета» ошеломили меня. Книга поставила с ног на голову обычное понимание «предыстории». С практической точки зрения определение предыстории как времени «до описанных событий» всегда зиждилось на понятии письменной летописи. Предыстория означает «предзапись». Такое определение исключает возможность любого иного, кроме летописи, способа передачи важной информации из прошлого и тем самым создает впечатление, будто подобная передача не являлась приоритетной для наших предков. «Мельница Гамлета» содержала поразительное утверждение о том, что кажущийся разрыв между историей и предысторией — всего лишь плод современного воображения, отсутствие веры в давно почивших, продукт «неоправданных надежд нашего времени»[1].
Для меня эта книга оказалась своеобразной духовной пищей, вскармливавшей почти забытое со времени моего детства интуитивное восприятие связи между прошлым и настоящим. Более того, я почувствовал себя так, словно рассматривал через стекло на музейных стендах набор инструментов, те болты и гайки, которые «доисторическое» человечество использовало для моделирования важнейшего составного элемента человеческого самосознания и передачи его в чистом виде в далекое будущее. Значение «Мельницы Гамлета» показалось мне поистине революционным:
— Мифология содержит столь же точные астрономические наблюдения, как и датирование радиоуглеродным методом, и тем самым позволяет исследователям сравнивать датированное таким образом содержание мифов с археологическими данными.
— Возможно ли, что мифология призвана показать нам, как пользоваться «аппаратным обеспечением», предоставляемым древними астрономическими памятниками?
— Можно ли и далее употреблять в неверном значении термин «предыстория», если оказывается, что словесная традиция обладала средством передачи не только плодотворных философских идей человеческого рода, но и определенных состояний небес (читай: времени), вдохновлявших эти идеи?
— И как следствие, не напрасно ли пылится невостребованной в библиотеках всего мира совершенно неожиданная история человеческого рода в форме записанных мифов древних и современных «доисторических» (необразованных) людей?
Я просто обязан был понять, верны ли эти идеи.
Занявшись поисками, я был разочарован, хотя и не удивлен, когда узнал, что указанные труды, опубликованные в 1972 (Маршак) и 1969 (Сантильяна) годах, фактически не оказали влияния на ученое сообщество. Это не означает, что они были раскритикованы. Даже такой признанный авторитет, как покойный Мирси Элиад, похвалил обе работы, но что-то в самом характере эпохи не было готово к их восприятию. Так, например, для историков науки по-прежнему остается «истиной», что Гиппарх открыл прецессию около 125 года до н. э., работая с письменными источниками.
В конце 1970-х годов имел место инцидент, свидетельствовавший отчасти о неправильном современном подходе к использованию мифологии и изрядно позабавивший Дехенд: советские власти выразили резкий протест против планировавшейся американской экспедиции на поиски Ноева ковчега на гору Арарат, что в Турции, вблизи от границы с советской Арменией. Полагая, что никто не может быть тупым до такой степени, Советы посчитали, что экспедиция послужит прикрытием для установки поста электронного подслушивания.
Одним из таких электронных подслушивающих постов, сооруженных в семидесятые, был гигантский параболический радиотелескоп шириной более полумили, построенный на склоне горы в Аресибо, Пуэрто-Рико. Сконструированная для мониторинга радиоволн из глубокого космоса, антенна Аресибо использовалась — кроме всего прочего — для сканирования небес с целью поиска признаков разумной жизни.
С современной точки зрения Аресибо дает богатую почву для иронии. Например, предположение, что любой источник передачи, на поиски которого затрачиваются немалые деньги, должен излучать волны извне нашей Солнечной системы. Всякий, кто способен достичь нас таким способом, должен быть «передовым». Разумеется, сами эти мнимые источники должны находиться в далеком прошлом, в тысячах световых лет от нас, но только не в нашем собственном прошлом. Чего доброго, они взывают к нам о помощи. Подобное использование антенны в Аресибо обнаруживает обескураживающее, но редко оспариваемое современное предположение о том, что прошлое некой группы неизвестных нам инопланетян может оказаться для нас полезнее нашего собственного прошлого. В соответствии с такой точкой зрения, Мудрость, этот ангел, плясавший у ног Господа, так никогда и не проявила особого интереса к Земле.
Аресибо, кстати сказать, получило свое название от имени вождя индейского племени, жившего на месте нынешнего города. Те из его народа, кто не умерли от европейских болезней, погибли вместе со своим вождем на каторжных работах, на которые их обрекли испанцы, жаждавшие соединить дорогой места их проживания с остальной частью острова. Никто никогда не спрашивал, и мы никогда не узнаем чего-либо большего об этой группе людей, кроме общего замечания Колумба о том, что люди с этих больших островов были самыми счастливыми, самыми здоровыми, самыми богатыми и самыми щедрыми из всех им встреченных до той поры.
Позже, в 1611 году, Аресибо было присоединено испанским губернатором, назвавшим его Сан-Фелипе-де-Аресибо по имени апостола Филиппа, фигурирующего в «Гностическом Евангелии» из текстов Нэга Хэммэди. До находки этих текстов в 1945 году единственный сохранившийся отрывок этого «Евангелия», найденный у Епифания, содержал инструкции для душ умерших: «Господь открыл мне, что должна говорить душа, возносящаяся на небо, и как она должна отвечать на вопросы всевышних сил». Итак, холмы Аресибо, где радиоантенна ждет послания с какой-то далекой планеты, кишат призраками послания из нашего собственного прошлого, которого нам никогда не получить.
V
Настоящая книга — это история эксперимента, развертывания — если хотите — антенны, сконструированной для перехвата передачи из «предыстории». Я предпочел сфокусировать это сооружение на андской цивилизации по нескольким причинам. Прежде всего, насколько известно, в Андах не существовало письменности ни во времена империи Инков, ни до нее[2]. Андская цивилизация была классической «доисторической» цивилизацией, полагавшейся на традицию устной передачи знаний.
Во-вторых, эти знания сохранялись нетронутыми до сравнительно недавнего времени. Хотя испанцы и считали свою цивилизацию выше, они, тем не менее, проявили немалый интерес ко всем аспектам жизни инков. Первые священники, воины и правители, представлявшие испанскую корону, записали по разным — будь то профессиональным или частным — соображениям информацию о Бронзовом веке империи, сохранявшемся значительную часть XVI века. Эти документы известны под собирательным названием «Испанские хроники» и содержат много мифов.
В-третьих, лично я жаждал узнать, можно ли установить контакт с прошлым с помощью средств, подсказанных «Мельницей Гамлета». Поскольку в этой книге утверждается, что технический язык мифологии можно обнаружить повсеместно в «полосе высокой культуры», Анды определенно представлялись идеальным, хоть и несколько суровым, местом для апробирования этих идей.
Хотя выдвигаемые в настоящей книге идеи относительно андской цивилизации в целом и динамики развития империи Инков в частности не встретишь где-либо еще, они все же не противоречат уже известным фактам. Например, приводимые повсеместно в этой книге астрономические определения основаны не только на собранных мною этно-астрономических данных в Перу и Боливии в конце 1970-х годов, но и на ранних исследованиях Пухера, Уртона и Зуидемы. Данные ниже описания небесных тел теперь общеприняты. Мои находки оказались в основном идентичными открытиям других. Однако настоящая работа отличается от обычной литературы тем предположением, что указанные небесные тела использовались при проведении более широких и глубоких астрономических наблюдений, нежели связанные с годовым сельскохозяйственным и ритуальным календарем — наблюдений, призванных скорее контролировать течение времени на великой шкале прецессии.
Зашифрованные в андской мифологии даты прецессионных событий не оспаривают принятые археологическую хронологию и интерпретацию. Напротив, проникновение в мифы на астрономическом уровне придает дополнительное измерение интерпретации, которое обогащает археологические данные и в то же время подтверждается ими. И все же я считаю, что было бы опрометчиво не предупредить, что весь настрой этой книги отличается коренным образом от нынешнего общего представления об андской позднеинкской цивилизации хотя бы потому, что в ней в самой сути андского социального, интеллектуального, политического и религиозного восприятия выявляется влияние комплексной астрономической космологии, существование которой у всякого народа еще подлежит признанию какой-либо академической дисциплиной.
Многое из написанного мною в настоящей книге отличается такой расстановкой акцентов от общепринятого в научной литературе. Идеи о том, что андская мифология пересказывает значительные прецессионные события (глава 2), или о том, что три мира в андской космологии понимались на одном уровне как местоположения в небесной сфере, соединенные Млечным Путем (глава 3), которые существуют в Андах достаточно давно, оказываются новыми для западных ученых. Точно так же, мысль о том, что андские народы не только имели названия для всех видимых невооруженным глазом планет, но и связывали их с важными божествами (главы 4 и 5), совершенно не соответствует ортодоксальной точке зрения, согласно которой они не дали названий ни одной планете, кроме Венеры.
В главах с 6 по 8 рассказывается о том, как идеи этой неизвестной андской космологии стали одной из движущих сил истории Анд. Через эти главы красной нитью проходит также отсутствующая в научной литературе мысль о том, каким образом андская мифология регистрировала изменения, происходившие одновременно в социальной и небесной сферах, и каким образом их синхронность может быть подтверждена археологическими находками, с одной стороны, и обработанной на компьютере планетарной и археоастрономической информацией — с другой. Этот метод исторической «триангуляции» позволяет точно увидеть, как в течение тысячелетий андские народы стремились обосновать свою социальную действительность определенными небесными сочетаниями.
Главы 9 и 10 повествуют о том, как эта система мышления, уже достаточно древняя к началу XV века, по праву становится отдельной реальностью — основным оправданием и определяющей силой развития империи Инков. Название книги содержит намек на главную миссию, которую инки считали себя обязанными выполнить. По моему мнению, эти открытия, касающиеся тайного предначертания империи Инков, способны привлечь к себе наибольшее внимание, но также и вызвать наибольшую озабоченность. В техническом языке андской мифологии отображены истоки не только величия инков, но и их всесторонней уязвимости, вследствие которой судьба огромной империи оказалась отданной в руки менее двухсот интервентов.
Настоящая книга — это прежде всего исторический труд, она охватывает многие дисциплины, но всегда с точки зрения неразрывного исторического вопроса: «Что произошло?» Из предположений, позволивших в настоящем исследовании напрочь отказаться от общепринятого восприятия «доисторического» андского мира, наиважнейшим является представление о том, что андская мифология была призвана передавать информацию о прошлом в настоящее. Я полагаю, что это предположение вполне оправдало себя, и поэтому пришел к выводу, что наше современное понятие «предыстории» устарело.
Значение этого вывода настолько важно, что им продиктована вся форма написания данной книги. Я описал, каким образом я узнал то, что узнал. Как убедится читатель, весь этот процесс стал возможен потому, что со временем я осознал, что мифы построены таким образом, чтобы дать ответы на ими же поставленные вопросы. Снова и снова я обнаруживал, что кажущиеся нелогичными элементы мифов вставлены специально для постановки новых вопросов. Каждая новая трудность в понимании мифов сверхъестественным образом становится дверью в новое знание. Собственный опыт работы с мифами убеждает меня, что за их составлением стоит некое весьма необычное духовное восприятие, для которого характерно глубокое проникновение в функционирование человеческого мозга.
Жаль будет, если любителю мифов покажется, будто настоящий труд стремится низвести мифологию до уровня одной из отраслей астрономического наблюдения. Нет, это не входит в мои намерения. По моему разумению, на определенном уровне некоторые мифы служат для кодирования сложных астрономических наблюдений. Астрономический уровень мифологии предстает, как мне кажется, в виде нотной гаммы в полифонической партитуре. В следующих главах я попытался показать, как в андской мифологии небесные, общественные, политические, религиозные и духовные элементы сплетаются в обезоруживающе простенькие и очаровательные истории. Тем не менее я был бы неискренен, если бы стал утверждать, будто астрономический смысл играет в андской мифологии решающую роль, хотя небесный «подтекст» и составляет важный элемент всех драматических событий андской истории.
Насколько я могу судить, настоящий труд является первой глубокой монографией, в которой внимание сосредоточено на единственной в Новом Свете цивилизации, подтверждающей существование технического языка мифологии. Нет такого учебника, который подсказал бы, как это следует делать, и читатель вправе отнестись скептически к труду, в котором содержатся такие огульные утверждения, как в настоящей книге. В конце концов почему бы читателю не принять за окончательный вердикт коллективное молчание научного сообщества относительно технического языка мифологии?
На этом вопросе я подробно останавливаюсь в главе 7, в которой попытался описать, как и почему антропология и археология — две науки, занимающиеся главным образом толкованием «предыстории», — по вполне понятным причинам исторически сохраняли свойственное им неприятие представления о широкой распространенности важных идей, если только подобные идеи не считаются «всеобщими» и «возникшими независимо друг от друга». Как станет ясно читателю, технический язык мифологии слишком своеобразен, чтобы его раз за разом изобретали заново. Поэтому, если признать существование технического языка мифологии, тогда следует признать и то, что антропология и археология систематически недооценивали масштабы и значение взаимодействия людей по всей планете на протяжении по крайней мере последних шести тысяч лет.
VI
Написание предлагаемой читателю книги стало настоящим приключением, начавшимся и закончившимся одним и тем же мифом. Из двух его сохранившихся вариантов приведу записанный около 1573 года испанским священником Кристобалем де Молиной:
«В провинции Анкасмарка, что в пяти лигах от Куско, индейцы рассказывали следующую басню.
За месяц до потопа их овцы (ламы) закручинились, днем они ничего не ели, а ночью следили за звездами. В конце — концов пастух поинтересовался, что их беспокоило, и они ответили, что расположение звезд предсказывает гибель мира от воды. Услышав это, пастух посоветовался со своими шестью детьми, и вместе они приняли решение собрать сколько можно пищи и овец и подняться на вершину очень высокой горы под названием Анкасмарка. Они говорят, что по мере подъема уровня воды, гора становилась все выше, и потому потоп так и не смог накрыть ее полностью, а когда вода спала, гора тоже уменьшилась. Таким образом, шесть детей того пастуха вновь заселили тот район. Рассказывают и другие подобные истории, которые я не привожу здесь во избежание многословия. Главный источник подобных басен — это незнание Бога, идолопоклонство и пороки этих людишек. Если бы они умели писать, то не были бы столь тупыми и слепыми».
Свойственная западным людям склонность рассматривать мифологию и устную традицию как поле для произвольного воображения имеет длинную историю.
В ходе своего исследования я снова и снова возвращался к этой истории, каждый раз понимая ее по-новому. Чем больше поднимала она вопросов, тем поразительнее оказывались подсказываемые ею ответы. Я стал осознавать, что Сантильяна и Дехенд написали действительно очень умную книгу, но даже по мере осознания этого я уносился через телескоп в индейскую версию местной истории, которая началась с основ андской земледельческой цивилизации, а завершилась трагическим свершением пророчества, которое вдохновляло формирование Инкской империи даже тогда, когда предрекало ее падение.
Другая, более пространная версия мифа является частью собрания мифов, известных сегодня под названием «Боги и люди Уарочири». Эта хроника была написана испанским священником Франсиско де Авилой, который пожелал собрать на кечуа, родном языке местных жителей, мифы той области, куда он был прислан, чтобы впоследствии использовать эту информацию как разведывательные данные с целью искоренения андской религии. «Боги и люди Уарочири» — это единственный и наиболее полный из всех записанных циклов мифов андских народов. Вот перевод версии о великом потопе в пересказе и записи одного неизвестного местного крестьянина, обученного Авилой транскрибировать кечуа с помощью испанского алфавита:
«В далекие времена этот мир оказался перед угрозой исчезновения. Самец ламы, пасшийся на холме с сочной травой, узнал, что Мать-Море решила выйти из берегов и разлиться, подобно водопаду. Этот самец впал в горькую печаль; он все мычал «ин, ин» и ничего не ел. Хозяин ламы, рассердившись, ударил его кукурузным початком. «Ешь, собака! — крикнул он. — Ведь ты находишься на лучших пастбищах». Тогда лама, заговорив, словно была человеком, поведала пастуху: «Выслушай меня внимательно и хорошенько запомни, что я тебе скажу. Через пять дней здесь будет огромный океан, и весь мир будет затоплен». И пастух встревожился; он поверил ему [ламе]. «Мы уйдем куда-нибудь и спасемся. Позволь нам пойти на гору Вилькакото; там мы, должно быть, спасемся; захватите еды на пять дней», — приказал он [?]. И с этого момента он начал восхождение со своей семьей и с ламой. Когда он находился уже у самой вершины горы Вилькакото, он обнаружил, что там собрались все звери: пума, лиса, гуанако, кондор — все виды животных. Едва добрался человек до вершины, как в реки начала падать вода; и так они сидели на Вилькакото, сгрудившись на крошечном пятачке, на самой вершине, где не достала бы их вода. Но вода все же достигла хвоста лисы и намочила его, отчего и по сей день хвост у лисы черный. А через пять дней вода стала убывать. Высохшая часть начала покрываться растительностью. Море отступало все дальше, а когда оно ушло и положение дел прояснилось, то оказалось, что оно погубило всех людей. Только тот, кто остался в живых на горе, и с ним остальная часть людей [семья?] снова стали размножаться, и благодаря ему род человеческий существует и поныне».
VII
В конце концов ключом, открывшим мне смысл этих и других андских мифов, было одно простое предположение: что в мифологии заложены возможность и намерение поведать
о великих водоворотах времени. Последующие страницы содержат версию об андском прошлом и о появлении европейцев, которая никогда еще не публиковалась. Я полагаю, что эта версия представляет собой значительное приближение к восприятию андским мышлением конкисты Нового Света. И если главы об инках дают трагические и неустоявшиеся выводы, то они, возможно, послужат вполне обоснованным альтернативным взглядом на события в Кахамарке.
Путь к заключительным главам был продолжителен, поскольку являлся не чем иным, как обучением чтению в мифологии всей саги об андских народах в процессе их восхождения от рассеянных групп охотников до обладателей одной из наиболее необходимых Земле экосистем. Чтобы читатель мог не просто проследовать этим путем, но и лучше оценить его масштабы, скажу несколько напутственных слов.
Я пытался последовательно и применительно к контексту употреблять термины «андский» и «инкский». Для обозначения той земледельческой цивилизации, которая, как обнаружили археологические исследования, составляла доминирующий уклад жизни в нагорьях Анд примерно со II столетия до Рождества Христова, не существует иного общего понятия, кроме «андской». Основой этой цивилизации — как подтверждает и миф — было единство в многообразии. При наличии множества племен, языков и обычаев внутри андской эйкумены имелось, как я попытаюсь показать, объединяющее религиозное представление, покоившееся на общем, основанном на астрономии космологическом мировоззрении. Именно к этой цивилизации — а она была цивилизацией в любом смысле данного слова — относится понятие «андская». Инки стали силой в андской жизни лишь после 1400 года. Тем не менее они были, наряду с другими племенами Анд, прямыми наследниками андской традиции. Поэтому, используя в книге время от времени термин «инкский», я подразумеваю под ним характеристики испанских хроник, относящиеся непосредственно к инкам, которые, однако, являются также и характеристиками андской традиции в целом, неотъемлемой частью которой были и инки.
В первых же абзацах главы 2 я попытался дать читателю некоторое представление о времени и о драме истории андской культуры, начиная с современности и идя назад во времени. На основе этих предпосылок можно будет лучше оценить значение и древность мифов о ламе и потопе, которые составляют канву главы. Как мы увидим, «мир», погибший в том потопе, завершился почти на тысячелетие раньше, чем первый инкский император вступил на путь завоеваний. Миф о ламе и потопе описывает небесные события, которые происходили в VII столетии нашей эры.
В развертывании сюжетно-тематической нити данной книги для меня выделяется один момент. Я размышлял, почему во второй версии мифа о великом потопе лама была определена самцом.
Без какой-либо видимой причины я вспомнил, что знал кечуанское слово для обозначения самца альпаки, подвида семейства лам, ценного своей прекрасной шерстью. Это слово — пако. Тогда наступило замешательство, ибо я никогда прежде не замечал, что это слово и слово для обозначения «шамана» — одно и то же. Пако, или самец альпаки, в мифе был шаманом. Когда меня осенила мысль о значении этой догадки; в моей памяти всплыл отрывок из хроник, который подробно описывал поведение андского жреца-астронома:
«Его жизнь была религиозной и полной воздержаний; он никогда не ел мяса, а только травы и коренья, наряду с обычным хлебом из кукурузы. Его дом находился в сельской местности и очень редко в городе; говорил он мало; его платье было обыкновенным, простым, шерстяным, но скромным, до колен… а поверх него очень длинная мантия серого, черного или пурпурного цвета; он не пил вина, но всегда только воду. Проживание в деревне давало ему возможность лучше разглядывать звезды и свободнее размышлять о звездах, которые, согласно представлениям своей религии, он почитал за богов».
Это описание шамана было фактически таким же, как и поведение ла/со/альпаки в мифе: проживание в сельской местности, умеренное употребление в пищу трав и воды, одетый в шерсть и всю ночь вглядывающийся в звезды. От этой находки я испытал незабываемое ощущение, будто удар током. Я вновь обратился к мифу и перечитал его елова, прямую речь андского жреца-астронома, передаваемую беспрерывно через промежуток более чем в 1300 лет: «…лама, заговорив, словно была человеком, поведала пастуху: «Выслушай меня внимательно и хорошенько запомни, что я тебе скажу…»
ЧАСТЬ I
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК АНДСКОЙ МИФОЛОГИИ
ГЛАВА 2
ПОЧЕМУ У ЛИСЫ ХВОСТ ЧЕРНЫЙ
…с вами и другими народами только в последнее время жизнь снова и снова обогащалась литературой и всеми другими атрибутами цивилизации, когда однажды, после обычного течения лет, небесные ливни низвергаются вниз, подобно чуме, оставляющей только невежественных и необразованных среди вас. И тогда вы все начинаете сызнова, подобно детям, не зная ничего из того, что существовало в древние времена здесь или в вашей собственной стране.
I
Днем в разреженном великолепном воздухе нагорья Перу и Боливии звучит песня безутешной печали. От постыдно обрушивающихся, подмытых оврагами террас на бесконечных заброшенных склонах до опустошенных и покрытых солончаками многих квадратных миль плато вокруг озера Титикака, израненная земля горько плачет по своим утраченным земледельцам. Она — пачамама, «наша мать в пространстве-времени». Четыре с половиной из шести миллионов ее детей почили мертвыми за пятьдесят лет конкисты.
Оставшиеся в живых, бывшие солью земли и перенесшие столетия деградации, презрения и страданий, никогда ее не забывали.
Ночью, когда черные псы жмутся друг к другу, чтобы согреться, и видимые утесы языческой истории покрыты забвением, небесный свод сияет вдали в безупречном великолепии как горячее подтверждение существования прошлых и будущих миров. Здесь, на небесном своде, начертаны священные идеи-формы андской цивилизации. Млечный Путь, в других краях кажущийся светлой полосой в ночном небе, здесь сверкает с такой интенсивностью, что его большие кольца или межзвездная бездна видны с ошеломляющей четкостью, чернильно-черными и бездонными. Эти черные пятна называются ламой, кондором, куропаткой (льюту), жабой (анп’ату), змеей, лисой. Мифы рассказывают ночью.
Мифы говорят о прошлом и о скорби более древней, чем испанская конкиста. Инкская империя, этот отчаянный замысел, осуществленный силой оружия, возникла, чтобы положить конец кровопролитию восьми столетий межплеменных войн. Под угрозой находился сам образ жизни, о древнем происхождении которого все еще напоминала мифология, но который зашатался под тяжестью своих собственных достижений.
Некогда дававшее пропитание лишь редким племенам кочевников, охотившимся, а позже разводившим ламу, да группам охотников, начинавшим переход к примитивному земледелию, высокогорье Анд преобразилось примерно за два столетия до Рождества Христова в одной из самых драматических экологических катастроф, когда-либо имевших место. В 1400 году н. э. андские народы, исчислявшиеся теперь миллионами, заполнили пространство и, как полагали инки, время. Некогда хозяева одной из наиболее дефицитных экосистем Земли, андские народы стали теперь ее пленниками.
Историк Джон Мурра отмечал грандиозность андских достижений. Основные зерновые культуры андского земледельческого общества — маис, картофель и хина — произрастали на высоте от десяти до тринадцати тысяч футов. Ниже десяти тысяч футов джунгли покрывают головокружительные восточные склоны Анд, где сквозь каменистые ущелья доносится рев рек. На высоте примерно в шесть тысяч футов, где отвесность Анд переходит в более пологую монтанью, можно расчистить землю для культивирования фруктов и коки. Более четырнадцати тысяч футов, на безлесной пуне, разновидность дюнной травы, называемая икчу, дает корм множеству лам и альпак.
Земледелие в высокогорьях Анд требует объединенных усилий, потому что широкие долины редки, а на холмах, дабы они могли прокормить стабильное население, приходится создавать орошаемые террасы. Чтобы работать в такой окружающей среде, людям требуются шерсть для теплой одежды и время от времени мясо и жир, а также дополнение рациона фруктами и кокой из монтаньи. Кока в умеренных дозах является ценной диетической добавкой для тех, кто занят земледельческим трудом в высокогорье, поскольку она повышает выносливость и способность переносить холод.
Это был классический случай цыпленка и яйца. Чтобы жить исключительно кочевым скотоводством на высокогорной пуне, не было достаточного количества пропитания. Жить охотой и примитивным земледелием в долинах нагорья значило, в лучшем случае, уцелеть. Подсечно-огневой образ жизни в монтаньи без речных ресурсов бассейна Амазонки предполагал уединенную полукочевую жизнь мелкими изолированными группами.
Эти перспективы резко изменились около 200 года до н. э., когда в жизнь Анд ворвался творческий импульс огромной силы. Там начало складываться, и достаточно быстро, то, что Мурра называет «вертикальными архипелагами», то есть соединение пуны, высокогорных пахотных долин и монтаньи в единые взаимозависимые системы, способные дать пропитание крупным общинам. Эти общины, называемые айльюс, владели всей землей в данной долине — от шестнадцати тысяч футов до самой монтаньи. Такие «вертикальные архипелаги», простиравшиеся часто на шестьдесят или более километров сверху донизу, позволяли скапливаться большой массе людей, которые могли предпринимать огромную работу по строительству террас и орошению в Андах.
В этом блестящем синтезе все то, что было непреодолимым препятствием географии Анд — высокие цепи гор, изолированные долины, скудная пахотная земля и суровые разрозненные экосистемы, стало активом, основой новой цивилизации. Топография, порождавшая разделение и дефицит, была преобразована, притом явно по воле человека, в среду естественно определенного обитания, источавшую впредь достаток и бесконфликтность.
Это событие отмечено в андской мифологии как сотворение мира богом-творцом в человеческом облике — Виракочей. Традиция помещает это событие в район озера Титикака, обширного пресноводного озера, которое находится на высоте 12 500 футов над уровнем моря и располагается, словно огромная масса ляпис-лазури, в окрашенном в серые тона пространстве плато. Давным-давно, в самом начале истории, мир был во мгле. Затем в ночной тиши над темными водами озера Титикака Виракоча создал солнце, луну и звезды и повелел им всходить над чернокаменным утесом, выступающим из озера островом, называвшимся Титикакой, а сегодня — Островом Солнца. Затем, согласно мифу, Виракоча создал все племена Анд — каждое с его особыми одеждами, языком, обычаями — и повелел каждому выйти из пещер, ущелий и стволов деревьев к центрам соответствующих каждому племени мест обитания.
В своих разных версиях этот миф составляет хартию андской цивилизации. В нем заложен общественный договор, который поддерживал ее единство. Хотя, как признавалось, племена имели разные языки, обычаи и одежды, каждое из них, тем не менее, было связано с другими как творениями общего бога Виракочи. Каждое племя обладало статуэткой своего родового тотема, или уакои, отмечавшей — как описано в мифе — сотворение Виракочей племенного тотема-первопредка, субъекта, мыслившегося гермафродитом и не человеком. Факт владения племенными землями закреплялся принадлежностью каждой группы к своему особому месту возникновения — пещере, источнику и так далее, называемому пакарина, буквально — «место появления». Пестрое разнообразие племен представлялось, таким образом, берущим начало от основополагающего принципа единства. Вот почему в столь многочисленных версиях мифа Виракоча обращается к народам «с большой добротой, убеждает их поступать по добру и не причинять друг другу зла или ущерба, любить всех и быть ко всему милосердными».
После испанской конкисты иезуитский священник Пабло Хосе де Арриага, повинный в основательном разрушении андской религии, написал наставление для иезуитских миссионеров, названное «Искоренением идолопоклонства». Этот текст внушал ученикам, что их первостепенной задачей по прибытии в селение было заполучить родословную уаку и уничтожить ее. Еще лучше, если бы удалось отыскать, разрушить или стереть с лица земли пакарину.
Археологические исследования лишь недавно подтвердили, что район озера Титикака занимал особое место в развитии андской цивилизации. Быстрому расширению экологического единства по системе «вертикального архипелага», которое началось около 200 года до н. э., предшествовали примерно четыре столетия земледельческих экспериментов в бассейне Титикаки. Начатые не ранее, чем в 600 году до н. э., эти эксперименты по ирригации на широком пространстве плато вокруг озера Титикака создали особую систему поднятых насыпей, недавно обнаруженных на фотографиях со спутников.
В этой системе вода, поступающая из озера, хранилась постоянно в канавах между насыпями. В жаркое время суток засеянные на насыпях зерновые культуры могли испарять воду, а в холодные ночи вода возвращала тепло солнечного дня, предотвращая повреждение растений от холода. В канавах разводилась рыба, обеспечивая питательный белок, а также удобрения для зерновых культур. По оценкам, между 200 годом до н. э. и 600 годом н. э. под такой формой земледелия было занято порядка трех сотен квадратных миль земли. Сегодня этот метод сельского хозяйства внедряется заново, потому что он дает более высокие урожаи, чем земли с химическими удобрениями.
Этот общинный труд сочетался с тем, что называется тиауанакской цивилизацией. Город Тиауанако, достигший своего политического и архитектурного величия около 600 года н. э., является священным центром Анд. Пребывающий ныне в руинах, он для Южной Америки означает то же, что Теотиуакан для Мексики или Стоунхендж для Англии: легендарное место, талисман, пробный камень. Именно здесь, согласно мифу, был создан мир, в смысле заложенных Виракочей принципов интегрирования андской земледельческой цивилизации. Руины находятся приблизительно в двенадцати милях от берегов озера Титикака, виднеющегося на северо-западном горизонте. Обращенные к восходу солнца, они являются самым знаменитым археологическим памятником в Южной Америке, Воротами Солнца, над которыми высечено изображение Виракочи.
В период наивысшего расцвета культурное влияние Тиауанако простиралось далеко на север, в глубь центральных Анд и за их пределы. Мифы людей Уарочири в центральных Андах, от которых исходит один из мифов о ламах, подтверждают, что в «самые незапамятные времена» именно Виракоча пришел и показал людям, как создавать земельные террасы и строить ирригационную систему. Но в VII столетии н. э., с возвышением военизированного государства Уари в центральных Андах, близ современного Аякучо, впервые в андскую жизнь вошла организованная война. В 1000 году н. э. Тиауанако будет заброшен, поскольку долгая мрачная эпоха опустилась на андское крестьянство. Инки не понимали (если то не было политической уловкой) значения этого наследия, когда переработали миф о сотворении Анд, чтобы включить свое собственное особое порождение Виракочей у Титикаки, и построили изысканное место поклонения на Острове Солнца.
В течение всех этих столетий наставления Виракочи оставались необходимым культурным инструментом для совладания со сложной физической средой Анд. До сих пор не подвластный времени сохраняется у андского крестьянства фундаментальный религиозный принцип земледельческого общества Анд, которому учил Виракоча. Это принцип взаимодействия — взаимодействия между человеком и силами природы, взаимодействия между жизнью и смертью и взаимодействия между самими людьми. И со времен Виракочи около 200 года до н. э. основной темой андской истории оставались почти что сверхчеловеческие усилия крестьянства по сохранению этого принципа в действии, несмотря на следовавшие друг за другом сокрушительные удары судьбы. Невзирая на войны, пришедшие в VII столетии, невзирая на отход Тиауанако около 1000 года н. э. от духовной основы Анд и раздробление андского народа на несколько воюющих племен, невзирая на завоевания сначала инков, а потом испанцев и на современную эксплуатацию и пренебрежение, аборигены Анд настраивали свою коллективную душу на этот древний лад. Взаимодействие, а не ненависть, была и остается аккуратно уплачиваемой ценой за выживание культуры.
Я не знаю более отчетливого выражения неукротимого достоинства, все еще живущего в душах аборигенов Анд, чем то, которое в 1953 году проявил в Пукио старик, проведший всю свою жизнь в жестоких тисках системы испанской асьенды в качестве крепостного на земле его собственных предков:
«Мы [аборигены/ желаем только того, чтобы правительство распорядилось о раздельном проживании мистис [европейцев] и индейцев и чтобы мы не обращались друг к другу за помощью. Тогда бы стало понятно, кто более ценен здесь, в Пукио. Мы, поскольку бедны, способны жить честно; они же пришли бы к нам за помощью; потому что они не знают, как возделывать землю, ни как ее орошать, ни как собирать урожай, ни как ухаживать за скотом. Ничего. Они ничего не умеют, кроме как садиться на лошадь и отдавать распоряжения. Они бы умерли с голоду, если бы должны были жить отдельно…»
II
Миф обретает свою силу из-за ограниченности человеческой памяти, ибо в устных каналах передачи нет места краснобайству. В нем пространство ограничено той информацией, от надежности передачи которой зависит будущее благополучие еще не родившихся поколений. Миф важен по определению. Эта глава есть история о том, почему хвост у Лисы черный. Потоп, настигший бедную Лису на горной вершине, действительно имел место, и что хвост у Лисы вымочился, было реальным историческим фактом. В самом деле, можно четко понять, почему хвост у Лисы черный, почему это событие было важным и какой именно мир был разрушен потопом. Возможно, причина в том, что создатели мифа оперировали определенным средством передачи, техническим языком мифологии. Подобные этому события из андского прошлого доступны настоящему, потому что составители андских мифов так того пожелали.
Чтобы понять, как оперирует астрономический уровень андской мифологии, необходимо кое-что знать о его. великой всеобъемлющей схеме, традиции пяти Мировых Веков, достигающей высшей точки в Пятом Веке, как это односторонне было объявлено инками[3].
Один из хронистов, размышлявших над пятью Мировыми Веками, был Фелипе Гуаман Пома Аяла («Гуаман Пома» означает «Хищная Пума»), местный дворянин из Уаманги, близ современного Аякучо, в северо-западной части Империи. Его работа (1584), величавшаяся «Письмом королю», была попыткой побудить короля Испании Филиппа II смягчить управление в Перу, показав, что его народ живет по более христианским-принципам, чем христиане.
Согласно Гуаману Поме, люди Первого Века жили в пещерах, боролись с дикими зверями и «блуждали затерянными в неведомой земле, ведя кочевой образ жизни». Люди Второго Века ютились в грубых круглых строениях, одевались в шкуры зверей, нарушили «девственность земли» и жили оседлыми поселениями. Люди Третьего Века размножились «подобно морскому песку», умели ткать, возводили строения, подобные тем, что строят сегодня, имели обычаи вступать в брак, жили земледелием, знали систему мер и весов, обладали общей традицией происхождения и проживали сообща в гармонии. В первые три Века война была им неведома. Четвертый Век, «аука пача руна», или «Век Воинов», начался с «внутренних конфликтов», которые быстро разрослись, придав характерный этому веку тип домов, крепостей на холмах. Воины оставили пашню и семью в прошлом; были разрушены мосты и введены человеческие жертвоприношения. Пятый Век был веком Инков. Вообще-то говоря, описание Гуаманом Помой Пяти Веков удивительным образом совпадает с археологическими находками, относящимися к последовательной смене и характеру культурных изменений в Андах.
Вторым источником, свидетельствующим о традиции Пяти Миров, был хронист Мартин де Муруа, испанский священник, чьи сочувствие аборигенам Анд и любознательность по отношению к их миру открыли ему не каждому доступную информацию.
«…начиная с сотворения мира и до сей поры сменили друг друга четыре солнца, не считая того, что светит нам сегодня. Первое погибло от воды, второе — от падения неба на земле… третье солнце, как они говорят, было погублено огнем. Четвертое — воздухом: нынешнее пятое солнце' они весьма почитают… и изобразили и символизировали его в храме Куриканча [Инкском храме Солнца в Куско] и запечатлели в своих кипу [завязанные узлами шнуры, используемые для счета и хранения записи] до 1554 года[4]».
Использование термина «солнце» как хронометрического эквивалента «мира-века» было общей для инков и ацтеков практикой, и нет необходимости подробно останавливаться на особых причинах для такого словоупотребления. Местным термином для «мира-века», используемым повсюду в Андах, было слово пача, как в примере с употреблением Гуаманом Помой аука пача руна в значении Века Воинов. Другой хронист, Хуан Сантакрус Пачакути Ямки Салькамайгуа, местный дворянин из района озера Титикака, упоминал эту же эру войны до прихода инков под названиями пурунпанча, калькпанча и татаякпанча в значениях «века варварства», «века нарушения границ» или «мрачного века».
Точное значение слова пача имеет решающее значение для понимания андской мифологической мысли. В век, подобный нашему времени, когда принято уплотнять данные, разбирать звуковые байты, обрабатывать слова и извергать информацию, мы бы, вероятно, резюмировали повествования мифа о Мировых Веках (чтобы упростить их усвоение) как истории «бедствий» и «катаклизма», ни на минуту не задерживаясь на употребляемых словах или не рассматривая, какое значение они могли бы передавать. Мы, например, не замечаем, что эти слова идут от возможных бедствий из нашего собственного мифологического наследия и что их жизнь все еще пульсирует у нас на кончике языка: «бедствие» («dis-aster») — это буквально «разделение звезд», а «катаклизм» от греческого kataklysmos означает «потоп». Поскольку в андской мифологии существовали такие же термины, которые вошли и в западные языки, то для верной передачи информации стоит быть точным в отношении их значения.
Испанские захватчики понимали слово пача в значении «мир» (mundo) или «земля» (tierra). Наиболее поверхностное описание понимания слова мир показывает, что этот термин имеет расплывчатое значение. В «Американском словаре Херитидж» английское слово мир обладает шестнадцатью разными определениями. Оно может означать планету Земля; Вселенную; определенную естественную среду, такую как «мир моря»; исторический период, вроде «Елизаветинского мира»; особую сферу, такой как «мир литературы»; средства к существованию, типа «мир бокса»; человечество в целом, как, в «мировом мнении»; и так далее. Важно поэтому отметить, что в авторитетном словаре кечуа Гонсалеса Ольгина (1608) имеется только одна запись для слова пача: «йетро suelo lugar», или «время земля место».
В то время как в западной мысли смысл слова мир передавался столь эластично, что мог означать некую «разновидность», приобретающую значение только посредством ближайшего прилагательного, кечуанское слово пача означает одну, и только одну, вещь: одновременно место и время. Если я сообщаю вам, что встречусь с вами в той же самой пача завтра, то уже из контекста нашего диалога вытекает, говорим ли мы о том же самом месте, том же самом времени или о том и другом сразу. В андском мышлении «это место» сегодня не есть то же самое «место» завтра. Пространство определяется временем, а особенности пространства составляют основу, из которой возникает время.
В английском языке мало слов, обращающихся непосредственно к тому объему человеческого опыта, называемому бытием, который можно определить как просто то, что можно ассимилировать и вынести. «Мир», в котором живем мы, современные люди, является калейдоскопичным, фрагментированным, продуктом изменчивых состояний. Мы принимаем факты, как они происходят, культивируем качество экзистенциального щегольства перед лицом будущих потрясений. Мы думаем о современной жизни так или иначе как об остром лезвии пока еще не состоявшегося будущего и живем соответствующей жизнью: в забытьи, в отчаянии, в раздражении, блуждающим огоньком.
Напротив, кечуанское слово «мир» — пача — в силу чисто лингвистических правил требует, чтобы его жители вели себя, не уклоняясь от груза истории. Поступать иначе — значит хвататься за призрачную эластичность пространства-времени, отказываться от идентичности, забывать прошлое и не оправдывать страданий и трудов тех, которые ушли прежде. Не случайно детям кечуа с четырех- или пятилетнего возраста всякий раз, когда они отправляются из дому, дают нести ношу — узелок с провизией или несколькими вещами. Эта физическая ноша, которую эти дети обязаны взваливать на плечо, предвещает более тяжкий груз культуры, какой они однажды понесут. И так как эта культурная «поклажа» в целом — язык, одежда, обычаи, мифы — есть основное средство достижения будущего в течение жизни, то каждый истинный человек несет это бремя с гордостью. Местным названием для языка кечуа является руна сими, «язык людей».
Чтобы понять слово пача, надо, следовательно, понять вечный груз непостоянства, мифическую размерность всего настоящего, крайнюю мучительность жизни, боль утраты и цену стойкости. Кечуанский термин пача, понимаемый нами в своем мифическом смысле «мира-века», является неизменной основой андской мифологии и культуры. Тем самым андская культура содержит в себе не что иное, как способность ощущения того, что она служит организующей сферой для памяти. Миф сначала ощущается, а затем уже понимается.
Точками притяжения, вокруг которых сосредоточены андские мифы, являются события, называемые пачакути. Глагол кутий означает «опрокидывать» или «низвергать». Пачакути — это название, данное тысячелетнему периоду, в течение которого погибает один «мир» и начинается следующий. Оно означает буквально «опрокидывание пространства-времени»[5]. Во времена испанской конкисты существовали особые термины для разных способов разрушения: лъок-лауну пачакути, или «опрокидывание пространства-времени наводнением», нина пачакути — то же самое огнем и так далее. Эта терминология ставит понятие пачакути непосредственно в рамки различных миров-веков, описанных выше Муруа и включающих последовательные «разрушения» «пространственно-временного мира». (И если читатель начинает испытывать шок от этого признания, задаваясь вопросом, так ли уж отличается пачакути от других традиций, в которых «миры» разрушаются и создаются новые — как, например, в Потопе Девкалиона или древнескандинавском Закате Богов, то, быть может, так же интересно обратить внимание на то, что каждое такое сходство обычно объясняется как некое всеобщее творение разума примитивного человека, встречающееся то здесь, то там во всем мире.)
Андские источники проясняют, что пачакути были крайне редкими событиями, потому что сами Века продолжались в течение весьма длительного периода. Гуаман Пома, например, назначает Векам такие числовые значения, из которых самый короткий период составляет восемь сотен лет, а самый длинный — намного более тысячи. Пачакути Ямки упоминает, что «огромное число лет прошло» («muchissimos amos passaron») в течение века войны. И теперь в обращении к мифам о ламах и потопе и в исследовании вопроса о лисьем хвосте мы подходим к мифическому описанию того потопа, который разрушил весь мир.
Авторитет современной учености внушает веру в то, что терминология мифов о периодических созданиях и разрушениях «мира в пространстве-времени», будь то греческой, скандинавской или местной американской традиций, представляет собою что-то вроде смутного «мифопоэтического» видения прошлого, созданного первобытным воображением взамен летописей. Идея о том, что язык и вся структура таких рассказов сами являют собою летопись, никак не вмещается в современное воображение. Хотя, согласно преобладающему представлению, такая мифическая терминология не имеет ничего общего с астрономией, а тем более с историей, здравый рассудок подсказывает иное.
Оба андских мифа, пересказанных в главе 1, описывают льоклауну пачакути, «низвержение пространства-времени наводнением», то есть событие, знаменующее окончание длинного, длинного века и начало следующего. В вопросах хронометрии человечество — как в случае с пако — всегда обращало свой пристальный взгляд к небесам, откуда приходят все измерения времени.
III
Эти мифы отдавали свою информацию отнюдь не легко. После двух лет работы в магистратуре, включая этноастрономическое полевое исследование в Перу и Боливии, написания магистерской диссертации на тему «Кечуанские названия звезд» и восемнадцати дополнительных месяцев исследования, я достиг не очень-то многого. Фактически я увяз. Я не мог понять эти мифы. Но я также не мог обойти их. Они стали для меня лакмусовым тестом, барьером, источником разочарования и надежды, ибо, если какие-либо мифы из доколумбовых Анд проясняли, что развивалась астрономия, так это были именно эти мифы.
Взять, например, слова информанта в версии Молины: «Наконец заботившийся о них [ламах] пастух спросил, что их беспокоило, и они сказали, что сочетание звезд указывало на то, что мир будет разрушен водой». Сам этот миф устанавливает связь между пространством и временем, увязывая неизбежное льоклауну пачакути, то есть уничтожающий мир потоп, с «сочетанием звезд». Молина, конечно, был свободен от тенденциозного изложения («Если б они умели пользоваться письменностью, то не были бы столь глупы и слепы»), но этот любопытный отрывок, понимаемый как продукт каких угодно, только не глупых умов, показался мне лишь наиболее очевидным из ряда элементов в обеих версиях, которые весь вопрос о неизбежном пачакути относят непосредственно к андским небесам.
По версии Авилы, лама «знала, что море [на кечуа ма-макоча, означающая «мать-море»] решило выйти из берегов, обрушиться подобно водопаду». Находились такие, кто утверждал, что рассказчик был «глуп и слеп», тогда можно было спокойно допустить, что расположение упомянутого моря на небе служило хорошим свидетельством его глупости. Однако, чтобы понять смысл данного утверждения, вовсе не нужно отменять закон гравитации. В гимнах Виракоче, записанных Пачакути Ямки, встречается термин ананкона, буквально — «море сверху»[6], в прямом отношении к звездным небесам[7]. Что бы еще ни означал данный миф, источники надвигавшегося потопа находились где-то снаружи, в астрономической сфере. Но это было все, чего я достиг, пока меня не осенил замечательный вопрос.
Вопрос казался довольно наивным и едва ли убедительным: почему эти истории сообщались с точки зрения ламы? В действительности это был языковой прием — игра между образным и буквальным значениями «точки зрения» данной фразы, открывшая мир, исследовать который стремится настоящая книга. Задавая этот вопрос, я намеревался просто выяснить, почему именно этим животным, этим ламам была отдана роль наблюдателя будущего. Почему их точка зрения была столь важна?
Читателю может показаться невероятным, что целых полтора года я изо всех сил старался понять астрономию этих мифов и что, несмотря на то, что тремя годами ранее во время полевых исследований в Боливии я впервые увидел «небесную Ламу», огромное и красивое облако межзвездной пыли, черное на фоне отблеска Млечного Пути, мне никогда не приходило в голову, что ламы в мифах могли относиться к ламе в небе. Потребовалось полтора года, чтобы мой разум осенила мысль о том, что все животные в мифах могли быть небесными объектами, определение которых. я уже знал. Все, что мне было нужно, — это обдумать «точку зрения» лам.
Этот — опыт вызвал во мне специфическую смесь чувств: восторг от того, что мое исследование могло быть в конечном счете принято где-нибудь; скептицизм, подлинное замешательство от того, что, хотя Сантильяна и Дехенд упоминали, что «звезды являются животными», я оставался слеп к «очевидному» в течение столь длительного времени; боязнь общения с другим временем и местом; и весьма четкое осознание, что до этого момента я не вполне был уверен в том, что то, на что я надеялся, действительно существовало.
Теперь же мифы сами себя четко «перестраивали в созвездия». Своим мысленным взором я увидел картину: одинокий воображаемый образ небесной Ламы на западе, «наблюдающей» некий объект, восходящий на востоке. Это была картина с «точки зрения» ламы, и вместе с нею я познал не меньшую взаимосвязь, чем переживание отдельных догадок за время нескольких ударов сердца. Взятые вместе, эти догадки создавали связную и проверяемую интерпретацию мифов, которая так долго оказывалась неуловимой.
Сначала пришла «очевидная» связь между ламой в мифе и Ламой небесной. Миф описывал очертания ночного неба. Идентичность небесной Ламы хорошо установлена как в современной, так и в литературе периода конкисты. «Черное облако» небесной Ламы простирается от звезды ипсилон Скорпиона, в «хвостовой части» западного созвездия Скорпиона, к югу до звезд альфа и бета западного созвездия Кентавра (рисунок 2.1). Эти две звезды первой величины, называемые в западной астрономии альфа Центавра и Hadar, известны в Андах как льямак нъявин, «глаза ламы». Во времена конкисты аборигены Уарочири описывали Авиле этот великолепный объект:
«Они говорят, что Якана, как мы ее называем, подобна тени ламы, двойнику этого животного, который спускается с середины неба, так как это была тьма на небе. Именно так мы, люди, видим ее шагающую, да, темную. Они говорят, что эта Якана (когда она достигает земли), идет ниже рек. Она в самом деле очень велика; она движется, темнее ночного неба; она проходит со своей длинной шеей и двумя глазами».
Гарсиласо де ла Вега так же зафиксировал:
«На млечном пути астрономов, на некоторых темных пятнах, которые покрывают часть его, они воображали себе форму овцы [ламы] со всем ее телом, кормящей ягненка».
«Лама-детеныш» — это малое черное облако позади его матери (рисунок 2.1).
Вторая догадка, скрытая в мысленном образе небесной Ламы, располагающейся на западе и смотрящей на восток, была в том, что миф, вероятно, описывал некий объект, восходивший в то же время на востоке незадолго до рассвета. Я понял, что в этом образе была правильность. Это ощущение правильности основывалось на понимании значения того, что в андской астрономии известно как явление «гелиакического восхода».
В большинстве широт, включая южные Анды, есть звезды, которые из-за слишком близкого расположения к солнцу (если смотреть с земли) в определенное время года не видны по ночам. После «прояснения» области солнечного сияния каждая такая звезда впервые снова появляется на короткое время перед восходом солнца, как раз тогда, когда нарастающее с рассветом освещение затмевает ее видимость. Каждым последующим утром такая звезда восходит все раньше и задерживается в предутренних небесах все дольше. Первый день Нового появления такой звезды называется датой ее «гелиакического восхода».
Применение методики гелиакического восхода — это мощный инструмент в настройке солнечного календаря. Например, определить день солнцестояния одним лишь наблюдением за движением солнца весьма непросто. Слово солнцестояние означает буквально «солнце стоит», и как раз в этом проблема для наблюдающего невооруженным глазом — солнце именно стоит там. Например, во время июньского солнцестояния, когда солнце восходит севернее, а не прямо на востоке, где оно будет всходить весь год, имеется «окно» из нескольких дней по обе стороны от этого явления, когда движение солнца в точке его восхода на горизонте трудно обнаружить. Таким образом, если наблюдатель, отвечающий за соблюдение календаря, в течение ряда лет был в состоянии установить, что определенная звезда восходит вместе с солнцем, скажем, четыре дня перед июньским солнцестоянием, то он освободил бы себя от значительных хлопот, установив достоверный исходный пункт[8].
Так вот, несколько причудливых примеров назначений, которые придавались связанным с восходом солнца наблюдениям в древнем Перу, дает так называемая система секе в имперском Куско. Несмотря на свою сложность, этот пример показывает значение для андских астрономов не только явлений восхода солнца вообще, но также, в частности, Плеяд, группы звезд, которые из-за своей невидимости играют ключевую роль в мифах о ламе и потопе.
От покрытого золотом эпицентра Инкской империи, храма Солнца в Куско, исходила система из сорока — сорока двух воображаемых линий во всех направлениях к горизонту. Эти линии, называвшиеся секе и означавшие «лучи», функционировали, помимо других назначений, в качестве календаря. Каждая секе, как мыслилось, шла над холмами и долинами строго по прямой к горизонту и по пути проходила через или вблизи ряда святынь. Таких святынь — называемых уаками, каждая из которых, будь то естественная или искусственная, была связана с инкскими знаниями и религией, — приходилось в среднем от семи до девяти на каждую секе и в целом насчитывалось 328. Зуидема и Уртон отмечали, что, согласно испанским хроникам, каждая уака в системе секе распределялась на свои собственные дни в особом соотношении, объясняя 328 из 365 дней в году. Что же касается «пропуска» тридцати семи дней, то Зуидема и Уртон убедительно доказывают, что они рассматривались как тридцать семь дней неразличимости Плеяд (вследствие их близости к солнцу) на широте Куско.
Так что идея о том, что миф рассказывал о гелиакическом восходе некоего объекта, «увиденного» небесной Ламой, расположенной на западе, фактически одновременно вызвала третью догадку. Я как раз читал о такой практике наблюдений, которая распространена в настоящее время среди крестьян, говорящих на кечуа. Этот решающий ключ в разгадывании смысла мифов о ламе/потопе исходил от обращения к современному кечуанскому наблюдению Плеяд, записанному в ходе полевых исследований вблизи Аякучо в центральных Андах Джоном Эрлзом. Эрлз заметил, что в июне местные жители идут в горы перед рассветом, чтобы наблюдать восход Плеяд и одновременный закат созвездия, известного в этих местах как cruz calvario, Крест Голгофы.
Cruz calvario — это большой, изящный, совершенно прямолинейный крест из звезд, последняя из которых, ипсилон Скорпиона, находится позади небесной Ламы и около сосущего вымя ее детеныша, маленького темного облака, упомянутого выше Гарсиласо[9] (рисунки 2.2 и 2.3.).
Несколько разъяснительных пунктов покажут, что явление, записанное Эрлзом, является тем же, что и описанное в мифах о ламе и потопе. Прежде всего читатель вполне может задаться вопросом, что делает в кечуанских небесах созвездие, называемое Крестом Голгофы. Непреклонная решимость испанских миссионеров уничтожить местные религиозные убеждения вскоре привела их к пониманию, что процесс того, что можно бы назвать «партизанским синкретизмом», в действительности продолжался у них перед носом. Поскольку эти церковники назначали серьезные наказания, вплоть до смертной казни, для нераскаявшихся приверженцев старой веры, андские народы быстро научились притворному благочестию, продолжая по возможности то, что они делали прежде.
Один такой пример произошел в Канун Дня Всех Святых (Хэллоуина). Во времена инков считалось, что предки ежегодно возвращались на землю, и это празднество отмечалось в декабрьское солнцестояние. По обычаю надо было принести еду и спиртной напиток, поддерживая таким образом соответствующее отношение с предками. Крестьянство, признававшее языческие корни христианского обычая, принялось умилостивлять предков в день, предназначенный предкам по христианскому литургическому календарю. В Мексике и Перу аборигены приносят корзинку с провизией на кладбище в Канун Всех Святых, ожидая рассвета и возвращения усопших. Арриага запретил эту традицию и уверовал в то, что он мог усилить запрет, принудив крестьян хоронить своих мертвых на том кладбище, где он мог бы наблюдать за ними.
Крест Голгофы — это другой пример партизанского синкретизма кечуа, потому что самая яркая звезда в его крестовине, ипсилон Скорпиона, обозначает именно ту космологически важную точку на небесах, которую занимает Лама со своим детенышем. Cruz calvario и небесная Лама взаимопроникают друг в друга. Это то положение с точки зрения западной астрономии, которое отмечает пересечение эклиптики, то есть видимый ежегодный путь солнца через те звезды, которые мы называем Зодиаком, и Млечного Пути. Это положение по вере аборигенов Анд отмечало пересечение земли живых и земли мертвых, «мост», через который мертвые ежегодно возвращались на землю. Изобретая созвездие cruz calvario, крестьяне достигали двух вещей. Во-первых, они идентифицировали космологически важное небесное положение с христианским термином, который с наибольшей вероятностью напоминал их собственное значение. Крест Голгофы символизирует идею смерти и воскрешения. Во-вторых, используя христианский термин, они надеялись сохранить жизнь туземным понятиям (а также себе самим) посредством видимости христианского благочестия.
Понимание этой системы партизанского синкретизма, характерного для андской мысли начиная с конкисты, подсказало, следовательно, что здесь, в информации Эрлза, заложена современная репродукция наблюдения, закодированного в мифах о ламе/потопе. Иными словами, мифы рассказывали о гелиакическом восходе Плеяд, «увиденном» в тот момент Ламой, расположенной на западе.
Это открытие вызвало четвертую догадку. Так как мне никогда не приходило в голову искать Плеяды в мифах, я никогда и не находил их. В тот момент, когда я сообразил, что они могли быть там, они сразу же обнаружили себя закодированными в названии горы в версии Авилы — «Вилькакото».
Слово вилька происходит из языка аймара и означает «солнце». Слово кото встречается как в кечуа, так и в аймара и означает «куча». В буквальном переводе вилькакото означает «солнечная куча», и именно так я думал о нем до сих пор. Слово кото, однако, имеет и второе значение, вполне установленное в этнографической литературе: Плеяды[10]. Такое употребление слова для «кучи» по отношению к Плеядам должно служить использованию Плеяд в предсказании времен сева и жатвы. Плеяды уподобляются малой куче семян, необходимой для сева[11]. Наблюдение относительной прозрачности в звездах западного или восточного края восходящих Плеяд определяет выбор времени для сева.
После стольких лет затруднений я увидел открытую дверь. Вилькакото — «Гора Солнечных Плеяд» — относилось не просто к Плеядам, а к Плеядам по отношению к солнцу, как четкое обозначение гелиакического восхода Плеяд, который есть надежда увидеть однажды ночью — если, конечно, андская мифология имела какое-либо отношение к астрономии. Либо отношение между беспокойными ламами, всматривавшимися в небеса над Горой Вилькакото, не предполагало никакого особого сообщения, либо передо мной был миф из доколумбовой традиции, описывающий с поразительной точностью и почти бесцеремонной легкостью одновременный гелиакический восход Плеяд и гелиакический закат небесной Ламы.
И если действительно было правдой, что мифы создавались для описания, помимо прочих вещей, ночных небес, тогда мифотворцы оставили также дату своих попыток. Мифы, как я теперь понял, содержали в себе обращение к эпохе своего сотворения.
IV
Так же, как сегодня люди в сельской Новой Англии полагаются на приметы, современные крестьяне кечуа обсуждают прозрачность Плеяд и подходящее время для сева.
Такова вечная практика. Но эти андские мифы о надвигающемся потопе говорят не об обычных временах. Шаманы напряжены. Мир на краю гибели. События нарастают.
Я понял, что, так как звезды медленно смещаются в восточном направлении по отношению к солнечному году в результате прецессионного влияния оси Земли, можно датировать временные рамки этих мифов, если попытаться установить точку восхода солнца. Иными словами, Плеяды всходили и всегда будут всходить гелиакически в определенный день года. Но если миф указывал, в какой день солнечного года Плеяды наблюдались восходящими гелиакически, тогда можно было выяснить, когда был сотворен миф.
Теперь я понял, что мифы явственно содержали эту информацию. Согласно гипотезе Сантильяны и Дехенд, астрономическая функция топографических обозначений в мифе состоит в том, чтобы представить по аналогии положение солнца в небесной сфере. Их предположение о том, что животные в мифе относятся к звездам, доказало свою достоверность. Из их работы я также узнал, что поиск буквального значения определенных слов — таких как вилькакото — мог бы дать важные результаты. Что же можно получить, обращая внимание на топографические сведения, а именно «очень высокую гору», упоминавшуюся в каждой истории?
Образ высокой горы как в андской, так и в месоамериканской традиции связан с июньским солнцестоянием. Каждый год в июньское солнцестояние в период царствования инков, согласно описанию Уртона, инкские жрецы поднимались вверх по Вилькамайу, буквально «река Солнца», к ее истокам у подножия высокой горы Вильканота — «место Солнца». Инки считали Вильканоту «высочайшей горой в мире»[12].
Ассоциация июньского солнцестояния с «высочайшей горой в мире» подсказывает, что в андском представлении самое северное положение солнца среди звезд — июньское солнцестояние — приравнивалось к расположению на вершине величайшей горы в мире. Работа Джоанны Броды выявляет точно такой же образ мышления в Мексике.
Известная космологическая диаграмма (нарисованная около 1613 года) местного дворянина Пачакути Ямки указывает, хотя и по-другому, на связь между горой и июньским солнцестоянием (рисунок 2.4). Здесь андский космос мыслится разделенным на мужские и женские компоненты. Левая сторона связана с мужчинами, солнцем, днем и засушливым сезоном; правая — с женщинами, ночью, луной и сезоном дождей. Разгар засушливого сезона в Андах приходится на июньское солнцестояние, и на той стороне диаграммы показан рисунок высокой горы. Расположенный напротив нее родник или озеро изображен на противоположной стороне в разгар дождливого сезона, который имеет место во время декабрьского солнцестояния.
Кроме того, название горы в изложении мифа Молиной, Анкасмарка, повторяет это же самое рассуждение в архитектурной метафоре. Кечуанское слово марка означает «самую высокую часть здания, возвышающуюся под самой крышей», а анкас означает «лазурный»[13]. Гуаман Пома в описании Мировых веков сделал рисунки, показывающие особый тип здания для каждого века (рисунок 2.5), а диаграмма Пачакути Ямки изображает весь «мир» «размещенным» внутри строения с покатой крышей (рисунок 2.4). Далее, термин анкас, «лазурный», резонирует с диаграммой Пачакути Ямки, которая концептуально ставит безоблачный засушливый сезон рядом с июньским солнцестоянием, с солнцем и днем, в противоположность дождю, луне и ночи.
Другое космологически значимое употребление слова анкас встречается в названии Анкасмайу, буквально «лазурная река», данное инками реке, отмечающей северную границу империи. Любопытно, что «север» в андском понимании считается «выше» «юга», как показывает, например, деление Куско на верхнюю (анан) и низшую (урин) половины, при котором «Верхнее Куско» находится к северу от восточно-западной линии, а «Низшее Куско» — к югу. Стало быть, термин Анкасмарка, помимо его функции как названия «очень высокой» горы», означает буквально «самая высокая часть лазурного здания», предполагающую самое северное положение солнца (доминирующего светила синего неба) в северном тропике во время июньского солнцестояния.
Таким образом, посредством как топографического образа высокой горы, так и архитектурного образа, заложенного в ее названии, мифы поставили необходимость определить точку восхода солнца во времени — опять же, если они имели какое-либо отношение к астрономии. Упомянутый «потоп» произошел у «высочайшей горы в мире», то есть в июньское солнцестояние.
Следующее и столь же важное, что проясняют оба мифа, — это то, что гелиакический восход Плеяд является не наводнением, а его предвестником, потому что в обеих версиях ламы, наблюдающие восход Плеяд, предсказывают потоп через несколько дней. В изложении Молины это предсказание было сделано «за месяц до потопа». (Для рассмотрения значения рисунка «пятидневного» промежутка перед Потопом, упомянутого в версии Авилы, смотри примечание[14].) Кечуанское слово и для месяца, и для луны, килья, обозначает фазовый месяц, так называемый синодский месяц, период времени от полнолуния до полнолуния, то есть месяц из двадцати девяти или тридцати дней[15].
Следовательно, если взглянуть на миф так, как если бы он намеренно передавал сложное астрономическое наблюдение, то надо было бы объяснять версию Молины как следующее определенное утверждение: в тот период, когда Плеяды всходили гелиакически («Вилькакото») за месяц до июньского солнцестояния («гора»), в солнцестояние произошло некое прецессионное событие («потоп»), космологически достаточно важное, чтобы заслужить обозначение уну пачакути, буквально «пространство-время опрокидывается наводнением». По крайней мере, теперь имеется проверяемая гипотеза. Миф нес в себе всю информация, необходимую либо для подтверждения, либо для опровержения моих подозрений.
V
Мне был необходим доступ в планетарий. Компьютеров и астрономического программного обеспечения до 1982 года у меня не было. Кроме того, я хотел «увидеть» этот миф на широком полотне вместе с опытными современными сотрудниками обсерватории. Здесь мне повезло. Не зная меня вообще или что-либо о моей работе, за исключением самого краткого из описаний, профессор Оуэн Джинджерич из Гарвардской астрофизической обсерватории им. Смитсона не только любезно позволил мне использовать планетарий в Бостоне, но даже лично приходил и наблюдал эксперимент. Помимо выдающейся карьеры в астрофизике, а также знаний по истории астрономии, профессор Джинджерич в свои студенческие годы демонстрировал успехи в планетарии.
Произошедшее в Гайденском планетарии при Музее науки в Бостоне запомнилось мне тем, что я испытал, вероятно, исключительно яркую мечту. Я очень беспокоился не только потому, что имевшийся при мне список вопросов мог завершить исследование там и тогда, но также потому, что профессор Джинджерич был чрезвычайно занятым человеком, и я хотел, чтобы эксперимент проводился не в ущерб его времени. Он прибыл поздно, приведя с собой двух своих коллег, которых только что встретил в Логанском аэропорту. Эти два человека, мой друг Эрик Мандель и пара любопытных сотрудников сидели в креслах и наблюдали.
В процессе подготовки я повторил расчеты как Авени, так и Гартнера, касающиеся способов определения гелиакического восхода звезды. Эти числа были очень важны, потому что они диктуют расстояние в градусах между Плеядами и солнцем и тем самым определяют год, в который произошло данное событие. Хотя математически можно предсказать положение звезды по отношению к определенному горизонту в любое данное время, другой вопрос состоит в определении того, что может видеть человеческий глаз в надвигающемся рассвете. Атмосферные искажения, высота, величина наблюдаемой звезды и расстояние солнца за горизонтом — все это играет роль в определении даты ее гелиакического восхода.
Правило большого пальца гласит: чем более яркая звезда, тем ближе к рассвету она останется видимой. Очень яркие объекты, такие как планеты ярче первой величины, могут быть видимы с солнцем, опущенным всего на девять градусов за горизонтом, то есть за тридцать шесть минут до рассвета[16]. Более тусклые звезды при гелиакическом восходе не видны, если солнце не опущено дальше.
Когда солнце опущено на двадцать градусов, за час и двадцать минут до рассвета, астрономы обычно называют это «абсолютной темнотой». В этой отметке в гелиакическом восходе могут наблюдаться и тусклые звезды. Каждая отдельная звезда в Плеядах относительно тускла — третьей величины. Но поскольку они тесно сконцентрированы, их легче различать, чем одинокую звезду третьей величины. Авени говорит, что в отсутствие тумана Плеяды можно видеть в гелиакическом восходе при опущении солнца на семнадцать градусов. Гартнер предпочитает говорить о двадцати градусах, утверждая, что атмосферный туман присутствует всегда.
Основываясь на моем собственном опыте в Андах и обсудив эти соображения с профессором Джинджеричем, мы решили расчленить различие. Было согласовано, что в условиях андского засушливого сезона и при допущении двух градусов скидки на сочетание тумана и волнообразного колебания топографии на горизонте Плеяды, это плотное скопление звезд третьей величины, должны быть видимы на два градуса выше идеального нулевого по градусам) горизонта при «опущенности» солнца на восемнадцать градусов.
Определив базисное отношение между солнцем и звездой, необходимое для наблюдения гелиакического восхода Плеяд в любой период, мы теперь занялись поисками года, указанного мифом. Планетарный прибор был установлен на широту Куско и «прецессирован» назад во времени, до того как происходил гелиакический восход Плеяд ровно за тридцать дней перед июньским солнцестоянием, как указывалось в мифе. Планетарий остановил прецессирование на 650 году н. э. Рисунок 2.6а показывает гелиакический восход Плеяд на 20 мая 650 года по юлианскому календарю, за тридцать дней до июньского солнцестояния, которое в тот период происходило 19 июня по юлианскому календарю[17]. Тот год был хорош не только во временных рамках андской земледельческой истории — когда можно было ожидать, что такое наблюдение будет сделано, — но также отмечает важный исторический момент, когда, согласно археологическим данным, организованная война впервые вторглась в Анды с возникновением военного государства Уари. Это было хорошее начало.
Следующим шагом было посмотреть на запад для наблюдения за закатом небесной Ламы. Точно как и указывал миф, Лама пребывала в процессе заката (рисунок 2.6Ь). Это опять же был хороший результат. Если миф предназначался не для передачи астрономической информации, тогда не было никакого смысла в том, что «ламы», наблюдавшие восход звезд над горой «Солнечных Плеяд», имели какое-либо отношение к небесам.
Основной причиной для исследования западного неба было, однако, не сомнение в данных доклада Эрлза о современном наблюдении этого явления, а другое соображение. Каким образом могли андские астрономы наблюдать закат Ламы, если она была объектом «темного облака», заходившим в наступающем рассвете? Иными словами, при опущенности солнца на восемнадцать градусов на востоке, было маловероятно, чтобы Лама, выглядевшая лишь как темная «дыра» на фоне свечения Млечного Пути, вообще была видима как вблизи горизонта, так и с приближением рассвета. Если астрономы не могли этого видеть, то как могли они знать, где она находилась?
Еще до посещения планетария я предвидел эту проблему. Первоначально я предположил, что астрономы должны были «опознать» Ламу посредством какой-то звезды. Сначала наиболее логичной кандидаткой была, казалось, ипсилон Скорпион, самая яркая звезда (третьей величины) вблизи и задней части Ламы, и эклиптики (рисунки 2.3 и 2.6Ь). При дальнейшем исследовании, однако, оказывалось непонятным, мог ли невооруженный глаз поймать звезду третьей величины так близко к западному горизонту с приближением рассвета. Профессор Джинджерич также выражал сомнение относительно ее видимости при таких условиях, даже в Андах.
Я долго размышлял над этой проблемой. Можно было, конечно, согласиться с допущением Лоуренса об Аравии — «у них зрение было лучше нашего», но уж слишком много имелось в этих историях пока еще не объясненных аномалий. Одну из таких аномалий читатель уже может отметить: по версии Авилы, говорящая лама определяется как самец, в то время как в центре астрономического подхода оказывается самка, или небесная Лама, со своим сосущим вымя детенышем.
Это расхождение заинтересовало также и меня. При дальнейшем рассмотрении, однако, мне стало ясно, что расхождение могло дать решение другой моей проблеме: как андские астрономы следили за траекторией заходящей (самки) Ламы. Как отмечали многие из испанских хронистов, среди них Кобо и Поло де Ондегардо, аборигены Анд идентифицировали созвездие, известное в западной астрономии под названием Лира — глубоко в северном небе и вдалеке от темного облака небесной Ламы (самки) — как «ламу-самца»., уркучильяй. В этом андском созвездии имеется звезда первой величины Вега.
На первых порах присутствие ламы-самца казалось ненужным осложнением или, что еще хуже, признаком того, что животные задумывались вовсе не для обращения к своим астрономическим двойникам. Казалось бесполезным пытаться «придать пикантность» этим историям, какую можно было найти в астрономии, оставляя в стороне явно непонятные элементы из-за того, что они не «пригодны». Эти истории либо предназначались для понимания на астрономическом уровне, либо нет. Но какое отношение имела Вега к астрономической ситуации, описанной в мифе?
В поисках решения я перечитал описание Гари Уртона небесной Ламы и ее связи с другим созвездием темного облака, небесной Лисой. Лиса простирается в восточном направлении к Стрельцу из-за задней части Ламы (рисунок 2.7). Как сказал современный индеец-аймара из Боливии в комментарии по поводу народного сказания о Лисе, «лиса находится в небе, на реке, она всегда следует за ламой». Уртон, чьи исследования андской этноастрономии дают последовательное понимание связи между земными реалиями и их культурной проекцией в небеса, отметил, что позиционное отношение между небесной Ламой и Лисой отражает поведение этих животных в жизни. Лиса нападет на молодняк лам, а взрослые животные дадут отпор. Голова небесной Лисы близка к детенышу небесной
Ламы, подходящему со стороны. Уртон цитирует хрониста Кобо, описывающего викунью, дикий подвид ламы:
«Там, где живут викуньи, водится обычно большое число лис; и лисы охотятся и поедают молодняк викуний. Викуньи защищают свой молодняк следующим образом. Множество викуний мчится вместе, атакуя лису, нанося ей удары, пока она не свалится на землю. Тогда они пробегают по ней множество раз, не давая ей возможности подняться, до тех пор пока не забивают ее до смерти».
Это описание вызвала в моей памяти фотография, которую я видел в «Нэйшнл джиографик», изображавшая одинокого самца викуньи на пригорке. Сопроводительная надпись описывала поведение самца, а именно что он стоит один, отдельно от самки и детеныша, неся охрану, и присоединяется к группе только для спаривания или защиты. Больной вопрос о неразличимости ипсилон Скорпион, замечание Уртона и воспоминание об этой фотографии побудили меня откопать в своем сознании слово паранателлон.
Это слово относится к методике, по крайней мере такой же древней, как и вавилонская астрономия, использования восхода или заката очень яркой звезды для наблюдения одновременного восхода или заката другой, более тусклой звезды, которая представляет интерес, но различается с трудом. Возможно ли, чтобы поведение самца ламы по отношению к самкам — в стороне, но в единении — было спроецировано в андские небеса каким-то древним астрономом-жрецом, самим пако!
Так стоял теперь вопрос при обсуждении в планетарии. Я вкратце объяснил профессору Джинджеричу, что некоторые знания предполагали возможность использовать Вегу в качестве паранателлона для заходящей (самки) Ламы. Поскольку ночное небо 650 года н. э. поворачивалось в направлении заходящей небесной Ламы, Вега, намного севернее по горизонту, также пребывала в закате. Он кивал, по-видимому, впервые заинтересовавшись. Конечно, невозможно с научной точки зрения утверждать, что это совпадение было отмечено андскими астрономами, но эта мысль в то время и не приходила мне в голову. При наблюдении Веги — альфы уркучильяй, андского небесного аналога самца альпа-ки/пако/шамана я стремился понять суть всего, занимая такую же разумную позицию в планетарии, какую она, как казалось, занимала в мифе. Я испытывал благоговейный трепет.
Передо мной были воссозданные в планетарии наблюдения — одновременный гелиакический восход Плеяд и гелиакический закат небесной Ламы при дополнительном обращении к его паранателлону Веге, или уркучильяи, — которые были, как это казалось, сделаны и записаны без помощи письменного языка якобы «примитивными» людьми в исторический период где-то между смертью Мохаммеда и первым мавританским вторжением в Испанию. Поскольку Вега начинала заходить, один из коллег профессора Джинджерича достаточно громко сказал своему коллеге: «Она, кажется, выполнила свое домашнее задание». Когда сеанс окончился и я из любопытства спросил профессора Джинджерича кто этот человек, он ответил: «Астроном из Ватикана».
VI
Оставалось еще несколько сюрпризов. Надо было выяснить, что же произошло при гелиакическом восходе в июньское солнцестояние 650 года н. э., то есть во время «потопа», как указывается в мифе? Но прежде, чем обратиться к этому самому важному наблюдению, я хотел увидеть, какой восход солнца в декабрьское солнцестояние выглядел так, как в том году. Я не знал, где и можно ли вообще найти такую информацию, но именно этот вопрос явно требовал задать миф, поскольку небесные Лама, Лиса и Пума[18], — все они размещались в одной области неба, восходя гелиакически в декабрьское солнцестояние.
Поначалу этот факт и смущал, и интересовал меня. Если, как подсказывало преобладание андского и месоамериканского ритуала, самая высокая гора имела космологическую связь с июньским солнцестоянием, что же тогда делали эти «животные декабрьского солнцестояния» «на вершине горы», карабкаясь, чтобы спастись от «потопа»? Или же мое желание найти солнечный исходный пункт в мифах вело к искажению смысла этих историй?
Поскольку я начал обдумывать эту проблему, я вспомнил, что Сантильяна и Дехенд привлекали внимание к традиции мифологии Старого Света, по которой звезды, восходящие гелиакически либо в оба равноденствия, либо в оба солнцестояния, часто фигурировали в мифе одновременно. Цель этой традиции состояла в том, чтобы лучше установить эпоху или век, рассматриваемые в данном мифе, обращением не к одному, а к двум событиям гелиакического восхода.
Это достигалось обращением к оттенкам, связанным с равноденствием или с солнцестоянием, то есть к какому-либо из двух воображаемых больших кругов, соединяющих либо звезды, отмечающие равноденствия или же солнцестояния через полюсы. Тогда-то я и вспомнил это обращение к традиции мифов одновременной регистрации двух событий, отделяемых полугодием, и, как я понял, имелось вполне достаточно доказательств существования сходного образа мышления и в Андах. И именно здесь астрономическое поле исследования Уртона, связанное с ситуациями «на земле», еще раз доказало свое неоценимое значение.
Между 1976 и 1980 годом Уртон провел этноастрономическое полевое исследование в общине Мисминай в департаменте Куско. Одним из результатов был тот факт, что само селение делилось на четыре четверти двумя пересекающимися пешеходными дорожками. Пешеходные дорожки тянулись взаимно кардинально, то есть одна шла с северо-востока на юго-запад, а другая с юго-востока на северо-запад. Эти дорожки пересекались в центре селения. Отметив в отчетах подобные квадратные деления селений в современном Эквадоре и области Аякучо в Перу, а также данные о таком же расположении у инков, Уртон заключил, что в идеале пешеходные дорожки задумывались протянутыми к четырем токам на горизонте восхода и заката солнца в солнцестоянии, (рисунок 2.8)[19].
Уртоновское объяснение значения взаимнокардинально-го, связанного с солнцестояниями пересечения в соединении земного и небесного пространства на горизонте подчеркивает андскую особенность мышления — понятие пача, которое пытается объединить пространство и время в единое концептуальное целое. Каждая взаимно кардинальная ось выполняет такую функцию, одна — соединяя точку восхода солнца на горизонте в июньское солнцестояние (северо-восток) с закатом в декабрьское солнцестояние (юго-запад), другая — объединяя восход солнца в декабрьское солнцестояние (юго-восток) с закатом в июньское солнцестояние (северо-запад). Эта традиция обеспечивает практические средства слежения за звездами, включаемыми одновременно в оба солнцестояния. Она отражена в диаграмме Пачакути Ямки (рисунок 2.4), соединяющей оба полугодия, засушливый сезон и сезон дождей, во взаимно дополняющее друг друга воображаемое объединение полов. Уртон показывает, как это концептуальное соединение поддерживается в Мисминае различными видами знаний.
Так, например, когда солнце декабрьского солнцестояния восходит в небесном темном облаке Лисы (юго-восток), говорят, что земные лисы рождаются у подножия горы, отмечающей на горизонте точку соединения с закатом июньского солнцестояния (северо-запад). Наоборот, по другой оси — в варианте связи, выраженной в наблюдениях Эрл-за, и в мифах о ламе и потопе — Плеядам и хвостовой части Западного Скорпиона (известным также как cruz calvario и задняя часть Ламы) дается то же самое название, коллька, означающее «зернохранилище». Наконец, как будет показано в главе 5, андские мифы («траектория» бога Виракочи) также подчеркивают одну из этих взаимно кардинальных осей. Виракоча сначала появляется у Титикаки (юго-восток), отсюда идет по Андам в северозападном направлении, покидая в конце этот мир у Манты в Эквадоре.
По этим причинам мое первоначальное страстное желание отыскать «животных декабрьского солнцестояния» на «горе июньского солнцестояния» значительно остыло. Если андские жрецы-астрономы имели представление о явлении прецессионного движения, они могли также знать, что изменение в дате гелиакического восхода определенной звезды или объекта — как, например, Плеяд — означало изменение в такой дате любой другой звезды или объекта. Кроме того, у них под рукой имелись концептуальные средства — пересечение солнцестояний, чтобы осуществлять такие одновременные наблюдения. Это была вполне приличная рабочая гипотеза. Тем не менее я не имел понятия, чего следует ожидать, когда мы направили планетарий на время гелиакического восхода в декабрьское солнцестояние.
На что же тогда указывал планетарий? Планетарий, конечно, не был нацелен на отображение кечуанских объектов из «темного облака». Но я знал, как среди звезд расположена Лиса. То, что мы получили, внеся необходимые корректировки для обеспечения видимости темного облака на фоне отблеска Млечного Пути в гелиакическом восходе[20], иллюстрируется на рисунке 2.9а. Наблюдавший объекты темного облака, восходящие на Млечном Пути в декабрьское солнцестояние в 650 году н. э., видел бы почти полностью взошедшую над горизонтом Лису, за исключением ее хвоста, погруженного теперь — вследствие прецессионного движения — за горизонтом, вымоченного, запачканного и замаранного в восходящих водах небесного моря. Неожиданно я обнаружил, почему хвост у Лисы черный: только это потребовало время.
VII
Почти два года я оставался с глазу на глаз с этими мифами. Теперь Лиса подмигнула. Возможно, до некоторой степени маргинальным был интерес к тому, что в андской мифологии могло описываться астрономическое наблюдение, продолжаемое современными андскими аборигенами (ось Лама/Плеяды). Таких примеров культурной преемственности тьма. Совсем другое дело — обнаружить, что миф был сотворен для описания небес определенной эпохи. Связь восходящих Плеяд с закатом Ламы есть данность, нечто, что происходит в определенный час большинства ночей в году. Понимание того, что миф был сотворен для описания особого события гелиакического восхода (Плеяд) по отношению к прецессионному изменению в июньское солнцестояние, не было известно в андских исследованиях, и я ничего не мог возразить тем, кто утверждал, что такая интерпретация страдала преувеличением. Я и сам сомневался. Но теперь, благодаря Лисе, положение дел изменилось. Мифы порождали дату примерно около 650 года н. э. не один раз (посредством Плеяд, восходящих за «месяц до июньского солнцестояния), а дважды.
Кроме того, мифы не только проявляли внутреннюю непротиворечивость, но также функционировали в контексте туземных понятий пространственной организации, показанной независимо от меня в других исследованиях. Гелиакический восход Лисы в декабрьское солнцестояние, упомянутый по отношению к событиям в июньское солнцестояние, и ось, выраженная наблюдением Плеяд/Ламы, казалось, не только подтверждали важность взаимно кардинального пересечения у аборигенов Анд периода конкисты, но предполагали также целую новую величину его полезности.
Тем не менее еще предстояло самое важное наблюдение, момент самого «потопа», июньское солнцестояние 650 года н. э. Я еще не знал, почему или должен вообще этот момент во времени рассматриваться с астрономической и космологической точки зрения и увековечен в столь же тонко сочиненных рассказах. В самом деле, если никакого объяснения не предстояло, то саму идею о том, что рассказы имели своей задачей зафиксировать момент в прецессионном времени, следовало снова поставить под вопрос. Следовательно, это заключительное наблюдение было во многих отношениях самым решающим. Либо я должен был обнаружить, что какое-то значительное прецессионное событие, некий «потоп», произошло в июньское солнцестояние, либо еще-целый виток исследования оказывался полностью бессмысленным.
Соответствующим образом аппарат был обращен на предутренние моменты июньского солнцестояния 650 года н. э., чтобы выяснить то, что было видно. Результат, этого эксперимента должен был показать, что пачакути — «опрокидывание пространства-времени» — фактически произошло не потому, что было видимым, а потому, что находилось теперь не там. Эксперимент показал, что в южных Андах примерно в 650 году н. э. Млечный Путь прекратил восходить гелиакически в июньское солнцестояние (по юлианскому календарю 19 июня), впервые за более чем восемьсот лет (рисунок 2.10а). Иными словами, наблюдатель, ожидавший увидеть восход Млечного Пути в июньское солнцестояние в той точке на горизонте, где восходит солнце июньского солнцестояния… ничего не увидел бы. Теперь мифы давали третье средство для установления их даты, потому что они показали, что небесное положение большого космологического значения — слияние солнца в момент солнцестояния с Млечным Путем — было «разрушено» течением времени.
В следующей главе рассматривается высшее значение Млечного Пути в доколумбовой андской мысли и почему прекращение его восхода в июньское солнцестояние означало конец эры. Сейчас же, возможно, самый лучший и самый быстрый способ выразить космологическое значение этого события для андских астрономов состоит в том, чтобы рассказать о последнем сюрпризе, который припасли эти мифы.
В уарочирийской версии мифа сам жрец-астроном, пако, в — мифическом облике самца ламы поднял свои глаза к небесам и с тревогой объявил во всеуслышание о признаках надвигающегося потопа. Именно с его «точки зрения» был предсказан потоп. Рисунок 2.10Ь[21] показывает положение небесного пако, то есть звезды первой величины Беги, на момент «потопа», то есть во время предутренних моментов июньского солнцестояния в 650 году н. э., когда всякому наблюдателю, глядевшему на восток (рисунок 2.10а) стало ясно, что солнце солнцестояния и Млечный Путь разошлись навсегда. Как мы увидим в следующей главе, пако следил за не менее важным событием, чем разрушение входа на землю богов. Что другой небесный объект в кечуанских небесах был в лучшей позиции, чтобы «наблюдать» это событие, чем пако, альфа уркучильяй/Вега. И что сельский житель древних Анд был более квалифицирован для ведения наблюдения, чем жрец-астроном, известный как пако.
В небесном отношении обезумевшего пако к событиям, развертывавшимся на востоке, я обнаружил еще и четвертое средство, которым мифы проясняли время своего сотворения. При столь внутренне непротиворечивом доказательстве я был, по моему собственному разумению, поначалу свободным в принятии того, что астрономия мифологии была среди наиболее мощных интеллектуальных занятий в доколумбовых Андах. Существование такого образа мышления стало для меня реальностью, и независимо от того, как давно я перестал учиться, я никогда не рассматривал бы андский материал снова таким же образом.
Прекращение гелиакического восхода Млечного Пути в солнцестояние представляло собой «бедствие». Открытие этого события и его последствия открывали мне дверь в мир непредвиденного, в начало развертывания саги о выигрыше и потерях, истории возникновения, разрушения и преобразования священных влияний в андской истории. Поскольку андский пако пребывал в тревоге, вглядываясь в горизонт сквозь холод, разреженный воздух высокогорной пуны, раздавалось тревожное завывание, возвещавшее конец мира как одновременные события и в небесной, и в земной сферах, неподвластных управлению человеческой воли.
ГЛАВА 3
ТРИ МИРА
Ввысь мы пойдем, ты и я; По Млечному Пути мы пойдем, ты и я; По цветочной тропе мы пойдем, ты и я; Собирая цветы на своем пути, мы пойдем, ты и я:[22]
Я дитя Земли и звездных
Небес, но мое начало в одном лишь раю.
В этом мире мы отсылаемся с нашей родины в мир наверху[23].
Вон там наступает рассвет, Вселенная становится зеленой; Путь к Преисподней Открыт, но мы пока живем, идя ввысь, идя, идя ввысь![24]
I
Историк науки А.Дж. Э. Блейк отмечал:
«Одной из наиболее важных особенностей эпохи является способ, которым она стремится свести знание и опыт человечества в единое целое. Это предполагает синергическую деятельность, которая функционирует вне текущих границ осознанного человеческого познания.
Эта деятельность отражена в истории того, что Тойнби и другие называли «цивилизацией«…Каждая цивилизация имеет в своем ядре резерв творческого потенциала, выстроенный из совокупности ценностей. Это означает, что все они являлись мостами между известным и неизвестным».
Основной ценностью андской цивилизации была взаимность. Она остается по сей день действующим принципом местной жизни в андской деревне. Группы людей трудятся сообща, подготавливая нынче другие поля для сева, работая вместе нынче над возведением другой первой хижины для молодоженов. Малые дети собираются в группы. Пока женщины прядут и ткут, мужчины собирают на высоких склонах навоз ламы для использования на сельскохозяйственных полях. Когда наступает время сева, мужчины обрабатывают землю ножным плугом, чаклъей, в то время как женщины опускают в землю семена. Каждый в деревне участвует в ежегодной очистке ирригационных канав.
Идеал взаимности имеет глубокие корни в андской цивилизации, которая стремилась с самого своего начала навести мосты между миром живых и невидимыми мирами, миром богов и предков. Именно предкам боги открыли свой план для человечества. Именно от предков жизнь получила свод традиций и умений, который сделал возможной земледельческую цивилизацию в Андах. Забыть предков, — значит разорвать узы взаимных обязательств, которые обеспечивали благосостояние как живым, так и мертвым в их раздельных способах существования. И таким же образом оскорбить предков, — значит отвергнуть древнее наследие, которым их удостоило царство богов. Без своих мостов к богам и предкам андская цивилизация не могла бы также ни возникнуть, ни выжить.
Эти идеи объективировались в небе. Андская религия учила, что истинность взаимных обязательств человечества покоится со строгой точностью на небесном своде. Великое Деление между миром живых и непознанными мирами было видно в проекции нашей галактики, Млечного Пути. Через эти границы проложены мосты к сверхъестественным мирам.
«Они говорят, что великая река пересекает середину неба, которой они называют то, что мы видим снизу как большую белую полосу и называем Млечным Путем». Так описывал хронист-священник Бернабе Кобо свидетельства местных информантов. В доколумбовых Андах Млечный Путь величался рекой (майу) или, реже, путем (ньян). Это была дорога, по которой проходили и боги, и дух усопших, чтобы добраться до мира живых. Как Кобо, так и Молина в описании мифа каньяри из эквадорских Анд также упоминают гору, называемую Уайкайньян, буквально «путь ламы». И мы видели в описании Авилой небесной Ламы, как о ней говорят, что она «спускается с середины неба вниз по рекам».
Идея о том, что Млечный Путь служил границей между мирами, была некогда столь же широко распространенным среди людей земли понятием, как и идея о том, что было возможно перебросить мост через это деление. Бушмены называют Млечный Путь «пепельным путем» или, правильнее, тропой светящихся ворот. За этим «убеждением» стоит весьма распространенная мифическая традиция, которая запечатлела то время, когда в результате прецессии солнце «вошло» в Млечный Путь, «естественно» погрузив его в огонь, но, по сути дела, открыв «новые пути» контакта между жизнью и другими мирами. «Пепельный путь» является не более, чем скрытой версией мифа о Фаэтоне, детальные разработки которого в Андах можно найти в следующей главе. Аналогичным образом полукочевые наскапи с Лабрадора, чей культурный кругозор был назван мезолитическим, говорят о возможности контакта между мирами по Млечному Пути, который они называют «тропой призраков», или «тропой усопших людей». Души живущих зародились в небе, где они «отдыхают на небесном своде, пока не воплотятся заново».
В западной науке (в попытке понять что-либо об астрономической мысли доколумбовых Анд) принято рассматривать Млечный Путь с точки зрения его функции. То есть для ученых представляет особый интерес проанализировать, как Млечный Путь перемещается через ночное небо и времена года и как его кинетическое «поведение» воспринимается культурой, включившей его движения в календарь и ритуал. Этот подход вполне полезен. Зуидема и Уртон, например, показали, как инки создали весь календарь — определенно связанный с ежегодными работами и сопровождающими ритуалами, имеющими отношение к обращению со стадами лам, — основанный на сезонных положениях того потока Млечного Пути, в котором находится небесная Лама[25].
Однако давнишнее значение этого подхода — который господствует в западных социальных науках — то, что духовная «вера» является в некотором роде раздумьем, кодификацией в ритуале экономически полезной информации, полученной из наблюдения естественного мира. Вариации на эту тему — от Голой Обезьяны до Удивительной Гипотезы — составляют тьму и присутствуют в представлении человеческого рода в качестве скопления исключительно умных животных. По иронии, сводя обоснованность религиозного опыта к искушенной форме самовнушения, западная социальная наука без особого любопытства окрестила «верой» и выбросила в мусорную корзину то особое измерение человеческого опыта, который лежит в основе человеческой традиции научного исследования.
Именно здесь, в сопоставлении своеобразного синтаксиса технического языка мифологии — где научный факт и духовная ценность находятся в синергическом равновесии, передавая энергию друг другу, — я почувствовал необходимость скептически оценить распространенную традицию западной этнографии, которая относится к мифологическим суждениям, помещающим порядок и смысл в небеса, как к «вере», то есть как к идеям, не поддающимся научному доказательству. Эта традиция, как я начинал уяснять для самого себя, служила своего рода классификационной дырой, в которой исчезли тысячелетия самым тщательным образом сотворенного описания сложного астрономического наблюдения.
Мне казалось просто ошибкой думать о людях, которые не испытали «внушающего благоговение искусства разделения» между душой и разумом, что их «верования» о естественном порядке обязательно извращают их способность делать тщательные эмпирические наблюдения. Вся цель изучения феноменологии естественного мира покоится на установлении диалога с миром духовной ценности. Основа этого диалога лежит в убеждении, что основополагающие принципы естественного порядка несли в себе послание человечеству. Это предположение весьма близко к сути усилий Ньютона и Кеплера.
Для ранних мифотворцев, у которых не было ни письменности, ни сложной математики, язык этого взаимного обмена должен был соединять берега залива между мирами духа и материи, который они стремились преодолеть. Безупречное наблюдение было предложением работы силам просвещения. Миф, записывая именное значение астрономических систем, вовсе не был обязан помещать разделительные знаки на континууме между фактом и убеждением. Астрология предполагала астрономию.
Именно с такими мыслями я подошел к андским знаниям о Млечном Пути. Моя концептуальная выгодная позиция в меньшей степени заключалась в традициях социально-научного исследования, чем в том, что я уже уяснил для себя самого. Я теперь знал, что «потоп» 650 года н. э., то есть прекращение гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, было событием исключительной важности для жрецов-астрономов Анд. Я также знал, что они были знакомы с прецессионным движением, что их беспокоило воздействие этого явления на мир живых и что их особенно интересовал Млечный Путь. Я предположил, что «звезды были животными» и что топографические обозначения предназначались для кодирования положения солнца в небесной сфере. Мифы отзывались. Теперь, с андскими представлениями о Млечном Пути, я оказался на поворотах небесной реки, обладавшей рядом таинственных мостов и бродов, в мифологических местах, знакомых любому исследователю мифологии Старого Света. Нашел ли я в Андах учение, которое некогда охватило земной шар?
Поначалу я находил, что один полный значения факт был особенно трудно игнорировать. Для андских астрономов север был «верхом». Для тех из нас, кто живет в умеренных широтах северного полушария, север — это «верх», потому что Полярная Звезда находится высоко в северном небе и потому что зимнее солнце расположено низко в южном небе. В южных Андах северная Полярная Звезда постоянно не видна за северным горизонтом. Наоборот, южный небесный полюс земли находится выше горизонта, и, хотя он не так высоко в небе, как в умеренных широтах, этот полюс мог бы, по крайней мере, быть лучшим кандидатом на «верх», чем север. По сути, солнце декабрьского солнцестояния находится только на десять градусов южнее зенита в полдень на широте Куско (тринадцати градусов южной широты), в то время как солнце июньского солнцестояния заметно ниже, примерно на тридцать шесть градусов от (и севернее) зенита в полдень. На этой широте около четырех часов дня в декабрьское солнцестояние солнечного света больше, чем в июньское солнцестояние. Тем не менее в андской мысли север находился «выше» юга. «Верхний Куско» был северной половиной города. «Высочайшая» гора стояла за июньским солнцестоянием. Северная граница империи инков обозначалась рекой, называемой «самой высокой частью лазурного здания».
На первых порах я игнорировал такого рода данные. Я не мог найти никакого объяснения в литературе, почему в южных Андах север должен был величаться таким образом, и продолжал думать, что я что-то упустил. Я оперировал своего рода смутной гипотезой, согласно которой идеи, воплощенные в техническом языке мифологии, могли спуститься к Андам и дозревать там в течение неизвестного отрезка времени, чтобы в конечном счете оказаться повторно изобретенными для южных широт. Только после того, как я сам наблюдал в планетарии результаты предположения о том, что север был «вверху» («высочайшей» горой, являвшейся самым северным положением солнца в небесной сфере), я начал осознавать, что астрономическая система Анд могла быть пришлой как-то более непосредственно.
Если север был «вверху», тогда «вверху» было также что-то еще: возможность того, что на андскую цивилизацию существенно повлияло учение ошеломляющей древности. И если такое учение продолжало жить и процветать в Новом Свете во времена конкисты, то это подразумевало, что андская цивилизация сохранила, вплоть до самого начала современной эры, ту часть наследия человечества, которая, как мыслилось, существовала лишь во фрагментированном виде среди различных памятников древности Старого Света. Следовательно, поскольку я обратился к андским знаниям о Млечном Пути — зарегистрированной в изобилии и изначально не знакомой испанским конкистадорам информации, — мой разум допускал возможность того, что я мог бы основательно рассмотреть пласт человеческой мысли, заложенный в основных принципах, из которых возникли не только великие религиозные традиции планеты, но также и практика точного научного наблюдения. Мы приступаем на «научной» основе к андскому пониманию сложной геометрий Млечного Пути.
II
Существует ряд серьезных «помех на пути» к пониманию астрономического уровня мифологии. Некоторые связаны с тисками предвзятого мнения о том, что могли знать древние и до какой степени они были способны или заинтересованы распространять свои знания посредством мореплавания. Но среди сущих затруднений нет большей помехи, чем наблюдение сложных явлений в астрономии невооруженным глазом, а затем проблемы, вытекающие из регистрации наблюдений без преимуществ математики или письменное пространство вместе в четырех точках солнцестояния на горизонте, используя тот факт, что солнце находится также «в» двух потоках Млечного Пути. То есть, когда солнце восходит в солнцестояние, то оно находится в одном или другом из потоков Млечного Пути. В данный двадцатичетырехчасовой отрезок, так сказать, в июньское солнцестояние восходящее солнце будет «нести» через небо северо-западный/юго-восточный поток Млечного Пути. В полдень этот поток пройдет (невидимым) через зенит. В полночь той же ночи другой — северовосточный/юго-западный — поток пройдет через зенит. Воображаемое «пересечение» этих двух потоков, видимых наверху ночью в чередующиеся сезоны, дает концептуальную схему для деления небесного пространства на четыре части (рисунок 3.2). Это деление связано, таким образом, с делением на четыре части земного пространства присутствием солнца как «во» Млечном Пути, так и «в» точках пересечения солнцестояний на горизонте.
Один особенно привлекательный аспект этой современной практики, обнаруженной Уртоном, состоит в том, что он является, строго говоря, историческим реликтом. В современную эпоху ни один из потоков Млечного Пути не всходит более гелиакически в солнцестояние. Хотя Уртон абсолютно прав, утверждая, что солнце находится «во» Млечном Пути, такого рода наблюдение — одно из тех, что сделано западной наукой, которая может вычислить положение солнца в звездах. Но не индейская практика Анд должна наблюдать (видимые) события гелиакического восхода. Не так-то просто увидеть звезды, через которые проходит солнце. Этот пункт никоим образом не умаляет уртоновские находки, которые были в конце концов основаны на сообщениях, местных информантов. Скорее, это свидетельствует о долговечности в андском представлении идеальной конфигурации событий гелиакического восхода солнцестояния, «вложенных», как это было, в восход потоков Млечного Пути (рисунок 3.3). Это законченное явление невооруженным глазом было видно в последний раз приблизительно 1350 лет назад. Мифы о ламе и потопе возвещают о времени окончания этой идеальной конфигурации. Выводы Уртона, конечно, правильны и, следовательно, более интересны своей силой и долговечностью во времени.
Вторым важным открытием Уртона было то, что в современном индейском разумении Млечный Путь являет собой две реки. Иными словами, таким же образом, каким нам удобно представлять себе Млечный Путь имеющим два «потока», индейская практика в Андах также состоит в употреблении этой метафоры. Согласно одному из информантов Уртона:
«Млечный Путь… в действительности состоит из двух рек, а не одной. Обе Майу с [реки] берут начало в общей точке на севере, текут в противоположных направлениях с севера на юг и сталкиваются головами в южном Млечном Пути. Яркие звездные облака в этой части Млечного Пути представляют собой «пену» (посоку)., образующуюся из небесного столкновения. Эти данные указывают, что небесная Река имеет второй центр, «центр истока», на севере».
Рисунок 3.4а показывает «истоки» Млечного Пути в гелиакическом восходе июньского солнцестояния 650 года н. э. В этот момент, если смотреть на северный горизонт, можно было бы увидеть, как самые северные пределы Млечного Пути простирались через северное небо и изгибались на юг и на восточном, и на западном горизонтах по направлению к точкам июньского и декабрьского солнцестояний в звездах, как показывают рисунки 3.4Ь и 3.4с. (Эти последние две иллюстрации, между прочим, представляют не что иное, как панорамный вид аспектов, показанных на рисунках 2.10а и 2.10Ь.) Таким образом, воды небесной реки (рек) текут дальше, пересекая путь солнца (эклиптического) на пути к своему концу у Южного Креста.
Большое значение работы Уртона состоит в том, как она показывает, вне всякой игры слов, что местные народы Анд обладают совершенным мастерством сезонных ритмов Млечного Пути, мастерством с очевидными корнями в прошлом. Кроме того, в изучении связи между взаимнокардинальным пересечением солнцестояний, которое организует земное пространство, и его небесным двойником в воображаемом пересечении осей зенита Млечного Пути работа Уртона полностью подтверждает сохраняющееся значение в индейском мышлении соединения Млечного Пути и солнц солнцестояния. Наконец, работа Уртона дает еще один пример того, как даже по сей день мышление индейцев Анд воспринимает север как «верх». Это показывает тот простой факт, что реки всегда текут вниз. Поскольку истоки двух потоков небесной реки находятся на севере и сходятся на юге, около Южного Креста, тогда север должен быть «выше», чем юг. И, поскольку реки берут свое начало в горах, в небесах должна также находиться космическая гора, и эта космическая гора должна также находиться в северных небесах.
III
Исследователь устной традиции американских индейцев Джон Бирхорст высказался по поводу «геометрического смещения» местной американской мифологии. Нигде это понимание не иллюстрируется лучше, чем в андском соединении пересечений солнцестояния и Млечного Пути и проявлении этой структуры как организации системы обозначений в мифах о ламе и потопе. Млечный Путь — это единственная «естественная» плоскость в небесах. Другие, такие как эклиптика — видимый ежегодный путь солнца через звезды, — суть мысленные абстракции, продукт накопленных наблюдений, увиденных глазами разума, а не физическим глазом. Видимость Млечного Пути невооруженным глазом и вытекающая из Этого его полезность в качестве средства организации небесного пространства могут отчасти объяснять его важное место в космологических мифах во всем мире.
Но это только половина истории, «левое полушарие» космологического уравнения, которое овладело андским воображением. Млечный Путь был больше, чем просто небесной вещью, хронометрическим инструментом для организации календарей или политически полезных ритуалов. В его светящемся присутствии народы Анд видели наглядное проявление соединения человечества со внеземными мирами. Чтобы понять, как сезонные оси Млечного Пути были связаны с духовным сознанием андской цивилизации, необходимо начать прежде всего с того, что сверхъестественные миры имели имена.
Согласно местным представлениям во времена конкисты, космос состоял из трех областей: пача анак, буквально «мира наверху»; кай пача, «этого мира»; и пача уку, «мира внизу». Аналогичным образом те же понятия сохранялись у аймараязычных обитателей области озера Титикака, которые тоже проводили различие между тремя мирами, также называемыми пача (пачас): алак пача, ака пача и манкка пача, опять же буквально означавшие «мир наверху», «этот мир» и «мир внизу».
Испанцы беспечно приспособили эти «миры» к христианским понятиям «рая», «земли» и «ада». Исключение из этой практики обнаружено в произведениях испанского хрониста Сантильяна, который, очевидно, слушал немного внимательнее, заметив, что мертвые возвращаются туда, откуда пришли, «где внизу была земля [читай: уку пача]; и что тот, кто умер в результате только наказания за воровство или другие грехи, попадает в ад \infierno]».
Иными словами, он обнаружил в индейских представлениях различие между судьбой осуждения к «аду» и обычной судьбой для обычных людей, которые попадали в пачу уку, «мир внизу». По сей день многие коренные народы Анд сохраняют то же самое представление с дополнительным разъяснением, что «ад» относится к судьбе блуждания по земле в качестве condenado, «осужденного», а не к какому-то из этого мира или другого.
В конечном счете я пришел к пониманию, что испанские описания индейского представления о загробной жизни были минами-ловушками. Например, лексикограф Ольгин, который интерпретировал индейские знания о трех мирах в соответствии с христианским предубеждением, записал андское народное понятие, вынесенное в эпиграф данной главы: «В этом мире мы отсылаемся с нашей родины в мир наверху». («Кайкачапим анапача льяктанчикманта ауанчананчик».) Если обычные люди попадали в пача уку, «мир внизу», когда умирали, тогда что же они имели в виду, утверждая, что их конечное местопребывание лежит «там наверху», на небе? Кто же заблуждался?
Другие хронисты ассимилировали этот аспект местного представления об анак пача, «мира наверху», с христианским понятием «рая». Кобо, например, говорил, что «те, кого Бог сделал выдающимися людьми и наделил счастливым и преуспевающим положением в этой жизни, без всяких сомнений, попадали в Рай»[26]. Вероятно, один из источников путаницы для испанцев вытекал из того факта, что во времена инков только инки благородного происхождения, как считалось, попадали в анак пача, «мир наверху». Наблюдение Кобо о том, что только «преуспевающий» народ идет в анак пача, логично, поскольку в жестко управляемой экономике инкского мира только инкам благородного происхождения дозволялось значительное богатство. До сих пор тот факт, что основная масса совершенно невинного андского населения отправлялась после смерти в пача Уку, «мир внизу», очевидно, не останавливал их от обращения к небу, когда их спрашивали о конечном местопребывании мертвых.
Так что фактически в испанских хрониках есть два ряда непониманий, простирающихся параллельно: пронизанные христианством предубеждения испанцев, составленные приправой классового сознания, выработанного андской знатью, которая стремилась дифференцировать места конечного покоя знати и крестьянства в миры «наверху» и «внизу», с тем чтобы знать могла оставаться «наверху» рядом богами[27]. И все же, повторимся, эта последняя практика ничего не могла поделать, чтобы отвратить андских крестьян от обращения непосредственно к небу, когда их спрашивают об их местопребывании в загробной жизни.
Ко мне понимание этих очевидных противоречий о местоположении потустороннего мира пришло во время полевого исследования в Перу. Однажды я провел много часов у очага вместе с пятнадцатилетним юношей и его дедушкой. После перевода на испанский связанного со смертью опыта, рассказанного на кечуа его дедушкой, опыта, переполненного духами собак, переправой через «Реку Иордан» и соприкосновением с «воротами», этот молодой человек из деревни Ампараэс проводил меня до дверей. Мы стояли и рассматривали небо, я спросил его, где находилась Река Иордания. Он указал рукой на Млечный Путь в июльском ночном небе, то есть на поток, даже и теперь в местном мировоззрении связанный с декабрьским солнцестоянием, поток, в котором находятся небесная Лама и Лиса[28].
Многими годами раньше я бы понял своим умом, что я чувствовал в тот момент — огромный шок от осознания того, что древний, тысячелетний способ познания и потребность участия обоих полушарий мозга все еще активно оперируют в душах живущих людей. Дедушка мальчика, когда он находился между жизнью и смертью, проник в духовное измерение мифа и отыскал переправу через майу.
Я узнал бы, что андская мифология и родственные ей формы культуры, такие как ритуал, геометрия и архитектура, создаются по линиям голограммы. Их части буквально не — могут быть поняты в отрыве от целого. В весьма упрощенных выражениях, голограмма создается экспонированием фотопленки по отношению к «соответствующему свету», как из лазера, испускающего лучи на объект. Эта процедура создает трехмерное изображение. Если имеется голограмма, скажем, слона, и нас интересуют его бивни, то отламывание кусочка от бивней просто еще раз воспроизводит целого слона, только более бледно. Всякая часть изображения содержит целое и, чем больше изображение, тем более резким является его определение. Аналогичным образом нельзя «отломать» астрономический уровень мифологии или ритуала, не внося в процесс его духовную матрицу, и, наоборот, нельзя понять андскую духовную жизнь в отрыве от ее астрономического контекста. (Пример того, как отдельный инкский ритуал резюмирует андскую космологическую мысль в целом, помещен в Приложение 1.)
Я пришел бы к оценке того, как строгое геометрическое осознание — «соответствующий свет» — андского совершенного владения движениями Млечного Пути было в состоянии легко отбраковать очевидные противоречия в испанских хрониках и осветить основное значение трех «миров» в андской духовной жизни. Я обнаружил бы, что, таким же образом, каким север был «вверху», а юг «внизу», путь в «мир наверху», анак пача, находится в направлении потока Млечного Пути, связанного с севером и июньским солнцестоянием, а путь в «мир внизу» ведет не в подземелье, а в небо, через поток Млечного Пути, связанный с южным направлением и декабрьским солнцестоянием, вниз по великой реке времени, в направлении к величественной небесной Ламе.
IV
Представление о том, что Млечный Путь связан с конечным местопребыванием мертвых, очень широко распространено среди коренных американских народов. В кратком введении в сравнительную этнографию викторианской эпохи Дэниел Бринтон[29] обращается среди прочих и к алгонкинским, крикским и ирокезским идеям о расположении местопребывания мертвых, отметив, что «млечный путь, который по ночам простирается по небесному своду, был, в их разумении, путем, который вел туда и назывался путем душ».
Индейцы крик юго-востока Соединенных Штатов называли Млечный Путь «путем духов». Юманы и луисеньо из Калифорнии называли его «путем призраков». Мокови в боливийском Гран Чако утверждают, что он — река, изобилующая рыбой, где дух мертвых ходит на рыбалку. Североамериканские индейцы фоксы называли его «Уаписипоу …рекой звезд вон там в небе. На ее берегу живут маниту, люди, которые когда-то жили на земле»[30].
В современных Андах говорящие на кечуа аборигены считают, что дух умерших должен блуждать по длинной дороге, ведущей к бурной реке. Там дух должен нанять дух черного пса, чтобы тот привез его в селение на далеких берегах реки, где живут предки. Только те, кто обращался крайне оскорбительно с собаками при жизни, не могут ее переплыть. Другие вариации включают трудный проход через ворота. Часто река называется Иорданом (еще один пример партизанского синкретизма), которая в представлении Старого Света также идентифицировалась с Млечным Путем.
Эти же понятия появились в чистом виде в испанских хрониках периода конкисты. Искоренитель Арриага сообщал о наличии у «всех народов Сьерры, которые мы посетили», представлений о земле, в которую должны отправляться души мертвых, включая переправы через «великую реку, которую они должны пересечь через очень узкий трап, сделанный из волос; другие говорят, что они должны переправляться с помощью черных псов».
Значение в индейском мировоззрении черных псов, служащих для того, чтобы помогать мертвым пересекать «реку», подтверждается большим числом доколумбовых захоронений, содержащих мумифицированные собачьи останки[31]. Арриага трудился над искоренением практики разведения черных псов для последующего их забоя определенно для похоронных целей.
О широком распространении местного американского сравнительного материала Бринтон говорил:
«Как странно на первый взгляд, что гуроны и ирокезы рассказывали самым первым миссионерам, что после смерти душа должна пересечь глубокую и быструю реку по мосту, сделанному из одного стройного дерева, весьма небрежно укрепленному, где она должна была защитить себя от нападения пса. Если бы они лишь выражали это убеждение, оно могло бы сойти за простое сближение. Но атапаски [sic] (чиппеуайнз) также сообщали о великой воде, которую душа должна пересечь в каменном каноэ; алгон-кины и дакота — о потоке, пересекаемом огромной змеей или узкой и обрывистой скалой… У ацтеков эта вода называлась Чикуноапа, Девятью Реками. Она охранялась псом и зеленым драконом, для усмирения которого мертвые были снабжены листами бумаги в качестве дани. Эскимосы Гренландии полагали, что воды ревели через бездонную пропасть, над которой не было иного моста, чем колесо, скользкое ото льда, постоянно вращающееся с медленной скоростью…»
Где же тогда расположена эта преисподняя, и вход в нее и как она может называться «миром внизу» и в то же время находиться на небе, около Млечного Пути? Очевидная информация, особенно в современную эпоху, крайне скудна. Уртон, цитировавший Фока, отмечал, что в эквадорских Андах кай пача («земля») и пача уку рассматриваются как зеркальные отражения. Мы знаем, что это зеркальное отражение простирается до неба, из таких этнографических сведений, как «когда у нас светает для нас, ночь опускается на мир пача уку…»
Во время полевого исследования в Боливии один информант желал особенно сильно, чтобы я отчетливо увидел небесную Ламу. Он прилагал большие усилия, чтобы изобразить ее точное положение, и добавил, что, когда смотришь в небо, видишь зад животного, и что «правая верхняя сторона» — это когда оно находится под землей. Это была важная информация, не только потому, что она давала сведения о том, как виделось это «под землей», но также и потому, что небеса с очевидностью входили в это видение.
Другие крупицы данных, такие как современное представление о том, что жаба (на кечуа анп'ату), наряду с людьми и псами, являются единственными существами, которые обладают душой, переживающей смерть, постоянно приводили обратно к небу, особенно южному небу, где пребывала Жаба, маленькое черное облако вблизи Южного Креста (смотри рисунок 3.5). В современном фольклоре говорится, что Жаба живет в пача уку, внеземном «мире внизу».
Любопытный рассказ зафиксирован хронистом Авилой о встрече бога Виракочи и последнего Инки, Уайна Капака. Виракоча приглашает Уайна Капака в путешествие с ним на Титикаку, послать оттуда эмиссаров в «более низкие области», чтобы отыскать подарок от предков. Уайна Капак соглашается, посылая шаманов кондора, сокола и стрижа, страстно желающих услужить. Стриж-шаман побеждает в гонке и выполняет его распоряжения. Два момента в описанном контексте представляются интересными: во-первых, очевидно, что использование птиц, чтобы добраться до земли мертвых, подразумевает, что эта земля находится в небе; во-вторых, три «птицы», описанные[32] в другом месте у Авилы как «три звезды на прямой линии» вблизи небесной Ламы, являются теми же тремя, которые составляют крестовину созвездия cruz calvario в период после конкисты. То есть они находятся в хвостовой части Скорпиона[33], где эклиптика пересекает Млечный Путь. Эта область, конечно, начала напоминать кандидата на вхождение в землю мертвых, особенно если предположить, что положение этих «звезд-птиц» имело какое-то отношение к их роли в качестве эмиссаров в преисподнюю.
Теперь это было как раз та область неба — где сходятся Лиса, небесная Лама и cruz calvario, — которая была видна при восходе в декабрьское солнцестояние в период господства инков (рисунок 3.6). Инкское поминовение усопших, Ка-пак Райми, в итоге завершалось в декабрьское солнцестояние. Ежегодно в это время, согласно индейскому религиозному обычаю, мертвые, как говорилось, возвращались на землю, чтобы вернуть к жизни власть традиции, общаясь некоторое время с живыми. Венцом инкского ритуала был своего рода пир с предками, четыре дня еды и питья с ними, «как будто они были живыми»[34]. Эти пиршества происходили в течение «окна солнцестояния», то есть в течение четырех дней, начиная за два дня до солнцестояния и заканчивая через день после солнцестояния, когда солнце казалось «садящимся» неподвижно в самой южной точке своего восхода на восточном горизонте.
В последний день угощения предков, согласно Молине, вновь произведенные в воины разговлялись для того, чтобы попировать с предками. Мумифицированные останки инкских царей и «все уаки» приносились из разных святынь на главную площадь. Эти уаки были родословными уаками всех племен империи. Это должно было напоминать, что они представляли тотемов-первопредков, созданных Виракочей, и поэтому считалось, что на церемонии присутствовали родословные всех жителей Анд. Затем жрецы предлагали возлияние и блюда этим мумиям и уакам предков. Согласно Кобо, «смысл выставления тел усопших был в том, чтобы их потомки могли выпить с ними, как будто бы они были живыми, и особенно в этом случае, так как шло посвящение в воины, они желали просить предков сделать их такими же храбрыми и предприимчивыми, какими были они сами».
Поскольку солнце «покоилось» на южном тропике, появляясь восходящим в той же самой точке на горизонте в течение ряда дней, народ Куско также оставался, принимая участие в пышной сатурналии, отмечавшей ежегодное открытие земли усопших для земли живых. Путь был открыт потому, что великая небесная Река, которую каждый смертный должен был пересечь, чтобы достигнуть земли мертвых, находился доступным на горизонте, восходя вместе с солнцем солнцестояния. Значение рассвета — фактически момента гелиакического восхода — в этом уравнении сохраняется в источниках как периода конкисты, так и в современных. Авила, например, отмечал, что во время конкисты та же самая идея — что души усопших предков возвращаются на рассвете — сохранялась в Уарочири[35].
В доколумбовых Андах существовал неподвижный момент вне времени, когда барьеры между этим миром и следующим могли преодолеваться. Этот момент наступал на рассвете в декабрьское солнцестояние, когда само время казалось приостановленным короткой задержкой движения солнца по горизонту. В этот момент Млечный Путь находился в видимом контакте с горизонтом в надвигавшемся рассвете. Земля в этот момент «соединялась» с большой Рекой, по чьим берегам находилась небесная родина андских народов. И если вход в это потустороннее царство был открыт в тот момент, когда солнце достигало своего самого южного положения в небесной сфере, этот мир назывался пача уку, «миром внизу», еще раз подтверждая великое концептуальное строение ночного неба в терминах севера и юга, верха и низа.
Один завершающий аспект Капака Райми, ритуальное использование труб-раковин, резюмирует, хотя и иным образом, важность отношения между солнцем декабрьского солнцестояния и Млечным Путем в сохранении открытыми дорог между этим миром и землей усопших.
Вверх и вниз по Андам открытие входа на землю усопших возвещалось звучным гудением уалльяй кепа, или трубы из оболочки раковины, звучавшей в самый канун декабрьского солнцестояния. Этот сигнал отмечал также начало обрядов для прироста и ухода за ламами. Оба события были взаимосвязаны. Значительное число андских племен заявляло о своем происхождении от небесной Ламы. Она была в известном смысле прототипом для всех родословных уак. Как показано на рисунке 3.6, в эпоху инков Лама восходила на рассвете в декабрьское солнцестояние. Согласно народному поверию, столь широко распространенному, что оно привлекло пагубное внимание Арриаги, «души мертвых отправляются туда, где находится их родословная уака». Это означало, что, когда предки возвращались на землю, они возвращались из местопребывания их родословной уаки, в этом случае с небесной Ламы. Вне всяких сомнений, мертвым после возвращения могло также нравиться наблюдать обряды, связанные с увеличением «стада».
Представление о том, что труба-раковина имела особую важность в декабрьское солнцестояние, не является догадкой, а ее символический смысл не был произвольным. Скорее, существует устойчивый характер необычайно широкого распространения раковины как для декабрьского солнцестояния, так и в те времена, в которые восходит Млечный Путь, а также вход на землю усопших. Причина здесь в том, что раковина является ритуальным «термином» в языке древней астрономии.
В классическом греческом мифе о Девкалионе, например, «разрушительные волны потопа были повернуты вспять звучанием раковины Тритона: раковина была изобретена Aigokeros, то есть Козерогом, который управлял зимним солнцестоянием в том мире-веке, когда Овен «нес» солнце». В результате исследований Ферстман пришел к выводу, что майя связывали раковину с декабрьским солнцестоянием, а панцирь черепахи — с июньским. Дехенд указывал, что майяским иероглифом для «нуля» была раковина, символизировавшая завершение одного цикла и начало следующего. Элиад отмечал, что в Северной Америке и Азии шаманы иногда используют трубу-раковину вместо барабана в начале путешествия в преисподнюю. В ацтекском мифе о Кетцалькоатле герой получает доступ к земле усопших, направляя звук трубы-раковины Владыке Земли Усопших.
Должно быть, раковина символизирует декабрьское солнцестояние по той же причине, по какой гора символизирует июньское солнцестояние. Раковина приходит с морского дна (пространственно противоположного «высочайшей горе в мире»), представляя самый низкий или самый южный край земли точно так же, как декабрьское солнцестояние представляет самый южный край в годовом обороте солнца. Обращение к диаграмме Пачакути Ямки (рисунок 2.4) показывает, что такая логика действовала в Андах. Земной противоположностью «Горе Июньского Солнцестояния» является масса воды, называвшаяся мамакочей, «родительским морем (или озером)», соединявшимся с пукио, или «источником», образовывавшимся в сезон дождей, на стороне декабрьского солнцестояния рисунка. Как мы уже видели, андский миф может величать какой-нибудь вход в подземелье, такой как пещера, родник и полое дерево, входом в пача уку, и именно поэтому, как мы могли видеть, современные говорящие на кечуа жители утверждают, что жабы, которые зимуют в земле, живут в преисподней, и по этой же причине в период конкисты утверждалось, что все тотемы-первопредки появились из таких земных дыр.
Самым большим таким местом «появления» во всех Андах было озеро Титикака. Слово у кечуа и аймара для «озера» и «моря» — одно и то же, коча. Данная линия рассуждений объясняет наставление Арриаги своим священникам быть готовыми к тому, что во многих деревнях они встретят частичку местной топографии, называемую «Титикакой», и что эта область будет связана с культом предка. В современном Чинчеру информант сообщил мне, что низкая равнина под возвышением, террасы инкского периода, называлась Титикакой.
И эта интерпретация смысла морской символики раковины — как экспонат со дна моря она символизирует «самое низкое положение солнца в небесной сфере в декабрьское солнцестояние — объясняет также, почему Уакайпата, площадь, где проходили инкские обряды декабрьского солнцестояния, была покрыта на два фута в глубину песком, старательно поднятого на десять тысяч футов в Анды с берегов Тихого океана.
Ассоциация раковины как с декабрьским солнцестоянием, так и со входом на землю усопших, заложенная в инкских обрядах Капак Райми, имеет очевидную связь со многими месоамериканскими примерами. Линда Шеле написала о двух памятниках майя в Паленке: храме Надписей, содержащем крышку саркофага властителя Защитника-Пакаля, и памятнике воцарению властителя Чана Балума — включая изображения его покойного отца — в храме Креста (рисунки 3.7 и 3.8). Каждый из этих памятников изображает трехъярусный космос, представляющий небесный, земной и мир преисподней, схема, уже знакомая по андскому примеру. В каждом храме солнце изображается опускающимся в «ворота преисподней». Символом, представляющим точку соприкосновения между миром живых и преисподней, в каждом храме является панцирь раковины. В каждом храме, в свою очередь, солнечная иерофания — архитектурный «особый эффект», в данном случае использование света и тени, испускаемых заходящим солнцем, — освещает сначала центр храма, изображающего властителя Пакаля, отправляющегося в «ворота преисподней», а затем место воцарения властителя Балума и кончины его отца. В этом месте последний дневной луч освещает Бога Л, Владыку Преисподней. Обе иерофании имеют место в один и тот же день и в течение одного и того же события — заката в декабрьское солнцестояние. Здесь мы находим доказательство, чудесно дополняющее представление о том, что души предков возвращаются во время восхода солнца в декабрьское солнцестояние: то есть недавно умершие «отбывают» на закате в декабрьское солнцестояние.
Ворота преисподней мы опять же находим в сапотекском генеалогическом изображении (рисунок 3.9). Согласно анализу Маркуса, «над соединением находятся «Ворота Неба», по сторонам которых расположены стилизованные панцири раковин. Спускающийся из «Ворот Неба» — это персона, возможно, родовая и, быть может, мифическая, держащая в одной руке нить бусин»[36].
Это изображение демонстрирует, насколько ясно может показывать иконография, что вход в преисподнюю, обозначенный панцирями раковины, находится на небе. Раз ни Шеле, ни Маркус не уделили в своих статьях особого интереса вопросам топографии загробной жизни, в них нет упоминания о Млечном Пути. Но он совершенно определенно был «там», в декабрьском солнцестоянии в период величия Паленке. В статье Маркуса кроме того воспроизведена карта периода конкисты сапотекского селения и связанных с ним топонимов на горизонте, с полными космологического смысла именами, таким как «Горящая Гора» и «Женский Холм». В юго-западном секторе размещен топоним «Суйгокс-анайа/Rio debajo de la Иегга», то есть «Река Под Землей».
Если же панцирь раковины символизировал положение солнца в солнцестояние «у подножия» южного тропика, у входа в преисподнюю, то можно ли не предположить, на основе «геометрического смещения» андской мысли, что вход на землю богов находился на другом тропике, наверху космической горы?
V
Последний раз инки отмечали декабрьский обряд Капак Райми в декабре 1533 года, на этот раз вместе с празднованием победы и «освобождения» от ненавистной оккупантской армии Кито и их теперь уже покойного изменника императора Атауальпы. Испанцы, в то время их «союзники», стали свидетелями сатурнального зрелища и особенно поражались бесконечным рекам мочи, которая лилась по желобам города от десятков тысяч нетрезвых участников праздника. Среди удивительных вещей, о которых они рассказывали, был парад мумифицированных останков инкских царей, включая останки Уайна Капака, который умер в Кито, вероятно, от оспы. Они изумлялись степени его сохранности — только кончик его носа отсутствовал.
Эти оценки свидетелей представляют особый интерес в свете сохраняющейся апокрифической традиции, согласно которой Уайна Капак был захоронен в Анкасмайу, реке, отмечавшей северную границу империи. По этой традиции, река временно отклонилась от своего русла, чтобы дать построить усыпальницу для умершего императора. После того, как выяснились намерения испанцев, инки из Куско спрятали мумии, но вице-король Толедо нашел их в 1571 году и, прежде чем сжечь их все, еще раз идентифицировал мумию Уайна Капака. Зачем же тогда понадобилось поддерживать вымысел, будто Уайна Капак был захоронен в русле Реки Анкасмайу?
Анкасмайу восходит с западной стороны андского водораздела, между Кито и Пасто, и течет на северо-запад в Тихий океан. Как уже отмечалось, кечуанское слово анкас означает «небесная синева» и может быть связано с идеальным положением солнца в июньское солнцестояние. Это толкование подтверждается также значением и символикой кечуанского аналога анка, означающего «орел». Мы уже видели, как разные птицы-шаманы оспаривали честь отнести послание Инки в преисподнюю, но только самая маленькая сумела выполнить поручение. Большие, высоко взлетающие птицы, с другой стороны, приспособлены для полетов в «мир наверху».
У сибирских шаманов орел — это «отец Первого Шамана солнца, посланника небесного бога, посредника между богом и родом человеческим». В современном фольклоре аймара орел всегда классифицируется как принадлежность к «миру наверху», который, в свою очередь, как мы видели, связан с июньским солнцестоянием. Гарсиласо, повествуя о ряде ужасных знамений, предвещавших конец империи, описывает, как анка пал мертвым на землю в Куско во время церемонии Инти Райми (проводившейся в июньское солнцестояние) в период царствования Уайна Капака. Этимологическая связь между анкас и анка отражает символическую ассоциацию между солнечной птицей высоко в синем небе засушливого сезона и положением солнца в июньское солнцестояние. Следовательно, вовсе не случайно легенда о захоронении Уайна Капака связана с «Лазурной Рекой», которая течет на северо-запад — в направлении заката июньского солнцестояния — в море. Анкасмайу представляла собой больше, чем земную границу, потому что она также вознесла душу Уайна Капака на землю богов.
Та же юго-восточно-северо-западная ось доминировала и в инкских обрядах июньского солнцестояния. Уртон полагал, что, так как мифы о Виракоче повествуют о боге, путешествующем на северо-запад и покидающем землю у Манты в Эквадоре, то ритуал инкских жрецов, которые прослеживали путь Вилькамайу — земного аналога Млечного Пути — к своим истокам у Горы Вильканота, чтобы повернуть отсюда на северо-запад к Куско, представлял собой воссоздание заключительного путешествия Виракочи. В подтверждение этого толкования Уртон привлек внимание к еще одному аспекту этого ритуала: согласно инкским священникам, истоки Вилькамайу у Вильканоты представляли «место рождения солнца». Отметив, что современные говорящие на кечуа жители обращаются к Млечному Пути как к двум рекам, рождающимся на севере, Уртон, далее, полагает, что это объясняет представление о том, что солнце «родилось в июньское солнцестояние, в «истоках» Млечного Пути. Строго говоря, истоки Млечного Пути находились у его северного края (рисунок 3.4а). Инкские священники явно увязывали это положение Млечного Пути с одновременным восходом Млечного Пути в июньское солнцестояние (рисунок 3.4Ь) — в последний раз встречающимся приблизительно в 650 году н. э. — и называли это «рождением» солнца в истоках Млечного Пути.
В свою очередь, эти наблюдения освещают еще одну информацию, которую прежде было невозможно поместить в связный контекст. Во-первых, имя Виракочи встречается в ряде гимнов, записанных Пачакути Ямки: вилькаулькаапу. Это означает буквально «владыка первоисточника солнца»[37], переделка общего представления о том, что Виракоча был творцом небесного массива внутри особой образности — «рождения солнца», — используемого инкскими жрецами в Вильканоте.
Обращая внимание на топографию вокруг высокой горы Вильканота, Хуан Ларреа описывал земной аналог этой формы, запечатленной на данной местности. Маленькое озеро у подножия этой горы находится у истоков не только Вилькамайу, текущей на северо-запад, но также реки Пукары, которая течет на юг в озеро Титикака. Тем самым топография Вильканоты в точности отражает космологическое представление о том, что на «горе июньского солнцестояния» солнце «рождается» у истоков двух небесных потоков Млечного Пути, один из которых течет на северо-запад к земле богов, а другой — на юго-восток к Титикаке, ассоциируемой с преисподней. Ларреа воспроизвел рисунок кубка для питья эпохи конкисты (рисунок 3.10), изображавший весь этот символический набор идей, как они представлялись в местном мировоззрении.
Наконец, огромное значение, придававшееся инками этому изображению, с наибольшей очевидностью проявляется в великолепной инкской святыне на Острове Солнца в озере Титикака. На восточной стороне острова инки смоделировали длинную лестницу от края воды вверх к источнику, стекающему от самого отвесного склона, где, как говорили, Виракоча создал солнце, луну и звезды. Вода из этого фонтана, облицованного безупречной инкской каменной кладкой, течет в большой, столь же совершенный каменный бассейн, а отсюда обратно в озеро через два канала по сторонам лестницы. Здесь, в духовном эпицентре Анд, инки вылепили космограмму Млечного Пути с двумя потоками, текущими с севера (утеса или горы) прямо в преисподнюю (озеро). Это тот же образы — противоположность горы озерам и родникам, — какие находятся на рисунке. Пачакути Ямки (рисунок 2.4).
Если инкские обряды рассвета в июньское солнцестояние сообщают нам нечто о «первоисточнике» священных влияний в Андах, хронист Пачакути Ямки приводит рассказ о последних днях на земле вилька улькаапу, «Владыки Источника Солнца», бога Виракочи. Теперь уже старый, с седой бородой и деревянным посохом, Виракоча, встречаемый непочтительно всеми, кроме отца мифического главы инкского происхождения, возвращается к древнему священному центру, Тиауанако, где все это начиналось. Различные версии, описывающие восхождение бога на «небеса», изображают его идущим на северо-запад к морю, исчезающим навсегда. Версия Пачакути Ямки содержит еще одну частичку информации о маршруте бога: «Они говорят, что Тунапа [Виракоча] следовал по реке Чакамарка, пока не достиг моря. Я полагаю, что он прошел этими проливами к другому морю»[38].
Название реки Чакамарка буквально означает «мостик на самую высокую часть здания». Использование термина марка — тот же архитектурный образ июньского солнцестояния, который содержится в названии горы Анкасмарка в молиновской версии мифа о потопе — в ассоциации с термином «мост», чака, снова доказывает смысл дополнительного равновесия среди космологических компонентов. Как души усопших смертных должны пересечь мост над небесной рекой на закате в декабрьское солнцестояние, так же должен и Виракоча, бог — старый, усталый, на «закате» своих лет — покинуть землю через мост над рекой, текущей на северо-запад к морю, что должно говорить о том, что он пересек Млечный Путь на закате в июньское солнцестояние. Не было у бога и никакого выбора; потоп времени уже бурлил около моста (рисунок 2.10а). И так же в ритуальном воспоминании об этом моменте инки бросили в свои собственные, искусственные наводнения с моста в Ольянтай-тамбо «прощальное подношение» коки Виракоче, который, как говорили, обитал в «северном море». (Смотри Приложение I.)
Смысл заключительной сцены, переданный в этом рассказе, прервал мою задумчивость. Я был так убаюкан симметрией андского мировоззрения, что потерял нить своего первоначального вопроса. Почему «потоп» 650 года н. э. был так важен для андских жрецов-астрономов? Теперь я понял, что неосознанно сформировал мысленный образ из «мостов» через Млечный Путь, образ, который не предполагал ответа на этот вопрос. Я начал думать о тех «мостах» как просто о путях солнца (эклиптического) через два потока Млечного Пути. Но этот рассказ Виракочи не мог согласовываться с моим «решением». Бог ушел, и «навсегда». Но если «мир наверху», анак пача, находился просто «через» мост, соединявший берега потока небесной реки июньского солнцестояния, тогда, конечно, «мост» был бы открыт в другое время, только не в самом солнцестоянии.
Переводя вопрос на западные термины, потоки Млечного Пути будут всегда видны, восходя в определенное время года в той точке на горизонте, где будет всходить солнце. Иными словами, имеются всегда две области пересечения эклиптической плоскости (солнца) и Млечного Пути. Кроме того, эти два «моста» будут всегда находиться в Скорпионе и Стрельце, с одной стороны, и Близнецах и Тельце — с другой. Если эти две сферы составляли «мосты» между мирами, как я неосознанно полагал, то почему Виракоча отправился на землю богов, и навсегда?
Я почувствовал, что ответ должен иметь какое-то отношение к тому факту, что Млечный Путь больше не всходил в июньское солнцестояние. Но произошло это, только когда я осознал, что, жалкий исследователь «Мельницы Гамлета», я был тем, кто постиг полное значение той структуры, какую стремился понять.
Я должен был еще понять, какие в точности значения подразумевали термины анак пача, кай пача и пача уку. На одном уровне они просто представляли собой небесные аналоги сверхъестественных сфер. «Другие миры» не были какими-то неопределенными северными и южными областями неба. Земля богов и земля усопших имели весьма специфические границы. Насколько хорошим был мост, если он не мог доставить вас туда, куда вы хотели попасть?
VI
Я попробовал прояснить, какое значение был призван нести мифологический термин «мост». В западной классической древности, согласно Макробиусу, перевоплощающиеся души, покидавшие землю через низшие «Ворота», в Стрельце, возвращались через Близнецов, «Ворота… где пересекаются Зодиак и Млечный Путь». Эта формулировка не озадачила бы норвежцев. Их усопшие должны были пересекать большой мчащийся поток, чтобы войти затем через ворота, называвшиеся Хельгриндом, которые, как было известно, иногда бывали открытыми, но только «когда усопший возвращался, чтобы посетить землю». Как и в Андах, путь в преисподнюю был улицей с двухсторонним движением. Что касается богов, то они проходили через мост «хрупкий и крутой, висевший над пропастью, такой же тонкий, как игла или острие меча». Мост Бифрост, через который боги мчались верхом, должен был, как утверждал Снорри Стурлусон, пересекать Млечный Путь. Он был превращен в щепки при Рагнароке, закате богов, когда Мидгард, «среднее царство живых людей, и Асгард, царство богов, были опустошены». Казалось, что Снорри Стурлусон понял поспешность последнего путешествия Виракочи.
Бринтон также знал о распространенности мостов, охватывающих традиционные литературы:
«Всюду мы слышим о воде, которую душа должна преодолеть, и о противнике, будь то собаке или злом духе, с которым она должна бороться.
Все мы знакомы с псом Цербер (называемым Гомером просто «псом»), который препятствовал переправе через реку Стикс, которую души должны пересечь… Пережитки этого убеждения встречаются в Коране, который описывает мост эль Сират, тонкий как волос и острый как турецкая сабля, протянутый в один пролет от небес до земли; в мосте Бифрост, который, согласно Эдде, протянут от земли до небес; в персидской легенде, где дуга радуги Шиневад переброшена через мрачную пучину между этим миром и домом счастья; и даже в современной христианской аллегории, которая изображает воды мифического Иордана, текущие между нами и Небесным Городом».
Слово чака, означающее «мост» и в кечуа, и в аймара, часто употреблялось в астрономических контекстах для описания положений в небесной сфере, представлявших геометрический интерес. Ольгин перечислял также пункучаку, где пунку означает «дверь», а чака, стало быть, относится либо к порогу, либо к проему. Другим родственным словом — опять же встречающимся в обоих языках — является чакана, означающее «трап» или «лестницу». Эти слова — величающие важные астрономические соединения: «мосты», «дверные проемы» и «лестницы» — использовались в мифах для определения границ, которые одновременно были астрономическими и находились между отличающимися образами существования или формами сознания.
Единственный небесный объект, несомненно идентифицированный в литературе периода конкисты одним из этих имен — чакана, являет собой три звезды Пояса Ориона, известные испанцам как «Три Марии». Эти три звезды простираются по небесному экватору, то есть большому кругу звезд, проходящих через зенит, если смотреть с экватора земли. Уртон предполагал, что название чакана указывало на местное представление о том, что эти три звезды соединяли, как будто лестницей, две разных зоны небесной сферы, север и юг небесного экватора[39]. Снова специфическое употребление термина «лестница» для обозначения разделения между северными и южными небесными полушариями предполагает понятие вертикальности, подъема и спуска, «верха» и «низа» между севером и югом.
В андской культуре понятие «моста» (или «лестницы») использовалось как космологическая метафора: в мифе оно означало точку соприкосновения между этим миром и сверхъестественными мирами, в то время как в чисто астрономическом использовании оно относилось к абстрактным «переходам» в небесной сфере, то есть к положениям, значение которых состоит в отметке участков неба, имевших решающее значение для понимания необходимой геометрии фиксированной сферы звезд.
Так, например, инки подчеркивали важность понятия небесного экватора, чаканы, устанавливая восточно-западную условную линию как основной организующий принцип в планировке Куско. Эта линия определялась наблюдением восхождения солнц равноденствий над горой, которую они именовали Пачатусан, буквально «столп пространства-времени».
К северу от этой основополагающей условной линии, в анан (Верхнем) Куско, жило привилегированное сословие, или часть населения, связанное с войной и империей, а к югу от этой линии располагался урин (Нижний) Куско, населенный сословием, связанным с религией и сельским хозяйством. (Аналогичным образом уделом усопших из Верхнего Куско был вечный покой на севере вместе с богами, доступными в течение июньского солнцестояния, в то время как умершим из Нижнего Куско следовало проходить через мост декабрьского солнцестояния на юг.) Таким образом, архитектурный подтекст андского мировоззрения, встречающийся в названиях важных мест, таких как Анкасмарка и Чакамарка, так же как в «доме», изображенном на рисунке Пачакути Ямки, включал понятия в структуру или геометрию небесной сферы. Его воспроизведение в топониме «Пачатусан» подчеркивает значение для инков небесного экватора как концептуального элемента в структуре «всемирного дома», а также глубокую геомантическую основу инкского мировоззрения, которая стремилась отразить принципы организации небесной сферы как в социальной, так и в гражданской сферах.
Уртон и Зуидема исчерпывающе описали тему слова чака, и тогда, во время конкисты, этот термин, означающий «мост», был выведен из употребления в пользу христианского термина cruz, «крест». Например, современное кечуанское название Южного Креста — уч 'уй крус («малый крест») или льюту крус («тинамоу [андская куропатка] крест»). Идентификация Южного Креста с куропаткой, льюту, имеет, несомненно, доколумбовое происхождение. Информанты Авилы Идентифицировали льюту как «темное пятно, которое пролегает немного впереди «небесной Ламы». Льюту по сей день остается андским названием западного Угольного Мешка, черного облака, расположенного в юго-восточном секторе Южного Креста, которое всходит, как описал Авила, «чуть раньше» альфы и беты Кентавра, «глаз ламы» (рисунок 3.5). Причиной, почему льюту крус должен был заслужить название чака, является, помимо его вида, то, что он отмечает известное соединение в кечуанских небесах. Как указывал Уртон, Южный Крест расположен там, где два потока Млечного Пути, с «истоками» на севере, встречаются «в южных небесах». Это положение составляет чаку в ее чисто астрономическом смысле «важного соединения».
Другой такой чакой, облеченной в формулировку после конкисты, был cruz calvario, или Крест Голгофы, который мы уже видели (глава 2, рисунки 2.2 и 2.3). Эти звезды, отмечая ту область неба, где Млечный Путь пересекает эклиптику, были в инкские времена видны при восходе в декабрьское солнцестояние. Положение этих звезд требует, чтобы они величались крестом или чакой, потому что они идентифицируют положение мифологического моста через Млечный Путь, ведущего к земле усопших. Неизвестно, рассматривались ли эти ясные звезды как единое созвездие в доколумбовых Андах, но три звезды его крестовины представляли три «звезды-птицы» на прямой линии, спешащей в преисподнюю.
В период после конкисты этот подход маскировался под христианским понятием смерти и воскрешения Христа, как оно символизируется Крестом Голгофы. Это пример того, как испанские репрессии в период конкисты подталкивали индейцев Анд к действиям «партизанского синкретизма». Сущность этой практики должна была идентифицировать и принять те элементы технического языка мифологии, которые казались также присутствующими в традиции их угнетателей. В течение трех дней между Его смертью на Горе Голгофе и Его воскрешением, согласно христианской традиции, Иисус спускался в преисподнюю, чтобы освободить души мертвых.
Я начал делать некоторые рисунки. Рисунок 3.11а изображает точку зрения снаружи неподвижной сферы звезд, направленную вместе с землей на бесконечно малую точку в центре круга. Диагональный круг представляет эклиптическую плоскость, траекторию орбиты земли вокруг солнца; соответствующим образом отмечены положения солнца — как на фоне неподвижных звезд — в июньское и декабрьское солнцестояния. Север помечен с точки зрения Поляриса.
Чтобы прояснить свое размышление, я также привлек северный и южный тропики — то есть небесные тропики Рака и Козерога (рисунок 3.1 lb). На глобусе Земли эти круги отмечают самые северные и самые южные широты, в которых солнце проходит через зенит. Эти события происходят соответственно в июньское и декабрьское солнцестояния. Спроецированные на небесную сферу, как это принято в навигации по звездам, эти круги указывают на самую северную и самую южную небесные широты, которых может достигать солнце; взятые как целое, они отмечают круг звезд, которые пройдут через зенит, когда они просматриваются с широты тропиков на земле, в двадцати трех с половиной градусах соответственно северной и южной широт.
Рассматривая какое-то время этот эскиз, я начал понимать, каким образом весь андский материал о входах в анак пача и уку пача мог согласоваться с беспокойством жрецов-астрономов, наблюдавших «потоп» 650 года н. э. Во второй раз я имел случай убедиться в своей собственной неисправимой глупости., Как и в своих первых попытках понять мифы о «потопе» — когда я потратил впустую месяцы, забывая о том факте, что животные в мифах обозначают свои дубликаты в небе, — я снова не сумел применить то, что уже знал, к изучаемой ситуации. Еще раз я натолкнулся на некий аспект в своем рассуждении, который решительно не давал действительно поверить идеям Сантильяны и Дехенд. Ответ, который я искал, был там под рукой. Ключ заключался в осознании, что самой большой из всех топографических метафор в техническом языке мифологии была метафора самой «земли»:
…«земля», в самом общем смысле, означает идеальную плоскость, проложенную через эклиптику… «земля», — это идеальная плоскость, проходящая четыре точки года, равноденствий и солнцестояний. Так как четыре созвездия, восходящие гелиакически в двух равноденствиях и двух солнцестояниях, обусловливают и определяют «землю», она называлась четырехугольным (что ни в коем случае не означало «веры» в ее четырехугольность, как у «примитивных» китайцев и так далее). И так как созвездия управляют четырьмя углами четырехугольной земли только временами [из-за прецессии], такая «земля», можно справедливо сказать, погибает, а новая земля восходит из вод, с четырьмя новыми созвездиями, восходящими в четырех точках года»[40].
Теперь я переработал свой первый рисунок, чтобы включить точки равноденствия по эклиптике (рисунок 3.12а) и перейти к «четырехугольной земле». Затем, как показано на рисунке 3.12Ь, я набросал «Всемирный Дом», то есть метафорическую альтернативу топографическим метафорам «гор», «моря» и так далее. Я нарисовал «столпы» в солнцестояниях и равноденствиях (чье расположение среди звезд просматривалось в Куско над горой, именовавшейся «столпом пространства-времени») от тропика до тропика, чтобы осмыслить «верхнюю часть и нижнюю часть» структуры. Рисунок 3.12с соединяет эти шаги в единую последовательность.
Наконец, я нарисовал «небесную землю» с точки зрения андской терминологии (рисунок 3.13). В точке июньского солнцестояния я поместил «высочайшую гору в мире», а в декабрьском солнцестоянии — панцирь раковины на дне «моря», самый низкий топ небесной земли.
Теперь я понял, что, с точки зрения мифологии, средний «мир» из трех андских пачас, именно кай пача — переведенный испанцами как «земля», но буквально означающий «это пространство-время», — должна относиться к району небесной сферы между тропиками. Эта трактовка не противоречила ни одному из сведений, которые я нашел и освещал их все.
Идея «небесной земли» совершенно очевидно была заложена в астрономическую основу теории миров-веков. Во время пачакути («опрокидывания пространства-времени»), когда, согласно мифу, «весь мир» был разрушен, именно «земля» как определяемая звездами, восходящими гелиакически в солнцестояниях и равноденствиях (четыре «колонны», поддерживающие «мир»), «разрушается», то есть смещается прецессионным движением. Как мы видели, это явление занимало центральное место в андских мифах о потопе. Внешне они говорили, что «весь мир» был разрушен потопом, в то время как астрономический подтекст означал не что иное, как гибель точек солнцестояния в звездах. Земля и «земля» — это были два уровня, которыми оперировали мифы о ламе и потопе. Один сообщал историю событий на земле (кай пача, «этот мир»), в то время как другой говорил о времени и движении, о смерти этого пространства-времени (опять-таки кай пача) и сотворении нового «этого пространства-времени», все вследствие предшествующих изменений времени и движения на уровне прецессии.
Логика этих идей была столь же непреклонной, сколь и податливой. Ограничения «небесной земли» были идентичны ограничениям эклиптической плоскости. Отсюда метафорические ассоциации струились без усилия. Поскольку самая высокая отметка на земле — гора, то самый высокий — означающий самый северный — указывает на «небесную землю», которая, определяемая положением солнца среди звезд в июньское солнцестояние, должна называться «горой». Та же логика требует, чтобы раковина звучала в декабрьское солнцестояние. Далее, и вполне логично, если имелось три «мира» и было известно, что границы среднего мира, кай пача, простирались к тропикам, тогда точное расположение «мира наверху», анак пача, и «мира внизу», пача уку, были также известны. Землей богов был весь сектор небесной сферы к северу от северного тропика, а землей усопших — весь сектор небесной сферы к югу от южного тропика[41]. Эта идея изображена на рисунке 3.14.
И теперь я узнал, почему потоп 650 года н. э. был настолько важен для андских жрецов-астрономов: «мост» на землю богов был разрушен — не потому что солнце больше не пересекалось путями с галактической плоскостью, а потому что это пересечение больше не вело к земле богов. Вот почему Виракоча ушел, и ушел «навсегда». Этот мост имел название — чакамарка, «мост на самую высокую точку дома» — и это название означало северный тропик, самую высокую точку «Всемирного Дома». Но мост исчезал — ради точности: под северным тропиком — «опущенный» прецессионным движением. Млечный Путь больше не всходил бы там и тогда, где и когда солнце коснулось северного тропика. Это был, как мы видели, именно астрономический подход мифов о «потопе». Небесный аналог «входа к богам» — то есть «мост» в анак пача — был разрушен. Впервые, поскольку Млечный Путь «пришел на землю» в 200 году до н. э., это соединение — видимое проявление основ андской духовной жизни, великое знамение взаимной гармонии, запечатленное на небесах самим Творцом, — исчезло.
VII
Вся информация, собранная мною о Млечном Пути и о маршрутах к сверхъестественному миру, не противоречила такому пониманию. И многое из этой информации в свете этого приобретало более глубокое значение. Например, как только я понял, что уку пача, «мир внизу», имел четкие границы, я подметил нечто новое об объектах их темного облака — Лисе, Жабе, Куропатке и Змее. Я уже знал, что эти животные были связаны с преисподней и что это было справедливым не только для современных классификационных схем, таких как у аймара[42], но также встречалось от случая к случаю в литературе периода конкисты. Единственное исключение — это Лама, которая лишь иногда увязывается с преисподней (вероятно, потому что она представляет, как это могло бы быть, «мать всех предков») и иногда с землей. Поэтому изумляло понимание того, что все созвездия из темного облака авторитетно определяли, будь то с периода конкисты или в современных исследованиях, что Лама, Жаба, Лиса, Куропатка и Змея, — все они находятся к югу от южного тропика. Кроме того, я стал понимать, что поведение земных дубликатов этих объектов, опять же за исключением Ламы, обладало одной общей характеристикой: все эти животные живут в земных норах, которые на языке мифологии представляют входы в преисподнюю. Жаба зимует в земле. Лиса живет в норе. Куропатка, или льюту, откладывает свои яйца в углубление в земле. Змея живет под землей. Уку пача расположен под южным тропиком.
Последовали другие догадки. Я понял, — что Лиса, чернильно-черная собака, расположившаяся перпендикулярно Млечному Пути, вероятно, представляла мифического черного пса, чья служба состояла в перенесении (вместо моста) душ мертвых к месту их конечного покоя на «другой стороне» небесной реки. У современных говорящих на аймара жителей земные лисы обычно упоминаются как «горные собаки» и считаются в народных рассказах, наряду с жабой и другие животными, живущими «внутри земли», связанными с преисподней[43]. Кроме того, Лиса стояла перед правым направлением, чтобы получить за выполненную работу. Ее морда восходила вначале, а ее хвост — в конце, означая, что, как садится солнце в декабрьское солнцестояние, она была повернута «головой на запад», готовая нести души уходящих усопших через великую реку на землю усопших[44].
Это не отличалось от севера. В андской мысли звезды к северу от северного тропика «принадлежат» к «мир наверху». Единственным небесным объектом, о котором было известно с периода конкисты, что он занимал это место, является самец ламы, Уркучильяй/Лира, который, подобно шаману, держится высоко в горах.
Помимо своего прозвища пако (шаман), самец ламы имел и другую кличку: лъяка, означающую «боевое копье с плюмажем». То, что копье было связано и с шаманством, и со звездой Be гой, известной также как уркучильяй, самец Ламы, доказывается тем фактом, что дорогое изображение этого же копья присуждалось победившим бегунам в Ольянтай-тамбо во время обрядов, совпадающих с гелиакическим восходом Беги в Лире (Приложение 1 и рисунок 3.15). Таким же образом, каким созвездия из темного облака связаны с преисподней, именно пако/льяка/шаман принадлежат «миру наверху». В шаманской иерархии в окрестностях современного Куско наиболее почитается титул, которым обладает только один человек и который является анак вакайод, «он, который способен видеть мир наверху». Символическое значение копья в таких шаманских делах встречается как в современном, так и в инкском обычае.
Исследования Зуидемы и Киспе, например, показывают, что это копье являет собой важнейший символ сложных современных ритуалов, связанных с увеличением стад и проводившихся во время праздника Сан-Хуана 24 июня, во времена инков — последний день празднества Инти Райми в июньское солнцестояние. В сегодняшних церемониях шаман, хозяин домашнего скота, несет льяку (копье) высоко в горы, чтобы обратиться к богам гор, уамани, от имени стад. Лъяка, ламы, пики гор и июньское солнцестояние — эта форма андского мышления доказала, что она неподвластна времени.
Зуидема также показал, что символика копья имеет глубокие корни в доколумбовых Андах. Вот как он говорил об андской ушню, пятиступенчатом пирамидальном сооружении, плоская поверхность которого представляла вершину космической горы:
«Хронист Кабелю Бальбоа упоминает другое название ушню: «пильяка чуки». Чуки — копье, а о том, что касается пильяка, Ольгин (1608) говорит: «Пильяка лъяйта, льяуту (лента) двух цветов, которую ткут вопреки моде фиолетовой и черной». Теперь в своей книге Тиуанаку Познанский воспроизводит рисунок на инкском к 'эро [деревянном бокале] цветного ушню и Инки со всеми его царскими знаками отличия. Пирамида имеет шесть уровней. На высшем уровне помещено копье, украшенное двумя лентами, одной фиолетовой и одной черной».
Запомните эти две ленты. Позже они окажутся чрезвычайно важными. Теперь же отметим: Инка сидел наверху искусственной горы, или ушню, он нес посох, именовавшийся льяка и символизировавший силу шаманского господства, власть, чьей путеводной звездой была Вега в Лире, а самец Ламы, тоже называвшийся льяка и располагавшийся на земле богов, выше северного тропика. Как у живого полубога, Сына Солнца, власть Инки символизировала льяка, а его последнее пристанище находилось в «мире наверху», то есть по аналогии с несущим посох Виракочей.
Если изящество было признаком значимой теории, то я имел все основания испытывать вдохновение от того, что обнаружил. Самое скупое объяснение значения мифологического «потопа» 650 года н. э. состояло в понимании, что андские сверхъестественные миры имели небесные аналоги с четкими положениями в небесах. Я чувствовал, что этот критерий мог бы выдержать бритву Оккама. Он ронял «связную трактовку» в бесчисленные песчинки явно несопоставимой информации, так что каждый отдельный факт казался отражающим образ целого. А будучи проверенным, этот образ оживлял планетарий, как автомат для игры в китайский бильярд.
С другой стороны, имелась буквально зияющая дыра в изображении того, как андские жрецы-астрономы представляли себе небеса. На рисунке 3.13 видно, что он представляет пределы «небесной земли» с точки зрения параллельных тропиков. Это представление означает, что андские жрецы-астрономы мыслили в категориях полярных и экваториальных координат. Такая система начинается с представления о небесной сфере и организует эту неподвижную сферу звезд посредством проецирования оси вращения земли снаружи на Полярную Звезду. Полюс этой сферы проходит через небесный экватор под правильными углами. Все другие ориентиры в этой сфере, осмысливаемой таким образом, могут встречаться в воображаемых полосах через звезды, параллельных небесному экватору, полосах, которые мы называем широтой. Небесные тропики представляют две такие полосы. Концептуальная основа астрономической системы, описанной в «Мельнице Гамлета», покоится на полярных и экваториальных координатах.
Проблема состояла в предположении, будто эта система не существовала в Андах и категорически противоречила образу осмысления небесных движений, наиболее распространенному среди коренных американских народов, живущих в тропических широтах от Мексики до Боливии. Эта парадигма, разработанная Энтони Авени, основана на предположении о том, что, поскольку в тропических широтах угол восхода и захода небесных тел менее остр, проживающие там люди используют в качестве своей основной системы эталонов для наблюдения круг горизонта и вертикальную ось, образуемую проходом солнца через зенит, явление, которое происходит только в тропических широтах (Приложение 2).
Однако ничто не беспокоило меня так, как признаки того, что придется усомниться в этой схеме. Посмотрите на рисунок 3.13. На этом изображении нет никакого полюса. Я действительно не имел представления, оперировали ли андские астрономы с понятием оси небесной сферы, и не знал, где искать такую информацию. Насколько я мог судить, этой информации там фактически не было. Какое огорчение: ни небесного полюса, ни тропиков, ни небесных тропиков, ни смысла в мифах о «потопе».
Я просмотрел все шаги, которые привели меня к этому тупику. В конце концов я решил, что затраченное время не давало оснований для отчаяния. Это было время, чтобы научиться доверять изучаемой мною традиции. Жрецы-астрономы, сотворившие мифы о 650 годе н. э., были серьезными людьми. Я достаточно хорошо был знаком с археологическими данными, чтобы знать, что годы, непосредственно прилегающие к 650 году н. э., были одним из наиболее беспокойных периодов во всей истории Анд — именно тогда впервые организованная война охватила андское общество. Следовательно, внедрение силы в ткань андской жизни могло быть не чем иным, как тяжелым ударом по великому фундаменту взаимных обязательств, на котором покоилось андское понимание справедливости. В этом смысле должно было казаться, что дух Виракочи определенно «покинул землю». И если великая небесная идея-форма, воплощавшая наставления бога, действительно испытала свою собственную, параллельную катастрофу с разрушением «моста» между мирами проживания и высшими силами, я не мог отрицать мудрость вечного воспоминания об этом моменте.
Я должен был еще многое понять, чтобы справиться с проблемой оси мира. Я настроил себя на длинный и трудный процесс. Но оказалось, что это заняло совсем немного времени — ровно столько, чтобы отыскать одно-единственное слово в очень старом словаре.
ГЛАВА 4
ВИРАКОЧА
…О бедствиях людей
Я расскажу вам, как их, прежде малых детей,
Наделил я рассудком и разумом,
И не ради их умаления я говорю,
Но о моих дарах, чтобы увековечить любовь:
Кто изначально видел, тот знал не то, что видел,
А слышавший не слышал, беспорядочно проводя Дни своей жизни, томительно, будто в мечтах, Без цели; и никаких светлых домов, Ни кирпичной кладки, ни плотницкого мастерства они не знали;
Но жили, как мелкие муравьи, дрожащие от ветра,
В темных пещерах прячась, проводили жизнь: Не было у них надежных примет ни о наступлении зимы,
Ни о появлении цветущей весны,
Ни о полном фруктов лете: так проживали они каждое время года
И не задумывались, пока тайные знания О восходящих и заходящих звездах я не открыл им.
Эсхил.
Боги земли и моря
Стремились найти это Дерево в природе; Но поиски их были напрасными: Оно растет в Человеческом разуме.
Современный историк религии Мирче Элиад показал, как образы трех взаимосвязанных миров получают великолепное развитие в символике северного и центрально-азиатского шаманства. В представлении этих культур, «вселенная имеет три уровня — небо, землю, преисподнюю, — соединенные центральной осью». Эта ось символически мыслится как центральная опорная колонна зданий или, там где существуют иные архитектурные стили, как дымовая труба на крыше. Космическая колонна также иногда представляется в виде срубленного ствола дерева, поднимаемого, как лестница, шаманом в состоянии экстаза. Это «древо вселенной» проходит через «пуп земли» и обеспечивает шаману доступ к трем мирам посредством экстатических подъемов и спадов. Третий образ, космическая гора, служит той же цели. Как древо вселенной с ветвями, протянутыми в звездные небеса, и корнями в преисподней, так и космическая гора, — все это «просто более разработанные мифологические формулировки Космической Оси (Столпа Вселенной и т. д.)».
Здесь, как и у инков, северное направление ассимилируется с вертикальным, как, например, в случае с космической горой. Для якутского шамана, который поднимается на гору семи преданий, высшим является «пуп неба», синоним Полярной звезды. Для индусов священная гора Меру представляла центр мира, над которым висела Полярная звезда. Бурятские шаманы утверждают, что Полярная звезда прикреплена к вершине горы Вселенной. С абсолютной плавностью эти образы переходят в архитектуру:
«Тюрко-алтайцы представляют Полярную Звезду как столп; это «Золотой Столп» у монголов, калмыков, бурят, «Железный Столп» у киргизов, башкир, сибирских татар, «Солнечный Столп» у телеутов и так далее… Татары Алтая, буряты и сойоты ассимилируют столб юрты со Столпом Неба. У сойотов столб возвышается над юртой, а его конец украшен синими, белыми и желтыми кусками материи, представляя цвета небесных районов». /Выделено автором./
Аналогичным образом инкский льяка, украшенный лентами, вибрировал на вершине изображавшейся в традиционном стиле горы, которая называлась ушню и которую представлял в небе выше северного тропикауркучшьяй, самец Ламы в Лире.
Образы центрального столпа дают представление о различных «дырах», проделанных между мирами и доступных для шамана в состоянии экстаза. Они могут вести в преисподнюю, а также в мир наверху. Костюм якутского шамана несет символ «Щель в Землю», называемый «Дырой Духов», и он сопровождается в мир духов не каким-то живущим в норах млекопитающим, а птицей, поганкой, которая может как летать, так и погружаться в море. У алтайцев спуск в преисподнюю достигается через «дымовую дыру земли», предполагающую модель космических уровней, сложенных один на другой.
Эта модель действовала у майя, у которых пол площадки для игры в мяч опирался на крышу здания Властителей преисподней Шибальбы, точно так же, как она действовала у гольдов в Сибири, которые насчитывали три космических дерева, по одному на каждый мир, а среди других сибирских народов древо мира живых достигает дворца верхнего мира у Бай Улган. У хопи, чьи мифы соотносятся с идеями о Мировых веках, церемониальная кива, с ее входом по лестнице через дымовое отверстие в крыше, имеет также отверстие в полу, называемое зипапуни. Зипа-пуни символизирует центр и точку появления предков из предшествующего мира, точно так же, как отверстие в крыше обращено наружу, как к миру наверху, так и к будущему.
Сантильяна и Дехенд исследовали специфический аспект этого образа, а именно — почему у арабов ближние околополюсные звезды северного неба называются «отверстием мельничной втулки» или почему Клеомед (около 150 года н. э.) говорит о тех же самых участках неба: «Небеса вращаются, подобно жернову». Иными словами, осевое представление о столпе-горе-дереве обнаруживается еще и в другом причудливом образе, пронизанном своим собственным специфическим комплектом вачентностей. Поэтому образ небесной мельницы призван говорить о времени и движении. Столп вселенной, возвышающийся к Полярной звезде, становится выкованной богами осью громадной мельницы. Сам жернов — то есть небесный экватор — «разделенный пополам» по прецессионной полярной оси, перемалывает мировые века с помощью зодиака. В норвежской мифологии это была Мельница Амлетуса/Амлоди, также известного под именем Гамлета. В «Прозе Эдде» Снорри Стурлусона она называлась Гротте, «дробилкой», принадлежавшей Фроди и перемалывавшей золото, покой и изобилие. Но жадность Фроди стала известна двум исполинским девам, которые заколдовали мельницу, чтобы она принесла ему несчастье. Затем морской бог Мизингр поднялся на поверхность, убил Фроди и забрал мельницу на свой корабль. И этот корабль ушел на дно где-то в Северной Атлантике:
огромные опоры отлетели от бункера, железные заклепки лопнули, деревянный столб разбился в щепки, бункер рухнул, массивный жернов раскололся надвое.
С тех пор — и в то время, о котором повествует эта история, — водоворот засасывался через отверстие в жернове, размалывавшем соль на дне моря.
С эрудицией, которая как по широте, так и по глубине необычна для нашего времени, Сантильяна и Дехенд продолжали прослеживать вездесущность «Мельницы Гамлета» в Индии, Персии, Скандинавии и так далее. Мельница имела владельца, чьим небесным проявлением была планета Сатурн. Для наших целей Гротте, буквально «осевой блок», дает достаточное основание утверждать: имелось некое представление, которое «организовывало» небесную сферу неподвижных звезд в отдельный образ, ту же самую полярно-экваториальную Систему, которая используется до сих пор в мореплавании по звездам. Кроме того, когда «столбовое дерево» или «столп вселенной», прикрепленный к Полярной звезде, сорвался со своего гнезда и начался «водоворот», мы обнаруживаем безошибочный образ прецессии, мельницы, которая перемалывает время. Потому что ориентация оси вращения земли смещается внутри сферы неподвижных звезд (рисунок 4.1), полярные звезды изменяются во времени. Великая пирамида ориентировалась на звезду Тубан (альфа Дракона) приблизительно пять тысяч лет назад — факт, столь часто пропускаемый учеными, что, как отмечают Сантильяна и Дехенд, побудил доктора Александера Пого из Паломарской обсерватории подчеркнуть: «Я отказываюсь ссылаться на дополнительные примеры упрямой убежденности наших египтологов в неподвижности небесного полюса». Иными словами, согласно Сантильяне и Дехенд, устный образ «водоворота» символизирует, по крайней мере в одном из применений, площадь дуги приблизительно в сорок семь градусов в диаметре — двойной радиус в 23,5 градуса, образуемый наклоном экватора земли к эклиптике в северных небесах, где ось вращения земли движется вокруг полюса нашей солнечной системы, оси вращения солнца.
«Водоворот» был также известен как «пуп моря», который, как и пупок у хопи, зипапуни, находится в «центре» вертикально расположенного космоса. Опять же непостоянство, с которым такие образы меняют свои значения, подчеркивается Элиадом:
«…из-за своего положения в центре вселенной храм или священный город всегда является местом соединения трех космических сфер: рая, земли, ада. Дур-ан-ки, «соединение рая и земли», являлось названием святилищ Ниппура и Ларсы… оно всегда является Вавилоном, местом соединения земли и преисподней, из-за чего города строились на баб-апси, «Воротах Апсу», где апсу обозначало воды хаоса до Сотворения мира [так же, как болотистые топи у входа в Персидский залив]. Скала в Иерусалиме достигала подземных вод (iehoum)… Вершина космической горы — это не только высшая точка земли; она также является центром земли, точкой, в которой начиналось Сотворение… «Святейший сотворил мир, словно эмбрион. Так же как эмбрион исходит от пупа, так и Бог начал создавать мир с центра и от него уже шел в различных направлениях»… В «Ригведе» …вселенная мыслится простирающейся от центральной точки…Согласно месопотамской традиции, человек сформировался в «пупе земли», в узу (плоти), cap (соединении), ки (месте, земле), где также расположено Дур-ан-ки, «соединение рая и земли».
Отличительная черта этих представлений ведет нас к исторической проблеме. Элиад ясно говорил о том, что эти идеи «принадлежат» отнюдь не шаманству:
«Хотя собственно шаманский опыт можно оценить как опыт мистический на основании космологического представления о трех сообщающихся сферах, это космологическое представление отнюдь не принадлежит исключительно к идеологии сибирского и центрально-азиатского шаманства, ни к какому-либо другому шаманству. Оно является универсально распространенной идеей, связанной с верой в возможность прямого сообщения с небом». /Выделено автором./
В другом месте Элиад пояснял, что, по его мнению, «разброс» этих идей был результатом скорее прямого культурного влияния, чем какого-либо духовного механизма, содержащего представления о «вселенной» или «природе». Тем самым он подчеркивает воздействие на развитие шаманства «влияний с юга… которые изменили как космологию, так и мифологию и методы экстаза. Среди этих южных влияний мы должны принимать во внимание…в конечном счете месопотамские влияния…». Сантильяна и Дехенд пояснили свое собственное подобное представление тем, что тот же «самый древний» Ближний Восток является источником понятий, связанных с тремя сферами, семи или девяти небес, «столпа вселенной» и так далее.
По нынешним «обязательным правилам» науки, это представление ставит иное затруднение. Точка зрения гуманитарных наук состоит в том, что «самый древний» Ближний Восток — это семь тысяч лет тому назад, Месопотамия до культуры Эль Обейд. Перешеек через Берингов пролив исчез приблизительно одиннадцать тысяч лет тому назад, а вместе с ним, согласно авторитету ортодоксальной науки, исчез также всякий, даже самый случайный из контактов между Новым и Старым Светом. С другой стороны, три сферы из андской космологии и многократные небеса у майя и ацтеков — не говоря уже об андской оси вселенной, которая является красной нитью данной главы, — предполагают либо то, что следует искать другой, более ранний, чем древний Ближний Восток, источник происхождения этих особых идей, либо то, что такие идеи достигли Америки через еще недостаточно проверенные каналы диффузии. И не впадая в ошибку, мы сталкиваемся с основами «метаязыка», распространявшегося между различными экосистемами и широтами, но ни в каком-то «очевидном» смысле. Иначе по какой еще причине должны были бы, например, инки, с их столицей на 13 градусе южной широты, величать северное направление «высшей точкой» и ассоциировать его с «верхом», «крышей» и «горой»?
Используемый в предыдущих главах сравнительный материал неамериканского происхождения не имеет решающего значения для формирования Америки; изложенный до сих пор андский материал опирается на самого себя. Сведения из-за пределов Америки приведены в основном не для того, чтобы предположить вездесущность данной модели — хотя и для этого тоже, — а скорее, чтобы подсказать читателю, что что-то не верно в том, как нас учили понимать историю человеческой жизни на земле. От ступенчатых пирамид Вавилона до пирамид Паленке и от Dendera Зодиака до небесной Ламы обнаруживается наличие не некой слабой совокупности «верований» в загробную жизнь, а повсеместного и весьма структурированного языка, зеркально отражающего одинаково сложное понимание небесной механики, — и все это ради познания природы конечного удела человека. На поиски этого знания были направлены лучшие умы и народные сокровища древнего мира. Если бы оно пришло, то могли ли в результате потрясения те люди — серьезные люди — пускаться в рискованные путешествия на «край известного мира» в поисках родственных духов? Кто знаком с полинезийской навигацией, знает, что древняя технология соответствовала уровню своих задач, а полинезийские моряки были искусными мореплавателями. Историю их дел еще предстоит написать, но она не будет написана до тех пор, пока мы, современные люди, остаемся в неведении относительно того, что поиски имеют историю, которую составляет миф.
По иронии, как результат временного успеха в исследовании, наметившегося в предшествующих главах, меня одолели теперь мрачные раздумья. Как и «небо, земля и преисподняя» в азиатском шаманстве, три пача в андской космологии всячески указывали на концептуальную ориентацию на вертикальное, понимаемое как северное, по полярной оси небесной сферы. Эта ось занимала существенное место во всеобъемлющей схеме трех «миров». Однако индейского обращения к ней я как раз и не знал.
Но это было только частью проблемы — вопросом левого полушария, технической стороной проблемы. Я начал также осознавать, что утратил контроль над правым полушарием уравнения. Если бы я хладнокровно взглянул на мифы о ламе и потопе, то единственное, что я мог бы сказать с уверенностью, — это то, что они описывали особое астрономическое событие. За исключением единственного предположения о том, что мост, по которому шагал Виракоча, был связан с предсказанным пако потопом, я не видел явной связи между повседневными андскими религиозными убеждениями и очевидной обеспокоенностью в андской мифологии сообщением о времени на уровне прецессионного изменения. Сказать, что эти мифы были связаны с андской духовной и религиозной мыслью, потому что привлекли внимание к прекращению гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, было бы тавтологией. Скорее я сам, а не мифы, восполнял «недостающие» измерения мифа, исследуя материал, который казался связанным с ним.
С другой стороны, не подлежало сомнению важное значение мифов о ламе и потопе. Иначе зачем бы еще было составлять и помнить их? Мне казалось абсурдным, на первый взгляд, полагать, что такие мифы не были тесно связаны с основой андской духовной мысли. Иначе в поиске религии пришлось бы наблюдать нелепое зрелище космологии.
В этот момент я думал, что передо мной было две отдельных проблемы: одна — «техническая», имеющая отношение к «недостающей» оси небесной сферы, другая — «правого полушария», относящаяся к «недостающей» связи между андской традицией астрономического наблюдения и андской религией. Мне еще предстояло понять, что решение обеих этих проблем скрывалось в очевидной достопримечательности. Виракоча, как вы видите, нес посох.
Я пришел к поворотному моменту в своем исследовании. Прежде я следовал предположению Сантильяны и Дехенд о том, что в некоторых употреблениях в мифах «животные являются звездами», а «топонимы — метафорами для положения в небесной сфере». Результаты говорили сами за себя. Теперь же я понял, что вопрос, который я задавал о материале — «Что связывало андских богов и астрономию в андской мифологии?» — также предчувствовался в «Мельнице Гамлета». «Третье правило» исследования Сантильяны и Дехенд — «боги — это планеты» — лежало прямо передо мною. Я должен был либо идти вперед, либо остановиться.
Я колебался по трем причинам. Во-первых, я никогда не понимал в полной мере роли «планетарных божеств» в древней космологии, описанной Сантильяной и Дехенд. Я действительно не был уверен в том, что когда-либо смогу осмыслить эту часть их работы. Во-вторых, я снова столкнулся со своим собственным порогом доверчивости. Я просто никогда не считал серьезной возможностью, что техническая терминология, столь же таинственная и замысловатая, как и упомянутые в «Мельнице Гамлета» планетарные знания Старого Света, могла бы явно присутствовать также и в Андах. Кроме того, был ясен единодушный приговор современной науки: единственная планета, с которой андские народы были достаточно знакомы и дали ей имя, была Венера.
В-третьих, мне казалось, что изучение возможности проявления андских богов в образе планет неизбежно привело бы к своего рода методологической расплывчатости. Ничто, кроме молчания научной литературы, не вынуждало меня приводить доказательства, основанные на сравнительных характеристиках Старого Света и андских божеств. В то время я и не помышлял, что чисто андский материал мог бы обеспечить средства для проверки и доказательства.
Оглядываясь назад, могу сказать, что успокаивает осознание того, насколько близко я подошел к отказу от этого пути исследования. Я должен был еще проверить для самого себя, могли ли буквальные значения имен андских богов содержать астрономическую информацию. Самое большее, что для этого требовалось, — это ежедневный поиск по всем современным словарям этимологии различных имен бога Виракочи. Если бы обнаружился хотя бы слабый проблеск какой-то связи между буквальным значением этих имен и техническим языком мифологии, тогда стоило бы рассматривать это далее. Но я читал вторичную литературу, а там мало что иное, кроме жесткого и необычно грубого обращения с фонемами отдельных имен андских богов, говорило о том, что в основе андских религиозных «верований» лежали какие-либо систематические темы или логика.
Например, лишенная смысла трактовка имени бога Виракоча в значении «морской пены» утвердилась в печати уже в 1551 году, и с тех пор данное толкование в качестве общепринятого в письменном виде так ничем и не было заменено. И эта интерпретация уже пережила многие эпохи. Далее, идея поиска в словарях казалась поначалу просто упражнением в бесполезности. Судя по тому, что утверждалось в литературе, я предполагал, что искать значение имени Виракочи было безнадежно.
Склонила весы в пользу продвижения вперед — хотя бы лишь в намерении — мысль о том, что я мог бы по крайней мере поискать одно или два из прочих названий Виракочи, чтобы убедиться, что их не было вовсе. Я начал с имени «Тунапа», встречавшегося в хрониках в качестве одного из имен Виракочи, но особенно часто (более двадцати раз) использовавшегося Пачакути Ямки, индейским дворянином из района озера Титикака. Кечуа и аймара изобилуют смешанными словами. Я знал, что в обоих языках глагол апа-и означает «нести». Затем я нашел туна. Оно означает «жернов». Тунапа Виракоча значило «носитель мельницы». Этот процесс занял примерно девяносто секунд.
Бессмысленное совпадение я оставляю в стороне, ибо в настоящее время нет приемлемого исторического объяснения, почему этот образ должен был появиться в южных Андах. Дехенд пыталась добиться более полного понимания деус фабер, «творца» бога, след которого просматривается во всех мифах высокоразвитых культур от Океании до Скандинавии, и в конечном счете понимания того, что этим богом, обладавшим мельницей, была планета Сатурн. За единственным и долго игнорировавшимся исключением, определенные сведения относительно андских представлений о планетах почти полностью лишены первоисточников, равно как и современных этнографических исследований. Кроме того, евразийская «мельница», несомненно, образовывалась полярно-экваториальными координатами, в то время как, согласно принятой в настоящее время парадигме, андская астрономия основывалась на горизонте, системе средних широт, используя круг горизонта и оси зенита солнца как первичные — на самом деле единственные — средства ориентации. Теперь трудно воссоздать в памяти тот шок, который я испытал после прочтения одной этой словарной статьи. Она открыла огромное хранилище тайн.
II
Похоже, мне нужно было изучить глубже вопрос о том, что знали и чего не знали андские народы о планетах. Логично было начать с планеты Венера, так как она была единственной планетой, идентифицированной местным названием — часка коилъюр — в нескольких испанских хрониках. Коильюр означает на кечуа «звезду», в то время как часка — «растрепанные или взъерошенные волосы», терминологию, непосредственно сравнимую с ацтекской Венерой — тцонте мокке, означающей «гриву».
Английское слово планета происходит от греческого planetai, означающего «странника» и описывающего особую «поведенческую» характеристику планет: в то время как неподвижные звезды не перемещаются относительно друг друга, планеты «блуждают» по эклиптике с изумительным разнообразием периодичностей и орбитальных траекторий. Так как планеты столь же или более ярки, чем самые яркие из звезд, трудно вообразить ситуацию, при которой такие же прилежные наблюдатели за небесами, как и андские народы, не сумели бы заметить у планет уже необычные для них «блуждания». И все же именно в такое состояние дел заставила бы поверить литература, написанная не принадлежащими к андской цивилизации наблюдателями — начиная от испанских хронистов и до настоящего времени[45].
Тем не менее, если бы не существовало научного «бумажного занавеса», исключающего значительные контакты между Новым и Старым Светом, то случай с часка коилъюр уже давно мог бы предложить исследователям андской цивилизации иной ракурс подхода. Вавилонская (а позднее арабская) Иштар/Венера была «с волосами» или «гривой». Плиний отмечал, что «иногда волосы прикрепляются к планетам». Семитское юба, означающая «гриву», и юбар — «сияющий свет, сияние» — обычно относятся к Венере, хотя иногда используются в более общем смысле в качестве «утренней звезды». То, что «с волосами» является преимущественно Венерой, также ясно в случае с Плинием из его упоминания дымчатого кварца — то есть кварца, содержащего тонкие нити полупрозрачной двуокиси титана — как veneris crinis, «волосы Венеры»[46].
Для тех, кто заботится о памяти, этот воображаемый танец никогда не заканчивается. В Андах современный лексикограф Лара отметил кечуанский неологизм ч'аскачау — буквально «день растрепанных волос», означающий viernes, испанское название дня Венеры. Люди, говорящие на кечуа, сами остаются одним из немногих источников, проявляющих какой-то интерес к этому кровному «табу» сравнительной этнографии.
То, что в документе, написанном анонимным хронистом (приблизительно в 1585 году) и оцененном учеными как одной из наиболее достоверных хроник, появляется список из всех пяти видимых планет (Венера, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Марс), дающий их местные инкские имена и атрибуты, — оказывается сюрпризом. Согласно данному источнику, эти планеты были среди главных божеств инков, которые «поклонялись только небесным светилам и звездам».
Список начинается с планетарных божеств с Венеры, часка, утренней звезды, которая «роняет капли росы на землю, когда встряхивает свои волосы». Юпитер называется пируа, буквально «зернохранилищем», и идентифицируется как планетарный опекун и Инкской империи, и плодородия полей. Согласно анонимному хронисту, само имя «Перу» происходит от бога пируа. Марс — это аукайок, буквально «он с врагами», бог войны. Меркурий, кату илья, является защитником торговцев, путешественников и посланников. Сатурн есть ауча — слово, означающее «жестокий» как в кечуа, так и в аймара. Ауча — хранитель небесного огня, носитель посоха и бог справедливости и воздаяния.
Беглое знакомство с. богами классической старины дает возможность уяснить мотив, по которому игнорируется данная информация. Она просто бросает открытый вызов ортодоксальной науке. И таким образом, хотя современные ученые часто называют работу анонимного хрониста авторитетной, они тем не менее считают себя оправданными в игнорировании этих страниц, особенно потому, что не знают иного источника, который бы подтверждал данную информацию[47]. Нет смысла открывать хранилище тайн.
Однако на предание о пяти планетарных божествах ссылался и другой источник периода конкисты, хотя мне известно о непризнании его упоминания научной литературой. Говорящие на кечуа информанты Авилы в Уарочири подтверждали не только общее суждение о том, что они поклонялись небесным объектам, но й в частности то, что они почитали пять «звезд». Кечуанское слово, употребляемое в тексте для обозначения «звезды», — это коилъюр, то же самое слово, которое используется в названии Венеры, часка коильюр. Поэтому интересно отметить, что «звезды», как говорится в упомянутом уарочирийском тексте, «движутся», потому что они движутся по кругу, то есть излишнее описание — если «они» не являются планетами, блуждающими по эклиптике на фоне неподвижных звезд. «Они называют звезды, которые сияют, перемещаются, поскольку они движутся по кругу [на кечуа муйо муйолья], «Пинча-конки». Но те, которые выглядят самыми большими и действительно велики, они называют «Покочорак» [которые приносят созревание], Уилкауарак [которые вызывают восход солнца], «Канчоуарак» [которые вызывают появление блеска]».
Для обозначения трех поименованных «звезд» в приведенном переводе на английский язык используется перевод Аргедаса с кечуа на испанский. Характеристики этих трех «звезд», указанных как «самые большие» из пинчаконки, соответствуют характеристикам трех самых ярких планет — Юпитера, Венеры и Сатурна, — которые анонимный хронист называл инкскими богами: Юпитер {Пируа) как опекун зерновых культур, Венера (Часка) как утренняя звезда и Сатурн {Ауча) как бог небесного огня.
Единственное слово, не переведенное Аргедасом, — это пинчаконки. Его значение разъясняется следующим образом. Пичка — это кечуанское слово для «пяти». Так что эти «очень яркие 3 звезды» (три самые яркие из которых были названы) являются пятью «нечто». Кон — древний эпитет для бога Виракоча, «Кон Тиксе Виракоча». Согласно словарям кечуа, как древним, так и современным, слово кон буквально означает «греметь» и-по метонимии относится к звуку, издаваемому сферическими жерновами — раскатистому грому[48]. Самыми близкими родственными к кон являются слова кечуа и аймара для обозначения «жернова», пишущиеся по-разному — кхона и ккуна[49]. Здесь мы находим обозначение пяти из них, пяти сферических жерновов. Снова проступают черты мельницы.
Поскольку это имя дано пяти «звездам», то кон, вероятно, лучше всего считать слишком номинальным, чтобы переводить его как «священный объект». Употребляемое в контексте планет — то есть «звезд» с особым свойством «перемещаться по мере того, как они движутся по кругу» — слово кон представляет собой, по моему разумению, первый век, который мы идентифицировали местным андским термином, соответствующим истинному мифологическому смыслу слова «бог». Кечуанское окончание — ки, встречающееся в термине пинча/кон/ки, сегодня пишется как ке и означает то, что кечуанист Антонио Кусиуаман называет «притяжательным», то есть суффиксом, используемым для придания изменяемому таким образом слову смысла метафорического родства. Следовательно, слово пинча-кон-ки буквально означает что-то вроде «наших пяти богов» — тех же пяти, которые похожи на то, что описал анонимный хронист, и весьма далеки от представления о том, будто андские аборигены никогда не знали имен небесных «странников».
Это уже становилось интересным. Одна планета, Венера, всеми признанная как неотъемлемая принадлежность андской культуры, совпадала по своим атрибутам с ее образами в Старом Свете, и это совпадение можно было еще как-то объяснить видом и орбитальным «поведением» планеты. Однако кроме того, оказалось, что, помимо длительное время игнорировавшегося списка планет, представленного анонимным хронистом, имелся еще один источник, который упоминал те же самые пять планетарных божеств и описывал три из них в терминах, весьма похожих на анонимного хрониста. Я полагал, что, как только я увяз в хранилище тайн, мне следовало заняться лучшей из них.
Я знал, что непросто составить беспристрастный список сравнительных характеристик между богами Нового и Старого Света: «Все боги огня, пожалуйста, постройтесь в шеренгу в колонке А; всякий считающий себя гермафродитом — в колонке Б» и так далее. Мне нужно было постичь логику составления списков подобных характеристик; то есть я должен был понять, каким образом всякая совокупность характеристик, приписываемых определенной планете, являлась неотъемлемой частью технического языка мифологии и какую точную астрономическую информацию такие характеристики должны были передавать. Если на этом более высоком уровне соответствия имелись сходства — в качестве интегральных элементов технического языка мифологии, то методологический риск, как я предчувствовал, мог оказаться оправданным потенциальным историческим выигрышем.
Я знал, что для продолжения мне было необходимо вернуться к «Мельнице Гамлета», единственному современному источнику, который попытался объяснить такие связи. Но на сей раз речь шла о ее подоплеке, о рассмотрении того, каким образом Сантильяна и Дехенд пришли к осознанию внутренней логики многочисленных характеристик бога-творца — деус фабер, планетарным выражением которого был Сатурн и присутствие которого они разглядели в мифологических традициях по всему миру.
Однако прежде позвольте мне прояснить вопрос, который уже мог запутать читателя. Имя Виракочи — Тунапа, или «носитель мельницы» — предполагает, что он мог изображать Сатурн, но анонимный хронист утверждает, что кечуанское название планеты Сатурн — это ауча. Отделение «бога» от его планетарного проявления было практикой, свойственной и грекам (Хронос/Кронос), и индусам (Кала/ Яма). Такая дифференциация заслуживает внимания в контексте андской мысли, потому что было бы большим сверхупрощением полагать, что Виракоча «есть» просто Сатурн. Точно так же, как в греческом и ведическом мифе знание о физическом «поведении» планеты Сатурн привело к образу «бога», который сообщал движение и меры времени космосу, так и в Андах Виракоча занимает этот же уровень абстракции. Ауча различим в ночном небе, но Виракоча — повсюду.
III
Отец времени — это образ Сатурна, сохранившийся до наших дней. Он — старый человек, согбенный бременем лет, бородатый, несущий посох. В своем устрашающем облике он — Мрачный Жнец, родоначальник неотвратимых законов времени. В своей ипостаси благодетеля, как сообщают нам мистические гимны, он — Прометей, самоотверженный носитель бесценного дара «огня», то есть творческой искры, которая позволяет человечеству выходить за пределы времени, благодаря посвященности в тайны его измерения. Следовательно, Сатурн — старый, старый бог, Царь Золотого Века, имевшего место еще до войн, до классов, до кодификации человеческих законов. Более поздние эпохи связаны уже с Юпитером/Зевсом, Царем, но «до царствования Зевса на этой сущей земле правил Кронос». Сатурн правит силой морального убеждения. Сатурн желает человечеству добра — он украл «огонь» во имя нас, но горе тому, кто нарушает нормы, Сатурн — прежде всего бог меры, тот, кто придает меры космосу; он остается «Звездой Закона и Справедливости» в Вавилоне, а также «Звездой Немезиды» в Египте, Правителем Потребности и Воздаяния — короче говоря, Императором».
Окружающий бога чувственный образ обозначает сущностную структуру научного наблюдения, выраженную подручными средствами. Взять, например, вопрос о том, как этот «огонь» пришел на землю. Было время, когда Царем являлся Сатурн. Это было в те времена, когда «пути» между небесами, землей и преисподней оставались открытыми. Это было то время, когда Млечный Путь стоял «на земле», то есть когда он всходил гелиакически в видимом контакте с горизонтом, одним потоком в весеннее равноденствие в Близнецах, другим — в осеннее равноденствие в Стрельце. Именно в Золотой Век, в Царствование Сатурна, колюр равноденствий — то есть большой круг, соединяющий точки равноденствия через полюсы, — и Млечный Путь были приблизительно одинаковы.
Эпоха, в которую бог Сатурн привнес «искру» собственной проницательности в самую основу человеческого сознания, навсегда утвердилась в памяти как момент, когда солнце коснулось Млечного Пути и подожгло всю галактическую полосу небес. Иными словами, терминология, предвосхищающая появление математики, утвердилась для того, чтобы увековечить память об эпохе, когда солнца равноденствий «вошли» в Млечный Путь. «Естественно» высокая температура солнца заставила реку вспыхнуть, и огонь распростерся по всему великому кругу галактики. Поэтому Млечный Путь величался (то есть не «мыслился» таким буквально) старым «курсом» солнца, тлеющими остатками некой изношенной, прежней эклиптической плоскости. Это понятие фигурирует в мифе о Фаэтоне — своевольном сыне Гелиоса, который поджег галактику, неосторожно введя колесницу своего отца, солнце, в пределы галактической полосы. Это — «пепельный путь» бушменов, где некогда горел огонь. И, конечно, эта терминология, просто потому, что она существовала, воплотила переданный роду человеческому дар творческого потенциала — сам «огонь».
Нигде победа этих ранних мифотворцев над трудностями построения формальных суждений, не прибегая к помощи ни письменности, ни математики, не проявляется более очевидно, чем в формулировке, согласно которой «боги — это планеты». Планеты суть «боги», потому что, в отличие от неподвижных звезд, они обладают способностью движения, понимаемой как признак Воли. Планеты суть «движущие и будоражащие силы», которые Платон называл «орудиями времени». Посредством терпеливого изучения можно было определить «привычки» отдельных планет, но сложность взаимодействия движений между солнцем, луной и пятью видимыми планетами на фоне неподвижных звезд представляла собой зрелище бесконечного танца. Найти рисунок в этом танце, проникнуть в замысел Балетмейстера — вот в чем заключались задача и страстное увлечение, которые будоражили воображение древних.
Но, не обладая письменностью и математикой, как можно было выразить соприкосновение с Владыкой Танца? В греческой мифологии Кронос/Сатурн, сын Геи (земли) и Урана (неба), кастрировал своего отца и бросил его интимные органы в море, откуда возникла Венера, — история, которая привела Макробиуса к тому, что, на первый взгляд, кажется удивительно непоследовательным: «Из этого они заключают, что, когда был хаос, то времени не существовало, поскольку время есть фиксированная мера, получаемая от вращения неба. Время начинается там; и от него, как полагают, родился Кронос [Сатурн], который есть Хронос [Время]…»
Как мог Макробиус заключить из этой истории, что «Время начинается здесь»? Сантильяна и Дехенд собирали по крохам информацию, необходимую для реконструкции этого сюжета. Они сравнивали орфический Гимн Кроносу — «ты, кто поддерживает нерушимое единство согласно алейроновому (вечному) порядку Эона» — с атрибутами ассирийского изображения Сатурна, Нинурты, которая охраняет «соединение неба и земли». Мы уже видели это соединение, дур-ан-ки, которое Элиад описывал как столп вселенной, связывающий воедино три мира. Так что именно Кронос держит свою руку на оси небесной сферы — бывший пенис Урана брошен в звездное море, увековечивая память об искаженном осознании того, что все находилось в движении. Но как же насчет самого жернова, небесного экватора, перемалывающего время по эклиптике? И, более сложный вопрос, как мог планетарный странник по эклиптической плоскости «управлять» полярной осью? Сантильяна и Дехенд разрубили Гордиев узел, переключив внимание на специфические обстоятельства рождения Кроноса/Сатурна в греческом мифе.
В этой повести Сатурн действительно создаёт, как это и было, своих собственных родителей. До кастрирования своего «отца», Урана, — то есть до действия, которое обособило понятие неподвижной сферы звезд, вращающихся вокруг оси, — «земля» (Гея) и «небо» (Уран) были недифференцированным целым. А из чего была выделена Уранова неподвижная сфера звезд? Именно эклиптическая плоскость — владение Геи как «небесной земли» — была очевидной ежегодной траекторией солнца, тем же самым путем, по которому также осуществлялось движение луны и всех планет. Таким образом, в момент этого отделения рождается Венера — утренняя звезда — предвестница солнца, символизируя эклиптику в целом, охватывая и день, и ночь.
Эклиптика имела имя — зодиак. Этот зодиак, или «циферблат животных», составлял театральный фон, совокупность известных земных аналогов, на котором исполнялся небесный танец. И когда небесные актеры, светила эклиптики, начинали танцевать в этом театре — с перемещениями от «моря» до «горной вершины» — действительно весь мир становился сценой: оригинальной просценической дугой, известной также как «Всемирный Дом» (рисунки 3.12Ь, 3.13).
Концептуальной стенографией для выражения этих связей стала позднее греческая буква хи — X, символизирующая пересечение небесного экватора и эклиптической плоскости. X отмечает «разделение вселенских родителей» на два плана: тот, который символизирует принцип звездного царства со всеми звездами, неподвижными относительно друг друга, поворачивающимися, подобно гигантской мельнице; другой символизируют эклиптику, где существа, отличные от звезд — солнце, луна и планеты, — плели собственные рисунки (рисунок 3.11а).
А как быть с тем своеобразным фактом, что Кроносу/ Сатурну надлежало сотворить своих собственных родителей, чтобы создать себя, самого Хроноса/ Время? Сантильяна и Дехенд объяснили это так:
«Дело в том, что «разделение родителей вселенной», осуществленное посредством кастрирования Урана, символизирует установление наклонения эклиптики: начала измеримого времени… И Сатурн был «назначен» тем, кто это установил, потому что он — самая дальняя от середины планета [вывод, основанный на том факте, что у Сатурна самая длинная орбитальная точка, около тридцати лет], самая близкая к сфере неподвижных звезд. «Эта планета была принята за ту, которая сообщила движение Вселенной, которая была, так сказать, ее царем»; так сообщал Шлегель из Китая».
Под «началом измеримого времени» Сантильяна и Дехенд понимают начальный момент открытия прецессии. Это представление было зашифровано в «разделении вселенских родителей», потому что только тогда, когда «перемалывание» этой небесной парой впервые стало очевидным, появилось само время.
Иначе говоря, если бы ось Земли не была наклонена относительно оси Солнца, то не существовало бы динамического поля, в котором приводится в движение гироскопическое колебание Земли. Следовательно, поскольку земля вращалась бы по орбите Солнца, не было бы не только никаких времен года, но и никаких различий одного года от другого, одной эпохи от другой, в регулярном наступлении восхода и заката звезд относительно солнечных дат. Небесный экватор и эклиптика были бы одним целым, а все время — вечно круговым. Стало быть, не было бы никаких иных средств отсчета «начала измеримого времени», кроме как умудриться обозначить «начало» круга.
Здесь (при том, что пунктом наблюдения на небесах как раз является планета, ориентированная своим вращением на одну точку наблюдения — сферу звезд, а траекторией своей орбиты вокруг солнца — на другую точку наблюдения, грубо говоря, орбиту вокруг солнечного экватора (эклиптики), мы подходим к эпицентру весьма сложного зрительного образа. Напряжение вращения Земли, наклоненной таким образом к своей орбитальной траектории, создает динамику, проявляющуюся в прецессионном колебании. Наша смотровая площадка, Земля, «наклонена» (на 23,5 градуса) по отношению к своей орбитальной траектории, как гироскоп, который быстро вращается вокруг своей оси, в то время как сама ось наклонена по отношению к столу, чья поверхность приблизительно напоминает эклиптику. Хотя гироскоп может поддерживать тот же угол по отношению к поверхности стола, так как он «прецессирует», его ось, тем не менее, непрерывно изменяет свое отношение к стенам комнаты (неподвижной сферы звезд). Возможно, наиболее трудно представить визуально то, что, хотя Земля прецессирует, это колебание не имеет ничего общего с определением периодов и положений горизонта в солнцестояния и равноденствия. С незначительными колебаниями угол наклона Земли по отношению к эклиптике остается постоянно равным 23,5 градуса, даже если она прецессирует. Прецессией же, которая действительно оказывает воздействие, является гелиакический восход звезд в такие периоды. Читатель, испытывающий затруднение в том, чтобы представить себе этот визуальный образ, может обратиться к примечаниям к данной главе[50].
Результатом этого движения через какое-то время является то, что звезды, которые некогда всходили гелиакически в определенный солнечный период — типа солнцестояния, — будут всходить «запоздало». Поскольку это прецессионное смещение происходит так медленно — на один градус (примерно на один день «запаздывания») за семьдесят два года, историки науки предположили, что зафиксировать его можно было только при наличии письменности. С другой стороны, как отмечал Филипп Моррисон из Массачусетского технологического института, все, что на самом деле требуется для обнаружения прецессии, — это старое дерево (столбик-указатель солнечных часов) и вера в правдивость дедушек (устных преданий).
Тогда каким же образом в результате этого впечатляющего осознания относительно «разделения мировых родителей» можно было прийти к заключению, что Сатурн следовало назвать «творцом времени»? Хотя для такого названия имеется весьма определенная причина. Достаточно лишь сказать, что для возврата к одному и тому же положению среди звезд, обладающих самой длительной периодичностью из всех отдельных видимых небесных объектов, этой планете, с ее ускоренным движением, требуется всего тридцать лет, и, следовательно, она позволяла следить за временем по шкале прецессии. Говоря языком мифологии, Сатурн «сообщал движение Вселенной» (читай: «сфере неподвижных звезд») или, иначе, «управлял» осевым колебанием мельницы, потому что для самих мифотворцев он являлся «удобным прибором» фиксирования продолжительных периодов времени.
Огромное потрясение, вызванное открытием прецессии, в полной мере отразилось в таком же потрясающем образе (кастрировании), призванном увековечить память об этом событии. С незапамятных времен человечество целую вечность жило в великом цикле времен года, будто пребывая в райской невиновности. С осознанием, что прошлое происходило под другими небесами, пришел и неизбежный вывод о том, что это «настоящее», прежде понимавшееся как вечно повторяющийся цикл, также пройдет. Именно здесь началось Время. Отныне и навсегда часы были запущены. Круг в конце концов приобрел начало, отныне для настоящего на небесном своде появилась отметина, расположенная на эклиптике в точке ее соединения с небесным экватором. Теперь разные объекты, вселенские родители — Уран и Гея, в равноденственном совокуплении, живот к животу, экватор к эклиптике, перемалывающие Мировые века, — возникли (были осмыслены) как раз в момент появления их собственного результата. Времени («Хроноса, который есть Кронос»).
Не потребовалось никаких особых исследовательских подвигов, чтобы обнаружить это предание также и в Америке. Бирхорст подробно пересказал его североамериканскую версию:
«В большом цикле ирокезских мифов, например, представлялось, что докультурное состояние существовало в мире наверху, которое, как говорилось, было невестой, соблазненной драконом. В результате ее соблазнения небеса открываются и ее ноги оказываются «свисающими в пропасть»; поскольку она соскальзывает в реальный мир общества и культуры, сам змей передает необходимое зерно и домашнюю утварь… Ирокезский составитель Ритуала Соболезнования, наблюдая серьезное нарушение социальной этики, возвращается к происхождению мифа и предупреждает о будущем времени, когда «ноги людей», подобно ногам первой невесты, «будут свисать над пропастью оторванной земли…»
Как и в греческом мифе об Уране и Гее, закат докультурной наивности («хаоса») происходит в момент разделения неба и земли. Время начинается с культуры, точнее, с сельского хозяйства и сопровождающих его инструментов, самым выдающимся из которых является календарь. Отделившаяся таким образом от неба «земля» — это, конечно, «небесная земля», творение самого времени, чьи параметры очерчивают звезды, восходящие гелиакически во время солнцестояния и равноденствия. И как и все сотворенные вещи, эта «земля» — конечна во времени, как это предсказывали и ирокезский миф, и андский пако.
Поскольку разделение «земли» и неба представлялось как разделение половое — как отделение друг от друга Урана и Геи или как соблазнение ирокезской девы, падающей с неба на «оторванную землю» — «главная движущая сила», Сатурн, часто изображается гермафродитным, как это подобает творцу своих собственных родителей, двух из одного. Он — это «мужчина-женщина» «Оракула Кроноса» из «Великого Магического Папируса Египта», документа, который не случайно рекомендует вызывать бога вращением мельницы.
У истоков всегда маячит мельница, безусловное обозначение метаязыка. Астрономический смысл образа мельницы уже был описан, но почему владелец, создатель и работник этой мельницы должен идентифицироваться с планетой, — это требует дальнейшего объяснения. Как могла эта планета, ограниченная пределами эклиптики, «перемещать» ось небесной сферы во времени?
Для начала можно было бы отметить, что «Семь Риши» ведийской традиции иногда идентифицируются как семь светил эклиптики — Солнце, Луна и пять видимых планет, а иногда как семь звезд Большого Медведя, нашей Большой Медведицы, прилежно вращающиеся вокруг Полярной звезды. Такую формулировку можно понять только одним из двух способов: либо авторы таких повестей безнадежно ошибались, либо перед нами термины — то есть компоненты метаязыка, дающие пользователям средства установления отношений, которые по своей природе являются не кинетическими, а скорее связаны с измерением времени.
Сатурн «управляет» мельницей — образ, от которого может отсчитываться прецессионное время — потому, что в качестве самой близкой к неподвижным звездам планеты, обладающей самым длинным орбитальным периодом, он снабжает мифотворцев средствами проверки их собственных данных. Дар Сатурна человечеству — это меры времени. Поэтому собранный Проклом мистический фрагмент категорически утверждает, что Сатурн обеспечивает «все меры всякого творения». Как небесный объект, за которым закреплена изначальная роль «дарителя мер», Сатурн считается богом-творцом, божественным императором, первоисточником исключительной мудрости. В Китае он является Желтым императором, Ши Хуан-цзы, который «повсюду установил порядок для Солнца, Луны и звезд», — формулировка, столь созвучная андским представлениям о Виракоче, что она не требует дальнейшей разработки.
Средства, которыми Сатурн обеспечивает «все меры» времени, повторимся, весьма специфичны, одно из них оправдывает данное Макробиусом имя «творца времени» и будет рассмотрено в следующей главе. Пока же стоит под; черкнуть, что работа Сантильяны и Дехенд показала весьма широкое распространение мифов по всей Евразии, в которых мифологический бог Сатурн «управляет» мельницей, а вместе с нею повелевает и скоростью прецессионного времени. Этот смысл «управления» ярко нарисован в знаменитой гравюре Уильяма Блейка «Времена старины», которая изображает старого бородатого Яхве с парой кронциркулей, устанавливающего меры сверху. И создается впечатление, что, предназначая Сатурну «главенствующую» роль в определении местоположения Полярной звезды на протяжении веков, мифотворцы разделяли то же представление о потрясающем всемогуществе, изображенном Блейком, поскольку они окидывали мысленным взором творение в целом глазами Владыки Времени.
Эти ипостаси Сатурна ни в коем случае не исчерпывают всех его «диагностических характеристик», но они говорят о существе вопроса. Другие сперва кажутся тайнами, но всегда приводят снова к голографическому видению. Плутарх, например, говорил о переживании египтян по поводу ухода Хроноса, правителя Золотого века, который родился на юге, но «переживает смерть» на севере, — траектория, напоминающая появление Виракочи в Тиауанако и уход с Земли в Эквадоре. Совпадение? Плутарх обратил внимание на то, что «слуги Кроноса» могут посещать своего ушедшего владыку в его доме в небесном изгнании на острове Огигия только раз в тридцать лет (тридцать лет — это время, которое требуется Сатурну, чтобы вернуться к тому же самому местоположению среди звезд), когда Сатурн находится в созвездии Тельца. Через западную половину Млечного Пути, где Близнецы отступают перед Тельцом, также, как мы видели, переброшен «мост», называемый чакамарка, и по нему шел бог по имени Виракоча, когда оставлял Землю ради своего небесного дома в «мире наверху».
Наконец, одна из характеристик заслуживает особого внимания. За пределами Америки планеты часто ассоциируются с металлами: Сатурн со свинцом, Венера с медью и так далее. Ассоциация Сатурна со свинцом связана с его функцией как измерителя, а его особый способ измерения осуществляется отвесным грузом (латинское plumbum — «свинец»).
Мы встречаем отвесный груз среди инструментов египетских астрономов, использовавшихся для измерения движения звезд, а также у китайцев. Что же до Сатурна, то задачей законного правителя данного мира-века является «измерение глубины моря», то есть установление каркаса — от полюса до полюса — новой «мельницы» или системы координат мира-века: «…буквально «важнейшая» задача правителя состоит в «погружении» в те места, где времена начинаются и заканчиваются, в овладении новым «первым днем». Это измерение Сатурн выполнял, используя свинцовый отвес.
Такой метод измерения, кроме того, охватывает и глубокие южные небеса, то есть отвесный груз свисает. Сантильяна и Дехенд предположили, что «грузом» на линии отвеса была звезда Канопус, называемая «грузом» у арабских астрономов и «тяжелой» у позднего Алъфонсина Таблета. Звезда Канопус отличается тем, что постоянно находится весьма близко к небесной точке, отмечающей южную ось вращения Солнца. Следовательно, поскольку ось вращения Земли поворачивается вокруг этой неподвижной точки в течение прецессионного времени и поскольку времена и азимуты восхода всех других звезд изменяются, Канопус предстает «неподвижной» по отношению к прецессии. Как звезда «доказательства прецессии» она заслуживает названия непогрешимого отвесного груза, отмечающего «абсолютный спуск». Так что ассоциация Сатурна со свинцом отражает понятие, связанное с функцией бога и способом измерения. Сатурн устанавливает по отвесу, а Юпитер мечет. Но хватит о Старом Свете.
IV
Согласно андской мифологии, бог Виракоча был седобородым стариком, который носил длинную одежду и посох. Он, как мы видели, считался самым старым богом, почитался как творец Солнца, Луны и звезд, как учитель, давший человечеству искусство цивилизованного сельского хозяйства, ткачества и всего остального — как андский деус фабер. Поэтому к нему обращались как к «Тикси Виракоча». Тикси означает на кечуа «источник, начало, основу, первопричину», — слово, также отдающее определением Сатурна в Старом Свете как «творца времени». Среди множества имен Виракочи фигурирует и пачайачачи, буквально «вселенский учитель», и источники сходятся в том, что его способ обучения заключался в нежной доброте и большой заботе. Но Виракоча не был богом для распятия. Сармьенто де Гамбоа воспроизвел миф о мести Виракочи в селении, называемом Кача:
«Кроме того, они сообщают о странном событии; как тот Виракоча, после того, как он создал всех людей, продолжил свой путь и пришел в место, где собралось множество созданных им людей. Это место теперь называется Кача. Когда Виракоча прибыл туда, жители удивились его платью и манерам. Они возмутились и вознамерились убить его с ближайшего холма. Они взялись за оружие и собрались там вместе со злыми намерениями против Виракочи. Он же, опускаясь на колени на ровную землю, со сжатыми руками, — обрушил сверху огонь на тех, кто был на холме, и покрыл им все это место, сжигая землю и камни, как солому. Те злые люди пришли в ужас от страшного пламени. Они спустились с холма и стали просить прощения у Виракочи за свои грехи. Виракоча пожалел их. Он подошел к огню и потушил его своим посохом. Но холм остался совершенно выжженным, камни от обжига оказались такими легкими, что даже очень большой камень, который не могла бы перевезти и телега, мог теперь легко поднять один человек. Это можно видеть и сегодня, так как открывается замечательный вид на этот холм, который на протяжении четверти лиги весь выжжен».
Опаленная земля вокруг Качи была местом инкского храма Виракочи, позже разрушенного испанцами. Этот огромный храм, описанный Гарсиласо, идентифицировался с руинами в современном Рахчи, в десяти милях от Куско по направлению к высокогорному перевалу Ла Райа, отмечающего древнюю традиционную разделительную линию между бассейном Титикаки и южными Андами. Здесь была также остановка перед конечным пунктом паломничества, предпринимавшегося в июньское солнцестояние инкскими жрецами, и потому некоторые авторитеты называют это место храмом Вильканота, по названию горы, где «родилось солнце» в обоих потоках Млечного Пути. Ввиду того, что Сиеса де Леон описал храм в Каче как третью из наиболее важных святынь в империи (после храма Солнца и Горы Уана-каури в Куско), вероятно, что главные обряды в ознаменование «рождения солнца» в июньское солнцестояние организовывались инкскими жрецами именно здесь. Монументальные руины имели только одно направление зрения — на восток.
Со временем каждый учится доверять геомантическим инстинктам инков; так что нет ничего неожиданного в том, что — помимо высокой горы, рождающей две реки, рядом с вулканическим туфом, где Виракоча вызвал космический огонь — обнаруживается другое специфическое геологическое явление, как раз у истоков «Солнечной Реки» (Вилькамайу, известной также как Урубамба), как и описывал испанский священник Акоста: «Эта река, хотя и берет начало на утесе в Вильканоте, о котором я говорил, окрашена пеплом и повсюду испускает дым, словно что-то горящее, и так она долго бежит до множества других рек, впадаюших в нее, гася огонь и устраняя дым, который она вызывает». [Выделено автором.]
Акоста был не единственным, кто увидел связь с пеплом, поскольку аборигены данной местности, точно так же, как и инки[51], бросали пепел своих ежегодных жертвоприношений Виракоче в «северное море», в бурные истоки Вилькамайу, рожденного в дыме и огне. Так что старый бог огня связан, как и в Старом Свете, с происхождением огненной реки в небесах.
Хронист Гуаман Пома, отнюдь не друг инков, сформулировал этот вопрос по-другому. Смакуя период смерти, болезней, голода и чумы, постигший царствование первого действительно исторического Инки, Инки Пачакути Юпанки, Гуаман Пома сравнивал это проявление гнева божьего с разрушением Содома, «который был сожжен ламами с небес». Это действительно точная картина: стадо лам — вероятно, быстроногое «стадо самцов ламы», Лиры/уркучильяй — устремляется на Землю из Огненной Реки в небе, чтобы сжечь Содом и Гоморру.
Среди титулов Виракочи, встречающихся в собранных хронистом Молиной гимнах, есть уальпайуана. Ольгин упоминал «Аульпайуана или нинанина. Прилежный работник, пылкий и оживленный, как огонь». (Синоним нинанина происходит от кечуанского слова нина, означающего огонь.) Непросто объединить характеристики «огненности» и усердия, но они всегда понимались как функция Сатурна, носителя огня, а также бога, систематически пересекающего эклиптическую плоскость каждые тридцать лет и распределяющего, навыки цивилизации или наказание — в зависимости от того, что подсказывает ситуация.
Виракоча был также гермафродитным. Молина сообщал, что ни творец, ни его «дети» — то есть нечеловеческие родословные уаки, которых он создал для каждого племени, — не были «рождены от женщин», а скорее были «неизменными» и «бесполыми». Две разные молитвы Виракоча, переведенные Пачакути Ямки, ставили вопрос перед богом: «Являешься ли ты мужчиной; являешься ли ты женщиной? [Кай кари качун/Кайуарни качун?]». В третий раз вопрос повторяется в примечаниях на космологическом рисунке Пачакути Ямки (рисунок 2.4). Здесь хронист описал центральный овал как «символ» [унанча] Виракочи, который помещен, как это было, в срединное положение и во главе полового разделения космоса на мужские и женские элементы[52].
Тема андрогинии снова появляется в образе так называемого «Бога Ворот» Тиауанако (рисунок 4.2), представляющего фигуру Виракочи. Здесь двуполость творца выражена в том, что голова является смесью Солнца и Луны, которые в Андах считались соответственно мужчиной и женщиной.
Чисто астрономические валентности андрогинии Виракочи также объясняются на диаграмме Пачакути Ямки посредством размещения крестов выше и ниже центрального овала. Верхний крест называется оркораной, словом из аймара, буквально означающим «большое стадо, множество мужчин или самцов животных». Нижний крест, называемый chacana en general, «крестом или лестницей вообще», отмечен словами сараманка и кокаманка, означающими «о 11 а (большой керамический горшок) кукурузы и olla коки», — понятия, подробно рассмотренные Зуидемой и Уртоном в связи с озерами, фонтанами и подземными водами, то есть «женскими» компонентами космоса.
Я посчитал эти обращения к двуполости Виракочи основой вопроса. Они поднимали вопрос о том, был ли или не был гермафродитный характер бога частью формальной терминологии «разделения вселенских родителей», символизирующей открытие наклонения эклиптической плоскости к небесному экватору. Возможно, действительно надо было просто «естественно» взглянуть на творца как на доброго старика, с частичкой огня внутри (чтобы обеспечить повиновение правилам), который в качестве творца должен, вследствие простого вопроса онтологической непротиворечивости, быть гермафродитным. С другой стороны, не было никакой очевидной «естественности» в том факте, что Виракоча обладал еще одной характерной чертой Сатурна: он был носитель мельницы, — понятие, которое в Андах также имело половую характеристику.
V
Словарь Ольгина 1608 года содержит следующие определения андской мельницы:
«Кутана ила туна. Жернов, верхний. Марай. Нижний жернов».
И под словом марай он записал:
«Марай или маран. Жернов, находящийся внизу, верхний [называется] уркун или туна».
Описанная здесь техника — это техника «балансирной мельницы», характерной для Анд, в которой верхний камень, туна, имеет форму луны или половины сырного круга. Это, вероятно, наиболее эффективная из когда-либо изобретенных ручных мельниц. Нижний, пассивный камень, маран, является «плоским четырехугольным камнем для помола зерна». Маран встречается на полах крестьянских домов повсюду в Андах.
Начав изучать свойства андской балансирной мельницы, туны, я весьма заинтересовался тем фактом, что этот специфический экспонат не был вращающейся мельницей. Сантильяна и Дехенд, однако, настаивали на том, что образ мельницы — от настоящих вращающихся мельниц до «ухудшенных» версий в виде простой деревянной ступки — можно встретить в самой широко распространенной из традиций в безупречном космологическом контексте. Они подробно излагают посредством примера миф чероки о людях Юга, имевших мельницу для зерна (простую ступку), из которой мука постоянно исчезала: «…хозяева нашли вора, собаку, которая «с лаем убежала к себе домой на север, рассыпая муку изо рта во время бега и оставляя позади белый след, где теперь мы видим Млечный Путь, который чероки называют по сей день «Где бежала собака».
В ранних словарях кечуа и аймара я нашел в синонимах и родственных словах, связанных мукомольной техникой, чрезвычайно устойчивые понятия о силе полового взаимного дополнения, или андрогинии. Например, в вышеприведенном определении верхнего, активного жернова, туны, Ольгин назвал как синоним слово уркун. И в кечуа, и в аймара первое значение слова урко — это самец любой разновидности животных. Мы видели употребление слова урко в созвездии самца Ламы, Уркучильяй, и в верхнем кресте диаграммы Пачакути Ямки, оркорара, или «группа мужчин или самцов животных». И точно так же, как в кечуа уркун означает «верхний жернов, это же самое определение применяется к аймарскому слову урконья. Тогда этот аспект андской балансирной мельницы как минимум отвечал свойству мельницы как космической машины в той мере, в какой он относился к «мужской» сфере. Означает ли это, что верхний, «мужской» жернов имел отношение к «отцу-небу», известному также под именем Уран, к сфере неподвижных звезд?
Мне казалось, что «мужественность», приписанная верхнему жернову, конечно, подсказывала преднамеренную проекцию осевого образа. И словари снова подтвердили мое подозрение. Например, орко, синоним туны, обозначает также на кечуа «гору». Той же символикой Тунапа Виракоча всегда описывается несущим посох. Далее, Лудовико Бертонио, автор словаря аймара 1611 года, цитируемого в настоящем исследовании, иногда записывал титул Виракочи как «Тунуу-па». В этом находится ключ к происхождению слова туна как балансирной мельницы, — изобретения, которое появилось на археологическом горизонте около 200 года до н. э., когда говорящая на аймара цивилизация вокруг озера Тйтикака — места Виракочи — начала свой расцвет. Слово туну встречается и в аймара, и в кечуа. Бертонио перечисляет:
«Туну. Верхушка большого дерева».
Ольгин дал значение на кечуа:
«Туну. Центральный опорный столп круглого дома».
Столь же быстро рассмотрение и родственных слов, и синонимов верхнего жернова обнаруживает слова для обозначения «горы», «дерева», «центрального столпа» и «мельницы», все основополагающие мифологические термины, приведенные как Элиадом, так и Сантилъяной и Дехенд в качестве образов оси небесной сферы.
В контексте андской мифологии мы уже видели использование космической горы, а также последовательного употребления архитектурных терминов как астрономических метафор. Что же касается «древа Вселенной», Балькарсель отмечал, что «поведение» гор в андской истории о ламе/потопе весьма походило на поведение мифологического древа в преданиях племен Амазонских лесов, где, конечно, горы были недоступны для убежища: «У некоторых лесных племен имеется легенда о Наводнении красными водами, от которого очень немногие люди спаслись на верхушке дерева, которое, подобно двум мифологическим горам [то есть, как они упоминаются в двух мифах о ламе и потопе], имело свойство расти вверх быстрее, чем поднимались воды».
Теперь, как уже сказано, образ мельницы в Старом Свете как вариант горы/вселенского древа/столпа дает средства для описания времени и движения. Эти ассоциации также присущи андской балансирной мельнице. Среди синонимов туны, перечисленных (выше) Ольгином, фигурирует кутана. Это слово, буквально означающее «для помола», происходит от кечуанского глагола кутай, «молоть». Кутай использует тот же корень кут-, что и другой глагол в кечуа, уже упоминавшийся кутий, «опрокидывать или оборачиваться», тот же самый глагол, который использован в терминологии о последовательной смене миров-веков, а именно пачакути. В старом фрагменте мифа, записанном Авилой, время и движение объективируются как трение гор друг о друга в момент, когда «солнце умирает», то есть в конце долгого мира-века.
Эти лингвистические признаки снова вынудили меня обратиться непосредственно к космологическому чертежу Пачакути Ямки (рисунок 2.4), где туна, «столп/дерево/ мельница», которую нес Тунапа Виракоча, вновь появляется как центральный принцип организации диаграммы. Надписи вокруг центрального овала — представлявшего на диаграмме, как говорилось, Виракочу, — неоднократно обращаются к нему как к унанче. Это слово означает «знак, стандарт, значок или гербовый щит», а также «железное клеймо». «Штандарт» (estandarte) — это символическая фигура, помещенная на полюсе. Если вы посмотрите в левый верхний угол рисунка Пачакути Ямки, то увидите унанчу Виракочу, заново нарисованного отдельно. Обратите внимание, что у основания овала находится звезда, такая же, как уже имеется у основания овала, и точно как три одинаковых у основания овала в главной части рисунка. Иными словами, этот крест, помеченный Пачакути Ямки как «мужской» (оркорара), имеет длинную вертикаль, на которую поднят символ Виракочи, овал.
Далее, можно увидеть, что он определил горизонтальную часть этого «мужского» креста как tres estrellas todas yguales, то есть «три звезды, все одинаковые», которые предполагают три звезды Пояса Ориона, «Три Марии» в испанском названии. Зуидема также идентифицировал эти три звезды на рисунке с Поясом Ориона. Как мы уже видели, Пояс Ориона лежит на небесном экваторе, отношение которого к горизонту в Куско было отмечено горой, именовавшейся «столпом-опорой мира-века». Тогда вполне логично, что «штандарт» Виракочи должен поддерживаться крестом из звезд, оркорара, определяться как «мужской» и относиться, через Пояс Ориона, к полярным и экваториальным координатам. Как и туна, которую нес Виракоча, усыпанный звездами «мужской крест» на диаграмме Пачакути Ямки — структурная опора унанча/штанаарт Виракочи — является условным символом ориентации земли внутри сферы неподвижных звезд, мир «отца-неба».
С другой стороны, «мать-земля» в формальной терминологии древней мифологии являлась областью эклиптики, простирающейся от тропика до тропика. Структурными «столпами» этой «четырехугольной земли» (рисунок 3.13а) были определены звезды, восходящие гелиакически в солнцестояниях и равноденствиях. Аналогичным образом, андский нижний жернов, марай, обозначенный (как показано выше) в ранних словарях «женщиной», имеет не правильную старую форму, а четырехугольную. Интересно, что в кечуа нет таких слов, которые могли бы передать производное. Родственное слово встречается, как это часто бывает с важнейшими космологическими понятиями, на языке аймара в районе Титикаки. Слово мара означает «год», который является объективной единицей меры, основанной на годовом пути солнца через звезды по эклиптике, области «небесной земли».
Теперь, как мы видели в андской традиции», на собственно земле пределы «небесной земли» обозначаются посредством взаимнокардинального креста, выкладываемого в деревнях и направленного на точки восхода и захода солнца в периоды солнцестояний. Внизу овала Виракочи имеется такой взаимнокардинальный крест, называемый «крестом вообще» и обозначенный «женщиной». Этот звездный «женский» крест есть идеограмма, выражающая астрономическое понятие «небесной земли», то есть границы эклиптики, какими они соблюдаются траекторией солнечного годового (= аймара мара) пути к пределам ее сферы в солнцестояния на фоне неподвижных звезд. В метафорической терминологии мифа рисунок взаимно кардинального креста представлял «мать-землю», пачамама, «нашу мать в пространстве-времени».
Отношение «верхнего» мужского креста к «нижнему» женскому кресту является таким же, как и отношение верхнего «мужского» жернова (туна) к нижнему «женскому» жернову (марас). Таким образом, верхний и нижний «стандарты» Виракочи обозначают два основополагающих принципа организации космоса, воображаемого в половом смысле. Далее, определяя Пояс Ориона как группу звезд, особенно симптоматичную в отношении принципа полярно-экваториальных координат, диаграмма одинаково определенно ссылается на отношение небесного экватора к области эклиптики как на символ взаимно кардинального креста. Здесь в таком случае вокруг центрального символа Виракочи — овала на перекладине — выстроены вселенские родители, разделенные вверху и внизу. Здесь также полностью выражено конечное космическое происхождение андрогинии Виракочи. Как создатель звездных и эклиптических царств, Виракоча была также их продуктом. Великий бог и его учение возникли с разделением вселенских родителей.
Когда я начал склоняться к этим выводам, я все еще не был уверен относительно значения символики центрального овала, поднятого на унанчу Виракочи. Я был также сосредоточен на том, что в то же время считал отдельной проблемой. Ассоциация «женского креста» в диаграмме с эклиптической плоскостью, хотя и не противоречила логике, оставляла полностью открытым вопрос о том, как эта плоскость осмыслялась в небе или даже осмыслялась ли вообще. Во вторичной литературе нет ничего, чтобы позволяло предположить существование в Андах отдельного понятия для «эклиптики».
Обе эти проблемы будут решены с помощью двух прежде пропускавшихся сведений, которые покажут, что овал в диаграмме символизирует эклиптическую плоскость. Но прежде чем обратиться к этим сведениям, я прошу у читателя позволения умолчать об источниках, касающихся существования индейского понятия эклиптической плоскости.
Несмотря на недостаток информации в источниках периода конкисты, трудно вообразить, чтобы андские народы не были осведомлены о группе звезд по эклиптике, которую мы называем Зодиаком, потому что такое невежество предполагает, что у андских народов не было никакого лунного Зодиака. В действительности намного проще ознакомиться со звездами, через которые проходит эклиптическая плоскость, путем обращения к Луне, чем путем обращения к Солнцу. Как Земля и все планеты, которые вращаются вокруг Солнца на плоскости, примерно эквивалентной солнечному экватору (эклиптике), так и Луна движется вокруг Земли по той же самой плоскости, плюс или минус пять градусов. Иными словами, как в случае с планетами и очевидным движением Солнца, луна идет по эклиптической плоскости, через зодиак. В течение одного месяца можно, если пожелать, проследить за Луной через весь зодиак. Если же пытаться использовать Солнце для определения эклиптической плоскости, возникают значительные трудности. В отличие от Луны, звезды, через которые проходит Солнце, увидеть нельзя. Следовательно, чтобы идентифицировать звезды эклиптики, потребовалось бы идентифицировать и запомнить звезды, восходящие только перед восходом солнца в той точке на горизонте, где солнце собирается взойти. Это более сложное, наблюдение отняло бы в двенадцать раз больше времени — целый год, — чем такое же наблюдение при использовании луны.
Не случайно самые ранние календари в Америке — и в других местах — делились на двадцать — двадцать восемь «позиций» луны на ее ежемесячном пути через звезды эклиптики, и вероятно, что это один из источников двадцатичной системы исчисления в Мезоамерике. Следует также отметить, что интеграция солнечного календаря с более ранним лунным календарем происходит почти повсеместно с возникновением сельского хозяйства. В такой последовательности есть особый смысл, поскольку тем, кто становится оседлым, необходим «контроль» за горизонтом, чтобы выверять солнечный календарь посредством гелиакического восхода звезд. В эпоху, предшествовавшую сельскому хозяйству, когда люди преследовали дичь, их стоянки должны были меняться по многу раз в году. Горизонт мог изменяться, но путь луны через звезды был неизменным, и не требовалось обращаться к горизонту.
Инки одновременно вели два календаря — солнечный и лунный, а инкская императрица как Дочь Луны председательствовала на множестве женских обрядов. Уртон отмечал, что, когда при работе с информантами он встретился с женщиной, использовавшей звездные карты, то она оказывалась не в состоянии ориентироваться, пока он не показывал ей, где в настоящее время находилась в звездах Луна. Это привело Уртона к предположению
о том, что все знания женщин об астрономии еще дожидаются прихода женщины антрополога, интересующейся этноастрономией. Лунные дела были и остаются в ведении женщин, и потому неудивительно, что конкистадоры об этом молчат.
Как бы то ни было, есть два источника, говорящие о существовании понятия эклиптической плоскости. Первый находится опять же на рисунке Пачакути Ямки, и в течение весьма длительного времени я не обращал на него внимания. Это невнимание отчасти было результатом принятия мною стандартного перевода одного из примечаний на полях диаграммы, того, которое описывало центральный овал, поднятый на штандарт Виракочи. В конце этой длинной надписи, которая содержит перечисление множества титулов бога, имеется эпитет для бога, который нигде более в испанских хрониках не встречается: Интипинтин тиксимуйо камак. Оно было переведено в значении «солнце солнца, творца основополагающего круга». Этот перевод не дает никакой информации вообще о значении овала. Термин «солнце солнца» ничего не означает. Предлагаемый в качестве синонима «творца основополагающего круга», он не помогает определить, каким этот круг мог бы быть.
Изучая ксерокопию оригинала диаграммы, я понял, что у этого перевода есть очень серьезная проблема и необходимо скорректировать кечуанские значения у Пачакути Ямки. В значении «солнца солнца» эта фраза писалась бы интип ин-тин, а не слитно как интипинтин. Принятая в номинальном значении, которое «неверно», эта фраза означает нечто совершенно другое. В кечуа частица — нтин придает смысл «взятого-в-целом», как в инкском названии инкской империи, тауа/нтин/суйу, буквально «четыре/взятые в целом/ района».
Фраза инти/п/интин тикси/муйу камак означает буквально «солн/ечный/взятый-в-целом основополагающий/круг творец», — перевод, совершенно непохожий на (некритически) принятый перевод «солнца солнца, творца основополагающего круга». Если бы ребенок пришел домой с начального урока по астрономии в школе и, вместо того чтобы повторять как попугай определение эклиптики из учебника («видимого годового пути Солнца»), определил бы эклиптику как «солнечный взятый в целом основной круг», то можно было бы с уверенностью сказать, что ребенок вник в существо вопроса. Сами эти слова говорят о том, что Виракоча создал эклиптическую плоскость.
В тот момент я еще не отваживался доверять своим собственным познаниям. Я хорошо знал, что искал обозначение эклиптики. Хотя мое образование позволяло мне анализировать кечуа, это не освобождало меня от ответственности за обращение к скептицизму ради доказательства. Тем не менее претенциозный — а также лишенный смысла — перевод интипинтин как «солнца солнца» волновал меня гораздо больше, чем мои собственные познания. Но если где-нибудь в ранних источниках имелось другое обозначение эклиптики, то я его пропустил.
Тут я вспомнил о другой фразе, повсеместный перевод которой в литературе я также классифицировал как «лишенный смысла»: о значении «Виракочи» как «морской пены». В течение всего своего исследования бога Виракочи я продолжал считать, что невозможно обнаружить что-то новое с помощью этой специфической этимологии в старых словарях. Конечно, ученые уже до меня должны были досконально изучить данное слово. Скорее для удовлетворения своего пессимизма, чем для чего-то еще, я заглянул в словарь аймара Бертонио. Через несколько минут я в чрезвычайном изумлении увидел абсолютно ясную этимологию, идентифицирующую Виракочу с эклиптической плоскостью, — этимологию, которая просто игнорировалась на протяжении почти пяти сотен лет.
Имя «Виракоча» поставило подлинную загадку перед конкистадорами, как только они столкнулись с этим названием, когда впервые подошли к Куско. Они хотели узнать, что означало это слово, и выразили замешательство и неудовлетворенность тем, что они узнали. Согласно испанским хроникам, единственным известным значением слова «Виракоча» была «морская пена». Неуверенный в правильности этого определения, Сиеса де Леон стремился пересмотреть историю о том, как испанцы были названы Виракочей, потому что они пришли из воды, подобно «морской пене». Действительная причина, как поведали Сиесе аристократы Куско, была в том, что появление испанцев в Куско знаменовало конец тирании насилия победоносного узурпатора Атауальпы (каким его считала фракция Куско во время, гражданской войны). Таким образом, когда пришли испанцы, жители Куско приветствовали их как «Виракочу», аргументируя это тем, «что они, должно быть, были посланы по велению их великого бога Тисивиракочи».
Это решение, хотя и звучало правдоподобно, затемнило тот факт, что значение слова как «морской пены», покорно употребляемое до нашего времени, остается абсурдной этимологией. Кечуанское слово вира, записанное испанцами как уира, означает смазочный материал или животный жир. На какой же эстетической основе могло пытаться поэтическое воображение вывести «пену» из выброса сала в холодные воды андских озер или в холодные воды течения Гумбольдта у перуанского побережья? Кроме того, в языке кечуа уже имелось вполне пригодное к употреблению слово для «пены», посоко. Как и Сиеса де Леон, Гарсиласо тоже выразил абсолютный скептицизм в отношении данной этимологии, но не предложил никакой альтернативы.
Более четко нелепость этого значения показал с помощью так называемых кипукамайокс Вака де Кастро, местный специалист по истории инков, который изучил различные аспекты конкисты. Инки были очень удивлены тем, что испанские «Виракочи» поняли значение своего новообретенного титула как «морского смазочного материала». Это вызывало у них смех. Со стоической иронией они отвергли представление, что их высший бог будет называться — и таковыми были их собственные слова — «морским мусором» (horruras de la mar), хотя одновременно им доставляло несомненное наслаждение такое определение в применении к испанцам. Но имел ли Виракоча какое-либо значение, они не говорили.
Поэтому я был изумлен, обнаружив вира, писавшееся по тогдашнему испанскому обыкновению как уира, в словаре Бертонио языка аймара. Удивляет отсутствие какого-либо упоминания об этом источнике во вторичной литературе[53]. В аймара имеются либо одинаковые с кечуа, либо еще более показательные по смыслу слова для большинства важнейших религиозных терминов, использованных инками. Аймара — это язык района озера Титикака, родины бога Виракочи и упоминаемой в мифологии империи Тиауанако. Тем не менее исследователи половину тысячелетия удовлетворялись поисками значения имени бога в иностранном языке, кечуа. Чем более пристально я всматривался в эту словарную статью, тем больше мне казалось, будто имелось неписаное правило не надеяться найти в языке признаки передаваемой важной интеллектуальной информации. Хотя оно может быть верным для нашего времени — возможно, из-за влияния рекламы, совсем не так было в доколумбовых Андах. Здесь есть то, о чем Бертонио сказал следующее:
«Уира вель [то есть «смотри также «]уаауаа. Земля или что-либо другое, идущее по наклонной плоскости (El suelo, о qualquiera cosa que va cuesta abajo)».
Под синонимом уаа уаа он добавил:
«Уаауаа, Уира. Земля или крыша, где одна часть выше другой или имеется наклонная плоскость (Suelo о texado que es mas alto unaparte, о cuesta abajo)».
Таким образом, вира являлось абстрактным термином, символизировавшим понятие наклонности. Его, вероятно, лучше всего переводить как «наклоненную плоскость». На языке родины Виракочи его имя означало «наклоненную плоскость (небесного) моря». Бертонио увязывал его с конкретными примерами. Значения вира являются тектоническими (землей) и архитектоническими (крышей), точно так же, как в мифе формальная терминология для обозначения свойств «небесной земли» — эклиптики — является либо тектонической, либо архитектонической. Мифологические термины, типа «вершина гор» и «глубина моря», сформулированные для описания самого северного и самого южного положений солнца в небесной сфере, проливают свет на «верх и низ» вопроса, то есть на «наклон» небесной «земли», наклонение эклиптики.
Столь же важно иметь в виду, что в понятии «наклонения» скрыт некий другой намек, который устанавливает понятие «уровня». «Наклоненность» не может существовать независимо от второй плоскости. Следовательно, значение в языке аймара имени аймарского бога Виракочи отмечает отношение двух абстрактных плоскостей. В самом факте наименования своего гермафродитного бога древние жрецы-астрономы Тиауанако выразили свое понимание представления о разделении вселенских родителей, наклонение эклиптики к небесному экватору.
Важно также признать, что инки в совершенстве знали значение аймарского слова вира. Точное место, упомянутое Молиной как остановка на пути паломничества инкских жрецов и идентифицированное Ларреа как divortium aquaram, или разделение континентов, дающее начало в Вильканоте двум рекам во встречных направлениях, называлось уирау-ма. На кечуа это означает «болван». Но на аймара, в котором ума означает «воду», это можно перевести буквально как «наклоненную плоскость вод» или, точнее, как «крышу вод» или, лучше всего, как «водораздел».
Итак, я снова вернулся к диаграмме Пачакути Ямки (рисунок 2.4). Теперь мне было ясно, что смысл Виракочи — буквально «наклоненной плоскости (небесного) моря» — был представлен овалом на рисунке Пачакути Ямки и состоял в том, что, как откровенно гласила эта надпись, овал представляет «солнечный взятый-в-целом основополагающий круг», эклиптическую плоскость. Имя Виракочи констатировало «наклонение» этой плоскости к небесному экватору, представленному на рисунке тремя звездами Пояса Ориона. Наконец, титул бога, Тунапа, символизировал его «управление» осью небесной сферы и был представлен на рисунке Пачакути Ямки под прямыми углами по отношению к небесному экватору, проходящему через плоскость овала/эклиптики. Так как эти две основополагающие плоскости ориентации воображались с точки зрения пола — гермафродитным богом, изображаемым мужскими и женскими крестами, мужскими и женскими жерновами, эклиптическим и небесным экватором, — то традиция «разделения вселенских родителей», похоже, присутствовала в каждом историческом процессе в доколумбовых Андах.
VI
Два других примера, один геомантический, а другой мифологический, показывают, что символику разделения вселенских родителей можно обнаружить и в других проявлениях андского мышления. Во-первых, полная символика унанчи Виракочи повторялась в планировке как имперского города Куско, так и империи в целом. Изначальное деление империи на четверти осуществлялось посредством направлений на страны света, то есть с помощью «мужского креста». Сначала проводилась восточно-западная условная линия, идущая от горы Пачатусан через храм Солнца на запад. Две северные четверти разделялись линией с севера на юг, исходящей от храма Солнца. Эта линия, однако, не продолжалась для разделения южных четвертей прямо на юг, а, как показал Уртон, отклонялась к юго-востоку, к азимуту восхода Южного Креста.
Эта аномалия пригодна для того, чтобы подчеркнуть важность полярных и экваториальных координат в планировке империи. Вблизи южного полиса вращения земли нет ярких объектов. Зато ряд объектов — Жаба, Куропатка (оба темных облака), уч'уй крус (Южный Крест) и льямак ньявин (альфа и бета Кентавра, «глаза ламы») последовательно всходят фактически в той же самой точке на горизонте и вращаются в плотной полосе вокруг «порожнего» полюса (рисунок 3.5). Так что эти средства определения местонахождения полюса инки включили в формальную планировку империи.
Также исходили от храма Солнца четыре дороги к четырем четвертям, расположенные взаимно кардинально — «женский крест» — по отношению к центрам четырех главных областей, или суйус, империи и, по идее, к четырем точкам солнцестояния на горизонте. Это были те же самые два креста, какие находятся на рисунке Пачакути Ямки. Аналогичным образом овал, являющийся эклиптической плоскостью, представлен на этой схеме посредством храма Солнца, который на кечуа назывался Кориканчей, буквально «золотым загоном». Родственный глагол кончай означает «окружать». Образ «золотого круга солнца», следовательно, является еще одним способом отражения эклиптической плоскости. В Кориканче с ее секциями, посвященными Венере, Плеядам и луне (всем «обитателям» эклиптической плоскости), находится еще один шедевр инкского масонства, большая эллиптическая стена, напоминающая овал в диаграмме Пачакути Ямки, с балконом, выходящим на юго-запад.
Второй пример из мифа, записанного в оригинале на кечуа в уарочирийском документе, показывает использование в мифологии тех же самых «мужских» и «женских» компонентов в передаче рассказов о времени и движении.
В этой истории молодой человек ищет лучшей доли в жизни, предлагая знатной особе исцеление от тяжелой болезни. Взамен герой просит руки дочери аристократа. В отчаянии аристократ соглашается, и молодой человек открывает ему, что он болен из-за множества святотатственных поступков его неверной жены.
Чтобы знатная персона исцелилась, ее дом должен быть снесен. Этот аристократ, кроме того, описывается как «ложный бог», — понятие, уже рассмотренное по отношению к мифологической терминологии «легитимности». «Легитимность» «бога» определяется его способностью придать измерения новому миру-веку установкой по отвесу или иным измерением — «глубины моря», то есть установлением «абсолютного наклона» на южном, полюсе. Поскольку он есть «ложный бог», то аристократ и его дом по определению стоят на зыбкой «почве».
Дом в этом рассказе, конечно, не является обычным домом. Крыша украшена перьями, подразумевая роль солнечной птицы, «летящей» к северному тропику. Далее, когда «дом» снесен, в нем под нижним жерновом (марай укупи) обнаруживается «двуглавая жаба». Кечуанская небесная Жаба, анп'ату, находится в той же группе звезд, которую инки использовали для определения местонахождения южного полюса вращения, в той же самой группе, к которой наклонялась точка восхода южной части условной линии с севера на юг в системе секе (рисунок 3.5). В мифе Жаба «ускакала» и исчезла в водоеме на дне глубокого оврага.
В контексте уарочирийского документа, откуда также идет старая история о хвосте Лисы, этот эпизод происходит после «потопа» 650 года н. э. В предшествовавшие «потопу» столетия, когда хвост у лисы был еще «сухим», Южный Крест во время гелиакического восхода в декабрьское солнцестояние стоял в вертикальном положении (высшем сочетании), указывая прямо на пустую область неба, отмечающую южный полюс вращения Земли. В столетиях после «потопа», поскольку Южный Крест сдвигался все дальше и дальше на восток во время гелиакического восхода в декабрьское солнцестояние в соответствии с прецессионным движением, созвездие с темным облаком анп'ату, Жаба, как раз к юго-западу, заменило Южный Крест в высшем сочетании, тем самым отмечая полюс. Так что когда нижний, четырехугольный жернов, марай (символизирующий четырехугольную «небесную землю»), был «опрокинут» после потопа 650 года н. э., Жаба совершенно «естественно» ускакала в «самое низкое» из доступных мест — то есть переместилась в астрономическое положение, отмечающее южный полюс вращения Земли. Это было примерно около 850 года н. э. и изображено на рисунке 4.3. Жаба была названа «двуглавой» по той причине, что отныне она, а не Южный Крест, отмечала слияние двух небесных рек. У современных говорящих на кечуа аборигенов есть прозвище для маленькой андской жабы; они называют ее пачакути.
Опрокидывание марай, «женского» жернова в центре домашнего пола, и символ четырехугольной «небесной земли» дают правдоподобное кинетическое изображение пачакути, буквально «опрокидывание пространства/времени». Другой «земной» экспонат, разрушенный в той старой истории, — это дом «ложного бога», то есть архитектурный аналог марас, всемирного дома, простирающегося от тропика до тропика[54]. «Результат» всей этой деятельности состоит в том, что Жаба принимается за новое «расположение», устанавливая таким образом местоположение оси вращения земли — новой структуры неподвижных звезд — в последующие эпохи.
Наконец, мифологическое употребление марай в этой истории заслуживает сравнения с некоторыми мотивами Старого Света, как в том случае, когда Зевс «наклоняет» стол (в месте по имени Trapezous), вызывая потоп Девкалиона, или когда опрокидывает столы ростовщиков, объявляя Новый Мир и неся, подобно Артуру, не мир, а неустрашимый осевой «меч».
VII
Подобное исследование можно было бы провести и в Мезоамерике, как, например, с ацтекским божеством Ометеотлем, «старым богом», к которому взывали таким образом:
Бог Двойственности трудится,
Творец отображения людей,
Который оживляет вещи.
Мать богов, отец богов, старый бог,
Находящийся в пупе земли,
В круге из бирюзы.
Он, который обитает в водах цвета синей птицы,
Он, который обитает в облаках.
Старый бог, который живет в тени земли
Усопших.
Повелитель огня и времени.
Вопрос о том, где располагался андский «пуп», будет подробно рассмотрен в следующей главе. Здесь же достаточно очертить лишь общие контуры. Ацтекский вождь Несауалькойотль построил храм гермафродитному Ометеотлю, «повелителю огня и времени», к которому часто обращались как к Тлоке Науаке, «Повелителю Близкого и Интимного». В гимнах Виракоче, собранных хронистом Молиной, мы все же находим другой эпитет для бога, каилья, означающий «вездесущий». Ацтекский храм Ометеотлю изображал бога абстрактно, как десятый и самый высокий уровень над девятью небесами. Этот десятый уровень был полностью выстроен из черного камня. Аналогичным образом, в храме Виракочи в Каче «пол верхнего этажа был выложен из очень ярко отполированных черных каменных плит, напоминающих черный янтарь, который был привезен из очень далеких земель. Как и священный черный утес аймара в Титикаке, где Виракоча сотворил небо и землю, священный камень Ка 'аба тоже черный и находился в доисламские времена около статуи бога Убаля — то есть Сатурна. Настоящее имя ведического Сатурна, Кала, подразумевало «иссиня-черный». Несмотря на то что Сатурн мог удалиться в Огигию в самом высоком небе, он считался также, в своей ипостаси Мрачного Жнеца, Владыкой Преисподней. Его цвет был также черный, как самая черная ночь.
Между прочим, черный утес Титикаки, от которого берет свое название озеро, буквально означает на аймара «свинцовая скала». Несомненно, найдутся такие, кто в процессе проникновения в смысл этого положения вещей обнаружит еще одно доказательство широко распространенного бессмысленного совпадения.
Такой черный юмор возникал по поводу всего, что я мог бы рассматривать в свете этого доказательства. Лично я был удовлетворен, что в андском мировоззрении Сатурн, вероятно, выступал планетарным проявлением Тунапы Виракочи. Но меня не радовала перспектива представить эти доказательства на публике. Правда, я сделал больше, чем просто составил список сравнительных сходств; я находил основания полагать, что характеристики Виракочи как Сатурна соответствовали внутренней логике технического языка мифологии. Он был седобородым стариком, который нес посох. Его имя, Tunapa, подразумевало «носителя мельницы». Он был гермафродитным, и эта андрогиния имела множество очевидных астрономических ассоциаций.
Тем не менее, поскольку ни одна научная дисциплина никогда не допускала, что технический язык мифологии действительно существовал, я знал, что мне недоставало доказательств, чтобы рискнуть предложить смену парадигмы. Очень жаль. По моему разумению, не было никакого прямого доказательства, никакого андского свидетельства об интеграции планетарного наблюдения в их мифологическую мысль. В подобной ситуации необходима явная улика. Если бы я пытался спорить, исходя лишь из имевшегося доказательства, я оказался бы побежденным и в синяках. Точно так же, как Сатурн.
В синяках. Черных и фиолетовых. Я подумал о двух лентах — черной и фиолетовой, изображенных на конце церемониального копья, которое держал Инка, когда сидел на троне в пирамидальном ушню. Если черный символизировал Сатурн, то что же представлял фиолетовый цвет? У меня была сумасбродная идея, что вторая лента должна представлять имперский фиолетовый цвет Короля Юпитера. Но, конечно, это вряд ли было возможно. И тем не менее… Могло ли нечто, столь же простое, как две трепещущие на ветру ленты, указывать на сочетание настолько потрясающих событий, чтобы обозначить их как конец мира? Может быть, прямое доказательство имелось в андских мемуарах. Я не был уверен, но теперь понял, что точно знал, как это выяснить.
ГЛАВА 5
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТАНДАРТА
О, Виракоча, тикси капак… Солнце, луна,
День, ночь,
Сезоны созревания и дождя,
Они не свободны,
От Тебя они берут свой порядок.
Тебе они повинуются.
Где и кого Ты одарил Твоей тупайаури?
I
Я полагал, что заметил связь между тремя этими фактами, которые теперь сами выстроились в некий равнобедренный треугольник. Для меня он был картой сокровищ. Первая информация исходила из планетарного списка анонимного хрониста. Согласно ему, местные информанты свидетельствовали, что мифический глава инкского рода, известный как Манко Капак, был регентом планеты Юпитер на Земле:
«Юпитер они называли Пируа, утверждая, во-первых, что великий Илья Тексе [Виракоча] повелел, чтобы эта планета была владыкой и хранителем империи и провинций Перу и его республики и земель; и поэтому они делают жертвоприношения этой планете… Они вверили этому богу свои зернохранилища, сокровища и имущество… Во-вторых, они рассказали, что, когда умер великий Пируа Пака-рик Манко Инка, первый житель этих земель, он был принят на небесах в дом и местожительство этого бога по имени Пируа, и что там он был обустроен и принят этим же богом».
Я читал это прежде, но не понимал, как следует воспринимать эту информацию. Как я уже говорил, в тот момент мне нужно было пересмотреть то, что говорили Сантильяна и Дехенд об определенной роли планетарных божеств в древней астрономии.
В результате этого пересмотра я и натолкнулся на второй факт. Согласно Сантильяне и Дехенд, орфические гимны описывают, как Кронос/Сатурн дает Зевсу/Юпитеру «все меры времени», — Обращение к весьма специфическому виду знания о сочетаниях Сатурна и Юпитера. В то время я опять же и не подозревал, что такое представление могло иметь место также в Андах. Тем не менее, когда мои мысли пронизал странный вопрос о двух трепещущих лентах, третья толика информации органично вписалась в некий завершенный образ. Согласно мифу, записанному Пачакути Ямки, бог Виракоча как раз перед тем, как покинуть «землю», перейдя через реку Чакамарка, встретился с отцом еще не родившегося Манко Капака и оставил для ребенка свой «посох».
Передо мной был андский миф, который, казалось, описывал сочетание Сатурна и Юпитера. Кроме того, как будет объяснено ниже, миф, похоже, прояснял, что данное событие произошло в особый день особенного года и при столь редких обстоятельствах, что такое событие не может случаться более одного раза в тысячелетие. Иными словами, в нем находятся прямо под рукой чрезвычайно точные средства для проверки идентификации богов Виракочи и Манко Капака с планетами Сатурн И Юпитер.
Положительный результат принес бы нечто большее, чем просто явная улика. Если было истинно то, что жрецы-астрономы Анд зафиксировали течение прецессионного времени в отношении сближений Сатурна и Юпитера, а кроме того, записали свои наблюдения на техническом языке мифологии, чей способ передачи может осуществляться только посредством контакта между людьми, тогда это предполагало бы, что мы, современные люди, должны еще представить себе истинные масштабы нашего собственного человеческого прошлого. Если это «предсказание» астрономического значения мифологии подтверждалось, то оно подняло бы глубокие вопросы о целях, средствах и степени контактов между людьми на больших расстояниях и на протяжении длительных отрезков времени.
Поскольку потомок сам становится предком, я снова оказался в состоянии особого возбуждения, вызванного надеждой на то, что прошлое не утрачено для настоящего. В ходе эксперимента в планетарии я испытал огромное впечатление от связи между нашим временем и событиями 650 года н. э. Это впечатление было связано не просто со сходствами между теми временами и нашими. Более существенным было понимание, что без развитого состояния научной технологии, представленной планетарием, с чисто технической точки зрения было почти невозможно формулировать вопросы или получать ответы с точностью, подобной той, какую обеспечивает планетарий.
Первый планетарий был задуман в 1913 году, построен фирмой «Карл Цейс» в 1923 году и воспроизводил ночное небо только на широте Мюнхена. Но только после Второй мировой войны наступила эра собственно современного конструирования планетариев. Аналогичным образом не были доступны, за исключением прикладных программ национальной безопасности, вычислительные машины. До совсем недавнего времени понадобились бы сотни часов математических вычислений с карандашом и бумагой, чтобы сделать то, что планетарий может выдать за несколько минут или компьютерная программа за несколько секунд. Иными словами, до последних двадцати пяти лет вопросы, возникавшие при исследовании технического языка мифологии, не могли бы ни получить ответа как практические вопросы, ни быть поставлены как занятные вопросы об исторической истине.
Теперь я снова оказался в ситуации, когда мне требовались определенные инструменты, притом инструменты, демонстрирующие триумф западного научного материализма, для постижения той сферы человеческих устремлений, чье реальное существование эта же самая современная культура систематически отрицала и высмеивала. Чуждость того и другого виделась мне чем-то большим, чем просто иронией. Случайно ли то, что этот потерянный Атлант человеческой мысли мог и должен был выйти из забвения только в наше время?
С вопросом о сближениях планет и их отношениях к прецессионному времени мы вступаем в границы чистого измерения, наиболее важной функции планетарных богов.
Именно из таких сведений возникает «управление» «мельницей», в смысле понимания, как измерять прецессионное время. Мы только что рассмотрели данные, говорящие о том, что мифологический глава инкского рода, Манко Капак, представлял на земле планету Юпитер. Прежде чем обратиться к двум другим важным фактам — использованию в Старом Свете сближений Сатурна и Юпитера и андскому мифу, который, похоже, увековечивает то же самое событие, необходимо прежде всего вернуться в то место рассказа, где мы свернули в сторону, чтобы максимально описать Сатурновы свойства бога Виракочи, его роль как Владыки Времени.
II
В гимнах Виракоче, записанных местным хронистом Пачакути Ямки, имеется и другой титул бога — куско капак. Ни ранние хронисты, ни современные ученые не исследовали буквального значения этого термина. Один из гимнов Виракоче начинается фразой «Кам куско капака», то есть, согласно переводу Уртеаги, «Ты — король Куско», — толкованием, которое считается общепринятым в литературе. Но если взять этот перевод в прямом значении, то он подразумевает тесную связь между богом Виракочей и основанием Куско в начале 1400-х годов, тогда как хроники рисуют иную картину — глубокий и ожесточенный раздор между основателем инкского величия, Инкой Пачакути, и его отцом, легендарным Инкой Виракочей, защитником старой религии творца Анд. Этот перевод куско капака иллюстрирует принцип ухода от многих исторических проблем, поднятых андским материалом: если вы собираетесь кататься на коньках по тонкому льду, не носите с собой ничего тяжелого — вроде словаря, — дабы вы не провалились внезапно в воду.
Для начала укажем, что куско означает «пуп». Как показало исследование Элиада, у шаманов Старого Света пуп Земли располагается на вершине космической горы, и именно из этой точки исходят меры «земли». По причине самого характера символики Центра, который предполагает сохранение соединений между всеми тремя мирами, считалось, что «дворцы, королевские города и даже простые дома находились в «Центре Мира», на вершине космической горы».
Но пуп — будь это гора, храм, город или простой камень omphalos (= греческое слово «пуп») — должен в конечном счете располагаться у глубокой воды. Это воды большого пресноводного океана под солеными морями Земли, которые простирают «соленые воды» только до южного тропика (рисунки 3.13, 3.14). В Вавилоне это пресноводное море называлось апсу, откуда происходит наше слово пропасть. Поэтому по самой своей природе пуп в Центре обеспечивает доступ не только к «миру наверху», но к «миру внизу».
В еврейских легендах сообщается, что, «поскольку ковчег исчез, на его месте появился камень… который был назван камнем основания [Храма]». Он был назван камнем основания, «потому что из него был основан мир». И говорится, что он расположен над Водами, которые находятся под Святейшей из Святынь.
Это то же самое место, которое занимает четырехугольный, женский каменный жернов, марай, в «доме ложного бога». И когда тот камень опрокидывается и показывается «дыра», выходящая на глубокое южное небо, «вся преисподняя» вырывается на свободу и изменяется время.
Согласно инкскому мифу, Куско был «основан» на месте «оголенного пупового камня» (куско кара уруми), называемого так потому, что он появился из (пресноводного-) болота. Но инки не были среди тех андских народов, которые внедрили эти идеи или эту терминологию. «Король Куско» в своем техническом смысле является понятием, значительно старше инков или основания их столицы. Древним аймарским названием Святейшей из Святынь,
Тиауанако, было тайпикала, буквально «скала в центре». И в главном андском мифе о сотворении Вселенной Виракочей эта символика также присутствует, поскольку именно на Титикаке возвышается из вод пресноводного озера черный скалистый утес, который сотворил солнце, луну и звезды, а также племенную организацию Анд, произошедшую из этого пупа мира. Здесь Виракоча измерял глубины вод в месте, именуемом «скалой свинцового лота».
В положении дел в Центре все зависит от Царя, Владыки Меры. Если он создаст небеса на земле (внешне — организацией земного пространства, освященного посредством воспроизведения на земле физического порядка на небесах, внутренне — установлением норм социального поведения, особенно таких достоинств, как терпимость, гостеприимство и ориентация на общее благо), тогда благосостояние людей будет обеспечено. Тотчас же начнется Золотой Век. Эта священная деятельность происходит из пупа — где сходятся рай, земля и земля усопших, — а легитимность всех земных царей, их право на «управление» — означающее «измерять», как мы это также говорим по-английски, — в конечном счете проистекают от поддержки и наказания Владыки Меры, которым является Сатурн.
Эти наблюдения, касающиеся «пупа», ведут ко второму слову из титула Виракочи, капака. Пачакути Ямки обычно записывал это слово как капак, понимавшееся в кечуан-ском лексиконе колониальной эпохи как «царь». В выражении куско капака (с дополнительным а) Пачакути Ямки дает нам слово из аймара, также понимавшееся как «царь». Однако обращение к словарю Бертонио придает неожиданное значение этому термину:
Ккапака: Царь или Владыка. Это — древнее слово, которое теперь не используется более в этом смысле.
Аймарское слово, обозначающее «царя», было настолько древним, что в разговорной речи стало анахронизмом. Можно было надеяться, что эта информация окажется достаточно интересной, чтобы вызвать любопытство среди ученых. Почему инки назвали свое учреждение, имперское правление, иностранным понятием, устаревшим прежде, чем был заложен первый камень Куско? Исследование этого вопроса могло бы объяснить и другие данные, как, например, причину, по которой Бетансос выслушивал столь длинный и утомительный рассказ о том, как Пачакути Инка лично проводил планировку и измерения нового города Куско. Тем не менее в литературе об инках считается, что слова капака и капак всегда подразумевали только значение «царь».
Но дело обстоит совсем не так. В кечуа суффикс для деятельности (который в английском выражается прибавлением — ег к основе глагола) писался испанцами как — к. Его использование встречается, например, в названии прибрежного божества Пачакамак, «творец вселенной», от кечуанского глагола камай, «делать».
Кечуанский глагол капай относится к средствам измерения:
Капай. Измерять пядями (Medir a palmos). Капа. Пядь. Растопыренная ладонь и мера (Palmo. La тапо estendida у la medida).
В аймара тоже используется этот термин:
Капата. Измерять пядями (Medir palmos). Капа. Пядь (Elpalmo).
Так что слово «царь», капак, буквально означает «он, который измеряет пядями», тогда как титул Виракочи — куско капака или куско капак, изображаемый в научной литературе как «царь Куско» — буквально означает «тот, кто измеряет пуп земли пядями»[55].
Пядь, то есть расстояние между большим и указательным пальцами растопыренной ладони руки, исторически обеспечивала «архаичные» народы полезными средствами измерения времени в небесной сфере. Например, Дэвид Льюис обнаружил пядь как меру, называемую наф, применяемую современными полинезийскими мореплавателями Каролинских островов в Микронезии, все еще использующих традиционные методы. Льюис предположил, что это измерение, понимаемое как «расстояние от указательного до большого пальца по длине ладони, или примерно 10 градусов…могут хорошо отражать древнюю методику».
Ацтекские астрономы также «использовали свои ладони на манер секстант для измерения движения звезд», согласно Лиону-Портилье, который переводил ацтекское название их астрономов, и-не-ма-така-чолис, следующим образом:
«…он измеряет своей ладонью полет или пересечение звезд». То, что астрономы Науатля не только наблюдали, но также измеряли звезды и строили кривую их движения, доказано точными математическими вычислениями, содержащимися в календаре, и еще более очевидным тем фактом, что майтль или измерение пядью было в Науатле единицей меры».
Не осознавая грандиозности этого замысла, ни один хронист периода конкисты Перу не испытывал и малейшего любопытства в отношении особой ипостаси единственной статуи Виракочи, всегда рассматривавшейся глазами европейцев:
«Капак Юпанки [Инка Пачакути] был первым, кто приказал построить храм Кисуарканча, где он поместил статую Творца [Виракочи], который на их языке называется Пачайачанчи [ «Вселенский Учитель»] и статуя которому была [сделана] из золота размером с десятилетнего мальчика и изображала стоящего человека, с высоко поднятой правой ладонью, почти закрытой, кроме высоко [поднятых] большого и указательного пальцев, как у человека, отдающего команду». [Курсив наш.][56]
Древние «цари» аймара, капака, были жрецами-астрономами.
III
Я наткнулся на упомянутую информацию при рассмотрении этимологии титулов Виракочи с целью выяснить, отвечают ли они «профилю» Сатурновых характеристик. Тем не менее эта информация осталась в своей собственной нише, отдельно от связей с другой информацией. Я все ещё не понимал полные значения титула куско капак. Мне предстояло еще найти ответ на ряд фундаментальных вопросов. Если измерение было решающим аспектом легитимности «правителя», то что же измерялось и как выполнялась эта функция? Я все еще не верил в необходимость серьезно отнестись к тому, что особенно глубокомысленный (для меня) раздел «Мельницы Гамлета», связанный с мистическими греческими фрагментами, мог содержать ответы на мои вопросы. Хотя я уже убедился, что «Мельница Гамлета» была важной книгой, я все еще так или иначе не верил в идею о всеобщем тождестве астрономической информации для Старого и Нового Света.
Я готов был допустить, что ответ на первую часть моего вопроса можно найти в источниках Старого Света. Это была общая идея о том, что законный планетарный правитель той эпохи был обязан измерять время по шкале Всемирных Веков и проводить на Земле, из «внешнего» пупа, границы этого нового творения в звездах. Чтобы быть владыкой времени, нужно сначала быть владыкой пространства, — пространства, спланированного из пупа земли. Поэтому расположение инкской империи, выверяя отношение эклиптики к неподвижной сфере звезд, отображает на земном пространстве образ священного брака небесных элементов и обеспечивает концептуальные рамки, внутри которых «характер времен» может отдаваться в пользование в людских делах. Это казалось достаточно общим суждением, чтобы поддаваться широкому распространению.
Что касается второй части вопроса — как именно осуществлялось измерение, то я стал расценивать эту методику как одно из крупных научных достижений древнего мира. И реставрация этой информации из «кучи» отходов истории, возможно, есть самое большое достижение «Мельницы Гамлета». Рассматриваемая методика включает систему, составляемую весьма регулярными сближениями Сатурна и Юпитера, поскольку они движутся через эклиптическую плоскость. Чуть меньше, чем через каждые двадцать лет, эти две планеты входят в сближение. Следующее сближение происходит на трети пути вокруг эклиптической плоскости на фоне неподвижных звезд, звезд, известных на Западе как зодиак. Следующее сближение снова происходит на трети пути вокруг зодиака и так далее, проходя первоначальным положением в звездах примерно до девяти градусов, так что траектория, созданная во времени рисунком этих сближений, весьма похожа на перемещающийся равносторонний треугольник, чьи вершины медленно оборачиваются через эклиптическую плоскость.
Рисунок 5.1 показывает изображение Кеплером этого явления (и его заинтересованность им). Спустя восемьсот лет (точнее, 794 1/3 лет), то есть после сорока таких сближений, треугольник обошел через одну треть эклиптики, копируя таким образом свое «первоначальное» положение среди звезд.
«Этот Треугольник Великих Сближений представлял собою прибор, которым можно «охватить» почти незаметный ритм Прецессии. Чтобы пройти через весь зодиак, одному из углов Треугольника требуется примерно 3 х 794 1/23 = 2.383 года. Он приходит довольно близко к одному двойному часу самого длинного «дня» прецессии из 25,900 лет… Новый зодиакальный знак был назван правителем старта со дня великого сближения в месте «прохода» [сближения в зодиакальном знаке]».
Доказательство для понимания этого явления и его полезности в древние времена было найдено Сантильяной и Дехенд в мистическом фрагменте, сохранившемся у Прокла в его комментарии о «Кратиле» Платона:
«Величайший Кронос [Сатурн] спускает сверху принципы понимания Демиургу [Зевсу/Юпитеру], и он же руководит всем «сотворением» /демиургией/. Именно поэтому Зевс называет его «Демоном», согласно Орфею, говоря: «Приведите в движение наш превосходный сорт Демона». И Кронос, кажется, имеет с ним высшие мотивы совпадений и расхождений…»
Этот комментарий Прокл завершил утверждением, что Кронос [Сатурн] «пророчит» Зевсу [Юпитеру] «непрерывно» и что «он дает ему все меры сотворения в целом».
Здесь перед нами, следовательно, конечный источник «власти» Сатурна как Владыки Времени. «Непрерывно» давая Юпитеру «принципы понимания», он дал человечеству хронометрические средства толкования истории Мировых веков, начертанные в звездах.
IV
До меня, наконец, дошло, что знание этой астрономической методики могло действительно существовать в Андах, и я решил продолжать искать в том же направлении. Если утверждение анонимного хрониста (процитированное в начале этой главы) о связи между мифологическим главой инкского рода, Манко Капаком, и планетой Юпитер было действительно истинным, тогда в инкском мифе должны быть доказательства того, что Манко Капак проявлял характеристики планеты Юпитер, в соответствии с техническим языком мифологии. Иными словами, так же, как я исследовал значение имен и «поведения» Виракочи, я почувствовал теперь необходимость проделать то же самое с Манко Капаком. Выводить прямую связь между информацией анонимного хрониста и мифом Пачакути Ямки о Виракоче, передающем свой «посох» Манко Капаку, не предприняв этого шага, означало бы строить слишком слабую связь в цепочке доказательств. Кроме того, если то, что я теперь подозревал, действительно было верно, тогда там должна была быть такая информация о Манко Капаке.
Так же, как Цезарь заказал Виргилию сочинить «Энеиду» в качестве средства увязать свою семейную генеалогию с потомками Венеры, инки стремились утвердить свои претензии на роль законных правителей, устанавливая особые отношения с планетарными богами через основателя их династии, Манко Капака. По крайней мере так сообщал анонимный хронист. Мифический глава инкского рода вел свою власть от планеты Пируа/Юпитер, которая, в свою очередь, была «назначена» творцом, Виракочей, быть охраняющим божеством Империи и ее правителей. Если эта формулировка звучит знакомо — «величайший Кронос спускает сверху принципы понимания Демиургу [Зевсу], и он же руководит всем «сотворением», — то что можно еще почерпнуть из других источников об идентичности и характере Манко Капака?
Манко Капаком звался «первый» Инка. Согласно инкской традиции, которая в течение столетий после конкисты воспринималась в буквальном смысле, всего насчитывалось одиннадцать инкских царей, кончая Уайна Капаком. Зуиде-ма показал, почему эти данные нельзя принимать за точную цифру. Во-первых, Куско делился на две части, или социальные «половины», и царствование могло осуществляться двумя половинами поочередно или, что более вероятно, могла существовать диархия, то есть одновременно два царя: один из нижней половины (живущий в южной части города — урин [то есть «нижнем «] Куско), в большей мере занятый вопросами религии, другой из «верхнего» Куско, который в большей мере являлся военным вождем. Кроме того, согласно Зуидеме, упоминание пяти поколений одиннадцати царей не является историческим в том смысле, как мы понимаем это слово, а представляет то, что можно было бы назвать структурным изображением прошлого:
«Следствием должно быть то, что мумии вышеупомянутых первых королей в обеих половинах были изъяты из Храма и фактически утратили все социальное и историческое значение для живых. Для живых имели значение не столько мумии, сколько их позиции в системе. Их постоянно сохраняли; только у каждого следующего поколения позиции занимались другими мумиями».
При том образе, каким представляли себе прошлое инки, могли вспоминаться не более одиннадцати царей, независимо от того, сколько их было в целом.
Следовательно, имя Манко Капак не означает обращения к происхождению исторического царя. Манко Капак — это чисто мифологический символ, то есть не меньше, чем реальный, но больше, чем человеческий. Зуидема отмечал, что хронист Гуаман Пома поместил Манко Капака далеко назад, в Четвертый Век, то есть Век Воинов, когда господство государств Уари и Тиауанако начало ослабевать. Зуидема также показал, как инки с этого времени утверждали не только свою претензию на роль законных императоров Анд, но и многие из административных методов империи. Хотя правильно говорить, что инки выводили свое «происхождение» как наследников по праву «управлять» Андами из таких отдаленных и мифологических событий, как время, когда Виракоча «оставил землю», в этой формулировке содержится гораздо больше деяний, чем грубой политической претензии на старшинство. Именно поэтому столь важна информация анонимного хрониста.
Если мы на время отвлечемся от буквального значения кечуанского слова пируа, которым была названа планета Юпитер, мы сразу же окажемся среди знакомых мест нашей первоначальной голограммы. Пируа и его аймарский вариант пиура относятся к виду постройки, круглому зернохранилищу. Эти сооружения опирались для устойчивости, как и Мировые Века, на четыре прочных столба, вокруг которых делались плетень и мазанки круглой формы. Ольгин различал плетеное и оштукатуренное пируа от колька, квадратного склада имперской постройки, сделанного, согласно Кобо, из самана. Пируа было древним крестьянским зернохранилищем. И Арриага, и. Акоста отмечали церемонии крестьян, связанные с хранением их зерновых культур в пируа. Называть бога-опекуна империи традиционным строением, которая сохраняет изобилие и отражает стабильность, было, несомненно, ценным вкладом в сокровищницу имперской мысли.
И потом, если империя Солнца была Домом, построенным Юпитером, тогда не должно удивлять то, что характерные признаки этого бога с абсолютным авторитетом демонстрируются Манко Капаком в различных версиях мифа об основании Куско. Как говорилось выше, мифологическим местом основания Куско было куско кара уруми, или «оголенный пуповой камень». Различные источники определяют, что оно находилось в болотистой местности с пресноводным источником. Миф повествует, что Манко Капак со своими братьями и сестрами[57] отправился на поиски подходящего места для основания большого города. Манко Капак нес с собой золотой скипетр, называемый Пачакути Ямки тупайаури, — тот самый деревянный посох, который был дан отцу Манко Виракочей перед рождением ребенка и который теперь чудесным образом изменился. По дороге Манко пробовал землю посохом в поисках пахотных земель. В куско кара уруми он швырнул тупайаури на болотистую землю, и он исчез, указывая на завершение поисков.
Этим деянием Манко Капак выполнил божественную задачу определения «водных глубин», неотъемлемую задачу всякого бога, который претендует на законное право «управлять» новым веком. Он делал это, опробуя соединение между этим миром и «миром внизу» у источника, полностью открытого до пресноводного океана пучины преисподней под «небесной землей». При этом он повторял основание мира у Титикаки и в Тиауанако/Тайпикале — «скалу в центре» — богом Тикси Виракочей. Но в отличие от Виракочи, чей характерный способ измерения предполагал ис-пользование «свинцовой скалы», Манко Капак установил ось вселенной нового века, воткнув тупайаури в землю. Сатурн устанавливает по отвесу, а Юпитер мечет.
Что это толкование мифа — не просто странный «оборот», помещенный в совершенно безобидный рассказ, доказывается буквальным значением имени Манко Капака. Опять-таки именно в языке аймара, а не кечуа, следует искать космологический смысл слов[58]. В кечуа возможными родственными словами для манко являются «горшок», «болван» или «дровосек». В аймара Бертонио выявляет, как отмечалось в главе 3, что слово манкка означает «ниже» и использовалось в формальной терминологии аймара, описывающей три мира, для обозначения преисподней, манкка пача. А в другом месте он записывает по буквам термин манкуэ пача, где манкуэ означает «глубину или водную глубину». Следовательно, имя Манко Капака означает «он, который измеряет пядями водные глубины», и должно говорить о том, что его имя в точности описывает то, что ему требовалось делать для установления нового мира в пупе земли, Куско. Бросая ось вселенной на самое дно пропасти, Манко Капак утверждал свою претензию на роль законного наследника Виракочи, управляющего мельницей.
V
Пачакути Ямки прослеживает для нас все этапы, через которые посох Виракочи стал достоянием инков.
«Они говорят, что этот человек [Виракоча] пришел очень усталый в главное селение, называемое Апо-тампу. Это было в то время, когда они праздновали свадьбу. Его доктрины вождь слушал дружелюбно, но его вассалы — неохотно. С того дня странник был гостем Апо-тампу, которому, как они говорят, он отдал палку от своего собственного посоха, и через этот Апо-тампу люди прислушивались со вниманием к словам пришельца, получая палку из его рук. Так они получали то, что он проповедовал, в палке, отмечая и делая зарубки на ней каждую главу его предписаний… Затем Тонапа [Виракоча] последовал за течением реки Чака-марка, пока не пришел к морю.
Они говорят, что посох, который Тонапа передал в руки Апо-тампу, превратился в прекрасное золото при рождении его сына, который был назван Манко Ккапаком Инкой и имел семь братьев и сестер. Их имена были Айар-качи, Айар-учу; Айа-раэка и т. д. После смерти отца и матери, звавшихся Any Тампу Пача и Мама Ачи, указанный Апо Манко Ккапак, оставшийся теперь сиротой, но доросший до статуса мужчины, собрал своих людей, чтобы посмотреть, какою силой он обладал для ведения новых завоеваний, о которых мечтал. Столкнувшись с трудностями, он согласился со своими братьями и сестрами искать новые земли, взяв с собою свою богатую одежду и оружие, а также посох, который оставил Тонапа. Этот посох был назван Тупайаури… Отсюда он пошел в Колькапампу с тупайаури в руке и с сестрой по имени Ипа мама уако, а также с другой сестрой и братом. Они достигли Колькапампы, где пробыли несколько дней. Отсюда они пошли в Уамантьяну [то есть уаман тиана, «гнездо ястреба», или крепость Сак-сайуаман], где оставались некоторое время, и оттуда отправились в Кориканчу, где нашли место для поселения. Там была хорошая вода Уринчаканы и Ананчаканы, двух потоков. Скалу аборигены (представленные алъкайриэсами, ку-льинчинами и кайаукачи) называли именем куско-кара-уру-ми, откуд» это место стало называться Куско-пампа и Куско-лъякта; а инки впоследствии назвали его Капак-Куско и Куско-Инка».
Тупайаури, определяемое Ольгином как «царский скипетр, посох, царские знаки отличия Инки», был символом имперской власти у исторических Инков. Тупа означает «царский» на кечуа, а йаури — это аймарское слово, обозначающее медь. Рисуя царские персонажи, Гуаман Пома изобразил их с этим посохом. Рисунок 5.2 — это его изображение Манко Капака, держащего тупайаури, деревянный шест с медным ножом, прикрепленным к верхнему концу. Именно такое копье или подобное ему Инка нес с собой на вершину ушню, и на нем развевались фиолетовые и черные ленты.
О волшебных свойствах тупайаури как талисмана непобедимости инков повествует инкский миф о главном сражении между инками во главе с Инкой Пачакути и их заклятыми врагами чанками. В разгар сражения, как говорится в мифе, Инку Пачакути поразил обморок, и голос с небес спрашивает, почему у него нет с собой тупайаури. Приходя в себя, он берет скипетр в руку и сплачивает своих людей. Чанки побеждены, и начало империи заложено. Обладание этим талисманом легитимности определяло судьбу инков.
Этимология слова тупа проясняет источник волшебных свойств тупайаури. Сравнение с кечуанским словом капак показывает, что стандарты для определения королевской власти неизменны. В языке кечуа глаголами, в которых используется корень туп-, являются тупай и тупуй, соответственно означающие «молоть, или скрести» и «измерять посохом», и такие же родственные слова существуют в аймара. Ряд инкских императоров, такие как великий Инка Тупак Юпанки, включали данное слово в свои имена. Тупак означает «тот, кто мелет», то есть такой же неотделимый от критериев «царствования» титул, как и капак, «тот, кто измеряет».
Таковы, следовательно, были отдельные части вопроса. Осталось лишь проверить их пригодность — на основе чисто андского материала. Я собирался выяснить, представлял ли образ, составленный из этих частей, мираж или изображение исторической действительности, не замечавшиеся со времен конкисты Перу.
VI
Я позвонил профессору Джинджеричу, который помогал мне в планетарии полтора года назад. Тогда он заметил мимоходом, что сам по себе планетарий не дает возможности взглянуть на планетарные сближения в прошлом, потому что это подразумевало необходимость поворачивать через каждый год машину в обратном направлении к желаемой точке в прошлом, а не просто повернуть машину на определенный год, игнорируя тем самым соответствующие положения планет. Чтобы добраться до 650 года н. э., пришлось бы настраивать прибор огромное множество часов. Эта крупица тайны тогда не казалась мне столь важной, поскольку я и не предполагал, что окажусь вовлеченным в андские знания о планетах.
«Вы должны консультироваться с планетарными таблицами», — сказал он.
«Планетарные таблицы?»
«Да».
«Вы имеете в виду те, что есть в книге? Вы, должно быть, только что смотрели в книге?»
«Да». Он, казалось, имел ангельское терпение. Затем он сообщил мне, что надо искать, и повесил трубку.
Итак… это было просто. Резкий переход от времен мифа к «реальному» времени застал меня врасплох. Я отправился в библиотеку, чтобы найти книгу с планетарными таблицами, мое состояние колебалось от надежды до полного уныния. Вопрос или проверка, которые я сформулировал, никак не выходили из головы. Либо я понял миф о Виракоче и Манко Капаке таким образом, который подтвердит их идентичность как планет и докажет, что в Андах в самой основе инкского мировоззрения действовал технический язык мифологии вплоть до конкисты, либо я ничего не понял. Если бы планетарные таблицы не смогли подтвердить миф Пачакути Ямки, я бы снова оказался не в состоянии объяснить, каким образом космология, такая как выражена в мифе о потопе и ламе, могла существовать в религиозном вакууме. Но больше всего я хотел, чтобы, оказалось истиной то, что в прошлом люди стремились связаться с будущим.
Анализ или «предсказание» астрономической ситуации, описанной в мифе Пачакути Ямки, был почти чудовищно точен. Утверждение Пачакути Ямки, что Виракоча «покинул Землю» через реку Чакамарка, долгое время казалось мне поддающимся одной, и только одной, астрономической интерпретации, а именно, что это событие произошло во время «потопа» около 650 года н. э. Этот вывод был основан не просто на доступной исторической информации, увязывающей «уход» бога Виракочи с началом эры местных войн; он также, казалось, логически вытекал из моего предполагаемого понимания технического языка в андской мифологии. Виракоча должен был уйти «мостом через реку» около 650 года н. э., если андские народы действительно обладали знанием, чтобы называть доступом к Земле связь между солнцем в июньское солнцестояние и Млечным Путем, ослабление которой совпало с упадком эпохи мира и ее заменой эпохой войны. Мост тогда пребывал в состоянии «погружения», и если Виракоча смог успешно выйти из этой смертельной спирали, то уйти он должен был именно тогда.
Ввиду моего вторжения в сферу идентификации названий планет необходимо было выяснить дополнительные вопросы. Прежде всего, конечно, я должен был теперь убедиться, что в планетарном проявлении под Виракочей в мифе подразумевается Сатурн. Далее, во время этого события должно было состояться сближение Сатурна и Юпитера («встреча» Виракочи и Манко Капака). Само по себе оно не составило бы необычное явление. Сатурн и Юпитер сближаются каждые двадцать лет. Следовательно, в промежутке времени — 650 год н. э. или плюс-минус пятьдесят лет, смоделированном экспериментом в планетарии, обнаружить такое событие можно было без проблем. Если, однако, мое толкование космологической драмы было верным, то искомое мною сближение Сатурна и Юпитера должно было состояться в определенном месте среди звезд, а именно на восточном крае Млечного Пути в Близнецах, где находился вход на «мост» к земле богов. Это было такое событие, которое, вследствие геометрии треугольника сближений Сатурна и Юпитера, может происходить только раз в восемьсот лет.
Но это было лишь начало затруднений. Затем, это событие должно было иметь место не просто в каком-то году, а в определенную календарную дату — то есть в июньское солнцестояние или, что более вероятно, накануне июньского солнцестояния, поскольку один век закончился, а следующий начинался. Иными словами, если часть смысла «потопа» 650 года н. э. заключалась в том, что. Виракоча «покинул Землю», тогда сближение Сатурна и Юпитера должно было произойти в июньское солнцестояние, так как «мост» находился в состоянии погружения.
Далее, это событие должно было быть видимым на закате накануне солнцестояния, потому что, согласно андской мифологии, Виракоча «покинул Землю» на северо-западе. Это условие было также поставлено строгим мифологическим обычаем технического языка, отмеченным в главе 3, — тем, что доступ к сверхъестественным мирам с Земли происходил на закате. А северо-запад указывал направление доступа к земле богов.
Наконец, если эта линия для понимания мифов была верна, тогда другое допущение состояло в том, что это сближение должно быть видимым не просто где-то на небе во время заката, а именно на северо-восточном горизонте, как можно ближе к небесной реке, чтобы четко повторить уход Виракочи как раз тогда, когда он передал Манко Капаку правление новым веком.
Так оно и было. Если мифы, которые я стремился понять, действительно отвечали строгому техническому языку, тогда все из указанных условий должны были быть выполнены. Нарушение любого из них сделало бы сомнительным всю трактовку данного события. Я искал сближение Сатурна и Юпитера, которое произошло на восточном крае Млечного Пути в Близнецах, на горизонте, на закате, накануне июньского солнцестояния, около 650 года н. э. Сближение Сатурна и Юпитера в определенном положении среди звезд было достаточно редким событием (раз в восемьсот лет). И то, что оно должно было состояться в определенную календарную дату солнечного года (июньское солнцестояние) и быть видимым в определенный час относительно горизонта (закат), означало, что я искал столь редкое событие, что оно фактически было уникальным.
После пяти лет исследования все, что я понял об андской космологии, как изложено в предшествующих главах, увязывалось с книгой чисел «Планетарные, Лунные и Солнечные Позиции со 2 года н. э. по 1649 год н. э. в пяти- и десятидневных интервалах», известной как таблицы Тюкермана.
Таблицы были напечатаны в 1964 году. Тюкерман составлял их для ИБМ, а проект был призван продемонстрировать полезность цифровых компьютеров для историков и других гуманитариев. Я держал в руках инструмент, которому было не полных двадцать лет от роду.
Покажет ли он, как это сделал планетарий, еще одно необычное совпадение прошлого и настоящего?
Я открыл книгу на странице, относящейся к 650 году н. э., готовый искать за десять лет до и десять спустя после этой даты ближайшее сближение Сатурна и Юпитера. Это оказалось излишним. Сближение Сатурна и Юпитера было в 650 году н. э. (рисунок 5.3).
Чтобы прочесть эти таблицы, необходимо, во-первых, принять во внимание, что они снабжены датами по юлианскому календарю для пользования историками западной культуры. Однако, чтобы определить юлианскую дату солнцестояния, нет надобности консультироваться с таблицей интерполяций, потому что эта информация обеспечивается долготой солнца. Нулевая отметка — это весеннее равноденствие, а каждая солнечная долгота с этого времени перемещается в восточном направлении; чем больше число, тем дальше на восток.
Июньское солнцестояние происходит при солнечной долготе в 90 градусов, то есть четверти года по окружности от равноденствия. Согласно таблицам Тюкермана, июньское солнцестояние 650 года н. э. произошло по юлианскому календарю 19 июня. Если вы посмотрите налево от столбца «Солнца», то увидите, что накануне этой даты Сатурн и Юпитер сближались друг с другом в одинаковой степени, а точное сближение состоялось несколькими днями ранее. (Сначала Виракоча передал свой посох Манко Капаку; затем он оставил «землю».) Наконец, обратите внимание, что Сатурн и Юпитер были в сближении примерно на 101 и 102 градуса соответственно, то есть между одиннадцатью и двенадцатью градусами к востоку от солнца, а это означает, что Сатурн, говоря языком современной астрономии, приближался к отметке «исчезновения» в закате солнца накануне июньского солнцестояния 650 года н. э. (рисунок 5.4). За три ночи — то есть к концу периода солнцестояния — Сатурн исчез в Солнце и стал снова виден только через три недели. После некоторого времени изучения этих таблиц я увидел, что это событие отвечало каждому из отдельных условий, предусмотренных мифами. Как и было «предписано» Виракочей, штандарт был передан новому поколению богов, главным среди которых был Пируа Манко Капак.
VII
Воинственный царь майя Бонампак вступал в войну в соответствии с фазами Венеры. На древнем Ближнем Востоке персидские маги в возвращении сближения Сатурна и Юпитера к Рыбам видели начало нового века и из этой точки направлялись, следуя за «звездами на востоке», на поиски своего царя.
Для древних майя сближения Сатурна и Юпитера и определенные положения Сатурна имели важное значение и могли служить средствами классификации некоторых еще неизвестных календарных аномалий. У майя наиболее древним и высшим божеством был бог огня Хунаб Ку, буквально «мера дома в одну пядь» или «тот, кто дает единую меру».
Мало вопросов возникает по поводу совпадения мнений относительно смыслового значения путей различных планетарных сил: «свобода» движения была писанием Воли, а числа ее музыкой. В Андах число сорок представляло целостность. После сорока сближений Сатурна и Юпитера треугольник повторяет себя в звездах. Было сорок секе, или лучей, исходящих от храма Солнца во всех направлениях к горизонту, идеализированное число сорока вождей представляло все народы империи, единица переписи в сорок тысяч, сорок танцев, исполнявшихся в инкском храме Солнца на озере Титикака во время июньского солнцестояния[59]. Почему число сорок представляет цельность? Как мы видим у инков и сегодня, конец очередного мира-века наступает ровно через сорок сближений Сатурна и Юпитера после того, как пако поднял свои глаза к небесам и объявил, согласно версии Молины, «что сближение звезд показывало, что мир будет разрушен водой».
С «явной уликой» события 650 года н. э. я обнаружил полное присутствие в Андах широких основ технического языка мифологии. Подобно некой мегалитической стене, выступающей из тумана, он стоит, как громадный экспонат, организуя своей искусной конструкцией всю священную историю андского опыта. Чрезвычайно многообещающий инструмент для расшифровки «доисторической» записи действительно существовал. Я полагал, что сделал достаточно, но я ошибался. Однако из-за одного небрежного аспекта я мог бы никогда не узнать, как пользоваться этим инструментом. Как только я пробовал понять этот широкий аспект, он превращался в хвост тигра или, точнее, ягуара. В этом пункте исследование буквально шло само собой, и я просто следовал за символом ягуара в глубокое прошлое Анд, к началу века Виракочи и после него. К тому времени я вернулся из этого мифического путешествия, я смотрел не только на андский опыт, но особенно на инкскую империю, совершенно иными глазами.
ЧАСТЬ II
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИИ
ГЛАВА 6
ПОИСК ОТЦА
Чей бы ни был бык,
А теленок мой.
I
В Андах случилось нечто, исходным пунктом чего миф указывает 650 год н. э., момент, когда Виракоча «покинул Землю». Этим нечто было пришествие организованной войны, ранее неведомой в Андах и вызванной в значительной мере, согласно мифологическим источникам, воздействием роста населения на землю. В последовавшем за этим социальном и политическом перевороте андская эйкумена была потрясена до своих оснований и навсегда изменена, отныне институт войны постоянно вплетался в социальную ткань. Хотя по причинам в том числе политической целесообразности инки спроецировали свое собственное происхождение на период, предшествовавший событиям 650 года н. э., фактом остается то, что начался Век Воинов. Как Юпитер стоит между холодной беспристрастностью Сатурна и красным жаром Марса, андское общество должно было пережить столетия ожесточенного кровопролития, прежде чем институт имперского Инки предпринял попытку сбалансировать потребности крестьянства с потребностями военной знати.
Хотя такой взгляд на значение «потопа» 650 года н. э. может казаться разумным, ничего из этого не становилось для меня очевидным из исследования, описанного до настоящего момента. Я также не понимал, до какой степени этот «потоп» составляет основу представления инков о себе самих как о народе-миссионере — с миссией, предполагающей исправление восприятия космических аномалий, накопленных со времени катастрофы 650 года н. э. и проявившихся в несостоятельности военного государства Уари и последующем крахе легендарной цивилизации Тиауанако.
Не зная этого, я собирался предпринять исследование, которое неизбежно вело к этим выводам. Я узнал бы, что ради познания тех сил, которые привели к формированию инкской империи и вдохновлявшей ее специфической системы мировоззрения, было прежде всего необходимо понять глубокую трансформацию в андском обществе, которая началась около 650 года н. э. В свою очередь, понимание этого события зависело от ясного понимания того, что было утрачено или, по крайней мере, основательно подорвано — а именно заложенные Виракочей старые принципы социальной организации андского общества — в мифологическом катаклизме, который отмечен его «уходом».
Ничего из остальной части этой книги не было бы задумано или написано, если бы я не стал упорно решать один вопрос: почему андский бог-творец Виракочи изображался с кошачьей мордой? Поскольку я искал вразумительный ответ на этот вопрос, я начал забрасывать свою сеть все дальше и дальше, все время говоря себе, что это потакание личной прихоти: эксперты по иконографии сказали, что лицо Виракочи было кошачьим, и я захотел узнать, почему оно было кошачьим. Мне казалось, что я был в состоянии разгадать это. Чем больше я углублялся в этот вопрос, тем больше меня озадачивала его неподатливость. Я начал осознавать, что понимал в андской религии намного меньше, чем думал.
Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я сдирал кожу с семейного дерева. Эта глава и две следующие описывают местный взгляд на использование и злоупотребление различными видами систем происхождения, как это отражено в мифологической записи. Если предыдущие главы прослеживали великую небесную идею-форму, в которую андские народы облекали свое духовное восприятие, то в следующих главах содержится попытка описать, как это же самое восприятие переносилось на землю и внедрялось в качестве характерной для андской земледельческой цивилизации социальной структуры. Я бы узнал, что этот образ мышления — связывающий происхождение и судьбу человечества со звездами — сначала порождает основы, а позже, поскольку он становится все более и более политизированным, бедствие, восстановление и, наконец, апокалиптическое уничтожение андской цивилизации.
В центре этой главы стоит происхождение самой длительной из всех этих структур, особая система двойного происхождения андского крестьянства, древняя практика рассмотрения происхождения кого-либо и по мужской, и по женской линии. Именно эту систему учредил Виракоча в самом начале андской цивилизации; именно эта система, подчеркивая сбалансированное равенство между полами, составляла структурную основу рисунка Пачакути Ямки периода конкисты; и именно эта система сохраняется до сего дня как основное правило, организующее принцип жизни андской деревни. Чего я не знал, поскольку ухватился за вечно исчезающий хвост андской кошки, было то, что он проведет меня назад во времени через мифологические значения формирования андской земледельческой айлью в тот мир и в то время, когда само понятие «отца», в нашем понимании, не существовало. Вся история начинается и кончается с потустороннего лица создателя солнца, луны и звезд.
Около 600 года н. э. лицо Тунапы Виракочи, андского божества, было высечено на десятитонном блоке андезита, который сегодня составляет косяк Ворот Солнца в Тиауанако (рисунок 4.2). Как и в классическом искусстве любой цивилизации, эта резьба представляет собой наслоение столетий культурного наследия. Исходящие от головы лучи являются солнечными и описываются в хрониках как образец (поздней) инкской иконографии солнца. Лицо — кошачье, что подтверждается «слезным элементом», разбросанным по лицу. Джордж Бэнкс идентифицировал эти «слезы» как град и как постоянный элемент в изображениях Бога Ворот. Тот же град-слез идет от глаз кошки на женскую, лунную сторону рисунка Пачакути Ямки (рисунок 2.4) и называется «granisso».
Заключив, что Виракоча представлял на одном уровне Владыку Времени/Сатурна, я надеялся, что окажется возможным найти доказательство такого образа в резьбе в Тиауанако. Однако по мере изучения этого лица я начал понимать, что имелся ряд очевидных противоречий, которые я никак не мог примирить. Например, в Андах Солнце и Луна воспринимались как мужчина и женщина. Поэтому ввиду скрупулезного внимания к равновесию противоположных, с точки зрения пола, сил в андском космосе, а также ввиду того, что эксперты по иконографии идентифицируют лучи от головы как солнечные, из этого должно следовать, что собственно кошачье лицо является лунным. Но эта логика не воплощена в диаграмме Пачакути Ямки, где град-кошка, называемый чоккечинчай, хотя и помещен на стороне Луны, находится на несколько уровней ниже, напротив молнии.
Еще один источник путаницы находится в этнографической записи, где нет ясного указания на то, как примирить идею о лунных ассоциациях с кошкой, которая в инкские времена была наиболее очевидным символом мужчин-воинов Солнца. Зуидема, например, проследил рассказы о том, как Инка Пачакути получил в подарок шкуру льва (пумы) в войне против чанков, и те же самые шкуры появлялись в церемониях обрядов посвящения молодых воинов. С другой стороны, на что также обратил внимание Зуидема, имеется вполне достаточно свидетельств, что во время конкисты кошка как животное почиталась хранителем и стад, и зерновых культур в обрядах, связанных с лунным календарем. Мыслились ли эти последние кошки как самки? Иногда кошки выглядели самцами, а иногда — самками, временами — лунными, возможно, в другие времена — солнечными, а потом — метеорологическим явлением. Ясно, что мне не хватало решающего элемента для примирения этих противоречий.
На время я решил, что кошачье лицо тиауанакского Бога Ворот должно представлять луну, хотя в то же время у меня не было никакого объяснения упомянутых аномалий и никакой четкой проверки андской идентичности Луны и кошки. Мои соображения при создании этой временной идентификации основывались на пяти видах информации. Прежде всего солнечное затмение представлялось во времена конкисты в образе ягуара, пожирающего Солнце, — «факт», который имеет законченный смысл, если Луна — это ягуар. Во-вторых, при гермафродитной природе Виракочи логично было бы только то, что солнечные лучи от его головы были бы уравновешены лунным обозначением — то есть кошачьим лицом.
В-третьих, казалось вероятным, что вид Бога Ворот символизировал слияние солнечного и лунного календарей в полномасштабном обслуживании земледелия. Недавние этнографические исследования показали, что у горящих на кечуа крестьян сохранились обширные древние знания о севе. Эти знания предполагают сев по фазам луны, чтобы обеспечить максимальное прорастание — клубни в полнолуние, зерновые и бобовые при прибывающей луне.
С точки зрения людей, для которых главным источником пропитания является земледелие, проблема с лунными календарями состоит в том, что двенадцать лунных циклов насчитывают около 355 дней, так что каждый третий год приходится прибавлять тринадцатый лунный месяц, чтобы сохранять время соответствующим Солнцу. В Андах эта корректировка особенно опасна для кукурузы, чей сельскохозяйственный сезон как раз сжат между губительными холодами. Во времена инков решение, добавлять ли дополнительный месяц, принималось в сентябре, в начале сезона дождей и посевов, в лунном месяце. Койя Райми, «Фестиваля царицы», жены Инки и земной представительницы луны. Наконец, как уже отмечалось, для практических целей точность солнечных календарей — это в значительной степени функция наблюдения гелиакического восхода звезд. В этом смысле солнечно-лунное лицо Творца символизирует «сотворение солнца, луны и звезд», в смысле слияния солнечных и лунных календарей в обслуживании земледелия.
Четвертый повод подозревать, что кошачье лицо Бога Ворот представляло Луну, связан с градом слез, текущим из кошачьих глаз. Как говорилось выше, рисунок Пачакути Ямки также привлекает внимание к значению этого метеорологического явления. Молния и град, эти интенсивные метеорологические явления, которые изображены на рисунке Пачакути Ямки на том же уровне, что и мужские и женские компоненты погоды, будучи неприятными для охотника, могут означать буквально бедствие для земледельческого народа. Лицо Бога Ворот выражает не только зависимость людей от их божества, чтобы ограничить разрушительные последствия ненастной погоды, особенно града, но также ассоциацию между кошкой и осадками. Эта связь интересна ввиду широкого распространения в Америке ассоциации между луной и дождем, а другая связь на рисунке Пачакути Ямки отражена между градом-котом и весной, из которой он возникает, а также между дождливым сезоном и луной. По сей день андские крестьяне считают град-кота, ккоа — «изображаемым с идущим из его глаз градом» — животным, с которым надо считаться.
Последнее соображение для временной идентификации кошачьего лица Бога Ворот с Луной связан с небесным расположением инкского созвездия чоккечинчай, носящего то же имя, что и град-кот на рисунке Пачакути Ямки. Это созвездие, как говорили, означало «золотого ягуара». В современном Куско чинчай значит «маленький горный кот», в то время как к северу чинчай употребляется для обозначения «маленького «тигра» с темными пятнами на белом крупе». Во времена конкисты Пачакути Ямки описывал чоккечинчая, принесенного в Куско вождями карабайя, как «полностью покрытого многоцветными пятнами, они говорят, что он был повелителем у ягуаров». У современных аймара считается, что созвездие Скорпион — это «ягуар», а у говорящих на кечуа информантов Уртона хвост Скорпиона называется чоккечин-чаем. И в мифе Авилы о потопе среди животных, теснящихся на горной вершине, были лама, лиса и пума, подсказывая близость пумы к другим животным в потоке небесной реки декабрьского солнцестояния.
Веские аргументы, далее, говорят о том, что созвездие чоккечинчай находилось в Млечном Пути, где-то между Скорпионом и Стрельцом. Может показаться, что бросить кошку в небесную реку значит совершить акт беспричинной жестокости, но, в отличие от почти всех остальных разновидностей кошачьих, ягуар абсолютно привычен к плаванию. Так что небесный ягуар находился в области звезд декабрьского солнцестояния, в той самой области, которая указана в диаграмме Пачакути Ямки как идеальное положение луны. Декабрьское солнцестояние, ночь, дождливый сезон, луна, ягуар, небесная река — все они сходятся в знании о чокке-чинчае, граде-коте.
Однако — и в этом была проблема — мне было все еще неясно, почему, во-первых, Луна должна ассоциироваться с ягуаром. Все еще считая его вопросом «не для печати», я без колебаний обратился к классическому исследованию Рафаэля Жирара о цикле мифов киче-майя Гватемалы — «Пополь-Вухе».
II
Для столь резкого перехода от Анд к центральной области майя у меня было две причины. Прежде всего, поскольку речь зашла о происхождении лунной символики, записи андской мифологии были, по моему мнению, фрагментарными и трудно интерпретируемыми. Дело не просто в том, что в андских мифах, казалось, отсутствовали какие-либо прямые связи между луной и ягуаром; создавалось впечатление, словно — кроме нескольких туманных ссылок на луну — вся память о событиях, предшествующих рассвету века Виракочи, в области Титикаки осталась далеко позади. Если я не желал ограничиться выводом, что андская цивилизация являла собой единственное исключение из системы почти универсальных лунных календарей, предшествующих солнечным календарям, мне нужно было найти какой-нибудь ключ к фрагментарному андскому материалу. Напротив, в «Пополь-Вухе» имелись ясные обращения к ягуару в контексте луны в культурную эпоху, непосредственно предшествующую появлению земледелия. Так что именно в нем я стал искать ключ.
В моем собственном разумении становилось все более ясно, что та же система астрономической мысли, которая лежала в основе андской мифологии, действовала также и в Мезоамерике. По этой причине я подозревал, что, если бы я смог постичь смысл ассоциации ягуара с луной в Мезоамерике, то я мог бы обнаружить подобный образ мышления и в Андах. Некоторые из материалов, на которых я основывал такой подход, уже рассматривались выше. Один из примеров — это трехъярусный, вертикально размещенный космос в Паленке, где умирающий владыка на закате в декабрьское солнцестояние опускается в «ворота преисподней», которые символизирует панцирь раковины. Другой — это поразительная схожесть представлений у майя и у инков об астрономических образах «гонки по Млечному Пути» (Приложение 1).
Далее, подобно андским народам, киче-майя также вели счет Мировым Векам. Согласно «Пополь-Вуху», развитие жизненного пути киче охватывало четыре Века, начавшееся с самой примитивной эры кочевых охотников и достигшее высшей точки в Четвертом и последнем Веке земледельческой деревенской жизни. В сходной андской схеме было пять Веков, из которых Третий Век возвестил о земледельческой эре, в то время как Четвертый и Пятый Века отводились для появления Воинов, а затем Инков.
В «Пополь-Вухе» начало земледелия совпало с рождением Близнецов-героев культуры киче-майя, Солнца (Ху. нах-пу) и Луны (Шбаламке). Появление этой формулировки в начале земледельческой эры снова совпадало с моим пониманием андской модели, увековеченной в солнечно-лунном лике Бога Ворот, слиянии солнечных и лунных календарей, которое становится абсолютной необходимостью, как только люди осуществили полномасштабный переход к земледелию. И это толкование подтверждалось еще тем фактом, что «Пополь-Вух» указывает на то, что звезды были «созданы» в начале Четвертого (земледельческого) Века[60], точно так же, как в Андах Виракоча одним громадным творческим штрихом создал солнце, луну, звезды и земледельческую айлъю. Как я уже пытался указать, звезды «оживают» в тот момент, когда люди начинают использовать гелиакический восход звезд в помощь точному солнечно-лунному календарю, и это событие неотделимо от появления земледелия.
В свою очередь, как только «создаются» звезды, тотчас же возникает и своеобразное следствие — необходимость принимать во внимание прецессию. Солнечные календари, выверенные по отношению к гелиакическому восходу звезд, в течение жизни нескольких поколений неизбежно устаревают вследствие прецессии. Хотя на какое-то время я оказался далеко в стороне от своего центрального вопроса об отношении ягуара к луне, я чувствовал, что у меня не было иного выбора, кроме как оставаться вблизи внутренней логики мышления киче или потерять свой путь. И занимаясь этим аспектом мышления киче-майя, я стал быстро убеждаться (помимо скрытого аргумента со счетом Всемирных Веков), что тот же самый технический язык, который в андской мифологии использовался для описания и осмысления прецессии, существовал также у майя.
Эта информация содержится в «Пополь-Вухе» в обращении к родословной Близнецов-героев земледельческого века, Солнца и Луны. Киче-майя возводят эту пару к гермафродитному божеству, изначальной паре — Дедушке (Шпийа-коку) и Бабушке (Шмукане). Дедушка/Шпийакок остался в стороне, ассоциируясь тем самым с удаленностью бога неба, в то время как Бабушка занимала положение богини как земли, так и луны. Эта формулировка о Дедушке-небе и Бабушке-земле, казалось, определенно принимала участие в официальной терминологии о разделении вселенских родителей, то есть (мужчины) неподвижной сферы звезд и (женщины) небесной «земли», спроектированную через эклиптику по отношению к луне. Я находил, что такое толкование полностью подтверждалось другой информацией о поколениях потомков от этой изначальной пары.
Поколение, стоящее между Дедушкой и Бабушкой и их внуками Солнцем и Луной по женской линии представляла Шкик, дочь Бабушки и мать Солнца и Луны. Подобно своей матери Шмукане, Шкик — это лунно-земная богиня, которая, согласно «Пополь-Вуху», была чудодейственным образом оплодотворена другим нечеловеческим существом того же самого «поколения». Это существо, известное как Семь Ахпу, было (были) у киче богом семикратности, «сыном(вьями)» Дедушки/Шпийакока. Они появились перед Шкик в образе свисающих с дерева семи волшебных плодов. Страстно желая попробовать их, Шкик забеременела от слюны Бога-Семи. Эти семь «сыновей» Дедушки-неба выполнили свои наследственные обязательства, представляя семь фундаментальных направлений, символизирующих знание о полярных и экваториальных координатах — четырех кардинальных направлений (севера, востока, юга и запада) к горизонту, плюс зенит, надир, и центр[61].
Другой факт, касающийся Семи Ахпу, оставляет мало места для дебатов о том, относится ли у киче понятие «мужского неба», ориентированного по кардинальным направлениям, к системе полярных и экваториальных координат: высеченной из камня эмблемой Семи Ахпу была Большая Медведица и Орион. Большая Медведица вращается вокруг (и, следовательно, отмечает положение) Полярной звезды, в то время как пояс Ориона находится на небесном экваторе. Не случайно «Пополь-Вух» утверждает, что космос был создан посредством наложения друг на друга двух космических уровней — неба и земли, первый из которых представлялся в иконографии киче кардинальными направлениями, а второй — крестом солнцестояния[62]. Это отношение вселенских родителей — брак неба и земли — повторяется также высеченным из камня изображением (полярно-экваториального) Бога-Семи, расположенного в пупе Земли (богини).
И это же представление переносится на поколение Близнецов. Науалем, или духовновсемирным вторым я Сына/ Хунахпу, был Хунракан, «одноногий бог»[63]. Этот бог был не чем иным, как созвездием Большой Медведицы, мужской валентностью неподвижной сферы звезд, как представленной полюсом, «унаследованным» от нечеловека-отца Близнецов, Бога-Семи. «Женская» линия происходит через Луну/Шбаламке. Как и Хунахпу по мужской линии, Шба-ламке унаследовала науалъ лунно-земных богинь (Бабушки/ Шмукане и Матери/Шкик). Этот науаль был ягуаром. И ассоциация Шбаламке/Луны с ягуаром подтверждается также включением майяского слова для ягуара — балам — в подлинное имя Шбаламке.
Пока я рассматривал этот материал, мне казалось, что я мог бы различить описание последовательных стадий в развитии астрономического знания у киче-майя, выраженного в метафоре происхождения. От гермафродитной природы сотворения появились сначала Дедушка-небо и Бабушка-земля. Дедушка-небо было удаленным божеством, потому что в ту раннюю эпоху отношение неподвижной сферы звезд к наблюдению за временем посредством гелиакического восхода звезд еще должно было быть разработано. Напротив, Бабушка, лунно-земная богиня, была более доступной фигурой. Эта действительность соответствует историческому предшествованию лунных календарей и лунных Зодиаков в глубоком прошлом, чье происхождение в верхнем палеолите было открыто Маршаком (глава 1).
В следующем поколении «мужская» линия, представленная Семью Ахпу, показывает дальнейшее развитие в астрономическом знании, потому что бог символизирует понимание кардинальных направлений, полученных из наблюдения за Полярной Звездой и небесным экватором (Большой Медведицей и Орионом). Однако это знание должно еще быть интегрировано с более знакомой эклиптикой (лунно-земной богиней), чьи звезды известны посредством слежения за ежемесячным движением луны через плоскость «небесной земли». По этой причине Семь Ахпу, согласно «Пополь-Вуху», остается окутанным «в туманное облако», подразумевающее обращение к эпохе «тьмы» перед «пробуждением» звезд, то есть к эпохе до интеграции солнечно-лунного календаря, использующего гелиакический восход звезд. Свет разражается позже с рождением Близнецов — Солнца и Луны, которые символизируют эту последнюю стадию астрономической интеграции, возвещающей о земледельческой эре.
Теперь, согласно Жирару, эта генеалогия предназначалась для того, чтобы представлять историческое описание социальных миров, постепенно подготавливавших земледельческую эру, или Четвертый Век. Иными словами, я, как было принято, «выбивал козырями» астрономические «тузы» из материала, который Жирар расценивал прежде всего как историю. Для ясности я должен сказать, что теперь считаю, что обе интерпретации были правильными. Но в то время я понимал генеалогическую информацию таким образом, что она функционировала как чистая метафора. Мне еще предстояло понять, что эта метафора была улицей с двухсторонним движением — то есть последовательные стадии в астрономическом развитии, как описано в «Пополь-Вухе», могли бы также толковаться как метафора для социальных преобразований, которым подверглись киче-майя на пути к обществу, основанному на земледелии.
Причиной, помешавшей мне более основательно заняться идеями Жирара, было постоянное неверное употребление им этого важнейшего термина. Согласно Жирару, Третий Век у киче, непосредственно предшествуя возникновению земледелия, был Веком, отличительным экономическим признаком которого была стратегия сочетания примитивного земледелия и охоты, а определяющим социальным устройством — матриархат. Как будет теперь детально рассмотрено, идея о том, что когда-то существовали управляемые женщинами общества, нигде в мире не получила доказуемой фактической основы. По этой причине я был не в состоянии критически усвоить предложенную Жираром информацию: что Близнецы родились без участия какого-либо земного «отца». Они, скорее, были зачаты непорочно в утробе Шкик, представленной женщиной во плоти и крови. Решающее значение имел тот факт, что принципу отцовства было положено начало только с земледельческой эрой. Я должен был еще выяснить, либо что означала эта идея, либо что она описывала подлинную историческую действительность.
Так что я получил из работы Жирара столько, сколько был в состоянии усвоить в то время. В тот момент ясными для меня были три вещи. Ассоциация Луны с кошачьими была фактом, поскольку имела отношение к майяскому материалу. Во-вторых, слишком много было точных соответствий между майяскими и андскими астрономическими концепциями, чтобы объяснить их простым «совпадением». В свою очередь, это соответствие предполагало существование исторического взаимодействия между Андами и Мезоамерикой, начинающегося в весьма раннюю эпоху. Но если кошачье лицо Бога Ворот казалось соответствующим более широкому, чем в Андах, культурному опыту, у меня все еще не было ключа к объяснению, которое бы соединило ягуара с луной.
III
Я к этому времени был полностью во власти собственного упрямства. Я знал, что у народов, обитающих на восточных склонах Анд, есть множество мифов, которые удивительно похожи на «Пополь-Вух». Это сказания о чудодейственном рождении Близнецов — Солнца и Луны — и их рискованных приключениях, поскольку они пытаются избежать хищнического истребления людей Ягуара. Повторюсь, что такие мифы непосредственно из андской горной местности не попали в летопись колониального периода. Истории о Луне в сочетании с эрой, предшествующей земледелию, хотя и существуют в андском материале, являются малочисленными и фрагментарными. Не желая уступать, я задался вопросом: почему Луна в андском представлении ассоциировалась с кошачьими?
Жирар сам высказал мнение об очевидной культурной преемственности между Мезоамерикой и Южной Америкой. И именно позиция Жирара состоит в том, что Четыре Века из мифологии киче относятся к четырем культурным циклам — от самого примитивного до Века земледелия. С его точки зрения, с помощью сравнительной этнологии можно проследить путь миграций[64] из центрального района майя, как с севера, так с юга, в леса и сельвы восточных Анд. Те племена, которые распространились на новые земли, как культура майя, прошедшая в развитии ряд культурных горизонтов, проявляют характеристики более ранних циклов культуры истории киче, потому что эти народы уже давным-давно перестали жить в контакте с плодотворным влиянием родины майя, поскольку их собственные одиссеи уводили их все дальше и дальше.
Поэтому, обратившись к мифам восточных склонов Анд, я так надеялся найти в них связь между ягуаром и Луной, «упущенную» из материала киче-майя. Я выбрал три мифа, собранные перуанским археологом Джулиусом Тельо у трех племен: протоаравакских амуэша, хиваро из восточных лесов и гуарани, которые за несколько лет до конкисты пересекли пустыню Чако, чтобы напасть на племена по инкской границе.
Эта попытка была обречена на неудачу, потому что я продолжал анализировать эти мифы тем же способом, каким я подходил к рассмотрению Жираром «Пополь-Вуха». То, что я делал, было анализом этих мифов с точки зрения астрономии. (Интересующийся читатель найдет этот анализ в Приложении 3.) Я обнаружил, что эти мифы тоже имели все признаки участия в техническом языке мифологии, но я вновь оказался неспособным понять, что взаимодействие между астрономией и генеалогией было улицей с двухсторонним движением. Я все еще давил на педали. В ходе этих занятий я разглядел шаблон, значение которого позже станет ясным. И этот шаблон, похожий во всех отношениях на «Пополь-Вух», является следующим:
Молодая женщина беременна Близнецами — Солнцем и Луной. Чудодейственным образом она была одлодотворена нечеловеческим отцом. Саму ее этот отец, ягуар, убивает. Но Близнецы в ее утробе остаются живы. Ягуар определяется как Бабушка, и он — достаточно важный персонаж, чтобы получить собственное имя: «Патонилье» в сказании амуэ-ша, «Лари» в версии Гуарани. Эта Бабушка, которая ассоциируется с луной, берется вырастить Близнецов в своем доме. Ее дом — это «маленькая хижина» с огородом, где она выращивает продовольственные культуры и охраняет дом для людей-ягуаров, которые охотятся вдалеке. Когда они возвращаются, они чуют запах Близнецов и пытаются съесть их. Близнецы убегают и спасаются, поджигая либо соломенную крышу дома, либо мост, по которому они проходят, и огонь охватывает реку на вершине высокого утеса — оба обращения (архитектоническое и тектоническое) относятся ко входу солнца июньского солнцестояния в Млечный Путь.
Но этот подход ничего мне не дал. Поскольку я был полон решимости держаться астрономии как нити Ариадны, по которой я проделывал свой путь через мифологический лабиринт, я продолжал игнорировать то, что оказалось самым важным тематическим элементом в историях, собранных Тельо: все они происходили под знаком поисков — поисков «истинного отца» Близнецов. Дело не в том, что было ошибкой придерживаться астрономической точки зрения; просто этого было явно недостаточно. Я не понимал значение «отсутствующего» отца. В лежавшей передо мной истории я продолжал смотреть вверх на звезды.
Хотя было ясно, что луна ассоциировалась с ягуаром и на восточных склонах Анд, я все еще понятия не имел, почему. У меня больше не было серьезных сомнений, что кошачье лицо Бога Ворот следует рассматривать как наличие лунных ассоциаций. Тем не менее чувство собственного достоинства ущемляла неспособность ограничиться малейшим бездельем, а потом снова нельзя было жить, беспокоясь о безделье. Мне надо было писать диссертацию. У меня было достаточно материалов. Но я отказывался писать.
IV
В начале большого проекта часто вдруг обнаруживаешь, что в первую очередь надо сделать дюжину других дел. В моем случае вместо того, чтобы начать писать, я был охвачен внезапным, необъяснимым и крайне смутным побуждением найти неизвестное обозначение зоологического науаля Таламанкас (ящерицы), затерявшееся где-то в исследовании Жираром «Пополь-Вуха». Я снова вернулся к его книге, чтобы выяснить, каким образом Четыре века из майяской мифологии оставили подлинное историческое свидетельство относительно прогрессивных циклов культуры майя:
«Чтобы подчеркнуть начало своей культурной эры, майя начали его отсчет с последнего сотворения, которое есть также сотворение великих светил и звезд. Все, что происходило до Четвертого Сотворения, имеет столь мало значения, как будто оно не существовало вовсе, ибо в майяском понимании мир начинается с наступления их исторической эры. Чумайельский документ подтверждает текст киче, утверждающий, что «тогда звезды пробудились и с того момента начался мир». [Курсив наш.]
Еще раз я изумился соответствию между андским и майяским представлениями. Согласно «Пополь-Вуху», положение, непосредственно предшествующее рассвету земледельческого эпохи, заключалось в том, что в ту пору «на земле было очень мало света, потому что солнце не существовало. Лица Солнца и Луны были скрыты». Аналогичным образом в Андах эра, предшествующая сотворению Виракочей земледельческой айлъю, была сплошной тьмой. «Они говорят, — писал Бетансос, — что в древние времена Перу лежало во тьме и что не было ни света, ни дня». Но с сотворением различных земледельческих племен «он [Виракоча] тотчас же пошел дальше, и они говорят, что он создал солнце и день, луну и звезды».
Сармьенто де Гамбоа слышал тот же самый рассказ, который содержал обращение к веку «тьмы», предшествовавшей сотворению земледельческого мира у Титикаки:
«Виракоча установил его [мир] для людей во второй раз, и, чтобы сделать его более совершенным, он решил сотворить светила, чтобы давать им свет. С этой целью он пошел со своими слугами к большому озеру в Кольяо, в котором имеется остров, называемый Титикака и означающий «свинцовую скалу»… Виракоча пошел к этому острову и вскоре распорядился, чтобы впредь появились и расположились на небесах солнце, луна и звезды, чтобы дать свет миру, и так оно и стало».
Так началась земледельческая цивилизация. В представлении киче, именно культурные герои Хунахпу и Шбаламке первыми показали людям, как обрабатывать мильпу и обеспечивать свои семьи. Поэтому мы видим Хунахпу, объявляющего своей бабушке: «Мы остаемся, чтобы кормить тебя».
Этому обязательству мужчины-земледельца заняться земледельческим трудом Жирар противопоставляет картину более ранней поры человечества — Третьего Века, изображаемого в «Пополь-Вухе» и других документах. В этой картине изображается, как женщины выполняют всю тяжелую работу по выращиванию продовольственных культур, помимо изначальной расчистки полей, в то время как мужчины освобождаются для занятий охотой, рыбной ловлей, отдыхом в гамаках, увлечения произвольными победами в любви и приема наркотиков, то есть поведения, характерного для таких современных племен, как таламанка и сумо, которые по многим этнографическим деталям повторяют описания Третьего Века человечества, данные в «Пополь-Вухе»:
«Тексты майя и источники киче взаимно подтверждают и дополняют друг друга. Они совпадают в том, что в течение Третьего Века или Третьего Катуна человечество, с точки зрения майяской этики, было несовершенным и что пороки той эпохи… вызвали ее крушение. Среди этих характеристик выделяются жестокость, зависть и лень у мужчин, как видно по изобретению гамака, который даже сегодня расценивается как символ безделья… Гамак стал терять свое значение в эпоху культуры майя со времени изменения социального устройства… которое отразило новые взгляды на труд и осудило лень как порок».
Этот век мужской лени был Веком правления Бабушки, Шмукане, лунно-водной богини того, что Жирар называет
Циклом Огородничества, нашей госпожой науаля ягуара. Ее дочери делали всю работу; и доминирующим небесным объектом той эпохи была Луна. Жирар привел исчерпывающее объяснение этой ситуации, найденное в «Чилам-Баламе» из Чумайеля, мифологической летописи юкатанских майя:
«Когда в древности мир еще не пробудился [намек на предшествующую культуре эпоху, согласно майяскому пониманию], родился и начал ходить один только Месяц [луна]… После того, как родился Месяц [Божество], он сотворил то, что зовется Днем [молодое солнце]; и этот день стал ходить с матерью своего отца и со своей тетей, а также с матерью своей матери и со своей золовкой». [Скобки и курсив в оригинале.]
Жирар комментировал это так: «Это — подлинное доказательство существования лунных календарей прежде солнечных, так как мать предшествует своему сыну. Упомянутая выше связь по женской линии также указывает на наличие состояния родства по женской линии, одновременного с подсчетом времени по лунным месяцам».
«Пополь-Вух» далее объясняет, что причиной для рассмотрения происхождения по женской линии, то есть матрилинейно, в Третьем Веке было прямое назначение первоначальной экономической стратегии, а именно смешанное примитивное земледелие и охота: «В самом деле, учение «Пополь-Вуха», подтвержденное этнографической действительностью, установило тот факт, что мужское или женское преобладание в структуре семьи неизменно вытекает из экономического фактора, так как в социальном строе господствуют именно те, кто обеспечивает пропитание группы».
Зачарованный способностью Жирара найти окно в историю лунной богини, я все же был еще раз смущен его частым употреблением таких терминов, как женское «господство» (смотри выше) и «матриархат» в описании социальной действительности Третьего Века. Как много лет назад писал антрополог Роберт Лоуи: «Значение происхождения по женской линии одно время интерпретировалось так, будто женщина управляла не только семьей, но также примитивным эквивалентом государства. Вероятно, нет ни одной другой теоретической проблемы, по которой бы современные антропологи были настолько согласны между собою в абсолютной никчемности такого вывода».
Время никак не изменило этот приговор[65].
Я решил изучить антропологическую литературу по институту матрилинейности. Мне нужно было выяснить, почему проблема рассмотрения происхождения по женской линии имела такое значение в «Пополь-Вухе», я был смущен, а также заинтригован тем, что в инакомыслящей работе Жирара мог быть-явный красный флажок под названием матриархат. Парадоксальным образом это решение, хотя и было навеяно в значительной степени ошибочным употреблением Жираром этого слова, могло бы оказаться самым важным шагом, который бы я предпринял в разгадывании тайны ягуара и луны.
Насколько я понимал «Пополь-Вух», там, казалось, было не упоминание о состоянии матриархата, а просто ссылка на матрилинейность. Читая по антропологии матрилинейности, я пришел к выводу, что Жирар не столько ошибочно истолковал «Пополь-Вух», сколько просто неверно употребил слово матриархат. На деле «Пополь-Вух», как объяснял Жирар, действительно с поразительной точностью отвечает современным антропологическим результатам о домашних хозяйствах по женской линии и о том, как мужчины господствуют в таких ситуациях.
Прежде всего антропологические исследования показали, что практика прослеживания происхождения по женской линии непосредственно вытекает из вида домашнего хозяйства в определенной экономической стратегии, которой придерживаются люди. Иными словами, она начинается не с идеи происхождения по женской линии, а с формирования уклада домашнего хозяйства, благоприятного для этой идеи. Скорее всего, уклад домашнего хозяйства определяется, как и заметил Жирар в «Пополь-Вухе», выбранной экономической стратегией.
Экономическая стратегия, описанная и в «Пополь-Вухе», и в мифах с восточных склонов Анд, состоит в сочетании огородничества и охоты. Решающее различие между этой стратегией и земледелием заключено в масштабе. Огородничество означает «огородная культура» и обычно ведется женщинами, чьи мужчины занимаются охотой. Напротив, земледелие означает «полевая культура» и повсюду требует массового внедрения мужского труда. Земледелие также подразумевает относительное преобладание растительной пищи над мясной.
Экономическая стратегия сочетания примитивного земледелия и охоты требовала близости дичи в достаточном количестве, чтобы исключить необходимость частых кочевок с места на место. Иначе огороды не могли бы поддерживаться. Такие условия обеспечивают буйные джунгли Мезоамерики и восточных склонов Анд; не случайно эти места составляют самую любимую среду обитания ягуара[66].
Из этой экономической стратегии вытекает уклад домашнего хозяйства, способствующий формированию систем происхождения по женской линии. Там, где примитивное земледелие, выполняемое женщинами и дополняемое охотой мужчин, выступает доминирующей экономической стратегией, там домашнее хозяйство, с его огородами и домашним очагом, логически подпадает — при распространенном отсутствии мужской охоты — под контроль старшей женщины, бабушки. Иными словами, женщины обладают собственностью. В «Пополь-Вухе» Бабушка Шмукане проживает в маленьком доме с огородом, где она готовит для мужчин. Аналогичным образом в андской мифологии типичный дом Второго Века (то есть того, что предшествует Веку Земледелия) определяется, согласно Гуаману Поме, как пукульо, означающий «крошечную хижину» (рисунок 6.1). Это слово родственно с майяским корнем пук, «холмом». Такие жилища встречаются на пригорках плато, среди доземледельческих народов Анд. И в восточноандских версиях мифа о ягуаре местом действия является маленькая хижина в расчищаемом лесу, принадлежащая Бабушке Ягуару и иногда посещаемая возвращающимися голодными охотниками, то есть самцами ягуара. В версии хиваро огород Бабушки определяется как место охоты Близнецов.
В свою очередь, такой уклад домашнего хозяйства неизбежно ведет к институту происхождения по женской линии, не потому что женщины пришли к власти — это было бы матриархатом, а как раз по противоположной причине: чтобы управлять собственностью, мужчины должны управлять женщинами.
Именно к доминирующей роли мужчин в такой ситуации обращается антропологическая литература. Мужчина определяется двумя связями. Прежде всего он есть сын бабушки, что устанавливает его отношение к старшей женщине, или владельцу собственности. Но даже более важной является его роль как брата матери, потому что источник его реальной власти — это его связь со своей сестрой, чьими детьми и собственностью он управляет. Он — мужчина, чей дом населен женщинами, с которыми у него имеются кровные связи, и он обладает властью над не своими собственными детьми. Определяющей связью мужчины при матрилинейности, согласно антропологу И. М. Льюису, является отношение брата матери:
«Там, где происхождение прослеживается матрилинейно, через женщин, все властные позиции, тем не менее, монополизируют мужчины; самым близким родственником мужчины является его сестра, а его самым прямым наследником и преемником (после его брата) — ее сын. В таких обстоятельствах мужчины должны стремиться к контролю над своими сестрами и над детьми своих сестер. Брак сестры имеет решающее значение для ее брата, так как брачное отношение, которое гарантирует увековечивание происхождения по женской линии, может поставить под угрозу святость отношений между братом и сестрой и между братом матери и сыном сестры. Браки не должны заключаться между детьми одних родителей, за исключением четко определенных ситуаций. Брак не должен нарушать матрилинейность. В идеале брак всегда должен уступать превалирующему значению родства по женской линии. Чем ближе живет брат к своей сестре и ее мужу, тем легче ему контролировать их отношение, которое гарантирует, что брак сохранится в соответствующем ему положении. Следовательно, где живут супружеские пары — это всегда решающий вопрос при системах родства по женской линии. Самый простой для братьев и сестер способ сохранить родственную связь — это жить вместе под одной крышей и позволять чужим мужчинам оплодотворять женщин в подходящие промежутки времени». [Курсив наш.]
Здесь важно понять лишь то, сколь чужд такой уклад для современного восприятия. При таком положении само понятие «отцовства» есть проклятие. Отец ребенка при матрилинейности — это персона нон грата, биологическая потребность, но социальное ничтожество. По словам антрополога Робина Фокса, матрилинейность
«сводит роль «мужа» к роли сексуального партнера. Мужья фактически просто оплодотворяют женщин в интересах состоящих с ними в матрилинейном родстве мужчин. Они не живут с женщиной и не распоряжаются ни одной из ее домашних услуг; воспроизводственные услуги женщин по-прежнему находятся под контролем мужчин матрилинейного родства — «братьев» и «дядей». Сексуальные связи эти мужчины, конечно, будут иметь с женщинами из других групп, но они останутся привязанными к своей собственной группе. Отцовство здесь не имеет значения, и действительно не важно, сколько «мужей» у женщины. Только проблемы сексуальной ревности или понятия собственности могли бы ограничить и упорядочить супружеские связи». [Курсив наш.]
В «Пополь-Вухе» кровные родственники-мужчины Шкик, которая чудодейственным образом оказывается беременной Близнецами, оскорблены — в вопросе о собственности, — когда она настойчиво (и правдиво) твердит о том, что «никогда она не видела лица ни одного мужчины». Рассерженное собрание решает повесить ее на ветвях дерева. Аналогичным образом в мифах с восточных склонов Анд молодая героиня/мать Близнецов обвиняется во всевозможных нарушениях обычаев, потому что «истинный отец» Близнецов является, как было в случае со Шкик, нечеловеческим, сверхъестественным существом. Матери в этих мифах «пожираются» Бабушкой Ягуаром, разительно изображая нормы жестокости и низший статус, уготовленные женщинам при родстве по женской линии.
Эту ситуацию проясняет далее «Пополь-Вух», в котором Повелители Шибальбы, владыки преисподней, представляющие прототипы мужчин Третьего Века, хотят уничтожить Хунахпу и Шбаламке, которые как представители идеальных земледельцев пробуждающегося Века Земледелия предрекают конец этого господства жестоких владык. Хунахпу намеревается взять полностью на себя роль мужа и отца и, следовательно, должна умереть. Поэтому, как объяснял Жирар, «Чилам-Балам» из Чумайеля характеризует Третий Век как такое время, когда «сыновья не имели отцов, а матери — мужей», и люди той эпохи как «такие существа», которые «не имели отцов, жили нищенской жизнью и были живыми существами, но не обладали сердцем».
Опять же в рассмотренных мифах восточных Анд такое же антропологическое восприятие встречается в поистине жутком описании бессердечных мужчин-ягуаров, которые возвращаются с охоты, готовые разнести маленькую хижину, чтобы добраться до тех двух восхитительных кусочков, Близнецов. Снова мы находим изображение человечества Третьего Века — людей ягуара — как бессердечных людей. Люди являются животными. Мать детей буквально пожирается. И дети, чья мать первоначально намеревалась найти их настоящего отца, теперь оставлены без отца под господством и жестоком обращении своих бессердечных мужчин «дядей».
И именно в этом месте меня осенило. Наконец-то я понял, почему Луна была ягуаром: в Третьем Веке из майяского мифа, когда доминирующей экономической стратегией было примитивное земледелие, ведущееся женщинами, когда доминирующим светилом была Луна, когда происхождение прослеживалось по женской линии, господствующая социальная действительность могла бы сравниться с социальной организацией и поведением ягуаров в природе. Я был уверен, что, если поищу зоологическое описание ягуара, я найду аналог социального мира охотников-огородников.
Подобно людям эпохи примитивного земледелия и родства по женской линии, «ягуары обычно пребывают на определенных территориях. В районах, богатых добычей, территория может достигать от пять до двадцати пяти километров в диаметре…» Как мы видели, стратегия эксплуатации именно такой ограниченной тропической территории (со времени отхода от кочевого образа жизни) вызывает уклад домашнего хозяйства с женской линией родства.
Далее, в тропических районах ягуар может размножаться в любое время, но только в период спаривания самец приближается к самке. Самец ягуара, подобно мужчинам мира примитивного земледелия, не жил со своей самкой. В другие времена — подобно женщинам поры примитивного земледелия — она сама была вынуждена заботиться о себе и о своих детенышах. Самцы ягуара, подобно мужчинам из родственников по женской линии, не играют никакой роли в воспитании своего собственного отпрыска. При отсутствии всякого общения со своими собственными детенышами самец ягуара, подобно другим крупным котам, убивает детенышей, включая своих собственных, без предупреждения. Именно такова ситуация в мифах с восточных склонов, когда возвращающиеся самцы охотники/ягуары стремятся съесть Близнецов. А у детей при родстве по женской линии нет отца, готового защитить их.
Южноамериканские мифы о ягуаре разворачиваются под знаком вопроса: «Где же Отец?» Отца-Ягуара, конечно же, нигде не найти, потому что в природе самцы ягуара не ведают роли отца. Напротив, «структура семьи» ягуаров характеризуется свободой и безразличием самцов по отношению к уединению и непропорциональной ответственности самок. «Пополь-Вух» подчеркивает этическую несостоятельность таких привилегий у мужчин Третьего Века, символизируемых гамаком, где — подобно крупным котам — мужчины пребывают в блаженном неведении бесконечного круга женских обязанностей.
С точки зрения майя, следовательно, положение в период примитивного земледелия и родства по женской линии было подобным жизни в прайде ягуаров. Мужчины были свободны всячески выражать свое безразличие, свободны от взаимных обязательств или ответственности. Со своими женщинами и «детенышами» они могли поступать, как им нравилось. И подобно майяскому описанию человечества Третьего Века, единственная важнейшая черта американского ягуара — это его чрезвычайная жестокость. Люди эпохи огородничества не по собственной вине были людьми без сердца, людьми без отцов, людьми-ягуарами.
Со времени, когда начнется Четвертый Век цивилизации майя, узы брака между мужчиной и женщиной станут священными. Мужчина станет воздерживаться от юношеских удовольствий длительной охоты и лени мужского рода, чтобы включиться в суровую действительность земледельческого труда, но поступая таким образом, он создаст условия для появления своей собственной человечности, своей собственной души в обществе своей жены и своих детей. Поиски Отца закончились. Завершающий момент таинства перехода, согласно «Пополь-Вуху», наступает тогда, когда Владыкам Шибальбы удалось обезглавить Хунахпу — лишь для того, чтобы утвердить стадию для ее удивительного воскрешения в качестве прорастающих семян маиса. Именно этой бесконечной ночью ожидания
«Шбаламке, единственная среди исчадий ада, повторяет функции Лунной богини, которая защищает человечество от ночных монстров, когда солнце исчезло за горизонтом. С того времени ягуары (балам,), науали или вторые я женского божества, охраняют по ночам индейские селения и их дороги и земли».
Чудесное превращение мертвого бога в маис полностью отражено чудесной социальной трансформацией эпохи огородничества в эпоху земледелия. Ягуар, по сей день выступающий устрашающим демоном по отношению к тем народам, чья культура соответствует Третьему Веку из «Пополь-Вуха», стал для майя защитником, ночным союзником. Конечно, примечательно и едва ли случайно то, что этот процесс во всех аспектах идентичен тому, что, как глубоко описано в психологии, подавленные элементы души образуются как демоны, пока не дойдут до сознания, где они могут быть перенацелены и привлечены как союзники. Эта сага о превращении жестокости в любовь — некогда наводящий ужас ягуар, нынче использующий всю свою свирепость для зашиты спящих детей в деревнях майя — является одной из прекраснейших историй в летописи всемирной литературы. Она служит подлинным доказательством не набожной надежды, а скорее живой действительности относительной способности человеческой природы к совершенству. Она исходит из самого сердца Америки, где истинность и красота, подобно Солнцу и Луне, суть два аспекта одной и той же действительности.
V
Такое понимание отношения ягуара к Луне оказалось способным разрубить Гордиев узел путаницы, с которой я столкнулся в вопросе о значении кошачьего лика в андской мысли. Например, его изображение в Андах — то как демона, то как хранителя зерновых культур и стада — казалось, полностью отражало превращение значения ягуара, описанное в «Пополь-Вухе». Другие вопросы, как, например, почему ягуар должен иногда ассоциироваться с мужчинами, испарились по мере понимания, что, каким бы ни был его пол, «ягуар» был членом домашнего хозяйства по женской линии, со всей беспощадностью, которую воплощало в себе это положение. Так, инкские воины надевали шкуры ягуаров, когда наступало время защищать людей. Это были хорошие новости.
Конечно, эти «решения» годились лишь постольку, поскольку сами андские народы представляли отчасти ягуара как обращение к эпохе примитивного земледелия и родства по женской линии. Иными словами, встал громадный вопрос: если лейтмотив лунного ягуара был настолько полезен в андской мысли, что заслужил включения в изображение бога-творца, то подразумевает ли это его включение утверждение о том, что появлению Виракочи исторически предшествовала в Андах матрилинейность? «Малый» небрежный аспект перерастал в большую проблему.
В мозгу возникало множество вариантов. Чтобы следовать за ними, важно сначала понять отличительный характер системы родства у андского крестьянства. Организующим принципом андской системы с двойным родством была практика прослеживания происхождения одновременно и по мужской, и по женской линиям. Ирэн Силверблат назвала систему двойного родства «одной из главных норм доиспанского андского родства». Эта система — известная как значительно старше инков — представляет социальную основу андской айлью, безошибочный признак равноценности в андской ситуации мужчин и женщин.
Несмотря на то, например, что у майя (которые вели происхождение патрилинейно) именно мужчина должен сажать растения, в то время как женщина остается в деревне, андский обычай и по сей день состоит в том, что мужчины и женщины трудятся в полях бок-о-бок. Мужчина обрабатывает землю ножным плугом, а женщина сеет. Много раз во время хмельных фиест мне доводилось наблюдать, как мужья и жены стоят лицом к лицу и «сталкивают друг друга». Примечательным для меня — даже больше, чем тот факт, что обычно побеждали женщины, — было то, что другие местные зрители считали это нормальным поведением.
Я акцентирую этот момент прежде всего для того, чтобы подчеркнуть, что равенство индейских мужчин и женщин Анд — это живая реальность, а не постоянно нарушаемое притворство. Это равенство есть искренне сохраняемое чувство, воплощенное в своих космических разветвлениях на рисунке Пачакути Ямки., а также в гермафродитном характере андского божества. Поэтому оно приобрело определенный интерес, когда я начал исследовать возможность существования в истории Анд периода родства по женской линии, чтобы найти призрак присутствующего в системе парадокса. Хотя Виракоча, несомненно, был гермафродитным, он всегда упоминался как «он». Как выяснилось, у аймара, которые ведут происхождение по обеим линиям, слово айлью, «земледельческая община», означает также «пенис». В конечном счете я стал понимать этот очевидный «уклон» в мужскую сторону не как нарушение духа андской системы с двойным родством, а как следы того времени, когда впервые были внедрены принципы родства по мужской линии наравне с происхождением по женской линии. Иными словами, был момент, когда чем-то надо было пожертвовать.
Эта этноисторическая действительность вновь появляется в виде темы в андской мифологии, где мы находим, например, что Луна приравнивается к периоду дикости. Оссио отмечал широко распространенную андскую традицию, которая (как и у майя) «представляет первую эпоху, в которую все было темно и Луна поэтому была доминирующем светилом», в связи с современными повестями о луне, собранными им в Андамарке. Эта ситуация соответствует «мраку», предшествующему сотворению Виракочей Солнца, Луны и звезд. В одной истории голого дикого мужчину приняли в деревне, чтобы «цивилизовать». Когда у него спрашивают имя его матери, он ответил, что «луна». В другой версии женщина по имени Кильяс, буквально «Луна», чье происхождение было одним из старейших в общине, умудрилась спастись из деревни «после нины пары, или огненного дождя, который положил конец эпохе диких людей».
Эти темы связаны также с подвигами Виракочи. Например, Пачакути Ямки приводит рассказ о том, как Виракоча нашел «женского идола» на холме Качапукара и был так разгневан, что сжег идола и разрушил холм. Этот холм, конечно, находится в той же Каче, сожженном огнем месте, которое рассмотрено выше в мифологической ассоциации с огнем и Млечным Путем. Так, в рассказе Оссио, как и у Пачакути Ямки, мы находим упоминание о предании огню укладов жизни, которые считались дикостью, где доминирующим светилом была луна, где первичный бог (иня) был женщиной и где происхождение велось по женской и лунной линии. Кроме того, постоянное упоминание космического огня предполагает такие временные рамки, когда солнце июньского солнцестояния впервые «зажгло» Млечный Путь, то есть приблизительно 200 год до н. э. (рисунок 6.2). Это та же самая дата, которой в археологии отмечается начало полномасштабного земледелия в Андах, известное как Ранний Промежуточный период.
В версии Сармьенто о сотворении мира Виракочей мы снова находим эти темы. Щекотливым моментом в ней является то, как Виракоча творит Солнце, Луну и звезды одновременно с созданием айлъю. Луна слишком яркая, фактически более яркая, чем солнце, которое, разгневавшись, берет горсть золы и бросает ее в лицо луне, навсегда делая тусклым ее относительный блеск[67].
Этот эпизод является классическим примером степеней сжатия информации в андской мифологии. Здесь предполагается, что в начале земледельческой цивилизации в Андах яркость Луны угрожала миссии Солнца и это последнее незамедлительно отреагировало. В этот момент с возникновением власти гермафродитного божества между солнцем и луной устанавливается новое отношение, — отношение, знаменующее относительное «понижение в должности» Луны. Временные рамки этого события отмечаются, опять-таки по неотвратимым правилам технического языка мифологии, приблизительно в 200 году до н. э. наличием золы, которую можно найти только вблизи огня (рисунок 6.2). Мы уже видели в инкском обряде умышленного наводнения Куско вариации на тему связи между золой и Млечным Путем (Приложение 1).
Снова подкрепляющее обращение к «Пополь-Вуху» показывает присутствие этих понятий в мифах майя. В них суровые испытания Близнецов продолжаются под началом Владык Шибальбы, которые в то время пытаются сжечь эту пару, но они чудесным образом возрождаются, когда их зола бросается в «реку» и, как и у Близнецов амуэша, попадает под защиту на «дно реки».
Появление огня одновременно с относительным понижением в статусе луны ассоциируется также в андской мифологии (как и в «Пополь-Вухе») с возникновением земледелия. Здесь мы находим представление о том, что в решающий момент появления земледелия бог новой эпохи обучает род человеческий соответствующим методам земледельческого труда, но настолько «магически», насколько не подобает богу выполнять людскую работу. В «Пополь-Вухе» Хунахпу и Шбаламке показывают все процедуры по возделыванию мильпы, но делают это мгновенно, магически. Андский аналог этого события выражается в «Богах и Людях Уарочири», когда Виракоча «в древнейшие из времен» научил людей, как создавать оросительные канавы и земледельческие террасы, «просто словами».
Теперь, в то время как в «Пополь-Вухе» возникновение земледелия Соотносилось с Четвертым Веком, в Андах это событие соответствует Третьему Веку, когда, как писал Гуаман Пома, мы впервые встречаем длинный перечень отличительных характеристик айлью, в том числе создание института брака и строительство первых земледельческих террас. Эти события, конечно, должны быть связаны, если, как и в «Пополь-Вухе»-, начало земледельческой цивилизации происходило одновременно с учреждением брака, когда мужчины отказались от более простых путей ради того, чтобы принять роли мужа, отца и земледельческого работника. Парадигматическим было утверждение Хунахпу «мы останемся, чтобы кормить вас». Кечуанским словом, обозначающим «мужа», было йана — буквально «слуга»[68].
Мотив волшебного вмешательства Виракочи в обучении человечества искусству земледельческого террасирования интересен не только из-за своего сходства с представлениями в «Пополь-Вухе». Он также относится к особому историческому событию, тому моменту, когда потребовалось массовое включение мужского труда, чтобы строить террасы и системы ирригации, необходимые для земледелия. И время, когда оно произошло, можно определить посредством археологии. Мы сейчас рассматриваем исторический момент складывания «вертикальных архипелагов», которые преобразили андскую цивилизацию. Согласно археологическим данным, первые свидетельства террасирования и ирригации начали появляться в бассейне Титикаки около 500 года до н. э.[69] и затем стали быстро распространяться по всему Андскому нагорью в начале Раннего Промежуточного периода, который отмечен примерно 200 годом до н. э.
Эта дата, конечно же, является той же датой, какую подсказывают мифы посредством изображения предания огню века, ориентированного на луну. Повторимся, мифы указывают на эту дату через упоминание «огня», подпалившего Млечный Путь посредством попадания солнца июньского солнцестояния в его пределы (рисунок 6.2). Стоит также снова упомянуть в этом контексте тот факт, что андская балансирная мельница, туна, была изобретена — и, следовательно, получила свое название — не ранее этого же времени, около 200 года до н. э.
Когда я просмотрел этот материал, я пережил и восторг и тревогу. Антропологически искушенные восприятия, излагаемые «Пополь-Вухом», казалось, повторялись в андском материале: дикий лунный век, преданный огню и смененный ведением полномасштабного земледелия, которое, в свою очередь, стало возможным благодаря социальным преобразованиям, включая брак. Хотя я предполагал на основе этого доказательства, что нечто очень похожее на социальную трансформацию, описанную в «Пополь-Вухе», происходило в Андах, я не находил прямых свидетельств в андском мировоззрении вопроса о матрилинейности или ее месте в тот исторический период. Я подозревал, какая кошка должна быть представлена в андской мысли, но не имел никакой возможности доказать это. К важнейшему вопросу андского представления о матрилинейных обычаях «людей-ягуаров» я подошел ни с чем.
VI
Исчерпав знакомый мне материал и будучи снова увлеченным вечным вопросом, я вернулся к массивной работе Тельо по этнографии и археологии Анд, где натолкнулся на следующий пассаж:
«В фольклоре Кольяо [говорящий на аймара бассейн Титикаки] Лари является призраком, чудовищным котом… Лари, или Уари, — это тот же персонаж, который по сей день играет важную роль в богатом фольклоре Анд… Уари является монстром, вызываемым из озера или места поклонения колдуном или знахарем… который представляет себя в образе кошки, из чьих глаз и шкуры высекаются наружу вспышки огня».
Я никогда прежде не встречал ни один из этих терминов в отношении кошачьих, хотя был знаком с современным названием кота-града, ккоа, призраком, возникающим из источника, как в описании Тельо и на рисунке Пачакути Ямки. Я никогда не думал об уари как о чем-то ином, чем об имени собственном, относящемся к государству Уари в центральных Андах, но на всякий случай я посмотрел его. Оказалось, это было слово аймара, означающее «не прирученный».
Тут опять была подсказка, что лунный кот — подобно «дикому» человеку, которого «цивилизовали» жители деревни и который сказал, что его матерью была луна, — принадлежал к дикому культурному горизонту. Однако опять-таки снова, не было явного свидетельства, чтобы связать это понятие «дикости» определенно к учреждению брака.
В равной мере танталовыми муками было второе значение аймарского слова Уари:
уари: Liquido по espesso: Dizese de macamorras у cossas assi. («Жидкость, которая не густая: говорится о супах и подобных вещах»)
Упоминание такого способа приготовления, ассоциирующего суп с «дикостью», появляется также в «Пополь-Вух»:
«Пополь-Вух» указывает на то, что первый вид продовольствия, приготовленного из маиса, принимал форму спиртного напитка — девяти спиртных напитков Шмукане [Бабушки]… Девять. Девять спиртных напитков Шмукане становятся по преимуществу священной пищей, предназначенной исключительно для приношений аграрным богам… Этот обычай, чье происхождение восходит к описанному в «Пополь-Вухе» эпизоду, казалось бы, подтверждал, что маис как продовольственная культура поначалу использовался в жидком или пастообразном виде… Другое доказательство, подтверждающее этот постулат, состоит в том факте, что народы, отделенные от общей культурной магистрали на ранней стадии — типа культур Анд, — все еще потребляют маис преимущественно в жидком или пастообразном виде…»
В Андах, где по сей день супы и тушеное мясо являются главными продуктами питания, тем не менее осталась формальная терминология, выявляющая древность этого обычая.
Снова, казалось, имелся хороший повод для ассоциации изображения ягуара в Андах с ситуацией времен родства по женской линии, но все должно было просматриваться сначала в «Пополь-Вухе». Это было равносильно попытке прибить желе гвоздями к дереву. Я был так расстроен неспособностью этих новых сведений продвинуть меня немного дальше, что чуть не пропустил то, что смотрело мне прямо в лицо. Другим именем кота, по определению Тельо, было «Лари». Я где-то видел это слово раньше, также написанное с заглавной «Л», то есть как имя собственное. Наконец я вспомнил, где. Лари было имя Ягуара Бабушки в мифе о Близнецах у гуарани.
Я заглянул в словарь аймара, составленный Бертонио в XVII столетии, и оценил разницу. Если оно вообще там было, то лари должно было, вероятно, означать «кошачье божество» или какое-то подобное понятие, еще один тупик. Я пошел дальше, отыскал лари и обнаружил следующую удивительную статью:
Лари: Дядя, брат матери, и почти все родственники мужского пола со стороны матери называются Лари.
Когда я увидел, что означает лари на аймара, я раз и навсегда запомнил, что народы Анд привыкли передавать на той же длине волны антропологического сознания, какая была в Мезоамерике. Кошмарный кот с боливийского плато был братом чьей-то матери, той специфической связью, которая подчеркивается антропологической литературой как главенствующая связь при матрилинейности и идентифицируется в «Пополь-Вухе» как эпицентр бессердечности человечества Третьего Века. Для исторических аймара, которые более чем за тысячелетие до того, как был составлен словарь Бертонио, жили при системе с двойным родством, почитавшей мужчину как земледельца и наделявшей его правами биологического отца, память о жестокости брата матери запечатлелась в форме языка и мифа.
Вторая статья, приведенная Бертонио и относящаяся к лари, показывает, далее, что точно так же, как и в Мезоамерике, люди андской земледельческой эпохи считали варварство неразрывно связанным с властью брата матери.
Ларилари: Люди высокогорной пуны, которые не признают [власть] вождя деревни; дикарь.
В аймара, в котором двойное употребление слова указывает на «сущность», «брат матери-брат матери» означает дикарь, неспособный следовать нормам существования ай-лью.
Использование у аймара слова лари как термина родства означает, что аймара «имели» эту же проблему, которая была решена посредством создания системы двойного происхождения. То, что принцип происхождения по женской линии, в представлении аймара, имел корни в реальном существовании матрилинейности в их истории, демонстрируется, далее, другим термином, найденным у Бертонио:
Лари туну: Происхождение со стороны женщины.
Аймарское слово туну, как мы уже видели, буквально означает «верхушку дерева». Если вы посмотрите на рисунок Пачакути Ямки, то найдете то же самое семейное древом внизу с женской стороны изображения… Фраза лари туну, «верхушка дерева брата матери», прямо указывает, следовательно, на другую видную мифологическую фигуры матрилинейности, Бабушку, типичную дуэнью домашнего хозяйства при женской линии родства. Глава рода брата моей матери при матрилинейной системе — это его мать, моя бабушка. Нигде нет ни «отцов», ни «дедушек», только лари.
Наконец, положение, при котором брат матери может терроризировать меня, ребенка, невозможно в доме моего собственного настоящего отца. Следовательно, если Лари, чудовищный кот с плато, настолько страшен, тогда принцип происхождения по женской линии исторически должен предшествовать внедрению в социальном мире айлью происхождения по мужской линии.
Учреждение системы с двойным родством, этой социальной основы андской земледельческой айлью, не могло произойти без серьезной травмы. Можно вообразить, насколько трудным должен был быть этот переход особенно для мужчин-мужей, или «слуг», чьи братья по женской линии должны были презирать их за привлечение к «женской работе» по возделыванию полей зерновых культур. Однако не следует полагаться исключительно на способность воображения, чтобы воссоздать эту ситуацию. Психологическая реальность презрительного отношения мужчин из женской родословной к мужчинам новой земледельческой общины во всей своей полноте хранится в «Пополь-Вухе», где тщеславная часть братьев Хунахпу и Шбаламке считает Близнецов ниже презрения — настоящими рабами — из-за их трудолюбия в возделывании продовольственных культур.
По моему мнению, именно эта динамика разрешает вышеупомянутый очевидный парадокс, а именно: что андские социальные нормы принимают абсолютное равенство ценности мужчин и женщин, несмотря на то, что мифы, похоже, «склоняются» на сторону мужчин, «мужественности» Виракочи. В переходе от огородничества к земледелию объектом нападок со стороны айлью были не женщины, а культура матрилинейности, со всей ее безрассудной жестокостью, ленью и отсутствием этического подхода. Проблемой была не благосклонность к мужчинам, а стремление учредить принцип патрилинейности наравне с матрилинейностью. От этого брака родилась затем совершенно новая цивилизация.
Можно также вообразить положение женщин — уже освобожденных от почти рабского статуса, имеющих возможность жить в браке со своими возлюбленными и видеть своих детей, особенно дочерей, воспитанных мужчинами, которые их любят — в айлью, отвергающей матрилинейность и охваченной социальной трансформацией, которую делало и сделало возможной земледелие. Быть может, именно женщины первыми задумались над возможностью изменения. И, возможно, именно женщины — ненавидевшие социальные барьеры, отделявшие их от сестер при матрилинейной неволе — радостно отпускали своим оскорбленным братьям колкости в связи с двойным значением слова айлью — «община» и «пенис».
В Век айлью ягуар станет добрым помощником бога Виракоча и, как и у майя, хранителем стада и поля. Отныне также в подсознании каждого мужчины, женщины и ребенка засядет, подобно подводной мине, резкое неприятие лари — то есть брата матери — как отношения, которое когда-либо следует культивировать; потому что лари лари был регрессом, не приспособленным к окружающим диким человеком, монстром. Отныне брат матери должен был искать свою собственную идентичность не в ней, а в себе самом как муж, отец, кормилец. Лари больше не был организующим принципом для респектабельных мужчин. Ягуару позволили вернуться в дикость, откуда он был родом.
VII
Величие символической власти, исходящее от андского Бога Ворот, возвышается одиноким контрастом среди их современного окружения. Грандиозные ирригационные системы разрушены, их остатки почти невидимы. С оснований расколотых опор ворот изображение бога спокойно глядит на восток, наблюдая, как внизу легионы любопытных прибывают и убывают в бесконечном паломничестве. Немногие места на земле сравнятся с таким громадным опустошением.
Его лик слишком не от мира сего, чтобы передать печаль. Это было человеческое творение. Но оно абсолютно авторитетно говорит о лучшем времени и месте и о событии, которое изменило мир. Или, как мне теперь казалось, пройдя полный круг, я снова стал всматриваться в лицо бога. Лицо было, несомненно, солнечно-лунным. Это слияние мужских и женских элементов символизирует гермафродитную природу бога, существование равновесия и справедливости. Определяемый как кошачий, лунный образ лица бога проделывает историческую эволюцию от матрилинейности к системе с двойным родством. Тем самым — то есть через воспроизводство андрогинии бога в рамках социальной действительности — лицо бога удостоверяет парадигматическую деятельность андской цивилизации: сотворение человеческого мира, спроектированного для гармонии с космической действительностью. Как вверху, так и внизу.
Если принять, что лунный образ лица бога представляет полную луну, тогда каждый следующий значительный аспект рассвета Века Виракочи проявляется видом Бога Ворот. Во-первых, противоположность солнца полнолунию представляет «концептуальный калибр», необходимый для определения местоположения пересечения солнцестояний, потому что полная луна, по определению, находится на 180 градусов по окружности эклиптики от солнца. Если, например, полнолуние наблюдается накануне июньского солнцестояния, тогда, поскольку солнце садится на северо-западе, полная луна восходит на юго-востоке, там, где восходит солнце в декабрьское солнцестояние. На следующее утро после того, как луна садится в той точке горизонта, где будет садиться солнце декабрьского солнцестояния, восходящее солнце завершает траекторию по горизонту пересечения солнцестояний. Тем самым, как проясняют возможности диаграммы Пачакути Ямки, идеальная разметка земледельческого календаря на год появляется в одну ночь.
Более того, если понимать силу Солнца и полной Луны в солнцестоянии по отношению к гелиакически восходящим звездам обоих солнцестояний, то лицо Бога Ворот объясняет наиболее важные догматы религии обращением к «открытию путей», осуществляемому гелиакическим восходом Млечного Пути в противоположные солнцестояния. Поэтому данный символ относится к тем фундаментальным характеристикам андской религии — «поклонению» предкам, возможному благодаря открытию земли усопших в декабрьское солнцестояние, и доступу к божьему наставлению благодаря открытию «моста» в июньское солнцестояние — которые вносили вклад в создание земледельческого общества.
Наконец, образ бога указывает на цивилизацию, управляющую своей собственной историей, как раз потому что солнце и полная луна в солнцестояние размечают параметры земледельческого года, так же, как они определяют границы мира-века — солнца солнцестояний, «гнездящиеся» в обоих потоках Млечного Пути. Таким образом, говоря исторически, это лицо выражает осознанное понимание каждого важного аспекта андской цивилизации: кто, то есть люди системы с двойным родством; что, возникновение земледелия, выраженное акцентированием метеорологического явления; кто, земледельческий календарь; где, Титикака; когда, около 200 года до н. э..; и почему, появление одновременно и практической, и трансцендентной доктрины, в которой средства, используемые для регулирования земледельческого календаря, содержат также возможность показать драму человеческой жизни, сыгранную на фоне последовательной смены Мировых Веков.
Оставалась лишь одна неясная лакуна в летописи. Насколько мне было известно, в период конкисты не имелось прямых указаний на то, что в андской методике использовалось отношение между солнцем и полной луной для отметки противоположных сезонов. Это понятие, конечно, неявно присутствует в таких противопоставлениях, как в диаграмме Пачакути Ямки, или в мифах, сопоставляющих пещеры ягуаров с вершинами гор (Приложение 3). Единственная луна июньского солнцестояния, которая может занимать место солнца в декабрьское солнцестояние, — это полная луна. Однако тот факт, что противоположность между солнцем и полной луной была если не плодом моего воображения, то в основе предположения, доставлял мне неудобство. Именно в характере «голографических» систем мысли — обращаться к самим себе, то есть функционировать, устанавливая ряд взаимодействующих резонансов, посредством которых часть последовательно копирует целое. Если я внедрял чуждый элемент в уравнение, тогда я искажал изображение в целом.
В процессе обдумывания проблемы я пришел к выводу, что при отсутствии письменных записей единственным возможным способом выразить противоположность солнца и полной луны — это знаменитое обращение к числу девятнадцать, представляющему то, что на Западе известно как Метонический цикл. Девятнадцать — это число лет, необходимое определенной лунной фазе, чтобы повториться в определенную солнечную дату. Иными словами, если в ваш день рождения наблюдается полнолуние, то оно повторится только через девятнадцать лет. Но я опять же оказался не знаком с такими упоминаниями в литературе[70].
Снова появилось желание бросить весь этот длинный экскурс в значение кошачьих и заняться написанием диссертации. А значения материала о ягуарах просто составили бы число возможных споров, которые мог вызвать мой проект. Но если только где-то имелась хоть какая-то информация о том, что в Андах были знакомы с Метоническим циклом — девятнадцатью годами, девятнадцатью солнечными оборотами прежде, чем полнолуние снова сможет произойти в солнцестояние, — тогда игра стоила бы свеч. Хорошо, если бы у лягушек имелись карманы, они могли бы носить пистолет, чтобы стрелять в змей.
Разве что — было ли это возможно так просто? — можно было бы только сосчитать число солнечных лучей вокруг лунного лика Бога Ворот (рисунок 4.2)?
ГЛАВА 7
ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
Слово служит каждому в этом мире; оно должно приходить и уходить, им надо обмениваться, потому что добродетель — это отдавать и получать жизненные силы.
I
Насколько я мог судить, завеса с предыстории упала. И причина этого, опять же насколько я понимал, не имела ничего общего с убедительностью разумной «интерпретации» мифологического, лингвистического и художественного наследия Анд. Скорее, она, как мне казалось, была в том, что андские народы обладали и историческим сознанием, и средствами, чтобы передать его нам. Я достиг, чего желал — связался с «доисторическим» прошлым, преднамеренно переданным в будущее, и теперь я был во всеоружии.
Это давало основание считать, что в андской традиции существовал технический язык мифологии. Совсем другое дело было принять этот вывод как данность и перейти к «чтению» андской истории по ее мифологической летописи.
Но именно это, как я теперь думал, было возможно. В результате рассмотрения родословной андской кошки мне теперь было ясно, что андская мифологическая база данных содержала гораздо больше информации, чем просто даты, зашифрованные астрономически. Андская мифология выступала теперь чем-то вроде размышления над значением изменений, которые произошли одновременно в социальной и небесной сферах. По этой причине лицо Бога Ворот можно было читать как книгу — книгу по истории.
С другой стороны, я хорошо знал, что само существование средств передачи этой информации — технического языка мифологии — еще не допускалось ни одной академической дисциплиной — ни археологией, ни антропологией, ни историей, ни историей науки, ни историей религии, ни гуманитарными науками, ни сравнительной литературой, ни даже археоастрономией. И, больше того, я знал, что только самые скептические по отношению к смыслу такого исследования дисциплины присвоят себе «юрисдикцию» оценивать его результаты. Если бы я продолжал выстраивать гипотезу об уровне мифологии как о реальной силе в андской истории, я бы стал оспаривать некоторые из фундаментальных предположений этих дисциплин.
Главные теоретические возражения против такого рода исследования, которые я уже приводил, исходят от археологии и антропологии, — дисциплин, которые обязаны исследовать предысторию. Археология исследует физические следы, оставленные человеческими обществами, а антропология концентрируется на изучении народов, культуры которых являются «доисторическими» — то бишь дописьменными. Обе эти дисциплины пытались разрабатывать теории и в конечном счете законы культурного развития человечества. Многие факторы, особенно изящество лингвистических моделей, ведут к идее, что изучение раннего человечества могло бы стать наукой.
Единственным самым важным методологическим принципом, содействующим этому стремлению, было то, что называлось «сравнительным методом», практикой изучения отдельных культур так, будто они развивались в изоляции, с целью последующей разработки законов развития культуры.
Исторические соображения о «проблеме диффузии» неизбежно делают эти воды мутными. Диффузия означает передачу культурных элементов — технологии, идей, методов — от одной культуры другой. Доказательство значительных контактов между культурами имеет неудачное свойство затемнять целостность этой основы для сравнения, затрудняя разработку законов культурного развития. По этой причине тех археологов и антропологов, которые признают доказанным значительное распространение культурных контактов, особенно на большие расстояния и там, где древняя традиция утверждает другое, называют «диффузионистами». Подтекст у диффузиониста — «подрывной», потому что диффузионистские исследования рассматривают данные антропологии и археологии в отрыве от исторической перспективы. По самой своей природе этот подход подрывает достоверность этих данных как основу для разработки законов развития культуры.
Это не означает, что антропологи и археологи не интересуются вопросами истории. Тем не менее упор здесь делается опять же больше на теорию, чем на отдельные события. Антропология стремится устанавливать «диахронические модели» изменения культуры, — модели, выводимые на основе данных из археологических и этнографических записей о том, как изменяются культуры с течением времени. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы изолировать изучаемые переменные и динамику, и все это — чтобы в один прекрасный день сформулировать «законы» культурного изменения.
Такие модели предполагают доказательство диффузии, если его можно найти «в земле» — то есть в археологических отчетах. Археологи — совершенные прагматики в отношении всякой теории. Если новая находка требует новой теории, то археологи адаптируют ее и идут дальше: «Никаких упреков», как говорится в «И цзин». Однако правда и то, что, чем более значительным, но географически удаленным является довод в пользу возможности элемента диффузии, тем меньше вероятность того, что он будет принят археологией. Кроме того, эмпирически уже доказана та истина, что, чем больше дальше пространственно простирается утверждение о диффузии, тем меньше доказательств в его поддержку будет найдено «в земле». Это говорит о том, что путешествие на очень длинные расстояния с большей вероятностью предполагало обмен идеями, чем материальными предметами. Однако же ортодоксальная археология интерпретирует отсутствие физических доказательств на земле как самое важное доказательство отсутствия контактов.
С другой стороны, Дэвид Келли, указывая на хитроумные ловушки в процессе выявления вероятности широких контактов между культурами на дальние расстояния, в частности приводил такой критерий: «Главная проблема всякой попытки показать передачу на дальние расстояния предметов или идей от одной культуры другой заключается в том, что наилучшим доказательством такой передачи обычно считаются те культурные элементы, которые в получающей культуре имеют наименее важное значение».
Келли привел пример находки статуэтки явно римского происхождения в Каликстлауаке, в Мексике (во вполне вероятном слое, то есть более позднем, чем ее изготовили), и заключил, что эта находка может указывать лишь на то, «что римская статуэтка смогла так или иначе попасть в Мексику».
Напротив, замечал Келли, «определенные виды систематически классифицируемых данных, имеющие общие компоненты», такие как календарные системы Мезоамерики, Океании и Евразии, указывают на высокую степень вероятности контактов, несмотря на то, что «в земле» нет ничего, что доказывало бы это. Такие элементы могут казаться местным произведением. Именно такая видимость делает возможным применение сравнительного метода и маргинализации истории.
Эти вопросы пришли мне на ум, когда, выйдя из логического равновесия, я ощутил тягу к исследованию андских представлений о второй половине системы с двойным родством, то есть космологической основы принципа происхождения по мужской линии. Из книг мне было известно, что этот материал содержал обширные знания, включающие использование символа молнии для обозначения мужского порождающего начала. Эта символика формулировалась в терминах культа Близнецов, связанных, в свою очередь, с огнем, Млечным Путем, и планетой Сатурн. Эти идеи были настолько неотделимы от технического языка мифологии, а их распространение по всему миру в пространстве и времени — настолько обширно, что они вынудили поставить эту проблему.
Я полагал, что имел дело с системой мышления, которая по причине своего особого способа формулировать астрономические наблюдения (где звезды — это животные, топография — уранография, планеты — боги, система — «мельница» и так далее) не могла изобретаться множество раз заново. Здесь был классический случай диффузии в таком огромном масштабе, что ее можно было бы увидеть невооруженным глазом. «В земле» ничего бы не было найдено. Тем не менее, насколько я мог бы судить, андская земледельческая цивилизация происходила именно от такой системы мышления. Я был на грани того, чтобы представить и написать о цивилизациях Америки нечто еретическое, возможно, даже безответственное.
Сколько существует современное изучение предыстории человечества, оно всегда основывалось на предположении, что замысловатые, повторяющиеся образцы ранних мировых цивилизаций — с их горами-храмами, камнями-центрами, преисподними, чудными «столпами» и «мельниками» — явились результатом человеческой природы в целом, а не распространения индивидуальных представлений людей. В таком ракурсе ранняя история народов мира выступает просто-напросто подсознательным проявлением структур человеческого разума.
Мои собственные изыскания привели меня к иному выводу. Цивилизации, основанные на авторитете мифов, активно стремились преодолеть ограниченность обыденного сознания людей, увлекая их в царство высшего Сознания, начертанного на небе. В таком деле бесспорно доступным предметом обмена были проявления человеческой природы в древности — например, «бессердечность» людей-ягуаров. Это стремление было чем-то «естественным» и «подсознательным». Мифы, похоже, устанавливали диалог с небесным образами, чтобы задать великие вопросы о природе и степени человеческой ответственности. Миф был сознательным.
Первый инструмент этих поисков, великая голографическая идея-форма о бракосочетании неба и земли, был больше, чем просто историческим событием; он на тысячелетия остался историческим событием — моментом, когда началось само Время. Его появление в Андах, очевидно, где-то в первом тысячелетии до н. э., подняло, так сказать, основные вопросы о дальности, смелости и мотивации путешественников в отдаленном прошлом. Путешествовать по земле, согласно этой голограмме, означало нести в сознании семена цивилизации. Все, что для этого требовалось, — это найти плодородную почву.
Передо мной была уникальная возможность увидеть, как плодотворные идеи, древнее самого Вавилона, породившие цивилизацию Старого Света, вышли из употребления в этой полностью на них основанной цивилизации в самом начале нового времени. В свете этого испанские хроники представлялись почти научной фантастикой, с их конкистадорами, отправившимися на свидание со священными истоками своей собственной цивилизации и объявившими их мусором. Короче говоря, меня одолевало любопытство. Вопрос теперь был в том, сколько проблем я хочу?
Я интуитивно нашел в словаре слово «любопытный». Первыми двумя значениями были: 1. Стремящийся к учению или знанию; любознательный 2. Любопытствующий, надоедливый.
Я рассмеялся. Ценность любопытства, как и наличия технического языка мифологии, была, казалось, в глазах наблюдающего. Стремясь выйти из своего затруднительного положения, я получил взамен зеркало.
К тому времени мое исследование достигло той точки, где я больше не «думал» в обычном смысле этого слова. Просто образы начали представлять себя сами. Я больше не «управлял» направлением исследования и не знал точно, куда оно приведет. Например, мне казалось теперь, что я смог бы разглядеть в уарочирийских мифах нечто, относящееся к основанным на астрономии заявлениям о происхождении воинов (смотри главу 8), которые были столь же странными и зловещими, сколько и проливающими свет фактически на каждый аспект андской истории. В известном смысле я больше не работал над мифами; они сами работали надо мной.
Тут мне пришло на ум, что пора перестать бояться, что я окажусь неправым, и задуматься над тем, что означает быть правым. Сколько я был готов еще прошагать по высоко натянутому канату? Было бы глупо зарываться, подвергать опасности то, что я изучил до сих пор. В том смысле, чтобы сладить кое-как с будущим прошлого. С другой стороны, в какой точке осторожность вырождается в тупость? В конце концов я решил, что не готов еще остановиться.
За исключением последней главы, эта книга основана на материале, который я первоначально представил как докторскую диссертацию. По иронии я настолько превысил лимит многословия, что мой комитет посоветовал мне завершить диссертацию где-то на главе о ягуаре и луне. Однако, как только я представил диссертацию, я также отослал копии ее «невырезанной» версии нескольким академическим издательствам. В каждом случае копии возвращались с одной и той же рецензией — анонимной, как академический протокол. Эта рецензия превзошла мои ожидания. Кого боги решили бы покарать, того они, очевидно, должны были бы наделить любопытством.
«Методология догматически разделяет крайний детерминизм «Мельницы Гамлета», в которой прецессия выдается за всеми признанное явление чрезвычайной важности, по которому цивилизации не только отмечали свои всемирные века, но и в результате которого претерпевали катастрофические изменения».
Хотя я четырежды перечитывал «Мельницу Гамлета», я не припоминал, чтобы так часто сталкивался в ней со словом «чрезмерный детерминизм», утверждающим, будто цивилизации «претерпевали катастрофические изменения» в результате прецессии. Это представило бы Сантильяну и Дехенд как сумасшедших. К сожалению, рецензент еще только разогревался.
«Метод состоит в целеустремленном поиске элементов андской мифологии, которые бы можно было подогнать под догму о всемирных Веках-прецессиях. Подход в книге — чисто этноцентристский, европоцентристский. Так называемый астрономический уровень мифологии определяется в западных терминах и принимается за универсальный. Координаты — полярно-экваториальны, плоскости суть эклиптические и экваториальные… Хуже всего то, что на роль высшего арбитра, «декодера» истины призван планетарий, символ современной технологии двадцатого столетия…
Работа носит чересчур самовлюбленный характер, она слишком новаторская… Самоуверенный стиль изложения в данной рукописи являет собой поистине редкую манерно-изысканную одержимость. К счастью, она не присуща большинству ученых. В ней отсутствует здравый скептицизм, что, похоже, характерно для многих из тех, кто изображают из себя дешифровщиков тайного, скрытого знания. Действительно, многие из них, в том числе Маршак (его имя постоянно пишется абсолютно неправильно), выступают у автора как герои.
Данная работа является частью вводящей в заблуждение догматической науки и написана весьма эрудированным человеком, который мог бы найти своим знаниям и способностям куда лучшее применение».
Мир был спасен от еще одного самозабвенного чокнутого. В последовавшей за этим жуткой тишине был слышен один лишь редакторский разгон. Мне было неприятно от допущенной ошибки в написании имени Маршака.
Смысл данной главы — двоякий. С одной стороны, в ней делается попытка показать, что происхождение андского символического уравнения «молния = мужской порождающий принцип» нельзя отрывать от технического языка мифологии. С другой стороны, чтобы не скрывать от читателя, насколько спорны такие идеи, данная глава посвящена проблеме отцовства молнии в противоположность более традиционному представлению в археологии.
Как я попытаюсь показать, источником, из которого андские мифотворцы выводили символику молнии, был самый древний пласт андской культуры — пласт кочевых охотников и пастухов, людей, которые исторически вели свое происхождение по мужской линии. Они были людьми Первого Века, которые, как и «люди-ягуары», или примитивные земледельцы Второго Века, считались дикарями с точки зрения этики членами Третьего Века, земледельцами с системой двойного родства.
Как говорилось в главе 2, великим синтезом, давшим начало андской земледельческой цивилизации, стало формирование общества, способного создавать и эксплуатировать вертикальные архипелаги, простирающиеся от высокогорных пастбищ через пахотные долины нагорья до умеренно-климатических фруктовых и кокаиновых областей восточных склонов. В андском представлении, социальная гармония патрилинейной и матрилинейной традиций — одна как хранительница знаний о выращивании продовольственных культур, другая — искусства животноводства — была неизбежной предпосылкой экономической интеграции вертикальных архипелагов.
Эту интеграцию и описывает андский миф о сотворении. Согласно мифу, осуществивших этот подвиг людей — различные племена Анд — сотворил в бассейне Титикаки Виракоча. Иными словами, андская традиция приписывает области озера Титикака происхождение плодотворных идей, которые сделали возможной земледельческую цивилизацию, — идей, которые преобразовали андский социальный строй в интегрированные территориально-племенные единицы. Далее, как мы видели, имеется соответствие между андскими археологическими данными (появлением террас и систем ирригации) и андской мифологической традицией (лунным веком, разрушенным «огнем») в том, что эти идеи быстро распространились по всем Андам около 200 года до н. э.
Хотя эти идеи и достигли Анд, не кто иной, как жрецы-астрономы — капакас, создали голограмму для всей цивилизации, их появление должно было стать подобным грому среди ясного неба. Как только андские народы признали объединяющий потенциал этого учения, они навсегда запомнили произошедшие у Титикаки события, — события, сначала описанные в андском небе по Огненной Реке, когда началось время.
По причине своеобразной способности андского мифа о сотворении у Титикаки поместить данные исторические события в рамки истинного учения, которое сделало возможными эти события, он был и остался авторитетным. В тот момент — когда и миф, и описываемый им новый «мир» вместе возникают из вод Титикаки — началась не только история Анд, но также и историческое сознание андских народов. И с того момента — как будет сделана попытка показать в последней главе этой книги — это заново пробужденное историческое сознание станет господствующей силой в развитии истории Анд.
Вот почему, во благо ли или во вред, но люди с «прошлым» — это люди, для которых путешествие во времени уже стало важным и для которых будущее становится критерием, по которому будет оцениваться настоящее. Напротив, люди, для которых единственным временным измерением мифологии являются «сказочные времена», — это люди, для которых природа человека выступает скорее онтологической данностью, чем исторической проблемой. Вкусить плод древа познания о добре и зле значит положить конец такой наивности. Как только миф овладевает средствами и волей, чтобы соткать прошлое в значительный образ, этические соображения занимают середину сцены в театре истории: «Мы останемся, чтобы поддерживать вас». Как только пускаются великие часы, назад нет возврата; ворота в Рай захлопываются, и Прометей приковывается для растерзания на скале за грех кражи огня у богов.
II
Как и следовало ожидать от блеска напротив золотого ягуара на диаграмме Пачакути Ямки (рисунок 2.4), андские представления о происхождении по мужской линии связаны с символом молнии. Исследования Зуидемы и Ирэн Силверблат выявили повсеместное распространение в Андах периода конкисты индейской практики — существовавшей задолго до появления инков — ведения родословной по мужской линии в терминах порождающей способности молнии.
«Наиболее важным небесным божеством в местной космологии был мужской бог грома и молнии — Илъяпа… Молния — это один из главных культов, отмеченных Эрнандесом Принсипе в трех общинах анкас… Каждая семья посвящала ему богослужение на горе за деревней, где отправлялся культ. Эти богослужения посещал глава семейства, чури… Каждый глава рода считался потомком молнии, будь то прямым или через посредство его мифологических первопредков, сыновей молнии».
И Силверблат, и Зуидема рассматривали этот материал в связи с «завоевательной иерархией», то есть классовой системой, установленной в Андах в течение Века Войны, который начался около 650 года н. э., когда молния стала символом военного господства. Однако представление о порождающей силе молнии явно более древнее, чем возникновение войны в Андах. Например, Бог Ворот (приблизительно 600 года н. э.), Тунапа Виракоча, держит в руках стрелы молнии: правая рука символизирует, согласно Бэнксу, «древко копья [которое] увенчано головой орла на верхнем конце, чтобы служить крюком», а молния в левой руке бога представляет пращу.
Тема метательного оружия вновь возникает с инкским богом молнии, Ильяпой, несущим пращу, характерным «ударом» которой при пускании был гром.
Так как причина этого акцентирования не могла изначально быть военной, поскольку иконография молнии предшествовала возникновению войны, то логично предположить, что образы метательного оружия как метеорологического явления представляют собой формулу превращения охотников и скотоводов в земледельцев. Именно такая параллельная трансформация от эры женской линии/огородничества к земледелию проявляется в превращении ягуара в кота-град.
Другое значение того, что охотники высокогорий Анд вели происхождение по мужской линии, подтверждается не только мужской принадлежностью оружия-молнии в андской иконографии, но также антропологическими доводами. Таким же образом, каким экономическая стратегия сочетания примитивного земледелия и охоты создала уклад домашнего хозяйства с женской линией родства, стратегия кочевой охоты и/или скотоводства послужила основой для зарождения структур происхождения по мужской линии. Группы кочующих мужчин-охотников, чьи женщины кочевали вместе с ними, должны были — вследствие универсальности табу на кровосмешение — «экспортировать» сестер и дочерей и «импортировать» жен. При таком положении женщина идентифицировалась по отношению к группе либо своего отца, либо своего мужа. Антрополог Робин Фокс назвал такие группы «возможно, самыми первобытными из подлинно человеческих групп» и «вероятно, социальной единицей наших палеолитических предков из числа охотников и собирателей».
Археологические данные подтверждают культурную преемственность между самыми ранними андскими охотниками и более поздними пастухами-кочевниками, которые сначала одомашнили животное, изначально бывшее объектом охоты, — гуанако, дикого предка ламы. Например, во время недавних раскопок комплекса деревень, датируемого приблизительно 1200 — 800 годами до н. э. и известного как Уанкарани, примерно в сотне миль к югу от озера Титикака, археологи нашли культуру примитивных высокогорных земледельцев, но искушенных в разведении лам и межрегиональном обмене. Пастухи Уанкарани путешествовали вплоть до тихоокеанского побережья Чили, ведя обмен, помимо товаров, «информацией, идеологией и скорее всего брачными партнерами». Уанкарани отображает раннюю попытку интегрировать земледелие в традицию кочевого пастушеского образа жизни, основанного на принципах родства по мужской линии. Одна из причин, почему земледельческий компонент этой культуры остался на уровне подсобного хозяйства, должна быть в том, что мужчины, следуя древней логике группы с родством по мужской линии, прежде всего включались в скотоводство и затем в торговлю.
Другой аспект культурной преемственности между охотниками и кочевыми скотоводами освещается в работе Дэвида Браумана, который привлек внимание к практике «плотоядного пастушества», то есть разведения животных семейства верблюдовых для получения мяса. В охотничьем обществе и в меньшей мере в плотоядном пастушестве самой высшей ценностью является соучастие в убийстве. Люди побуждаются к производству идеалами великодушия, а статус достигается через престиж, связанный с великодушием.
Колата обнаружил доказательство этого этоса в огромном множестве костей ламы, разломанных и расколотых для извлечения мозга, по всем городским кварталам Тиауанако, как богатым, так и бедным.
Андские скотоводы, разводившие лам, имели и другую общую характеристику ранних охотников: использование метательного оружия, особенно болы. Бола упоминается в уарочирийских мифах как оружие, использовавшееся для «стреноживания» добычи в ежегодной охоте, проводимой мужчинами местных айлью совместно с группами охотников, которые все еще вели этот древний уклад жизни на обочине андского общества в сравнительно недавнюю эпоху после 650 года н. э. Для скотоводов бола была полезным орудием для отлова отбившихся от стада животных и собирания стада, потому что она могла стреножить. животное без нанесения ему вреда. Знаменательно, что бола, подобно атлатлю или копью, а также праща в руках Бога Ворот также была связана с молнией. В мифах Уарочири говорится о том, как группа сельских жителей, «играя с охотничьими болами», вызвала огромную электрическую бурю. В Андах севернее Куско бог молнии назывался Либиаком, от кечуанского слова ливи, означающего «бола».
Наконец, как показано в новаторской работе Хорхе Фло-реса Очоа и Дэвида Браумана, андское пастушество является «древней и независимой традицией существования», чьи особые уклады жизни сохраняются по сей день. Вклад кочевых пастухов был решающим для успешного формирования «вертикальных архипелагов». Хотя члены земледельческих айльюс держали небольшое число животных ради шерсти, именно пастухи содержали огромные стада на пуне, которая иначе пустовала бы, и обменивали мясо на земледельческие продовольственные культуры. Кроме того, пастухи поддерживали обмен в течение столетий до складывания айльюс. Когда айльюс в результате террасирования и ирригации начали производить прибавочный продукт, искусство пастухов осуществлять грузовые перевозки приобрело решающее значение для перемещения продуктов обмена между районами. Караваны лам были кровеносной системой вертикальных архипелагов. Таким образом, пастухи в качестве достойных партнеров были введены в лоно мира, созданного Виракочей.
Многие из таких групп явно приняли систему с двойным родством, усиливая свое занятие земледелием на несколько маргинальных высокогорных землях, где они обитали, но продолжая разводить большие стада. В мифе, более подробно анализируемом ниже, каньяри Эквадора, земледельцы, которые вели свое происхождение и по мужской, и по женской линии, рассказывают о получении их пастушескими предками-мужчинами помощи от сверхъестественных женских помощниц, посланных Виракочей, чтобы научить их искусству земледелия.
Важно понять, что, хотя система с двойным родством в земледельческих айльюс происходила от модели мужского происхождения, заимствованной у мира пастухов, эта пастушеская традиция, в отличие от мира охотников/огородников с родством по женской линии, никогда не исчезала полностью. Как показывается в следующей главе, преемственность, а возможно, и ренессанс[72] этой независимой пастушеской традиции имели глубокие последствия для будущего развития андской истории. Тем не менее она была синтезом экономических и социальных стратегий примитивных земледельцев и пастухов, которые вызовут появление классической модели айлью. По археологическим данным, этот синтез впервые в Андах произошел в бассейне Титикаки.
Как именно традиция родства по мужской линии у охотников и скотоводов была преобразована земледельческими айльюс в систему с двойным родством, отражено в андской символике молнии. Основа этой символики заключена в ее акцентировании самого удара грома, то есть метательного объекта. Древние кечуанские и аймарские горцы различали три явления: молнию (ильяпа/ильяпу), гром (кунунуну/какча) и предметы, метаемые богом на землю. Словом для обозначения понятия удара грома — иногда называемого на английском «грозовым камнем» — было илья, от которого образуется и слово для обозначения молнии. Поэтому праща гневающегося бога была молнией, ее свойством издавать гром, а бросаемый камень — ударом грома или грозовым камнем. Кобо сообщил нам, что любой незнакомый камень, обнаруженный после дождя, считался священным (sagrado), потому что «его прислала гроза».
Причина этого символического акцентирования на громе от молнии кроется в соединении мужского порождающего начала с противоположной ему стороной гермафродитного божества. Происхождение всех грозовых камней связано с ролью Виракочи как «отца-неба», бога небесного огня. Эта связь выражена в двух наиболее употребимых титулах бога, Илья Тиксе и Кон Тиксе. Как уже отмечалось, тиксе означает «происхождение, основа, начало». «Илья Тиксе», стало быть, означает буквально «первобытный грозовой камень». Что касается слова кон или кун, то оно также означает грозовой камень и содержится в корне кечуанского слова для обозначения грома, кунунуну, и как в аймар-ском, так и в кечуанском корнях слова, обозначающих «жернов». Рассмотренное выше созвучие этих слов с небом также определяется в документе Авилы, где «пять кон», вероятно, относятся к планетам. Грозовые камни нисходят с неба, от самих богов, от самих кон.
Выполняя свою роль искоренителя, Авила хорошо понял проблемы, представляемые понятием кон. Вот как он говорил о кон чури, буквально «первенце грома», сорте камня:
«Во всех поименованных деревнях имелись большие и малые идолы, и не было индейской семьи, ни даже одинокого человека, у которых бы в доме отсутствовал их собственный бог, так что, даже если это был один, восемь или десять людей, все они имеют идола, оставленного им человеком, который им предшествовал. Самый почтенный человек каждой семьи хранит этого идола, и именно такой человек имеет право наследования имущества и всего остального, так что хранение идола подобно обладанию у нас правом padronazgo [наследственного патронажа], касающимся наследования, и когда, — в соответствии с законом кровного родства, некому его передать, то его обладатель обычно доверяет его человеку, который кажется ему наиболее достойным по соображениям близости, или своему лучшему другу, а когда и таковых у него не оказывается, то он берет его с собой, если сможет, туда, где захоронен его пращур, то есть обычно в пещеру, потому что пращуром была доиспанская мумия, и там он оставляет указанного идола, а если он не может взять его туда, он хоронит его в своем доме. Этот сорт идола обычно называется кун чури или чанка».
Там, где илья, Корень слова для обозначения молнии и сверкающих свойств света, вызывает искру от кремня, раскат «грома», короче говоря, все небесное молебствие звездных искр, слово кон, грозовой камень, передаваемый из поколения в поколение как первобытное свидетельство законного происхождения, говорит о долговечности древнекаменного бога.
Арриага так увлекся поисками грозовых камней, потому что, как он быстро усвоил, каждая семья имела в горах место поклонения молнии и там грозовые камни прятались и хранились как доказательство происхождения по мужской линии от неба. Эти камни, которые Арриага назвал конопас и чанкас (очевидно, по их функции в противоположность происхождению[73]), представлялись искоренителю важнейшими экспонатами в системе веры, которую он стремился уничтожить, потому что мужчины из числа крестьян «хранили их как самую драгоценную вещь, оставленную им их отцом и не оставили их [грозовые камни] вплоть до сегодня». Порождающая сила грозы не ограничивалась также миром людей. Арриага упоминал целый класс кристаллов — лакас, разбрасывавшихся на полях ради увеличения урожая маиса, картофеля и поголовья домашнего скота. Элиад обнаружил в действиях шаманов Старого Света то же самое таинство, относящееся к «свойствам метеоритов и грозовых камней. Упавшие с неба, они наполнены магически-религиозным свойством, которое может использоваться, сообщаться, распространяться; они как бы составляют новый центр небесного обряда на земле».
Идентификация Виракочи как «первобытного грозового камня» — кон или илья — сравнимо с высшим божеством у киче-майя Кабахуиль, или «Основой Рая», которое материализовало из пустоты «Великий Камень Милосердия»:
«Тот» кто является Божеством и Силой, перенесенными в существо Великого Камня Милосердия, там, где прежде не было небес и откуда родились Семь священных камней, Семь Воинов отложили дух перемотки, Семь избранных огней, а затем семь раз были освещены семь мер ночи…»
Великий Камень Милосердия представляет понятие священного Центра, откуда возникает «небо». «Небо», или неподвижная сфера звезд, «создается и первоначально осмысляется через семикратное представление о пространстве» семи мер ночи» — которые, как мы уже видели, ассоциировались в мышлении и майя, и аймара (область Титикаки) с полярно-экваториальной организацией «неба-отца».
Эта трактовка подтверждается тем фактом, что божество Кабахуиль, творец Великого Камня Милосердия, сам ассоциируется с Хунраканом — Большой Медведицей, — созвездием, чье вращение вокруг полюса очерчивает расположение Полярной звезды[74]. Как со священным вавилонским храмом-горой, дур-ан-ки, где невидимая полярная ось объединяет три мира через священный центр, Кабахуиль/Большая Медведица несет дальше Великий Камень Милосердия в Центр.
Таким образом, как и в андским представлении, где Илья Тиксе Виракоча создал мир в титикаке, или «свинцовой скале», появляющейся из первобытных вод озера, или, иначе, в Тайпикале/Тиаунако, «камень в центре» — это майяское понятие времени, когда «разбуженные» звезды вызывают первобытный «Великий Камень Милосердия», проявляющий в виде семи камней или семь огней, освещающих первобытную «тьму» (= отсутствие понимания).
В этом контексте уместно посмотреть в нижний левый угол рисунка Пачакути Ямки (рисунок 2.4), напротив «древа» на женской стороне. Здесь находятся семь кругов, помеченные как «глаза каждого рода». И как у андских народов, которые привыкли мыслить о небесных светилах как о «глазах», и у майя, которые смешивают понятия «небеса, солнечный глаз, Бог»[75], общим является представление о небесных светилах как о глазах божества. Сравнение со звездами, изображенными на инкском кубке для питья (рисунок 3.10), также подсказывает, что семь «глаз» означают иконографическую условность для изображения звезд.
До сих пор горизонтальная — то есть мужеско-женская — ось рисунка Пачакути Ямки изображала определенное акцентирование. Теперь же на передний план выдвигается значение вертикальной размерности. «Размещение семи «глаз» на мужской стороне рисунка, напротив древа на женской стороне, показывает соответственно принципы происхождения по мужской и женской линиям. Семь глаз и «древо» напротив находятся на рисунке внизу, под изображением как земли (горы и реки), так и мужчины и женщины. Как мы видели, тот мир, который находится «ниже» живого мира, или кай пача, — это царство предков уку пача. Поэтому размещение семи глаз и древа предполагает символику происхождения или родства.
Такое толкование подтверждается тем фактом, что древу на женской стороне дано его кечуанское имя мальки. Это слово означает и «дерево», и, как быстро обнаружил Арриага, «мумифицированный предок». Аналогичным образом мы уже видели точно такое же изображение дерева как символа происхождения по женской линии в аймарском термине лари туну, где туну означает и «дерево», и «главу женского происхождения».
Здесь, стало быть, в безошибочном значении «отца-неба» и «матери-земли», мы находим выражение принципов происхождения по мужской и женской линии, идущих параллельно. В то время как происхождение детей «матери-земли» выражено в символике разветвляющихся потоков древа жизни, принцип мужского порождения пользуется идиомой семикратности — символа для выражения полярно-экваториальной ориентации в царстве звезд, известного также как «отец-небо». В то время как матрилинейность идет через потоки семейного древа, патрилинейность выражена в семикратных осколках древнего камня, «великого первобытного камня молнии» Илья Тиксе Виракоча.
III
Возможно, за исключением интерпретации семи глаз на рисунке Пачакути Ямки, мало что в вышеупомянутом описании обеспокоило бы профессионального этнографа. Давно следовало понять, что в андском мышлении молния представляет мужской порождающий принцип и что бог Виракоча выступает в смешанном качестве. Единственная проблема с этим описанием состоит в том, что оно может уклоняться в сущности от любого исторического вопроса, поднятого андскими представлениями о символике молнии.
Важность этой проблемы состоит в соответствии между Старым и Новым Светом в отношении комплекса идей-форм, включающего молнию и огонь, планету Сатурн, Близнецов и Млечный Путь. Эти соответствия — не просто вопрос совпадающих сходств, а скорее результаты логики технического языка мифологии. Отношение солнца к Млечному Пути в Близнецах (местонахождении Близнецов, Кастора и Поллукса, одного — простого смертного, а другого — рожденного молнией) было выражено в терминах воспламенения небесного огня по всей полосе Млечного Пути. «Бог», от которого исходит творческое понимание, необходимое, чтобы делать такие наблюдения, — это старый бог Сатурн, хранитель небесного огня.
Число примеров увязывания этих элементов в представлениях американских аборигенов могло бы заполнить еще один такой том. Помимо уже упоминавшихся случаев, в исследовании Метрокса мифов Южной Америки о Близнецах отмечается, что даже среди изолированных народов, таких как яганы Патагонии, Близнецы приобретают огонь для человечества, как делают это и мифологические Близнецы и у бакаири. У таманаков Близнецы «стремились упорядочить Ориноко [реку] таким образом, чтобы она текла одновременно и вверх и вниз» (упоминание Млечного Пути с двумя потоками), в то время как соседние айрико в бассейне Амазонки утверждали, что электрические грозы представляли собой ссоры между Братьями.
Авилу и Арриагу беспокоили весьма сложные обряды, осуществлявшиеся андским крестьянством всякий раз, когда рождались близнецы мужского пола, потому что тем самым утверждалось богохульное представление о том, что «один из близнецов — сын молнии». Они описывали, как родители близнецов мужского пола подвергались длительным и суровым испытаниям, прежде чем двойню можно было бы безопасно поместить в общине. Согласно Арриаге, крестьянство воспринимало рождение двойни как «нечто кощунственное и отвратительное, и… они [родители] подвергались великим карам, как будто они совершили великий грех». В своем исследовании международной феноменологии табу на близнецов Рендел Харрис раскрыла суть этого греха: «Становилось все более ясно, что первоначальное основание для подозрений, что мать либо совершила, либо перенесла нечто ужасное, перерастало в гипотезу о двойном отцовстве…»
Иными словами, у членов айлью рождение двойни вызывало подозрение либо о прелюбодеянии, либо об изнасиловании. Любое из этих действий представляло угрозу хаоса — социальный динамит — в большой и взаимозависимой земледельческой общине. В то время как в обществе с родством по женской линии идентичность биологического отца имеет относительно малое значение, айлью зависела от святости брачных отношений, скрепляющих новые права и обязанности мужчин. С точки зрения мужчин, тяжелый труд обменивался на совершенство ритуала и семейной жизни. Тот факт, что и от мужа, и от жены требовалось пройти через покаянные страдания, говорит о том, что цель обрядов в связи с близнецами заключалась не столько в обвинении женщины в совершении прелюбодеяния, сколько в том, чтобы выставить перед всей деревней всю проблему контроля над сексуальными отношениями внутри общины.
Следовательно, и мать, и отец были обязаны перенести значительные страдания, лежа на полу своего дома в течение пяти дней на одном боку, затем пять дней — на другом боку и постясь все это время. Разновидностью этой практики, отмеченной Арриагой, было требование к родителям близнецов принять позу животных, то есть стоять на земле на четвереньках, в течение десяти дней.
Венцом ритуала искупления была охота на оленя со стороны родственников двойни, разговение его плотью, а затем процессия, в которой отец близнецов должен был нести шкуру и рога оленя. В течение всего обряда, который занимал около двадцати дней, по ночам поддерживался костер. После купания младенцев-близнецов в холодной воде — еще одной проверки на законность испытанием — глава рода по мужской линии, получавший имя Кон Чури после того, как ему доставался грозовой камень, официально спрашивал, какие грехи родителей привели к рождению двойни. Родители близнецов отвечали, что второй из младенцев являл собой восполнение богом молнии смерти предка, убитого молнией.
Так в отношении «лишнего» ребенка устанавливалось, что именно молния — а не какой-то взрослый мужчина — была его отцом, и тем самым утверждался статус «законнорожденности» второго из близнецов. Но даже при этом супружеской паре запрещалось вступать в половые отношения еще в течение целого года.
Основной темой ритуала было то, что действия, связанные с дурным сексуальным поведением, представляли опасность для норм существования айлью. Центральное место принесения в жертву оленя в этом ритуале предполагает, что олень некоторым образом представлял сексуальную вину. Олень, очевидно, символизировал «насильника» или «неверного супруга», чей дух привел к рождению двойни. Этот дух подлежал изгнанию.
В уарочирийском документе родственники супружеской пары, поймав требуемого живого оленя, приносят животное к дому, где этой паре предстояло находиться в течение десяти дней, и отводят ее туда, повторяя свое обвинение: «Это он сбил вас с толку, надругался над вами». «Смятение», внесенное оленем, было из рода сексуальных излишеств.
То же самое отношение между оленем, силой молнии, виной и искуплением выражено в майяском «Кусебе», книге предзнаменований конца шестнадцатого столетия, в которой «олень символизирует замену собою человека либо в качестве невиннойфдростой жертвы… либо в качестве воплощения греха»[76]. Здесь природное бедствие засухи, понимаемое так, что оскорбленный бог молнии отказывает в дожде, рассматривается как наказание за грех. Поэтому:
«…гром и/или молния, предвещающие дождь и плодородие, были… признаком того, что бог успокоился. Эту идею четко сформулировал комментатор Кодекса Ватикануса 3738: «…они умилостивили бы его [бога] этими жертвами
/то есть оленем]… после выполнения ими этих эпитимий в течение длительного времени над землей раздается громкий разрыв [гром]… дающий им понять, что наказание небес завершилось и что земля будет радоваться и плодоносить… они изображали грешника в качестве оленя».
Роль оленя как представителя греха, особенно греха сладострастия или излишней сексуальной активности, воплощается в природе характером воспроизводства оленя, а именно обычным рождением двойни, внушающим возможность многократного отцовства. И андский тарука (Hippocamelus antisiensus), и крошечный двухгодовалый олень, называемый льюйчу, обычно приносят двойню.
Ассоциации оленя с сексуальным грехом разъясняются в языке. Как первое животное, составлявшее добычу для ранних андских горных охотников, олень символизирует людей и образ жизни той эпохи. Поэтому в аймара имелся термин тарука аке, буквально «человек-олень», определяемый как «дикий, бессердечный человек, который не знает, как обращаться с деревенскими жителями. Как и в случае с бессердечными людьми Третьего Века у киче, а также с уничижительным описанием ларилари в Андах, здесь, похоже, снова налицо совпадение мифологий, идентифицирующее людей ранее культурного цикла с разновидностью животного, чьи повадки в природе воплощают отсутствие определенных цивилизованных норм, имеющих важное значение для айлью. Так, например, люди-олени, «помимо отсутствия сексуальных ограничений, не имели никакого понятия о том, как выращивать продовольственные культуры, что и выражено в термине тарука силью, буквально «крайне неумелый человек-олень» в смысле сажать картофель или маис, либо же слишком близкие или слишком далекие друг от друга». Человек, который охотится, подобно холостяку среди женщин, и который портит запасы семян, был атавизмом, и для него не было места в айлью.
«Люди-олени», стало быть, принадлежат к самому раннему пласту культуры, пласту охоты и собирательства, предшествующему появлению даже примитивного земледелия. Гуаман Пома в своем описании человеческого рода Первого Века в Андах определял, что эти люди жили в пещерах, носили одежду из веток и коры и обычно рождали близнецов, — замечательное свидетельство в свете крайней обеспокоенности, вызывавшейся этим событием в жизни айлью.
Нижеследующее обращение к языку подтверждает идентичность жертвенного оленя Первому Веку в андской мифологии. Слово илья, помимо обозначения «грозового камня», также означает «близнецов мужского пола» и «безоарный камень», то есть желудочный камень оленя и других жвачных. Арриага отмечал, что конопас — грозовые камни, хранимые как доказательство происхождения от молнии наследников мужского пола — часто были безоарными камнями. Таким образом, идеи об изначальном поколении рода человеческого изобиловали порождающей мужской энергией, символизируемой молнией и связанной с зоологическими знаниями о животных, составлявших главную добычу этих же самых охотников, представляли собой нить андских ассоциаций по отношению к происхождению по мужской линии. Чтобы айлью могла существовать, «олень» должен был быть принесен в жертву.
Андские народы, следовательно, поняли происхождение каждой ветви системы с двойным родством. От «людей оленей» и «людей-ягуаров» пришли как традиция, так и проблемы ведения происхождения по одной линии — или мужской, или женской. Эта информация, отраженная в языке, знаниях и ритуалах, содержалась в мифе Рассвете Века Виракочи у Титикаки в кардинальный момент истории. Что существовало прежде, хотя и признавалось как вклад элементарных моделей происхождения, отвергается как этически низшее из-за отсутствия «сердца».
Андский миф о сотворении непосредственно выражает сущность этих исторических фактов. В тот же самый момент, когда Виракоча создавал небесные светила, он также сотворил и земледельческие племена Анд. Посредством акцентирования этого двойного акта сотворения миф прямо подтверждает историчность данного события, не просто потому что так говорит миф, но потому что вся история отпечатана в самом языке космологического знания, которое уполномочило андские народы принять перспективу земледельческой цивилизации. Миф — сам по себе обучает.
Важно прояснить этот момент. Как показано в Приложении 3, мифы восточных Анд о ягуаре устанавливают положение солнц во время солнцестояний в звездах посредством упоминания «пещер» и «гор». Как и в диаграмме Пачакути Ямки, в которой Луна, декабрьское солнцестояние и весна (щели в преисподнюю) расположены на женской стороне диаграммы, и как в упомянутом выше представлении о появлении тотемов-первопредков андских племен из пещер (= щели в преисподнюю = царство предков), эти мифы о ягуаре помещают начало лунных ягуаров в пещеры. Наоборот, близнецы убегают, поднимаясь на гору, пересекая мост над «рекой».
Эта же связанная с появлением земледелия символика — предполагающая настройку календаря и знание религиозного учения, подразумеваемые в открытии путей к богам и предкам, — появляется также в великолепной стенографии в Мексике. В Науатле (ацтекское) термином для обозначения основной социальной единицы жизнедеятельности, земледельческой деревни, является алыпептль, буквально «гора, наполненная водой». Джоанна Брода отметила, что иероглифическим изображением этого слова является гора со штольнями и пещерой у ее подножия. Эта символика выражает одним понятием социополитическую категорию, которая является деревней и ее идеологическими основами в космовидении. [Курсив наш.]
«Космовидение», о котором она говорит, включает представление о том, что горы являются полыми сосудами, наполненными водой из подземных источников, — видение, в котором «пещеры были входом в это подземное царство, погруженное в воду. В то же самое время они считались местами происхождения…».
Кто знаком с андской цивилизацией, признает и другое соответствие. Хотя хронисты обычно определяли слово Титикака как «свинцовая скала или утес», слово шиши имеет и в кечуа, и в аймара второе значение: пума, или андский горный лев, чей унылый серый мех может объяснять его ассоциацию со свинцом. Так что Титикака означает также «утес льва», резюмирующий устной формулировкой мексиканский иероглиф (гора со штольнями и пещерой у ее подножия) «гора, наполненная водой», символизирующий земледельческую деревню. На «львином утесе» на восточной стороне Острова Солнца, где Виракоча сотворил «мир» и где инки создали святыню, вода течет дальше из черной стены утеса.
Миф о сотворении у Титикаки — это земной нуль, потому что здесь началось время. С внушающей благоговейный страх символической экономикой само слово Титикака составляет целый рассказ. Как и с мексиканской алътептль, «львиный утес» Титикаки, возвышающийся из вод озера, выражает рождение нового мира, так как именно из этих образов люди могли бы моделировать солнцестояния и вместе с тем стать хозяевами общества, календаря, земли и смысла самой человеческой истории.
Несомненно, что так же, как познание звезд должно было преобразить мир, так и это событие должно было навсегда изменить значение прошлого, потому что с появлением мер времени началось само прошлое. В той же мере, в какой прошлое представляло значительное поле для игры человеческого воображения, оно было преобразовано в своей сути событиями у озера Титикака. Реальность этой непредвиденной перспективы выражена в том факте, что прошлое теперь получает новое значение в чистом языке нового творения, каковым является технический язык мифологии.
Слышим ли мы о «людях-ягуарах», скитающихся по горам, или «людях-оленях», производящих близнецов[77] и камни для пращи, и решаемся ли мы или не решаемся гадать, какие из звезд некогда назывались ягуаром и оленем (Приложение 3), подвиги этих людей прошлого, их этические дефекты, против которых современность может теперь принимать свои собственные меры, — все это выражается в терминах широкой голографической идеи-формы, относительно которой эти более древние люди пребывали в полном неведении. Так сообщает нам андский миф о сотворении. Если можно ему верить, в последний раз мир стал свидетелем такого освещения примерно шесть тысячелетий тому в Старом Свете, когда солнца равноденствия «вошли» в Млечный Путь.
IV
В Старом Свете небесное отождествление Близнецов со звездами альфа и бета созвездия Близнецов было фактически повсеместным: это — ведические Левины, римские Кастор и Поллукс, еврейские «Братья» (Теомимы), арабские «Близнецы» (Джауза), аборигенские «Молодые Люди» (Турри и Уанджил), вавилонские «Великие Близнецы», финикийская «Пара Младенцев», египетская «Пара Газелей» и так далее. Часто тот или другой из Близнецов объявляется сыном молнии. Что касается Андам, та область неба, которая ассоциировалась с западными Близнецами в их пересечении с Млечным Путем, связана в андской мифологии с местом происхождения небесного огня.
Стало быть, не простого любопытства ради стоит обратить внимание на преобладание в Старом Свете ассоциации между звездной парой альфой и бетой Близнецов и элементами огня и молнии. В классической древности небесные Близнецы были особыми друзьями моряков, защищая их от электрических бурь и властвуя над электрическими явлениями — от молнии до огня святого Эльма. Знак Близнецов, согласно «Актам Апостолов», изображался на носу судна святого Павла, поскольку он намеревался обратить в свою веру Средиземноморье.
Военные ассоциации, так легко вызываемые в голове необузданными электрическими явлениями, вероятно, объясняют, почему спартанцы несли знамя Близнецов на войну. «К Близнецам взывали греки и римляне в войне, а также в шторм». Ведическая двойня звезд, воображаемая в виде всадников, обеспечивала, как считалось, защиту воинам и торговцам». Вероятно, что уязвимость арийских всадников голых степей по отношению к ударам молнии, как и уязвимость моряков в открытом море, тоже сыграла свою роль в этой ассоциации.
Попутно следует отметить, что тот же самый «культ удачи» для торговцев, связанный с небесными близнецами в представлениях Старого Света, присущ и понятию ильи в Андах, где, помимо значения «грозового камня» и «близнецов» и вхождения в корень слова для обозначения молнии, илья имеет также следующее определение:
Ильяйок руна [буквально «человек, который имеет илью»]. Богатый и удачливый человек, тот, кто имеет и защищает сокровище.
Ильяйок. Тот, кто быстро становится богатым и пользуется крупной удачей.
Часть обширного древнего контекста, внутри которого были сотканы знания об альфе и бете Близнецов, описал Дэвид Келли. В своей статье «Календарные Животные и Божества» Келли рассматривал сходства между календарными списками Евразии, Полинезии и Мезоамерики различных названий дней по системе двадцати восьми лунных фаз, связанных со звездным лунным месяцем. Признав, что древность и закрытый характер многих материалов делает окончательную интерпретацию всех этих взаимосвязей рискованной, Келли, тем не менее, заключил, что сходства достаточно постоянны, чтобы исключить вероятность их независимого изобретения.
«Некоторые из связей между майяскими и полинезийскими календарями, несомненно, освещают связи в других списках. Так, майяское название дня Чикчан перекликается с прото-полинезийским *Фило, а майяский Эб — с полинезийским Хуа. Чик означает «сворачиваться», а Чикчан — «свернувшаяся змея»; эб также означает «сворачиваться», что эквивалентно и ацтекскому дню малиналъи. Индусские фазы луны, которые я приравнял с малиналъи, управляются Сарпас, или змеями, а индусский эквивалент майяского Чик-чана, «свернувшаяся змея», управляется Асвинами, или близнецами, божественными исцелителями. *Фило, означающее «бечевку, нить», — это имя полинезийского бога воров, а мифология маори делает его братом-близнецом Хуа. На Самоа Фило — это имя, данное Кастору (одной из звезд созвездия Близнецов), а у маори Уиро (от *Фило) было именем планеты Меркурий. Греки применяли имя Аполлон и к планете Меркурий, и к звезде Кастор, в то время как римский Mercurius, бог воров, был также богом планеты Меркурий. Аль-Беруни дает значение шестой лунной фазы у арабов, двух звезд в Близнецах, как «наматывать и обвивать одну вещь вокруг другой».
Келли обратил внимание на группу идей, которые скапливаются вокруг слова *Фило, означая в различных сочетаниях «свернутый», Кастор (то есть альфа Близнецов), переплетенных змей, планету Меркурий и «нить». Тогда рассмотрим нижеследующие слова из кечуа и аймара, составленные корнем — илья:
Илья. Близнецы мужского пола.
Ильяуа. Нити, которыми закрепляется основа ткани и которыми она поднимается и опускается 'при тканий.
Ильяуа. Гребенка для нитей в ткачестве.
Ильяуи. Одомашненная змея с черной спиной и белым брюхом.
Кату илья. [Планете] Меркурий — Кату илья — даются полномочия в вопросах, имеющих отношение к торговцам, путешественникам и посланникам.
Оставляя в стороне предположение о том, что слово илья могло (так же, как испанское слово для обозначения нити, hilo, и английское «filament») быть родственным *Фило (в кечуа и аймара отсутствует звук ф), мотив «скрученной нити» явно фигурирует в логике андских представлений о близнецах. Прежде всего рождение близнецов мужского и женского пола считалось удачей. Очевидно, эта идея основывалась на представлении, что близнецы противоположного пола были проявлениями одного целого. Напротив, близнецы мужского пола внушали мысль о двойном отцовстве. Это говорит о том, что разнополые близнецы представляют «разгадываемое» существо, со всем громадным потенциалом андрогинии. По этой причине женщина из таких близнецов называлась ауа, что также составляет корень глагола «ткать», а ее брат — ильей, корень, как отмечалось выше, тоже связанный с ткачеством.
Мотив скрученной нити появляется в описании Авилы обрядов близнецов, в которых родители обязывались носить «скрученные воротнички» (collares torcidos), сделанные из черно-белой нити. (Заметьте, что, как указано выше, ильяуа означает и нить, используемую в ткачестве, и черно-белую змею.) В земледельческих обрядах плодородия зерновых в качестве символов плодородия выбирались картофелины или особые початки маиса. Маис с двойным початком или маис, в котором зерно вилось спиралью вокруг кочерыжки початка, пользовались особым предпочтением. Исполнялся также танец, называемый айриуайсара (сара означает маис). Согласно Ольгину, айриуа сара означает «два зерна маиса, сросшиеся вместе, или стебель маиса как с черными, так и с белыми початками». Любой вид спорта, имитировавший по своему характеру принципы космического гермафродитного равновесия, мыслился особенно удачным явлением.
Если требуется усилие воли, чтобы отделить сплетенных змей, по крайней мере на инкском гербе, от скрученных нитей этого узла ассоциаций, то вовсе неудивительно услышать намек на свойства Меркурия {ильяуа — черно-белая змея) в инкском храме Солнца, почитавшегося как кату илья, Меркурий, покровитель торговцев, посланников, путешественников и лекарей. В Старом Свете планета Меркурий достигла своего возвеличивания, или самой большой власти, в Доме Близнецов, в то время как в слабых отголосках мифа о близнецах в южных Андах мы узнаем, что Виракоча имел двух странствующих сыновей, один из которых был специалистом в медицинских травах. Как предупреждал Келли, возможность впасть в систематическую ошибку интерпретации высока. Но вопрос не в этом. Каким бы ни было значение отдельных связей между элементами, характер ассоциаций, распространенных повсеместно во всем мире, говорит об общем происхождении. Иначе следовало бы объявить эту гигантскую картину подсознательным выражением структур человеческого разума.
Чтобы завершить картину ассоциаций Старого Света, остается обратить внимание на связь небесной пары альфы и беты Близнецов с Сатурном, древним богом огня. Вкратце ее можно выразить посредством обращения к греческому мифу. Что Прометей похитил огонь у богов, это выражено в санскритском корне его имени, праманта, означающем вращение палочки для добывания огня (относившегося к мужскому роду). Как повествует нам сам Орфический гимн, Прометей — это Кронос/Сатурн. Посредством этой палочки для добывания огня, уподобленной прецессии (= вращению) оси небесной сферы (рукоятки мельницы, «находившейся во владении» Сатурна), была подожжена вся полоса Млечного Пути, когда весеннее равноденствие достигло Млечного Пути. В это время галактика подошла весьма близко к тому, чтобы стать истинным равноденственным колюром, большим кругом небесной сферы, соединяющим равноденствия через полюсы[78].
Войска Спарты маршировали под знаком Близнецов. Согласно Ричарду Хинкли Алену, «символ знака — II — считался всеми этрусско-римским написанием числа, но Зейферт полагает, что это копия эмблемы Богов-Близнецов у спартанцев, которую те несли с собой в бой». Какой бы точной ни была конфигурация символа, факт остается фактом, что спартанцам альфа и бета Близнецов «представлялись удивительным символом, называемым докана, двумя деревянными брусьями, соединенными коромыслом, который объяснялся как примитивное орудие для разжигания огня».
В Мексике, согласно монументальной хронике Саагуна, ацтеки наблюдали по вечерам за восходом трех звезд, которые, как они верили, приносят удачу. Две из этих звезд идентифицировались как «Кастор и Поллукс, то есть альфа и бета Близнецов. Именем этого созвездия было мамальуацтли, означающее «палочку для добывания огня»[79]. Некоторые современные исследователи решили, что Саагун, должно быть, ошибался на том основании, что небесная палочка для добывания огня должна выглядеть точно так же, как и реальная палочка. Тот, кто выступает против попыток увидеть «краба» в Раке или «деву» в Деве, мог уже давно заподозрить, либо что древние обладали гораздо более живым воображением, чем современные люди, либо что в наименовании созвездий может играть роль какой-то иной императив, чем точное правдоподобие. В данном случае достаточно спросить, где лучше применить ацтекскую палочку для добывания огня, как не в Огненной Реке, где остановились Близнецы молнии? (Для более глубокого рассмотрения происхождения и логики названия созвездия смотри Приложение 5.)
Как часто случалось с Близнецами и в Новом, и в Старом Свете, ацтекские Кастор и Поллукс получили созвучные имена, Йоальтекутли и Йакауитцтли, означающие соответственно «Владыка, Дедушка Ночи» и «Проводник колибри». У ацтеков колибри считались перевоплощением павших воинов. Родственным этим именам является название ацтекского божества, покровительствующего торговцам, Йакатекутли — «Владыка, который Направляет» — почитавшийся в виде самого огня: «В ночь перед отъездом каравана… они приносили в жертву птиц, куря фимиам, и бросали вырезанные из бумаги магические фигурки в огонь. По возвращении они устраивали общий пир, которым отмечали удачный результат похода».
В заключение, дабы читатель не подумал, будто связь между ацтекскими словами для обозначения их звезд Близнецов и именем Старого Бога огня, Йакатекутли, является простым фонетическим упражнением, следует указать; что Йакатекутли было также ацтекским названием планеты Сатурн.
Купеческая гильдия, почтека, чьи молитвы обращались к «Владыке, который Направляет»/Сатурну посредством огня, действительно нуждалась в защите в своих рискованных предприятиях. Купцы путешествовали, часто во мраке ночи, глубоко в тылу вражеской территории, не только ради торговли, но также для шпионажа. По причине снабжения ацтекского Императора разведывательными данными они удостаивались статуса почетных воинов. Таким образом, в обращении к своему божеству огня они молили об удаче и как торговцы, и как воины, что можно проследить, как отмечалось, и в Старом Свете, вернувшись к той же ведической паре звезд альфе и бете Близнецов, под которой, называемой уже доканой, или палочкой для добывания огня, спартанцы позже будут отправляться на войну.
V
Существует рассказ о том, как один человек спросил однажды у Пикассо, почему тот не рисовал вещи объективно, как они выглядели на самом деле. Пикассо сказал, что не понимает, и человек вытащил изображение своей жены из бумажника. «Смотрите, — сказал человек, — вот моя жена, и вот так она выглядит». Пикассо, как говорят, ответил: «Она довольно маленькая, не так ли? И плоская». Один из немногих андских мифов о Двойне, дошедших до нас через испанские хроники, миф каньяри в Эквадоре, дает возможность поупражняться в историческом восприятии глубины резкости изображаемого пространства. Эта история была зафиксирована Молиной, Кобо и Сармьенто де Гамбоа. В ней два молодых человека, братья Атаорупаги и Кусикайо, спасаются от потопа, уно пачакути, поднимаясь на очень высокую гору, которая, возвышаясь над водой, обеспечивает безопасное убежище. Когда наводнение кончается, они возвращаются в «небольшую хижину» (choza), где пытаются уберечь себя от голодной смерти. Они отыскивают для еды корни и травы или, по версии Сармьенто, предпринимают бесплодную попытку сажать семена. Однажды, возвращаясь в свою хижину после целого дня поисков пищи, братья обнаруживают выставленное для них изобилие еды и чичи (маисового пива). После того, как это продолжается «десять или двенадцать дней», братья решают спрятаться, чтобы попытаться увидеть своего благодетеля.
Два богато разодетые попугая, называемые гуакамайас, влетают в хижину и начинают готовить еду. Когда они снимают свои манты, они оказываются двумя красивыми женщинами, или попугаями с головами женщин. Они носят прическу и заплетают косы иначе, чем это до того дня делали женщины каньяри. Когда братья их насилуют, они улетают и не появляются несколько дней. Когда же они наконец возвращаются, чтобы кормить голодных братьев, парни завлекают их, успокаивают любовными словами и просят их (согласно версиям Кобо и Сармьенто) объяснить причину их щедрости. Женщины утверждают, что «Тиксивиракоча повелел им хранить эту тайну, оказав им помощь в момент нужды, чтобы они не умерли с голоду». Братья женятся на гуакамайас, и от этих браков происходит народ каньяри.
Миф дает астрономические рамки, во-первых, определяя, что речь идет об уно пачакути, или «пространстве-времени, опрокидываемом водой». Наличие горы привлекает внимание к июньскому солнцестоянию, и, как это традиционно для андской мифологии, весь колюр солнцестояния отождествляется здесь с именем горы, «Уакайньян», по версиям Молины и Кобо. Слово уакай, или иногда уакайуа, означает «вьючная лама», в то время как ньян есть слово для обозначения «пути» — как отмечалось выше, еще одно название Млечного Пути. Так что имя «лама-путь-гора» помещает временные рамки этой истории в границы Млечного Пути, — явление, начинающееся около 200 года до н. э. Далее, — специфика термина «вьючная лама» относится к той эпохе, когда лама не только была одомашнена, но использовалась для перевозки товаров.
Это словоупотребление предполагает, что братья, подобно людям Уанкарани, упоминавшимся выше, были полукочевыми скотоводами, потомками, происходившими по прямой линии от первых охотников. Археологические данные по Уанкарани показали, что местные люди вели торговлю с помощью караванов лам, но обладали лишь элементарными земледельческими навыками. Такое прочтение мифа каньяри подтверждается тем фактом, что братья изображаются как неспособные сажать растения. Как уже отмечалбсь, кечуанской идиомой для таких людей является тарука силью, «крайне неумелый человек-олень», означающее «неосведомленный о том, как сажать картофель или маис».
Что касается потока июньского солнцестояния в небесном порядке, то эту информацию самолично несут гуакамайас. Хотя Молина говорил, что гуакамаш — это испанское слово, оно в действительности — аравакское. Аравак-ское слово гуака (= уака)майа, в свою очередь, родственно майяскому слову уок, или гуок, используемому в «Пополь-Вухе» в качестве названия попугая, который, как зоологический науаль солнечного божества, спускается с зенита, чтобы понаблюдать игру в мяч. Слово уок — одно из самых древних и широко распространенных богословских терминов в Америке, встречающееся в Северной Америке в качестве имени Великого Духа или высшего божества Уакатанка; в качестве шести попугаев — гуок — по бокам площадки для игры в мяч в Копане; и в Андах в качестве уаки, термина для обозначения священных объектов, включая мифологических родовых первопредков, сотворенных у Титикаки Виракочей. Кобо отмечал, что он сам видел родословную уаку каньяри в Лиме, «маленький медный столбик с двумя попугаями наверху».
Аналогичным образом имя противостоящей потопу горы в версии Сармьенто связывается со священным попугаем-посланником Виракочи к потоку июньского солнцестояния Млечного Пути. Имя горы, данное Сармьенто, — «Гуасано», хотя ни одно слово в кечуа не начинается со звука — гуа. Чтобы произнести звук — гуа, как написано у Сармьенто, говорящие на кечуа должны предпослать ему короткое а, таким образом агуа или акуа. Акуа, написанное у Молины agua, «является кечуанским словом для обозначения «попугая».
Тогда, как показано, в андской мифологии формальная терминология, описывающая возможность обмена между богами и человечеством, связывает солнце июньского солнцестояния с Млечным Путем. Имя «Попугай-Гора» предполагает, что солнце июньского солнцестояния, как и его противоположность в декабрьское солнцестояние на «пути вьючной ламы», находилось в пределах Млечного Пути. Не только потому что, как посланники Виракочи, они ассоциируются с местопребыванием божества в анак пача, доступном через Млечный Путь, но также потому что, как птицы, попугаи летят, или «спускаются» сверху, давая голодающим братьям надежду на помощь от царства богов. Может быть также и то, что обращение к «десяти или двенадцати дням» последующего прибытия попугаев-женщин-посланниц Виракочи обозначает тот факт, что примерно в течение двенадцати дней подряд можно наблюдать гелиакический восход потока июньского солнцестояния Млечного Пути в контакте с землей[80].
Драма и характер божественной помощи, посланной Виракочей, сыграны во взаимодействии между братьями и женщинами-попугаями. Братья стремятся узнать об источнике их новых чудесных продовольственных культур.
«Однажды они спрятались, чтобы выследить того, кто им приносит еду. Наблюдая, они увидели, как две женщины каньяри приготовили провизию и поставили ее на привычное место. Когда они собирались уйти, мужчины попробовали захватить их, но они ускользнули от своих потенциальных захватчиков и убежали. Каньяри, осознав, что совершили ошибку, пристав к тем, кто сделал для них так много хорошего, опечалились и обратились с молитвой к Виракоче, прося прощения за свои грехи… Затем была дружба между женщинами и братьями каньяри, и один из них вступил в связь с одной из женщин… От них и происходят все нынешние каньяри».
Аналогичным образом, в версиях Молины и Кобо братья каньяри обращаются к женщинам-попугаям, которые в возмущении улетают.
Здесь изображается та социальная пропасть, которую предстояло перекрыть учению Виракочи. Мужчины, ведущие в высоких горах образ жизни скотоводов, живут одни в своей маленькой хижине. Когда они видят женщин, даже тех женщин, которые пришли им на помощь, они неспособны вести себя уважительно. Они изображаются как полные сексуального желания, свободного от каких-либо условностей. Такое поведение по отношению к женщинам айлью в настоящее время навлекло бы на нарушителей неизбежное наказание от рук мужчин-родственников этих женщин. Но эта история в том, как возникли айльюс у каньяри.
Женщины изображаются как мастерицы в окультуривании растений, что выражается богатым угощением, которое они предоставляют. Далее, из имени горы в версии Сармьенто — Гуасано — мы узнаем, что женщины искусны в изготовлении глиняной посуды, так как санъю означает «керамику». Тем не менее женщины также одиноки в своем собственном мире. Они не желают быть замеченными, что подразумевает, что вопрос о сексуальной доступности абсолютно не стоит. Для них считается неверным даже то, чтобы их видели в доме мужчин, с которыми они не связаны кровно.
В конечном счете братьям, устыдившимся своего прежнего поведения, удается в течение длительного периода ухаживания убедить женщин остаться с ними. Тем самым миф объясняет решающие слагающие вертикального архипелага — разведение животных и окультуривание растений, предписанные в качестве мастерства каждому полу, воплощающие таким образом системы родства по мужской и женской линиям с точки зрения связанной с каждым из полов экономической стратегии, — показывает несовместимость этих укладов жизни и в заключение примиряет конфликт от имени Виракочи, соединяя этих мужчин и женщин узами брака. Сформулированный в рамках астрономического знания, которое породило и земледельческий календарь, и религиозное мировоззрение айльюс, миф завершается, отождествляя себя с историей о том, как форма цивилизации айлью пришла к народу каньяри. Используя слова археолога Алана Колаты по отношению к гению
Тиауанакской цивилизации, от имени бога которой, Виракочи, появились гуакамайас, «социальная и физическая экологии земледелия и пастушества, хотя и состояли в потенциальном антагонизме, были загнаны в сети формулировкой ритуального календаря: ритмы обряда, земледельческие культуры и стада были поставлены в производственную синхронию».
Наконец, в этом мифе показан заслуженный вклад женщин — одомашненные культуры — в жизнь каньяри. Без них братья находились в страшных условиях. Тем не менее эти женщины желают связать свою судьбу с братьями, что предполагает, на сбалансированном языке андского образа мысли, что мужчины также имели что предложить. Но если искусство разведения животных было по крайней мере немного менее важно, чем продовольственные культуры, предполагая первичную роль андского мужчины как земледельца-мужа (= йана = «слуга»), то что же внесли братья в такое положение, что могло бы выровнять «престиж на игровом поле» в подготовке основ системы с двойным родством?
Ответ на этот вопрос заключен в значении имен братьев. Имя более молодого брата, Кусикайо, является достаточно уклончивым и означает «удача» или «благосостояние». Но имя старшего брата, Атаорупаги, — это совсем другой вопрос. В кечуа корень рупа означает «обжигающий жар». Слово атау означает «удача в войне, почестях, играх или финансах»[81].
Здесь, следовательно, миф о двух братьях, чьи подвиги осуществляются в прецессионный момент начала гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, — в точке, отмеченной в небе западным созвездием Близнецов[82]. В Старом Свете эти Близнецы ассоциируются с небесным огнем, удачей в войне и финансах, а планета Сатурн, точно так же, как и у ацтеков, связана с палочкой для добывания огня, удачей для торговцев и воинов и планетой Сатурн. В сознании каньяри братья, один из коих именуется «обжигающим жаром удачи в войне и финансах», спасаются с помощью бога Виракоча, хранителя небесного огня, «первобытного удара молнии», планеты Сатурн.
Согласно мифу каньяри, удар грома молнии этой колоссальной, внутренне последовательной идеи-формы пришел на землю в момент зарождения у каньяри земледельческой цивилизации. И об этом были оповещены эти скотоводы Виракочей с его трона в Тиауанако. Братья каньяри обладали всеми верительными грамотами, необходимыми для полного и достопочтенного участия в андской системе с двойным родством.
VI
По мнению Джона Хауленда, Раува, один из деканов по андской археологии, такую интерпретацию мифа о происхождении каньяри, должно быть, охарактеризовал бы как крайне наивную. Раув считает, что пан-андский миф о творении Виракочи у Титикаки был более поздним изобретением инков, «остроумным объяснением всех этих локальных мифов о происхождении», мифом, придуманным инками в качестве удобного теологического обоснования для утверждения имперского господства. Как будет показано в заключительных главах этой книги, я оказался бы в числе последних из тех, кто отрицал бы, что инки «муссировали» мифологическое наследие Анд в своих политических целях. Но оценка Раува появления андского мифа о сотворении не может быть оправдана тем фактом, что инки с очевидностью оказались умны. Скорее подход Раува выдает постоянное методологическое предубеждение против возможности динамической совокупности идей, оперирующих внутри широкой культурной сферы. Например, в «Происхождении Культа Творца у Инков» Раув заявил:
«Почти каждая деревня в Андах имела собственную такую же историю происхождения, как и ту, которую сообщали инки, описывая, как предки ныне живущих людей появились там из некоего холма, пещеры, скалы или источника. Упоминаемые в этих историях места происхождения назывались родовым понятием пакарина (буквально «способы происхождения») и стали важными местными святынями».
Нигде в этой статье Раув не пытался объяснить, как случилось, что «почти каждая деревня в Андах» имела похожий миф о происхождении. Единодушие местных мифов о происхождении — что каждое племя имело нечеловеческого гермафродитного мифологического главу рода, уаку, который появился в пакарине, и что пакарина учредила для каждого племени «акт» первобытного владения землей — однозначно дает понять, что намного раньше инков между тамошними племенами существовало общее мнение относительно того, как наилучшим образом можно создать земледельческое общество. Может быть, для этого согласия на столь пространных и суровых землях, как Анды от Эквадора до Чили, не требуется вовсе никакого начала? А если не из Титикаки, как утверждали андские народы, тогда откуда исходят эти идеи? Или их следует объяснять как «естественные»?
Раув упорно продолжал утверждать, что андский миф о сотворении должен был быть сформулирован недавно, доказывая, что Виракоча является кечуанским словом, и выдвигая как решающий свой аргумент то, что Тиауанако было «неизвестно инкам до правления Пачакути Инки Юпанки», то есть примерно до 1436 года. Может быть, он имел в виду, что инки, вследствие эндемического состояния вражды между племенами в то время, могли посещать Тиауанако только как завоеватели. Вполне возможно, что это правда. Однако совсем другое дело — утверждать, что жители южных Анд, такие как инки, жили в абсолютном неведении о легендарном Тиауанако (в отличие от европейцев девятнадцатого столетия, которые знали о пока еще не раскопанном Вавилоне), разве что весь рассказ был более поздним творением и народы жили, будто герметически запечатанные в интересы своих собственных долин.
Конечно, такая ситуация представляла бы идеальную лабораторию, чтобы поупражняться в сравнительном методе, и Раув не сомневался в этом. Он заявил, что теории диффузии составляют препятствие для «развития общих и сравнительных исследований в археологии… Предположения диффузионистов подрывают сами основы сравнительного изучения».
Патриция Лайон писала Рауву:
«Слишком просто для всех перуанистов было бы забыть, в каком долгу мы находимся перед этой прекрасной хронологией, и о том факте, что без нее мы бы оказались в той же самой лодке, как и большинство других археологов в Новом Свете, барахтающейся вокруг временных промежутков в 500 лет и более. Эта относительная хронология существует благодаря работам относительно малого числа людей, прежде всего работам Дороти Менцель, Джона X. Раува и Лоуренса Доусона…»
Эта хронология есть продукт археологической виртуозности, примененной к сравнительному методу; без этого не было бы доказано впечатляющее соответствие между датами, вложенными в технический язык мифологии, и археологическими данными. Эта ситуация — больше, чем ирония, и заслуживает дальнейшего пояснения. Сравнительный метод — это обоюдоострый меч, в том отношении, что он может как порождать, так и подавлять понимание прошлого. Чтобы понять, как возникла такая парадоксальная ситуация, необходимо понять, как и почему возник сравнительный метод[83].
Когда впервые сказочные города библейского и героического прошлого начали появляться в XIX столетии под лопатами археологов, всевозможные исторические теории — в том числе совершенно безумные — превратились в ничто. Между тем как, хотя бы в качестве расшифровки древних систем письменности, начали излагаться в деталях археологические данные Старого Света, оказалось подорвано значение всего поля антропологии, поскольку бессчетное множество «до-письменных» народов во всем мире угрожало разрушение и/ или ассимиляция в индустриализующемся мире. Поскольку природа не терпит пустоты, появились всевозможные спекуляции относительно реальных и мнимых образцов культурных сходств среди широко разбросанных народов — например, представление о хопи как о Потерянном Племени Израиля. Так как часы тикали, для профессиональных исследователей прошлого стало очевидно, что времени не оставалось ни для каких дел, кроме получения товаров. Не было потребности применять какую бы то ни было теорию. Таково было всеобщее понимание, которое отчасти объясняло возникновение сравнительного метода.
«Отгораживание стеной» от Америки в конце XIX и начале XX столетия становилось уже недостаточным для тех этнологов, которые стремились просто преуспеть в изучении местных народов, не шатаясь под грузом предвзятых понятий и теорий о значении явно похожих культурных и технологических черт из Старого Света. Теоретическим катализатором этого подхода стал немецкий ученый Адольф Бастиан, который разработал идею о «психическом единстве» человечества. Его аргумент состоял в том, что, в сущности, человеческая душа — одна и та же повсюду и, следовательно, рождает одни и те же «элементарные идеи» (Elementarge danken).
Эта идея разрубила Гордиев узел. Исчезло напряжение, сопровождавшее стремление понять сходство множества черт культуры в обществах Старого и Нового Света. Они явились результатом психического единства человечества, а не диффузии идей и технических приемов. Трудные вопросы, типа металлургии, например, насколько вероятным могло быть многократное независимое изобретение бронзы, когда любое отклонение примеси олова от требуемых одиннадцати процентов дает массу бесполезного медного сплава, — такие вопросы были помещены в обувной коробке на полку в туалете. Карл Юнг, кому Запад обязан наилучшим описанием характера и масштабов психического единства человечества, никогда не представлял себя историком технологии.
Именно Франц Боас (1858–1942) оказал решающее влияние на будущее американских этнологических исследований. Пройдя обучение в Германии в сотрудничестве с Бастианом, Боас в Колумбийском университете воспитал несколько поколений американских этнологов. Он учил их выполнять тяжелую работу по проведению тщательных исследований отдельных племен, не увлекаясь великими теоретическими схемами. Иначе слишком много информации, вероятно, оказалось бы незарегистрированной из-за теоретических «фильтров». Богатая этнографическая литература по аборигенам Северной Америки — это дань честности Боаса в настаивании на скромных целях. Сырье должно было быть собранным; вопросы диффузии могли бы прийти позже.
Но позже так и не настало, потому что природа не терпит пустоты. Требование держаться на расстоянии от спекулятивной интерпретации при героическом спасении быстро исчезавшей информации открыло путь для особой формы «мета-интерпретации», которая определяет антропологическое изучение и сегодня. Различные школы мысли объединились, чтобы породить эру «сравнительного изучения». Идея, лежавшая в основе этого метода, состояла в том, что, сравнивая этнографические описания различных групп, можно разрабатывать общие законы, объясняющие, как возникают и изменяются культуры. Сравнительное изучение, конечно, породило множество школ мысли — эволюционистские, марксистские, материалистические и так далее. Но пока все это продолжалось, никто, казалось, не обращал внимания, что теоретическое подкрепление, которое сделало возможным все это предприятие — понятие «психического единства» человечества, не подвергалось сомнению так долго, что успело взобраться на Олимп ортодоксальности. Список основных проблем для антропологии был уже составлен. «Изучение человечества» (anthropos logos) было совершенно неожиданно, по воле случая отрезано от истории. То, что начиналось как временная пауза в исторической интерпретации дописьменных культур, вылилось в нечто совершенно иное, в дисциплину с ожесточенным сопротивлением, граничащим с враждебностью, по отношению к исторической перспективе.
Ирония, скрытая в этой ситуации, заключается в том, что сравнительный метод позволил проникнуть в некоторые области человеческой природы, но в то же время предотвратил признание других, не менее ценных. Дело в том, что есть нечто неизбежно ошибочное в кросс-культурном сравнении. Антропологическая теория, например, доказывает свидетельствами аборигенов истоки патрилинейности и матрилинейности как в Центральной, так и в Южной Америке. Но если что и доказала бесспорно западная социальная наука, так это то, что всех нас обусловливает культура, в которой мы живем, — факт, который историк может игнорировать себе же во вред.
Как защитницы интерпретации «предыстории», антропология и археология оказали расхолаживающее воздействие на современное понимание человеческой природы, как она выражалась в человеческой истории. Археологи должны оперировать выводами из физических останков и, следовательно, ограничены описанием масштаба деятельности, чьи следы оставлены в физических объектах. Доказательство человеческой деятельности — экономической, социальной, политической, религиозной — рассматривается с местной точки зрения и связано с потребностью, чтобы само место выражало поддержание физического существования. Археология ограничена в интерпретации материала, она имеет тенденцию изображать «дописьменного» человека как преимущественно материалистического. Путешествия осуществлялись преимущественно ради торговли и так далее.
Антропология, испытывая воздействие от соприкосновения с точностью археологии, воздерживается от «ценностных суждений» об интеллектуальном содержании данной культуры. Это — проблема для историков. А там, где археология ограничена местностью, антропология «ограничена людьми», сосредотачиваясь на определенной группе и переходя на более широкое представление только при переходе на более высокий уровень абстракции в поиске законов происхождения культуры.
При таком подходе немногие формы человеческих начинаний, за исключением войн, считаются заслуживающими рассмотрения. С точки зрения этих дисциплин, любой культурный обмен на умеренном расстоянии представляет собой торговлю. Обмен на дальние расстояния, за пределами вероятности торговли, оставляемый без внимания, поскольку не создает никаких физических доказательств в земле, считается отсутствовавшим, за исключением таких случайностей, как выброс на берег штормом морского судна[84]. Короче говоря, по теоретическим соображениям «инерционная предрасположенность» антропологии и археологии, возникшая вместе со сравнительным методом, не может и наверняка не будет заниматься более высокими импульсами человеческой природы. Однако они остаются дисциплинами, которые сообщают нам, откуда «исторически» происходит наша человеческая природа. Жаль.
Во всех утомительных дебатах между диффузионистами и их более консервативными собратьями подтекстом обсуждаемых вопросов всегда выступает обмен. Исключая из этих рамок путешественника, романтика, мистика, изгнанника, искателя — поскольку такие личности по определению путешествуют налегке, обмениваясь только идеями и тем самым представляя вездесущую опасность загрязнения «стерильного поля» сравнительного изучения, — ограниченная местностью археология и ограниченная людьми антропология всегда будут называть романтиками самих диффузионистов. Они утверждают, что диффузионисты спроецировали свои собственные романтичные заблуждения на прошлое.
Диффузионисты, загнанные в ловушку профессиональных стандартов, столкнулись с трудностью в названии этого блефа. Их противники, с одной стороны, ловко уклоняются от обязательства доказывать противное (что значительные дальние межцивилизационные контакты не существовали), одновременно категорически настаивая на доказательствах, представляющих обмен идеями как фантазию, порожденную незнанием общеизвестного «психического единства» человечества. (Однако, повторимся, Юнг никогда не утверждал, что был историком науки.) Диффузионисты, осознавая, что навешивание им ярлыков «иррациональный и эмоциональный» является для них профессиональной смертью, воздерживаются от подчеркивания значения таких истинных качеств как двигателя диффузии. Торговля рациональна. Поиски — нет.
Но вернемся обратно к каньяри Эквадора. Миф о происхождении каньяри поднимает два вопроса: Первый вопрос обращен к современности и состоит в том, настолько ли непростительно спекулятивно видеть в этом мифе каньяри связи с культом Близнецов в мифологии Старого Света. Во-вторых, касаясь утверждения Раува о том, что пан-андский миф о Виракоче был недавним изобретением, — что может миф каньяри внести в этот вопрос?
Миф каньяри сообщает, что именно эмиссары Тиксе Виракочи в облике двух попугаев принесли каньяри искусство земледелия и учреждения брака. Здесь мы находим, как нашел бы и Раув, доказательство недавнего инкского наслоения мифа Титикаки на местный миф о происхождении каньяри. Все другие рассмотрения — в сторону. Существует очень простое историческое объяснение того, почему вывод Раува невероятен: индейцы каньяри ненавидели инков непримиримой и лютой ненавистью. Среди народов во всех Андах именно каньяри с наименьшей вероятностью могли принять — тем более сохранять после конкисты — «недавнюю инкскую фикцию», придуманную из имперских побуждений, но касающуюся их собственного происхождения.
За короткое столетнее господство инкские войска дважды вырезали цвет мужского населения каньяри. Первый раз, приблизительно пятьюдесятью годами раньше испанской конкисты, Инка Тупак Юпанки, расширяя инкские владения на Эквадор, приказал вырезать тысячи воинов каньяри, захваченных в сражении и отказавшихся сдаться. Их искалеченные тела швыряли в озеро, которое по сей день называется йауар коча, «кровавым озером».
Как раз перед появлением конкистадоров вспыхнула гражданская война между фракциями королевской семьи из Кито и Куско. Каньяри снова взялись за оружие, на этот раз против Атауальпы, который правил из Кито. Атауальпе удалось упрочить свои позиции, его войска разгромили каньяри, и те во второй раз были вырезаны без милосердия. Атауальпа распорядился убивать каждого мужчину в возрасте, пригодном для ношения оружия. Испанцы узнали об этих событиях, когда по своему обыкновению приказали, чтобы местные жители несли их груз. Они удивились, когда выполнять эту работу пришли женщины и дети каньяри. Где были мужчины? Женщины объяснили, что было всего несколько живых мужчин и что они были слишком драгоценны, чтобы нести груз.
Но когда возникла возможность отомстить инкам, мужчины каньяри уже не считались слишком драгоценными. Три тысячи воинов каньяри присоединились к испанцам, когда в 1534 году те отправились на разграбление Кито. Позже, в 1572 году, когда последняя остававшаяся угроза контролю-над Перу заключалась в личности беглого императора Инки,
Тупака Амару, воины каньяри еще раз сопровождали испанцев и доставили императора с гор.
Вице-король Толедо решил, что оставление на троне марионеточного Инки принесет не столько пользу, сколько угрозу короне, и приказал казнить Тупака Амару. Индейское и испанское население, одинаково ошеломленное и опечаленное безжалостным решением вице-короля, наблюдало в молчаливой муке за казнью Тупака Амару:
«Затем Инка получил утешение от отцов, которые были возле него, и, попрощавшись со всеми, положил свою голову на плаху, подобно ягненку. Тогда подошел… палач. Он завязал ему глаза, и, взявшись за волосы своей левой рукой, одним ударом абордажной сабли отрубил голову и высоко поднял ее, чтобы все видели. Когда голова была отрублена, зазвонили церковные колокола…»
Среди горя и слез, которые затем изливались из пораженной толпы очевидцев, по крайней мере один человек оставался равнодушным: индеец каньяри, палач, который высоко держал голову последнего императора.
VII
Если история каньяри, рассматриваемая как миф о происхождении, никак не вписывается в «самые основы сравнительного изучения», то ее значение как мифа о Близнецах снискало большую благосклонность. С одной стороны, этот рассказ подразумевает, что и далеко на севере, в Эквадоре, андские народы были склонны подтвердить важность для своей жизни событий, которые происходили в Боливии более чем двумя тысячелетиями ранее. С другой — он, похоже, несет отражение культа Близнецов, чья эмблема предназначалась для создания нимба защиты.
Авторитетный и решающий голос в этом вопросе принадлежит самим индейским народам Анд. Этот материал находился среди инструкций Арриаги искоренителям, и перед ним бледнеет всякое теоретическое обоснование. После описания обрядов близнецов и связанного с ними ритуалом оленя Арриага объяснил, почему необходимо запретить любому новорожденному индейцу креститься под именами Сантьяго или Диего:
«Что касается имени Сантьяго [Святого Иакова], то они [местные крестьяне] также имеют поверье и обыкновение давать это имя одному из мальчиков-близнецов, которых они считают сыновьями Молнии, — титул, который они любили применять к Сантьяго. Я не понимаю, что могло бы значить имя Боанергес, которое Наш Владыка Христос дал Апостолу Сантьяго и его брату Хуану [Святому Иоанну], когда он именовал их Ударами Молнии (Kayos,), что, согласно еврейской фразе, означает «сыновья грома»; я не понимаю также, с какой стати это словоупотребление должно было распространиться здесь или почему среди мальчиков в Испании существуют бабьи сплетни, что, когда гремит гром, то это скачет лошадь Сантьяго, или почему испанцы в сражениях на войне, когда желали разрядить свои аркебузы — которые индейцы называют Ильяпа, или молния, — находили подобающим прежде выкрикивать «Сантьяго! Сантьяго!» Во всяком случае, индейцы с великим суеверием берут себе имя Сантьяго, и таким образом среди инструкций, оставленных Священниками-Виситадорами после их инспекции, есть инструкция, устанавливающая, что никто [то есть ни один индеец] не должен именоваться Сантьяго или Диего [Иаковом]».
Свободные от ограничений сравнительного метода, индейские народы Анд осуществили свой собственный анализ культа Близнецов в Старом Свете, как он отражен в Святой Библии, и, найдя его полностью соответствующим их собственным представлениям по данному вопросу, наполнили этот сосуд своими собственными убеждениями. Это был тот сосуд, которые священники Инквизиции решили уничтожить в Перу.
Христос именовал Иакова и Иоанна — братьев, которые были сыновьями человека по имени Зеведей, — «Боанергеш». Это имя происходит от еврейского бенерегеш, буквально «сыновья грома». Если в своем раздражении от появления опасного культа Арриага пренебрег еще одним фактом — одним из тех, которые он, конечно же, знал и который должен рассеять всякие сомнения относительно подлинного участия библейских «сыновей грома» в «утраченной» системе менталитета древнего прошлого, — его, конечно, можно простить.
Во всяком случае, рассматриваемый факт знаком каждому испанскому школьнику. Путь, по которому громыхает конь Святого Иакова, — это Млечный Путь, известный в Испании как Camino de Santiago[85].
Как никакой другой документ, этот отрывок ясно показывает паралич антропологического метода перед лицом неудобного материала. Вот уже почти столетие профессиональные исследователи прошлого человечества по соображениям методологии имеют инструкцию занимать по отношению к материалу такого рода во многом ту же позицию, что и Арриага, которая должна выражаться в умышленном невежестве и ассоциируемом с ним побуждении к подавлению. Если обозначение Иакова и Иоанна (которые оказались братьями) как «сыновей грома» и определение местоположения Млечного Пути как огороженной территории, где они могли бы развлекаться, представляют собой в случае андской культуры пример «психического единства человечества» — одну из тех «элементарных идей», которые «естественно» появляются то здесь, то там, — тогда работы бесчисленного множества добросовестных ученых будут по-прежнему лежать нечитанными еще одним поколением (порождением) «стажеров». Одна из таких работ — это работа Рендела Харриса, чье исследование в-1913 году феноменологии знаний о Близнецах побудило его сделать несколько замечаний по адресу странной оценки Арриаги:
«Интересно заметить, что, когда перуанцы, о которых говорит Арриага, стали христианами, они заменили имя Сына Грома, данное одному из близнецов, именем Сантьяго, усвоив от своих испанских учителей, что Св. Иаков и Св. Иоанн были названы Сыновьями Грома нашим Владыкой, — фраза, которую эти перуанские индейцы, кажется, поняли, в то время как великие толкователи христианской церкви пропустили это значение… Другая любопытная и в какой-то мере также передаваемая Марковым языком [то есть Евангелием от Св. Марка] история в фольклоре людей, отдаленных от нас и во времени, и в пространстве… обнаруживается даже сегодня у датчан. Кроме стандартных кремневых осей и долота, которые обычно во всем мире сходят за посланцев грома, датчане считают окаменелых морских ежей грозовыми камнями и дают им особое имя. Такие камни именуются в Саллинге, зебедэй-камнями или з'беадэй; в Северном Саллинге они называются зепадейе-камнями. В Норбэке, в районе Выборга, крестьянство зовет их камнями Зеведея!.. Имя, которое дают этим грозовым камням, следовательно, очень хорошо установлено, и кажется вполне определенным, что оно получено от упоминания сыновей Зеведея в Евангелии как сыновей грома. Датский крестьянин, как и перуанский дикарь, сразу узнал, что подразумевалось под Боанергесом, и назвал его грозовым камнем после его святого покровителя».
Андский культ Близнецов, связывая представления о Близнецах с огнем, Млечным Путем, грозовыми камнями и их происхождением от Тиксе Ильи Виракочи/Сатурна, делает невозможным уклонение от еще одного аспекта присутствия технического языка мифологии в Андах: этот метаязык должен был внедриться сюда откуда-то из другого места и должен был внедриться в целостном виде. Андский. миф о сотворении представляет эту контрольную точку в андской истории, вменяя всем предыдущим векам статус относительного невежества, прелюдии.
Мифология и Анд, и Мезоамерики предпринимает великие усилия, чтобы подчеркнуть фундаментальное значение мужчин, взявшихся за труд земледельца, в формировании земледельческой цивилизации. Сама по себе археология не может окончательно заявить, что появление доказательства массового внедрения мужского труда в помощь земледелию — типа того, что произошло в целом в Андах около 200 года до н. э., — представляет собой нарушение векового психологического барьера, удерживавшего мужчин от участия в культивировании растений. С другой стороны, ввиду утверждений в мифологии о существовании барьера, его нарушении и времени этого нарушения (приблизительно 200 год до н. э.), а также ввиду подтверждения этой даты археологическими данными следует спросить, не является ли андская мифология, помимо прочих вещей, довольно достоверной историей.
Этот вопрос важен не просто из-за того, что можно было бы усвоить об Андском прошлом, если бы андский миф о сотворении оказался «достоверным». Этот вопрос следует также рассматривать с местной точки зрения, где есть все основания утверждать, что андский миф о сотворении понимался как достоверный. Мне кажется, что одна из причин такого положения должна быть связана с характером возникновения реализованной в мифе системы мысли. Если она произошла из ничего, то она должна была прийти, подобно грому среди ясного неба, реорганизуя и перестраивая все образы мысли в новое и ошеломляющее изображение природы человеческой действительности. До этого момента, как утверждает сам миф, все было «мраком».
Вероятность этой системы мысли лежит в его способности блестяще объективировать новые нормы социального строя по отношению к небесному порядку. Этот порядок, прежде воспринимавшийся несовершенным образом, мог быть преподан так, чтобы индивидуальные мужчины и женщины смогли увидеть для себя более высокий порядок интеллекта, содержащегося в учении. Одно замечательное доказательство этого утверждения заключается в том, что по сей день, как откровенно показала работа Уртона в Андах, андские крестьяне — мужчины и женщины в равной мере — несут в своем сознании обширные и практические знания о небе в их применении к земледелию.
Эта система мышления распространилась, согласно мифу, с юго-востока на северо-запад, принесенная богом Виракочей, а в некоторых версиях — его помощниками. Не каждый археолог придерживается жесткой линии Раува по отношению к значению мифологии. По выражению Уильяма Исбелла, «много что указывает на поддержание контактов между Тиауанако и горной местностью севера Перу в скульптуре, архитектуре и, возможно, иконографии, в течение Раннего Горизонта и Раннего Промежуточного Периода»[86].
Парадигматическая оценка этого распространения в Андах выражена в мифе о сотворении посредством встречи Виракочи с враждебными сельскими жителями в Каче — традиционная разделительная линия между южными Андами и бассейном Титикаки. Здесь Виракоча, опираясь только на моральный авторитет, стремится распространить учение о новом образе жизни, учрежденном на юге. Когда, подвергнувшись угрозам, Виракоча вызывает огонь с небес, который должен говорить о власти небесной — самой системе идей, которые он пытается распространять, то люди оказываются» побежденными, испытав благоговейный страх перед величием того, что случилось. И если современная археологическая мысль верна в определении роли экологических кризисов в событиях, ведших к созданию айльюс, тогда самоочевидная мудрость принятия динамической новой системы добывания пропитания должна рассматриваться как центральный элемент в «авторитете» Виракочи, беспрецедентное единство слова и дела.
Этими способами как миф, так и археология привлекают внимание к бассейну Титикаки в годы, непосредственно предшествующие 200 году до н. э. Именно в это время и в этом месте произошло событие огромной созидательной силы, событие, которое навсегда преобразовало горную местность. Потому что индейское воспоминание об этом событии — сотворении солнца, луны и звезд Виракочей на «Львином Утесе» — было сформулировано в самой терминологии, чье возникновение она и была призвана увековечить, авторитет мифа был неопровержим. Без идей, отраженных в этой истории, андское земледельческое общество было бы не только немыслимо, но и осталось бы буквально не зачатым.
Возможно, важнее всего то, что, помимо многих уровней интеллектуальной виртуозности, миф передает глубокую тоску людей по обустройству человеческого общества на объективных — что означает священных — нормах. Беспрецедентный экономический успех вертикальных архипелагов, который последовал за просвещением у Титикаки в 200 году до н. э., мог бы служить лишь расширению могущественной власти мифа в воображении людей. По этим причинам андский миф о сотворении был и останется достоверным. Как мы теперь увидим, именно из этого мифа и из содержащегося в нем космологического учения все будущие претенденты на «правление» в Андах будут пытаться выводить свои собственные претензии на легитимность.
ГЛАВА 8
ВЕК ВОИНОВ
Кружась и кружась по расширяющейся спирали, Сокол не может слышать сокольничего; Дела разваливаются, центр не может удержаться,
Чистая анархия распространяется по миру, Поток потемневшей крови разливается, и повсюду
Обряд невиновности утоплен,
У лучших нет никаких убеждений, в то время как худшие
Полны страстной энергии.
I
Некоторые вещи не имеют линейного объяснения. Согласно наиболее доступной археологической информации, крупномасштабная, организованная война первоначально пришла в Анды около 650 года н. э. с возникновением в Центральных Андах государства, известного как Уари. Также в 650 году н. э. два одновременных и чрезвычайно редких астрономических явления — одно планетарное, а другое прецессионное — совпали, чтобы оставить неизгладимый след в андском сознании. Как паке виракоча пришел к своему концу на земле, так и подтверждение этой страшной истины разыгралось в небе. Андская мифология называет год — и даже часы, между сумраком и рассветом, ведущим к восходу солнца июньского солнцестояния — когда весь мир был разрушен «потопом». Виракоча на исходе своего господства должен был отправиться с земли на свой небесный трон во Млечном Пути — вход к нему, как это виделось в холодном свете наступавшего рассвета, теперь захлопнулся безвозвратно. Тем временем на земле Андская Сьерра оказалась под властью надменного, светского и жестокого государства.
Никогда не сталкивавшийся с астрологией, лично я не имел никакого понятия, что делать с этим специфическим совпадением. Этот ощущение тупика внушило мне мысль (описанную в конце главы 5), что мое исследование завершено. Я обнаружил в андской мифологии утверждения, устанавливающие связь между важным событием, очевидным также и по археологическим данным, и астрономическим событием космологического значения. Так что андские народы тщательно рассматривали астрологию — достаточно тщательно, чтобы помнить о потопе через девять сотен лет, перед конкистой. Что еще здесь говорить?
Но, выйдя из длинного отступления в область познания происхождения — ягуара и молнии, я вскоре должен был испытать явно нелинейный «удар» в своем размышлении. Подозревая долгое время, что мифы о потопе были так или иначе связаны с фундаментальной перестройкой андского общества, имевшего различия между классом крестьян и классом «воинов» — очевидное в этноисторических летописях со времени конкисты, я начал исследовать самый доступный источник, мифы Уарочири, ища сведения о происхождении этой классовой дифференциации в Андах. Я надеялся узнать что-либо о появлении воинов — которые, в отличие от крестьянства, должны были иметь определеннее представления о своей собственной родословной — и этим более точно объяснить, почему потоп 650 года н. э. был настолько важен для андского сознания. Здесь я случайно натолкнулся на одну новую мысль, значение которой я понял не сразу: мифологическим первопредком составителей уарочирийских мифов, похоже, была планета Марс. Когда я наконец постиг смысл этой формулировки, она сразу же выделилась как один из наиболее значительных фактов, которые мне еще предстояло изучить об андском мышлении.
Важность этого осознания не предполагала какого-то нового понимания андской астрономии. Оно также не вытекало в первую очередь из последовательной логики ассоциации этой планеты с войной как в Старом, так и в Новом Свете. Скорее его воздействие должно было относиться к пониманию того, что некоторые из величайших актов насилия, совершаемого в те времена, были в самом характере мифа. Век Войны, возвещенный начинавшимися около 650 года н. э. событиями, навсегда изменит андское общество, и первым в этом изменении будет сам миф.
Цель этой главы состоит в том, чтобы исследовать характер «потопа» 650 года и его неизгладимое воздействие на андские космологические представления. Десять лет прошло с тех пор, как я написал первый вариант этой главы. С того времени о возвышении государства Уари было издано множество новых археологических материалов. Этот материал, резюмируемый в следующем разделе, оставляет мало сомнений в вопросе о том, почему, с точки зрения андского крестьянства, внезапное возникновение Уари запомнилось как катаклизм.
Чего не могут, однако, объяснить археологические данные, так это роль идей в таком изменении. Как справедливо заметил археолог Уильям Исбелл, «…хотя археология хорошо экипирована для того, чтобы иметь дело с весьма различными временами, она плохо экипирована, чтобы иметь дело с человеческими идеями — уровнем, на котором существуют структурные модели. В отличие от истории, которая состоит прежде всего из идей, зарегистрированных людьми о своем времени, археология извлекает лишь останки деятельного поведения».
Хотя теперь имеется мало сомнений в том, что Уари представляло собой осуществление откровенно агрессивного поведения, до сих пор невозможно было проследить в полной мере те изменения, которые произошли в андской мысли как результат опыта Уари.
Остальная часть данной главы посвящена поэтому анализу изменений в космологических представлениях, выраженных в уарочирийских мифах. Этот анализ имеет синергическое отношение к археологическим данным в том смысле, как они освещают и освещались недавно изданными результатами, касающимися возвышения и падения государства Уари.
Наконец, поскольку теперь можно получить точные даты из самих мифов, смею утверждать, что мифы Уарочири в одном весьма важном отношении уникальны. Они представляют, по моему разумению, единственный сохранившийся во всемирной литературе документ, ведущий хронику всего психологического процесса, которому подверглось общество, впервые столкнувшееся с возникновением институционализированной войны. Как я попытаюсь показать, этот опыт изменил не только социальный порядок в Андах, но также связи между людьми и их мифами. Именно это последнее изменение, в полной мере отраженное в уарочирийских мифах, будет продолжать сказываться на развитии андского опыта все последующие столетия и решающим образом способствовать формированию Инкской империи. История начинается, стало быть, с археологии «потопа».
II
Археологическое местоположение Уари находится в, центральных Андах, вблизи современного Аякучо, на высоких долинах междугорий между восточной и западной Кордильерами Анд и между пампой Рио-де-Жанейро и системами каналов реки Мантаро. Уари расположено примерно в сотне воздушных миль от центрального района Уарочири.
Многие годы археологи предполагали, что раскопки на месте Уари помогут извлечь из земли доказательства более ранних государственных образований, доказательства развития, предшествовавшего государству Уари. Исбелл отмечал, однако, что, хотя это может звучать «невероятно», но фактически в Уари нет археологических доказательств, которые бы указывали на истоки централизованного государства. До событий, которые начались около 600 года н. э.[87], там нет никаких доказательств социального класса, правительственных закромов для складирования уплачивавшейся работниками дани, бюрократических учреждений, централизованных церемониальных центров, системы ведения летописи или оборонных структур.
Напротив, археологические данные в Уари показывают
«предшествующее состояние экономики вертикальных архипелагов, которую Мурра определял как уникальную андскую модель организации и эксплуатации ресурсов… Принципиальной особенностью этой системы было наличие этнической столицы с исключительными ресурсами в прилегающей к ней области, чьи жители использовали также ресурсы более отдаленных зон… Так или иначе продукты из ресурсов различных районов были объединены и перераспределялись внутри каждой этнической группы без территориальной организации или обязательных полномочий государственной администрации».
Здесь, следовательно, археология выступает в поддержку мифа. Век Виракочи — начинающийся с появления «огненной реки» в 200 году до н. э. и завершающийся «потопом» 650 года н. э. — базировался на принципе безгосударственной, бесклассовой кооперации между разными этническими группами. В конце Раннего Промежуточного периода (около 600 года н. э.) долина Аякучо, похоже, все еще находилась в пределах временных и этических границ Века Виракочи.
Обмен между долиной Аякучо и ее «более отдаленными сырьевыми районами был основан на давних контактах с областью Наска-Ика-Паракас на южном побережье Перу. Люди области Аякучо стали искусными строителями террас на крутых, маргинальных землях. В условиях безгосударственности, при экономике вертикальных архипелагов колонисты из Аякучо использовали эту технологию для создания сельхозугодий на неиспользуемых склонах над прибрежными поселениями долины Ика и развивали сеть обмена ресурсами с прибрежными жителями.
Следовательно, около 600 года н. э. колонисты из Аякучо вступили в вооруженный конфликт с колонистами плато, участвовавшими в сети обмена ресурсов Тиауанако в соседней долине Мокегуа. Вероятно, предпосылки для конфликта были заложены в период длительной засухи. Ледяные ядра, собранные на леднике Келькайя (расположенном приблизительно на полпути между бассейном Куско и Тиауанако), указывают на то, что между 562 и 594 годами н. э. серьезная засуха охватывала всю андскую горную местность.
Примерно до 600 года эта засуха в сочетании со скачком в численности населения создала, согласно Уильяму Исбеллу, атмосферу, в которой «конфликт должен был разрастаться, угрожая прежней неиерархической системе управления полным крушением»[88]. Люди Уари, очевидно, отреагировав на восприятие угрозы своим землям и традиционной сети обмена ресурсов в. области Ика-Наска-Паракас, разграбили и сровняли с землей практически все тиауанакские структуры в долине Мокегуа и быстро укрепили свои позиции, построив неприступную крепость на высоте, господствующей над плато, известном как Серро Бауль[89].
Последствия этого события обнаружены в археологических данных как в Тиауанако, так и в Уари. К 600 году н. э. руководство Тиауанако в течение столетий занималось расширением своего влияния на сети обмена ресурсов, находившихся далеко от бассейна Титикаки. Приблизительно с 400 года н. э. большая часть этой деятельности была направлена на запад, юг и восток. Похоже, что политический контроль Тиауанако никогда не распространялся дальше к северу, чем границы бассейна Титикаки. Но Тиауанако распространял сильное культурное влияние довольно далеко на север, даже в долину Куско, вплоть до самого вторжения туда Уари. Влияние Тиауанако достигалось посредством не войны, а скорее его престижа. Согласно археологу Алану Колате, лидеры Тиауанако «ощущали потребность установления союзов с местными поселениями и внушения чувства лояльности и идентификации с престижем и властью государства»[90].
Наиболее притягательным аспектом престижа Тиауанако был великий комплекс архитектурных памятников в его городском центре, и это был тот комплекс, который подвергся радикальной перемене около 600 года н. э. Украшением священного города Тиауанако была Акапана, ступенчатая с плоской вершиной пирамида, с которой каскадами лилась вода. Это была «гора, наполненная водой», искусственная репродукция священного утеса в Титикаке (рисунок 8.5 и Приложение 4).
Около 600 года н. э., одновременно с упадком в Мокегуа, эта выдающаяся земледельческая святыня была «развенчана» и уступила место сформировавшемуся классу воинов. Дренажная система, позволявшая воде стекать вниз через семь уровней горы-храма, была заблокирована. Одновременно с этим событием, двадцать одно тело, в большинстве своем тела мужчин в возрасте от семнадцати до тридцати девяти лет, было захоронено у подножия Акапаны. Восемнадцать были обезглавлены. У нескольких не было также рук и/или ног. Вся эта группа была, похоже, захоронена вместе со «страшным пожертвованием… из сотен прекрасно разрисованных сосудов… разбитых на тысячи осколков», которые обнаруживали один и тот же «постоянный, стандартизированный мотив: они были разрисованы полосами, изображавшими в виде трофеев человеческие головы».[Курсив наш.] Эти же мотивы, содержащие также зооморфические предметы, найдены на разбитых вдребезги подношениях из глиняной посуды той же эпохи в месте расположения Уари».
Колата видел в этих событиях проявление важного эпизода «военного завоевания… преобразующее событие в истории Тиауанако, в ходе которого к власти приходит новый вид элиты, воины». Но есть и другая возможная интерпретация, которая, по моему разумению, выглядит более состоятельной. Все факты указывают на то, что тёократы — жрецы-астрономы, чей титул, капака, определял их функции — никогда не утрачивали свою власть в Тиауанако. Как подчеркивает и сам Колата, Тиауанако никогда не содержало постоянного войска и никогда не использовало военную силу как основное средство содействия своему влиянию[91].
Я бы предположил, что к 600 году н. э. капакас Тиауанако оказались перед беспрецедентной ситуацией. Приученные в течение столетий к постоянному расширению сферы влияния, основанному на привлекательности их идеологии, они теперь должны были, притом впервые, увидеть ограничения этому расширению. Я предположил бы, что чудовищное и нетипичное кровопролитие в Акапане около 600 года н. э. было признаком военного поражения в Мокегуа и что трупы с отрубленными головами и ногами в Акапане были пленные Уари, захваченные силами Тиауанако, отступавшими от дымящихся руин Мокегуа. Уступая Акапану новому классу воинов, жрецы-астрономы отразили один простой факт: впервые у Тиауанако появилась граница, которую требовалось защитить. Те, кто будут защищать ее, достигнут нового статуса, сообразующегося с этой новой ответственностью.
Прежде, чем исследовать сведения, касающиеся идентичности этого класса воинов, необходимо сначала обратиться к событиям, одновременно разворачивавшимся в Уари. После победы у Мокегуа Уари приступило к амбициозной программе строительства в своих собственных городских центрах. До этого времени в бассейне Аякучо не было никакой традиции в строительстве из камня и никаких крупных церимониаль-но-городских центров. Однако около 600 года н. э. в Уари был создан полуподземный храм, похожий по проекту и идентичный каменному строению в Тиауанако. Уильям Исбелл предположил, что этот храм строился или пленниками с плато, захваченными у Мокегуа, или каменщиками, присланными непосредственно из Тиауанако в качестве дани. Это строительство положило начало фазе интенсивного обмена между областями Аякучо и Тиауанако, проявляющего в одновременном появлении нового стиля керамической посуды в обеих областях. Согласно Исбеллу, иконографические мотивы этого общего стиля представляют «новые идеи относительно космической структуры и человеческой организации». И что это были за мотивы? Изображения профилей «жертвоприносителя», трофейных голов и отрубленных рук и костей ног.
Загадочный обмен между Уари и Тиауанако продолжался приблизительно пятьдесят лет. Уари, похоже, страстно жаждало узнать тиауанакские «торговые секреты» государственного строительства. Со своей стороны, Тиауанако, возможно, надеялось приобрести в Уари союзника, который открыл бы всю северную Сьерру для его караванов лам. С другой стороны, возможно также, что теократическое руководство Тиауанако имело незначительный контроль над этим обменом. Росписи на новой керамике были изображениями новой «религии», осуществлявшейся как бы параллельно с традициями Тиауанако: культом устрашения, основанным на угрозе отсечения головы и конечностей. Иными словами, возможно также, что общие керамические стили Тиауанако и Уари того времени были предупредительными выстрелами, производившимися с каждой стороны из луков нарождающегося класса воинов каждой области.
Во всяком случае, за каких-то пятьдесят лет Уари выработало полностью независимый курс. Около 650 года н. э. полуподземный храм в Уари был завершен, и на нем было возведено новое сооружение в новом стиле, который впоследствии стая отличать архитектуру Уари. Одновременно Уари воздвигло в том же стиле огромный комплекс сооружений, покрывший двадцать пять гектаров приблизительно в 150 милях к югу, на южной оконечности долины Куско. В этом месте, называвшемся Пикильякта, была создана сеть гарнизонов и были укреплены все пять входов в долину со стороны плато к югу.
Уари создало еще один такой же внушительный комплекс в 450 милях к северу, в Виракочапампе, господствовавшей над всеми северными торговыми путями вплоть до Эквадора. В целом Уари создало по крайней мере одиннадцать комплексов сооружений между долиной Куско и долиной Кахамарка, далеко на севере. Два самых южных комплекса — Пикильякта и Серро Бауль — были надежно защищены от Тиауанако, гарнизоны на севере насчитывали меньше войск. Специалисты расходятся во взглядах на характер северных застав Уари. Некоторые рассматривают экспансию Уари на север как пример межрегиональной кооперации и адаптивной эволюции (стремящихся заимствовать новые идеи, то есть высокогорное строительство террас на крутых склонах), в то время как другие полагают, что Уари использовало силу или как минимум устрашение в установлении контроля над главными дорогами между севером и югом Перу.
В то самое время, когда Уари начало прокладывать свой собственный независимый курс, как показывает его амбициозное строительство застав, другой одинаково независимый и весьма значительный отход от тиауанакского влияния выразился в сфере керамической иконографии. Анита Кук показала, что, в то время как Тиауанако продолжало представлять свои религиозные идеи, изображая на керамике сверхъестественные объекты, керамические изделия Уари отличались изображением персон действующих членов недавно сформировавшегося правящего класса. Этот стиль, характерный для влияния Уари, изображал персональных владык иконами, подобными иконам Тиауанако, в том числе Бога Ворот и «жертвоприносителя», рассказывавшими об их персонах (рисунок 8.1). Впервые за пределами бассейна Титикаки и способом, радикально отличавшимся от стиля теократии Тиауанако[92], Уари создало в нагорье правящий класс, освобожденный от обычных людских занятий.
Экспансия Уари была рассчитанной. В той мере, в какой Уари попыталось подражать мистике духовной власти, присущей капакас Тиауанако, это стремление опиралось на культ устрашения, основанный после принятия трофейных голов. Лидеры Уари прокладывали путь к власти иным маршрутом, нежели жрецы-астрономы плато. В действительности Уари, как заключали многие исследователи, было продуктом своего времени, весьма светским государством, занимавшимся контролем над сетями обмена ресурсами без видимой заинтересованности в соразмерных взаимных обязательствах[93]. Правители Уари были заинтересованы прежде всего в приобретении предметов роскоши и демонстрировали мощь для достижения этой цели. Они стремились установить новые критерии для руководства, основанные на создании социального класса, чьим первостепенным «духовным» качеством была готовность применять силу.
В соответствии с этой перспективой, Уари создало и другой новый институт — трудовую повинность.
«Администраторы Уари преобразовали систему экономики вертикальных архипелагов, основанную на взаимном обмене между равными единицами, в сбор доходов государством. Сущность новой системы состояла в получении не столько продуктов, сколько труда, и маскировке принудительного труда в пользу государства со всеми внешними атрибутами традиционного, взаимного обмена трудом».
Уари наложило на своих подданных ряд повинностей. Например, для создания государственного земельного фонда использовался бесплатный труд населения в строительстве террас для производства маиса. В ряде случаев целые деревни отстраивались заново на более низких высотах, специально для того, чтобы принуждать местных жителей отвечать привилегированной в Уари модели эксплуатации ресурсов. Уари также использовало трудовую повинность в возведении центров по производству предметов роскоши из металлов, драгоценных камней, текстиля, раковин и керамики.
Заинтересованность Уари в расширении торговли предметами роскоши играла существенную роль в формировании социального класса. На север Уари вывозило «обсидиан, керамику и, возможно, ляпис-лазурь». С севера же привозили посуду из Кахамарки и раковины Spondylus из Эквадора. Значение этих товаров для нового правящего класса Уари отражено в появлении впервые, начиная примерно с 650 года н. э., элитарных похорон, связывается с изобилием предметов роскоши. В элитных домах Уари было также извлечено в ходе раскопок большое количество подпольных сейфов для хранения драгоценных предметов.
Изображения на керамике нового правящего класса Уари (рисунок 8.1) показывают существенное противоречие в разгар экспансии Уари: правители Уари окружали себя иконографией — и соответственно мистикой — религии Виракочи, изменяя при этом существо его учения. В Андах этнические, племенные единицы не были равными партнерами во взаимном обмене. Новый, восходящий класс людей руководил организацией не только ресурсов, но также и труда.
Характер и идентичность этого нового класса, поддерживавшего иконографию силы, объясняет, далее, динамика экспансии Уари. Анита Кук не так давно показала, что новые керамические мотивы, появившиеся одновременно в Тиауанако и Уари и содержавшие изображения трофейных голов, «жертвоприносителя», ведущего на привязи ламу, а также отрубленных рук и костей ног, представляют собой возрождение более древнего стиля, связанного с городом Пукара на севере бассейна Титикаки.
Пукара, процветавшая примерно с 200 года до н. э. приблизительно до 200 года н. э., являлась конкурирующим с Тиауанако государственным образованием. Отношения между этими двумя городами, похоже, простирались от интенсивной конкуренции до открытой враждебности. Известная Стела Молнии, найденная в Тиауанако, как показало исследование Серхио Чавеса, была снята со своего фундамента в Арапе (находившейся тогда под контролем Пукары) и отвезена за девяносто миль плотом через озеро Титикаку в Тиауанако. До своего полного исчезновения в IV столетии Пукара, похоже, была главным, а возможно, и единственным серьезным конкурентом Тиауанако в бассейне Титикаки.
Керамическая иконография Пукары, особенно «жертвоприноситель» (рисунок 8.2), объясняет характер ее культуры. Ранние пукарские рисунки изображают его ведущим ламу на привязи, которую он держит левой рукой, а посох — в правой. Эта фигура иногда носит воротник, изображающий крошечные трофейные головы. Иными словами, как утверждала Кук, народ Пукары идентифицировал себя как пастухов-кочевников. В отличие от своих аналогов, каньяри Эквадора, которые, по их собственным оценкам, с благодарностью приняли эмиссаров Виракочи (= влияние Тиауанако), пастухи Пукары, очевидно, не имели никакого стремления отказываться от своего старого образа жизни. Источник конфликта между Пукарой и Тиауанако, должно быть, заключался в стремлении последнего к распространению земледельческой цивилизации, в которой пастушество неизбежно играло бы вторичную, подсобную роль. Как отмечал Колата, правители Тиауанако «в действительности привели в гармонию потенциально разрушительную конкуренцию между земледельцем и скотоводом посредством точной синхронизации производственных стратегий, решения территориальных споров и перераспределения самых разных продуктов труда обоих этих видов профессиональной деятельности». В Тиауанако пастухам указывали, где и когда пасти животных[94].
Возрождение в начале VII столетия пукарских иконографических мотивов не только указывает на то, что практика войны вновь стала престижной, но и тождественна самим войнам. Практика забивания лам пастухами для того, чтобы умилостивить богов, прекрасно отражена в андской литературе. Класс воинов исходил из традиции кочевых пастухов, которые уподобляли отсечение голов в качестве трофеев ритуальному забою лам. Далее, искусство владения оружием у пастухов (болой и пращой), их привычка к крови из-за вечной резни животных и традиции дальних путешествий — мобильность — превосходно подходили для ведения войны.
Из этого следует также, что, поскольку экспансия Уари определялась намерением правителей производить и обменивать предметы роскоши, то наибольшие непосредственные выгоды от этой торговли извлекали бы владельцы караванов лам, которыми являлись кочевые пастухи. Следовательно, по моему мнению, решающий фактор в увеличении могущества Уари заключался в использовании культуры кочевого пастушества для создания светского государства, благоприятствовавшего элитарному классу, который, в свою очередь, старался восстановить и наделить большими возможностями древний пастушеский этос, поддерживающий» новую «религию», основанную на проведении террора и устрашения.
Культ головы-трофея встречается не только в самом Уари, но и на окраинах его юрисдикции, от черепов и множества костей Пикильякта до посыпанного обсидианом фундамента «храма» Серро Амару в Уари, недалеко от Виракочапам-пы, ворот к северной торговле[95]. Содержание этого послания было простым: тот, кто противостоял Уари в сражении, рисковал быть захваченным и затем принесенным в жертву, разделанным обсидиановым ножом точно так же, как жертвенная лама. Рисунок 8.3 показывает изображение Гуаманом Помой одной из фаз традиционного жертвоприношения ламы. В весьма реальном смысле Уари представляло собой оборотную сторону Тиауанако, возрождение его древнего противника, Пукары. К 650 году н. э. в неведомом прежде масштабе из бутылки появился некий уродливый джинн.
Нигде этот пугающий аспект культуры Уари не проявлялся столь очевидно, как в его особой архитектуре. Этот стиль так отличался от стиля Тиауанако, что «оба они казались почти реакцией друг на друга». Архитектура Тиауанако была открытой, величественной и, как правило, занимала объемное пространство. Она предназначалась для того, чтобы ее созерцали, а прежде всего — понимали. К VII столетию наиболее отличительной особенностью тиауанакской архитектуры было развитие архитрав — резных ворот, открывавшихся между крупными архитектурными пространствами, через которые могли бы входить участники ритуала, простые люди. Тиауанакская архитектура была открытой, не обносилась стеной и отделялась от светского мира только рвом, который составлял скорее концептуальный, чем визуальный, барьер между священным и мирским. Тиауанако приглашало к участию.
Напротив, архитектурный стиль Уари был светским, проявляя одержимое стремление к власти, богатству, управлению, элитарности и устрашению. Уильям Исбелл описывал архитектурный стиль Уари как «прямоугольный», то есть основанный на постоянном использовании прямых углов. Сооружения, возводившиеся в самом Уари и в отдаленных областях, типа Пикильякты, строились в значительной мере как обнесенные стенами города. Со стороны нельзя было понять, что происходило внутри. Доступ был ограничен чрезвычайно узкими воротами, которые сами соединялись с обнесенными стеной дорогами. Внутри человек оказывался в строго геометрическом лабиринте пересечения узких «проходов», составляемых стенками бесчисленных внутренних перегородок. Через определенные промежутки такие проходы перекрывались более узкие воротами, еще более ограничивавшими движение внутри.
Эти города как будто навязывались земле сверху, — набрасывая прямоугольную сетку на естественный ландшафт земли. Археологи все еще не определились в вопросе о том, как можно было передвигаться внутри из одного квартала в другой и не потеряться. Внутренние стенки были лишены архитектурных деталей и иконографических изображений. Перемещаясь по этим улицам, невозможно было понять, каким образом пространство, по которому шагаешь, соприкасалось с внешней топографией. Все выглядело одинаковым. Каждое соединение имело узкий вход с «улицы». Каждое соединение само было лабиринтом прямоугольных комнат, со строго ограниченными внутренними переходами между пространствами. Архитектурные творения Уари были монументами, призванными управлять.
Кроме того, в этой системе строительства отсутствовало всякое обращение к горизонту. Не было никаких монументальных ворот, а лишь несколько дверей. Не было никаких видов.
Возможно, правители Уари, которые навязывали эти сети месту за местом, имели намерение разорвать древнюю андскую связь между землей и небом. Возможно, эти строения создавались специально для того, чтобы объявить земледельческим народам Анд, что власть, которой они некогда облекли религиозное учение Виракочи, перешла к живым полубогам, правителям Уари.
Для археологов наиболее удивительным аспектом этих административных центров было то, что их бесконечные внутренние помещения использовались не как склады. До недавнего времени было принято считать, что такие помещения были обязательно нежилыми и использовались для хранения товаров, подлежащих перевозке в другие места. Это предположение казалось естественным, поскольку нам известно, что позже инки содержали крупные склады продовольствия по всей своей империи. Целью таких инкских складов было следить за тем, чтобы ни одной области империи, независимо от ее удаленности, никогда не угрожал голод. Инки, иными словами, понимали свои взаимные обязательства.
Но не это было целью сотоподобных помещений, внутренних огороженных территорий в Уари. Помимо жилья высшего административного класса, помещения в городах занимали люди трех сортов: воины, чернорабочие, привлеченные для строительства самих городов, и ремесленники. Эти города были сочетанием гарнизонов, фабрик, строительных про-' ектов и спальных бараков для привлеченных к отбыванию трудовой повинности. Кошмарные внутренние узкие проходы говорят о наличии у администраторов Уари стремления контролировать движение и расположение буквально каждого чернорабочего, рекрутированного для отработок.
«Сообщения… о том, что часто повторяющиеся комнаты сотоподобной формы, найденные в городских планах Уари, использовались не под склады, производит некий шок. Всемирная история человечества не знает более такой невероятно строгой регламентации планирования и строительства. Если эти пространства предназначались не под склады, а скорее для людей, тогда нам важно восстановить не только планы городов, но также, насколько это возможно, условия существования людей. Чтобы выявить эти условия в наиболее плотно занятых секторах, мы должны рассмотреть (1) очевидное отсутствие адекватной канализации, (2) отсутствие внутригородских садов, (3) отсутствие внутригородского водоснабжения, (4) отсутствие всякой видимой коммуникации между «сотами», (5) строго контролируемый доступ и (6) неизбежное содержание человеческих выделений.
Эти многочисленные «сотовые» отделения в планировке городов империи Уари источают атмосферу тюрьмы или концентрационного лагеря».
III
К 850 году н. э. город Уари был покинут. Во многих городах, включая Виракочапампу, Пикильякту и само Уари, амбициозные строительные проекты так никогда и не были завершены. Государство распалось на несколько воюющих племенных союзов. От бассейна Титикаки до северо-централь-ной Сьерры вид поседений изменился. Теперь это стали удобные для обороны деревни на вершинах гор. Многие из этих поселений были разделены на половины, предполагающие учреждение того, что в антропологии называется сословным делением или делением на группы, разделяемые по классовым линиям. Кроме того, появление в это время элитарных похорон в бассейне Титикаки предполагает возникновение классовых различий. Примерно к 1000 году н. э. само Тиауанако было оставлено, вероятно, в результате длительной засухи, которая была связана с характером ветра Эль Ниньо и воздействовала на всю Сьерру. Новый скачок в приросте населения, похоже, дополнительно способствовал увековечиванию конфликта. С падением Уари и закатом Тиауанако в горной местности не строились города вплоть до основания Куско. К концу этого периода (известного в археологии под названием Поздний Промежуточный), согласно Эдварду Лэннингу, «мы получаем картину многочисленных мелких племенных групп, вовлеченных в постоянную междоусобицу и менявших союзников в зависимости от конкретного случая». Гуаман Пома упоминает эту эпоху как эру войны, отличительным типом строений которой была крепость на вершине горы (рисунок 8.4).
Этноисторические данные добавляют важный штрих к этой картине. Многочисленные источники испанского колониального периода свидетельствуют о существовании деления общин нагорья на понятийные части. Далее, источники проясняют, что это сословное деление основывалось на принципах значительно древнее инкской экспансии. Два вида фактов из испанской колониальной летописи относятся к этой универсальной андской модели. Один источник упоминает волну притязаний на землю, выдвигавшихся различными этническими населениями и обосновывавшихся ситуацией перед установлением недавно разрушенной Инкской империи. Другой исходил из «искоренения», которому подвергли всю Сьерру клерикалы, обученные такими, как Авила и Арриага.
Как Арриага, так и Эрнандес Принсипе, например, записали названия этих сословий. Низшее, или южное, — сословие называлось лъякта, в то время как высшее, или северное, было известно как лъякуа, или лъячуа. Термин лъякта или льяктайок, означающий «деревню» или «деревенского жителя», относился к той части общины, которая была «родом из этой деревне, как й все их предки, о которых не сохранилось воспоминаний, чтобы они происходили извне, а льякуас они называют тех, кто, хотя и родился в той деревне, имели предков и прародителей, происходивших из других мест. И поэтому во многих местах в айльюс сохраняется это различие…» [Курсив наш.]
Аналогичным образом в своем исследовании материала, записанного Эрнандесом Принсипе, Зуидема показал, что в основе этих сословных различий лежит завоевание в какую-то отдаленную пору пришельцами древних держателей этой земли, льяктас.
Кроме того, Ирэн Силверблат показала, что инкские символические обозначения отношений между мужчинами и женщинами, происходившими от «иерархии завоевания», были учреждены намного раньше прихода инков к власти. Сущность этого иерархического строя коренится в различии между завоевателем и побежденным с точки зрения пола. В этой схеме «низший класс», или льяктас, коренные обитатели этих земель, назывался «женским», а «класс» завоевателей из каких-то других мест назывался «мужским».
Анализ Силверблат приводит нас, притом впервые, к центральной теме этой главы, к глубоким изменениям в андской космологической мысли, произошедшим под воздействием возникновения войны. Здесь следует подчеркнуть четыре пункта. Во-первых, «мужская» самоидентичность завоевателей предполагает, что они были кочевыми пастухами, приученными вести происхождение по мужской линии.
Этот вывод подтверждается другими данными — буквальным значением самоназвания, принятого высшим сословием: льякуа. Это — слово из кечуа для ритуального жертвоприношения лам. Высшие сословия, сословия воинов, являлись «жертвоприносителями лам», а «ламами» в этой ситуации были коренные жители, собственно земледельцы. «Обыкновенные люди», или лъяктас, в области, описанной Эрнандесом Принсипе, вели — как отмечалось повсюду и в других группах — общую родословную от мифологической ламы. «Низший класс людей… по причине общего происхождения идентифицировался с ламами, а люди высшего класса как завоеватели — с жертвоприносителями лам». Здесь, стало быть, этноисторическая запись проясняет, что этос войны — чьей существенной характеристикой было уподобление принесения в жертву захваченных воинов ритуальному жертвоприношению (лья-куар) лам — не умер вместе с Уари, а скорее повсюду в Андах укоренился в основополагающих структурах местной деревенской жизни.
В-третьих, важно признать, что этноисторические данные дают в некотором смысле картину результата падения Уари, а этот результат получает более четкое акцентирование, чем ближе он отстоит от тех лет, которые непосредственно предшествуют возвышению инков. Один из важных аспектов этого был описан Ирэн Силверблат, которая выяснила, что установившаяся сословная система представляла собой разновидность равновесия. Даже если связь между сословиями выражалась как иерархия завоевания, отвечавшая исторической действительности завоевания в некую отдаленную эпоху, возникавшая в результате система была такой, в которой классы крестьян и воинов жили в относительной гармонии и стабильности на своих собственных, общих землях:
«Это подчеркивает, что иерархия завоевания в том виде, в каком она применяется на локальном уровне, была прежде всего иерархией по престижу, классификации. Внутри локальной политической организации, айлью, [называемые] льякуас по своему положению не имели никаких прерогатив на труд или производственные ресурсы льяктас. Каждая айлью была автономна в отношении религиозных функционеров и культа предков».
Менее ясно то, каким образом это специфическое равновесие весьма защищенных (и находившихся под угрозой) на локальном уровне автономных областей развивалось в результате падения Уари. Первые признаки распространения модели укреплений и сословных делений возникали по археологическим данным около 1000 года н. э., даты, отмечающей начало Позднего Промежуточного периода. Одна из наименее известных эпох в андских археологических данных — это период между падением Уари примерно в 850 году н. э. и появлением полтора столетия спустя моделей, говорящих о начале становления сословных делений[96]. Любопытно, как мы сейчас увидим, что именно этот «потерянный» период стоит в центре большинства уарочирийских мифов.
Наконец, в этих повсеместных оценках древней эры завоевания повсюду в андской Сьерре присутствует своего рода историческая традиция. Как мы уже видели, местные хронисты, такие как Гуаман Пома и Пачакути Ямки, использовали мифологическую терминологию миров-веков, чтобы отличить эпоху войны от той, которую она сменила, от эпохи мира. Когда местные народы стали впредь заявлять претензии на землю или когда искоренители искали способы разрушить местные «культы», одна и та же информация повторялась многократно. В некоторых местах коренные держатели земли, льяктас, выдвинули другой термин для идентификации себя и своих древних прав на землю: уари. Как рассматривалось в главе 6, уари — это слово из аймара для обозначения способа добывания продовольствия, отличающего возникновение земледельческого айлью.
Кроме того, как показывает работа Лоренсо Уэртаса Вальехоса, эта историческая традиция также содержала упоминание событий, восходивших к самим истокам автохтонных народов, задолго до прихода воинов. Особенно важной является информация из Куско, Аякучо, Кахатамбо, Кальехона де Уайлас и других мест складывания коренных (земледельческих) народов, восходящего непосредственно к озеру Титикака. Согласно этим традициям, «Уари» были расой белых бородатых гигантов, которые были созданы у озера Титикака, откуда они начали распространять цивилизацию в Андах. Именно эти существа, согласно документам из Кахатамбо (удивительно похожим на мифы Уарочири), «возводили стены сухой кладки» и научили людей строить ирригационные каналы. Этим послаццам Титикаки было доверено создать строй андского общества. Те, кто усвоил эту школу, приняли имя Уари. Таким образом, крохи информации из испанской юридической и инквизиторской летописи указывают на существование всеандской доколумбовой исторической традиции, идеи, которую только недавно начали оценивать ученые[97].
Знаменательно, что упоминание этой традиции согласуется с археологическими данными, которые указывают на своего рода обмен — скорее на уровне идей, чем торговли, — между бассейном Титикаки и андской Сьеррой вплоть до Эквадора на севере, начало которого можно датировать V столетием до Рождества Христова. Мифы каньяри сообщают ту же самую историю. Нигде эта традиция не выражалась в такой полноте, как в самом полном собрании андских мифов — собрании Уарочири.
Первые четыре главы этих повестей касаются событий весьма древних времен, до войны. Первая глава, подобно мифу о происхождении у Титикаки, начинается с эпохи тьмы, когда «Черный Ньямка и Ночной Ньямка» были правящими уаками. Основным вопросом главы является, однако, описание тяжелых условий, в которых родоначальное божество воинов пришло к власти в эпоху жестокости и голода. Последующие события в прошлом представляются как беспорядочные воспоминания. Хотя упоминается Виракоча, рассказчики не уверены в том, появился ли он до или после Париакаки, родоначального божества воинов. Однако позже в тексте рассказчик возвращается к пояснению этого вопроса, устанавливая, что Виракоча был отцом — то есть старше — Париакаки.
Во второй главе уарочирийского свода пересказываются традиции, относящиеся к эпохе «давних, давних времен», еще до появления бога Париакаки. Эта глава посвящена подвигам Виракочи, которому приписываются два благих деяния. Во-первых, он «сотворил все деревни. Одним лишь словом он создал все поля и отделал террасы стенами прекрасной кладки. Что касается ирригационных каналов, он провел их от источников одним броском тростникового цветка, называемого пупуна».
Иными словами, текст содержит традицию льякта/уари, связывающую возникновение автохтонных земледельцев с божеством-творцом Титикаки. Далее, как упоминалось в главе 6 настоящего издания, это описание деяний бога перекликается с характеристикой в майяском мифе способности земледельческого бога делать работу чудодейственным образом, без усилий.
Другой подвиг Виракочи, описанный во второй главе уарочирийских мифов, также имеет прямые аналоги в Ме-зоамерике. Здесь Виракоча влюбляется в прекрасную деву, «женскую уаку» по имени Кауй Льяка, и оплодотворяет ее посредством плода, который он опылил. Аналогичным образом в «Пополь-Вухе» девственница Шкик оказывается беременной Солнцем и Луной после оплодотворения необыкновенным плодом, представляющим головы Семи Ахпу, мужского небесного начала (глава 6 данной книги). Обе истории указывают на конец эры примитивного огородничества, парадигматической ситуацией которой являются муки девы, прародительницы цикла женской линии, при рождении нового, земледельческого мира.
В уарочирийском сказании дева Кауй Льяка бежит от Виракочи а западном направлении (направлении смерти), чтобы в конечном счете окаменеть вместе со своей дочерью в виде двух островов, покрытых гуано — источником плодородия земли, в Тихом океане, вблизи святыни Пачакамак. Преследуя ее, Виракоча все время спрашивает по пути у каждого встречного животного, куда скрылась его возлюбленная. Полезные животные вознаграждаются; бесполезные наказываются. Эти награды и наказания создают поведение, характерное для каждого вида и оцениваемое с точки зрения их относительной полезности или пагубности для земледелия. Так, вторая глава уарочирийских мифов утверждает, что и конец мира с родством по женской линии, и начало земледелия были результатом вмешательства Виракочи. (Наоборот, в других мифологических традициях, где старые обычаи пастушеского кочевого образа жизни уступают место учению Тиауанако — как с оставшимися без средств братьями кань-яри на «Горе Вьючной Ламы» — именно посредством женского облика божества, представленного гуакамайас, происходит трансформация.)
Последними сказаниями об этих «очень древних» временах в Уарочири являются третьи и четвертые главы, описывающие катаклизм, которым завершился Век Виракочи. Глава три — пересказывающая миф о ламе, лисе и потопе и восходящая к 650 году н. э. — несколькими путями обращается как к традиционной религии Виракочи, так и к ослаблению этой традиции во время «потопа». Сначала пастух, рассерженный робостью своих животных, бьет одно из них маисовым початком и тем самым показывает свою причастность не только к пастушеским ресурсам, но и к примитивной обработке земель в долинах нагорья, где произрастает маис. Затем смешение времен явственно улавливается в том же образе земледельца, бьющего своих животных маисовым початком и называющего их «собаками». Этим действием — использованием священной культуры маиса как оружия — крестьянин нарушает основополагающие нормы поведения, дающего ему возможность обращаться к жрецу. В равной мере, сердясь и осыпая ударами ламу, он ставит под угрозу признаваемый по всей горной местности Анд изначальный договор между человеком и животным, по которому ламы согласились служить человеку, только если с ними не будут дурно обращаться. Тем не менее, несмотря на эти прегрешения, крестьянин в конечном счете осознает их, внемлет лшсо/шаману и принимает меры, необходимые для спасения. Это последнее действие говорит также о Веке Виракочи, когда руководство основывалось не на силе или обмане, а принадлежало жрецу-астроному, который мог отдавать распоряжения лишь в силу обладания высшим знанием.
Аналогичным образом версия Молины о потопе в том виде, как она была поведана в Анкасмарке, также проясняет, что главные действующие лица мифа — это крестьяне. В ней говорится, что у человека было шесть детей. У киче-майя, среди которых нормой считалось происхождение по мужской линии, шесть сыновей представлялось идеальным числом. У Молины идеал — это «шесть сыновей и дочерей», важная деталь, лишний раз доказывающая искренность андского представления о равной ценности мужчин и женщин и о приверженности рассказчиков этой повести системе с двойным родством.
С различной смесью чувств очень краткая четвертая глава из историй Уарочири в последний раз возвращается к катаклизму, обрушившемуся на андское крестьянство:
В древние времена солнце умерло.
Из-за его смерти ночь продолжалась пять дней.
Скалы гремели друг о друга.
Ступы и каменные жернова начали поедать людей.
Самцы лам стали перевозить людей.
«Смерть солнца» (термин, логика которого в русле технического языка мифа будет подробно рассматриваться в следующей главе) была инкским термином для обозначения пачакути, то есть события, отмечающего конец мира-века. Здесь буквальный смысл пачакути — «опрокидывание пространства-времени» — находит свой риторический аналог в возникновении основополагающих слагаемых жизни айлъю. Это сказание имеет также своего двойника в майяском мифе. Сами средства добывания пищи с помощью земледелия, как и одомашненные животные, позволяющие наладить обмен ресурсами, возникли для того, чтобы поглотить прежний образ жизни. Великая мельница, само время, изображаемое как обмолот самими горами, вылилось в андское крестьянство[98].
В четвертой главе повествование об «очень древних временах» завершается. Теперь рассказчики обращаются к своему собственному наследию и к рождению своего родоначального божества, Париакаки, бога войны. Чтобы осознать фундаментальные изменения в андской космологической мысли, описанные в следующих главах уарочирийской рукописи, необходимо понять прежде всего, как эти главы соотносятся также с контекстом, в котором происходили эти изменения. Как мы теперь увидим, уарочирийские мифы дают самое четкое и самое полное представление индейцев о воздействии на один народ экспансии, падения и последствий эксперимента Уари.
IV
Люди из Уарочири, рассказывавшие о своем прошлом священнику Авиле, были потомками кочевых пастухов. Их история, которой начинается пятая глава, — это описание того, как они спустились вниз со своей горной цитадели, чтобы вытеснить то, что считали развращенным образом жизни, и утвердить скорее для себя, чем для этих пришельцев со стороны, использование в первую очередь под земледелие земель, занятых с незапамятных времен местным крестьянством, либо слишком слабым, либо слишком легковерным, чтобы отразить угрозу со стороны недавних пришельцев извне.
Первыми словами уарочирийского собрания, использованными в качестве предисловия к мифам, были:
«Я объясняю здесь жизнь предков людей Уаро Чери, которые произойти от единого первопредка… От деревни к деревне здесь описывается, как они жили со времени своего происхождения до сего дня».
Этому утверждению о происхождении по мужской линии соответствовал и заголовок, который рассказчики дали своему духовенству: льякуас, или «жертвоприносители лам».
Благодаря в значительной степени работе Марии Роство-ровски де Кансеко этническая идентичность рассказчиков уарочирийских мифов установлена. Ими являлись яуйо, которые изначально были пастухами, некогда заняли «высокогорные тундры у истоков реки Каньете», а позже посредством завоевания установили контроль над земледельческими ресурсами в центре района, описанного в уарочирийском тексте.
Эта область находится на западном, выходящем в сторону моря склоне Анд. Доступ ко всей этой области — истоков рек Каньете, Мала, Лурин и Римак, каждая из которых течет на запад к Тихому океану — обеспечивает единственный высокогорный проход. Как в инкские, так и в испанские колониальные времена основной маршрут от южных и южно-центральных Анд до центрального Тихоокеанского побережья пролегал через этот проход, где инки высекли ступени в скале по бокам высокой вулканической горы, называемой Париакакой. Париакака была также именем военного божества и первопредка по мужской линии, сверхъестественного предка яуйос.
Этот же проход служил важным средством в успешной экспансии Уари. Проход у Париакаки был воротами не только к прибрежной святыне Пачакамак, но также к наиболее ценящимся в Андах областям произрастания коки. Эти кокаиновые земли лежат ниже бассейна рек области Уарочири, на возвышенности, простирающейся от одной до трех тысяч футов в высоту и известной как чаупа-юнга, или «полутропики». Об археологии области Уарочири известно весьма немного, хотя не похоже, чтобы Уари составляло крупнейший из когда-либо строившихся там центров. Тем не менее известно, что Уари вело обширную торговлю предметами роскоши с Пачакамаком. Относительно вопроса о том, находился ли Пачакамак под владычеством Уари или же достиг какой-то степени независимости, мнения расходятся, но в любом случае обмен между ними во время всего его существования был интенсивным.
Караваны лам из Уари, стало быть, проходили ниже расщелины в вулканической вершине Париакаки, фактически под носом у относительно бедных яуйо и через лучшие в Перу плантации коки, по направлению к Пачакамаку. Трудно вообразить, чтобы корыстолюбивые правители Уари пренебрегли возможностью заинтересоваться этой бесценной культурой, особенно если учесть, что каждый из народов, о которых имеются упоминания, занимал здесь земли при первой же подвернувшейся возможности. Кока росла на Тихоокеанских склонах центральных Анд в течение тысячелетий. Специфический для этой области ее подвид был известен своей повышенной устойчивостью к засухам и особыми вкусовыми качества листвы. Согласно исследованию Ростворовски, интенсивный конфликт между яуйо в горной местности и производителями коки в чаупиюнгас был одной из основных причин войны на протяжении периода, описываемого уарочирийскими мифами. Позже инки захватили себе лучшие из таких земель.
Прежде, чем перейти к знаменитой пятой главе уарочирийских мифов, повествующей об обстоятельствах «рождения» бога войны Париакаки, стоит упомянуть еще один аспект четырех первых глав. Говорящие на яуйо потомки яуйос, некогда бывших пастухами, постоянно включают в описания жизни перед потопом критическое отношение со стороны индейских земледельческих народов. Эта критика встречается, например, в мифе о потопе, где осыпание крестьянином своих животных бранью и ударами характеризуется как забвение священных обычаев.
Аналогичным образом, согласно рассказчикам яуйо, именно упорство крестьянства в поклонении своим предкам привело к «потопу»[99]. Проблема состояла в том, что крестьяне слишком перегружали землю рождением избыточно большого числа детей и верой в то, что земля была настолько плодородна, что мертвые в моменты своих возвращений были вправе ожидать радушный прием с едой и питьем в присутствии живых членов семьи. Что делало мертвых особенно «счастливыми», так это возможность увидеть великое число родственников, представленных на этих церемониях.
«И так в те времена люди быстро увеличивались в числе. Они жили в великих лишениях, при скудных урожаях своих продовольственных культур, возводя террасы для своих полей как на утесах, так и на склонах».
Являясь, кроме того, явным намеком на демографический и экологический кризис, связанный с возвышением Уари, это утверждение составляет прямую атаку на религиозные чувства крестьянства. Вплоть до «потопа» космологический императив состоял в том, что энергичная духовная жизнь племен нагорья ответственна за поддержание правильных отношений между тремя мирами, включая уку пача, землю усопших. Значительная часть почитания предков заключалась в выполнении обязанности (общей для ранних земледельческих народов повсюду) быть плодотворным и размножаться.
Если, далее, критика, обращенная пастухами яуйо на земледельцев их области, выявляет некую напряженность, скрытую в создании сословной системы на основе «иерархии завоевания», то важно также понять, что яуйос отнюдь не утверждали, будто само крестьянство вызвало хаос, который яуйос ощущали себя призванными вернуть к порядку. Скорее всего, согласно первой главе мифов, извне появилась злая уака, которая звалась Уальяльо Каруинчо — принципиальный враг родословной уаки яуйос, Париакаки — и «приказала, чтобы люди имели не более двух детей». Хуже всего то, что Уальяльо Каруинчо, как говорили, сам пожирал одного из этих детей. Иными словами, в область Уарочири вторглась какая-то внешняя сила[100] и начала попирать религиозные чувства всех ее жителей, включая яуйос, с помощью не только введения контроля над численностью населения, но и использования «каннибализма» (читай: «запугивания») как инструмента политики.
Этот удивительный рассказ освещает не что иное, как процесс разработки яуйос казуса белли с самого начала их истории, посредством которого они могли изображать себя защитниками древних ценностей от внешних незваных гостей. (Столетия спустя инки выдвинули то же самое утверждение о свирепствовавшем каннибализме в качестве частичного оправдания за установление своей власти над Андами.) Эта позиция объясняет динамику, лежавшую в основе замечания Силверблат о том, что, хотя сословные деления в Андах выражались с точки зрения завоевания, тем не менее в действительности сословия находились в автономном положении друг к другу. Происхождение этого древнего договора восходит здесь к согласию между воинами (несмотря на ворчание по поводу привычки крестьян к «сверхразмножению») относительно того, что старый образ жизни стоил того, чтобы его защищать. Если, в свою очередь, воины желали земли, то таковым был их долг лишь постольку, поскольку они уважали религию Виракочи. Это показное действие — оправдание завоевания во имя духовной традиции, основанной на взаимном принятии и взаимных обязательствах, — составляет великую основополагающую тему уарочирийских мифов.
В результате такого ограничителя из текста часто возникает своего рода Новый язык IX столетия. Например, упрекая крестьянство за религиозные убеждения, которые вели к перенаселению, члены класса воинов считали себя могущественными потому, что у них было «так много братьев». Так, старый жрец из класса воинов, считавшийся героем за сопротивление испанцам, имел, как говорили, шесть сыновей. И в то время как рассказчики превозносят этого же образцового жреца-воина как «самого мудрого, как наилучше сохранившуюся память», они, тем не менее, утверждают, что решающий момент, когда бог войны Париакака стал новым высшим божеством, — это тот самый момент, когда достоинства памяти стали совершенно необязательными: «И так те, о ком мы говорим, завоевали теплые долины… а следовательно, забыв своих древних богов, все они начали поклоняться Париакаке». Назад и вперед, назад и вперед. Именно на этом поле конфликтующих сил и системного напряжения начинается пятая глава:
«В четырех предыдущих главах мы уже пересказали жизнь, прожитую в древние времена.
Однако мы не знаем происхождение тогдашних людей, ни откуда они появились.
Эти люди, те, что жили в ту эпоху, имели привычку проводить свою жизнь, воюя друг с другом и завоевывая друг друга. Своими вождями они признавали только сильных и богатых.
Мы говорим о них как о Пурум Руна, «людях опустошения».
Имея дело с событиями как раз накануне потопа, рассказчики начинают свою повесть описанием чувства смятения, конфликта и хаоса, связанные с его последствиями. Хотя текст беспорядочно заполнен упоминаниями о местах «возникновения» (пакаринас) коренных народов области Уарочири, происхождение «сильных и богатых… людей опустошения» неизвестно. Поскольку «потоп» произошел в 650 году н. э., одновременно с быстрой экспансией Уари, и поскольку археология того периода подчеркивает, что именно Уари впервые в горной местности создало классовые различия, основанные на богатстве и подкрепленные устрашением и войной, то похоже, что описанный в начале пятой главы период — когда «сильные и богатые» были «заняты войнами» — относится к экспансии Уари в область Уарочири.
Затем рассказчики говорят о своем собственном происхождении, то есть о том, как они сами появились на арене этих мифов вслед за периодом господства «сильных и богатых». «Именно в это время некто по имени Париа Кака родился в форме пяти яиц на горе Кондор Кото». Затем рассказчики представляют главное действующее лицо главы, молодого парня яуйо по имени Уатья Кури, «первым увидевшего и прознавшего» о рождении бога войны Париакаки. С самого начала рассказчики пытаются установить нравственную чистоту и существенные достоинства Уатьи Кури. Так, таким же образом, как и во второй главе, они описывают Виракочу привыкшим «ходить вокруг и вещать, подобно ужасно бедному и одинокому человеку», Уатья Кури изображается «бедняком и одиноким». Уатья Кури, неся в себе страшную весть о рождении Париакаки, никому не подает вида об этом.
На вид бедняк, однако одаренный умом шамана, он является героем избранных тем во всей андской мифологии, восходящей к мифам о Виракоче. Например, как отмечалось в главе 4 настоящей книги, Виракоча — бедняк, несущий в себе семена нового мира, — приходит в Качу и, подвергшись нападению со стороны беспечных жителей деревни, навлекает на них огненный дождь. Прежде всего этот внешний вид ассоциируется со справедливостью, с отношением, которое должно существовать между заслугами и властью. Подчеркивая существенную несовместимость между внешней демонстрацией богатства и обладанием внутренней духовной силой, рассказчики уарочирийских повестей устанавливают свою идентичность поборников древних религиозных ценностей, связанных с богом справедливости Виракочей[101].
Первые строки пятой главы содержат налет гнева по поводу того, что Уатья Кури собирается предстать перед богатым умирающим аристократом. Проходя через страну от Тихого океана, вероятно, возвращаясь домой из Пачакамака[102], Уатья Кури засыпает на склонах горы. Благодаря своим качествам шамана Уатья Кури удается понять разговор двух лисов, которые остановились поболтать. Он узнает, что один аристократ, владелец обширных земельных поместий и лам в чаупи-юнгас (край коки), был сражен недугом вследствие сексуальных прегрешений своей жены. Один лис рассказывает, как жена владельца, поджаривая однажды маис, сунула себе маисовое зерно в вагину и отдала его съесть другому мужчине. Из-за этого деяния (понимаемого как супружеская измена) ее муж, аристократ, находится при смерти; фундамент его дома пожирает «змея»; а двуглавая жаба живет под мельничным жерновом.
Эта часть истории рассмотрена в главе 4 данной работы, в ее астрономическом контексте. Астрономия мифа, передавая смысл «двуглавой жабы» (анп'ату) под жерновом (марас), указывает на астрономическую дату около 850 года н. э., то есть ту же дату, с которой археология связывает крушение Уари. Поэтому два столетия, лежащие между «потопом» и разрушением дома умирающего аристократа, похоже, представляли собой период хаоса и войны, привнесенных неведомым (чужим) народом, который «признавал только сильных и богатых». Иными словами, пятая глава начинается, несомненно, с описания падения влияния Уари в области Уарочири в 850 году н. э. Именно в это время, согласно повестям, родился бог войны. Эта интерпретация вполне подтверждается остальной частью мифа.
Затем лис упоминает, что ни один целитель не смог излечить того человека, и Уатья Кури получает шанс улучшить свою долю. Когда он идет к дому аристократа, то предлагает вылечить землевладельца в обмен на брак с его дочерью. В отчаянии аристократ соглашается. Когда Уатья Кури открывает, каким образом аристократ стал рогоносцем и, хуже того, что единственное лечение состоит в том, чтобы снести его прекрасный дом, аристократ предпочитает сохранить свою жизнь и соглашается.
Тогда в этой истории выступает новая фигура: зять несчастного аристократа. Когда он узнает, что его тесть действительно намерен сдержать обещание и выдать свою дочь замуж, то приходит в сильную ярость. «Ты, — кричит он, — несчастный бедняк, взял в жены мою невестку, такую богатую и влиятельную!» Это определенно говорит о классовых привилегиях, так как основной принцип любой классовой системы заключается в установлении того, что называется экзогамным брачным ограничением, то есть положения, при котором мужчины из низшего класса не могут жениться на женщинах из высшего класса. Эта ситуация означает также, что аристократ и его богатый зять следуют правилам родства по мужской линии. Поэтому они не могут принадлежать к коренному земледельческому народу, приверженному системе с двойным родством.
Затем, оскорбленный зять надменно вызывает Уатью Кури на состязание в ряде искусств, включая танцы, пение, музыку, постройку дома и питье. При всех преимуществах у зятя в одежде, инструментах, строительных материалах и так далее — словом, при всем, что может дать материальное богатство и власть, — он оказывается побежденным во всех испытаниях. Уатья Кури символизирует превосходство внутреннего мира, поскольку он на каждом шагу своего пути получает помощь от диких животных. Этот эпизод зеркально отражает вторую главу мифов Уарочири, в которой Виракоча советуется с животными. Победа Уатьи Кури — это триумф старых ценностей над новыми. После победы во всех состязаниях. Уатья Кури настолько возмущен и разгневан, что превращает жену своего противника в камень и прогоняет мужа. Зять аристократа превращается в оленя — что раскрывает его варварскую природу — и направляется в горы, на восток. Так, в то самое время (850 год н. э.), когда сносится дом аристократа, его зять — самый горластый сторонник классовых привилегий — изгоняется коротать свои дни на восток, назад через перевал на горе Париакаки, в направлении Уари.
Помимо излишней демонстрации своего богатства и атмосферы развращенности, источаемой его домом, землевладелец символизирует еще две черты влияния Уари. Сначала мы узнаем об истоках претензии аристократа на высший социальный статус, столь ревниво охраняемый его зятем: землевладелец мнил себя богом. Когда лис в первый раз говорит с Уатьей Кури, он сообщает, что влиятельный землевладелец «ведет себя так, будто он был богом» и «претендует на то, чтобы быть богом». Согласно этой истории, ослепленные великолепием и показной демонстрацией богатства землевладельца, простые люди «были одурачены», «видя в нем бога».
Здесь, кроме того, проступает мифологический аналог археологических данных об Уари: форма правления, основанная на устрашении и воплощенная в новой религии. Поэтому «ложный бог» Уарочири, развращенный землевладелец, удивительно напоминает правителей Уари. В самом деле, здесь, может быть, полезно снова взглянуть на рисунок 8.1 (представляющий отличительный стиль керамической посуды Уари, в котором изображения сверхъестественных субъектов заменены портретами действующих членов правящей элиты), чтобы уяснить образ «ложного бога» в уарочирийских мифах. Наиболее часто упоминаемая деталь — это то применение, которое данная персона находит своему могуществу:
«У этого человека, поскольку жизнь его протекала в роскоши, были деревенские люди отовсюду, и он считал их; и так, принимая вид знающего человека, он жил, вводя в заблуждение многих людей, несмотря на свой ограниченный ум». [Курсив наш.]
Присутствие в кечуанском тексте слова «считать» — юпай — дает, по моему мнению, самое отчетливое из всех андских источников упоминание о вторжении Уари. Как уже говорилось, археологи склоняются к мнению, что именно государство Уари изобрело трудовую повинность и развернуло эту систему материального Производства между 650 и 850 годом н. э. Необходимая предпосылка для возникновения трудовой повинности — это полномочие на проведение переписи, как раз той деятельности, которой и занимался тот землевладелец, стремившийся быть богом[103]. В этом описании «подсчета», осуществляемого «домом», который, будучи таким неустойчивым, «сносится» в 850 году н. э., содержится самая отчетливая из всех, какие мы могли бы обнаружить, оценка упадка Уари и его причин.
Следовательно, всякий интересующийся происхождением войны сочтет полезным прочитать его индейское описание в заключительной части пятой главы о рождении бога войны. Эта оценка, возможно, являет собой самое древнее из всех исторических источников объяснение причин войны.
«Из пяти яиц, которые Париакака отложил на горе, вылетели пять соколов. Эти пять соколов превратились в людей и пойти дальше. И поскольку они были достаточно наслышаны о делах этих людей — о принуждении ими других к поклонению им и о таких их словах, как «Я — бог», — соколы были так разгневаны этими и другими грехами, что взлетели, обратились в дождь и смыли каждый дом и каждую ламу в море, не пожалев ни одну деревню».
Землевладелец и его овита были унесены «в море»: обратно к Тихоокеанскому побережью и Пачакамаку, в свое государство Уари, которому этот «ложный бог», вероятно, служил в качестве губернатора провинции. Sic semper tyrannis.
Остальная часть уарочирийских мифов описывает последствия разрушения дома землевладельца. Эти истории упоминают две последовательных фазы. Сначала проходит некоторое время. Первые строки шестой главы начинаются так:
«Как только Париакака стал человеком и достиг зрелости, он начал искать своего врага. Его врага звали Уальяльо Каруинчо…»
После сноса дома «ложного бога» «созревает» бог войны, а достигнув зрелости, он должен встретиться с врагом. Как подсказывает имя врага, он также является чужаком для данной области. Эта ситуация подразумевает, что некое внешнее государство попыталось заполнить вакуум, оставленный крушением Уари, — толкование, прекрасно согласующееся с тем, что продолжают описывать уарочирийские мифы, потому что теперь бог Париакака в ряде схваток с этой злой уакой преследует Уальяльо высоко в горах, и ему удается загнать его за перевал у горы Париакаки. Как только Уальяльо оказывается изгнанным, брат Париакаки (один из пяти людей-соколов, родившихся из пяти яиц) навечно ставится в этом месте на посту, «чтобы Уальяльо Каруинчо не вернулся».
Наиболее вероятно, что Уальяльо Каруинчо представляет конфедерацию племен, известную как уанкас, тоже традиционных пастухов, которые жили на землях восточнее прохода у Париакаки. Это область Хауха, которая контролировала подходы к древнему пути там, где он поворачивал на запад, к проходу у Париакаки, ворота к центральному Тихоокеанскому побережью. Поскольку Уальяльо был изгнан за этот проход, проклятие Париакаки, наложенное на его врага, состояло в том, чтобы, «раз он питался людьми, то пусть он теперь ест собак и пусть народ уанкас поклоняется ему». Как признали Саломон и Уриосте, этот отрывок намекает на «скрытую претензию» яуйос на то, что освободили западные андские народы от «поедающих собак» уанкас[104]. Далее, имеется особый рассказ о событии, повсеместно присутствующем в «потерянных годах» андских археологических данных: период беспорядка после падения Уари в 850 году н. э. Яуйос при возведении в статус воинов отвергают уанкас, чужеземных пастухов, связанных с Уари, которые пытались заполнять вакуум власти, образовавшийся вследствие крушения Уари.
И теперь, наконец, рассказчики описывают, как в заключительной фазе цепи событий, приводящих к учреждению системы сословных делений в их области, они пришли в земледельческие деревни коренных народов и взяли себе часть лучших сельскохозяйственных угодий. Эти истории занимают львиную долю рукописи, и нет надобности рассматривать их подробно. С точки зрения сегодняшнего дня важный вопрос состоит в том, насколько твердо они придерживаются темы справедливости и оправдания. Из чтения этих мифов становится ясно, что яуйос предпринимали огромные усилия, чтобы утвердить себя в качестве добрых последователей и законных приверженцев традиции Виракочи.
Один пример из шестой главы текста проясняет остроумно-глупый характер прокладывания себе пути в систему добровольной взаимности. Париакака, притворяясь «одиноким странником», приходит в деревню в юнке (= местное: теплой долине), где жители пируют на празднике. В нарушение древних обычаев гостеприимства никто не предлагает Париакаке присесть, пока одна женщина не осознает нарушение этикета и не подносит ему большую порцию маисового пива. Тогда Париакака убеждает ее бежать из деревни, потому что «эти люди привели его в бешенство». Он предупреждает, чтобы она никому больше не сообщала об этом. А через пять дней он возвращается в виде обильного ливня с ураганом и уничтожает всю деревню, смывая ее в море.
В этой истории Париакака снова предстает в парадигматически-мифологическом виде одинокого странника. Но в отличие от мифов о Виракоче, в которых бог осуществляет далекие путешествия единственно с целью распространения учения любви и доброты, Париакака приходит в деревню, уже ища повода к ссоре. В отличие от Виракочи, который прекращает наказание сельских жителей в Каче, едва лишь угроза его персоне прошла, Париакака пришел в поисках неприятностей, надеясь быть оскорбленным[105].
Именно здесь заключена соль уарочирийских мифов. Яуйос, несомненно, считают себя вправе присваивать земли: они избавили область от несчастий. Они защитили древний уклад духовных ценностей от необратимо светского и двуличного государства. Но если они собирались по справедливости поддерживать притязания на расширение своих земель, то как могли они этого добиться, не нарушая богом установленный раздел земель — учение об уаках и пакаринах — о защите которого они заявляли? Таким образом, с космологической точки зрения, класс воинов ответит таким шагом, который навсегда преобразит Анды.
V
Есть нечто забавное в том способе, какой разработали яуйос, чтобы внедрить своего божественного прародителя, Париакаку, в более широкие рамки андского мировоззрения. В начале рукописи после обещания поведать историю Париакаки рассказчики добавили:
«В те времена была другая уака по имени Кунирайа, которая существовала и потом, но мы в действительности не знаем, появился ли Кунирайа до или после Париакаки или же этот Кунирайа существовал одновременно с Виракочей, который сотворил человечество; потому что в молитвах люди говорили: «Кунирайа Виракоча, творец человечества, творец мироздания, ты обладаешь всем, чем обладаешь; тебе принадлежат поля, тебе принадлежат люди».
Вторая глава начинается с похожей оговорки, но в четырнадцатой главе рассказчики, похоже, дают-таки объяснение:
«Париа Кака и все другие уаки имели обыкновение чрезвычайно уважать его.
В действительности некоторые люди даже говорят, что Париа Кака — это сын Купи Райа».
К этому же вопросу они снова возвращаются в следующей главе:
«Купи Райа Вира Коча, как говорят, существовал с очень древних времен. До него в мире вообще ничего не было. Именно он первым придал форму и силу горам, лесам, рекам и всем видам животных, а также полям для пропитания человечества.
По этой причине люди часто и говорят о Купи Райа: «Он зовется отцом Париа Каки».
«Это он породил и наделил силой Париа Каку».
«Если бы Париа Кака не был его сыном, он, вероятно, лишил бы его силы», — так говорят все».
Этим неохотным «вероятно» вопрос исчерпывается. Сначала появился Кунирайа Виракоча. Париакака был «наделен силой» именно им и в действительности был бы «обессилен», не будь он «сыном» Виракочи. Все это немного напоминает выдергивание зубов, но рассказчики яуйо в конечном счете подтверждают традиционный для Анд порядок вещей. Так же, как они ворчали по поводу почитания крестьянами предков, можно почти что услышать их ворчание: «Все в порядке, уже! Сначала появился Виракоча. Он создал мир. Париакака — его сын». Такова была традиция у воинов Уарочири подтверждать очередность появления своих покровителей.
Однако здесь, наряду со всем этим ворчанием, рассказчики выдвинули беспрецедентное утверждение относительно своей племенной уаки, утверждение столь же простое, сколь и смелое. И именно здесь все мои попытки рассортировать значение «потопа» 650 года н. э. объединились вокруг одной идеи. Если Париакака был «сыном» Виракочи (что на первый взгляд сомнительно в случае необходимости признания «младшинства» воинов по отношению к крестьянству), тогда неизбежно следует один простой факт: Париакака был планетарным богом. Если уарочирийский бог войны был «сыном», тогда он принадлежал к той же «породе», что и его «отец». Купи Райа Виракоча, созвучный Кон Тиксе Виракоче, проясняет взгляд из Уарочири — где поклонялись пичка-кон-ки («нашим пяти планетарным богам») — на генеалогию Виракочи. Бог войны и родословная уака яуйо — «сын» Виракочи/Сатурна — был планетой.
Когда я впервые осознал значение генеалогии Париакаки, я был озадачен. Я не знал, было ли мне известно больше, меньше или столько же, как и прежде. Эта информация, казалось, не вмещалась в качестве мысленной категории в мой репертуар. Я должен был проанализировать свои предположения о самой близкой аналогичной информации, имевшейся в моем распоряжении: инкское утверждение о том, что их мифологический предок, Манко Капак, был если не «сыном», то по крайней мере любимцем Юпитера. Я быстро уловил, что предполагал, будто инки спроецировали это утверждение назад, в отдаленное прошлое, как средство легитимации своего имперского правления. Уарочирийский случай не отвечал этой модели. Фактически если он и прояснял что-либо, так это то, что «рождение» Париакаки произошло около 850 года н. э. Так много для «проецирования назад». Означало ли это, что инки также имели традицию планетарной «ассоциации», продолжавшуюся со столь же отдаленных времен? Имел ли тот факт, что две важные племенные области — Уарочири и долина Куско — поддерживали мифологические традиции планетарной причастности с их кастой воинов, отношение к складыванию сословной системы? Если яуйос претендовали на планетарное происхождение в 850 году н. э., то для чего это было им нужно?
Но это означало ставить телегу впереди лошади.
Я понял, что надо было продолжать методичный поиск. Сначала я должен был выяснить (таким же образом, каким я исследовал мифологический характер Манко Капака), действительно ли уарочирийский текст поддерживал представление о том, что Париакака был планетарным божеством.
В главе шестнадцать уарочирийских мифов Париакака борется со своим врагом, с обладающим огнем Уальяльо Каруинчо. Получая неустанные удары молнии от Париакаки, Уальяльо Каруинчо выпускает гигантскую двухголовую змею, амару, которая нападает на Париакаку. Внезапно в руках у Париакаки оказывается новое особое оружие, «посох из чистого золота», которым он пронзает змею, прокалывая ее таким образом, чтобы она «застыла» (чирай) и потом превратилась в безобидный камень. Писание Авилы упоминает кечуанское слово для обозначения этого посоха, тауна, диалектальный вариант туны, посоха Тунапы Виракочи:
Тауна. Посох, столп, столб, архитектурный столб.
Здесь мы также впервые сталкиваемся с образом огромной змеи. Саломон и Уриосте прокомментировали этот отрывок так: «Амару — великая мифологическая вода, фактически присутствующая во всех андских мифах и обычно символизирующая беспорядок, прорывающийся при переходе к новому порядку».
Аналогичным образом отмечал мифологическую змею Хоккенгем: «Амару появляется в момент природных и социальных катастроф, вытекающих из неравного соотношения сил, из-за неустойчивости. Появление Амару, внезапное и неистовое, является признаком изменения, перехода, пачакути».
На астрономическом уровне ассоциация амару с катастрофами[106] или пачакути разъясняется в ряде источников. Как уже показал ирокезский миф, разъединение земли и неба, произошедшее под эгидой змеи, которая сначала совратила деву, а затем, когда она внедрила новый мир земледелия, дала ей семена и утварь для нового образа жизни. В другой момент преобразования андский «дом ложного бога» зашатался потому, что «змея» съела его соединения.
Впечатляет то, что таким же образом, каким в андских мифах и архитектурные, и топографические метафоры используются для описания строения космоса в какой-то определенный момент прецессионного времени, змея появляется как разрушительная сила не только в архитектурном контексте (как указано выше), но также в топографических образах. Документ колониальной эпохи, принадлежавший одному из «искоренителей» архиепископу Лимы, воспроизводит миф о гигантской змее, называвшейся «гуайарерой»:
«Они суть гигантские змеи, которые движутся под землей и имеют обыкновение вызывать обвалы в горах, а когда указанные горы опрокидываются и рушатся, то они говорят, что это гуайарера разрушила их».
Здесь змея, как S-образная кривая сейсмического удара, идентифицируется с тектоническими сдвигами. На астрономическом уровне эта метафора идентифицирует змею с теми силами, которые сносят «горы» (или «дома»), то есть со структурными элементами, определяющими четыре угла «небесной земли», а именно связь гелиакического восхода звезд с определенными солнечными датами, параметрами «мира-века». На астрономическом уровне гигантская змея причиняет смещение пластов на «небесной земле». Поэтому Париакака, как и Манко Капак, устанавливает свое право на правление новым Веком — Веком Воинов — по обладанию осью небесной сферы, унаследованной от его «отца» — Виракочи. Но в то время как Виракоча и Юпитер бросают отвесы, Париакака пронзает[107].
Таким образом, Париакака «делает змею неподвижной», то есть «устанавливает» новую связь звезд и солнечных дат, проявляя тем самым свою способность учреждать и управлять веком. Власть восстановит равновесие. И устанавливая свою власть для создания и поддержания стабильности перед лицом самых дестабилизирующих сил, Париакака еще раз отражает образ воина как защитника земледельческого крестьянства.
Если обладание осью Вселенной и соответствующее ее использование идентифицирует Париакаку как законного планетарного наследника Виракочи, то специфическое применение молнии разъясняет его точную идентичность. В своих атаках на Уальяльо Каруинчо Париакака выпускает опустошительные волны ударов грома и молнии. Эти удары настолько мощны, что они изменяют ландшафт, нивелируя горы. В инкских мифах об основании Куско один из братьев Манко Капака, Айар Качи, как говорили, сравнивал горы посредством громадных камней для пращи. Как уже отмечалось, понятие удара грома и молнии как метательного оружия было всеандским образом, связанным с пастушескими/ воинскими метафорами происхождения по мужской линии. Айар Качи был, однако, так жесток и воинствен, что его братья и сестры были вынуждены обратиться к уловке, побуждая его вернуться в их пещеру происхождения в поисках неких забытых вещей. Там они запирают его в попытке сдержать его ярость.
Это очевидное обращение к обратному движению Марса описывает также сложный политический урок, который, возможно, был усвоен инками в процессе размышления над мифологической летописью Уари и состоял в том, что этос войны надо «сдерживать» — то есть умерять, — если хочешь успешно учредить подлинную империю. Тем не менее братья и сестры сожалеют об утрате своего жестокого брата, который мог бы помочь им во время войны. Тогда Айар Качи вновь появляется и, будучи далеким от стремления к мести, заявляет:
«Не бойтесь… что я пришел только для того, чтобы положить начало известности империи инков… Я останусь в той форме и образе, какие вы увидите недалеко отсюда, на горе… Гуанакаури. А взамен добрых дел, которые вы получите от меня, я прошу, чтобы вы всегда меня обожали как Бога и установили алтари в том месте… Если вы сделаете это, то получите от меня помощь в войне…»
Гора на горизонте Куско, Гуанакаури, где впредь проживал этот брат, была второй из важнейших святынь в Инкской империи, после храма Солнца. Третье место занимал храм Виракочи в Каче. Именно здесь проходило посвящение молодых воинов. Благодаря анонимному хронисту мы знаем, что планетарной идентичностью инкского бога войны была красная планета, Марс, известная как Аукайок, «он с врагами». Что касается Париакаки, который, подобно Айару Качи, сравнивал горы, когда находился в пылу бойцовского гнева, то его имя означает «камень красной киновари»[108].
Так оно было. Яуйос заявляли о своем происхождении от Марса.
Но почему? Что означало это заявление? Почему эта мысль, подобно самому Париакаке, возникла около 850 года н. э.? Ни один крестьянин Уарочири, ни, насколько известно, капакас Тиауанако, ни даже инки, которые просто вели свою родословную от человека (Манко Капака), бывшего любимцем Юпитера, никогда не возносили свои претензии так высоко, как к непосредственно планетарному происхождению. Родословные уаки простых людей были совсем иными по природе творениями Виракочи, представляющими мифологические истоки происхождения системы с двойным родством. Столкнувшись с необходимостью сбалансировать стремление к занятию земель с потребностью не выглядеть нарушителями древних норм социального порядка, как же додумались воины считать полезным указывать на планету, как на свою родословную уаку, когда каждый знал, что родословная уака была… была… чем?
И тут я понял: родословные уаки крестьянства представляли звезды.
Чем дольше я размышлял над этой идеей, тем больше уверенности приобретал в том, что это было правдой. Впервые изумляясь теперь подлинному величию «творения» у Ти-тикаки, я начал также осознавать смысл претензии воинов на планетарное происхождение. Эта идея не просто решила судьбу светского государства Уари. Воспринятая крестьянством, она неизбежно трансформировала духовную традицию Анд.
VI
Онтология — это один из тех грандиозных терминов греческого происхождения, о которых вспоминаешь только в критических случаях. Определяемая как «раздел метафизики, который изучает природу существования или бытия как таковых», она не принадлежит к тем понятиям, которые легко приходят на ум жителям Запада. Вежливо спрашивая «Кто он?», ожидаешь ответ вроде «О, он — дистрибьютор крупнейшей фармацевтической фирмы», который позволяет обходить острейшие онтологические проблемы. В английском языке столь жесткое понимание функциональности, что ему трудно выражать «суть-измерение» опыта.
Как было кратко (и функционально) описано в главе 2, понятие родословных уак поддерживало принципы мирного единства-в-многообразии между различными племенами нагорья на основании происхождения каждого племени от общего класса объектов, созданных Виракочей. Аналогичным образом учение о пакарине, или месте «начала», откуда появилась родословная уака каждого племени, устанавливало право каждой этнической группы на ее племенные земли. Наконец, поскольку уаки были не людьми, а особыми субъектами неопределенного пола, то они обеспечивали этиологическую основу происхождения системы с двойным родством, сыгравшей столь важную роль в формировании андских земледельческих общин.
Теперь я заново перечитал описание Молины сотворения у Титикаки:
«Творец начал создавать людей и нации, которые живут в той области [Титикаки], делая каждую нацию из плоти и окрашивая одежды, которые каждая должна была носить… и каждой нации был дан свой язык, на котором она должна была говорить, и песни, чтобы петь, и продовольственные культуры, которые она должна была сеять. Когда Творец закончил окрашивать и творить указанные нации и людей из плоти, он вселил жизнь и душу в каждого, как в мужчин, так и в женщин, и повелел, чтобы они прошли под землей. С тех пор каждая нация появилась в тех местах, куда он повелел им идти. Они говорят, что одни вышли из пещер, другие — из холмов, третьи — из источников, четвертые из стволов деревьев… и они говорят, что первые родившиеся из тех мест превратились там в камни, другие говорят, что первые из их рода превратились в соколов, кондоров и других животных и птиц. Стало быть, уаки, которые они используют и которым поклоняются, существуют в различных формах».
В то время мое внимание было приковано к тому, чем на самом деле являлись уаки. В той форме, в какой эти образы создал Виракоча, они были животными. Этот аспект версии Молины повторяется во многих других источниках. Различные хронисты описывали родословные уаки разных племен как идолов, обычно каменных, иногда деревянных или даже медных, как в случае с каньяри, одних — без какой-то определенной биоморфической формы, других — в форме птиц или животных. Я так долго связывал формулировку «звезды — это животные» с поведением животных в мифах, что никогда не задумывался над тем, чтобы применить это к родословным уакам. Как только эта идея осенила меня, она привнесла в мой мозг горы информации.
Представление о том, что каждый вид животных имел небесный прототип, заботившийся о благополучии данного вида, — это известный факт андской этнографии. Как уже говорилось, Уртон показал, что в современном Мисминее рождение земных лисов связывается с сезонными ритмами Лиса небесного. Аналогичным образом Зуидема и Уртон показали, что инкские ритуалы, посвященные размножению лам, проходили в соответствии с различными положениями небесной Ламы. Эти представления были знакомы также испанским хронистам. Акоста писал:
«Они [индейцы] приписывали особые свойства различным звездам, и те, кто нуждался в покровительстве, поклонялся им… И вообще, они полагали, что у каждого [вида] животного и птицы, который водится на земле, на небесах есть его подобие, ответственное за его [то есть каждого вида] размножение и увеличение численности».
Кобо также пишет: «Короче говоря, для каждого вида животных они различали звезду на небе, и есть много [звезд], которым они поклонялись, и они дали им имена и стали осуществлять жертвоприношения».
Анонимный хронист дал наиболее полное описание этого явления:
«Другим звездам, как и различным знакам Зодиака, они приписывали разные виды заботы о них, охраны и поддержке; одни — в отношении стада, другие — в отношении львов, третьи — в отношении змей, четвертые — в отношении посевов и так далее для всех прочих вещей.
Кроме того, некоторые группы говорили, что у каждого из этих богов или звезд имелись двойники и копии среди тех живых существ, о благополучии которых они заботились; и также они говорили, что такая-то и такая-то звезда имела форму ягненка [то есть ламы], потому что ее забота состояла в защите и охране овцы [ламы]; такая-то и такая-то звезда [имела] фигуру льва; такая-то и такая-то звезда [имела] форму змеи. И то, что случалось с теми, что на земле, обусловливалось статуями или образами тех идей или вещей, соответственно тем заботам, которые каждый из них имел. И таким образом появились идолы из камня, дерева, золота, серебра и т. д., которые, как они говорили, представляют богов, пребывающих на небесах».
Описание хронистом этих статуй фактически идентично другим описаниям статуй родословных уак. Согласно анонимному хронисту, скульптура представляла небесного прототипа и покровителя земной живой формы. Кобо также предполагал подобную возможность, когда таким же образом говорил о покровительстве родословных уак по отношению к айлью, как Акоста и анонимный хронист говорили о заботе покровительствующих звезд по отношению к соответствующим им животным видам:
«У них (индейцев] появилось множество мест поклонения и гуакас, и каждая область имеет свою собственную… а эти уаки являлись родоначальниками и главами каждой нации. Их предназначение состояло в охране и размножении людей данной области». [Курсив наш.]
Уарочирийская рукопись дает четкое обозначение этого же понятия родословной уаки как «творца-покровителя». Здесь к уакам обращаются как к покровителям «людей, которых ты сотворила, которых ты создала». Аналогичным образом Арриага сделал запись молитвы просителя к уаке: «Я стою здесь и подношу эти вещи [жертвоприношения], которые твои дети, твои создания [criaturas] предлагают тебе; получи их и не сердись и дай им жизнь и здоровье, и плодородие полей…» Арриага записал также полное смысла название родословных уак: рунапкамак, буквально «творец народа».
Саломон и Уриосте в комментарии об использовании в уарочирийских мифах второй части этого слова, камак, показали необъятность этого понятия:
«[Глагол] камай, по-видимому, расходится с близкими толкованиями «создавать» (потому что «создавать» означает воздействие на ничто, в то время как камай означает сообщение энергии уже наличной материи) и «придавать форму» (потому что «придавать форму» предполагает только начальное формирование инертной материи, в то время как камай — это непрерывное действие, которое осуществляет воздействие, пока оно существует). Но что же означает камай ?Астрономическая или астрологическая глава 29 [уарочирийских мифов] дает важнейшее сведение: оно обозначает созвездие ламоподобной формы [то есть темное облако небесной Ламы] камак (в форме прилагательного «камай-эр»,) лам. Опускаясь над землей, это созвездие внушает мысль о мощной животворной сущности энергии ламы, которая обусловливает процветание земных лам. Все вещи имеют свои животворные прототипы или камак, включая человеческие группы; камак человеческой группы — это обычно ее родословная уака».
Далее, понятие «звезд-покровителей» видов животных в Андах имеет очевидные связи с общемировой традицией, восходящей еще ко временам Верхнего Палеолита (Приложение 5). Есть множество причин видеть в понятии родословных уак — духов-покровителей отдельных этнических групп — продолжение той же самой древней логики. Первой такой линией доказательства является этимологическая.
Как отмечалось в предыдущей главе, слово уака связано с протомайяским словом для обозначения попугая, уок, известного в кечуа как акуа. Во-первых, следует указать, что все эти слова — уака, акуа и попугай-макау (от тупи-гуаранийс-кого макау) — являются метатезами по отношению друг к другу, указывающими в лингвистической теории на генетическую связь. Как с майяским «уок или гуок, обозначающим мифологическую птицу, которая слетает с неба», мифологическое происхождение гуакамайа/акуа/макау отмечало появление родословной уаки каньяри.
Символика попугая играла важную роль в поклонении родословным уакам. В уарочирийских церемониях в ожидании возвращения мертвых крыло попугая помещалось на скалу в центре деревни. Инка Вилаома, или высший священник, носил на головном уборе перо попугая. В аймара слово для обозначения используемого в ритуале пера попугая было уарампа. Слово уара, составляющее корень этого аймарского слова, означает «попугая» в диалекте ленка языковой семьи майя. Андские народы молились уакам в такой форме, которая выражалась в стенаниях и нечеловеческих звуках. Кечуан-ское слово для обозначения такого ритуала содержит корень уака, в то время как слово из аймара для того же действия содержит корень уара:
Уакканни — вопить.
Уаккан — пение птиц, звук карканья или пронзительный рев всех видов животных. Уарарита — вопить.
Поскольку члены андских айлъюс считали себя произошедшими or уак, созданных Виракочей, они молились уакам как посредникам между собою и божественным царством. Похоже, что причина постоянного присутствия символики попугая в этой роли была связана с тем простым фактом, что макау, крупные попугаи, говорили на двух разных языка — человеческой речью и языком животного мира. Таким образом, при обращении к уакам люди передавали обычный порядок вещей, выражая его из души звуком, а не словом, в надежде, что уака «транслирует» их сообщение Виракоче. Столь прелестное понятие не закончилось на докторе Дулитле.
Небесное происхождение родословных уак, как и гуака-майас и майяского уок, подкрепляется еще и тем фактом, что по всей Южной Америке слова с корнями, составленными из майяских слов для обозначения «попугая» — уака и уара, являются именами важных звездных животных. У чиригуано, например, местопребывание ауары тунпы, буквально «бога лисиц», находится среди хвостовых звезд западного Скорпиона. У говорящих на кечуа слово ауара означает «тапира» или «большое животное», в то время как у чиригуано Млечный Путь идентифицировался как «путь тапира». У мокови пустыни Гран Чако, принадлежащих к группе языков гуайкуру, слово для обозначения «звезды» — это аваккани (= а-уака-ни). Наконец, у аймара — у которых, как мы видели в случае с лари и лари лари, двойное употребление слова придает смысл «сущности» — уара-уара, родственное корню из ленка для обозначения «попугая», означает «звезду».
Эти лингвистические данные, в свою очередь, перекликаются с приведенным в главе 3 данной книги этноисторическим материалом о местопребывании мертвых в или вблизи Млечного Пути. Кечуанская поговорка «В этот мир мы сосланы из нашего дома в мире наверху» проясняет местоположение отбытых душ. Что касается подлинного местопребывания родословных уак, то Арриага выяснил, что «души мертвых уходят туда, где находятся их уаки», С этими данными мы возвращаем весь круг к исходной точке, к понятию творца-покровителя видов, камака, рассмотренному Саломоном и Уриосте по отношению к рисунку небесной Ламы. Как отмечалось выше, небесная Лама называлась родословной уакой целым рядом айльюс.
Осознание места родословной уаки в более широких рамках технического языка андской мифологии открыло для меня полностью новую и драматическую перспективу на все учение о сотворении уак и пакарин Виракочей. Теперь я увидел, как те идеи закрепились глубоко внутри космологии, которая освещала небеса над Титикакой в период утренней зари земледельческой эры. Здесь мы узнаем, что создание звезд (календаря или порядка времени) и сотворение родословных уак (социального порядка) являлись двумя аспектами одного и того же процесса. Связывая родословные уаки с различными светилами и скоплениями темных облаков неподвижной сферы звезд, творцы андской мифологии блестяще преуспели в воплощении этого нового социального порядка, основанного на единстве — выкованном из целой галактики языков, одежд, обычаев и так далее — различных этнических групп вверх и вниз по Андам.
Именно потому, что каждая айлью происходила от своей звезды, люди каждой айлью будут жить в гармонии со всеми другими, таким же образом, как каждая звезда или созвездие жила в нерушимой гармонии со всеми другими звездами. И именно потому, что каждая звезда или созвездие обладает собственной уникальной идентичностью среди прочих уникальных идентичноетей, различные этнические единицы, происходившие от уникальных уак, поддерживали свои этнические идентичности, участвуя в более широком единстве.
Кроме того, именно потому, что каждая звезда имела уникальное небесное положение, каждая айлью будет иметь уникальное земное местоположение, определенное пакариной, мифологическим местом появления родословных уак в начале земледельческой эпохи. Что задумывалась именно такая аналогия, показывает тот факт, что пакарина означает буквально «место зачатия», предполагающее, что возникновение родословных уак отразило гелиакический восход звезд на утренней заре Века Виракочи.
В учении о пакаринах я обнаружил полное выражение захватывающей дух области космологических понятий, которые преобразовали андскую цивилизацию, когда оба потока Млечного Пути «пришли на землю» около 200 года до н. э. Виракоча сотворил родословные уаки. Он повелел им уйти под «землю». Тогда в определенных местах вверх и вниз по Андам этим уакам, представляющим звезды и созвездия, было велено взойти в местоположениях, названных «местами зачатия».
Все это происходило в то время, когда Млечный Путь впервые начал всходить вместе с солнцем солнцестояния. Как мы уже видели в главе 3, положением различных родословных уак считалось их расположение по «берегам» Млечного Пути. Поэтому в названии земных «сестер-деревень» небесной родины различных родословных уак пакарины коренных народов, по аналогии, моделировали из всего хребта Анд земной дубликат Млечного Пути. Каждая пакарина была, в весьма реальном смысле, своими собственными «звездными воротами». Эти факты, кроме того, выражены в мифе «траекторией» путешествия Виракочи по земному аналогу Млечного Пути — от Титикаки до Манты в Эквадоре — и позже будут копироваться инкскими жрецами в их паломничестве к и от Вильканоты.
Таким образом, составители андской мифологии, в силу чисто творческого гения, выстроили из рисунка небесных связей руководящие принципы всей цивилизации. Социо-религиозные узы покорности, гостеприимства по отношению к странникам и гордости каждого за общину в Век Виракочи, — все это были священные узы, живое воплощение космического порядка. Не имеющий себе равных свет этих идей — предложивший беспрецедентный уровень процветания, социальной гармонии и духовной пищи — объясняет их долговечность в течение последующих столетий. Это действительно религиозное мировоззрение сеяло благоговение, гармонию и мир.
По моему мнению, эти идеи представляют то, что Исбелл упомянул как «неизвестный механизм» мирной андской экономической интеграции, — механизм, удивлявший многих из тех археологов, которые по теоретическим соображениям ожидали найти в археологических данных Уари большое количество доказательств «формирования государства» в годы, предшествующие возникновению войны. Учение о родословных уаках и пакаринах объясняет, почему государства не были ни желательны, ни необходимы до тех пор пока критическое воздействие перенаселенности на землю не поставило эти вопросы. До тех пор, пока это не разразилось, не было никакой надобности в его учреждении. Возможно, в свое время радикальное светское вмешательство Уари было неизбежно. А быть может, и нет. В любом случае мы никогда не узнаем, что могли бы и могли ли вообще предпринять капакас Тиауанако в ответ на экологический и демографический кризис, в который погрузились Анды в конце VI столетия. Такие действия, очевидно, исходили не от звезд. То, что создал Виракоча — плодотворное соединение небес и земли, — воины поместят раздельно.
VII
Именно в русле этой традиции — по которой вся земля принадлежала детям звезд — воины волей-неволей находили средства легитимации своих собственных притязаний на землю. В мире, где не столько писаные законы, сколько мифы, составляли фундамент социального, экономического и религиозного порядка, воины могли мало что предпринять, кроме как выдвинуть свой собственный проект на основе уже существующей космологии. Уари явно не обременяло себя внимательным отношением к чувствам крестьян в процессе утверждения своего светского господства. Воины — пастухи, которые теперь ощущали себя вправе на общее пользование земледельческими богатствами, которое они защищали от Уари, — не могли себе позволить совершить ту же ошибку. Начиная с прав на пахотную землю, принадлежавшую тамошним уроженцам, захват части этих земель пришельцами означал явное нарушение богом установленного распределения. Таким образом, чтобы предъявить претензии на землю, воины должны были найти способ оправдать свои притязания ссылкой на те же самые принципы небесного порядка, выраженные техническим языком мифологии.
По этой причине воины, как и крестьяне, взывали к происхождению от небесного божества. В случае с областью Уарочири этим божеством был Париакака/Марс, обладающий посохом «сын» Виракочи. В случае с инками, согласно мифу Пачакути Ямки (в котором отец Манко Капака назывался властителем войны), Пируа Манко Капак, регент Юпитера на Земле, был тем, кому предназначалось наследовать посох Виракочи. Кроме того, инки не только признают космологические идеи крестьянства в отношении происхождения от небесного тела; они также заимствовали представление о конце пути мертвых на родине родословной уаки: «Когда он [Манко Капак] умер, он был принят на небо, в дом и местопребывание этого бога по имени Пируа [Юпитер]…»
Так что первый шаг в утверждении легитимности воинов состоял в том, чтобы из ничего создать себе систему происхождения, которая бы, как и у крестьянства, соединила их с богом созданными прототипами на небе. Следующая проблема, которую им предстояло преодолеть, заключалась в том, чтобы создать космологическое оправдание для ломки исключительного владения землей айльюс, чье право владения основывалось на небесной аналогии, а именно на том, что ан-дское нагорье являлось земным аналогом Млечного. Пути. Просто захватить землю означало бы угрозу реставрации времен Уари, отрицание самых глубинных религиозных чувств, имевшихся у всего крестьянства. Нет. Крестьянство должно было согласиться — возможно, неохотно, но согласиться они были должны — на новый порядок, если желало восстановить когда-либо стабильность.
Вероятно, ни для крестьян, ни для пастухов было невозможно бесконечно оставаться благородными на пустой желудок. Но и тогда, когда наконец мне стало ясно, каким образом был осуществлен этот фокус, я находил это решение разрушительным. Я рассматривал это обесценение — возможно, неизбежное, но тем не менее обесценение — древней системы мировоззрения, которая в течение столетий основывала свою эффективность на свойственной ей красоте идей. Теперь же я осознал, как, объявив себя потомками планет, воины сумели ворваться в эту систему.
Планеты отличаются от звезд своей способностью к движению. «Объективно» от планет, а следовательно, и от их земных потомков, нельзя было ожидать такой же привязанности к «позиционному императиву», как от потомков звезд. Просто в «естественном» порядке вещей было то, что воины имели право «перемещаться на» любые территории, которые выбирали, точно так же, как планеты вольны блуждать среди звезд. Планеты, в конце концов, являлись «пастушескими кочевниками» неба, пастухами звезд.
Реальность этой концепции отражена в этнографической записи. В отличие от крестьянства, которое обладало очень большим числом родословных уак, по одной на каждую айлью, у касты воинов имелось сравнительно мало родословных уак. Воины Париакаки, например, занимали земли в целых двух провинциях — Уарочири и Чаклья Мама, хотя претендовали на происхождение от одного божественного прародителя. Арриага обнаружил распространение такой же модели во всех Центральных Андах: «…Лькуасес [ «убийцы лам»], являясь пришлыми, обладают меньшим числом Уак…» В процессе завоевания обширных областей и внедрения нескольких своих семейств в каждую общину воины поддерживали связи родства на больших территориях, основанные на происхождении от единого планетарного божества. Потомки планетарных божеств требовали прав на землю, обращаясь за помощью к небесной аналогии. Они «перемещались на» земли коренных народов точно таким же образом, каким планета «перемещается в» какое-то созвездие.
Вследствие этой стратегии воины были обязаны вести себя так, будто они являлись иной «разновидностью» самого крестьянства. Иными словами, истоки происхождения от планет сформировали основу для образования в Андах отдельных классов людей. Так, этноисторические данные показывают, что крестьянину-мужчине было запрещено жениться на дочери из касты воинов. Эта стратегия позволяла продолжать вести происхождение только по мужской линии, сохраняя тем самым земли и власть, захваченные воинами в ходе завоевания. Взаимные браки с крестьянством могли привести в конечном счете лишь к растворению касты воинов. Хотя Уари и кануло в Лету, классы остались.
Такое манипулирование андской космологией в приспособлении к наступлению войны содержало в себе еще один пока не затрагивавшийся элемент, который был совершенно беспрецедентным и которому было суждено навсегда изменить характер жизни в Андах. Внедрение военной силы в обычную жизнь сопровождалось аналогичным и одинаково сильным внедрением силы в традиционные направления космологических представлений.
Характер территории, по которой шагало это насилие, столь сложен, что даже в наш век, когда повсеместно происходит обесценение языка, трудно воспроизвести размеры причиненного ущерба. До пришествия войны космологическое знание в Андах было формой духовной пищи. С начала Века Виракочи около 200 года до н. э. в жизнь Анд вошел не только беспрецедентный уровень астрономического знания, но и систематическое культивирование Великой Идеи: что в макрокосмической модели небес человечество может посредством терпеливого наблюдения и почтительного созерцания осмысливать характер тех законов, утверждение которых на земле могло бы привести человеческое общество в гармонию с господней волей.
Столь глубоко представление человечества о материальном мире как о танце, исполняющем Божью Волю, что оно сообщает форму всем великим религиозным традициям нашей планеты. Обращаешься ли ты к буддистам и пытаешься «вырваться из великого колеса смерти и возрождения (эклиптической плоскости), или к Ноевому ковчегу на горе Арарат, или Христосу, опрокидывающему столы ростовщиков, или к исламскому поклонению Творцу/Сатурну в Каабе, корни всех этих наших традиций покоятся, вместе с корнями Великого Древа Жизни, в звездных небесах. Перед этим неисчерпаемым источником изумления многие из величайших умов человечества открыли душу и разум в глубоком мысленном почтении.
В этот внутренний дворец человеческой души воины занесли семена Разрушения. Это произошло не просто от применения силы. Случаются времена, когда сила становится неизбежной. И это произошло не просто потому, что воины провели небесную аналогию для установления уз родства. Все это можно было принять как неизбежный результат давления избыточного населения на землю и как разумные средства перераспределения в пользу безземельных. Однако воины вышли за рамки необходимости выразить прагматическую действительность подручными средствами, техническим языком мифологии. Они осуществили насилие над самим языком и сделали это следующим образом.
Андские мифотворцы установили ряд устных понятий, которые позволили им передать результаты астрономического наблюдения будущим поколениям. Один из этих мнемонических приемов состоял в обозначении планет как «измерительных приборов». Как рассматривалось в главе 5, регулярность сближений Сатурна и Юпитера осознавалась, например, как полезное средство для слежения за отрезком времени по шкале прецессионного движения. Таким образом, как Сатурну, «Тикси Капаку», так и регенту Юпитера, Манко Капаку, был дан титул «измеритель», буквальное значение слова капак. Это слово использовалось во времена инков для обозначения «царя», то есть оно стало термином политического господства. Кроме того, как отмечалось в главе 5, из словаря Бертонио мы знаем, что первоначальный титул в аймара, капака, обозначал не политический контроль, а давался тем, кто, следуя божественному примеру Виракочи, стремился «измерять» полет звезд ладонью руки. Иными словами, капака в древние времена обозначал астронома-шамана, чей авторитет определялся его содействием общему благу.
Это изменение значения сообщает нам, что в некий период времени индивидуум или группа индивидуумов выдвинули идеи о полном отделении технического языка мифологии от своего естественного контекста и, искажая его буквальное значение, заложили основу для политического правления. Слово капак, первоначально предназначавшееся для планеты Сатурн как для высшего измерителя отрезков времени, было совершенно внезапно вырвано из контекста и применено в совершенно искаженном значении. Основа этого подлога лежит в насилии над самим языком. Слову «измерять» было придано значение «управлять» точно таким же образом, каким английский глагол «управлять» — первоначально означавший «измерять» — стал обозначать право королей на управление простым народом.
С тех пор воины в Андах стали заявлять как о божественном праве о своем полномочии на «управление» крестьянством, основываясь на следующем суждении: поскольку родословные уаки воинов, а именно планеты, «управляли» звездами — то есть родословными уаками крестьян, то сам космический закон постановил, чтобы сами воины «управляли» крестьянами. Ущерб, нанесенный андской цивилизации внедрением этого Великого Подлога, не поддается исчислению. Обработав технический язык мифологии так, как будто это была истинная правда, воины навели порчу на плодотворные идеи андской цивилизации. Впредь скорее сам язык, чем небесные реалии, для описания которых он был выработан, станет служить шаблоном для интерпретации всего священного.
По правде говоря, этот процесс мог бы начаться уже со времен Уари. Устрашающая и надменная роспись на керамике Уари (рисунок 8.1) и упоминания в мифологии о претензиях правителей Уари на то, чтобы быть «богом»[109], вероятно, показывают, что властители Уари были намерены отыскать ад за пределами местных поселений посредством своих притязаний на божественное происхождение, возможно, от самого Виракочи. Называя свою столицу Уари, они действительно могли этим утверждать, что были прямыми потомками Уари, белых, бородатых гигантов (не сыновей ли Виракочи?), которые происходили из бассейна Титикаки и удаленной от цивилизованного мира древности. В любом случае, из уарочирийских мифов нам известно, что двуличность в вопросах космологического видения была той деятельностью, которая висела «в воздухе» как часть наследства Уари.
С искажением мифологического языка, кроме того, пришла отмена всех традиционных форм связи с названиями. Там, где небесные движения некогда изучались как ключ для разгадки соответствующего порядка жизни человечества на земле, искажение в мире людей теперь проецировалось на небеса. «Звездам» понадобился «правитель». В результате такой «семантики» упростился диалог между микро- и макрокосмосом и открылись двери к закрытым прежде проклятиям черной магии.
Это нарушение гармоничного наследия, созданного за тысячелетие до этого жрецами-астрономами Тиауанако, проявилось в виде распада андской жизни на целую мозаику непримиримых форм государственного правления. В одной долине за другой как реакция на возвышение Уари возникала новая военная знать. Древнее и прежде мирное утверждение гордости за этническое многообразие и не подлежавшее сомнению право на местную автономию теперь стало источником ожесточенной и постоянной вражды между племенами. Бесценное интеллектуальное чистое золото Века Виракочи было обесценено внедрением медной фальшивки, поддерживавшейся с помощью силы. Великая космологическая схема, которая впервые вдохнула жизнь в андские айльюс и которая была воткана в каждый аспект их жизни, от языка до обрядов, и названа по замыслу самого ткача, поплыла по течению от причалов своей души. И именно здесь, в самой душе андского опыта — в котором небесная аналогия служила пищей и питьем тем, кто был голоден и жаждал справедливости, — откроется отныне величайшая рана.
Нельзя сказать, что события, начавшиеся с пачакути 650 года н. э., разрушили андскую религию. Скорее она наряду с человечеством разделилась на два потока. Религия крестьянства продолжала струиться, но струилась как бы подпольно. Поскольку система каждой долины вооружила себя против всяких пришельцев, каждая коренная этническая форма правления будет демонстрировать свое военное лицо всем другим, лицо сословия воинов своей области. Окруженные географией и стремлением местной военной знати выглядеть местными героями, андские айльюс превратились в замкнутые вселенные. Великие города погибли — сначала Уари, а потом, к 1000 году н. э., Тиауанако. Мосты были перерезаны. Долгая мрачная эпоха опустилась на высокогорья Анд.
На протяжении этих мрачных столетий воины хранили секрет изготовления бронзы. Поскольку война продолжалась и это техническое преимущество оставалось за ними, воины сохраняли свое «правление». Они правили не посредством осуществления господства над низшими сословиями, с которыми теперь совместно использовали землю. Скорее они управляли Духом своего времени, составляя планы внешних походов и предоставляя защиту своей локальной территории. Эта действительность отразилась и в языках, где кечуанский глагол, означающий «находить бронзу», льяк-сай, происходил от глагола «запугивать», а аймарское слово пачакути свелось к единственному определению — «времени войны».
В меру своих возможностей андское крестьянство поддерживало старые пути, но народы Анд больше не обращались к своему богу единым голосом. В этом смысле мифы о ламе и потопе представляют последнюю прямую передачу из предвоенной эпохи. Гибель эпохи невинности передает всю атмосферу фабулы современному уху. Однако уже тысячелетия тому назад Лао-Цзы, наблюдая подобное зрелище, произнес словно эпитафию по Веку Виракочи:
«Теряется Разум, а затем появляется достоинство.
Теряется достоинство, а затем появляется благосклонность. Теряется благосклонность, а затем появляется справедливость. Теряется справедливость, а затем появляется благопристойность. Правила благопристойности — это видимость лояльности и веры и начало хаоса. Традиционализм — это цветок разума) но и невежества начало».
Таким же образом андская мифологическая традиция, некогда являвшаяся языком священного откровения, основанного на эмпирическом наблюдении, превратилась в руках воинов в орудие политики. Утверждая, что технический язык андской мифологии был истиной по букве, воины предпринимали первый шаг в мистификации древней традиции и изменении навсегда культурного наследия Анд. Теперь лишенный своей изначальной функции как генератора мысленных образов, технический язык мифологии будет служить воинам средством устрашения, и ни рай, ни земля никогда уже не будут теми же самыми. Исконный принцип «как наверху, так и внизу» перестал служить приглашением к участию в более широкой гармонии. Теперь он возвещал о внезапной гибели, на небесах обнаружились принципы войны и господства.
ЧАСТЬ III
ВОИНА ПРОТИВ ВРЕМЕНИ
ГЛАВА 9
ИНКСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
Они использовали эти [созвездия] для своей астрологии… Они делали не обычные предсказания из знаков в солнце, луне или кометах; но только пророчества весьма редкого значения, такие как смерть царей и падение империй.
I
Во времена испанской конкисты в Перу существовало предание, согласно которому Инкская империя родилась под знаком пророчества. Около 1432 года, согласно этому пророчеству, Инка Виракоча предсказал катастрофическое крушение андской цивилизации в течение пяти поколений. Это пророчество появилось в те же времена, когда Куско находился под угрозой нападения со стороны самого опасного и самого ненавистного врага инков — чанкас. Не желая принимать фаталистский взгляд своего отца, великий воин, царь Инка Пачакути предложил иное видение, империю Солнца. Отныне сыновья Солнца и дочери Луны, как теперь стали величать себя инки, возложат на себя священную миссию: увести андскую цивилизацию от края пропасти исчезновения. Неважно было то, что старый отец, Инка Виракоча, являлся ученым жрецом; неважно было и то, что изобиловали предзнаменования того, что враги приближались, что наследие восьми столетий межплеменной войны истощило землю и людей. Где другие видели безвыходное положение или того хуже, там Инка Пачакути усмотрел путь к величию.
Если когда-либо люди сталкивались с судьбой, так это были инки. Краткость периода их величия дает неверное представление о столетиях необыкновенного восхождения к этому величию. В большей мере, чем любая другая область нагорья, долина Куско была пропитана традициями как Уари, так и Тиауанако. Несмотря на тот факт, что Тиауанако лежало еще за три сотни миль далее к югу, властители Уари сильно укрепили все подходы к своей заставе в Пикильякте в долине Куско. Хотя область Куско некогда состояла внутри чего-то подобного сфере тиауанакского «контроля», своей первичной культурной ориентацией она, тем не менее, была обязана влиянию Тиауанако. Поскольку само Тиауанако не имело обыкновения посылать войска воевать так далеко, то построение, наводнение войсками и укрепление Пикильякты в 650 году н. э. подсказывает, что Уари не было единственной державой в непосредственной близости, рассматривавшей эту долину как добычу.
Куско стал бы «пупом» мира, возведенным. в географическом центре двух пересекающихся и существенно противоположных мировоззрений, полный контраст между которыми вынудил историка архитектуры Уильяма Конклина задаться вопросом:
«Что же тогда наличие этого пространственного сдерживания, осуществлявшегося Уари, говорит об отношениях Уари с Тиауанако? Если толковать это архитектурное свидетельство буквально, то выходит, что архитекторы Уари имели совершенно иные цели в своем городском планировании; возможно, они действительно привлекали в некоторой форме ритуально учрежденную антитезу культа ворот в Тиауанако и все их движение и ритуальную ассоциацию».
Если имитация — это откровеннейшая форма лести, тогда эти контрасты подразумевают скорее более злобный смысл. Этот смысл в ходе активного противоборства с духом Тиауанако в долине Куско нигде не получил столь откровенного выражения, как в серии увлекательных археологических находок в комплексе Пикильякты в Уари. В двух разных случаях в течение 1920-х годов исследователи раскопали отдельные подпольные тайники в элитном квартале. — В каждом случае извлечено по набору из сорока статуэток, каждая из которых была высотой приблизительно в три дюйма и вырезана либо из бирюзы, либо из содалита. В 1933 году Луис Балькарсель описал и проанализировал один из этих тайников. Каждая фигурка представляла мужчину, вырезанного таким образом, чтобы подчеркнуть детали одежды его племени. Среди них не было двух одинаковых фигурок, что означает, что они представляли сорок этнически разных племен. Все фигурки изображались сидячими на морском песке и склоненными, то есть в позе покорности, напоминающей, как подчеркивает Балькарсель, более позднюю инкскую практику попрания тел вождей побежденных племен.
Более того, эти изображения были помещены по кругу, в центре которого находился ряд предметов: бронзовый прут, панцирь раковины и некая оболочка раковины Spondylus. Когда я читал статью Балькарселя, волосы у меня встали дыбом. Бронзовый прут имел слегка коническую форму, которая подвигла Балькарселя, и, вероятно, правильно, назвать этот предмет и «скипетром», и маканой, или «дубиной воина». Хотя Балькарсель истолковал панцирь раковины в этом применении как военную трубу, эта оболочка, согласно его описанию, не имела срезанного конца, что делало бы ее трубой. Значение оболочки Spondylus, важной торговой статьи Уари, проясняется в уарочирийских мифах, где она представляет собой любимую пищу богов войны. Они любили грызть ее.
Основой политики Уари, следовательно, было «устрашение», или бронза. Идеализированное число из сорока покоренных наций, размещенных по кругу, сразу же вызывает воспоминание о системе секе в Куско с ее сорока (или сорока двумя, в зависимости от того, как они рассчитывались) лучами к горизонту. Значение числа сорок, числа сближений Сатурна и Юпитера, требуемого для того, чтобы треугольник скопировал себя в звездах, подсказывает, что Властители Уари стремились установить свое господство над наступающим Веком. То, что племенные изображения размещались в позе покорности вокруг этой бронзовой оси, наряду с пищей бога войны и раковиной, говорит о том, что правители Уари пытались «послать этих людей в ад», то есть обратно в преисподнюю, к которой принадлежали хилые существа, рожденные от звезд (сорок позиций сближения Сатурна и Юпитера по звездам эклиптики).
Самым нерешенным аспектом всего этого является детальный анализ Балькарселем племенной принадлежности фигурок. В то время, когда писал Балькарсель, считалось, что Пикильякта была инкским городищем. Поэтому он не мог обратить внимания на ту странность, что одна из фигурок, какую он идентифицировал, несомненно, правильно изображала представителя Тиауанако. За исключением одной-единственной перестрелки в Мокегуа, силы Тиауанако и Уари никогда не сталкивались между собою. Пикильякта — за три сотни миль от Тиауанако — была закрыта, как только Уари установило свое «господство» над бассейном Титикаки. Это означает, что подпольные тайники в Пикильякте — помещенные в частные жилищные дома элитных кварталов — представляют черную магию, то есть стремление причинить вред на расстоянии. Черные маги Уари стремились быть похитителями душ. И это уместный повод, чтобы в описании контраста между Тиауанако и Уари воспользоваться такой метафорой, как «свет и тень».
Пока коренные жители долины Куско варились в этой диалектике, Уари отгораживалось стеной от долины. Среди пастухов высокогорий были и инки. Инкский миф сообщает нам, где находились их истоки (глава 5). В то время как властители Уари окружали изысканно красивую долину Вилькамайу, инкский миф повествует, что военный вождь по имени Апотамбо, отец Манко Капака, принял от Виракочи посох, которым его сын создаст Куско. Его народ был грубой и готовой к испытаниям массой («вассалами»), не желавшей пребывать под башмаком у кого бы то ни было, включая Тиауанако, но Апотамбо видел мудрость в том, чтобы вывести его к свету. Поскольку Виракоча оставил землю, дух его правления был передан инкам. И, если выбор врагов есть показатель убеждений, тогда вполне справедливо, что инки решили придерживаться наследия Тиауанако. В решающий момент их истории у них не было более заклятых врагов, чем чанкас, прямые потомки властителей Уари.
Словно в предзнаменовании своего будущего, инки будут единственным народом нагорья, обитавшим на острове относительного спокойствия на протяжении столетий до учреждения своей империи. Поселения в центральной части долины не были защищены, что свидетельствует о том, что инки, прибывая в долину после падения Уари, уже вовсю проводили экспериментирование с некой уникальной формой государственности.
Отчасти из-за слепого случая географической природы, отчасти по причине исторической случайности, а отчасти вследствие замечательных качеств уникального человека — Инки Пачакути, «Владыки-Опрокидывателя Пространства-Времени» — инки представляли тот народ, которому судьба уготовила величие. В то же время они были людьми, со всеми присущими им недостатками и противоречиями. Если у них и имелись гелиотропные инстинкты, сближавшие их с Тиауанако, они тем не менее были слишком практичными, чтобы игнорировать реальполитик своего времени. Они знали и тень и свет, и как ими пользоваться. То, что действительно отличало инков от других народов, так это их готовность рисковать всем. Это качество, внушает уважение, даже если оно способствует трагедии. Ниже я пытаюсь обрисовать масштабы этой трагедии и как я узнал об этом.
Мой интерес к инкскому пророчеству вырос из его очевидной связи с изменениями в андской космологической мысли, ускоренным правлением Уари и соответствующим ему ущербом, нанесенным андскому обществу. Составление космологического оправдания войны выпустило темных демонов человеческой природы на небесный свод. Что еще, кроме духа погибели, могло стать плодом такого деяния? По моему разумению, инкское пророчество воплотили именно такое понимание, но если я и позволил увлечь себя в этом направлении, то неохотно. Историки инков долгое время расценивали пророчество Инки Виракочи как некий лакмусовый тест на доверчивость.
Инкское пророчество предположительно возникло в главенствующий момент андской истории, когда, согласно большинству оценок, молодой мечтательный воин Пачакути отверг странную пассивность со стороны своего отца. Историки восприняли эту повесть как оправдание царской семьи за неспособность предусмотреть успех испанцев. Наиболее часто цитируемым источником о пророчестве Инки Виракочи является «Инка» Гарсиласо Ла Веги. Гарсиласо был сыном испанского капитана и его любовницы, знатной инкской женщины Чимпу Окльо, племянницы Уайна Капака. Хотя Гарсиласо воспитывался как испанский дворянин, отец его игнорировал и позднее женился на испанке. До совершеннолетия он рос с семьей своей матери. В возрасте двадцати лет в связи со смертью своего отца Гарсиласо покинул Перу и отправился в Испанию, чтобы никогда уже не вернуться. Много позже он написал свои воспоминания об инках в увесистых «Подлинных комментариях Инков», завершенных незадолго до его смерти в возрасте семидесяти шести лет. Согласно Гарсиласо, который со стороны своей матери происходил от панака, или прародителя, Инки Виракочи, этот предок, когда был уже стариком, предсказал,
«что после царствования нескольких Инков придут на ту землю никогда прежде не виденные люди, которые уничтожат религию и империю местных уроженцев… Он распорядился, чтобы среди царевичей это расценивалось как предание и чтобы это никогда не разглашалось простым людям, потому что негоже было осквернять то, что пришло посредством божественного откровения, и неблагоразумно разглашать, что в будущем Инки утратят свою религию и свою империю и лишатся своего высокого положения. По этой причине ничего больше не говорилось об этом пророчестве до тех пор, пока Инка
У айна Капак открыто не упомянул его незадолго до своей смерти… Индейцы дали имя Виракочи испанцам, потому что они вызвали исполнение этого пророчества…»
Позже Гарсиласо обратил внимание на то, что Уайна Капак — последний Инка, царствовавший перед появлением испанцев в Кахамарке, — умер с пророчеством Инки Виракочи на своих устах. Пророчество передавалось в течение пяти поколений как строго хранимая тайна царской семьи. Умирая от оспы, Уайна Капак, как повествуется, открыл окружавшим его страшную весть предсказания: он будет последним Инкой перед крушением. Таково было пророчество Инки Виракочи. Кое-что об этой традиции остается в описаниях Сиесы де Леона и Муруа, в которых Уайна Капак предвидел катастрофу в связи с донесениями о высадке испанцев на побережье.
С несвойственным отсутствием великодушия по отношению к Инкам великий историк Уильям Прескот первым категорически отверг толкование Гарсиласо как фантазию. Прескот принимал, что Уайна Капак был довольно проницателен, чтобы в донесениях о высадке белых людей на северном побережье Перу усмотреть знак великой опасности.
«Но другие оценки, получившие широкое хождение и не отвечающие этому, связывают первые известия о белых людях с издавна сохранявшимися в стране предсказаниями и со сверхъестественными явлениями, которые наполнили сердца всей нации тревогой. В небесах виднелись пылающие кометы. Землетрясения поколебали землю; луна была опоясана огненными многоцветными кольцами; удар молнии попал в один из царских дворцов и превратил его в пепел; и преследуемый несколькими ястребами, кричал орел, паривший в воздухе над большой площадью Куско, а когда царь птиц, пронзенный когтями своих преследователей, упал безжизненно на глазах у многих из инкских аристократов, они прочли в этом предсказание своей собственной гибели…
Таково донесение о впечатлении, произведенном появлением испанцев в стране, напоминающее сообщение о подобных чувствах суеверного ужаса, внушенного их появлением в Мексике. Но предания этой последней страны опирались на гораздо более высокий авторитет, чем предания перуанцев, которые, не подкрепленные свидетельствами современников, покоятся почти полностью на. одном лишь утверждении одного из представителей их собственной нации [Гарсиласо], который, несомненно, мечтал найти в неизбежных приговорах Небес лучшее оправдание бездеятельности своих соотечественников».
Начиная со времени Прескота, вопрос об инкском пророчестве оставался химерой на периферии исторического видения.
Тем не менее отрицание Прескотом существования инкского предсказания оставило значительный пробел в историческом понимании испанского завоевания Перу. Хотя он наделил критерий «суеверного ужаса» какой-то ролью в столь же труднообъяснимом падении ацтеков, в случае с инками он не увидел иной причины, кроме инертности, способствовавшей их краху. Конечно, такое пренебрежение не выступает у Прескота чем-то преднамеренным. Оно скорее проявляется в том, что его стремление не поддаваться в столь важном вопросе склонности Гарсиласо к несомненному приукрашиванию привело Прескота к отрицанию того, что 140 лет назад было единственным доступным источником, относящимся к пророческому видению инков.
При всех своих очевидных слабостях, мнение Гарсиласо о пророчестве у инков по крайней мере обладает тем достоинством, что предлагает хоть какое-то объяснение полному разгрому великой империи всего лишь горсткой авантюристов. Владения, по которым столь дерзко мчались 175 человек Писарро, простирались приблизительно на 2500 миль с севера на юг — что составляет расстояние от Гудзонова залива до Гаваны или от Лондона до Ташкента — и охватывали площадь, равную целой части Соединенных Штатов от Мэйна до Флориды восточнее залива Аппалачи. Суть аргумента Гарсиласо — при том, что он настаивал на том, что его родственники были несгибаемыми бойцами, — заключалась в том, что испанцы смогли захватить плацдарм только потому, что Уайна Капак, следуя предсказанию своего предка Инки Виракочи, повелел инкам «повиноваться и служить» вновь прибывшим.
Существует и другая известная версия об инкском пророчестве, независимая от повествования Гарсиласо. Впервые изданная в 1898 году, она не была доступна Прескоту. Это свидетельство так называемых кипукамайокс Ваки Кастро было написано в 1542 году, каких-нибудь десять лет спустя после конкисты. Кипукамайокс, четыре старых хранителей летописей при дворе Инков в Куско, поведали Ваке Кастро историю, весьма похожую на историю Гарсиласо: Уайна Капак, умирая от оспы, позвал к себе своего сына Атауальпу и сообщил ему, что чужеземцы, о которых ходили слухи, были виракочами, чем он хотел сказать, что они были «больше, чем просто людьми». Он, далее, предупредил Атауальпу, что его ждали великие испытания. Согласно кипукамайокс, Уайна Капак назвал испанцев виракочами, потому что они напоминали облик Инки Виракочи. Иными словами, эти местные информанты, как и Гарсиласо, связывали апокалиптическое видение Уайна Капака с Инкой Виракочей.
Хотя уже поэтому нельзя считать и далее строгой истиной характеристику точки зрения Гарсиласо как, говоря словами Прескота, «не подкрепленной свидетельствами современников», тем не менее оценка кипукамайокс остается открытой для той же критики, что и «одно лишь утверждение» Гарсиласо. Описываемый Гарсиласо эпизод подчеркивает тщетность попыток оценивать подлинность пророчества на основе того, что кто-то мог сказать. Гарсиласо рассказал, как однажды в детстве он спросил в Куско старого орехоне («большое ухо», относящееся к золотым шпулькам, носившимся на ушах инкской знатью), родственника своей матери, как могли инки, с таким численным и географическим преимуществом, оказаться побежденными горсткой испанцев. Старик утверждал, что Уайна Капак повелел своим людям служить испанцам, и повторил пророчество.
«Сказав это, он сердито повернулся ко мне, как будто я обвинял его людей в трусости и слабости, и ответил на мой вопрос, молвив: «Слова, сказанные нашим Инкой, были его последним обращением к нам и оказали более могущественное воздействие, чтобы поработить и лишить нас нашей империи, чем оружие, с которым твой отец и его спутники пришли на нашу землю…»
Но ведь старик мог сердиться как потому, что критика, скрытая в вопросе ребенка, была заслуженной, так и потому, что она была незаслуженной. С таким же успехом можно было бы черпать воду ситом. И все же… имелись определенные признаки — тут обряд, там топоним, частички и кусочки информации, рассеянной по всей хронике, которые вызывали во мне нечто подобное слабо вспоминаемым снам на пороге сознания. Там, где некогда проделки Лиса и величественная поступь небесной Ламы заполняли андское небо наследием Тиауанако, инки разглядели страшные объекты — «кого-то, кто поедает своих родителей», в то время как дальние покоренные племена также рассказывали повести о знамениях беды. Уарочирийский миф выглядит у ацтеков идентично, но только у инков он был переведен на язык смерти. Враз мысли сами возникли в моем возбужденном разуме.
В тот момент я на мгновение ощутил, как мне казалось, ужасное бремя и трагическую обреченность видения инков. Инкская империя была разгромлена таким непостижимым образом, что с тех пор немногим школьникам рассказывают о ее падении. То, что привлекло мое внимание, было настолько странным, что, казалось, парадоксальным образом подтверждало и потому подвергало опасности вероятность всего того, чему я, как полагал, научился. Испанские конкистадоры въехали в самое сердце эксперимента, не имевшего прецедента в истории человечества, — эксперимента, по которому современное воображение могло бы найти меру собственного обнищания.
Это был также эксперимент, который бросает вызов обычному историческому анализу. Масштаб этого смелого предприятия, буквально сверхчеловеческий, подрывал теории причины и следствия, полностью дискредитированные в наши дни. Более того, инки до конца будут утверждать, что имперские устремления составляли богом им предначертанную общественную службу. В наше время историческое исследование в значительной мере опирается на практику — политические, экономические и социальные переменные. С этой точки зрения, религия, понимаемая как особый интерес, становится явлением второстепенного значения, скорее функцией других факторов, чем побудительной силой сама по себе. И если такой подход проецирует современное стремление к власти, богатству и престижу на экран прошлого, то это только потому, что именно так оно всегда и было для человека или так нам говорят. Отклоняться слишком далеко от этой истины — значит снижать возможности трезвого мышления и утонченного анализа в отношении неизменности человеческой природы.
Конечно, я никогда не посмел бы написать заключительные главы этой книги, если бы не натолкнулся на особый миф, зарегистрированный в хронике, написанной священником Мартином де Муруа. До того момента я просто не имел никаких возможностей доказать то, в чем, как я подозревал, заключалась в буквальном смысле тайна инков. Это предание в том виде, в каком его сохранил Муруа, составляет инкское пророчество в его самой чистой форме. Составленное вне рамок технического языка мифологии, оно представляет, по моему мнению, один из наиболее важных сохранившихся до сего дня документов о происхождении Инкской империи.
Нижеследующие страницы начинаются с рассмотрения, с точки зрения традиционной истории, тех великих напряжений, как внутренних, так и внешних, с которыми функционировало инкское общество в начале 1400-х годов. Эти условия и составляют контекст, в котором возникло инкское пророчество. Они также представляют сочетание сил, которые способствовали величию инков. Остальная часть главы стремится показать, как действие именно тех сил, которые предвещали распад андской формы жизни в социальной сфере, одновременно было постигнуто и на небесной сфере. Именно это постижение породило инкское пророчество. Реакция на него, известная в истории как Инкская империя, является предметом анализа в главе 10, которая описывает меры, предпринимавшиеся инками, начиная с Инки Пачакути, чтобы всяческими средствами избежать того, что Инка Виракоча ощущал как неизбежность.
Мнение Гарсиласо о пророчестве Инки Виракочи выявил три элемента: возвращение Виракочи, распад андской религии и отрезок времени длиной в жизнь пяти поколений, в течение которых будут разворачиваться эти события. Условия, с которыми андское общество боролось в эпоху Инки Виракочи, дают правдоподобный во всех отношениях контекст для такого высказывания. Виракоча, бог крестьян, был в своем самом свирепом виде лишь богом возмездия. Опасные разлагающие силы повсюду в андском обществе в начале пятнадцатого столетия, к которым мы теперь обращаемся, не только оправдывали страх перед ужасными последствиями, но и сформировали те рамки, внутри которых такая катастрофа могла ожидаться. Состояние ожесточенной нескончаемой и все разрастающейся войны — противоположность учения Виракочи — было, по всем оценкам, преобладающей действительностью внутри и вокруг родины инков в начале 1400-х годов.
О пророчествах, предзнаменованиях, тайнах и знамениях инков сохранился ряд историй, которые описали период с конца царствования Инки Виракочи до вступления на трон и укрепления власти его сыном Инкой Пачакути Юпанки. Оценки перехода власти от одного царствования к другому составляют самый неоднозначный и противоречивый материал во всех испанских хрониках. Согласно всем оценкам, этот переход произошел из-за угрозы надвигавшегося нашествия чан-кас, свирепой военной конфедерации из самой сердцевины бывшего государства Уари, в двух неделях пути на запад. Основываясь на хрониках, Лорен Мак-Интир нарисовал портрет чанкас, которые
«рассматривали инков как просто выскочек… Гарсиласо писал, что чанкас считали себя потомками пумы и носили кошачьи головы поверх собственных. Они заплетали свои длинные волосы во множество крошечных косичек и применяли свирепую боевую раскраску, наносившуюся киноварью /парна/ из ртутных месторождений Уанкавелики. В течение многих лет вожди чанкас — один из них называл себя Властителем Всей Земли — все ближе продвигались к инкской столице, поглощая нацию кечуа на своем пути. Наконец военачальник чанкас потребовал «капитуляции Куско взамен на то, чтобы он не окрашивал свое копье инкской кровью».
В большинстве версий эта война осуществлялась и была выиграна Инкой Пачакути, проложившего путь к учреждению империи Солнца.
Фундаментальной проблемой, выявившейся в различных версиях этого рассказа, явился характер двух Инков. Согласно Гарсиласо, Муруа, Сиесе де Леону и Монтесиносу, Инка Виракоча был великим человеком. Гарсиласо, в отличие от большинства других, утверждает, что именно Инка Виракоча нанес поражение чанкас. Сиеса просто говорит, что он был слишком стар, чтобы сражаться, когда возникла угроза со стороны чанкас. Пачакути Ямки и Сармьенто де Гамбоа, с другой стороны, изображают Инку Виракочу слабым, трусливым и нерешительным перед лицом надвигавшегося вторжения. Кипукамайокс, информанты Ваки Кастро, категорически заявляли, что Инка Виракоча был самым великим воином, государственным деятелем и лидером из всех, кто когда-либо правил инками, в то время как анонимный хронист писал, что при Инке Виракоче жречество, которое он одобрял, было повинно в измене, подняв восстание. По версии Бетансоса, сын Пачакути, ставший самонадеянным от своей победы над чанкас, довел своего отца до полного унижения, заставляя его пить из грязных сосудов и называя его женщиной. Пачакути Ямки пересказывал истории о другом таком оскорблении старого Инки, когда его сын Инка Пачакути отказал своему собственному отцу в соответствующих привилегиях при похоронах.
Истоки этой печальной ссоры следует искать в динамике социальных делений среди доимперских инков. Классовое деление было наследием Века Воинов. Поскольку эта картина по всему высокогорью Анд была результатом институционализации войны, инки разделились на высшее (анал) и низшее (урин) сословия. Инка Виракоча принадлежал к низшему сословию, связанному с покоренной группой, коренными жителями долины Куско. Согласно Зуиде-ме, «из других данных о прелюдии к войне против чанкас выявляется, что связь между сословиями выражалась так же как родственная связь [между Инкой Пачакути и Инкой Виракочей], которая, кроме того, символизировала противостояние мирской власти (высшего сословия) и духовной власти (низшего сословия)». Демарест кратко обобщил представления Зуидемы, сказав: «Зуидема доказывает, что [бог] Виракоча как культурный герой был покровителем неинкских покоренных народов и низшего сословия Куско».
Наконец, Зуидема показал, что Инкская империя функционировала как диархия; то есть каждое сословие имело своего собственного царя, очевидно, в качестве отражения до-имперской ситуации, в которой каждое сословие обладало своими собственными руководящими органами. Высшее сословие было в большей мере связано со светскими, военными и административными вопросами, в то время как низшее — в большей мере с традиционными земледельческими и религиозными, то есть обладали оттенками Уари и Тиауанако. Поэтому сведения о противоречиях между Инкой Виракочей и Инкой Пачакути можно понимать как противоречие между точками зрения класса воинов и класса крестьян в Доимперском Куско. Сармьенто де Гамбоа, стремясь понять противоречивую информацию, прекрасно осознавал необходимость принимать во внимание сословие или, как он говорил, «партию» информанта:
«Расспрашивая во всех социальных слоях самых старых и самых умных из них, которые вызывали наибольшее доверие, я собрал и скомпилировал данную историю, касающуюся высказываний и характеристик одной партии в отношении их антагонистов из другой партии, так как они делились на партии, и исследующую воспоминания каждой из них о своем происхождении и о происхождении противостоящей партии».
Хотя сословные деления Куско дают определенное представление для понимания противоречивых мнений об Инке Виракоче и Инке Пачакути, причина их глубокой и ожесточенной ссоры становится очевидной не сразу. Причины этой ссоры коренятся в состоянии нескончаемой войны, в котором пребывало все андское общество в начале 1400-х годов. Перестройка андского общества, предпринятая в течение Века Воинов и оправдывавшаяся обещанием воинов защищать местное крестьянство от грабительских нападений, не достигла желаемого результата. Ныне непокорное, крестьянство жаждало возвращения Виракочи.
Первым вопросом, требующим пояснения, является то, что имя Инки Виракочи, как предполагается, самым определенным образом связывает его с богом Виракочей и, следовательно, с представлениями крестьянства. И Гарсиласо, и Сармьенто — оба рассказывают о том, как этот царь получил свое имя из-за наблюдения видения бога. Муруа, кроме того, отмечает, что Инке Виракоче принадлежала особая роль в престиже жречества Виракочи и что он даже старался одеваться по образу мифологического бога. Кроме того, большинство оценок Инки Виракочи приписывает ему черты бога Виракочи, как, например, то, что этот Инка был бородатым. Гуаман Пома утверждал, что этот Инка «неистово» поклонялся Виракоче. Длинное описание подвигов Инки Виракочи Сиесой проводит множество параллелей с подвигами бога, включая предрасположенность к милосердию и способность поражать метанием огня.
Из-за такой трактовки жизни Инки Виракочи в ранних оценках большинство авторитетов предпочитает наделять его преемника, Инку Пачакути, тем отличием, что он был первым подлинно историческим персонажем из списка инкских царей. Приняв имя «Опрокидывателя Пространства-Времени» и создав, согласно всем повестям, имперский культ солнца с обслуживающей его политической организацией, Пачакути стал по-настоящему исторической личностью, потому что он представляет разрыв с прошлым и начало империи. Напротив, жизнь Виракочи склонна обрастать легендой, хотя очевидцы, видя то, что считалось его мумией — которая была сожжена испанцами, — утверждали, что у нее были белоснежные волосы, что совпадает со всеми имеющимися мнениями о том, что Инка Виракоча дожил до глубокой старости. Так, даже если Инка Виракоча никогда и не существовал (хотя он, вероятно, существовал в действительности), легендарная фигура под этим именем, как предполагается, символизирует власть религии Виракочи в том виде, в каком она осуществлялась не только крестьянами или низшими сословиями Куско, но общинами нагорья в целом. Эта власть воплощалась жречеством, которой Инка Виракоча покровительствовал. Представления этой группы почти всегда изображаются в инкской мифологии противоположными, в положительном или отрицательном смысле, представлениям замышлявшего реформы Инки Пачакути.
Сведения о противоречиях, связанных с переходом от царствования Инки Виракочи к царствованию Пачакути, говорят поэтому о разрыве с социальным договором, заключенным столетиями раньше между крестьянами и воинами. Как представитель древних устоев крестьянства, Инка Виракоча должен был каким-то образом занять противоположную позицию в отношении сословия воинов, довольно опасную для социальной ткани Куско. Изображение грубых и унизительных оскорблений Инки Виракочи его сыном говорит об обществе на грани гражданской войны. Но такой конфликт был бы убийственным для обеих сторон, потому что, как и все племена Анд, инки были окружены врагами, как фактическими, так и потенциальными.
Чтобы понять, какую угрозу представлял Инка Виракоча для сословия воинов и сколь фатальными последствиями грозило требование возвращения разгневанного Виракочи, необходимо осознать только один простой факт: как класс — независимо от племенной принадлежности — воины в целом были заинтересованы в том, чтобы война не затухала. Война оправдывала существование воинов, гарантировала терпеливость крестьянства и оправдывала выдвигавшиеся воинами притязания на землю и привилегии. Инквизиторы испанского вице-короля Франсиско Толедо, изучавшие характер андского правления до возвышения инков, выявили, что без войны воины были явно не в состоянии сохранять свое господство:
«Не существовало никакого иного правительства, чем доблестные капитаны, именуемые синчис, которые командуют и управляют, когда они вели войну друг с другом, вторгаясь на территорию друг друга, чтобы захватить фураж, древесину и другие вещи. Как только заканчивалась война, эти капитаны становились такими же, как и все остальные индейцы. Они не стремились и не имели никакой возможности командовать людьми».
С другой стороны, с тех пор, как война, похоже, приобрела бесконечный характер еще до возвышения инков, крестьянство привыкало к осуществлению власти военными правителями. Сиеса де Леон, например, упоминал общее глубокое сожаление крестьян по поводу того, что до инков «они не имели никаких Властителей, а только капитанов», что говорит о систематической и все более нараставшей напряженности между крестьянством и классом воинов в Куско. Такая обстановка наблюдалась повсюду. И археологические, и этноисторические данные подтверждают эту картину противоположных форм правления по всем Андам в годы, предшествующие инкской экспансии.
Люди, похоже, устали от войны: И даже больше: они устали от воинов. Крестьянство могло надеяться изменить эту ситуацию только численностью своих членов по традиционным племенным делениям. С другой стороны, у воинов не было иного выбора, кроме как противиться возникновения любой гражданской или религиозной власти по племенным границам, так как это могло бы привести к государству мира и, следовательно, бессилию. Конфедерации, существовавшие до инкской экспансии, были конфедерациями воинов. Они были «устрашителями», наследственной группировкой, сохранявшей монополию на бронзовое оружие.
Согласно анонимному хронисту, угроза, представляемая чанкской конфедерацией, усугубила эту проблему в Куско. То, что делало угрозу со стороны чанкас особо опасной, заключалось в том, что она совпала с народным восстанием. Мнение анонимного хрониста относительно роли Инки Виракочи в этом восстании, к сожалению, лишено четкости, но одна вещь все же ясна: это была война, начатая крестьянским жречеством. И она привела Куско на грань гражданской войны.
«Кроме того, во времена Инки Виракочи многие из этих жрецов явились главной причиной, почему народ поднялся и восстал, и в особенности Анта у айлью [Андауайлас] вместе с чинчас, откуда произошли великие войны и [Инкское] царство было почти утрачено; по этой причине… [Инка Пачакути] победил своих врагов и захватил великое множество жрецов и идолов /уак/ и доставил их в Куско, а во время торжества навсегда лишил их своих должностей. И теперь, когда он стал абсолютным царем, он создал новый слой жрецов и священников, распорядившись, чтобы отныне и вовеки они происходили из класса простого и бедного люда и чтобы в случае измены или восстания они подвергались наказаниям по закону, а именно предавались жестокой смерти».
— Существенный момент в вышеупомянутой оценке — это то, что восстание народа [el pueblo] означает, что равновесие сил, которое воины сохраняли в верхах андского общества, нарушилось. Согласно анонимному хронисту, в «древние времена» — под которыми он имел в виду эпоху до развенчания жречества Инкой Пачакути — высший жрец обладал юрисдикцией над царем или военными вождями, что означает своего рода контроль за военными устремлениями высшего сословия со стороны низшего сословия. Теперь же, похоже, духовенство жаждало заполучить следующую прерогативу: руководство в войне. Успешная попытка вождей/жрецов низших сословий занять активную военную позицию означала бы хаос — классовую войну поверх племенных линий.
Позиция воинов в этой тревожной ситуации выражена во второй части пророчества Инки Виракочи: неизбежное разрушение религии крестьянства. Как мы сейчас увидим, вся система поклонения крестьян предкам, с ее предназначением для благополучия и умножения, снова оказалась предметом нападок со стороны сословия воинов, как это было, согласно уарочирийским мифам, и во время катаклизма 650 года н. э. И причины опять-таки были теми же самыми: давление на землю вследствие роста населения.
«Официальная» версия истории инков, как она написана, например, Гарсиласо и Сиесой де Леоном, подчеркивает смысл необходимости и мессианства инков, которые произрастали из отчаянных условий, созданных нескончаемым состоянием войны. Мародерство, грабеж и даже каннибализм, как говорилось, были нормой. Ряд источников сообщает о времени великого голода, засухи и чумы в начале господства Инки Пачакути. Хотя эти события описываются как часть зловещей, беспокойной атмосферы, сопровождавшей вступление на престол и политику этого архитектора Инкской империи, есть ряд оснований утверждать, что они в действительности произошли только теперь. Например, утверждают, что одна из первых акций, предпринятых Инкой Пачакути после обретения царского сана, состояла в расширении угодий пахотной земли посредством программы строительства террас. Кроме того, одной из главных целей империи являлось создание эффективной схемы перераспределения земли посредством создания и поддержания достаточных запасов продовольствия и одежды, дабы оградить любую группу в империи от возможных лишений и голода. Такие великие свершения должны предприниматься в ответ на реальную потребность.
Другой показательный факт, приводившийся выше, зафиксировали инквизиторы Толедо: фураж и дрова были настолько дефицитны, что стали целью военных набегов. Уничтожение лесов всегда является признаком давления на землю от возрастания населения, и везде, где уничтожение лесов начинает происходить в крупных масштабах, так, как мы теперь научены, неизбежно наступают экологические последствия, особенно в форме засух.
В описании Сиесой войны инков с чанкас фракция, лояльная Инке Виракоче, хотела ретироваться перед лицом чанкской угрозы и вернуться, когда нападение окончится.
Именно пассивность, также очевидная и по пророчеству Инки Виракочи, прогневила его сына. Однако ответ Виракочи подчеркивал, что характер этой войны заключался в грабеже и, возможно, извлечении дани, но не в завоевании или оккупации. Как отмечал Масон, «победитель в войнах между племенами или между городами грабил побежденных и, возможно, облагал их данью, а затем оставлял их в покое, пока, быть может, они снова не обретали достаточно мощи, чтобы превратиться в угрозу». Орехонес, или военная знать высшего сословия, в отличие от последователей Инки Виракочи, сделав вождем Инку Пачакути, желали отбросить чанкас, но не смогли собрать достаточно рекрутов, чтобы защитить город. Согласно Сиесе де Леону, орехонес вышли из этого затруднения, предложив землю добровольцам. Войско быстро увеличилось.
Вышеназванные примеры указывают на зловещую динамику того времени. Война предполагала организацию набегов на соседей ради приобретения ресурсов, недостающих на собственной территории. В случае с Куско капитуляция перед чанкас подразумевала, что и без того недостаточные ресурсы станут утекать в качестве добычи и дани на запад. С другой стороны, просто сдерживать чанкас значило бы гарантировать себя от будущих разногласий посредством «экспорта» голода. В мире сокращающихся ресурсов должно было возникать искушение сделать войну более смертоносной, в смысле доведения победы до максимума, стремясь уничтожить вражеских воинов, чтобы избежать будущего возмездия и обеспечить будущую дань. Кроме того, именно это состояние постоянной вражды делало невозможным обдумывание какой-либо интеграции в использовании ресурсов, которое могло бы преодолеть проблему дефицита.
Поэтому последователи Инки Виракочи, многие из них, очевидно, не имевшие земли, которую надо было бы защищать от опустошительных набегов, не имели интереса заниматься чанкас. Если бы предлагалась земля, то они желали бы бороться. В войнах вблизи дома, как между мифологическим [то есть до Инки Виракочи] Инкой Майта Капаком и Алькавикисой, практиковалось уничтожение и присвое-ние земли. Подозрительность, ненависть и страх стали общими для племен, некогда объединявшихся чувствами иного рода. По крайней мере два источника упоминают, что во время коронации Инки Пачакути все мосты в Перу были перерезаны.
Согласно различным источникам, в обстановке смутного времени культ предков снова стал козлом отпущения. Согласно Гуаману Поме, еще Инка Виракоча предлагал отказаться от поклонения уакам, но его отговорила жена, которая сказала, «что он не должен произносить такое предложение, потому что сам окажется под угрозой смерти, если забудет обычай своих предков…» Сохранилось мнение Пачакути Ямки об унижении Инки Виракочи его сыном Инкой Пачакути. Отказавшись соблюсти обычаи при похоронах своего умершего отца, Инка Пачакути вызвал волну гражданского неповиновения со стороны женщин Куско, которые поддержали традицию поклонения предкам. Самой зловещей была явно нарастающая физическая угроза уакам и пакаринам. Как указывал анонимный хронист, Инка Пачакути захватил уаки чанкас во время своей победы над ними. Все древние обычаи, включая обычаи войны, оказались нарушенными. При избытке безземельного и отчаявшегося люда, жаждавшего служить в войске за землю в других областях, могло случиться что угодно. Чем большие обороты набирал этот процесс, тем больше вырезалось населения льякта ради захвата его земель, их пакарины покрывались забвением, а уаки лишались кормивших их людей. Длинная тень Виракочи простерлась по земле. Момент расплаты — оттягивавшийся в течение Века Воинов — проделал полный круг. Снова древние обычаи подверглись нападкам, и на этот раз, казалось, не было выхода.
III
Похоже, что в начале царствования Инки Пачакути инки не сформулировали последовательный план по утверждению империи. Скорее похоже на то, что путь к их судьбе открывался перед ними постепенно, начиная с решения Инки Пачакути подняться против чанкас. Согласно большинству мнений, первая фаза господства Инки Пачакути предполагала попытку стабилизировать примыкающие к Куско окрестности строго жесткими военными средствами. Дж. Элден Масон подытожил эту фазу следующим образом:
«Очевидно, Пачакути собрал инкские силы с намерением поставить все соседние народы под свой контроль. Те, кто покорялся не сразу и не платил ему дань, подвергались нападению. Первыми жертвами были группы в радиусе приблизительно двадцати миль от Куско. С этими старыми традиционными врагами обращались явно не с той мягкостью, которая сопровождала последующие завоевания на более отдаленных территориях; очевидно, здесь имелись давние счеты, по которым надо было расплатиться».
Но империю невозможно создать и поддерживать на основе одной лишь силы. Очевидно, потребовалось некоторое время, чтобы эта истина дошла до Инки Пачакути. Мы видели, например, что, возрождая древнее положение воинов, которые стремились возложить вину за демографическое перенаселение на религию крестьян, Инка Пачакути первоначально думал воздействовать деспотически на чувства класса крестьян. Силверблат обратил внимание на многие такие факты, включая весьма интересный отрывок из Поло де Ондегардо, в котором мать Пачакути критикует его одержимость культом Солнца и заявляет, что его неприятности с чанкас — это результат его игнорирования поклонения Виракоче.
«Его мать рассказала ему, как увидела во сне, что причиной чанкской победы было то, что в Куско имело место в большей мере поклонение Солнцу, чем Вселенскому Творцу [то есть Виракоче], и что впредь ожидалось, что они будут наносить больше убытков ему и тем статуям [то есть уакам/ и более регулярно, и что впоследствии над чанкас даст ему победу и пошлет ему людей с небес тот, кто ему поможет».
Постепенно инки стали осознавать, что путь к господству состоял не в том, чтобы пытаться, как это столетиями было присуще Андам, сокрушить всю оппозицию на поле боя, а в том, чтобы развивать тягу к миру и порядку не только у низшего сословия Куско, но и среди андских крестьян в целом. Путь военного господства завел в безвыходное положение могущественные военные конфедерации. Путь к империи пролегал через бога Виракочу. Пользуясь враждебностью, скрытой в сословных делениях вверх и вниз по Андам, инки — теперь уже отделившиеся от воинов в соответствии с притязаниями на происхождение от Солнца и Луны — разобьют психологические оковы страха, надетые на крестьян военной аристократией, предложив мир вместо войны, пищу вместо голода и религиозную терпимость вместо враждебности к культу предков.
Инка Пачакути проявлял гораздо более милосердное поведение после завершения первого раунда завоеваний, призванного обезопасить окрестности Куско. Похоже, что инки начали понимать, что могли завладеть действительно огромной властью, если сумеют убедить крестьянство не быть «пушечным мясом» для своих локальных военных вождей. Таким образом, либеральная доза милосердия к побежденным, приправленная в редких случаях беспощадным обращением с особенно упорным врагом, вскоре ясно показала, что инки были из другого теста, нежели воины старого образца. Инки быстро подкрепляли завоевание всеми административными методами, необходимыми для налаживания адекватного продовольственного обеспечения в каждой области. Они давали то, что воины больше не могли, а быть может, больше и не стремились обеспечить: продовольствие и освобождение от нашествий.
Далее, только иногда инки угрожали религии крестьянства. Масон отмечал, что в качестве общей политики «не осуществлялось никакого принуждения местного населения с тем, чтобы заставить его отказаться от своего древнего языка и религии». Язык кечуа навязывался только классам воинов и администраторов. С другой стороны, если группа вела себя таким образом, что инки считали особенно коварным или мятежным поведением, то ее членов могла ожидать участь хуже смерти в виде их сгона с родины, места пакарины, и переселения на какую-нибудь отдаленную землю. С религиозной точки зрения, эта инкская практика была эквивалентной уничтожению идентичности группы.
Рассказ о событиях, приведших к основанию Инкской империи, подсказывает, что зло замыкалось на андских племенах, в том числе на инках. Во времена дефицита, при интенсивном и безжалостном военном давлении извне и недовольстве, граничащем с изменой, со стороны жреческих представителей крестьянского класса изнутри, класс воинов исчерпал свой запас вариантов. Они не могли захватывать земли в других областях, не вызывая неизбежного возмездия. Они не могли защищать родину без рекрутов, но в этих рекрутах нуждалась земля. В присутствии врагов на границах ни одно сословие не могло себе позволить тотальную гражданскую войну, но воины, тем не менее, возлагали вину за ситуацию на склонность простолюдинов к «сверхразмножению». Крестьянское сословие находилось на грани восстания. В этом нарастающем хаосе инкский жрец-царь Виракоча и произнес — для внутреннего потребления своей семьи — свое страшное пророчество.
Будь это пророчество простым подведением итогов очерченных выше сил, оно было бы вовсе и не пророчеством, а простой констатацией того факта, что Инка Виракоча прекрасно разбирался в очевидном. Хотя силы распада, действовавшие в андском обществе в начале пятнадцатого столетия, были огромны, никто пока не описал, кто мог бы стать или станет субъектом пророчества. Разумеется, само время создавало плодородную почву для предвидения гибели, но свершение пророчества не начинается или не заканчивается текущими событиями. Если имелось пророчество, то ни его существование, ни его воздействие на Инку Пачакути не могут быть поняты с точки зрения традиционной истории.
IV
Хотя большинство информации, которой мы обладаем о доколумбовой жизни Анд, относится к инкам, множество андских мифов повествует о еще более древних временах и событиях. За исключением нескольких историй, как, например, о роковой встрече Виракочи с отцом Манко Капака, немногие инкские мифы принадлежат к этим более ранним временам. Кроме того, как и ацтеки, инки известны своим «переписыванием» истории или по крайней мере мифологической летописи прошлого в политических целях. Нигде эта склонность не проявляется более откровенно, чем в некоторых версиях андского мифа о сотворении, в которых послушный долгу Виракоча избирает инков из числа всех других племен как группу, предназначенную для гегемонии над Андами.
В этом смысле инкская мифологическая летопись абсолютно не заслуживает доверия. Таким же образом, каким ацтеки, взывая к духу легитимности, возводили свои корни к мифологической Туле десятого столетия тольтекского бога-царя Кецалькоатля, инки представляли себя законными хозяевами наследия Тиауанако, переданного Манко Капаку. Интенсивность, с которой инки прибегали к эксплуатации мифологической «базы данных» в политических целях, демонстрируется прочным сохранением мифологического наследия в андском мышлении.
На мой взгляд, инкское пророчество подняло вопрос о степени, в которой инки действительно «контролировали» мифологическое наследие Анд. Конечно, если бы пророчество являлось обманом, то этот вопрос не имел бы смысла. Но если действительно имелось тайное пророчество, хранимое царской семьей, то это означало, что Инки находили слишком опасным для общего потребления то, что им было известно. Следуя этой логике, я подозревал, что инки увидели — или, вернее, предвидели — нечто в небесах. Как и другие андские народы, они тысячелетиями обучались интеллектуальной дисциплине постижения истории с точки зрения синхронности земных и небесных событий. Теперь же, с проецированием на небеса принципов войны и господства и приближением к Куско чанкас, инкский император будто бы произнес пророчество о гибели. Если это действительно имело место, то не указывает ли это на то, что Инки были сторонниками астрологического предсказания в такой же мере, в какой они манипулировали небесной метафорой? Этот взгляд, конечно, не противоречил Гуаману Поме, который определял развитие астрологической мысли как характерную особенность Века Войны: «Наблюдая за звездами и кометами, они узнавали, что должно было случиться».
Я нашел свой путь в эти проблемы, исследуя характер одного небесного объекта, который, хотя и был известен под иным именем в других местах Анд, получил от инков многозначительное и чрезвычайно специфическое название.
Это было инкское «созвездие», известное хронистам как мама миркук, которое буквально означает «некто, кто пожирает свою мать и отца». Если повреждение, причиненное техническому языку мифологии в течение Века Воинов, должно было спроецировать силы зла на саму ткань космоса, тогда, конечно, переименование инками этого объекта надо связывать с таким процессом.
Лексикограф Ольгин определил этот объект как «некие звезды вблизи Южного Креста [cruzero], а в отношении значения глагола миркунни пришел к следующему выводу: «Поедать отца или мать есть величайший грех; поэтому они назвали это своим собственным термином и тем утверждали, что в небе есть звезда, которая противостоит этому греху, которая пагубно воздействует на тех, кто предается ему, и которую они называют Маман мирку куильюр, что означает «Звезду тех, кто поедает своих отца или мать».
Первоначально я втянулся в изучение этого объекта потому, что его терминология напоминала инкские «официальные» оправдания создания империи. Как отмечалось выше, Инки утверждали, что на Анды опустился кровопролитный хаос. Среди мерзостей, которые они перечисляли, был каннибализм. Ритуальная практика людоедства, потребление останков предков была общей практикой того времени у племен Амазонки. В инкском представлении, эти племена всегда приравнивались к нецивилизованной дикости. Действительно, во времена инкского господства они производили опустошение на восточных границах империи. Кроме того, постулируя существование на небесном своде мама миркук — то есть космической силы, каравшей пожирание предков, — инки, казалось, отразили как раз ту часть инкского пророчества, которая была самой разрушительной: разрушение андской религии. Религия андского крестьянства покоилась на основополагающем принципе кормления предков. Именно здесь была та сила, возведенная на уровень космической реальности, которая предвещала абсолютную отмену всего священного, поедание предков. Это и привлекло мое внимание.
Зуидема идентифицировал мама миркук (без комментариев) как Южный «угольный мешок», скопление черного облака, известное по уарочирийским мифам как льюту или андское тинамоу, похожая на куропатку птица. Этот объект находится на юго-востоке от квадранта Южного Креста (рисунок 3.5). Ольгин также помещал мама миркук «вблизи Южного Креста», но говорил, что он состоял из звезд. С другой стороны, Ольгин не знал о существовании в Андах системы скоплений темных облаков.
Аналогичным образом современный лексикограф. Отец Хорхе Лира высказался о представлениях кечуа о целительной силе небесного объекта, известного как «таϊ ladrom, «злой вор», и наблюдаемого провидцами, когда они желают поймать вора. Провидец смотрит, находится ли «злой вор вблизи или вдалеке от [Южного] креста. Подобно Ольгину, Лира не знал об объектах темного облака. Поскольку ни один объект в глубоких южных небесах не «движется» по отношению к своим соседям, то описание Лирой представлений, помещающих «злого вора» то вблизи, то вдалеке от Южного Креста, вероятно, упоминает общеизвестную андскую практику наблюдений. Как полевое исследование Уртона, так и мое собственное показали повсеместное распространение у современных коренных народов Анд способа предсказания по звездам посредством наблюдения их вида в зависимости от влажности атмосферы. Когда уровень влажности в атмосфере достаточен для формирования ледяных кристаллов, свет рассеивается и наблюдаемый объект несколько затенен. В случае с темными облаками, объект выглядит сокращающимся или расширяющимся, в зависимости от атмосферного льда, перемещаясь поэтому дальше или ближе к соседней звезде.
Наконец, в ходе полевых исследований в департаменте Куско в 1978 году я услышал от информанта длинный рассказ о Южном Кресте, который он называл льюту крус, или «крест тинамоу». Четыре яркие звезды были «добрыми» братьями, в то время как пятый брат, «угольный мешок», был «злым» (локу), не оказывавшим «никакого почтения своему отца или матери, ни даже местным властям». Как и «злой вор» у Лиры и мама миркук у инков, «злой» брат льюту, Южный «угольный мешок», был социопатическим символом, чье «поведение» представляло собой подрыв обычного права.
Теперь я пытался постичь, какое значение в инкском мировоззрении имело переименование объекта, некогда известного под невинным именем льюту, то есть «некто, кто пожирает своих родителей». В попытке определить этот сдвиг в мифологическом восприятии, повлеченный за собой этим изменением, я обратился к мифу из Века Воинов, единственному, насколько я знал, андскому мифу доколумбового происхождения, в котором куропатка, Лютер, играет значительную роль. Этот миф, находящийся в уарочирийском своде, включает еще одну неприятность с Лисой, на этот раз в качестве старосты партии работников, которые собираются вместе для ежегодной очистки ирригационных канав. Эта партия включает «пуму, лису, змею, птиц каждого вида». Поскольку партия поднимается в горы (уркун), к верхней части канала,
«вдруг прилетела куропатка [льюту]. Она наполнила воздух своим криком «Писк! Писк!», и одурманенный им Лис, завопив «Уак!», упал и скатился с холма. Другие звери расстроились, а змея заняла ее место. Они сказали, что, если бы Лис не упал, то оросительный канал следовало бы начинать выше; теперь же течет немного ниже».
Этот красивый и причудливый фрагмент дается в главе 6 Уарочири, в главе, следующей сразу после рассказа о сносе дома «ложного бога». Основным структурным символом в этой истории, уже знакомым нам, является установление колюра солнцестояния, великого круга, соединяющего точки солнцестояния в звездах через полюс. Как староста партии рабочих
Лис, восходящий в декабрьское солнцестояние, пытается «взобраться на гору», то есть достичь соответствующего соединения с точкой июньского солнцестояния в звездах. Как выясняется из мифа, Лис упал. Истоки оросительной канавы предполагалось поднять «выше» на гору, но Лис «поскользнулся», и поэтому вода начинает течь ниже (рисунок 9.1). Иными словами, в эпоху после потопа 650 года небесный источник вод, Млечный Путь, больше не всходил у вершины горы, то есть в июньское солнцестояние. Миф подчеркивает этот момент, говоря, что возглавляемая Лисой команда желала достичь места немного выше, но не вершины. Однако Лиса «заскользила» еще больше, что означает, что теперь не только хвост Лисы, но также и часть тела «соскользнули с горы». (Сравните рисунок 9.2 с положением приблизительно на два столетия ранее, рисунок 2.9а.) И неизбежно также исток «оросительного канала», то есть Млечный Путь, восходит ныне «ниже» предполагавшейся стороны горы (рисунок 9.1 сравните с рисунком 2.10а, представляющим июньское солнцестояние 650 года н. э.). Таким образом, миф сообщает об эффекте прецессионного движения одновременно в обеих точках солнцестояния в звездах.
Обратите внимание также на то, что рисунок 9.2 изображает тот же момент, что и рисунок 4.3 — когда Жаба «упрыгала», а дом «ложного бога» рухнул. Миф о падении Лисы следует сразу же после этого рассказа, составляя с ним парную часть. Жаба, выполнявшая функцию обозначения южного небесного полюса вращения при гелиакическом восходе в декабрьское солнцестояние, льюту, также неизбежно «перемещалась». Это событие представлено в мифе как внезапный «полет» льюту, который настолько поражает Лиса, что он трусит. Поэтому данный миф, похоже, как и миф о «ложном боге», повествует о времени падения Уари и начала Века Париакаки и воинов, то есть где-нибудь в девятом столетии н. э.
В стремлении понять смысл переименования льюту в мама миркук я обнаружил несколько контрастов. Прежде всего забавным выглядит уарочирийский миф. Юмор фактически служит в качестве усилителя памяти, своего рода кинетического фарса, придающего незабываемый смысл связности «событий» мифа. Один из наиболее интересных аспектов этой истории — это фактически мастерство, используемое для проецирования этого смысла связности движения неподвижных звезд. Если сдвигается что-то одно, перемещается все. Льюту летит, вызывая падение Лиса, приводя в волнение всех остальных зверей, освобождая «змею» — то есть «тектоническую» силу, которая «перемещает» небесную землю.
Смысл объединенного движения неподвижных звезд подчеркивается, далее, деятельностью зверей. В Андах по сей день каждый должен участвовать в ежегодной очистке оросительных каналов. Даже если человек слишком болен или слишком состоятельный, чтобы выполнять физический труд, он тем не менее обязан нанять работника из другой деревни взамен себя. Очистка оросительных каналов — это занятие андских общин par excellence[110]. В очистке ирригационных каналов — все за одного и один за всех. Если Лиса падает, падают все, и результат неизбежен: «оросительная канава» течет теперь немного ниже.
Археологические данные также подтверждают такое толкование мифа. Как уже отмечалось, фундаментальная космологическая схема, по которой осуществлялась планировка Инкской империи, тауантинсуйу, подвергалась влиянию азимута восхода Южного Креста. Там, где все другие линии в этом крестообразном делении направлялись к кардинальным точкам, линия, которая «должна» идти на юг из центра (храма Солнца), искривлялась к юго-востоку, к той точке на горизонте, где всходил Южный Крест и льюту.
В свете вышеупомянутого рассказа, кажется очевидным, что причиной такой процедуры была заинтересованность в связи между прецессионным движением и льюту крус. Причина такого подхода состоит просто в том, что азимут восхода звезд (точки их восхождения на горизонте) перемещается быстрее по горизонту вследствие прецессии в глубине южного неба, чем это делают звезды, расположенные ближе к восточно-западной линии. Миф делает это утверждение, отмечая, что именно льюту инициализировал движение всех других звезд. Вопрос здесь не в «обвинении» льюту за ее быстрый полет, а в том, как «там стали» вести себя объекты. Они выступают здесь, как это было в действительности, «системой раннего предупреждения» о прецессионном движении. Далее, причина, по которой миф упоминает скорее льюту, чем Южный Крест или некую иную звезду, состоит в попытке избежать смешения яблок с апельсинами. В центре данной истории находятся злоключения Лисы. Лиса — это объект темного облака. Что касается специфики наблюдения — при которой объекты темного облака начинают постепенно исчезать из вида приблизительно за два часа перед восходом солнца, — положение Лисы надо сравнивать с положением другого объекта темного облака.
Из этого сравнения мифологического льюту с инкской мама миркук я все же вынес нечто. В уарочирийском мифе связь неподвижных звезд друг с другом выражена в виде незатейливой метафоры — очистки оросительной канавы, воплощенной в кинетическое изображение мультипликации. Полет льюту, который ускоряет действие, не выражается в смысле вины, а является «естественным» событием, чтобы эта история была понятной на любом уровне. С другой стороны, в этом же самом объекте инки видели подвох. За истекшие столетия что-то изменилось, некое восприятие, имеющее отношение к самой природе небесных тел. Южный «угольный мешок» теперь грозил «сожрать» предков. Единственное сведение, которое я мог бы извлечь, было общее: как объект, восходящий в южных небесах, мама миркук была удобным индикатором прецессионного движения. Казалось, что нечто относящееся к смещению ориентации земли в небесной сфере беспокоило инков. Тем временем в памяти слабо шевелилась мысль: где-то я уже слышал эту историю прежде.
V
Версии ацтекских мифов о Кецалькоатле рассеяны по целой дюжине текстов. Из пяти существующих фрагментов, сохранившихся в оригинале на науатле (ацтекском)[111], один относится к началу Пятого Века, или Века Солнца, по ацтекской космогонии, и к роли, сыгранной богом Кецалькоатлем в сотворении человечества Пятого Века. Это событие, зафиксированное в так называемых «Легендах о Сыне», произошло, как говорили, в течение полумифологического Тольтекского периода (приблизительно 600 — 1100 годов н. э.), который начался после того, как великий потоп разрушил Четвертый Мир. По ацтекской схеме, во время конкисты все еще продолжался Пятый Век.
История начинается с замысла собравшихся богов сотворить некое новое человечество, которое бы им поклонялось. Именно Кецалькоатль предпринимает путешествие в Миктлан, землю усопших, чтобы взять там кости предков человечества. Он принесет их обратно на землю богов, которые могли произвести новое воплощение расы. У входа в преисподнюю Кецалькоатль встречает божество земли усопших, двуликого властителя и властительницу Миктлана. Когда он объясняет им свою задачу, властитель и властительница соглашаются пойти ему навстречу, советуя сначала подуть в трубу-раковину. Но божество Миктлана — двулично, и труба оказывается заткнутой. Тем не менее Кецалькоатль преодолевает препятствие и извлекает звуки из трубы. Вынужденные теперь уступить желанию Кецалькоатля, властитель и властительница Миктлана говорят ему, чтобы он взял кости.
Но они приготовили ловушку. Они велят своим «подданным» потребовать разрешением кости. Кецалькоатль протестует и, прибегая к собственной уловке и притворяясь согласным, убегает. Властитель и властительница Земли Мертвых тут же обращаются к своим «подданным»:
«Святые, Кецалькоатль поистине уносит драгоценные кости, Святые, сделайте ему склеп!» Тогда они сделали его для него. Кроме того, его напугал перепел, и так он свалился в склеп, споткнулся и упал без сознания. И драгоценные кости тут же поэтому были разбросаны. Тогда перепел стал клевать их. И когда Кецалькоатль пришел в себя, он зарыдал. Затем он сказал своему науалю [второму «я» духовного мира]: «Мой науаль!/Как будет с ним?» И сразу ему ответили: «Как будет с ним? Он будет погублен. Но позволь ему быть как будет».
Бирхорст замечал: «Этот печальный эпизод наглядно объясняет происхождение человеческой смертности».
Возможно, я был близок к тому, чтобы испытать свой собственный «печальный эпизод». Насколько я мог понять, этот миф был фактически идентичен мифу о Лисе и оросительной канаве. Проблема состояла в том, что уровень обмена между Мексикой и Перу, необходимый для такой идентичности, как предполагается, не имел места.
В центре обоих мифов находится точка декабрьского солнцестояния в звездах. Этот факт в ацтекской версии выражается не только путешествием Кецалькоатля к воротам на землю усопших, но также тем фактом, что для того, чтобы войти туда, надо было проявить способность унести панцирь раковины, символ положения солнца в звездах в декабрьское солнцестояние. Аналогичным образом в центре интереса уарочирийского мифа о «Лисе и Ирригации Бригаде» находится гелиакический восход небесной Лисы в декабрьское солнцестояние. Далее, подобно Лисе, Кецалькоатль пытается «подняться». В случае с Лисой этот подъем находится на горе. В случае с Кецалькоатлем он предполагает попытку возвратиться на землю богов. Для Ацтеков, как и с Олимпами у бесчисленного множества других народов, высшее божество обитало «на вершине Омейокана», на тринадцатом и самом высоком небе.
Таким образом, в обоих рассказах образы включают «попытку» установить колюр солнцестояния, связывая вход на землю усопших с землей богов, и эти попытки завершаются «неудачей». Неспособность Кецалькоатля подняться с драгоценными костями означает, что связи между землей богов и землей усопших были разорваны. Поэтому временные рамки, описываемые мифом, выглядят идентичными временным рамкам уарочирийского предания, а именно после «потопа», когда Лиса «упала», а мост на землю богов через Млечный Путь в июньское солнцестояние был разрушен. Мы избежали длинного отступления, чтобы установить вопрос о дате, благодаря наличию письменных летописей в Мезоамерике. Согласно Бирхорсту, «история Кецалькоатля охватывает годы 1 Тростника (850 год н. э.) через 1 Тростник (902 год н. э.)…». Это — та же самая дата, которая указывается в андской версии. (Смотри рисунки 9.1 и 9.2.)
На этом «морфологические» сходства мифов кончаются, уступая место идентичности особенного, идиоматического выражения. Хотя и правильно говорить, что использование технического языка мифологии в повестях будет часто прилагать усилия для описания колюра солнцестояния в какую-то эпоху, они делают это в рамках идиоматических разновидностей местной версии данного языка. В рассматриваемом случае расстояние в 4,500 мили и предполагаемое отсутствие контактов между инками и ацтеками не достаточны для того, чтобы отмахнуться от присутствия перепела/ льюту.
Подобно Лисе, Кецалькоатль падает, когда его спугнул вспорхнувший перепел. Здесь Бирхорст выдвигает решающее замечание об идентичности «подданных» властителя и властительницы Миктлана, то есть «Святых», которым поручено сделать «склеп» для Кецалькоатля: «склеп — это мотив, заимствованный из мифов об Уране, где он обычно связан с ревностными охранниками звездами, которые пытаются захватить солнце или утреннюю звезду, чтобы предотвратить их восход»[112].
Именно это действие всех звезд — «Святых», взятых вместе, и неожиданный полет перепела сводят на нет попытки Кецалькоатля установить небесный колюр, связывающий три мира. Как и в уарочирийской версии, здесь пума, змея и «птицы каждого вида» — то есть все звезды — «впадают в волнение» после того, как улетает льюту. Однако в ацтекском случае звезды теперь «ревнивы», пагубны. И препятствуют они восходу не физического солнца, а Солнца Четвертого Века, когда оба потока Млечного Пути восходят вместе с солнцами солнцестояний.
Что касается астрономической идентичности ацтекского перепела, то, по крайней мере, определенно то, что перепел, подобно андскому льюту, понимался в Мезоамерике как средство для выражения смещений вследствие прецессии в положении Млечного Пути. Эти сведения содержатся в майяском «Кусебе», мрачной книге апокалиптического пророчества, созданной в колониальный период: «…усевшись стаей, перепела будут громко кричать с ветки сейбы [дерева]…». Бирхорст пересказывает этот отрывок следующим образом: «Роящиеся подобно бесчисленным душам преисподней, злые птицы смерти прилетают, чтобы навалиться на сейбу, то есть древо жизни…». Благодаря работе Линды Шеле ныне хорошо известно, что образ дерева сейбы, земное проявление древа жизни, относится, на уровне астрономии, к Млечному Пути. Образ перепела на древе жизни — это образ дестабилизации, как может судить всякий, кто наблюдал неловкое поведение перепела в полете и его попытку приземлиться.
Оба мифа отражают понятие о «дестабилизации» Млечного Пути посредством изображения неловкого полета перепела. Но в то время как андская версия сосредоточена на комическом потенциале льюту, ацтекская версия неустанно изображает его как предвестника гибели. Чтобы уловить значение этого различия, необходимо понять, когда был сотворен ацтекский миф.
Известно, что ацтеки сжигали древние кодексы. В то время, когда тольтеки достигли пика своего величия примерно в X столетии н. э., ацтеки числились среди племен, известных как чичимеки, то есть «варвары», бродячие охотники засушливых областей северной Мексики и юга штата Техас. Когда тольтеки правили в Туле, чичимеки в большей мере озабочены избеганием скорпионов и гремучих змей, чем прекрасными достоинствами мифологического тона. Когда, начиная приблизительно с тринадцатого столетия, эти племена стали мигрировать в центральные районы Мексики, они впервые вошли в контакт с высокой цивилизацией. Ацтекские версии мифов о Кецалькоатле представляют собой переработки древних источников, чьи письменные версии они уничтожили. Ацтеки уничтожали эти кодексы, с тем чтобы их собственная версия мифологической базы данных не могла бы оспариваться. Частью этих усилий было отражение фаталистского видения, которое будет оправдывать действия Ацтекской Империи. Хотя я должен был еще осознать величие этого видения, я к тому времени знал достаточно, чтобы определить словоупотребления гибели.
Новое прочтение ацтекского мифа о падении Кецалькоатля меня потрясло, и не просто потому, что рассказ был функционально идентичен андскому мифу о Лисе и Перепеле. Было довольно необычно предположить, что уже в девятом или десятом столетии происходил своего рода обмен между Андами и Мексикой. Более обнадеживающим был тот факт, что и инки, и ацтеки, казалось, начали фактически одновременно развивать «идиому гибели». Ацтекский миф, составленный где-то в 1400-х годах, должно быть, происходил от более древних источников. Перепел — это теперь злое животное, ассоциировавшийся повсеместно ацтеками с сексуальной непристойностью. Судьба приключения Кецалькоатля окончательно решается тогда, когда перепел «клюет» кости предков. И в то же самое время, в пятнадцатом столетии, в Куско совершенно неожиданно созвездию льюту дается второе имя, «некто, кто поедает предков».
Я не знал, что происходит. Все, что я мог разглядеть, заключалось в том, что, начиная с времени составителей уарочирийских мифов, у инков произошел радикальный сдвиг в восприятии небес и что он включал в себя процесс проецирования чувства вины на звезды. Я ощутил, что корень этой идеи был связан с толчком, приданным техническому языку мифологии воинами после падения Уари. Это было открытием сезона на политическое использование священной традиции. Что ж до того, почему весь этот процесс, казалось, развивался также в Мексике, я оставался в недоумении. Все, что я мог бы уяснить, состояло в том, что инки и ацтеки, казалось, возлагали вину за что-то на звезды. В уарочирийских мифах животные-звезды были «ответственны» за события в небесной сфере, но не было ничего подобного этому. У инков заразительное предчувствие висело в воздухе. В Куско произносились пророчества. А там, в небесах, нечто клевало кости предков.
VI
Я увлекся тем, что смог увидеть: проблемой ответственности против вины, проецируемой на звезды. Я пробовал думать о мифах, в которых звезды участвовали в каких-то действиях, достойных упрека. В мифах 200 года до н. э. звезды были пассивны. Их создал Виракоча. В мифах о потопе 650 года н. э. животные-звезды уже реагировали на ситуацию, взбираясь на гору ради спасения. В уарочирийских мифах они работали вместе, как это делают крестьяне. Это было понятно, поскольку те же самые животные звезды выступали небесными прародителями/покровителями различных племен. Кроме того, мифы Уарочири не были инкскими мифами. Возможно, только инки были посвящены в эту новую тайну на небесах. В этом был некоторый смысл. Именно у них появилось пророчество и именно они хранили его тайну.
Единственной из прочих историй, которая, как казалось, отдаленно отвечала этой потребности, был фрагмент из другой истории Уарочири о небесной Ламе, известной там как Якана:
«Они говорят, что Якана является побудителем /ка-мак/ перемещений лам через середину неба. Мы, коренные народы, можем видеть, как она выделяется темным пятном.
Якана перемещается внутри Млечного Пути. Она большая, действительно большая. Она становится чернее, когда приближается по небу, с двумя глазами и очень большой шеей…
В полночь, когда никто не обращает внимания, Якана выпивает всю воду из океана. Если Якана не сумеет выпить ее, вода быстро затопит весь мир.
Перед Яканой движется маленькое темное пятно, и, насколько нам известно, люди называет его Тинамоу».
Итак, имелся некий объект в неподвижной сфере звезд, обладавший важнейшей ответственностью.
Это изображение небесной Ламы не несло в себе ничего дурного, однако по отношению к этой истории имелось нечто странное, что я не сразу понял. Оно, казалось, говорило, что небесная Лама сдерживала потоп, что именно в этом состояла ее «роль». Здесь, конечно, было участие и, как в других уарочирийских мифах, никакого оттенка вины. Тем не менее здесь было нечто странно зловещее. В конечном счете я понял, что эта история была единственным мифом в испанских хрониках,» повествующим в настоящем времени. Действительно ли надвигался «потоп» — важное прецессионное событие — или я слишком многое вычитал в этой истории? Я нашел слово кечуа для обозначения надвигающегося потопа, переводимого как «затопление» или как «погружение» (sepultado) у Аргедаса. Во-первых, слово было чисто аймарского происхождения, пампауахуан. Пампа означает «плоскую равнину». Уахуан я встречал прежде. Это был аймарский синрним уира, понятия наклоненной плоскости. Этот термин не имел ничего общего с водой и полностью относился к астрономии. Иными словами, «Если лама не сумеет выпить всю воду, плоскость всего мира наклонится».
Повествуя в настоящем времени, этот миф подразумевал, что в Уарочири во времена конкисты существовало предание, предание о надвигающемся прецессионном событии. Это было в некотором роде как бы малым пророчеством на себя самого. Что бы оно ни означало, так или иначе здесь была замешана небесная Лама. После того, как до меня дошло, что происходило, все показалось вполне очевидным.
Мост на землю усопших утонул.
Как и Лиса перед нею, Лама исчезала. Неумолимый ход времени собирался покончить с соединением между землями мертвых и живых. Ее время было уже не за горами. Вот почему Инка Виракоча предсказывал разрушение андской религии. И вот почему инки переименовали Южный «угольный мешок» в «кого-то, кто поедает своего отца и мать». Так как азимут восхода Южного Креста все более смещается на юг, Лама все более приближалась к исчезновению в гелиакическом восходе в декабрьском солнцестоянии: «Если лама Не сумеет выпить всю воду, плоскость всего мира наклонится».
Рисунок 9.3а показывает момент гелиакического восхода Млечного Пути в декабрьское солнцестояние в Куско в 1432 году, приблизительную дату пророчества Инки Виракочи. Здесь точно такие же условия, как и при наблюдении гелиакического восхода в событиях 650 года н. э. Солнце снижается на двадцать четыре градуса, делая видимым слабое свечение Млечного Пути. Часть Млечного Пути по эклиптике, то есть в отметке декабрьского солнцестояния на горизонте, становится едва лишь видимой. Как раз на юге едва виден ипсилон Скорпиона, отмечающий заднюю часть Ламы и соседнего с ней сосунка, детеныша ламы. Как происходило и в 650 году н. э., восходили наводнения времени. В июньское солнцестояние 650 года «мост» на землю богов был разрушен. Теперь, приблизительно восемь сотен лет спустя, в декабрьское солнцестояние «мост», соединявший людей с их предками, их прошлым и их традициями, находился на краю такой же гибели.
Небесным прототипом всех родословных уак была небесная Лама. Скоро ее «родовой проход», откуда пришел ее сосунок, а также все поколения человека, не будет больше орошать землю амниотическими водами изобилия. Единение родины уак с землей исчезало. Как же будут отныне возвращаться души мертвых, чтобы обучать живых; и, что еще хуже, как будут люди перевоплощаться, когда снова будут готовы родиться из матки великой небесной матери?
Рисунок 9.3Ь показывает устрашающий смысл пророчества Инки Виракочи. Сотней лет позже, с началом испанской конкисты, ипсилон Скорпиона, сосунок, и последние остатки Млечного Пути где-то вблизи эклиптики исчезли. Когда испанцы уже рыскали по побережью Эквадора, а Уайна Капак лежал при смерти, великий символ нерушимой преданности людей своим предкам погружался в широкое море коллективных воспоминаний. Конечно, Инка Виракоча знал, что конец наступит после пяти царей. Это было чуть сложнее, чем вычисление статистических данных.
По мере того как я размышлял над этими вопросами, я стал ощущать ужасное бремя, под которым пришлось страдать инкам. Если бы историк видел смысл исторической причинности в том факте, что каждое важное событие в андской истории точно совпадало по отношению к Млечному Пути в солнцестояниях, его бы считали совершенно рехнувшимся. Но Инки имели дело с образным, а не с наглядным видением. И они знали мифы. Чудесный расцвет тиауанакской цивилизации начался тогда, когда солнца солнцестояний вошли в Млечный Путь. Этот золотой век завершился, и завершился как раз тогда, когда одновременно Млечный Путь прекратил сходить в июньское солнцестояние и на земле разгорелась война. Виракоча оставил землю. Люди и их боги никогда не будут снова столь близкими. Теперь же, при племенной вражде, приближающейся к беспрецедентному уровню опасности, при дефиците и голодных ртах, которые надо было накормить, при малоземелье и повсеместном убийственном стремлении предупредить крестьян от «сверхразмножения» какими угодно средствами, — теперь все оказывалось в опасности. И в небесах, опять-таки одновременно, имелось зловещее космическое зеркало событий на земле. Кто же мог избежать астрологического волнения?
В течение восьми столетий люди «Анд боролись с наследием Уари и войны. Священные наставления предков, хотя и сохранялись, тоже подверглись изменениям. Некоторые теперь расхваливали эти наставления как единственно истинные. По мере того как протекали столетия, привычка видеть в своде священного учения скорее отдельную реальность, чем инструмент памяти, стала выкристаллизовываться в традицию. Могла процветать лишь астрология. Цыплята снова возвращались домой к насесту. Грубая переделка воинами тонкой природы технического языка мифологии неизбежно вела к астрологической перспективе. При данном положении вещей возмездием астрологии является уверенность в гибели. И тогда сила становится отдельной системой. В течение почти двух тысячелетий ритмы Млечного Пути поддерживают сверхъестественное отношение к датам Периодов андской археологии.
Стоит ли тогда удивляться, что Инка Виракоча предсказывал конец всего? Ведь это было ясно начертано в звездах. Далее, можно ли отнести осведомленность о том, что в декабрьских небесах вырисовывалось приближение некой космической катастрофы непостижимого масштаба, на счет чрезмерного пристрастия, свойственного инкам и, быть может, также мексиканцам? Насколько я мог судить, это следовало отнести на счет самого этого представления, потому что оно всего лишь обобщало громадное множество сведений. Все равно разрыв между теорией и любыми средствами доказательства казался совершенно непреодолимым. Возможно, некоторые догадки предназначалось хранить под замком. А кроме того, действительно ли инки верили этому, они не сообщали. Или так мне казалось.
VII
На Востоке существует поговорка: «Если у тебя нет никаких проблем, то купи себе козла». Купившись на инкское пророчество, я приобрел множество козлов. В этом и был смысл, и в то же время не было. Если, как следует из всех оценок, Инкская империя родилась вследствие жесткого отрицания представлений Инки Виракочи, то не являлось ли его пророчество с самого начала дискредитированной доктриной? Однако предание утверждало также, что инки передавали это пророчество из поколения в поколение, пока Уайна Капак не объявил со своего смертного ложа о конце всего. Инки отвергли пророчество. И они же сохраняли пророчество. Могущество Инкской империи было мерой их решимости жить не по фаталистским взглядам. Распад империи из-за появления испанцев означал осуществление этих взглядов. Эта позиция Прескота начинала выглядеть прямо завидной. Но сокрытие целой ламы под ковром оставило бы большой бугор на полу гостиной комнаты.
Для меня это было прекрасным случаем прочитать хронику испанского священника Мартина Муруа, важный источник потому, что «он последовательно рассматривал события со стороны индейцев». Это была задача, которую я неоднократно откладывал по причине того, что Дуруа был мастером на длинные сентенции. Среди блестящего массива придаточных предложений, всегда выдержанных в сослагательном наклонении, находился золотой рудник архаичных зависимых совпадений, достигающих трех, четырех и даже пяти слов, служивших ключом в поиске подлежащего среди огромного множества глаголов. Создавалось впечатление, будто Муруа, помешавшийся в какой-то ужасной испанской семинарии, учился латинскому синтаксису у третьесортных подражателей Цицерону в библиотеке аббата. Ладно, я знал, как он воспринимал: что угодно, лишь бы не преследовать козлов.
Если инки воздерживались от объяснения Муруа значения того, что они ему сообщали, они, тем не менее, доверяли ему. Муруа фиксировал сведения в такой атмосфере, когда обе стороны инкского общества побуждали всякого умеющего писать испанца отражать точку зрения своего сословия, то есть зачастую немного больше, чем просто клевету. Как показал недавно Уртон, некоторые заискивали перед испанцами как раз для того, чтобы придумывать рассказы о мифологическом происхождении ради подкрепления претензий на землю при новом режимом. Тем не менее, хотя вокруг писцов из Кастилии сновали толпы инкских «докторов по небылицам», некоторые из инков, похоже, обладали более широким видением. В этой подтасовке инкского исторического наследия вырастал контакт другого рода.
Группа инков, почти сплошь из шаманов-астрономов, искала человека определенного рода, человека, на которого они могли бы положиться в сохранении того, что они ему сообщат. Такой человек должен был быть относительно свободным от суетности. Его попросили в точности записать нечто, что он не понимал. И этот человек должен был в своей жизни уже победить гордыню. Иначе он мог бы подвергнуть осмеянию или, того хуже, «объяснить» вне существования то, что его просили хранить. Прежде всего эта задача требовала человека с самосознанием, такого, который был бы в состоянии преодолеть предубеждения своего времени и, обращаясь к некоему внутреннему компасу, осознать серьезность момента. Мартин Муруа был именно таким человеком. Вот что сообщили ему инки о важнейшем моменте своей истории, когда Инка Пачакути принял на себя управление судьбами своего народа:
«Могущественный и доблестный Инка Юпанки, который звался также и другим именем, Пачакути Инка Юпанки, был царевичем, сыном великого Манко Капака, первого царя этого царства, и точно также этот великий Пачакути был первым военным государем и завоевателем этого царства, который покорил все окрестности великого города Куско; он внушил к себе страх и сам себя назвал Властителем; они говорят, что он был не так храбр, как жесток, потому что обладал весьма суровым характером, и он первым приказал почитать уаки и [первым] отдал распоряжения о том, каким образом следовало им приносить жертвы, и он разделил их /уаки/ и распорядился поклоняться им по всей империи; и есть такие, которые говорят, хотя и языком мифа /fabulosamente/, что причиной тому послужило то, что во времена этого великого полководца и государя Пачакути выше города, на месте под названием Чатакака или Сапи, [явился] человек, одетый в красное, как на том изображении]?], с трубой в одной руке и посохом в другой, и что накануне его появления проливные дожди шли в течение месяца, днем и ночью без остановки, и что они боялись, что мир опрокинется, что они называют пачакути, и что этот человек пришел по воде и что он остановился за четыре лиги от Куско; государь вышел встретить его там, где они условились, и он стал умолять [пришельца], чтобы тот не дул в свою трубу, потому как они боялись, что, если он подует в нее, то весь мир опрокинется, и [затем он умолял] чтобы они были братьями и чтобы [действительно] он не дул в нее, и через некоторое число дней он [явление?] обернулся камнем и по этой причине он назвал себя Пачакути, что означает опрокидывать землю, или, в ином смысле, отказываться и лишаться своего собственного наследства; этот государь и полководец имел за плечами великие войны и столкновения со своими врагами и выходил победителем, как храбрый и могущественный полководец; а потом он заказывал великие пиршества и множество жертвоприношений; и он установил, что год начинается в декабре, то есть когда солнце достигает предела в своем движении, потому как до правления этого государя год начинался в январе».
Информант(ы) Муруа начал(и) с достижений Инки Пачакути: завоеваний и религиозной реформы посредством реорганизации поклонения уакам. Затем они объясняют, почему Пачакути предпринял эти шаги. Сделав это, они переходят на язык мифологии. Или, быть может, точнее, они объясняют, что Пачакути действовал и думал с точки зрения мифологии.
Повесть открывается предзнаменованиями бедствия. В течение тридцати дней и тридцати ночей лили неземные дожди. Стоял ли мир на краю, гибели? Из других источников нам известно, что существовало предание о первых годах царствования Инки Пачакути. Они были необычайно трудны. И Пачакути Ямка, и Гуаман Пома говорили о разрушительной засухе.
«В те дни был великий голод, который продолжался в течение семи лет, и в течение всего этого времени семена не приносили никаких плодов. Многие умерли от голода, и рассказывали даже, что некоторые ели своих собственных детей».
Выражая почти что с ликованием то, что приключилось с ненавистными инками в царствование Инки Пачакути, Гуаман Пома писал:
«В то время приключилось великое число смертей среди индейцев от голода, жажды и чумы, потому что в качестве наказания Бог отказывал им в дожде на протяжении семи лет, некоторые говорят, что в течение десяти лет. Были потопы, землетрясения и много штормов, а ныне все заняты тем, что оплакивают и хоронят мертвых».
В таком случае вполне вероятно, что начало царствования Инки Пачакути сопровождалось великой засухой. Это вряд ли благоприятствовало новому царю. Он сердился на своего отца, Инку Виракочу. Он не желал подчиняться фаталисте-кому видению. Его собственная мать делала ему наставления о его обязанностях по отношению к религии Виракочи. Однако он не мог решить, что делать. Он стремился одерживать победы над всеми опасностями на полях сражений, но крестьянство в долине Куско и за ее пределами кололо ему пятки. Так как силы истории закружили его в водовороте, он испытывал разочарование и нерешительность. Согласно Бетансосу, перед решающим сражением с чанкас Инке Пачакути явилось видение победы. Поначалу он подумал, что в его видении была фигура Виракочи, но позднее, при планировании строительства храма, он изменил свое мнение и решил, что фигурой в его видении должно быть Солнце. Создавалось впечатление, будто ангелы войны и милосердия — тень Уари и свет Тиауанако — расселись на плечах у царя, нашептывая ему то в одно ухо, то в другое. И сами силы природы, будто сговорившись, подбрасывали ему засуху, смерть и чуму — пращами и «стрелами» Аучи, планетарного проявления Виракочи, бога Справедливости. Призрак Виракочи витал над Куско.
И именно об этом повествует рассказ Муруа. Одетый в такую же красную одежду, в которую Инка Виракоча облек жречество, призрак витал над городом. И он нес посох. Инка Пачакути вышел, чтобы встретиться с ним у места под названием Сапи. Сапи называлось городище выше Куско, откуда каждый январь инки выпускали водяной поток, который нес пепел ежегодных жертвоприношений Виракоче (Приложение 1). А теперь им грозил потоп иного рода, потоп со всею ужасающей силой неизбежности. Инка Пачакути был поставлен на колени. Он пошел просить Виракочу остановить воды погибели.
Миф недвусмысленно проясняет природу этого потопа. Виракоча в другой руке нес трубу из раковины. Здесь, как я понимал, подтверждались мои догадки. Угрожавший потоп произойдет в декабрьское, солнцестояние. Вход на землю усопших вот-вот будет смыт. Казалось, что момент свершения ужасного пророчества Инки Виракочи о полном разрушении андской религии был уже не за горами. Раковина была символом входа на землю усопших. Виракоча возвратился в своей ипостаси Властителя Преисподней.
Эта же символика фигурировала и в ацтекском мифе о Кецалькоатле. Властитель и Властительница Миктлана дали раковину Кецалькоатлю как испытание, чтобы войти, и эта пара была «маской Ометеотля», гермафродитного ацтекского Сатурна, «матери богов, отца богов, старого бога / распростертого в пупе земли /…Властителя огня и времени». Аналогичным образом мы встречаем такой же образ бога у майя. В Паленке, когда усопший царь погружался в ворота преисподней между панцирями раковины, заходящее солнце декабрьского солнцестояния бросает свои лучи на Бога L, которого Келли отождествлял с планетой Сатурн в ее проявлении как Властителя Преисподней. Наконец, такое толкование значения раковины Виракочи полностью подтверждается тем фактом, что в конце повести Инка Пачакути решает реорганизовать календарь так, чтобы год начинался точно в декабрьское солнцестояние. Эта история не оставляет относительно этого никаких сомнений; центром каждого зловещего предзнаменования является декабрьское солнцестояние.
Хотя повествование Муруа и подтверждает обоснованность моих подозрений относительно астрономической основы инкского пророчества, оно не смогло решить — и даже, похоже, усугубило — уже встречавшийся главный парадокс. Статус пророчества снова оказывается совершенно неясным. Пачакути молит Виракочу не дуть в трубу, потому что, как он говорит, хочет предотвратить пачакути. В следующий раз он объявляет пачакути, даже берет его себе в качестве собственного имени. Обращение к данному моменту на рисунках 9.3а и 9.3Ь проясняет безнадежность этого маневра. Однако, по всем оценкам, Инка Пачакути объявил о начале Пятого Солнца как раз тогда, когда он принял свое новое имя. Верил ли он в Пророчество или же отвергал его? Это было возвращение к квадратуре круга.
Тем временем я боролся с одной частностью. Хотя это первоначальное толкование мифа казалось чрезвычайно многообещающим, меня настораживал тот факт, что Муруа упомянул Инку Пачакути как «сына» Манко Капака. Если Муруа действительно так считал, тогда его сведения должны были быть сомнительными, но из других частей его произведений было ясно, что он понимал список инкских царей так же, как любой его современник. Почему же тогда он зовет Пачакути — девятого Инку — сыном первого Инки? После некоторых раздумий мне пришло в голову, что, быть может, Муруа скопировал эту формулировку о генеалогии Инки Пачакути, потому что его информанты желали подчеркнуть, что Пачакути унаследовал от самого начала легитимность на то, чтобы быть регентом планеты Юпитер на земле.
Означало ли это, что миф Муруа говорил о сближении Виракочи и сына Манко Капака? Общепринятой датой коронации Инки Пачакути считается 1438 год. И Гуаман Пома, и Пачакути Ямки определяли семилетний период как тревожный. У Гуамана Помы это мог быть намек на Библию. У Пачакути Ямки такая возможность менее вероятна. Кроме того, в Андах числом, обычно ассоциируемым с мистическим отрезком времени, является число пять — пять дней для прорастания семени и пять дней для перелета душ мертвых. Если критический момент для Инки Пачакути наступил через семь лет после престолонаследия, тогда бы это произошло в 1445 году или же в 1444 году, если 1438 год считать как полный год.
В 1444 году наблюдалось сближение Сатурна и Юпитера. (Смотри рисунок 9.4.) Опять же в этом нет ничего необычного, так как сближение происходит каждые двадцать лет. Но здесь припасен еще один потрясающий сюрприз. Это было необычное сближение. Это было сближение, повторяющее треугольник каждые восемь сотен дет или, точнее, 794 года. Сатурн и Юпитер впервые с 680 года н. э. снова вошли в сближение в той же самой области в звездах, где столетиями раньше Виракоча «покинул землю». (Сравните рисунок 9.4 с рисунком 5.4.) Инка Пачакути действительно поднимался навстречу видению на самую вершину космической горы у входа на землю богов. Вот почему он обращается к видению как к «брату», возможно, несколько фамильярно, но Пачакути был человеком гордым и, кроме того, в качестве регента Юпитера принадлежал к тому же самому планетарному роду, что и само видение.
Теперь стало ясно, почему у Инки Пачакути не было иного выбора, кроме как объявить о начале Пятого Солнца. Точно так же, как и в 650 году н. э., когда Сатурн передал посох планетарного, а следовательно, и земного правления Манко Капаку именно потому, что мост на землю богов рушился, так и теперь, в 1444 году, старый бог возвратился (поскольку вход на землю усопших готовился «исчезнуть»), чтобы еще раз подтвердить право Инков на управление. Я недооценивал Пачакути. Он ходил не просить, а торговаться. Он встретил Виракочу в Сапи, называемом также чатакакой, буквально «камнем, где защищаешь свою правоту». Возможно, превращение видения в камень, как упомянул Муруа, было превращением этого события в воспоминание над Куско. Это действительно было такое событие, которое стоило запомнить. История земли и неба казалась снова выровненной. Какие странные были времена, и в то же время как гармонично они вписывались в священное учение Анд.
Так что Инка Пачакути заключил с Виракочей сделку. Властитель Преисподней воздерживался от дутья в свою трубу. Однако снова дух парадокса окутал это событие. Виракоча пришел с раковиной. Несомненно, мост на землю усопших был обречен на разрушение… но еще не был разрушен. Оставалось еще какое-нибудь столетие, пять поколений, до заключительного финала. Что же сказал Пачакути видению? Что мог он сказать? Что будет значить все могущество и вся слава Империи, если ей было предначертано погибнуть в мгновение ока? Однако Пачакути остался с гордо поднятой головой. Он принимал пророчество, и он же отвергал его. В конце концов он принял все значение власти старого крестьянского бога как раз тогда, когда объявил о начале Пятого Солнца.
Мой разум был переполнен элементами этого парадокса. Сверху донизу. Война шла повсюду. Было слишком много людей, слишком много этих почитателей уак. Их религия пребывала в кризисе. Они произвели на свет слишком много детей. Они были угрозой самим себе. Их религия была обречена, обречена на земле и в небесах. Однако Пачакути, поняв это, объявил о миссии инков как спасителей андской жизни под знаменем Пятого Солнца.
И однако снова Инки, как никто другой, осознавали признаки неизбежности. Это они сохраняли пророчество в тайне, это они назвали врага мама миркук и выработали свое целостное осмысление пространства, чтобы прицелиться на юго-восток, на этот отвратительный объект. Они наблюдали катастрофический отрыв человека от своих предков устойчивым пристальным взглядом. И они действовали. Они устроили войну, войну, вызванную беспокойным крестьянством, потомками звезд. Пачакути распорядился о реорганизации уак. Уаки, звезды. Звезды все ближе перемещались к катастрофе. Новое
Солнце. Неизбежная утрата. Неукротимая воля. Да, пророчество истинно. Нет, пророчество не истинно.
Когда решение этого парадокса само появится, я мог бы лишь принять его. Инка Пачакути вознамерился изменить ход истории, изменяя направление звезд.
ГЛАВА 10
ТАЙНА
В декабре месяце, называвшемся Капак Инти Рай-ми, [Инки] отмечали праздник могущественного Царя Солнца в виде великого и торжественного празднества, потому что они полагали, что Солнце являлось всемогущим царем неба, планет и звезд… В том месяце они осуществили великие жертвоприношения Солнцу, преподнеся ему огромное количество золотых и серебряных сосудов, которые они захоронили. Они также принесли в жертву пять сотен невинных мальчиков и девочек, которых они закопали живьем…
I
Нет более очевидного доказательства того, что Инки хранили тайны, чем описание Муруа роковой встречи между Инкой Пачакути и Виракочей над Куско. Если бы эта версия инкского пророчества была простой уступкой раненой гордости, непредусмотрительно придуманной на потеху последующим поколениям, тогда не было бы никакого смысла в его скрытом языке. Это — повесть священников и для священников. Если она также являет собой послание в бутылке, брошенной в течение времени к некоему невообразимому берегу будущего, тогда передача этой повести демонстрирует степень отчаяния ее отправителей. Но на это ничто еще не указывало. Никакому священнику Рима, независимо от того, насколько порядочным он был, нельзя было доверить ее тайный смысл. Такой жест мог бы стать лишь самоубийственным, сырым мясом для собак инквизиции. Однако ввиду того, что повесть была не разбавлена, Муруа мог лишь протолкнуть ее в безопасную гавань у волнорезов истории. В конце концов ничего не должно было быть утеряно.
Секретность была принципом инкского духовенства, принципом, установленным задолго до появления конкистадоров. Гарсиласо, в адрес которого было высказано столько злословий по поводу его «легковерия» в инкское пророчество, записал также и другие предания, включая слова Инки Рокки, пятого преемника Манко Капака: «Он распорядился, чтобы дети простых людей не посвящались в науки, которые должны были быть известны только аристократам, чтобы низшие классы не преисполнялись гордыней и не подвергали опасности сообщество».
Это чувство заново появляется в разные времена и в разных местах. Коперник, например, отстаивал свой аргумент: «Меня нисколько не заботят те, даже церковные доктора, кто повторяет расхожие предубеждения. Математика для математиков… Что касается тех, кто пытается распространять эти доктрины в неверном порядке и без подготовки, то они уподобляются тем людям, которые наливают чистую воду в грязную цистерну». Таким же образом старейшины племен африканского народа догон перед тем, как раскрыть свою странную астрономическую космологию, позволяли Марселю Жриолю и Жиермэну Диетерлену «созревать» в течение шестнадцати лет. Диетерлен писал:
«У групп, среди которых все еще сохраняет силу традиция, это знание, нарочито характеризуемое как скрытое, является тайной лишь вот в каком смысле. Оно в действительности открыто для каждого, кто проявляет желание понять столь долго, сколько в соответствии со своим социальным положением и этическим поведением он считается того достойным. Таким образом, каждый глава семьи, каждый священник, каждый взрослый человек, ответственный за какую-нибудь маленькую толику социальной жизни, может в качестве части социальной группы приобретать это знание при условии, что он обладает терпением и, как говорится в африканской фразе, «приходит посидеть рядом с мудрыми старейшинами» столько времени и в таком настроении, которые потребуются».
У андских народов знамение могло помечать кандидата в шаманы-жрецы. Выживание после удара молнии было хорошим признаком, каким являлось и выживание близнецов-мальчиков после погружения в холодную воду, их неизбежной участи. При отсутствии знамения, другие качества — способность, настойчивость, физическая или моральная отвага — открывали, как у догон, двери к дому старейшин. Тайное хранилось строго, потому что оно было драгоценно, но его сокрытость не доводилась до степени мистики. Сохранение до настоящего времени практического знания астрономии среди андских крестьян делает понятным, что приглашение к дальнейшему познанию предоставлялось свободно. Потому что те же самые звезды и темные облака, по которым крестьяне сверяли время посева, проходят также через их мифы. Если кто-то ощущает там тайну, он волен гоняться за нею и далее. Склад ума, терпение, своего рода умеренное любопытство — таковы были качества кандидата в шаманы-священники.
Неоднократно в парадигматическом конфликте между раздражительным Инкой Пачакути и силами традиции, по-разному представленными Виракочей, Инкой Виракочей, духовенством и традиционализмом женщин, обнаруживаешь неизменную решимость крестьянства направить жесткую непримиримость нового императора в русло более великодушного поведения. Это они, как и сам Пачакути, создали облик андского императора как благодетельного завоевателя. Эта динамика была свойственна и структуре, и историческому развитию империи, и ее ослаблению, продолжавшемуся до конца. Гарсиласо описывает, как Уайна Капака, разгневанного восстанием чачапойас в Эквадоре и замышлявшего кровавую месть, отговаривала процессия женщин во главе со старой женщиной, бывшей одной из жен его отца. Он был так поражен ее мольбой о милосердии, что уполномочил ее управлять реинтеграцией ее народа в состав Империи.
Несмотря на способность андских низших сословий влиять на изменение поведения императора, Пачакути никогда не смог бы предпринять что-либо столь же простое, как «реставрация» Века Виракочи. Такая позиция побудила бы весь класс воинов Анд сплотиться в единую силу, противостоящую инкам, хотя бы потому, что построение мира по старым чертежам не оставляло никакого места для воинов. Инкское намерение «освободить» крестьянство, даже если предположить такой импульс альтруизма, объединило бы и, следовательно, сделало бы неуязвимым класс воинов. Парадоксальным образом, стало быть, продолжение войны было столь же необходимо для успеха инков, сколь и установление мира. Ничего, кроме расширения Империи, не обеспечило бы то динамическое равновесие, которого требовала ситуация. Лавирование между Сциллой и Харибдой этих противоположных сил обременяло Инку Пачакути. Как мы видели из примера Бетансоса, его видением победы был, как он думал сначала, Виракоча. Позже он поймет, что им было Солнце. Его ожидало суровое испытание. Если путь к власти лежит через бога Виракочу, то путь вокруг воинов освещался образом Солнца.
Посредством символики Солнца инки объявили о такой стратегии правления, которая посылала одно сообщение воинам, а другое — крестьянству. Воины могли бы признать и осознать в ней утверждение командного мужского присутствия. Солнце господствовало. Его лучи заставляли одинаково меркнуть как «звезды», так и «планеты». Солнце правило. Посредством солнечного календаря инки централизовали бы власть с помощью регулирования ежегодного ритуального календаря над обширными пространствами. Солнце было воином. Само вызывающее притязание инков на происхождение от Солнца и Луны — что Гуаман Пома называл «великим обманом!» — провозглашало, что инки были одними из них. Разве сами воины не захватывали земли с помощью беспрецедентного притязания на планетарное происхождение? Первым шагом по заключению мира с врагом было добиться с его стороны уважения.
Для крестьянства инкское утверждение об их происхождении подразумевало нечто совсем иное. Это утверждение поставило бы инков вне досягаемости воинов и прочно привязало бы к ним сердца крестьян. Инки утверждали, что были рупором Солнца и Луны. При этом они подтверждали, и в самых сильных терминах, самые заветные чаяния крестьянства: найти правителей, которые уважали бы космологическую обоснованность системы с двойным родством, основанной на учении Виракочи. Инка был царем мужчин, в то время как его жена, Койа, — царицей женщин. Для крестьянства эта символика представляла собой подтверждение всей космологической справедливости андской традиции Виракочи. В этом заключаюсь признание системы с двойным родством, равноценности мужчин и женщин — короче говоря, всех надежд крестьянства на лучшее будущее.
В то же время это была идея, на которую воины не могли бы нападать по праву, так как это неизбежно поставило бы под вопрос их собственные космологические притязания на происхождение от планет. Похоже, что сами инки никогда не выдвигали прямых претензий на планетарное происхождение. Согласно источникам, их связь с планетой Юпитер была связью скорее родового сходства, чем единокровности. Анонимный хронист упоминает Манко Капака как «регента» Юпитера, в то время как повесть Пачакути Ямки о Виракоче, передающем свой посох, проясняет, что отец Манко Капака был человеком, который завоевал расположение в глазах божества. Конечно, возможно, что инки просто изменяли свою историю, когда это им подходило, но ранние источники упоминают то презрение, с которым чанкас относились к инкам за их утверждение о происхождении от Солнца и Луны (смотри выше). Так как это мнение относится к периоду до инкской имперской экспансии, то, возможно, что инки экспериментировали с этими идеями и что эти же самые идеи — намерения слить воедино дух Тиауанако с некоторыми из наименее обременительных административных методов Уари — были причастны к относительному спокойствию в долине Куско вплоть до нападения Чанки.
В любом случае, провозгласив свою особую привилегию на управление в качестве прямых потомков уникальных небесных уак, Солнца и Луны, и перенеся арену дебатов вокруг этого притязания на поле сражения, в ту сферу, где они были особенно искусны, инки изобрели способ для занятия весьма мощных позиций. Миссия, осуществляемая армиями инкского Царя Солнца, состояла в восстановлении порядка. Крестьянству, уставшему от проживания в укрепленных деревнях под постоянной угрозой нападений, символика Солнца и Луны, главных регуляторов земледельческого года, показывала отношение к его интересам. В той мере, в какой крестьянство могло желать принять такое регулирование, будет зависеть и прочность тылов у воинов.
Инки охраняли свое положение безупречно, задействуя все необходимые ответвления своих претензий, как, например, практику царского кровосмешения между братом и сестрой для сохранения божественного наследования через систему двойного происхождения от Солнца и Луны. Там, где крестьянство увидит приспособление древних идеалов к символике, соответствующей Пятому Солнцу, воины увидят в действии мастеров игры во власть.
Возможно, важнейшим по отношению к воинам следствием инкского утверждения о происхождении от солнца было то, что оно обеспечивало воинов средством принять свое поражение без позора. Оставляя местное управление в руках существующей военной знати, инки с самого начала недвусмысленно дали понять, что в их намерения не входила попытка уничтожить класс воинов и что скорее они стремились сотрудничать с ним ради расширения империи. Поэтому данная группа воинов, присоединяясь к инкам или будучи побежденной инками, не испытывала снижения своего статуса по отношению к местным народам, но наоборот, осыпалась имперскими благами. В то же время у воинов имелась возможность оправдывать правильность капитуляции перед высшей властью, Солнцем. В той мере, в какой они принимали и поддерживали инкскую идею о «естественном» превосходстве Солнца, воины могли избегать позора. Кроме того, у воинов оставалось вполне достаточно возможностей продолжать заниматься войной, теперь под знаменем инков. Инки фактически обеспечили класс воинов стимулами к его поражению. Анды были ослеплены блеском Солнца.
Хотя некоторые элементы проделанного выше анализа могут представлять новизну, они тем не менее приводятся в рамках стандартной исторической перспективы. Этот анализ концентрируется на противоположных требованиях различных основ власти, помещенных в контекст кризиса по причине экологических и демографических факторов.
Недостаток этого представления состоит в том, что оно оставляет впечатление, будто формирование Инкской империи было своего рода рептильным вползанием во властные щели, выживанием самых ловких. Такое изображение исключает другие элементы, которые, хотя и неосязаемы, являются не менее реальными. Имелось признание глубокого горя повсюду на земле, равно как и ощущение красоты, азарта в риске и постоянно присутствующей возможности трагедии, которая пронизывала каждое земное свершение инков. В некотором роде, к которому могут подходить лишь такие слова, как харизма, андские народы были выведены на орбиту Куско.
Все расчеты низшего порядка, которые в течение Века Воинов подрывали представления об андской жизни, отступили перед более великой целью. Если инки и околдовали чем-то горную цепь Анд, то это нечто состояло из элементов культурного наследия, знакомого самому широкому кругу андских жителей, элементов, чьи изящество и сила лишь возрастали по мере того, как они интегрировались во внутренний, скрытый круг, центром которого был теперь Куско. Хорошо ли, плохо ли, но судьба андских. народов была отныне связана с судьбой Солнца. Но если выживание Солнца зависело теперь от успеха весьма специфического вида войны, то тайны ее эффективности не будут раскладываться без разбора перед простыми людьми.
II
Где-то в 1400-х годах в технический язык мифологии в Андах вошел новый термин, и это же произошло также в Мексике. Это был термин «Солнце», и он устоялся как синоним идеи «мира» или «мира-века». Как раз потому, что данный термин возник в это время, то, что он был призван в точности передавать, а также цели, ради которых он вводился в миф, были неверно истолкованы начиная со времени конкисты.
И Гуаман Пома, и Муруа подробно рассматривают пять Веков андской традиции (глава 2). Муруа, как и Гарсиласо, использует термин «Солнце» по отношению к концепции мира-века. Далее, мифологическая формулировка «Смерть Солнца» относится к тому же событию, что и слово пачакути, а именно к моменту разрушения одного Века или Солнца и началу следующего. Мы, например, уже видели упоминание этого термина в мифе Уарочири (глава 8). Помимо рассмотрения доктрины о пяти Солнцах, Муруа вторично обращается к этим идеям, очевидно, в связи с началом Пятого Солнца:
«Они говорят, — что в то время был величайший потоп, и они полагали, что это был конец мира, но что сначала они перенесут величайшую засуху и что Солнце и Луна, которым они поклоняются, исчезнут, и по этой причине индейцы имели обыкновение плакать и издавать громкие крики и причитания, когда случалось затмение, особенно Солнца».
Среди интересных наблюдений, обнаруживаемых в этом отрывке, находится представление о том, что инки опасались не только «Смерти Солнца», но также и «Смерти» его супруги, Луны. Эта формулировка в точности отвечает идеям, уже рассмотренным выше, а именно что солнечно-лунный лик Бога Ворот, символизирующий солнце и полнолуние при противопоставлении точек солнцестояний, был призван передавать, помимо прочих вещей, средства выражения параметров всего мира-века, расположенного в звездах. Кульминацию этого представления мы находим во внедрении инками данной символики непосредственно в язык, в фактическом синониме представления о мире-веке. Но исследователи инков, начиная с испанцев и кончая современными учеными, не сумели понять значение инкской «солнечной» символики, в частности отношения понятия Солнца как мира-века к благосостоянию империи. Значение термина «Солнце» как мира-века не только не принималось в расчет, но также и было сочтено причудливым дополнением к инкскому «поклонению» физическому солнцу. Весь комплекс представлений о Пяти Веках или Пяти Солнцах, был, в лучшем случае, понят как «мифопоэтическое» воображение прошлого, а в худшем — отклонен как путаное размышление.
Не подвергавшиеся сомнению, такие предположения значительно притупили аналитическую способность исследователей по отношению к некоторым видам информации. Например, хотя Муруа ясно показывает, что затмения расценивались как возможные предзнаменования пачакути, или «Смерти Солнца», исследователи Анд по сей день приучены к мысли, будто коренные народы испытывали страх перед затмениями якобы из боязни, что могли погибнуть физическое солнце или луна. Аналогичным образом и в отношении ацтеков, у которых «Смерть Солнца» предполагала ту же самую вещь, что и в Перу, мы встречаем постоянное утверждение, будто ацтеки настолько боялись недолговечности «Солнца», что каждое утро ожидали со страхом, что солнце вдруг не взойдет.
Важно поэтому внести абсолютную ясность. В своем скрытом значении слово «Солнце» подразумевало продолжительный промежуток времени, разделявший значительные прецессионные события. В Андах его значение связывалось с обретением или утратой «доступа» к Млечному Пути в гелиакическом восходе в одно из солнцестояний. В более древней терминологии пача и пачакути, «мир», который был разрушен, состоял из воображаемой плоскости по эклиптике, «небесной земли», поддерживаемой «четырьмя столпами», то есть из звезд, восходящих в солнцестояния и равноденствия. Эти миры «рушились», когда в течение прецессионного времени их «столпы» «погружались в море», уступая место следующему «миру». Слово «Солнце», используемое в смысле мира-века, — это просто иной способ рассмотрения того же самого явления. Имелось, так сказать, «Солнце», которое восходило в определенную эпоху в определенном скоплении звезд, отмечающих равноденствия и солнцестояния. Но когда эти четыре «столпа» погружались, тогда восходившее с ними «Солнце» тоже исчезало. Вслед за этим появляется новое «Солнце», то, которое сопровождается иным составом небесных игроков.
Эта интерпретация не есть просто догадка. Хотя тайное значение слова «Солнце» могло подвергаться инками жесткому регулированию ради содействия их целям, по крайней мере одно племя на окраинах империи, мокови, даже в первой половине восемнадцатого столетия все еще понимало и сохраняло смысл этой терминологии.
«Когда-то [солнце] упало с неба, и это так отозвалось в сердцах мокови, что они ухитрились поместить его обратно и привязать его на место /атаггаг/, чтобы оно больше не сваливалось вниз. То же самое произошло и с небом, но изобретательные и крепкие мокови подняли его, поддерживая на концах полюсов, и снова прикрепили к его осям /ejes/.
Солнце упало во второй раз либо потому, что его привязь /ataduras/ не была достаточно прочной, либо потому, что время ослабило его силу. И так наступило время, когда потоки огня и пламени распространились повсюду и жгли все, и поглотили деревья, растения, животных и людей. Несколько мокови, чтобы спастись, нырнули на дно рек и озер и обратились в капигуарас [капибар] (Hydrochoerus) и кайманов. Но двое из них, муж и жена, нашли убежище на верхушке очень высокого дерева, откуда они наблюдали огненную реку, затопившую поверхность земли».
Этой менее страстной идиомой, чем инкское понятие «Смерть Солнца», мокови описывают свое соприкосновение с солнцем, обладавшим странной привычкой столь часто падать. Тактичные по своей природе, мокови привязывают солнце снова на место. «Естественно», в то же самое время падает небо, и они также поднимают его, поддерживая на полюсах, — как можно догадаться, на четырех полюсах. Эту функции способны выполнить только люди, потому что только они обладают способностью восприятия, необходимой для того, чтобы заметить сначала само это явление (прецессию), а затем «смоделировать» новые «полюса», то есть обозначить новые звезды, на которых будет покоиться следующий «мир». В любом случае позже солнце падает снова, «либо потому, что его привязь не была достаточно прочной, либо потому, что время ослабило его силу», причем последнее стоит в форме явного утверждения о причинах столь странного поведения солнца, какое только можно где-либо встретить. Если отвязывание солнца от своей «привязи» напоминает другой ритуал инкского «поклонения солнцу» — «привязывание солнца», — то можно воздержаться от приговора о «суеверии», по крайней мере достаточно долго для того, чтобы присмотреться к нему поближе.
III
Когда в 1911 году Хайрем Бингхем обнаружил Мачу-Пикчу, он нашел единственный оставшийся образец из класса предметов, систематически уничтожавшихся испанцами, известный как интиуатана. Интиуатана из Мачу-Пикчу — это столп, или гномон, возвышающийся из гранитного блока размером с пианино. По останкам подобных разрушенных памятников в Куско, Писаку и в других местах известно, что интиуатана играла важную роль в инкском ритуале. Круп описал одну теорию, согласно которой интиуатана могла выполнять какую-то функцию календаря, используя тени, оставляемые солнцем на гномоне. Интиуатана буквально означает «для привязывания солнца», хотя наиболее часто она переводится в значении «стойка для привязывания солнца».
Этот последний образ дает впечатление о солнце, «привязанном» к гномону. Источником для такой интерпретации может служить широкое распространение мифов о «привязывании солнца», встречавшихся по всей Америке и Океании и не менее часто в Европе и Азии. В таких мифах «привязывание» солнца обычно связано с солнцестояниями. С седой древности эта идея часто интерпретировалась как описание ежегодного пути солнца. Далее, акцентирование на солнцестоянии представляет, как считается, изначальное представление о том, что если бы люди не «привязывали» солнце, оно бы все еще продолжало идти после точки солнцестояния и дальше к забвению. Приведенная выше повесть мокови показывает, однако, что — по крайней мере во времена инков — эти вопросы были не так просты. Всякий раз «падало» солнце, «падало» также небо, что говорит о разъединении, включающем и солнце, и звезды.
С таким представлением в голове можно было бы с успехом повторно рассмотреть смысл слова интиуатана «для привязывания солнца», задавшись вопросом «К чему должно было привязываться солнце? Интиуатана в Мачу-Пикчу, похоже, в действительности символизирует само солнце. Интиуатана не только бросает тени на завет солнца, и никаких теней нет вообще, когда солнце, как и сам гномон, стоит в вертикальном в день прохождения зенита, но она также, как и солнце, занимает центральное место в ритуале. Как упоминалось выше (глава 7, примечание 39), исследования доктора Рэя Уайта показали, что вокруг основания интиуатаны выставлены изображения четырех созвездий, символизирующих форму суйус, или четвертей Инкской империи. Такие же расколотые рельефы найдены на большом расстоянии от гномона, на четырех камнях, составляющих форму взаимнокардинального пересечения (солнцестояния). Если сам гномон представляет солнце, а «линии», исходящие от него, служат для «крепления» солнца, тогда выходит, что интиуатана предназначалась «для привязывания солнца к звездам».
Именно эта символика господствовала над геомантической конфигурацией Куско. Как отчасти уже рассматривалось в главе 2, храм Солнца в Куско был центром, от которого исходили сорок «лучей» или секе во все точки вокруг горизонта[113]. Четыре из них представляли четыре (взаимнокардинальных) пути к четырем четвертям Империи. Другие шли соответственно на восток, к «горе равноденствия», Пачатусан, «несущей опоре пространства-времени». Третьи, как мы уже видели, были направлены прямо на азимут восхода Южного Креста, известного как льюту крус, а также как мама миркук. Сорок линий секе, простирающиеся во всех направлениях к горизонту, обеспечивали из точки обзора Солнца (Храма) практические средства наблюдения за азимутом восхода звезд вокруг всего горизонта.
Далее, как отмечалось в главе 5, число сорок соответствует числу сближений Сатурна и Юпитера, составляющему мир-век[114]. Благодаря Муруа нам известно то огромное значение, которое во время царствования Пачакути придавалось «возвращению» в 1444 году сближения Сатурна и Юпитера 650 года н. э. Здесь, в творении Пачакути — системе секе, — мы получаем первый намек на то, что понималось под затеянной Пачакути «реорганизацией уак», упоминавшейся Муруа. В 328 уаках, распределенных по разным секе по прямой линии к горизонту, были представлены родословные уаки покоренных племен. Сходства между этим порядком и расположением сорока кусочков «бирюзы» в Пикильякте указывают на то, что смысл числа сорок состоял не в идеализации числа племен — в Куско было представлено 328 племенных уак, — а скорее заключался в его астрономическом значении. Так как эти уаки являлись изображениями, представляющими различные небесные объекты на неподвижной сфере звезд, и так как они располагались по направлению к горизонту, то на одном уровне мы находим, что система секе символизировала полностью весь мир-век, то есть сорок сближений Сатурна и Юпитера среди звезд[115]. На практическом уровне секе, как я полагаю, давали инкам бесподобный прибор для контроля за потоком прецессионного времени.
Инки имели все основания поступать именно так. Пятое Солнце родилось под знаком пророчества гибели. Оно могло бы жить только постольку, поскольку могла «жить» небесная Лама, точно так же, как жизнеспособность ворот на землю усопших была неразрывно связана с движением всех звезд, взятых вместе.
Понимаемые таким образом, сходства между интиуатаной в Мачу-Пикчу и секе Куско приобретают гораздо больший, чем просто преходящий, интерес. Строили ли инки систему секе, чтобы беспомощно наблюдать, как приближалось неизбежное? Такое заключение можно было бы вывести, если принять, что система секе, как и интиуатана, разрабатывалась для «привязывания солнца». В таком представлении храм Солнца, с его сорока «привязками» к горизонту, походил бы на Гулливера, пробуждающегося от дурного сна и обнаруживающего себя связанным массой лилипутов, звезд. Такая картина снова возвращает нас к основанию инкского пророчества, предвкушающего гибель.
Или же, а не могла ли здесь иметь место некая вспышка открытого неповиновения судьбе со стороны инков? Несомненно, позиция инков состояла не в том, что Солнце подчинялось звездам. Солнце было императором, царем и победоносным воином. Расположение системы секе отражало образ победоносного Солнца, стоящего в центре, хозяина всего им обозреваемого. Можно было бы вполне задаться вопросом, какой смысл мог иметься в таком оптимизме, если Солнцу было суждено погибнуть менее чем через столетие? Продолжая рассматривать и другие правдоподобные версии, я приглашаю читателя поразмыслить над сдвигом в их структуре восприятия. Храм Солнца, как и интиуатана, действительно предназначался «для привязки Солнца» — в его скрытом значении мира-века, — притом прочной привязки его и к звездам в небесах, и к их докучливым земным потомкам, племенам Анд. Но будучи «привязанным» таким образом, как могло бы Солнце рухнуть вниз? В конце концов Инка Пачакути, как и демонстрировал в ходе завоевания, намеревался полностью связать судьбу андских народов с судьбой Солнца.
IV
Инкские геомантические обычаи вырастали из корней столь же глубоких, как и сама андская традиция. Если масса андских племен и мифологическое учение Виракочи представляли отпечаток небесной реки на хребте Анд, то инкские жрецы воспроизведут эту траекторию в обрядах июньского солнцестояния в Вильканоте. Если все три мира постоянно заново оживлялись водами из бездны, несомыми небесной рекой, то инки воплотят эту идею-форму в источнике волшебной красоты на острове Солнца в священных водах Титикаки. И когда умер последний Император, то его прах, надо сказать, был захоронен в реке, ведущей на землю богов.
Поскольку началось Пятое Солнце и на плечи инков свалилась гигантская миссия по спасению андской цивилизации от тисков смерти, выживание этого Солнца стало первостепенной задачей государственной политики. В этой ситуации представление о границах оказалось в центре геомантической мысли. От инкских императоров требовалось быть царями-воинами. Если андские племена трудились под бичом нескончаемой войны, тогда силы распада посредством завоевания должны были быть отброшены далеко от центра. В небесах Солнцу также требовалось постоянно рисковать всем, чтобы всегда удерживать в границах своих владений рамки Пятого Солнца — хрупкой Пятой Небесной Землей — перед лицом совместного движения «звезд-племен». Рамки, защищаемые Солнцем, простирались от тропика до тропика. Только небесная Лама сдерживала потоп.
Волна за волной это завоевание исходило от Куско, Пупа Мира, в форме постоянно расширяющегося золотого журчания, испускавшегося от Камня в Центре. Снаружи было варварство, смерть; внутри имелась возможность мира. Власть Солнца-Царя непрестанно действовала в обстановке опасности, энергично приводя все более обширные территории к равновесию. Наверху все было так же. Границы Пятого Солнца должны были устанавливаться, охраняться и защищаться.
Говорить, что инки облекали свои границы в «символическую форму» солнечной идиомы, значит упускать из виду почти что галлюциногенное свойство этой идеи-формы. Когда Уайна Капак вбивал золотые клинья по берегам реки, отмечающей северную границу империи, то это было и знаком для Сил Наверху, и предупреждением племенам внизу. Каждая церемония, каждая мысль, каждой действие, которые предпринимали инки в процессе установления границ империи Солнца, означали защиту осажденного Пятого Солнца наверху.
Когда племя мирно ассимилировалось в империю, Инка обменивался перьями ястреба с местными военными вождями. Как мы уже видели, мифологический смысл хищных птиц заключается в их способности взлетать или снижаться — подобно солнцу — к границам мира живых, то есть к самим воротам небес или к границам земли усопших. Эти птицы представляли собой посланников к границам Владений Солнца, некогда называвшихся кай пача («небесной землей»), а ныне рассматривавшихся в качестве царства Пятого Солнца в пространстве-времени. Взаимным обменом ястребиными перьями с местными военачальниками Инка укреплял границы империи Солнца, и новое племя заявляло о верности ему. «Твоя воля выполняется как на земле, так и на небесах».
Второй способ укрепления границ предполагал у этого Инки игру с элементами ловкости и удачи.
Целью в ней было сбить болами большую «змею», сделанную из шерсти и подбрасывавшуюся вверх. Победителем становился тот, кому удавалось наибольшее число раз обернуть змею шнуром болы. Согласно Альборносу, Инке удалось таким способом подчинить много областей. Другие соперники, местные аристократы, осознали, что должны были уступать Инке; когда они поступали именно таким образом, они великодушно вознаграждались полями, домашним скотом и «другими услугами».
Здесь мы обнаруживаем уже знакомую картину. В уарочирийских повестях именно новорожденный бог войны Париакака, швырнув свой золотой посох, пронзил и обездвижил большую и страшную змею, установив раз и навсегда, кто обладал правом «править». Змея была символом тектонического сдвига в земле и «уранового» сдвига во владениях «небесной земли», области небесной сферы между тропиками. Эта область, принимающая свою форму от экстремальных положений солнца на небесной сфере, была небесным аналогом или моделью империи Солнца на земле. В игре по сбиванию змеи Инка работал болами, называвшимися ливиак, то есть именем молнии. Как в случаях с Париакакой и, что более существенно, Виракочей, который вызывал космический огонь, поднимая его посох, ось небесной сферы одновременно служила молнией, посланной с самого высокого неба, и тот, кто обладал ею, являлся законным правителем Века. Стало быть, одолевая подвижную змею, Инка овладевал границами империи. По задуманной аналогии он также овладевал границами пространства-времени Пятого Солнца, овладевая движением звезд.
Изображение метательного оружия, «связывающего» змею, имеет отчетливо воинственный характер, и оно также было преднамеренным, поскольку отражало, как считалось, космическую реальность состояния войны между солнцем и звездами, — конфликт, выраженный в другой инкской легенде. В ней Инка Пачакути в ходе отчаянного сражения с жестоким племенем восточной сельвы увидел, как на его войско нападает гигантская змея… Пачакути с мольбою поднял глаза к небесам, и в тот же миг громадный орел спикировал, поднял змею и сокрушил ее о скалы. Если уже в этом моменте вспоминается, что на резной эмблеме ацтекской столицы, Мехико-Теночтитлана, изображен разъяренный орел, сидящий на кактусе и держащий змею в клюве, то не меньшее желание возникает рассмотреть значение самого этого изображения. Потому что с изображением солнечного орла, побеждающего коллективную силу звезд — «змею», которая, как и змея в мифе о Падении Лисы, является естественным «лидером» всех животных (звезд), как только они оказываются «дезорганизованными» — мы подходим к скрытому центру инкского видения.
Состояние войны, существовавшее между Солнцем и звездами.
Пятое Солнце подвергалось атакам со стороны звезд, имевших безжалостную привычку ослаблять его «привязь».
Эти звезды были столь бездумны, что грозили «съесть кости предков» и уничтожить тех на земле, кто происходил от этих предков и поклонялся им. На земле было не лучше. Они подвергали свое собственное религиозное наследие слишком большому риску вследствие своего «сверхразмножения» и упрямого нежелания остановить безумие. Только власть Солнца могла бы навести порядок.
В этой формулировке мы обнаруживаем логический результат процесса, начавшегося тогда, когда воины «навязали» несколько новых идей в отрыве от небесной сферы. Проецируя иерархию господства и подчинения на небеса, они посеяли семена бедствия и наверху, и внизу. Внедряя вымысел, будто именно этот язык был буквальной истиной, они отделяли технический язык мифологии от его связей с естественной структурой, снимая ограничители метафорического понимания с диалога между людьми и Небесами. Таким образом, подобно Пятому Солнцу, сам язык находился в дрейфе. Как внизу, так и наверху. Война на земле согласовывалась со структурой наверху, — структурой, которая в инкском представлении выглядела теперь своего рода «космическим разрешением» на установление империи; не меньше, чем сыновья Солнца, под осадой пребывало само Солнце. Враг — наверху и внизу — был один и тот же: звезды и их потомки. Было самое время действовать и одерживать победу, время спасать Солнце, а вместе с ним всю андскую цивилизацию.
Инка Пачакути не был никаким Prufrock. Если он в нерешительности задавался вопросом: «Смею ли я вторгаться в порядок вселенной?» то ответ не заставлял себя долго ждать. Да! Да, он «реорганизует» уаки. Что-либо меньшее означало бы капитуляцию перед фатализмом его отца. Инка Пачакути не мог и не будет оставаться безучастным, в то время как сами ворота священной традиции со скрипом закрывались перед сутью истории. Так как звезды неустанно грызли кости предков, они грозили Смертью Пятого Солнца. Настало время перестать сидеть сложа руки. Наступил момент для объявления войны Времени.
V
Инкская империя была внешним проявлением эксперимента в соучаствующей магии[116], эксперимента, не имевшего прецедента в летописи истории человечества. Так как драма истории Анд развивалась в соответствии с предопределением несчастья, то единственная возможность спасения связывалась с направлением света Пятого Солнца. Таково, по крайней мере, было представление Инки. Между двумя тысячелетиями андской высокоразвитой цивилизации и катаклизмом в андской жизни не стояла ни одна сила за рамками видения Инки Пачакути, вне «Опрокидывания Пространства и Времени». Признаки надвигавшейся бури были начертаны на небесном своде не меньше, чем на вырубленных лесных склонах неисчислимых деревень нагорья. Когда она грянет, никому пощады не будет. Любой неверный шаг, любая ошибка, любое проявление злобы или злого умысла в развитии андской цивилизации значили теперь очень много на весах бога Справедливости и Возмездия, Старого Бога, Отца Времени. В этот момент, подвешенный между волнениями за пределами владений самого времени, Инка-Царь повелел вернуть место Справедливости на своем троне в Центре. Если Время было беспощадно, тогда его следовало остановить.
Чтобы достичь небесного царства, Инка Пачакути будет действовать через земных потомков Сил Наверху. В реорганизации андской жизни посредством ведения обдуманной войны он до известной степени осуществит коронацию Пятого Солнца на небесном троне, заставит повиноваться звезды и изменит обязанности планет, «измерители», приборы времени.
Это была отнюдь не игра. Грандиозность свершения ограничивалась лишь степенью риска. С самого начала инки рисковали всем. Они проявили себя как дети Пятого Солнца, заявив о своем намерении восстановить порядок в андской жизни, и спровоцировали каждое племя в известном мире отказать им в распоряжении своей судьбой. Они были движимы целью — то бесстрашной, то взвешенной, то благородной. Так как войска Куско отправлялись из Центра в четыре страны света, они проходили под имперским знаменем радуги, ликом Солнца, растапливающим царство хаоса. Великолепие имперского Куско воздействовало как гипноз на андские народы, пребывавшие на протяжении жизни целых поколений в состоянии войны с окружающими общинами. Не имело значения, встречали ли инков с ненавистью или с радостью. Им было все равно к ним, и они оставались непреклонными. Если бог возмездия, владелец Мельницы, требовал правосудия, он получал его в изобилии.
Каждый десяток мужчин в Империи имел местного представителя Инки, к которому они могли обращаться за правосудием. Каждый десяток этих представителей докладывал должностному лицу более высокого ранга, и так далее вплоть до самого Инки. Если цепочка информации разрывалась — из-за апатии, продажности или любой другой причины, причинявшей несправедливость, то слабое звено подвергалось казни. Такое было время.
Инкская позиция не была просто позой. Невозможно понять инков без осознания того, что они не были лицемерами. Они заранее сполна оплачивали все долги, обеспечивая не просто форму справедливости, но также и ее сущность. Богатство Империи делилось на три части: треть для людей, треть для Инки и треть для Солнца. «Декларированный доход» Инков — их треть — перераспределялся как «средство» приручения воинов. Часть, причитавшаяся Солнцу, повсюду щедро расточалась на людей во время многочисленных ежегодных празднеств. Остаток мог немедленно отправляться туда, где была угроза голода.
Инки предоставили свою власть в распоряжение справедливости. В стремлении в равной мере восстановить гармонию в микроксоме и макрокосме они осознавали, что их собственные интересы неотделимы от их обязанностей. Так, например, они не могли согласиться на передел неизменного «пирога». В число их обязанностей входило восстановление щедрости.
Я уже не помню, сколько раз за эти годы в ответах на вопросы друзей о моем интересе к инкам внезапно и незванно в разговор вторгалось имя майя. Майя, кажется, живут в воображении, потому что у нас под рукой находятся яркие изображения для созерцания умственным взором: Тикаль, Паленке, Караколь и так далее. За исключением Мачу-Пикчу, таких изображений у инков больше не существует. Не потому, что испанцы разрушили великие архитектурные сокровища Анд, хотя они действительно разрушили много строений. Истинные памятники инкской цивилизации существуют в таком контексте, который слишком тонок для быстрой передачи современным ощущениям. Инки были, возможно, самыми прекрасными каменщиками в мире, но они не расточали свое мастерство на убранство комплексов храмов. Зато они перестраивали землю.
В Андах, где основой благосостояния были земля и труд, существенная часть труда людей — их налоги — вкладывались в почву с помощью возведения стен земледельческих террас. По сей день в таких местах, как Писак и Чинчеру, выложенные ярусами массивные каменные террасы покрывают склоны как свидетельство изящества инкского искусства каменной кладки. Эти стенки строились ради создания земли для Солнца, земли, которую Инки скорее создавали, чем отнимали у людей, земли, которая производила излишки, использовавшиеся для борьбы с голодом. За этими стенами тщательно укладывались слои почвы таким образом, чтобы обеспечивать дренаж и поддерживать рыхлость и проветривание. Собственно каменная кладка, мозаика соединения неправильных многоугольников, составляет десятки тысяч человеко-часов труда.
Хотя на первый взгляд это предприятие может показаться сугубо «земным», далеко удаленным от тайных, небесных забот, инкское строительство террас в действительности демонстрирует страстное стремление инков ответить на вызов Времени. На протяжении столетий эти стены доказали свою неуязвимость перед землетрясением, что должно говорить о победе над Змеей, ползающей под землей. Во время землетрясений камни стен инкских террас блокируют друг друга, позволяя всей стене одновременно быть гибкой и связанной. Инкские земледельческие террасы создавались вопреки Змее Времени, ради будущего, которое никогда так и не наступило.
Между тем фактически одновременно Война со Временем вспыхнула также в Мексике, потому что инкский эксперимент, хотя и был беспрецедентным, не был единственным экспериментом той эпохи. Ацтеки обладали всем чем угодно, кроме проницательности, утверждая, что состояние войны существовало между Солнцем и звездами. Ацтекский бог войны, Уицилопочтли, который идентифицировался с солнцем, был рожден в борьбе со своими братьями, «четырьмя сотнями южных звезд», которые тщетно стремились убить его. Мы уже видели участие «ревнивых звезд» в неудаче миссии Кецалькоатля по вознесению на землю богов с костями усопших. В другом мифе из цикла о Кецалькоатле, также записанном на науатле, мы узнаем, что смерть Четвертого Солнца (предшествующего Пятому Солнцу, которое ацтеки старались сохранить в живых) пришла от рук звезд. Этот миф, переработка несколько более старой (и, вероятно, уничтоженной) версии, имеет свой точный дубликат в Андах, в мифе о ламе и потопе[117]. Для ацтеков звезды были врагами Солнца, Пятого Солнца.
Снова, как и инки, ацтеки «стремились переделать все предшествующие версии мифологии о прошлом под покровом таинственности.
Они сохранили предание о своей истории,
но позже оно было сожжено
во время царствования Ицкоатля.
Властители Мексики установили это декретом,
властители Мексики объявили об этом;
«Не подобает нашему народу
знать эти изображения.
Наш народ, наши подданные будут потеряны, и наши земли разрушены из-за того, что эти изображения полностью лживы…»
Причины такой практики нетрудно понять. Решающее изменение в техническом языке мифологии и в Мексике, и в Перу предполагало замену термина «Солнце» на «мир-век», а после принятия авторитетного значения этого термина «Солнце» задерживало исход всего предприятия. Мигель Леон-Портилья оказывается весьма близок к существу вопроса, когда отмечал:
«В диалектическом ритме, напрасно пытаясь придать гармонию динамизму противоборствующих сил, появлялись и исчезали разные Солнца. Ацтеки вызвались остановить этот процесс: они задумали честолюбивый план с целью воспрепятствовать или по крайней мере отсрочить катаклизм, который должен был положить конец их Солнцу, пятому в этом ряде. Эта идея превратилась в одержимость, которая стимулировала и сделала могущественными жителей Теночтитлана».
Единственные отсутствующие в этой картине элементы — это причины, по которым ацтеки предчувствовали, что Пятое Солнце было в непосредственной опасности, и основания их надежды на успех. Если должно быть «ясно», что контакты между инками и ацтеками есть химера исторического воображения и что все сходства между ними являются только «морфологическими», тогда в случае с ацтеками эти вопросы, быть может, никогда не получат ответа. Что касается инков, то они имели основания для определенного оптимизма.
Какой же ход мыслей одолевал тогда инков, что внушил им, будто следует взяться за осуществление не какой-то иной задачи, а остановить само время? Одно из сведений находится непосредственно в языке и включает слова для обозначения вселенского катаклизма, пачакути, и его синонима, приводимого Ольгином, пачатикра. Слово кути означает по-разному: «возвращаться, поворачивать обратно туда, откуда пришел» (volver alia el que vino), «делать пол-оборота» (dar media vuelta) или «отступать» (retroceder). Тикрай означает «переворачиваться, как лист, поворачивать в обратном направлении» {volver… al reves de lo que estaba), «опрокидываться)» (volcar) или «переворачивать что-то на другую сторону» (colocar de reves о contra su сага principal una cosa). Дело в том, что нигде в языке, описывающем прецессионное движение, не встречается понятие подлинно непрерывного вращательного движения. Скорее, слова для обозначения этого явления передают смысл взаимного движения, поворота и возврата.
Не случайно взаимное движение присуще той терминологии, которая появляется в мифологическом контексте, связанном с языком прецессионных образов. Андская балансирная мельница, которая дает свое имя Тонапе Виракоче, носителю оси небесной сферы, работала по принципу взаимного движения — качания назад и вперед, и глагол «молоть камнем, кут-ай как раз имеет общий корень с глаголом кит-ий. Точно так же палочка для добывания огня, используемая в ритуалах храма Солнца, действовала посредством взаимного движения, поскольку она подражала — подобно ацтекской палочке для добывания огня — зажиганию огня по всей длине галактики, когда на заре Века Виракочи древний бог огня и носитель мельницы принес солнца солнцестояний в Млечный Путь.
Следовательно, выходит, что господствующее у инков представление о характере прецессионного движения состояло в том, что оно было скорее возвратно-поступательным, чем непрерывно вращательным. Такие представления сохранялись также и в Старом Свете, как, например, у индусов (смотри рисунок 10.1), в понимании которых ось небесной сферы — изображаемая как гигантская маслобойка, мутящая Молочную Реку — обладала колеблющимся, возвратно-поступательным движением. А почему бы и нет? Человеческое понимание прецессии, очевидно, не простиралось еще далее половины оборота, пока все доступные для созерцания технологии состояли лишь в том, что «рука» Владельца Мельницы могла в какой-то момент двинуть гигантский механизм назад в противоположном направлении. Прежде всего и важнее всего из того, чем занимались инки, было необходимо остановить поступательное движение прецессионного времени, чтобы предупредить катаклизм. Если позже была бы доказана возможность повернуть обратно в направлении Золотого Века, то тем лучше. В их мифологическую терминологию были заложены основания надеяться, что такой результат был по крайней мере возможен. Необходимо было убедить Силы Наверху немедленно «перенестись вниз».
Убеждение, действительно, значило все. Именно с этой мыслью в головах инки осуществляли войну и именно эта мысль формировала тот способ, которым они вели ее: Второе из сведений о том, как инки собирались выиграть войну против прецессионного времени, находится в повести Муруа о том, как Инка Пачакути решил реорганизовать уаки, а вместе с ними андскую религиозную практику. Это решение являлось прямым ответом на зловещее видение Виракочи над Куско, которое показало неизбежность еще одного «потопа». Первым шагом по реорганизации уак состоял в их захвате либо посредством войны, или с помощью угрозы ею. Опять-таки не случайно информанты Муруа объясняли этот ритуальный аспект инкской войны:
«Когда Инка покорял новую провинцию или селение, то первым делом он захватывал главную [то есть родовую] уаку той провинции или селения и брал ее с собой в Куско, чтобы таким образом удерживать этот народ в полном подчинении и чтобы он не восставал… он помещал уаку в храм солнца, называемый Куриканчей, где имелось много алтарей… или еще он помещал эти уаки в другие части [храма], или на дорогах, ведущих в направлении провинции происхождения…» [Курсив наш.]
Предложение о том, что «захват» сыновьями Солнца андских родословных уак, земных изображений звезд, было действием сочувствующей магии на службе у Пятого Солнца, полностью подтверждается анонимным хронистом, который сообщает нам как раз о том, как поступали с этими уаками после того, как приносились в Куско. Говоря о храме Солнца, хронист утверждал:
«Имелся в Куско храм, который был подобен Пантеону в Риме, где были собраны все идолы [то есть уаки/ всех наций и народов, подчиненных Инке, каждый идол на своем алтаре, со своими знаками отличия, но с цепочкой на своих ногах, обозначающей подчинение и вассальную зависимость его народа». [Курсив наш.]
Там, в храме Солнца уаки стояли прикованными под Солнцем. Они имели цепочки не на руках и на шее, ни даже прикованными за одну ногу. Уаки были прикованы цепочкой за обе ноги, потому что, поскольку они представляли звезды, их обыкновение двигаться относительно Солнца должно было любой ценой быть приостановлено, чтобы Пятое Солнце оставалось в живых. Так что уаки находились под арестом.
Опять же, как и в случае с интиуатаной и системой секе в Куско, на первый план у инков выдвинулся господствующий образ мысли, привязывавший звезды к судьбе Солнца. Тем не менее даже эти очевидные образы могли подвергаться здоровому скептицизму. В конце концов, как сообщил анонимный хронист, считалось, что содержание уак в цепях «обозначало подчинение и вассальную зависимость народа». Если за этой картиной не стоит ничего более, кроме стремления инков посредством какого-то неопределенного космологического фетиша склонить обманом народы Анд к повиновению, тогда инки должны занять место среди самых великих в истории мошенников. Возвращаясь теперь к заключительной фазе плана Инки Пачакути по «реорганизации» уак, читатель, кому в конечном счете судить об истории, волен сам решать, были ли инки лицемерами; в какой-то мере искренность народов проверяется тем, что они готовы принести в жертву.
VI
Согласно Муруа, Инка Пачакути, встретившись с Виракочей над Куско и выигрывав отсрочку в наступлении неизбежного катаклизма, немедленно предпринял два шага: во-первых, он предписал новый обычай поклонения уакам; во-вторых, распорядился, чтобы год начинался в декабрьское солнцестояние. Эту информацию подтверждают и другие источники, как, например, Бетансос, который утверждает, что Инка Пачакути изобрел обряды Капака Райми, инкское празднество, завершавшееся в декабрьское солнцестояние. Как упоминалось выше, именно в течение этого празднества происходили и угощение предков, и вооружение молодых воинов. При угрозе воротам на землю усопших со стороны мама миркук и имперской практике «ареста» родословных уак близость этих двух аспектов Капака Райми достаточно ясна.
Наряду с вооружением воинов и угощением предков, Пачакути постановил, что третий ритуал — называемый капакоча — также отправлялся в декабрьское солнцестояние. Капакоча представлял собой сложный обряд, включающий принесение в жертву животных, еды, текстиля, драгоценных металлов и человеческих детей обоих полов всем уакам Империи — то есть каждому священному месту и предмету, включая родословные уаки, но не только их. Этот ритуал представлял собой стержень плана Инки Пачакути по реорганизации уак, заключительную стадию Войны со Временем и, в буквальном смысле, тайну инков.
В то время как одни источники заявляют, что капакоча праздновался лишь иногда, другие утверждают, что он был ежегодным событием и происходил во время декабрьского солнцестояния[118]. Исследователь Анд Пьер Дювиоль доверяет обоим преданиям[119] то есть существованию ежегодного капакоча и возможности осуществления этого обряда в чрезвычайных обстоятельствах.
Во время капакочи инки приносили в жертву тысячи лам. Та фаза ежегодного капакочи, которая предполагала убой животных, в особенности убой лам, имела место в декабрьское солнцестояние, когда состояние борьбы небесной Ламы за то, чтобы удержать «потоп», могло непосредственно наблюдаться. По завершении убоя лам инкские жрецы помещали кровь животных в крошечные глиняные сосуды, которые должны были насчитываться десятками тысяч и распределяться по всей империи. Этот холокауст был одной из центральных тем в изображении капакочи. В обязанность каждому здоровому человеку в Империи вменялось поместить свою долю этих судов, освященных в храме Солнца, не только в каждой малой святыне поблизости, но также забрасывать их, если понадобится, то пращой, на вершину каждого холма, утеса и горы в империи. Очевидно, Инка Пачакути решительно придерживался мнения о зависимости между благосостоянием небесной Ламы и благоденствием Пятого Солнца. Он был готов вести вплоть до самых небесных ворот — через каждую топографическую вершину по всему хребту Анд — борьбу за то, чтобы сохранить жизнь Пятого Солнца.
Дювиоль характеризовал капакочу как «один из наиболее оригинальных институтов» Инкской империи. Действительно, фактически каждый аспект обряда был творением Инки Пачакути и каждый аспект, начиная со значения самого этого слова, представлял собой всесторонний ответ на пророчество Инки и в этом смысле являлся составной частью Войны со Временем.
В некоторых из ранних источников считалось, что термин капак коча означает либо «море царя» (или «море измерителя»), либо еще «королевское море». Ни один из этих переводов не несет в себе много информации, и синтаксически они, возможно, спекулятивны. Если данный термин использовался по отношению к жертвоприношениям богу, как, например, Виракоче, то это выражалось бы такими терминами, как куско капак и тикси капак, как коча капак, «(жертвоприношение) ему, который измеряет (небесное) море». С другой стороны, в наиболее авторитетных текстах, таких как у Пачакути Ямки и от информантов Авилы, данный термин переведен как капак уча.
Слово уча имеет несколько значений, одним из которых является предпочитаемый Дювиолем «грех», другим — «спекуляция», как в «делах», предпочитаемый Зуидемой. Наделение данного термина первым из упомянутых значений — «королевским грехом» или «грехом царя» — кажется, по моему разумению, судя по всему, совершенно невозможным, поскольку инки занимались расширением своей власти, а не порочили свои тайны. Интерпретация Зуидемы стоит ближе к моему пониманию термина. Как он отмечает, и Гуаман Пома, и Ольгин для обозначения имперских секретарей приводят следующие термины: Атум уча Кипок («хранитель Кипу о великих преданиях») и уча йачак (он, который посвящен в дела [уча] Инки»). Полезно обратиться к полной информации Ольгина:
Уча, или кама. Грех, или дело, или просьба. Рунаучан. Грех.
Дьос Уча. Дело Бога.
Руна уча. Мольба без родительного падежа.
Учакта камакта йачак, или уча йачак. Секретарь Инки или советник в его делах или тайнах [secretos], кому [Инка] открывает свои выводы, к которым может привести его анализ.
Уча, следовательно, означает «грех, занятие (или дело) или тяжба». Согласно Ольгину, перевод капак уча как «грех царя» следует исключить, потому что, как пытался показать лексикограф, уча означает только «грех», если ему предшествует существительное в родительном падеже, типа руна-пучан, означающее «человеческий грех». Далее, когда оно относится к «Богу» или царям, то уча означает «дело» не в смысле торговли, а в смысле «дела и тайн», и Ольгин определенно упоминает, что Инку делился тайнами со своими советниками. Следуя Ольгину, стало быть, жертвоприношение капак уча могло бы означать «тяжбу» (pleyto) или какое-то «тайное дело» Инки. Как мы сейчас увидим, оно означало оба случая.
Капакоча был обряд колеблющейся включенности. Он начинался с торжественных ритуальных караванов, поступавших в Куско со всех уголков империи с данью — золотом, серебром, текстилем, ламами и «одним или двумя детьми, девочками и мальчиками, от каждого рода или племени, в возрасте около десяти лет». Дювиоль писал:
«Мы можем воображать великолепно разукрашенные процессии грузчиков, сановников и детей, отправлявшиеся из селений; их величественные шествия, которые, подобно притокам, впадающим в большие реки, сливали вместе разнообразные группы в районных центрах, пока они не вырастали в огромную, но дисциплинированную свиту, которая торжественно направлялась в столицу».
Все эмиссары и дань собирались затем на Аукайпате, большой площади в Куско, где во время празднования Капака Райми в декабрьское солнцестояние воинам раздавалось оружие. Священники окружали сборище гигантской золотой цепью — также постоянной принадлежностью обрядов декабрьского солнцестояния, — которая окружала всю площадь. Согласно Гутьерресу де Санта Клара, эта цепочка развешивалась на «множество столбов из серебра размером в рост человека». Таких столбов имелось не менее сорока. Так или иначе, воспитанные таким образом с раннего детства на образах всеохватывающего солнца, те, кто собирались на ка-пакочу, начинали торжественные церемонии. Они делали это не просто так.
Вся эта свита медленно двигалась вокруг статуй Виракочи, Солнца, Луны и бога грома. Затем жрецы делили огромную дань на четыре части, по одной для каждого из четыре суйус империи. В этот момент жрецы приносили в жертву множество детей. Согласно описанию Бетансоса первого капакочи, устроенного Пачакути после торжественного открытия храма Солнца, детей хоронили в фундаменте, а затем жрецы окрашивали свои лица и стены храма «лучами» крови ламы. В описании Молины (вероятно, самого разработанного ритуала из установленных после расширения империи) одних детей инкские жрецы душили, а у других вырывали сердца «пока они были живыми». Кровью детей окрашивались лица их родословных уак.
Затем торжественная процессия проделывала путь на вершину холма, называвшегося Чукиканчей, «золотым местом», где приступала к захоронению останков «незапятнанных» детей. Этот холм, расположенный на северо-восток от храма Солнца, использовался для соответственных наблюдений восхода и заката солнца в июньское и декабрьское солнцестояния. Иными словами, дети умирали во имя колюра солнцестояний, лунно-солнечной оси Пятого Солнца. Другие источники повествуют о человеческих жертвоприношениях на Горе Пачатусан, «столпе, поддерживающем мир-век», отмечающей восход солнца равноденствия так, как он видится из храма Солнца. Позже множество детей уничтожалось на холме Уанакаури, расположенном на юго-востоке, в качестве жертвоприношения богу войны, «брату» Манко Капака, Айар Качи, Марсу. «Впоследствии жертвоприношения осуществлялись у всех источников, холмов и других мест в Куско, которые считались священными; но для этих жертвоприношений уже не убивались дети». Подношения золота, серебра и текстиля предлагались 328 уакам, или святыням, системы секе, развернутым веером к горизонту в таком числе, как число узлов на сорока шнурах кипу.
Этим завершалась начальная стадия капакочи. Забивались тысячи лам ради того, чтобы распределить их кровь для каждой топографической примечательности империи. Собиралась дань, подлежавшая теперь перераспределению в пользу каждой святыни по всей империи, и дети приносились в жертву главным богам и особенно важным местам на горизонте Куско. Теперь вся символика оказывалась обновленной в масштабах всей империи. Процессии отправлялись обратно в места, откуда прибыли, чтобы нести капакочу к самым удаленным пределам известного мира и связывать каждый народ там непосредственно с Солнцем. Молина писал:
«По завершении церемоний жертвоприношений в Куско жрецы выявляли тех, кого следовало послать в другие части империи… порядок процессии с жертвоприношениями был таким, что всякий народ, который шел с Капакочей, называемым также Качауакой, проходил по дорогам отдельно от всех других. Они не следовали по царской дороге, а пересекали ущелья и горы по прямой линии, пока каждый из них не достигал того места, где должны были осуществляться жертвоприношения». [Курсив наш.]
Иными словами, возвращающаяся толпа развертывалась веером в своих шествиях, следуя по линиям системы секе. Зуидема отмечал:
«Причина, почему капак уча направлялся по прямой, была, вероятно, в том, что они должны были следовать по определенному секе. Так как считалось, что секе исходили от храма Солнца и так как определенные уаки также выполняли функцию с точки зрения астрономического наблюдения, мы можем допустить, что секе использовались как направления зрения для наблюдения солнечных, лунных и звездных восходов и закатов».
Как показывает описание Молины, перед нами разворачивается Тайна Инков: совершение человеческих жертвоприношений, чтобы убедить Силы Наверху остановить Время. Система секе в Куско служила микрокосмической моделью Империи Солнца, которая, в свою очередь, являлась моделью отношений Пятого Солнца со звездами. 328 уак системы секе представляли схему племен империи. Каждой уаке назначалась привязка к определенному дню года. От каждого племени империи требовалось содержать жреца в Куско, который бы заботился о его уаке и умилостивлял ее в соответствующие дни. Каждая уака помещалась на то направление или луч, который уходил по направлению к родине ее племени. Далее, каждая секе обладала астрономическим значением по отношению к звездам, которые всходили в том азимуте, на какой указывала секе. Аналогичным образом с древних времен считалось, что каждое племя происходило в идеале от определенной звезды или созвездия. Так, поскольку процессии со всех концов Империи отправлялись обратно домой одновременно, то каждая из них проходила по прямой линии в направлении своей родины и своей звезды.
Процессии включали предназначенных для жертвоприношения детей, и, так как они разворачивались веером по своим маршрутам, они начинали копировать в масштабах всей империи устройство системы секе в Куско. Они останавливались по пути в каждом провинциальном центре, чтобы принести там в жертву заранее выбранного местного ребенка. Тем временем каждой меньшей святыне отдавалась ее часть остальной дани и распределялась кровь забитых в Куско лам для окропления горных вершин. Каждая процессия сопровождалась инкским жрецом, который вел точный учет, следя за тем, чтобы каждая малая святыня местного почитания получила свое.
Чарующий резонанс, установленный между этими двумя полюсами ужаса и красоты, выражался в торжественности случая через детали этикета, придерживаться которому предписывалось в равной степени как участникам, так и зрителям. Молина писал:
«Когда те, кто с подношениями совершал поход по необитаемым местам, встречали других путешественников, они не поднимали свои глаза, чтобы рассмотреть их, а сами путешественники падали ниц и оставались лежа на земле, пока носильщики подношений не проходили. Когда носильщики жертвоприношений проходили через селение, жители не выходили из своих домов, а оставались в них, ожидая в глубоком смирении и почтении, пока указанный Капаккоча не проходил дальше».
Муруа отмечал, что жрецы никогда не отрывали глаз от земли и что смерть ожидала любого, кто был настолько глуп, что нарушал правила поведения.
Процессии продвигались вперед без остановки:
«И таким образом они проходили через завоеванные Инкой территории во все четыре стороны империи; и так они совершали указанные жертвоприношения, пока не достигали самых отдаленных пределов, где Инка поставил пограничные столбы».
Подобно золотой цепочке, висевшей на «множестве» столбов на площади Аукайпата в Куско, громадный периметр границ Империи Солнца — геомантический эквивалент эклиптики — опять-таки окружал все жертвоприношения капакочи.
Здесь последний из детей достигал конца линии. Они приносились в жертву на границах империи Солнца, устанавливая таким образом истинный «горизонт» Куско с точки зрения Пятого Солнца в Центре, откуда исходили все эти трагические траектории и к которому народы этих детей были теперь привязаны.
И дабы не оставалось никаких сомнений в отношении значения обряда, Молина сообщает решающее сведение о жертвоприношениях, осуществлявшихся процессиями на обратном пути: «Уместно заметить, что дети вообще не приносились в жертву уакам, а только главной уаке каждого рода или провинции». Иными словами, эти дети приносились в жертву от имени их племенных уак, идентичность и окончательное местопребывание которых находилось в звездах. Эти дети шли домой.
Здесь, вдали от полей сражения и рева военной музыки, проходил самый главный фронт в Войне со Временем. И здесь же находились все ключи как к трагическому блеску, так и к невообразимой уязвимости Инкской империи. В конечном счете инкские императоры поняли, что никакие героические меры никогда не смогут защитить Пятое Солнце. В конце концов могла преобладать только «мольба». Капак уча был действительно мольбой, и в этой мольбе заключалась тайна инков. Инки не приносили в жертву, подобно ацтекам, человеческие жизни, чтобы «кормить» Солнце; вместо этого они посылали эмиссаров в звезды, эмиссаров, несущих послание отчаяния.
Это не вымысел, потому что сохранились и имя посланника, и само послание. Молина, среди прочих, отметил другое название практики человеческих жертвоприношений: качауака, буквально «посланник к уакам». Это же слово кача, «послание», составляет также корень слова качауи, которое является синонимом секе. Само понятие прямых линий в направлении горизонта — секе — относится к попытке коммуникации. Инки, отчаявшись установить мир со звездами от имени Пятого Солнца и всех тех, кто обитал под ним, изобрели способ ходатайствовать перед небесами в делах человеческих.
Судьей выступал не кто иной, как сам Творец, Виракоча, бог Времени, который в конечном счете отдавал последнее распоряжение. Дети уак отправлялись ходатайствовать о деле, но они не могли этого делать столь прямо. В андской религии, как мы уже видели, к Виракоче обращались через посредничество родословной уаки. Именно уаки, а не само человечество, создал Виракоча над Титикакой много Миров тому назад. Таким образом, приносимые в жертву дети посылались на соответствующую родину своей уаки в звездах, неся капак учу, то есть царскую мольбу. Тогда, и только тогда, сами небесные звезды, умилостивленные их обращениями и говорящие в один голос, могли посодействовать тому, чтобы достичь ушей Виракочи, устрашающего носителя Мельницы, и ходатайствовать о деле своих земных детей.
Изображение этого события или скорее изображение, которое должно было вдохновлять воображение инков, существует по сей день в Тиауанако, непосредственно на Воротах Солнца. Рядом с изображением Виракочи находятся три ряда тех, кого упоминали как «ангелов» (рисунок 10.2). Всего таких объектов насчитывается сорок восемь, и они изображены либо как птицеголовые люди, либо как человекоголовые птицы, коленопреклоненные и молящиеся Творцу. В настоящей книге приводились многочисленные примеры из Перу, Мезоамерики и Сибири, где звезды уподоблялись птицам, сидящим на ветвях древа вселенной. В мифе о падении Лисы именно от Лисы, Пумы и «птиц каждого вида» исходила вся проблема. У каньяри родословной уакой был попугай. А на Воротах Солнца в Тиауанако находится изображение андского мифа о сотворении, выраженного в символике птиц-людей: родословных уаках всех племен (эйкумены Тиауанако), преклоняющих колени в молитве своему Творцу, создателю солнца, луны и звезд. Как же мог Виракоча, окруженный с таким почтением всеми коленопреклоненными звездами небесного свода, не ощутить справедливости в их просьбе?
Стойки Ворот в Тиауанако изображают древнюю логику, которая вызвала к жизни капакочу и теперь превращалась в отчаянное стремление к единственной цели — донести послание по назначению прежде, чем истечет Время. Снова, что неудивительно, именно
Муруа сообщил содержание этого послания. Послание действительно было в форме мольбы, и, так как эта мольба повторялась снова и снова в течение многих недель, она должна была произноситься ради того, чтобы величественные процессии капакочи достигли пределов Империи. Поскольку жрецы шли «по четыре» с опущенными вниз глазами, они останавливались через каждые несколько сотен ярдов («расстояние выстрела из аркебуза») и повторяли слова, которые составляют квинтэссенцию двух тысячелетий андской мысли: «Может Солнце оставаться молодым человеком, а Луна — молодой девушкой; может мир не опрокидываться; пусть будет мир».
Следовательно, эту мольбу инки направляли Виракоче. Когда бог состарился, как случилось с самим Виракочей, конец его царствования был уже близок и время покидать землю приближалось. Так что инки молились о том, чтобы Солнце и Луна, Пятое Солнце и Луна, оставались молодыми. Если это было известно даже стоящим на более низкой ступени Мокови, то, конечно же, тем более инки осознавали, что Солнце «умрет», когда «время истощит его силу». Но Пятое Солнце, подобно принесенным в жертву в его честь детям, было рождено, чтобы умереть молодым. Так что мольба инков напоминала Тому, в чьей руке находилась Мельница, что Он, и только Он, обладал возможностью предотвратить неизбежное: «может мир не опрокидываться», Ама пачакути. «Пусть будет мир», потому что в конечном счете исход Войны со Временем был в руках Тонапа Виракочи.
Итак, инки скрывали свое пророчество и предпринимали попытки отсрочить его исполнение. Так как каждый новый Император после Пачакути неустанно расширял границы империи в стремлении достичь «мира», то возникает вопрос, стояли ли они также вместе со своими жрецами, чтобы разглядеть в ночных небесах какой-нибудь знак надежды? Или же Инки были лицемерами?
Уайна Капак, которого тяготила осведомленность, что ему было суждено стать последним Инкой, проявлял признаки отчаяния. Огромная инкская машина завоеваний прежде добивалась успехов как хитростью, так и силой. Все было мистикой, и войны, которые могли не увенчаться победой, попросту не предпринимались. Но Уайна Капак непреклонно продвигал завоевания все дальше на север, чтобы осуществить страсть своей души — перенести столицу в Кито. Снова и снова сражался он с определенными врагами — каньяри и чачапойа — и не останавливался перед резней, чтобы достичь своей цели. Может быть, он чувствовал, что последняя надежда на достижение ускользающего равновесия — опережение Мельницы — заключается в том, чтобы обеспечить солнцу место в центре мира, в Кито, которое находится на экваторе? Маловероятно, что на этот вопрос когда-либо будет получен ответ. Но ответ на капак учу, тайную мольбу инкских императоров, известен, и он был ужасным. Инки молились за мир, за сохранение Пятого Солнца, за то, чтобы Виракоча предотвратил потоп. Всему миру казалось, что Инкская империя находилась в своем зените. Но когда Уайна Капак лежал при смерти, а мост в мир предков уже погружался в воды времени, Виракоча прислал свой ответ. Он прислал испанцев.
VII
Первым сведением о европейцах, достигшим ушей образованного гражданина одного из царств Солнца в Америке, было следующее: «Испанцы страдают сердечной болезнью, специфическим лекарством от которой является золото». Эти слова, сказанные с хладнокровным остроумием Кортесом эмиссару ацтекского царя Моктесумы, были похоронным звоном по Пятому Солнцу в Мексике[120]. Восьмью годами позже то же самое произошло в Перу. Война со Временем оказалась проигранной.
Несмотря на внешние сходства в гибели Царств Солнца в Америке, инки и ацтеки, за исключением подхода к образу мышления, имели мало общего. Ацтеки не стремились к достижению подлинной Империи. Их история была историей уединенного скитания, жестокого неприятия и самоуверенности в такой среде, в которой лица людей и лицо природы были одинаково безжалостны. Этот опыт выражен в ужасающей простоте их политических устремлений, которая состояла в том, чтобы создать владения, основанные на принципах господства и подчинения, — в политике, вся логика которой была подчинена единственной посылке: Солнце надо было кормить. Как дети Солнца ацтеки начнут и будут вести вечную войну в защиту Пятого Солнца.
«И эта война должна была иметь такой характер, чтобы мы не пытались уничтожать других полностью. Война должна продолжаться всегда, чтобы всякий раз, когда мы пожелаем, наши боги ели и пировали, чтобы мы могли идти туда [соседние города], как ходят на рынок покупать еду… организованной для захвата жертв, чтобы приносить нашему богу Уицилопочтли [Солнцу]».
Не интересуясь управлением завоеванных территорий, ацтеки рассматривали других людей как сырье, а другие культуры как «рынки», где они могли бы приобретать тысячи и тысячи жертв, которые ежегодно требовались им для подношений:
Скорее, чтобы найти подходящий рынок, куда наш бог смажет ходить со своей армией покупать жертвы и людей для еды, как если бы он ходил на ближайшую площадь покупать лепешки… всякий раз, когда он пожелает или почувствует нечто подобное. Наш бог сам будет питаться ими, как если бы он ел горячие лепешки, мягкие и вкусные, прямо из духовки.
Напротив, инки не воспринимали историю персонально, потому что андское прошлое было для них общим делом. Единственными «чужаками» в истории Анд, единственными людьми, которых по истине стыдится память, были властители Уари. Как отмечается в уарочирийском мифе, «Мы не знаем о происхождении людей того времени, ни откуда они появились». Инкская империя являла собой попытку навести порядок, вернуть андским народам их первородное право на единство в многообразии. Если, инки и проявили некоторое высокомерие, объявив себя исполнителями божественной воли, они тем не менее не пытались осуществлять видение, которое самоосознанно регулировалось исторической зрелостью. Так, во времена мифологического основания Куско в долине, которая испытала влияние и Тиауанако, и Уари, Манко Капак вместе со своими братьями и сестрами «обнес стеной» их опасного брата Айар Качи/Марс. Инки не были заинтересованы в оставлении бедствий, развязанных Уари. Они состояли в планетарном родстве с Юпитером, мудрым и могущественным царем, богом процветания и изобилия. Инкские императоры не имели более великой цели, чем возвращение к жизни наследия Тиауанако. В этом смысле они с самого начала действовали в рамках ими же установленных ограничений.
Хотя и ацтеки, и инки пытались сохранить Пятое Солнце, ацтеки впали в самый глубокий ад черной магии, где каждая метафора есть буквальная истинность, а всякая опасная человеческая черта — выражение божества. Ацтекские представления созревали на протяжении исторического инкубационного периода великих страданий и опасений. Называемые более старыми жителями долины Мехико чичиме-ками, «потомками собак», которые перемещались, чтобы заполнить вакуум, оставленный тольтеками, ацтеки кочевали более чем полтора столетия, прежде чем наконец осели приблизительно в 1325 году на единственной доступной им земле, скудном острове посередине болота. Подобно пожирающему змею ястребу на мексиканском кактусе, которого, как гласит легенда, они там встретили, ацтеки поднимутся на вершину господства над своими бывшими мучителями и превратят свой скудный край в столичный центр блеска и могущества.
Было так, словно ацтеки, длительное время предававшиеся засушливым и холодным краям мексиканского севера, стали теперь заколдованными, так как корзину за корзиной они вычерпывали из своего болота грязь, чтобы воздвигнуть себе остров и создать свои каналы. В подобном суеверию учении Дона Хуана из Карлоса Кастаньеды (или любого хорошего глубокого психолога), ацтеки стремились создать остров сознания, тоналъ, ацтекское слово для обозначения «солнца» и «света», среди черных вод подсознания, науаля, невидимого духовного мира. Их умственные конструкции, воплощенные в высоких белых пирамидах их племенного бога Уицилопочтли, идентифицировались теперь с (Пятым) Солнцем, освобождались от вод, чуждых привычным элементам их кочевого прошлого. Ацтеки были народом, окруженным врагами, третируемым как варвары, народом, который жадно поглотил героическое тольтекское наследие и столкнулся в нем с космической драмой своего собственного положения. Истина состояла в том, что ацтеки, как и Пятое Солнце, были полностью окружены врагами, — врагами, столь же многочисленными, как и звезды. Теночтитлан стал материализацией ацтекского тоналя, островной «крепостью сознания, вечно осаждаемой монстрами из глубин.
И так, таким же образом, как первой защитой души от страха является гнев, ацтеки создали империю Гнева, а Теночтитлан был ее котлом. Он кипел огнем, зажженным в грудной полости своих жертв с вырванными сердцами, и воспроизводился в десяти тысячах котелках победоносных воинов, которые поедали самые лучшие куски этих жертв, чтобы «сохранять Солнце живым». Поспешная экстраполяция из древней базы данных местной американской мифологии прототипов такого поведения привела некоторых современных антропологов к нелепому утверждению, будто человеческие жертвоприношения ацтеков были ответом на недостаток белков в питании в долине Мехико. Но тогда крайности неконструктивного материализма и фанатического мистицизма сходятся на том же одиноком мысе, изолированном в темноте под холодным суровым небом.
Это издание не разрешит загадку того, как Война со Временем задумывалась и осуществлялась — хотя и весьма различными способами — одновременно теми народами, между которыми, как думалось, существовало мало исторических связей. По крайней мере в настоящее время всякий ответ был бы преждевременным. Слишком много источников надо еще абсорбировать и слишком мало еще ученых предполагают существование технического языка мифологии.
Тем не менее в этом пункте кажется уместным отважиться на заключение. Когда падают Лиса и Кецалькоатль, которые не смогли привязать колюр солнцестояния к Млечному Пути и которым помешал вспорхнувший перепел с его специфической привычкой грызть кости усопших, наступает время позаботиться о методе и о здравом смысле. Пока господствует тупик, созданный условностями сравнительного метода, истинный контекст и драма исторического катаклизма, известного как испанская конкиста Нового Света, останется неисследованной.
Это замечание не является призывом к сверхупрощению. По той причине, что инки являлись наследниками той же древней идеи-формы, что и ацтеки, они не могли ответить иначе на признаки надвигавшейся катастрофы.
Инкская цивилизация была связана с давней печалью, проявляющейся через их мифы о великих циклах созидания и потерь. Как и множество других племен, инки пережили наследие войны и сохранили память о лучших днях. Это «переживание» придало инкам известную степень сострадания, беспристрастное управление их Империи и наследие красоты, которые они оставили после себя и многие из которых были разрушены. Инкский опыт отразил психологическую истину: что если сопротивляться гневу, что неизбежно вызывает страх, то наступает печаль, а вместе с нею отказ от героических поисков. Это проникновение в человеческую природу прекрасно схвачено в словах сказочника Майкла Мида: «Цена даров природы включает отказ от героических поисков и принятие циклов рождения и смерти… Красота в природе связана с печалью, и никакой героизм не может удалить печаль, не уничтожив красоту»[121].
Инки наиболее замечательны тем, что они встали над искушением позволить себе примитивную племенную ненависть своего времени. В борьбе с устрашающим видением будущего инки черпали скорее воды печали, чем гнева, моделируя империю по образу молитвы. И если эта молитва, возносимая в высь душами убитых детей, отображала подорванные силы веры, она также показывала самую страшную из всех печалей: предчувствие, что Творец мог отречься от своего творения. Подобно заядлому игроку, который, испытав горечь поражения, добивается божественного одобрения в настоящей полосе побед, инки рисковали всем ради знамения в небесах.
Для инков золото было символическим выражением этой печали, называемой ими «слезами Солнца», слезами, проливаемыми при виде человеческой глупости. Золото — а также серебро, слезы Луны — были настолько священными металлами, что ни один сделанный из них и привезенный в Куско предмет никогда нельзя было трогать под страхом смертной казни. На земле, не знавшей денежной системы, ценность золота заключалась в свойственной ему красоте, — красоте, которую инки использовали для выражения вечного удивления мира живых.
Первые достигшие Куско испанские всадники были ошеломлены золотым садом во внутреннем дворе храма Солнца. В нем были изображения в натуральную величину маиса и других продовольственных растений, цветов, золотых лам. У фонтана из золота стояли огромные золотые и серебряные урны, переполненные маисом и другими жертвенными подношениями. Внутренние стенки были покрыты золотом, а по направлению к восходу солнца располагалось изображение Солнца, покрытое изумрудами и другими драгоценными камнями. Бесчисленные золотые сосуды были покрыты изображениями всякой живой твари — птицы, змеи, рака и гусеницы. Инки тоже «страдали сердечной болезнью, специфическим средством от которой было золото». Конечно, если Солнце и Луна роняли такие слезы, то должно иметься милосердие в самом сердце мироздания.
Все незахороненное инкское золото теперь утрачено, переплавлено в слитки[122], которые пошли на финансирование отпора христианского мира Оттоманской империи. Возможно, самая незабываемая ирония андской истории заключена в этой концентрации золота. Если бы инки никогда не задавались целью вырвать более скромные циклы рождения и смерти из челюстей великого Крушения, испанцы могли бы подняться в Анды и встретить здесь заброшенное адское захолустье обнищавших и враждующих племен. Они же, напротив, нашли в слезах Пятого Солнца то «специфическое средство», которое выполнит пророчество Инки Виракочи.
Для инков всегда существовало только одно озеро — Титикака. Спокойное и не от мира сего, озеро Титикака по сей день остается неприступным из-за того, что содержит так много из прошлого, остается озером потерь в самом сердце Империи Печали. Я полагаю, что тот, кто решился бы пуститься в столь далекое путешествие, особенно в те беспокойные времена, совершил бы великую ошибку, если бы не пошел к Острову Солнца посмотреть там уникальное совершенство его инкской святыни, осуществляющей вечный круговорот вод из бездны. И находясь там, возможно, не было бы ошибкой если и не произнести молитву, то по крайней мере запомнить и для инков, и для нас самих твердый урок из нашего общего наследия: «Это также должно пройти».
ГЛАВА 11
ОБРАЗ ПРОШЛОГО
I
Современная схема черной магии не могла бы придумать более надежного сценария, чтобы затмить разум последнего Инки, Уайны Капака, нежели события и условия, которые терзали его последние дни. Обезопасив северную границу Империи и освободившись на время от формальных обязанностей при дворе в Куско, Уайна Капак пользовался редкой возможностью быть самим собой. Он любил женщин и спиртные напитки, однако обладал характером настолько великодушным, что эту интермедию в царстве Кито вспоминали со всей нежностью шекспировской пирушки. В разгар этого золотого момента с побережья пришли посланники, объявив о прибытии чужестранцев, приплывших в плавучих домах, — чужестранцев настолько жестоких, что они напугали ягуаров царских зоологических садов.
«Испуганный и подавленный» Уайна Капак уединился и, как делали его предки до него, предпринял строгий пост в поисках видения. Некоторое время спустя Уайна Капак, очевидно, начал галлюцинировать[123]. Видение в образе трех гномов, объявившее: «Мы пришли позвать тебя», побудило Императора крикнуть слуг. К тому времени, когда они примчались в комнату Инки, явление растворилось. Тогда-то Уайна Капак и осознал, что умрет вне всякого сомнения, и рассказал об этом. Только тогда оспа поразила двор. И эту прежде неведомую чуму нельзя приписать Писарро и его людям. Она пришла с другой стороны, из Карибского бассейна через ту территорию, которая сегодня является Колумбией. Если верить преданию о том, что Уайна Капак повелел, чтобы Империя была разделена между его сыновьями, Уаскаром и Атауальпой, тогда это означает, что Император также дожил до того, чтобы увидеть своего любимого сына и выбрать преемника, Нинан Куйчи, умершего такой же ужасной смертью, которая ждала и самого Уайну Капака. Так или иначе, Уайна Капак умер, согласно некоторым оценкам, со словами инкского пророчества на устах.
В духе магического реализма, достойного Борхеса или Гарсии Маркеса, последовавшие в Эквадоре события будут вспоминаться в таких рассказах, как этот:
«В обеденный час прибыл посыльный, одетый в черную накидку. Он поцеловал Инку с почтением, затем дал ему закрытую на ключ шкатулку. Инка приказал посыльному открыть шкатулку, но тот склонился в почтении, говоря, что Творец (Виракоча] распорядился, чтобы Инка сам открыл ее. Наблюдая за логикой ситуации, Инка открыл небольшую шкатулку, откуда вылетели бабочкой или выпорхнули несколько кусочков бумаги, которая исчезла. Это было оспа, и за два дня полководец Миакнакамайта вместе со многими другими военачальниками умер, их лица покрылись паршой. Когда все это увидел Инка, он приказал построить каменное здание, чтобы спрятаться там. И таким образом спрятавшийся, заточенный в камень, он вскоре умер. На исходе восьмого дня его полусгнившее тело вынули оттуда, забальзамировали и отнесли в Куско…»
Именно уарочирийские шаманы-жрецы оставят истории эпитафию по инкам. Не настолько приближенные ко двору Инки, чтобы руководствоваться политическими мотивами, и не настолько оторванные от общей судьбы всех андских народов, чтобы быть безразличными к этим событиям, мифотворцы Уарочири оставили после себя то, что, вероятно, можно было бы назвать последним мифом имперской Америки. Являясь уникальным сокровищем человеческого наследия, эта повесть, составленная как раз тогда, когда начал опускаться молот светского материализма, должна рассматриваться как одно из последних творений чисто архаичного разума, пока еще не замутненного крайне чуждым образом мышления.
Теперь поговорим об одном из подвигов Куни Райа Вира Кочи.
Говорят, что как раз перед появлением испанцев Куни Райа [Виракоча] направился к Куско.
Там он вступил в разговор с Инкой Уайной Капаком. «Подойди, сын, пойдем к Тити Каке. Там я открою тебе, кто я такой», — сказал он.
И там он поведал ему: «Инка, поднимай своих людей, с тем чтобы мы могли послать магов и всякого рода шаманов к Ура Тикси, нижним основаниям мира». Как только он сказал это, Инка быстро отдал распоряжение.
«Я — шаман-кондор!» — ответили несколько человек.
«Я — шаман-сокол!» — сказали другие.
«Я тот, кто летает как стриж!» — ответили третьи.
Он наказал им: «Летите к нижним основаниям мира. Затем сообщите моему отцу: «Твой сын послал меня сюда. Пошли меня обратно с одной из его сестер».
Человек, который был стрижом-шаманом, вместе с другими шаманами высказал намерение возвратиться не позднее чем через пять дней.
Стриж-шаман первым прибыл туда.
Когда он прилетел и передал свое послание, ему дали нечто в маленьком ларце и предупредили: «Ты не смеешь открывать его. Владыка Уайна Капак должен сам открыть его первым».
Когда человек уже почти доставил его в Куско, он подумал: «Нет! Я все же загляну внутрь. Что бы это могло быть?» И он открыл его. Внутри показалась очень статная и красивая девушка. Ее волосы были подобны волнистому золоту, _и она была одета в богатое платье, а в целом выглядела крошечной.
В тот же миг, как он увидел ее, девушка исчезла. И так, в подавленном состоянии, он прибыл в Куско, в местечко под названием Тити Кака.
Уайна Капак сказал: «Если бы ты не был стрижом-шаманом, я бы казнил тебя тотчас же! Убирайся! Возвращайся туда, откуда пришел!»
Стриж-шаман вернулся и понес девушку обратно. Когда он нес ее по дороге домой, умирая от голода и жажды, то стоило ему только сказать — как сразу же появлялся накрытый стол. И тогда ему хотелось спать.
Он доставил ее ровно на пятый день.
Когда он передал ее Куни Райа и Инке, те приняли ее вне себя от радости.
Но прежде чем открыть ларец, Куни Райа сказал: «Инка! Давай проведем линию поперек этого мира. Я вступлю в это пространство, а ты войдешь в эту другую часть вместе с моей сестрой. Вы и я не должны больше видеть друг друга!» — сказал он, разделив мир.
И он стал открывать ларец. В тот момент, когда он открыл его, мир осветился молнией.
Инка Уайна Капак сказал: «Я никогда не уйду отсюда. Я останусь здесь с моей царевной, моей царицей». Одному из своих людей, своему родственнику, он сказал: «Ты пойдешь вместо меня. Возвращайся в Куско и говори «Я — Уайна Капак!»
В тот же час Инка навсегда исчез со своей девушкой, и Куни Райа сделал то же самое.
Позже, после того, как Уайна Капак умер, люди вступили в борьбу за политическую власть, крича друг другу:
«Я первый!»
«Я первый!»
И именно в то время, как они продолжали вести себя таким образом, в Каха Марке появились испанские Вира Кочи.
Отчасти очарование этого предания заключено в его приверженности неизменно бодрому стилю всех уарочирийских мифов. Свободный от клаустрофобического причитания о гибели, которое пронизывало инкское мышление, этот миф черпает свою силу в том факте, что он более очевидно, чем любое другое предание, дошедшее до сего дня, позволяет беспрепятственно представить мыслительные процессы «классической» школы индейской мифологии Анд.
II
Впервые прочитав это предание в начале своего исследования андской мифологии, я не знал, что с ним делать. Позже, когда в поле зрения начал попадать планетарный аспект андских богов, я снова и снова размышлял над этим мифом, но у меня не было способов исследовать его дальше. Об использовании планетария не могло быть и речи. Планетарий — это машина аналогий. В отличие от экспериментов, включающих солнечно-звездные (прецессионные) соответствия, где планетарий просто поворачивается на определенный год, вопрос о точном размещении планет в далеком прошлом требует поворачивать машину в обратном направлении физически через каждый день между настоящим временем и рассматриваемой датой в прошлом. Проблема, подобная этой, связала бы планетарий более чем на месяц. Планетарные Таблицы дают положения планет только в пятидневных интервалах и, следовательно, не дотягивают до сложности этого предания, которое описывает ряд взаимодействий планет в течение десятидневного периода.
Пока писались заключительные главы этой книги, случайное стечение обстоятельств связало меня по телефону с коллегой, который по причинам, не касающимся данного мифа, пояснил, что мне нужно было посмотреть компьютерную программу под названием «Скайглоб». В силу одной лишь компьютерной грамотности я мог выяснить недостающие моменты. Да, это можно было проделать на моем компьютере. Нет, это обходилось не в астрономическую сумму; это обошлось в целом в двадцать долларов. Да, прецессия была учтена.
Когда я понял, что эту программу можно было сделать, я почти сразу же подумал об том предании, которое называл «Эпитафией по инкам». И тут, в одиннадцатом часу, совершенно неожиданно вмешались заключительные средства проверки всех основных гипотез этой книги. Если до этого времени исследование хотя бы приблизительно было обоснованно, тогда рассматриваемый миф описывал сближение Сатурна и Юпитера (Виракочи и Уайны Капака), сопровождаемое коротким заходом Венеры («звезды с растрепанными волосами») в данную группу, а в заключение Марса (аукай-ока, «его с врагами», планетарного правителя войны) либо в, либо вблизи этой троицы. Надо было также выполнить еще два условия. Во-первых, такая последовательность событий должна была произойти во время или около времени смерти Уайны Капака. Во-вторых, при выполнении всех вышеуказанных условий, хвост Западного Скорпиона должен был в это время находиться в нижнем сближении, в его самой низкой (и невидимой) точке, лежащей на пересечении северно-южного меридиана за горизонтом, или, говоря андским термином, во «нижних основаниях мира». Я солгал бы, если бы не признался, что был просто немного напуган этой последней «возможностью».
Здесь я хотел бы просить читателя затратить время, чтобы ввернуться и повторно прочитать вышеупомянутый миф, и задаться несколькими вопросами. Есть ли какой-то иной способ «прочитать» астрономию этого мифа (если принять на время обоснованность предыдущих глав), нежели тот. способ, каким описал его я? Если его символы понимаются как планеты, то фактически этот миф не очень точен в отношении своего значения: сначала Сатурн и Юпитер, затем вспышка Венеры, далее сближение всех троих, потом их исчезновение, а после господство Марса? Если действия мифологических символов соответствовали в точности, шаг за шагом, движениям четырех планет в известную историческую дату, то где возможность того, что это есть бессмысленное совпадение?
Уайна Капак умер где-то между концом 1525 и 1527 годом. Дата, обозначаемая 1525 годом, исходит от Васко Нуньеса Бальбоа, «открывателя» Тихого океана и первого европейца, услышавшего о существовании Инкской Империи. Позднее он посетит Кито, где умер Уайна Капак, и услышит из первых уст свидетельства, называвшие 1525 год. Ранний хронист Веласко поступил аналогичным образом и пришел к аналогичному заключению. Несколько отличаются более поздние донесения, относящие данное событие к 1527 году. Эти подробности имеют важное значение, потому что уарочирийский миф описывает смерть Уайны Капака с точки зрения небесных событий, которые произошли раньше, в 1524 году.
Прежде, чем обратиться к рассмотрению этого любопытного факта и всего «донесения» «Скайглоб», несколько общих комментариев, относящихся к «Эпитафии по инкам». Когда приходит Виракоча, он предлагает Уайне Капаку пойти в Куско, в местечко под названием «Тити Кака». Как говорилось выше, общей практикой в Андах было и остается присвоение некоторым локальным кусочкам земли имени Титикака, которое ассоциировалось с предками и преисподней. Ввиду этой ассоциации и ввиду важности, придававшейся жрецами-астрономами Анд судьбе входа в преисподнюю в годы, непосредственно предшествующие конкисте, неудивительно, следовательно, узнать, что цель посещения Виракочи состоит в том, чтобы побудить Инку послать «всякого рода шаманов» ко входу в преисподнюю. Этому месту в предании дается имя уру тикси, буквально «нижние основания» мира. Как отмечалось выше, слово ура, или урин, использовалось в Андах для обозначения «низшего» сословия. Сам Куско разделялся восточно-западной условной линией на «высшую» и «низшую» половины, и к югу от этой линии находился урин Куско.
Когда Виракоча и Инка делили мир пополам, проводя линию, то, вероятно, как предполагают Саломон и Уриосте, это относилось как к воображаемой восточно-западной условной линии, делящей Куско, так и к разделению Империи, которое произошло после смерти Уайны Капака между его сыновьями Атауальпой и Уаскаром. Однако имеется третий, вполне астрономический, элемент для этого обозначения, который позже станет знаменитым.
Третий пункт, сделавший возможным тестирование программой «Скайглоб», касается астрономического тождества «трех шаманов». Согласно мифу, три шамана приняли форму птиц — кондора, сокола и стрижа. Этот факт привел меня к начальному предположению о том, что три птицы — это звезды, поскольку «птицы», как мы видели, — это своего рода мифологический термин для обозначения звезд. Эта посылка, далее, подкрепляется главой 29 уарочирийских мифов, той, которая содержит наибольшую часть явно астрономической рабочей информации. В ней, помимо самой ламы, описывается ряд других объектов. Льюту, или куропатка, упоминается как южный конец небесной Ламы. Затем рассказчик снова переносит внимание на фланги позади ламы, чтобы описать ее детеныша-сосунка. В следующем предложении мы читаем: «Мы также знаем, что там расположены три звезды на прямой линии. Они называли их Кондором, Стервятником и Соколом».
Здесь, следовательно, описывается созвездие из трех звезд на одной линии, представляющее три разновидности птиц, две из которых идентичны разновидностям, определяемым как «птицы-шаманы», посланные Уайной Капаком к преисподней. Известно, что Авила основывался на сведениях нескольких информантов, и, следовательно, абсолютно возможно, что «три звезды на одной прямой линии», подобно трем шаманам, понимались как группа птиц, разновидности которых могли называться несколько по-разному различными информантами.
В течение длительного времени у меня сохранялось подозрение относительно идентичности этих трех звезд[124]. Расположенные так, что они были видны по отношению к задним флангам Ламы, они, как мне казалось вероятным, представляли три звезды в Скорпионе, те же самые, которые составляют крестовину cruz calvario, то есть ипсилон Скорпиона и видимые двойные звезды, 1 и 2 мю Скорпиона и 1 и 2 зеты Скорпиона (рисунок 2.2). (Интересно, что миф определяет тех «людей» во множественном числе, представлявших каждую птицу, но, когда он упоминает действия стрижа-шамана, язык возвращается к единственному числу, и это говорит о том, что ипсилон Скорпиона представляла стрижа, а другие, парные звезды — других шаманов.) Поводом для этого подозрения, помимо того факта, что они находятся на прямой линии на задних флангах ламы, послужило то, что все три «птицы-шамана» из нашего мифа ассоциируются с землей усопших, потому как их посылают в преисподнюю. Все три эти звезды находятся у входа на землю усопших, как раз в области пересечения с Млечным Путем и эклиптикой в области декабрьского солнцестояния.
В главе 29 уарочирийских мифов, где они идентифицируются как «птицы», две из трех птиц — кондор и стервятник — являются пожирателями мертвечины и в этом качестве ассоциировались со смертью. Далее, переименование их после конкисты в cruz calvario в целях «партизанского синкретизма» имеет смысл, поскольку гора Голгофа находится в том же отношении к представлениям о смерти и возрождении в христианском мышлении, как и представление в андской мысли о честолюбивых хищных «птицах-шаманах», способных достигать земли усопших. В течение трех дней погребения Христоса между страстной пятницей и пасхальным воскресеньем, Он, как утверждается, спускался в преисподнюю (Ад), чтобы освободить мертвых. Эта же самая связь повторяется в мифе об Уайне Капаке, когда он выбирает «птиц-шаманов кондора, сокола и стрижа для полета к «нижним основаниям» мира.
Поэтому мне пришло в голову поискать расположение этих трех звезд в то время, о котором говорилось в рассматриваемом мифе. Те же самые принципы анализа, которые применялись мною в ходе данного исследования, подсказывали, что миф относится к 1 февраля 1524 года. Встреча Виракочи и инкского императора должна выражать сближение Сатурна и Юпитера. Далее, нельзя было ожидать, что такое сближение могло происходить в год смерти Уайны Капака или около того. Согласно Планетарным таблицам, такое событие имело место 1 февраля 1524 года.
В этот момент я доверил работу своей жизни «Скайглобу», чтобы посмотреть, что случится. Когда я стучал по клавиатуре, вызывая это небо далекого прошлого, мне вспомнилась другая ночь, когда я устало тащился под выпуклой луной в 3:30 утра на встречу с одним старым крестьянином, который должен был показать мне некоторые звезды, и лающая стая черных псов выбежала на набережную, чтобы цапнуть меня за пятки. Я должен был решить на месте, не повернуть ли мне обратно. Через полчаса пожилой человек показывал мне cruz calvario, пересекавший черное облако Лисы, у входа в преисподнюю. Теперь же, пока «Скайглоб» решал вопрос изображения по состоянию на 1 февраля 1524 года, я еще раз испытал радость спасения у ворот на землю усопших.
Рисунок 11.1 показывает южный горизонт вскоре после заката, в 6:52 пополудни того исторического дня. В это время, при расположении солнца на девять градусов ниже западного горизонта, объекты величины Сатурна и Юпитера, слабые в западном небе, впервые становятся видимыми в сумерках. Все три птицы-шамана были в точности там, где должны были находиться, согласно мифу. Как показывает рисунок, «три шамана» — ипсилон Скорпиона, 1 и 2 мю Скорпиона и 1 и 2 зета Скорпиона — находятся ниже горизонта, зависая прямо под и касаясь «нижнего основания мира», то есть южного тропика, у входа в преисподнюю. В астрономической терминологии все три звезды расположены у нижнего сближения; они также, случается, отмечают точку пересечения в звездах эклиптики и галактики, равно как и местоположение в звездах видимый восход в декабрьское солнцестояние. Этот результат заинтриговал меня, но это была лишь вершина айсберга. Поскольку я разыгрывал на экране компьютера последующие ночи, описанные в мифе, планетарные события были просто захватывающими.
III
Рисунок 11.2а показывает вечернее небо по состоянию на 1 февраля 1524 года, день самого тесного сближения Сатурна и Юпитера. Виракоча пришел посетить Уайну Капака, и, как мы уже видели, птицы-шаманы летят в преисподнюю, «предполагая возвратиться не позднее чем через пять дней». На обратном пути из преисподней стриж-шаман совершает ошибку, открывая переданный ему ларец. В течение краткого момента он видит красивую женщину с «вьющимися» золотыми волосами, очень «маленькую», которая сразу же «исчезает».
Рисунок 11.2Ь показывает вечернее небо, также через тридцать шесть минут после заката солнца 5 февраля — то есть четырьмя ночами позже, в пределах обещания стрижа-шамана возвратиться «не позже чем через пять дней». Той ночью часка коильюр, планета Венера, идентифицированная в испанских хрониках как красивая женщина с вьющимися волосами, впервые вновь появляется из-за солнца после того, как в течение приблизительно восьми недель была невидимой. Как показывает рисунок, Венера, при понижении солнца на девять градусов, лишь на мгновение озаряется на горизонте, исчезая почти сразу же в этом своем первом новом появлении как вечерняя звезда. Далее, именно так, как упоминается в мифе, Венера в этой точке на орбите выглядит «самой маленькой» из-за ее удаленности от земли. В последующие ночи Венера будет задерживаться в западном небе все дольше и дольше.
Затем миф повествует, что разгневанный император[125] приказывает стрижу-шаману возвратиться в преисподнюю за красивой женщиной и что «ровно» через пять дней он доставил ее Инке. Ровно через пять ночей, как показывает рисунок 11.2с, 10 февраля, Венера вошла в сближение с Сатурном и Юпитером.
Наконец, как раз перед тем, как Уайна Капак «исчезает», он обращается к «родственнику», которому наказывает возвратиться в Куско вместо себя. Таким же образом, каким миф определяет, что красивая женщина есть «сестра» Виракочи, «родственник» регента Юпитера, Уайны Капака, также должен быть планетой. И действительно, в нескольких «шагах» от Уайны Капака, радующегося встрече со своей супругой, стоит планета Марс. В последующие мгновения (рисунок 11.2d), как и предсказывалось, Юпитер, Сатурн и Венера «исчезают». Единственным действующим лицом, остающимся на сцене, оказывается «родственник» Марс, возвращающийся теперь в Куско, чтобы руководить гражданской войной и испанской конкистой.
Данное подтверждение придавало этой картине некую завершенность, как будто коллективный дух андского жречества, оказавшийся теперь в центре поля зрения истории, снова смотрел неотступным пристальным взглядом, чтобы спросить: «Хорошо?» Я хотел бы сказать им, что это последнее сообщение человечеству из доколумбовых Анд будет оценено, но я не мог быть уверенным в этом. В какой-то момент я подумал, что прикоснулся к какой-то частице безбрежной печали, которая охватила андский мир. «Мы хотим быть людьми, а не индейцами».
Сколько же требуется мужества, чтобы, когда твой мир рушится вокруг тебя, продолжать делать свою работу, делать свои наблюдения и сохранять их для будущего, которое, быть может, уже разрушено? Сколько же любви надо питать к тем, кто пока еще не родился, чтобы создать настолько сентиментальное предание, составленное не для того, чтобы привлечь внимание к своей хитромудрости, а исключительно ради того, чтобы поймать в сети инструмент человеческой памяти — предание переполнено волшебными ларцами, прекрасными девами, темпераментными царями и нерадивыми слугами — и при этом все время мучиться сомнениями, будет ли оно когда-либо услышано?
Когда осведомители «искоренителя», священника Авилы, садились с его ученым писарем, чтобы излить из своих сердец на бумагу сущность своего образа жизни, они знали наверняка, что прощались со своим прошлым. Отчего же еще они говорили? Вполне возможно, что люди, беседовавшие с Авилой, не осознавали в полной мере значение пересказываемых ими преданий. Эти предания создавались специалистами для посева в общую память, для сохранения в умах и сердцах их людей. В минувшие времена эти предания, бившие ключом на границе между сознанием и интуицией, могли бы околдовать кандидаты в шаманы. Случайное упоминание старшим тех трех птиц-звезд — сокола, кондора и стервятника — могло бы внушить какому-нибудь молодому человеку, возбужденному ошеломляющей мыслью, что все эти истории, слышимые с детства, говорили о мире несравненно большем, чем он себе воображал когда-либо прежде.
В минувшие времена такой молодой человек приближался к жрецу-астроному и выражал свое намерение почти что в глубоком смятении, томимый страстным желанием того, что он едва мог бы постичь. Но все это было до конкисты. Теперь же шаман-астроном превратился в объект охоты, в самого опасного человека, поражавшего воображение конкистадоров. Андского шамана уничтожали, подвергали пыткам, калечили, забивали до смерти, четвертовали, сжигали заживо. Великая река знания, которая протекала через самое сердце Анд задолго до Рождества Христова, уменьшилась до ручейка, а затем превратилась в пыль. «Искоренители» лелеяли осведомителей, немногих недовольных или запуганных людей, которых удалось завербовать среди жрецов в черных юбках. Самая незначительная неосмотрительность могла обернуться смертным приговором. Поскольку голос Анд погибал молча, он оставил свою эпитафию.
Для меня, по крайней мере, проблема была улажена: астрономия андской мифологии действительно существовала. Даже в самых смелых мечтах я никогда не смел надеяться, что подберусь так близко к мыслительным процессам, которые сконструировали андскую мифологию. «Эпитафия по инкам» является крайне важным документом во всемирной литературе, потому что она говорит нам о складе архаичного мышления. Прежде чем обратиться к этой непредвиденной находке, было бы полезно подытожить причины, по которым этот миф, рассматриваемый по отношению к небу, дает независимое подтверждение каждому отдельному крупному вопросу, которые объяснялись в предшествующих главах и относились к астрономической космологии и практике в доколумбовых Андах.
Три «птицы-шамана» в Скорпионе, которые отмечали вход в преисподнюю, были невидимы за горизонтом. Чтобы узнать, где они находились, астрономы-жрецы должны обратиться к некоторым другим звездам. В момент нижнего сближения всех трех шаманов, западный край Млечного Пути в Близнецах располагался у верхнего сближении (то есть у пересечения основного меридиана, или линии, проведенной по небу с севера на юг) (рисунок 11.3). Как мы уже видели в главе 2 и других разделах, общей практикой в Андах было соединять дорожкой одновременно обе точки солнцестояния в звездах. Здесь эти точки солнцестояния находятся в верхнем и нижнем сближениях, независимо от горизонта. Так как данное предание обращается к положению звезды, не видной глазу наблюдателя, то оно оправдывает вывод, который подсказывается каждым из мифологических сюжетов, рассматривавшихся в предыдущих главах, и состоит в том, что андские мифотворцы зафиксировали в памяти и записали в мифе многочисленные связи внутри сферы неподвижных звезд, особенно тех звезд, которые наблюдаются при солнцестояниях. Этот последний факт должен раз и навсегда устранить ничем не обоснованные представления, будто коренные народы Анд не занимались и, следовательно, не могли заниматься наблюдением «звезды за звездой» «совершенно независимо от местоположения наблюдателя». Андские народы знали, где находились звезды, даже тогда, когда они не могли их видеть.
Далее, как проясняет рисунок 11.1, местоположение «нижнего основания мира» находится именно там, где и говорилось в» главе 3, то есть на южном тропике, что подтверждает общий тезис о том, что топографическая привязка является аналогом положений в сфере астрономии, и частный вопрос о том, что нижняя оконечность «этого мира», кай пачи, простирается настолько же, насколько и южный тропик, туда, где начинается земля усопших. Иными словами, язык этого мифа ясно показывает, что уарочирийские жрецы-астрономы мыслили в рамках понятия «астрономической земли», ограниченной точками солнцестояния. (Сравни рисунок 11.1а и рисунки 3.13 и 3.14.)
В-третьих, последовательное использование в мифе терминов родства — «отец», «сын», «сестра», «родственник» — между планетарными божествами и описание характеристик «птиц-шаманов/звезд», созванных Инкой в качестве царских подданных, подтверждает материал глав 6, 7 и 8, а именно, что системы родства в Андах исчислялись с точки зрения астрономических объектов и что отношение правителя к управляемым осмыслялось как воспроизведение на земле отношения планет к звездам.
Кроме того, по той причине, что миф связывает переход последнего великого Инки с положением ворот в преисподнюю у нижнего сближения — «нижнего основания мира», — миф еще раз подтверждает центральный тезис глав 9 и 10 о том, что главное астрологическое занятие Империи Инки было связано с «судьбой» этого местоположения в звездах.
Наконец, этот миф и его сравнение с ночным небом исправляет ошибочное представление о том, будто в доколумбовых Андах планеты не имели названий или не являлись объектами тщательного наблюдения, и подтверждает выводы 4, 5 и 8 относительно астрономической идентичности «актеров». Это миф, передающий свою интерпретацию как весьма специфическое состояние ночного неба, которая выдерживает проверку до мельчайших подробностей и которая формулировалась «под дулом» известной исторической даты. Если еще остаются такие, кто желает и далее утверждать, будто космология, описанная в этой книге, никогда не существовала в доколумбовой Андской цивилизации и не представляла собой могущественную силу в истории, тогда пусть они попробуют четко объяснить, почему связь между рисунками 11.1 и 11,2а — d и «Эпитафией по инкам» должна выступать бессмысленным совпадением.
Игнорирование значения данного мифа было бы, по моему мнению, бессмысленной тратой благоприятной возможности, обеспечиваемой этим уникальной совокупностью условий. Библиотеки мира переполнены этнографической информацией о бесчисленном множестве народов, — информацией, с которой консультируются прежде всего в целях формулировки «законов развития культуры». Если великая космологическая схема, попытка описать которую, пусть и неадекватно, предпринималась в настоящей книге, действительно существовала в Андах, тогда где бы она могла тоже не появиться? Если контакты между Старым Миром и Новым неприемлемы в качестве объяснения того, почему в Андах планета Сатурн представлялась как древний носитель мельницы, Юпитер — как властитель-громовержец, Венера — как красивая женщина с вьющимися волосами, а Марс — как владыка войны, тогда для тех, кто отвергает такое объяснение, настал черед самим выдвинуть и предложить вероятный альтернативный вариант. Наиболее важное заключение из этого исследования — весьма простое: из уважения к несовершенству методологии мы совершаем не что иное, как обрекаем историю человеческого рода, неожиданную и невообразимую, пылиться на темных полках.
Эта история особенно важна для современной нам эпохи, потому что она прежде всего свидетельствует о продолжительных поисках человечеством цели и смысла человеческой жизни на земле. В нынешний Век Науки, когда жизнь понимается как случайное возникновение, многие приходят к заключению, что такие поиски являются анахронизмом. Но прежде чем сбрасывать со счетов как простое заблуждение усилия тех, кто жил до нас, возможно, было бы полезно рассмотреть один заключительный аспект «Эпитафии по инкам» и его отношение к возникающему образу современного научного мышления. Этот аспект относится к тому любопытному факту, что миф описывает астрономические события, имевшие место до физической смерти Уайны Капака. Этот факт выявляет мир мышления, доступность которого для исследования в наше время представляет собой почти сверхъестественный реликт.
IV
Так как самой ранней вероятной датой (Бальбоа) смерти Уайны Капака являлся конец 1525 года, то первый и наиболее очевидный факт, выявляемый «Эпитафией по инкам», состоит в том, что астрономические события февраля 1524 года должны были иметь место в рамках некой мнемонической схемы по крайней мере за полтора года до того, как они были сформулированы в мифе. Самое простое объяснение этому, как это и было сделано, заключается в том, что жрецы-астрономы Уарочири зафиксировали все подробности с помощью искусства записи. Хотя это может показаться и маловероятным, потому что описание астрономических событий не содержало в себе специфического значения для более поздних времен. Если бы простое увековечивание явлений, предпринимаемое с целью ретроспективного анализа, являло собой обыденную процедуру, то это подразумевало бы, что обыденное увековечивание сотен наблюдений осуществлялось ради возможного использования в будущем. Скорее всего жрецы-астрономы использовали своего рода памятную записку, вроде счетной палочки или кипу, из которых последний является наиболее вероятным.
Хотя утверждение о том, что программа «Скайглоб» «подтверждает» существование у андских жрецов-астрономов немалого искусства наблюдений и записи множества фактов, отдает некоторой снисходительностью, такого рода уступки современному восприятию, похоже, являются неизбежными. Наука функционирует на принципе экспериментального моделирования, а не на основе веры. Однако в любом случае ясно, что наличие в доколумбовых Андах класса профессионально подготовленных астрономов нельзя оставлять за порогом романтического воображения. Чтобы могло появиться такое предание, как это, должен был также иметься ряд условий: систематическое наблюдение, весьма точное ведение записей и, наконец, формулирование мифов для долгосрочного сохранения памяти о воспринимавшихся значительными астрономических событиях. От людей, которые простаивали всю ночь, наблюдая за небесами ради пользы сообщества, нельзя было требовать, чтобы они еще и весь день работали на полях.
Этот факт, в свою очередь, раскрывает фундаментальную причину авторитетного характера и роли андской мифологии в жизни Анд: в качестве членов профессиональной гильдии жрецы-астрономы Анд обучались искусству хранения точных записей. Обучение, которое они усваивали, и мастерство, которое они оказывались способными проявить в наблюдении и записи, являлись результатом прямой и непрерывной передачи знаний и умений из отдаленного прошлого. Подготовленные в русле такой традиции, андские жрецы-астрономы по этой причине безоговорочно доверяли мифологической базе данных, потому что знали, как ее следует составлять, а тщательность их собственной работы стала мерой их отношения к своим предшественникам.
В чем же тогда состояла цель этой традиции тщательного и продолжительного астрономического наблюдения, о котором мы мимоходом узнаем из предания о последних днях Уайны Капака? Эта история не может быть помечена астрологией, по крайней мере, в обыденном смысле слова, потому что она не является предсказанием земных событий. В наши дни, должно быть, чертовски надоело читать гороскоп по субботам. Однако похоже, что именно такой подход — создание базы данйых для ретроспективного изучения — порождает уарочирийское предание.
В нем содержатся свидетельства модели архаичного мышления при работе в поле, где все явления становятся признаком и ключом друг к другу. Этот миф подобен выполнению работы, очерку возможной связи между двумя событиями, которые происходили близко друг к другу по времени, но в различных масштабах. В рамках такого мировоззрения предсказание, будь то посредством небес или с помощью других андских методов, таких как осмотр произвольного образца листьев коки или внутренностей ламы, представляло собой попытку установить место для созерцания значимого образца.
Возможно, наиболее доступным для западного ума изучением этого образа мышления является известное предисловие Юнга к «И цзин»[126]. В нем Юнг рассматривал феномен синхронности, или «значимого совпадения», который «И цзин», китайская «Книга перемен», относит к числу наиболее сложных образцов мира. Знакомым по западной традиции событием, в котором синхронность, как утверждалось, играла решающую роль, было паломничество волхвов. Когда они увидели «звезду на востоке» — тройное сближение Сатурна и Юпитера в Рыбах в 6 году до н. э., — они не «предсказывали» рождение Христоса и рассматривали это астрономическое событие не как «причину», но, скорее, как некое знамение другого долгожданного события[127].
Точно так же, согласно китайскому представлению о причинной связи (синхронности, или значимом совпадении), во времени существуют; так сказать, «дыры». События попадают в эти «дыры» одновременно без видимой причинной связи. Если ради того, чтобы сконструировать элементы гексаграммы из «И цзин», подбрасывать стебли тысячелистника или монеты, то, согласно китайскому представлению, получится, что очевидная случайность этого действа на самом деле отражает сложность момента. Человек пребывает в неведении относительно чего-то, а оракул приоткрывает ему эту темную для него область, указывая на значимый образец, образец данного момента. Иными словами, «И цзин» говорит не о будущем; она говорит о настоящем. Точно такая же точка зрения совершенно очевидно присутствует в «Эпитафии по инкам».
Андская мифологическая «база данных», далее, представляла собой историю синхронных событий. Астрономические наблюдения, хотя и доказывают свою точность, следовательно, не были «научными наблюдениями» ни в одном из тех смыслов, которые мы вкладываем в данный термин. Андское астрономическое наблюдение — помимо практического применения по соблюдению календаря — предпринималось не для того, чтобы выяснить, как функционируют вещи, а для того, чтобы выяснять, что эти вещи означают[128]. Архаичное воззрение на естественный мир заключалось в том, что оно выступало носителем образцов, которые функционировали одновременно на разных уровнях, и. что эти образцы представляли собой проявление разума высшего порядка в действии. Наблюдая небесный танец, можно было бы уловить признаки замысла Балетмейстера. Понимая «послание» образца, развертывающееся во времени, человечество могло бы найти отведенную ему самому роль в этом танце. Современная наука, напротив, не «допускает» осмысленности в естественном порядке и, в сущности, зашла довольно далеко в утверждении о свойственном естественному порядку вещей отсутствии смысла.
В архаичном представлении вопрос заключался не в том, существовал ли этот смысл, а в том, как найти его. Поэтому было невозможно отделять тщательное наблюдение естественного мира от метафизических поисков. Функциональный аспект материального мира представлял просто меньше интереса для андского мышления, чем его качество как цикла обратной связи, относящейся к состоянию единства между человечеством и Сильными Мира Сего. Предсказание образца сил, действующих в настоящее время, могло предполагать соответствующие приготовления для встречи будущего. Временная глубина базы данных в том виде, в каком она прослеживалась, по крайней мере, в течение семнадцати столетий, обеспечивает — подобно спектру гексаграмм в «И цзин» — богатство сравнительных ситуаций для измерения по ним значения современных условий. Заботой андских капакас было благосостояние людей. Они не имели времени, чтобы забавляться наукой.
И подобно совету «И цзин», наблюдаемые андскими жрецами-астрономами астрономические образцы предоставляли возможности для понимания того, как могли люди наилучшим образом служить великой гармонии. В 200 году до н. э., при открытых мостах между мирами, послание должно было предвещать времена больших возможностей. Сочетание событий в 650 году н. э., напротив, предсказывало напряженность вследствие дисгармонии уровней. В мифах о потопе крестьяне, ставшие небрежно относиться к священной природе жизни и переставшие прислушиваться к голосу своих собственных пакос, внезапно осознали надвигающееся бедствие и ради того, чтобы пережить невзгоды, сами вернулись к древним обычаям. Историческое доказательство такой линии развития мы находим в сословной системе. Крестьянство выжило, избежало катастрофы после Уари путем совместного использования земли (в духе взаимности) и сохранило автономное право самому выбирать своих руководителей и культовые обычаи.
События, начинающиеся в 650 году н. э., похоже, предвещались в сфере механистической астрологии, в которой «посвященным в курс дела» стало «легко» интерпретировать небесный рисунок. Образ и без того весьма грозного бога становился еще более грозным соответственно тому, как на небеса проецировалось своеволие человечества. Рассмотрение альтернативных толкований небес уступило место ощущению неизбежности.
На смену попыткам постижения смысла настоящего пришла механистическая астрология, искусство предсказания. Поскольку первоначальные границы, отводившиеся использованию астрономических наблюдений, рухнули, то первостепенным занятием жречества воинов стало не столько приспособление, сколько управление. Окончательно это изменение было завершено инками, которые, сочтя астрономические образы не отвечавшими их вкусу, решили попытаться заменять сами эти образы.
Тем не менее не следует упускать из виду то обстоятельство, что Инки предсказали событие масштаба конкисты и что уарочирийские жрецы-астрономы хорошо осознавали также неизбежность открытия такой «дыры во времени». В действительности рассуждение, которое привело к инкскому пророчеству, было скорее всего следствием устрашающего образа, который, за неимением более подходящего слова, можно было бы назвать «объективным» в том смысле, что он на самом деле имел место. Главные датировки периодов андской археологии, определенные радиоуглеродным методом и керамической стратиграфией, с большой точностью совпадают с моментами катаклизмов конца света — пачакути, которые отмечают и андские мифы. Кроме того, андская мифология и археологические данные находятся в полном соответствии в отношении существенного содержания таких центральных моментов и следовавших за ними веков, за исключением лишь того, что во многих случаях андская мифология проявляет большее понимание их динамики, чем способна обеспечить археология. Это сравнение создает возможность сформулировать любопытное утверждение о факте, основанном исключительно на археологических данных, один из которых, однако, был также хорошо известен инкам из их собственной мифологической базы данных: начиная приблизительно с 200 года до — н. э. андское общество подвергалось фундаментальным преобразованиям всякий раз, когда солнце солнцестояний входило или выходило из Млечного Пути. Кроме того, сближения Сатурна и Юпитера с периодичностью в восемьсот лет также происходили на фоне Млечного Пути в то же самое время, когда осуществлялись крупные социальные преобразования на земле.
Западному мышлению, непривычному к анализу этих сопровождающих историю образов, все это представляется совпадением. Для андских же жрецов-астрономов оно было доказательством синхронности, одновременного вступления на сцену важных образов на разных уровнях. Напрягая воображение, мы, современные люди, могли бы породить чуточку сочувствия, к тем людям, которые «растрачивали себя» на метафизические предположения. Мы могли бы даже ощутить маленький шок, узнав, что сближение Сатурна и Юпитера, регулярно происходящее с периодичностью в восемьсот лет, состоялось как раз в 1444 году, усилив предчувствие Пачакути Инки и жрецов-астрономов, что андский мир снова балансировал на грани потопа. Мы могли бы, далее, изумиться предсказанной инками специфической синхронности в небесах, если бы заметили, что астрономические события, описываемые наряду со смертью Солнца-Царя в «Эпитафии по инкам», по еще одному совпадению начались как раз накануне прохождения солнцем своего зенита над Куско, в тот момент, когда Империя Инков тоже пребывала в зените, но ее могуществу уже было предопределено пойти на убыль[129]. Лежащие в основе андской мифологии умение и желание наблюдать и запоминать на протяжении двух тысячелетий повторяющееся тройное сближение планетарных, прецессионных и исторических событий поистине впечатляют. Но свидетельствует ли это о необыкновенной духовной восприимчивости или же о повышенной внушаемости людей от занятия историей? Не принимать в расчет пророчество инков как «самоисполняющееся» — значит недооценивать способность андских шаманов к восприимчивости и, конечно, недооценивать решение европейцев завоевать новые миры.
На мой взгляд, единственный из наиболее привлекательных вопросов, поднятых данным исследованием, состоит не в том, каким образом технический язык мифологии попал в Анды, или даже не в том, где и как он впервые был разработан, а, скорее, в том, почему эта система мышления так легко воспринималась народами по всему миру. Восприятие — это самая искренняя форма признания. Тогда что же такого привлекательного содержалось в этом мировоззрении, если оно побуждало такое множество народов на земле в одно и то же время выверять свою судьбу по звездам и связывать свой удел с движением планет-богов, каждую из которых все народы наделяли одними и теми же свойствами и характеристиками? Если в этой системе мировоззрения не было чего-то такого, что несло в себе подлинно духовное восприятие феноменального мира, тогда почему даже после ее заката мы находим почтительные упоминания о ней во всех более поздних религиозных традициях — от юдаизма до буддизма и от христианства до ислама и индуизма?
«Эпитафия по инкам» навевает яркие картины: жрец-астроном (а быть может, и несколько) стоит один в холодном высокогорье, наблюдая в течение долгих ночей танец структуры планет, записывая, изучая, обдумывая. Зачем? Были ли это забитые и суеверные люди, занимавшиеся совершением уже известных из прошлого «ошибок»? Или же участие андских жрецов-астрономов в этой древней и удивительно широко распространенной традиции подсказывает, что они обладали доступом к такому образу восприятия, который делал практику астрономических наблюдений полезным способом выявления и понимания значительных образцов?
V
Конечно, не время становиться апологетом астрологии, да я бы и не смог. Однако существуют некоторые факты, касающиеся технического языка мифологии, которые можно устанавливать без обращения к вере. Прежде всего сама сложность этого языка означает, что данное учение служило не только или даже не столько «практическим» целям, вроде составления календарей. Поступать таким образом было бы все равно, что использовать корабль как пресс-папье. Кроме того, это было предание, которое — по причине своей зависимости от весьма специфического метаязыка, употребляющего своеобразные символы, — требовалось передавать. На всем протяжении этого предания описывалось отношение между учителем и учеником. В свою очередь, эта логика предполагает, что в передаче таких идей имелся некий элемент внутреннего усвоения, — элемент, связанный с воспитанием восприятия. Способность к восприятию естественного мира требует такого взгляда, который видит одновременно и внутреннее, и внешнее. Картины Рембрандта сохраняют способность очаровывать именно потому, что они изображают внутреннее восприятие внешнего мира. Представляла ли собой андская мифология, как и всякая связанная с астрономическими событиями мифология, аналогичную «обработку» данных о явлениях посредством некой внутренней натренированности глаза?
Аналогичным образом можно было бы в отношении австралийских аборигенов, которые исторически, насколько известно, не подвергались обучению техническому языку мифологии, задаться вопросом, как могло случиться, что они пришли к хорошо задокументированному выводу о том, что Марс был не очень-то надежным парнем. Если аборигены самостоятельно идентифицировали в той или иной мере крутой нрав Марса, тогда, по крайней мере, появляется вероятность действия некоего механизма восприятия, посредством которого люди были способны «связываться» с планетами[130].
Вторым аспектом этого учения является тот, который я до сих пор не подчеркивал, хотя он скрыто присутствует во всем, о чем говорилось. Это понятие шкалы. Андская космология в целом, связывающая мертвых, живых и богов, представляла собой шкалу особого рода. В этом качестве она участвовала в архаичной теории шкал, которая на первый взгляд кажется весьма простой.
Китайская поговорка гласит, что «календарь и звучание свирели настолько плотно примыкают друг к другу, что невозможно просунуть между ними даже' волосок». Это та идея, которая была бы хорошо понятна Кеплеру или Пифагору: понятие действия законов на различных уровнях и в различной среде, — законов, в одинаковой мере поддающихся выражению математической точностью астрономии или посредством звуковых колебаний. Подобно китайской свирели, андская свирель настроена на пятитональную шкалу. Андское мышление буквально пронизано этой «квинтэссенцией»: пять Солнц, пять ступеней на пирамиде, пять мумифицированных супружеских пар императоров в храме Солнца, пять нот в звуковой гамме.
Шкала. Это слово происходит от латинского слова, обозначающего «лестницу» и выражающего восходящие ступени как музыкальной гаммы, так и лестницы к звездам. В Перу, где она иногда называлась лестницей, хотя чаще мостом, шкала имела пять ступеней. Последняя «ступенька», по которой Виракоча переходил через Млечный Путь в Близнецах на землю бессмертных, без видоизменений фигурирует в «Божественной комедии» Данте (четырнадцатое столетие) под названием scala, или лестница, по которой поднимался Данте, чтобы переместиться от неба Сатурна к сфере неподвижных звезд в Близнецах[131]. Патроном Данте был Сап Grande della Scala, буквально «Большой Пес Лестницы», обозначавший Сириус, звезду из созвездия Большого Пса ниже Близнецов по большой лестнице галактики. Данте и его окружение принадлежали к «старой школе».
Хотя корни этого учения, быть может, восходят к столь древним временам, что даже трудно себе представить, его следы все еще обнаруживают себя в средневековом музыковедении. В нем мы находим нотации, которые сегодня являются обычной для Запада музыкальной гаммой из семи нот — до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Эти названия представляли собой латинскую мнемонику для составных элементов «шкалы» организации космоса, схемы, которая была древней уже и во времена Данте.

Эта «шкала» во всех отношениях согласуется с современными западными представлениями об организации космоса. Она берет начало от абсолюта, абсолютного «ничто», Бога в буддистском мировоззрении. Оно вырастает в спутники планет, или луны. Затем происходит наша собственная планета, то есть точка наблюдения, начало жизни, делающее возможным само наблюдение. После в совокупности, или солнечной системе, возникают планеты. Далее наступает переход на совершенно иной, высший уровень организации, к самому солнцу. После этого данная шкала переходит на уровень составления совокупностей солнц в галактики, опять же в соответствии с современным мышлением. Затем возникает сфера всех видимых астрономических объектов, звездное небо, или сфера неподвижных звезд. И в завершении происходит возврат к абсолюту, Богу во всех формах.
В скрытом виде в этом учении всегда присутствовало представление о сознании. Согласно этому представлению, восходящий порядок космической организации соответствует возрастающим уровням организации разума. Эта древняя идея недавно получила широкое хождение в так называемой «Гее-гипотезе» геохимика Джеймса Лавлока. Лавлок постулировал, что биосфера Земли — это форма саморегуляции разума. Так, несмотря на то, что архаичные представления о шкале могут выглядеть почти простодушно-наивными, подобно блокам накопления у детей, они всегда предполагали единую теорию знания, в которой действуют те же законы, каковым подчиняются управление вселенной, звуковые колебания или возможности человеческого познания (эти несколько «наборов» называются здесь лишь ради примера).
Прежде чем устанавливать один простой факт об архаичной теории астрономической шкалы, для оценки которого не требуется быть приверженцем мистицизма, было бы полезно сказать несколько слов о том, как некоторые тенденции в научной мысли, связанные с радикальным сдвигом в научном мировоззрении последнего столетия, нынче выглядят совершенно «архаичными» в своей оценке шкалы.
Направление современной науки в нынешнем столетии приняло драматический оборот со вступлением в принцип неопределенности. Появление неопределенности подняло ставки в науке посредством постановки под сомнение самих основ научного знания. Один из таких вызовов был брошен самому измерению, Необходимейшему условию экспериментального моделирования. Принцип неопределенности Хайзенберга устанавливал, что измерение одного из двух связанных количеств, таких как положение и кинетическая энергия частиц атома, обязательно создавало неопределенность в измерении другой.
Одинаково революционным открытием было очевидное исчезновение предсказуемости поведения материального мира, рассматриваемого на уровне структуры атома. Начиная с Ньютона и на протяжении всей, викторианской эпохи вплоть до теории относительности Эйнштейна (1904) считалось, что посредством достаточно точных измерений можно было предсказать поведение любого физического процесса. Такой взгляд на мир заключал в себе своего рода уверенность в том, что человек может подчинить себе физическую среду, проникнув в тайны законов управления процессами, задуманные Творцом. Поэтому всех повергло в шок осознание выводов таких работ, как труды Курье, о том, что неопределенность, похоже, находилась в самой основе материальных процессов. Исследуя радиоактивный распад радия в свинец, Курье заключил, что момент, когда наступит трансформация определенного атома радия, не сможет быть предсказан в течение 500 000 лет. В этом мире атомного ядра отвергались законы причины и следствия.
Путь преодоления очевидной потери «контроля» над принципами организации материального мира обеспечивался в соответствии с теорией квантовой механики Планка, которая заменила предсказуемость принципом статистической вероятности. Если взять в достаточно больших количествах частицы, скажем, радия, то период его трансформации можно было бы установить статистически, даже если поведение отдельно взятого атома не поддавалось предсказанию. Таким образом, наличие непредсказуемости в основе материального мира оказывалось возможным обойти, так как статистической вероятности для технологических применений было достаточно.
В области теоретической физики, однако, темпы открытий отставали. Единой теории поля, которая бы объединила в себе все открытия ядерной физики, сформулировать не удавалось. В этих условиях начало нарастать недовольство среди части ученых, у которых возникло ощущение возникновения своеобразного теоретического тупика. Искусство ядерной физики заключается в создании крупных экспериментов, — экспериментов, в которых регистрируется как можно больше переменных, чтобы сосредоточиться на одном явлении. Поскольку казалось, что такой путь занятия наукой исчерпал свои пределы, то, следовательно, испарялась надежда на дальнейшее обращение к проблемам в «реальном» мире, то есть к таким проблемам, как прогнозирование погоды, в котором тоже огромное число переменных.
Поначалу думалось, что возможности гигантских цифровых компьютеров по уплотнению данных смогут помочь решить такие проблемы, как прогноз погоды. В действительности же компьютеры начали показывать и во сне не снившуюся непредсказуемость материального мира, такое поведение, которое, как оказалось, парадоксальным образом распадалось на структуры по сложности. Эти и им подобные открытия начали складываться в новую науку, называемую Хаосом. «Оказывается, что за фасадом порядка может скрываться невообразимый хаос — и, кроме того, глубоко внутри хаоса скрывается даже более высокий порядок».
«Современное изучение хаоса началось в 1960-е годы с постепенного осознания того, что абсолютно простые математические уравнения могли бы моделировать системы, столь же интенсивные, как водопад. Незначительные различия на входе могли бы быстро становиться всеобъемлющими различиями на выходе — явление, названное «чувствительной зависимостью от начальных условий». В погоде, например, оно выливается в то, что лишь полушутливо называется Эффектом Бабочки, представлением о том, что колебания воздуха, вызываемые бабочкой сегодня в Пекине, через месяц могут трансформироваться в штормовые ливни в Нью-Йорке».
Или бабочка, однажды появившаяся из кокона в Кито, через несколько лет могла бы буквально разрушить Куско.
Современная теория хаоса зависит от математического моделирования в выявлении тех теоретических идей, которые «И цзин» отображает интуитивно: что в более высоком порядке различимой структуры участвует буквально Несметное множество взаимодействующих явлений. Этот порядок существует обособленно от предсказуемости или предопределенности, скорее как танец, чем уравнение, но в еще большей мере как признак интеллекта, чем написание произвольного идиотизма.
Одно из наиболее убедительных открытий теории хаоса заключается в том, что традиционное научное представление о- том, что «разные системы ведут себя по-разному», похоже, более не содержит истину. Теория хаоса создает такой мир, в котором для решения непреодолимых трудностей, с которыми сталкиваются экологи при моделировании неустойчивости популяций насекомых, предлагается прочесть статью «о химическом хаосе в сложном лабораторном эксперименте». Иными словами, очевидная произвольность поведения природы, проявляется ли она в биологических или химических системах — то есть в системах, действующих на совершенно разных уровнях, — выступает составной частью моделей универсального характера. Это — древняя идея.
«Первые теоретики хаоса, то есть ученые, которые положили начало данной дисциплине, обладали некоторой общей восприимчивостью. Они умели разбираться в моделях, особенно в таких моделях, которые выступали на разных уровнях в одно и то же время». [Курсив мой.]
Жрецы-астрономы Анд также искали модели между разными уровнями. Подобно современным теоретикам хаоса, андские жрецы-астрономы наблюдали за «системным поведением» небес ради постижения смысла модели, то есть выявляли значение «дыр» во времени, когда, говоря языком теории хаоса, целые системы переходят из одного состояния равновесия в другое посредством хаоса.
Возможно, было бы большой ошибкой как преувеличивать, так и недооценивать это сравнение.
С одной стороны, человеческое восприятие непреодолимой непредсказуемости в мире столь же мало утолялось научным методом, как и астрологическим предсказанием. Никто не может говорить о будущем. С другой стороны, как древние представления о шкале, так и современные понятия хаоса интуитивно обнаруживают функционирование такой формы интеллекта, которая посредством своих парадоксальным образом непредсказуемых «системно-мыслительных» способностей предполагает возможность правомерного вмешательства науки. В прошлом такое стремление существовало под многими названиями, в том числе Дхармой и Дао.
Перед тем как обратиться к краткому рассмотрению того, что это может означать для нашей нынешней эпохи, настало время доказать последнее положение относительно древних представлений о шкале, выражавшихся в астрономической космологии. В Андах, где «лестница» к сверхъестественным мирам восходила по шкале из пяти нот, один элемент, как и в западной гамме из семи нот, весьма примечателен. Это — выдающаяся роль, отводимая в обеих системах Млечному Пути во взаимодействиях между этим миром и следующим.
Плоскость эклиптики, приблизительно соответствующая экватору солнца, пересекает плоскость нашей галактики в двух местах: в области, отмеченной Скорпионом и Стрельцом, и в области, отмечаемой Близнецами и Тельцом. Обе эти области соответственно отмечают также направление центра нашей галактики и ее ближайший (к нам) внешний край. Быть может, является просто совпадением то, что в андской космологии (как и древней космологии во всем мире) усопшие «возвращаются» через мост в Скорпионе, центр галактики, в то время как бессмертные, подобно буддистам, выходящим из «круга кармы», «покидают» этот «круговорот» смертей через самый короткий маршрут — вне Близнецов — к самому высокому небу, находящемуся за пределами нашей галактики. Это «убеждение» можно было бы объяснить как результат ассоциации Близнецов с «престижным» северным направлением и предназначением этого места знати для «переправы через великую реку».
Что, однако не так-то просто объяснить, так это четкое предназначение нашей галактике, Млечному Пути, в космологиях всего мира «соответствующей» (для западной научной точки зрения) позиции в космической шкале. Ля, являющаяся Via Lactea, или Млечным Путем, — это последняя остановка перед си, все видимое пространство вселенной. Во время «переправы через большую реку» позади остается наша солнечная система и сама наша галактика и достигается «другая сторона» си, область всех звезд, или родовых уак, — предпоследнее по высоте небо, а последнее, самое высокое небо — это до, местонахождение высшего божества без какой-либо формы и субстанции. Причина того, что постоянное присутствие этого древнего понятия — помещение Млечного Пути в его точную, с научной точки зрения, позицию в космической шкале между солнцем (индивидуальными звездами) и всеми звездами в совокупности — не так-то просто объяснить, — заключается в том, что, как и по отношению к западной научной традиции, составной элемент космической шкалы, известной как «галактика» (от греческого слова, обозначающего «молоко»), был обнаружен и введен в научный словарь только в 1924 году[132]. У более поздних греков, кому мы считаем себя обязанными «основанием» западного научного метода, соображение по поводу вопроса
о природе полосы галактики было выдвинуто в утверждении Аристотеля, согласно которому Млечный Путь представлял собой концентрацию болотного газа.
VI
8 сентября 1940 года, когда битва за небо над Англией вступала в свою решающую стадию, маленькая собачка по кличке Робот исчезла в дыре на земле на станции слежения у французской деревни Монтиньяк-сюр-Везер. Хозяин собачки, молодой ученик механика, с тремя своими друзьями спас собаку и в расширении щели открыл вертикальную шахту в коренной породе. Они проползли двадцать футов по полу пещеры и простым фонариком посветили на окрашенные стенки и потолки, которые пребывали во тьме в течение приблизительно семнадцати тысяч лет. Этот луч света в нашем столетии возродил для будущего Пещеру Ласко и дал надежду на то, что главный вопрос нашего беспокойного времени — «В чем состоит наша человеческая природа?» — мы сможем получить какие-то ответы.
Является ли это «открытие пути» к нашему общему наследию предков, совершенное маленькой собачкой по кличке Робот — таким же образом, как и египетский бог Анубис с головой шакала или Лис в Андах — жизненным случаем, подражающим мифу, — этим вопросом вряд ли будет задаваться современная наука. Ибо по-прежнему предметом веры[133] в научный позитивизм остается положение о том, что сознание возникает из материи и является побочным продуктом неисчислимых связующих искр, преобразованным Богородицей Естественным Отбором в стратегию выживания. Именно при таком мифе и в этом мире слово миф стало синонимом искаженного представления, а мудрость понимается как сведение в кодекс материальных законов. Это мировоззрение опасно в период кризиса, потому что оно подсказывает обыкновенным людям, что наши собственные внутренние ресурсы, наше сознание суть не более, чем зал зеркал. Если такие теоретики, как Джеймс Лавлок, правы, доказывая существование больших полей интеллекта, частью которого является и человеческое сознание, тогда научный, детерминизм питает — хотя и неосознанно — не что иное, как дезинформацию и опасную сдачу позиции: что в конце концов, поскольку сознание является результатом случайных событий в материи, то само сознание не обладает существенным значением, и мы одиноки во вселенной. Это означает приглашение к Великой Спячке.
По этой причине вопрос о том, представляет ли наше общее мифологическое наследие человеческое восприятие или человеческое проектирование, имеет не просто антикварный интерес. Потому что этот вопрос непосредственно вторгается в существо проблемы: Кто мы и для чего мы здесь? Но именно этот вопрос наука не только не ставит, но также всячески доказывает, что в нем отсутствует внутренний смысл. Нет никаких мостов, никаких взаимных обязательств, нет ничего по ту сторону. Вселенная — это клоака тепла.
В этом электрическом поле между мифом и наукой современное человечество борется, чтобы выковать свою душу. Наука пытается подчинить силы мрака свету разума. Каким бы героическим ни было это стремление, быть может, самая главная опасность, подстерегающая науку на. каждом шагу, состоит в ошибочном принятии границ знания за границы ответственности. В то время как жизнь в этом столетии разбирается в своей структуре, силы тьмы в действительности совсем близко. Мифология же, с другой стороны, используя язык природы, пытается установить диалог осознанием, чтобы задать Великие Вопросы о сущности и о величине человеческой ответственности. Риск мифологии заключается в том, что, подобно Гилгамешу, мы можем бороться с прошлым сколько угодно, но только возвращаться будем с пустыми руками.
Однако мифология сохраняется, потому что она не просто повествует о сотворении мира, но и сама являет собой творческий потенциал, ту энергию ртути, которая в тигле человеческого опыта была переплавлена в удивительный корабль, пущенный в обширное море времени. «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог». В Ведах материальный мир — это воплощение Брахмана, кристаллизация чистого сознания в форму. С не меньшим благоговением, но с большей смелостью индейцы кечуа стали бы утверждать, что именно великий бог Виракоча создал солнце, луну, звезды, людей, растения и животных, а также законы человеческого взаимодействия и почитания, под чем они просто подразумевали, что понимание таких вопросов исходило свыше, а не снизу.
Поскольку современная научная культура определяет наше представление о природе сознания, то она определяет также и наше представление о прошлом. Хорошо ли, плохо ли, но наука стала синонимом пределов познания. Ее великая сила состоит в принципе верификации, экспериментальном моделировании. Ее великая слабость заключена в ограниченности средств измерения. Что не может быть измерено, не может пока еще и быть познано. Следовательно, за пределами досягаемости в Век Науки находятся способы познания, которые невозможно выразить количественно, — «ноумены», «Тайны Золотого Цветка», «мудрость души», а следовательно, также и история их поисков, чем и являются мифы. Этим занимаются сегодня вытесненные на обочину основного культурного потока сравнительная религия и парапсихология.
Точно так же тяжелые времена переживает и историческая наука. В настоящее время динамика человеческой природы во все возрастающей мере понимается как проблема, которой должны заниматься биологи, как продукт генов и изменения химии крови. В мире, где природа человека определяется биологически, для истории нет места. Если прошлое представляет собой не более, чем последовательные взрывы генетических импульсов, тогда архивные материалы имеют ценность лишь для социальных инженеров. Тогда героизм — это всего лишь тестостерон, и так далее. Так думать не следует хотя бы уже потому, что это ведет к мысли, что и настоящее окажется «повестью, рассказанной идиотом…»
Мы наделили историю такими функциями, которые сводят ее к хронике «поведений» и воплощаются в сентенции, типа: «Люди в прошлом ни в чем от нас не отличались, за исключением того, что мы теперь знаем больше, чем они знали тогда; и поэтому мы должны быть немного знакомы с историей, чтобы не повторять ошибок прошлого». Это звучит подобно наставлениям, которые произносят родители перед тем, как зачерпнуть ложкой порцию касторки.
Если мы хотим, чтобы у истории было будущее, ей надо помочь реанимировать современное познание человеческой природы. За исключением психологии, этой проблемой не занимается ни одна из светских дисциплин. История — это пересказ. Генетический детерминизм или любая другая интерпретация, наложенная на человеческую природу современным позитивизмом, способствует загниванию истории. Здесь не будет второго акта, то есть такой сцены, в которой герой. сталкивается с противоречием и в итоге вступает на поприще великих дел. Ведь помимо того, история, как убедительно показывает исследование Маршака, посвященное передвижничеству в ледниковый период, есть как раз то, что додумывалось создавать человечество с момента своего возникновения около сорока тысяч лет тому назад. На протяжении всего ледникового периода человеческая деятельность — пещерная живопись, счетные палочки, торжественные похороны и все остальное — были сосредоточены на области «составления преданий о смысле».
Предания всегда повествуют о существенных выборах, совершаемых перед лицом неопределенности, — о выборах хороших, о выборах плохих, о выборах отвергнутых. То, что делает выбор и возможным, и существенным, — это присутствие опасности[134]. Именно к этому аспекту жизни и обращается предание, подтверждая тем самым существование свободы воли и реальность выбора решения. В этом смысле мифология выражает представление о нашей человеческой природе и о характере мира, которое никак не соответствует подходу детерминистской науки. Когда пако сообщает весть крестьянину, то крестьянин волен запустить в него еще одним початком священной кукурузы. Вместо этого крестьянин решает прислушаться и тогда, отреагировав на реальную угрозу жизни, спасается от потопа.
Предания, исследованные в настоящей книге, выявляют моменты максимальной опасности, — моменты, в которых результаты оказывались значительными, но в которых и неопределенность результата была высока. Их своеобразные виды на будущее состоят в том, чтобы представить «одновременные образцы» событий, происходящих на различных уровнях. Они суть повествования о выборах, стоящих перед людьми, о выборах, совершаемых с сознанием образцов, встречающихся одновременно в разных сферах. Они суть повествования именно потому, что показывают, как осуществляется выбор перед лицом опасности. В этом смысле можно утверждать, что технический язык мифологии представляет собой язык, разработанный для того, чтобы изучать опасности в развитии человеческой истории. Сказанное — это всего лишь многословный способ выражения того, о чем мифология говорит кратко: каждый из миров разрушается и создается новый. Говоря языком современной науки, астрономический уровень мифологии связан с тем, как целые системы на всех уровнях переходят из одного состояния равновесия в другое посредством хаоса.
Представление о Сотворении с вплетенной в его ткань опасностью — это весьма древнее представление, значения которого были поняты, но утрачены, и, возможно, будут осознаны заново. Говоря словами «Ригведы» (приблизительно 2000 год до н. э.):
Кто поистине знает и кто может поведать, Откуда возникло и куда направляется это творение? Боги явились после этого сотворения мира, кто же Тогда знает, когда он впервые возник? Он, Первоисточник этого мироздания, создавал ли Он Все это или не создавал, Он, кто глядит на все С самого высокого Неба, Он единственный знает, Но даже и Он может не знать.
Хотя предания всех народов мира показывают тесную связь человечества с опасностью, идея о Боге с засученными рукавами, о Боге, который неустанно трудится во имя спасения вселенной, одолеваемой неопределенностью, — это идея, которая, выражаясь языком истории, не обладала большой выносливостью. Понимание космической природы опасности — это знание, которое
«исчезает время от времени, потому что в человеке есть нечто, что ужасно влекло его к опасности и в то же время внушало страх перед нею. Нас довели до того, что мы ищем способы отрицать реальность опасности и за пределами судьбы стремимся к чем-то такому, что от судьбы свободно. Человек всегда был склонен проецировать на свое понимание Бога представление о пребывании вне опасности, о высшей силе, которой не может угрожать рок и неопределенность, которые мы видим в этом мире».
Инки весьма близко подошли к осознанию последствий космической неопределенности. Богом, на которого они проецировали свое восприятие опасности, являлось Солнце. Различные хронисты отмечали, что инки рассматривали Солнце как Бога за работой. Рассказывали, что легендарный Инка Рокка смеялся над представлением, будто Инка, подобно Солнцу, отдыхает в блеске роскоши. Он, как говорили, отвечал, что Солнце никогда не отдыхало от своих трудов. Подобные чувства выражал и Инка Пачакути. Но в конечном счете инки сделали ставку на погоню за химерой управления, «лоббируя» перед творцом в пользу освобождения от законов его собственного творения.
Влечение/отрицание, пережитое человечеством в предвидении опасности, заключено в самих корнях западной традиции. В греческой мифологии Прометей был наказан за кражу «огня» у богов. Эта странная формулировка — в которой обретение человечеством первородного творческого начала, известного также как «огонь», вызвало гнев у богов — является отражением глубоко противоречивого отношения западного человека к способностям собственного восприятия. Для него именно в Прометее — пра марта, или пожаре/осях небесной сферы — представлено приобщение человека к творческому пониманию через созерцание небес. Знамение в небесах предвещало опасность. Вопрос для человека всегда состоял в том, как правильно жить по отношению к этому знанию.
Аналогичным образом в основе мифологии юдо-христианского мышления история об Адаме и Еве Кануне покоится на том же страшном испытании человеческой природы. Как и в мифологии американских аборигенов в эпоху, предшествующую земледелию, Адам и Ева обитают в саду, питаясь плодами деревьев. Им запрещается только одна вещь — вкусить плод древа знания о добре и зле, что они, конечно же, вскоре и делают. Результат? Они выдворяются из Рая, состояния блаженной невинности, и отправляются жить тяжким земледельческим трудом.
Хотя еврейские первоисточники о Происхождении четко не определяют этот плод любопытства, в западной традиции-он всегда считался яблоком. Почему именно яблоком? Это один из тех вопросов, которые я много лет назад отложил в ящик для «вопросов, не имеющих ответов», до тех пор, пока я, в точности как это сделал мой отец и, быть может, делали все отцы со времен Адама, не показал моему сыну «звезду» в яблоке. Если вместо того, чтобы разрезать яблоко по его полюсам, то есть от хвостика до нижней части, вы разрежете его по «экватору», то обнаружите пятиконечную звезду. Помните?
Вот он, тот же «первородный грех», как и у Прометея. Яблоко является универсальным[135] западным символом для всех звезд в небе. Пять концов звезды отображают в символической форме то, что в традиции западной алхимии именовалось «квинтэссенцией», способность проникать взглядом в истинный смысл вещей. (Смотри главу 2, примечание 21.)
В этих удивительных историях о Прометее и об Адаме и Еве их «первородный грех» является бессмысленным, если не понимать его в качестве потенциального греха. Эти истории суть выражение почти невыносимой ностальгии по безвозвратно канувшем в Лету золотом веке, когда мы были едины с природой. Эта возможность была навсегда утрачена, когда началось Время, когда человечество поняло космические масштабы опасности, выраженные прецессией, а вместе с этим вкусило плод от древа знания о добре и зле. Такой плод должен был иметь двойственный характер; он полностью зависел от того, что каждый стремился с ним сделать. Неудивительно, что боги разгневались. Со времен Рая и Прометея первородный грех, который человечество отныне должно было совершать снова и снова, означал стремление занять активную позицию по отношению к Балетмейстеру, стремление «устанавливать» закон судьбы. «Первородный грех» возник не потому, что посредством непослушания мы обретаем свойственный нам творческий характер, но потому, что мы — и в этом состоит непреходящий урок последних шести тысяч лет человеческой истории — испытываем непреодолимую тягу к дурному использованию наших способностей, — способностей, которые расцвели в Раю, когда было положено начало времени. По крайней мере об этом говорит нам послание мифологий[136].
Если и есть урок предостережения в трагедии инков, то он заключается в признании иллюзии управления. Если вы хотите рассмешить Бога, сообщите Ему о ваших планах. То, что подразумевают миф или научное признание универсальной непредсказуемости, состоит в том, что для оказания реального воздействия на мир вовсе не следует пускаться в крупномасштабные предприятия. Опасность поджидает нас не с этой стороны; она действует через ощутимую зависимость от первоначальной сущности. Ничто не предопределено заранее, так что все имеет важное значение. Как в добром сказании, судьба подтверждает существование и значение свободы воли.
Иллюзия управления, смешение уровней и возможность катастрофического ущерба — все это хорошо знакомые приметы нашего собственного времени. Одной из областей, в которых эти признаки изобилуют, является западная медицина. Язык современного медицинского обслуживания — «борьба» с болезнью, «объявление войны» СПИДу, «уничтожение» бактерий, поиск «волшебного снадобья» — говорит не о благополучии, а о битве за обуздание болезни. В то же время медицинские страховые компании не будут оплачивать такие дополнительные способы лечения, как гомеопатия, которые стремятся, скорее, укреплять иммунную систему, чем «бороться» с болезнью. Гомеопатию нельзя «проконтролировать» с научной точки зрения, потому что никто, кроме нее самой, не знает, как она функционирует. Не случайно, что такие медицинские методы требуют активного участия «пациента».
Теперь хорошо известно, что многие новые опасные напряжения организмов, которые считались давно уже «уничтоженными», фактически были созданы (вызваны в видоизмененном виде) беспорядочным употреблением наркотиков, разработанных как раз для их «уничтожения». В этом смысле западная медицина укрепила иммунные системы скорее у патогенов, чем у людей. В последние годы, несмотря на недостаточное финансирование программ медицинского страхования, многие люди предпочли искать выход из этого тупика, обратившись к альтернативному медицинскому обслуживанию. Возрастающая опасность со стороны патогенов в ухудшающейся окружающей среде не столько способствует «борьбе» с болезнями, сколько делает их заложниками «практически здоровых». Не исключено, что видимость разобщенности действий, предпринимаемых отдельными людьми и в малом масштабе, в конечном счете окажется обманчивой, и эти действия станут наиболее значительным развитием медицины конца двадцатого столетия. Возможно, действительно правда, что если съедать по яблоку в день — разрезанное по экватору, — то не будет надобности ходить по врачам.
VII
В наше время, величайшим мужеством является способность действовать так, как будто если бы наша жизнь стала иной. Мифология стремится поведать нам о самой удивительной способности человечества открывать дверь в мудрость космоса: если мы постучимся в нее, она сама откроется. Она делает это, в конечном счете оставляя нас наедине с универ-, сальным мифом древних, с мудростью наших предков, посвященных в таинства древнего сокровища. Каким бы знанием ни обладали древние люди, ныне утраченным и ныне же обретаемым заново в последовательной смене миров восхождения человечества к свету, вполне возможно, что конкретный характер этого знания является менее важным, чем существование самой мифологии. Мифология обращается к скрытым в каждом из нас архетипам некой неразрывной линии передачи, энергию которой сообщает любовь к малышу. Это мифология побуждает нас быть достойными настоящего. Это история манит нас назад, к самим себе, назад к нашему настоящему, назад к постижению того, что время мифологии — это теперь.
Мы — древняя раса. Мы, вопреки темным демонам нашей собственной природы, умудрились не только выжить, но и обмануть само время, сохранив по крайней мере часть эпической истории. Не всегда легко помнить эти предания и часто еще труднее поверить в них. Однако они сохранились, возможно, потому, что мы, люди, не можем продолжать жить без наших преданий. И потому кажется, что остается только подружиться с устной историей, с преданием о книге и о святом, с преданием о древних в наше собственное время и о передачи идей, которые, быть может, восходят к последнему ледниковому периоду.
Книга о которой идет речь, называется «Арктической Родиной в Ведах» (1903) и была написана во времена британского владычества в тюремной камере Б. Дж. Тилаком, позже ставшим соратником Махатмы Ганди. В этой книге Тилак, в совершенстве владевший санскритом, проанализировал описания движений небес в самых ранних ведийских текстах и пришел к заключению, что такие наблюдения могли проводиться изнутри Северного Полярного Круга. Хотя всякий, кто пролистает эту редкую книгу, мог бы найти определенную обоснованность в ее аргументах и хотя наисовременнейшее геофизическое и археологическое знание не может, по крайней мере, исключить гипотезу Тилака, книга остается фактически неизвестной, еще одной-непознанной «диковиной».
Святой, известный под именем Шивапури Баба, родился с сестрой-двойняшкой в 1826 году в Керале, в индийском роду браминов. Его дедушка после осмотра младенцев объявил, что назначение родового семейства теперь было выполнено и, следовательно, завершилось. Девочке, как и ее брату, было предписано принять обет бедности и удалиться от мирской суеты в санниасины. Мальчик в возрасте пяти лет начал учиться в школе и к двенадцатилетнему возрасту наизусть цитировал «Веды». В восемнадцать лет он удалился в джунгли, а спустя несколько лет, после смерти своего дедушки, он исчез в глубине джунглей Нарбады, чтобы последовать по пути Абсолютного Постижения Бога Вне Всяких Форм и Образов. Он не встречался с другими людьми на протяжении двадцати пяти лет. Когда эта часть его задачи была выполнена, в 1875 году он вышел из джунглей и, следуя наказу своего дедушки, вырыл бриллиантовое сокровище, отложенное его семейством для новых поколений с целью финансирования паломничества.
Обычно это означало паломничество по святым местам Индии, но в данном случае, как разъяснил его дедушка, Шивапури Баба должен был путешествовать пешком и на лодке по всему миру. Через Персию он попал на Восток, был допущен в Мекку, прошел через Иерусалим и Рим, а когда достиг Англии, был вызван королевой Викторией. Хотя записи о ее восемнадцати встречах с Шивапури Баба позже были вырезаны из ее дневников принцессой Беатрис, известно, что королева Виктория предложила (то есть приказала) Шивапури Баба оставаться в Англии до ее смерти. Поэтому он задержался в Англии на четыре года и продолжил свое паломничество в 1901 году. После путешествия по Америке, посещения островов Тихого океана, он наконец в 1915 году, спустя сорок лет, вернулся в Индию, пройдя через Китай и Юго-Восточную Азию.
Наконец после выполнения своего обета паломничества в Индии он удалился в Гималаи, чтобы прожить остаток своих дней в хижине из бамбука в маленьком заповеднике, предоставленном непальским правительством. Там дикий леопард регулярно выходил из леса, чтобы находиться у него в ногах.
Незадолго до своей смерти в 1963 году, во время обсуждения его воспоминаний о политических восстаниях в Индии в начальный период его долгого паломничества, его спросили, был ли он знаком с одним из участников тех событий — Б. Дж. Тилаком. Шивапури Баба ответил, что, да, он знал Тилака и когда-то «немного обучал его астрономии».
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УМЫШЛЕННОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ КУСКО
Один из углов голограммы содержит сравнительно малый ритуальный обряд, когда инки умышленно затопили Куско. Как описывается в испанских хрониках, это событие, оказывается, не имело никакого отношения к астрономии. В январе месяце, согласно Молине, жители Куско собрали продовольствие, специи, коку, одежду, обувь, украшения, цветы, золото и серебро и бросили все это в воду за дамбу, расположенную выше в горах над городом. На закате они открыли шлюзы и направили стремительный поток воды по улицам Куско. Когда наводнение очистило улицы, они смыли золу ото всех сожженных жертвоприношений предыдущего года, помещавшихся в каменном колодце. У подножия города, в месте слияния рек Тульюмайу и Уатанай, поток ожидали бегуны, которые и направили жертвоприношения в реку Вилькамайу. Когда наводнение приблизилось к ним, бегуны устроили гонку более чем на тридцать миль по берегам Вилькамайу до самого Ольятайтамбо, где река начинает круто поворачивать, устремляясь в Амазонку.
Здесь, у плетеного моста, натянутого через реку, ожидали другие гонцы, которые побросали в поток последние жертвоприношения коки. На протяжении всей ночи путь бегунам по речному берегу освещало несметное число факельщиков. Все жертвоприношения направлялись в «северное море», где, как говорили, находилось жилище творца, Виракочи. Следовательно, реке предстояло отнести жертвоприношения за пределы этого мира. Когда гонка до Ольятайтамбо завершилась, бегуны возвратились в Куско, неся предметы, отражавшие их порядковый номер на финише.
Самому быстрому подносили изображения — копий и соколов, сделанные из соли, в то время как отставшим вручали небольших жаб из солончака.
Согласно Молине, это событие началось на исходе января месяца, то есть когда взошел и перемещался к зениту тянущийся с юго-востока на северо-запад поток Млечного Пути. В течение этой ночи небесная река представляла такую же картину, как и вышеописанные события, когда берега Вилькамайу, текущей на северо-запад, ярко освещались.
Это было не единственное время в году, когда Вилькамайу, «Река Солнца», уносила все украшения в Млечный Путь. Как упоминалось выше, маршрут паломничества инкских жрецов в июньское солнцестояние пролегал по течению Вилькамайу на юго-восток, к самим истокам у подножия высокой горы Вильканоты, «Места Солнца». Весьма уместен комментарий этой процессии по Вилькамайу, сделанный Уртоном: «Я предполагаю, что маршрут, по которому жрецы из Куско направлялись на юго-восток, значил больше, чем просто наземное паломничество; он приравнивался следованию по Млечному Пути…»
Небесные аналоги соляных фигурок, которые бегуны во время январских обрядов приносят обратно в Куско, подтверждают такое понимание космической роли Вилькамайу. Самые медленные бегуны должны были нести жаб, чей небесный прототип, анп 'ату, представляет собой еще одно темное облако межзвездной пыли недалеко от Южного Креста (рисунок 3.5). Что касается сокола, то информанты Ави-лы в Уарочири упоминали «три звезды на одной прямой линии», включая сокола и кондора. Информанты Уртона помещали небесного кондора «над ламой», то есть где-то на западной стороне Млечного Пути. Как было рассмотрено на протяжении большей части главы 1 1, имеются достаточные основания полагать, что Сокол был одной из трех звезд в хвосте Скорпиона. (Смотри рисунок 11.1.) Эти три являют собой те же самые звезды, которые находятся в крестовине созвездия, называвшегося после конкисты cruz calvario.
Что касается «копья из соли», вручавшегося самым быстрым бегунам, то кечуанским словом, обозначающим «боевое копье», является льяка. Подобно слову пако, льяка — это прозвище самца ламы, небесный дубликат которого, Лира/37-кучильяй, со звездой первой величины Вегой, также находится вблизи западного «берега» Млечного Пути, глубоко в северном небе. Во времена инков гелиакический восход Беги (рисунок 3.15) приходился на середину января; когда и совершался упомянутый ритуал.
Как изображено на рисунке 3.15, Сокол и Жаба «тащились» за Вегой, образовывая тот же порядок «на финише», как и вереница бегунов по берегу Вилькамайу с наступлением рассвета. И опять-таки престижным направлением выступает север, о чем свидетельствует награждение самого быстрого символом Беги, расположенной в северных небесах.
Если весь ритуал на брегах Вилькамайу представлял собой «бег по Млечному Пути», то инки были не единственным местным народом, использовавшим эту идею-форму. В «Пополь-Вухе», цикле мифов гватемальских майя-киче, мы читаем, что Бабушка героев-близнецов Хунахпу и Шбаламке (Солнца и Луны), отчаявшись отослать им предупреждение, посылает Блоху, которую проглатывает Жаба, которую проглатывает Змея, которую съедает Ястреб, который и добирается до близнецов. Жирар пояснял, что:
«в демонстрации сравнительной быстроты рассматриваемых животных, — аллегории, безусловно, относящейся к астрономическому эпизоду, — животные символизируют небесные тела, значение которых имеет то же самое соотношение, как и соотношение быстроты: сначала — хищная птица, представляющая солнце; затем — белая змея, которая в мифологии чорти представляет Млечный Путь; а после нее — чак (жаба), или бог дождя, проецированный на звезду [?].
Интересно отметить, что впервые упоминается Млечный Путь, движения которого были совершенно хорошо известны Майя и который все еще играет важнейшую роль в астрономии чорти…»
Как и в «Пополь-Вухе», инкское представление о «состязании в беге по Млечному Пути» являло собой своеобразную форму «технического языка».
И если внешняя форма ритуала, соответствующего небесной геометрии, начиналась бегом вдоль реки, текущей на северо-запад под своим небесным аналогом наверху, а заканчивалась обращением как к победителю к Веге на северо-востоке, где начинал всходить другой поток небесной реки, — тогда ее внутреннее содержание отражало «духовную геометрию», скрытую в этих природных явлениях.
Утром в день этого искусственно устроенного «потопа» Инка и все жители собрались на Уакайпате, центральной площади Куско, и «вынесли все уаки и забальзамированные тела усопших, где отдали им обычные почести». Вечером того же дня было устроено наводнение. Эта прелюдия к наводнению происходила приблизительно через две недели после самого важного праздника в году, Капака Райми в декабрьское солнцестояние, когда считалось, что предки всех племен империи, представленные мумифицированными останками инкских царей и родовыми уаками всех племен, участвовали в празднике. Как показано в главе 3, это представление увязывалось с тем фактом, что Млечный Путь всходил гелиакически в декабрьское солнцестояние, открывая вход на землю усопших.
Двумя неделями позже инки организовали «состязание в беге по Млечному Пути». Этот ритуал начинался в Куско, а завершался на юго-востоке, при юго-восточном направлении пути ежегодного возвращения мертвых через Млечный Путь на восходе солнца в декабрьское солнцестояние. В поток, устремлявшийся на северо-запад от Куско, бросались неисчислимые жертвоприношения Виракоче, поскольку северо-запад представлял собой направление пересечения Млечного Пути, чтобы достичь земли богов. Рассуждая строго «геометрически», этот вход — на анак пачу, «мир наверху» — пребывал открытым, как показано в главе 3, на «другом конце» оси пересечения солнцестояния, идущей с юго-востока на северо-запад, то есть на закате солнца в июньское солнцестояние. В соответствии с этим рассуждением, заключительное действие ритуала происходило на мосту через Вилькамайу, который символизировал собою мост, протянутый через Млечный Путь и соединяющий кай пачу, «этот мир», с анак пачей, «миром наверху», царством богов, куда посылались все жертвоприношения. Обращение к небесному образу Млечного Пути посредством состязания в беге по его земному дубликату составляло парадигматическое деяние андской цивилизации и имело целью сохранение связи между царствами мертвых, живых и богов. И, как показано в главе 2, данный ритуал разделял обычай, встречаемый также в одновременном упоминании в мифологии обеих точек солнцестояния в звездах. Этот маленький «кусочек» голограммы резюмирует в микрокосмосе всю астрономическую космологию Анд в целом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПАРАДИГМА «ЗЕНИТ — ГОРИЗОНТ»
Утверждают, что использование полярных и экваториальных координат в Андах не существовало и что попытки доказать наличие такого знания вступают в категорическое противоречие с самой распространенной моделью того, как американские коренные народы, живущие в тропических широтах от Мексики до Боливии, осмысляли небесные движения. Данная парадигма, разработанная Энтони Авени (1981), утверждает, что, так как движения небесных тел выглядят более симметричными в средних широтах, то основной эталонной системой для наблюдения будет круг горизонта и вертикальная ось, очерчиваемые прохождением солнца через зенит, — явление, которое имеет место только в тропических широтах.
Теория Авени покоится на двух посылках. Во-первых, на том, что народы повсюду разрабатывают свои собственные астрономии. Во-вторых, на том, что те, кто живет между тропиками, будут смотреть на горизонт и зенит, в то время как в умеренных широтах будут без особой пользы вглядываться в небо в тех областях, где восходят и заходят небесные объекты. «По причине значительных различий в том, как видятся расположения и движения небесных тел в тропических и умеренных зонах, мы вправе ожидать, что в этих зонах должны получить развитие и различные системы астрономии».
Согласно Авени, различия в возможностях между пунктами наблюдения с земли приводят к разным способам наблюдения за небом:
«Вблизи тропиков все топографические отметки и названия, разработанные в индейских астрономических системах, независимо от того, являлся ли мотив их создания главным образом практическим или религиозным, тяготели к системе ориентиров, состоящих из зенита и надира, таких же полюсов и горизонта, как основной круг ориентиров. Такое расположение значительно отличается от систем с небесным экватором и полюсами (или эклиптикой), разработанных древними цивилизациями умеренной зоны».
Опять же согласно Авени, астрономы в северных широтах осуществляли «позвездное» наблюдение, то есть наблюдение ночного неба вне отношения к горизонту. Он цитирует записи на клинописных плитках, такие как «Венера в Близнецах» и солнце на три градуса восточнее беты Скорпиона, в качестве примеров того, что такие наблюдения «полностью обособлены от пункта нахождения наблюдателя. Они не просматриваются с местного пункта наблюдения, а, скорее, суммируются к универсальному пункту наблюдения».
Недавнее исследование, проведенное Фрайделем, Шеле и Паркером (1993) среди майя, вызвало такие разногласия в данном вопросе, которые обеспокоили также и других ученых:
«Доказательства, приводимые Шеле, подтверждают то, что некоторое время назад предположила Барбара Тедлок: что майя не ограничивались «астрономией на базе горизонта» — то есть вычислением небесных движений по отношению к горизонту, — а имели полностью «позвездную» астрономию, или «реляционную астрономию», как она известна в технике».
Несмотря на такие несообразности, теория Авени продолжает служить главной призмой, через которую большинство ученых рассматривает доколумбовую индейскую астрономию. Основное же затруднение в этой гипотезе состоит в том, что она вынуждена приспосабливать огромное число исключений, встречающихся как в тропических так и в умеренно-широтных астрономиях, — исключения, на которые сам Авени указал первым:
«В формулировании слишком жесткого обобщения относительно влияния географии на развитие астрономии имеется определенный риск… Конечно, мы можем встретить культуры и в более высоких широтах, которые используют привязку к горизонту в своей астрономической практике. Для этого нам достаточно посмотреть не далее, чем Стоунхендж… превосходный пример, противоречащий моему тезису. Некоторые примеры из исследования североамериканской археоастрономии также показывают, что было бы ошибочно заключать, будто все нетропические культуры избегали привязки к горизонту. [Здесь Авени цитирует работу Эдди по Передвижной Медицине Северной Америки]… И наоборот, случается, что эклиптика и экватор в качестве астрономических понятий используется народами тропиков. В самом деле, страницы 2 и 24 Парижского Кодекса, летописной книги древних майя, интерпретировались как Зодиак, состоящий из тринадцати созвездий… Но вместо поиска сходств между тропическими и умеренно широтными астрономиями, я предпочел подчеркнуть простые различия, которые могут оказаться довольно глубокими. Если какой-нибудь современный западный ученый разделяет какие-то точки соприкосновения с древними астрономами тропиков, то этим, возможно, тот и другие ищут упрощенную обрядность, продиктованную наблюдениями».
В 1981 году Авени организовал конференцию, названную «Этноастрономия и Археоастрономия в Тропиках», для дальнейшего исследования его тезиса. Статьи конференции не устранили проблем, содержащихся в подходе Авени. Оуэн Джинджерич, которого попросили написать итоговый документ конференции, сказал:
«Данная конференция по археоастрономии и этноастрономии тропиков была организована по принципу, что имеются по существу две разные археоастрономии. Одна, мегалитическая астрономия высоких широт, фиксирует каруселеподобные движения небес вокруг наблюдателя: выше, вокруг, ниже. В такой северной археоастрономии Британских островов и, возможно, Передвижной медицины Северной Америки, очевидные календарные даты увязываются с движениями по горизонту. Другой является археоастрономия тропиков, где движения — это вверх, над, вниз и под. Когда — солнце проходит прямо над головой, то этот момент обретает первостепенное календарное значение, и, хотя точки горизонта могут здесь также присутствовать, они имеют тенденцию фиксировать события в связи с прохождением солнцем зенита».
Вот и все, что дала конференция в отношении объяснения и рамок этой гипотезы. Была ли она показательной?
Смогла ли она привлечь конференцию на свою сторону? По моему мнению, следует ответить «Нет!» С точки зрения центрального тезиса, конференция превратилась в кавардак.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИФЫ ВОСТОЧНЫХ СКЛОНОВ АНД О ЯГУАРАХ
Из рассказываемых на восточных склонах Анд мифов о Близнецах, которым угрожали ягуары, выясняется, что знакомство с техническим языком мифологии не ограничивается горной местностью. В каждой из версий мифа беременная женщина пожирается ягуаром или ягуарами, в то время как Близнецы выходят из ее утробы и в конечном счете попадают в «маленькую хижину» Бабушки ягуаров и живут там в постоянной опасности. В конце концов Близнецы отомстят за свою мать, уничтожив почти всех ягуаров и убежав через реку или дорогу, либо же по цепи забираются на небо. Ради простоты позвольте мне сосредоточиться на версии амуэша.
В этой версии с молодой женщиной происходит непорочное зачатие от молнии. Поскольку она не замужем, подозрения падают на ее брата, но его реабилитируют, когда самый мудрый старейшина племени, состоявшего из ягуаров и ящериц, подтверждает отцовство молнии. Однажды девушку настигает у источника Бабушка Ягуаров и съедает ее. Близнецы, Солнце и Луна, выходят из ее утробы и скрываются на дне реки. Бабушка-Ягуар говорит себе, что она обязана поставить на ноги Близнецов, раз она убила их мать. Вскоре Бабушка-Ягуар устает от этой двойни и готовится их съесть, кипятя воду в большом горшке (olid). Близнецы заставляют ее уснуть, разрезают на части и бросают в olla. Когда другие ягуары — родственники Бабушки — приходят поесть, Близнецы прячутся на крыше маленькой хижины (choza), а когда ягуары что-то подозревают, Близнецы поджигают хижину и убегают через реку, перерезав позади себя «мост», отчего почти все ягуары падают и тонут.
Во всех трех мифах старым ягуаром выступает Бабушка, звавшаяся Патонилье в версии амуэша и Лари в повести гуарани. Далее, в версиях и амуэша, и хиваро старуха явно ассоциируется с большим горшком, или olla. В версии хиваро она прячет Близнецов в olla, чтобы спасти их, а по мере того как Близнецы подрастают, их помещают во все большие ollas. Как и в версии амуэша, Бабушку постигает участь быть сваренной в ее собственном olla. Возможность того, что все большие ollas подразумевают (прибывающую) луну, подтверждается и объясняется при обращении к «Пополь-Вуху», в анализе Жирара сцены, в которой Близнецы, Хунахпу (Солнце) и Шбаламке (Луна) отвлекают внимание своей бабушки, прося принести им воды для питья из реки. Бабушка (чей зоологический науаль был, как отмечалось, ягуаром) потеряла много времени, пытаясь закрыть отверстие «в лице ее фляги с водой». Жирар писал:
«Мы подчеркнули оборот речи Шмукане [то есть Бабушки], относящийся к «лицу ее фляги с водой», потому что в нем мы обнаруживаем происхождение иероглифа для обозначения луны, изображаемого в форме большого кувшина с узким горлышком (cantaro, который символизирует Шмукане, старую богиню воды и Лунное божество. «Лицо ее фляги с- водой», как и сам лик богини, то есть ее видимая в небе звездная форма, поскольку индейцы представляли себе луну как гигантский кувшин, который льет воду с неба. Использование этого шарообразного вместилища, которое восходит к MampuapxafibHofsic]-земледельческому периоду, является типичным для таких народов, как таохка, которые сохраняют культуру того времени и продолжают делать такие кувшины даже теперь».
То, что присутствие olla в этих преданиях, подразумевает, как в примере с киче, указание на луну, доказывается также посредством анализа топографических обозначений для ягуаров во всех трех версиях. В версии амуэша роковая встреча между молодой матерью и Бабуш кой-Ягуаром происходит у источника. В версии хиваро хижина Бабушки находится у подножия высокого утеса. В повести гуарани хижина была пещерой (gruta) у подножия того же высокого утеса. Мы видели в андской мифологии, как все подобные земные низкие точки — пещеры, источники и так далее — представляют точку соприкосновения с преисподней, небесный аналог которой находится в точке декабрьского солнцестояния в звездах. В случае с Андами это местоположение в звездах величалось чоккечинчай, которое является небесным ягуаром и ассоциировалось с идеальным положением луны в декабрьское солнцестояние.
В «Пополь-Вухе» мы также находим суждение, что идеальное положение луны находится в звездах декабрьского солнцестояния, в том эпизоде, где Хунахпу и Шбаламке занимают положение на площадке для игры в мяч: «Хунахпу и Шбаламке, в течение длительного времени играющие между собой на противоположных сторонах площадки, представляют положение солнца и луны в противоположные солнцестояния, как по сей день их продолжают изображать на своих алтарях чорти».
Что касается упоминаний о солнце в июньское солнцестояние в трех южцоамериканских преданиях, то они встречаются в избытке. В версии амуэша Близнецы после убийства Бабушки и помещения ее в горшок прячутся в соломенной крыше, поджидая других ягуаров. Как мы уже видели, в архитектурном изображении небесной сферы крыша хижина символизирует июньское солнцестояние. Далее, то, что Близнецы поджигают всю хижину, подразумевает вступление солнца июньского солнцестояния в Млечный Путь, — представление, подтвержденное тем фактом, что Близнецы спасаются бегством через «реку». Раньше, когда Бабушка-Ягуар задирает беременную мать Близнецов, то выпускается столько амниотической жидкости, что она образует быструю реку, которая уносит Близнецов в безопасное место, и они скрываются на дне (ей elfondo) реки.
Этот образ иным способом (нежели акцентирование огня) подразумевает вступление солнца и луны, представляющих противоположные солнцестояния, в Млечный Путь. Если принять, это изображение в номинальном значении, а именно, что солнце луна, представляющая другое солнцестояние) находятся «на дне реки», то это изображение предполагает гелиакический восход Млечного Пути, когда виден восход «реки», вместе с солнцем за горизонтом, в «нижней части» небесной реки. Эпоха гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, то есть с «рекой» в видимом контакте с горизонтом, началась около 200 года до н. э. (рисунок 6.2).
Образы июньского солнцестояния, используемые в преданиях хиваро и гуарани, являют собой образ растущей пропасти, сравнимой с утесом на Титикаке и Горой Июньского Солнцестояния в мифах о потопе. Именно сюда, как считалось, ягуары забирались во время охоты, и эта формулировка сопоставима с традицией андской мифологии упоминать обе точки солнцестояния в звездах одновременно в ассоциации с животными декабрьского солнцестояния, включая Пуму, Лису и так далее, находящих убежище на горе. В обеих историях Близнецы вымещают месть на ягуарах, ведя их из пещеры на «утес», и поперек «трапа». Саботаж Близнецов вызывает больше всего, но не все, случаи смерти ягуаров. По одной версии ягуары тонут в реке.
На голографический характер даже самого малого упоминания в мифологии указывает и еще одно соответствие между источниками Мезоамерики, племен южноамериканских лесов и Анд. Несмотря на то, что в природе ягуар поедает любых животных, согласно версии Гуарани, его излюбленной пищей определяется оленина (venado). С учетом того, что ягуар в поисках добычи скитается в горах, эта ситуация предполагает, что олень был связан с июньским солнцестоянием. Такое «предсказание», в смысле неизбежности, если всерьез принимать во внимание логику технического языка мифологии, полностью подтверждается «Пополь-Вухом».
В нем Хунахпу и Шбаламке в качестве зачинателей и покровителей земледелия прогоняют животных с полей, или мильпас. Жирар объяснил этот эпизод следующим образом: «Олень и кролик бежали, зажав хвосты между ногами (знак опасения), а преследователи схватили их за хвосты. Но хвосты оторвались, и в руках у Хунахпу и Шбаламке остались только их кончики. С тех пор у кроликов и оленя куцые хвосты».
Относительно замены кролика на ягуара в качестве лунного символа Жирар в другом месте обратил внимание на то, что «тесное взаимодействие между Лунной богиней (Шбаламке) и кроликом наиболее очевидно выражается в лунном иероглифе… [который] изображает большой кувшин с узким горлышком — символ луны, внутри которой находится кролик».
Аналогичным образом Линда Шеле изучала иероглифические обозначения оленя и кролика в Паленке и пришла к заключению, что иероглиф для «кролика» всегда связан с луной, а иероглиф «оленя» — с родовым или солнечным знаком. Кроме того, она цитирует этнографическое свидетельство о том, что мезоамериканские народы видели на луне — там, где мы видим «старого человека» — кролика: «форма кролика в темной области луны весьма очевидна даже для глаз западного человека».
Поскольку «кролик в луне» видим полностью только в полнолуние и поскольку, как мы видели, идеальное отношение Хунахпу и Шбаламке находится в противостоящих солнцестояниях, в этом плутовском «рассказе о хвостах» из «Пополь-Вуха» мы обнаруживаем ассоциацию оленя не просто с солнцем (именно Хунахпу/солнце оторвала оленю хвост), а с солнцем в июньское солнцестояние. И точно так же, как южноамериканские мифы о ягуаре подразумевают — посредством земного противостояния охотника и жертвы, ягуара и оленя — небесное противостояние звезд, восходящих в противоположные солнцестояния, Келли отмечал, что мезоамериканский небесный олень находится в 180 градусах от хвоста Скорпиона, называемого «лассо» или «силком» для поимки оленя. В Андах, как мы видели, хвост Скорпиона иногда отождествляется с ягуаром, а иногда — с «пращой звезд».
Такое толкование подтверждается, кроме того, работой Лэмба о словарных запасах юкатанских майя в колониальный период, в которой в поисках эквивалента звезды, слова эк, он обнаружил следующий комментарий: «пятна, как у тигров и оленя в малом возрасте» и «пятна на шкуре оленя». Лэмб добавил: «У майя символ звезд изображался в виде пятен ягуара, а символ ночного неба — в виде его шкуры». В этих сведениях мы сталкиваемся с тем, что можно было бы назвать психологической установкой технического языка мифологии, где яркие и весьма красивые мысленные образы используются для выражения сложных ассоциаций, — каковыми в данном случае выступают ассоциации солнце/день/олень/июньское солнцестояние и луна/ ночь/ягуар/декабрьское солнцестояние: пятна ягуара видны при свете луны, в то время как пятна оленя, если зрение у наблюдателя достаточно острое, проступают при солнечном свете в тени, что служит маскировкой для молодняка.
Хотя эта история из «Пополь-Вуха» объясняет, почему у Гуарани ягуары должны были «подниматься в горы» в поисках оленя, она также проливает свет на древний и плодотворный период в развитии цивилизации в Америке. Олень и кролик теряют свои хвосты, согласно мифу, как раз в период возникновения земледельческой цивилизации. И в майяском, и в андском представлении именно в этот период «пробудились» звезды. Там, где прежде области неба, восходящие в моменты солнцестояний, ассоциировались со звездами лишь смутно, подобно пятнам ягуара и оленя, теперь они обретали точное местоположение благодаря солнцу и луне в противоположные солнцестояния (намек на усовершенствование сельскохозяйственного календаря), а эти светила символизировались теперь отрубленными белыми хвостами оленя и кролика[137]. Похоже, далее, что с появлением Близнецов, Солнца и Луны в формулировке о солнце и луне в противоположные солнцестояния мы сталкиваемся с увековечиванием памяти об открытии наклонного направления эклиптики. Наконец, попутно отмечу, что олень и кролик выполняют те же самые функции, что и андские животные в обозначении границ между тремя мирами, поскольку олень в поисках пищи поднимается в «горы», в то время как кролик живет в земляной «дыре».
Что касается Анд, то достаточно обратить внимание на название созвездия Топатурка, упомянутое Акостой, Кобо и Поло и определенное редактором Поло Уртеагой как «сокращенное Тупак шарука», означающее «королевский олень»[138] или, возможно, «тростниковый олень», если толковать его как топа тарука. Это созвездие так никогда и не было идентифицировано. Я думаю, причина тому, как и в случае с неопределенностью идентификации созвездия Ягуара в Андах, объясняется тем же контекстом, что майяская неопределенность в отношении звезд, которые подобны пятнам оленя и ягуара. Мифологические формулировки, предполагающие противостояние охотника и его добычи, в век земледелия превратились в устаревшие культурные образцы и поэтому уступили место таким названиям созвездий, которые в большей мере соответствовали сельскохозяйственному обществу.
Культурное значение оленя в Андах помнили хорошо (глава 7), но его небесное тождество, которое, быть может, всегда соотносилось в полной мере не с какими-то определенными звездами, а скорее с представлением об июньском солнцестоянии, было забыто ввиду как практической, так и религиозной необходимости создания солнца, луны и звезд, которые будут сиять над сельскохозяйственными террасами Анд. Эта идея находит четкие параллели в иконографии Паленке, где иероглифическое обозначение и оленя, и кролика изображается в виде скелетов, образов уже не существующего века.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
КОСМОЛОГИЯ МОНУМЕНТОВ ТИАУАНАКО
Описания церемониального центра в Тиауанако лишь недавно вышли из печати. Тиауанакский церемониальный комплекс полностью окружен рвом, назначение которого, говоря словами Алана Колаты, «состояло в том, чтобы уподобить образ городского центра острову», дабы отделить обычный мир от «пространства и времени святынь»[139]. Элиад зафиксировал такое же использование символа в Старом Мире, как, например, в римском mundus («мир»), или в круговом рве, который «являл собой точку, в которой соприкасаются подземный и земной миры». Цель таких ограждений заключалась в том, чтобы образовать священное пространство, внутри которого можно было выстроить храм или модель космоса, «область, в которой пересекаются высший (божественный) земной и подземный миры». Как мы уже видели, Элиад подробно описал, что центральной символикой таких строений храма являлся символ космической горы, обозначающий пуп земли, соединение трех миров.
Основным сооружением тиауанакского священного центра была Акапана, усеченная пирамида высотой свыше пятидесяти футов, которую Колата назвал «священной горой Тиауанако».
Пирамида Акапана имела семь уровней. Число семь, как уже говорилось, связано с «небом-отцом», что, должно быть, говорит об использовании полярной и экваториальной координат, выраженных по отношению к странам света. Древняя аймарская система ориентации включала семь направлений: четыре страны света, а также зенит, центр и надир. Акапана сориентирована на страны света.
Такое же заключение подсказывает связь между смежным комплексом строений, называемых Полуподземным храмом, и Каласасаей. Они располагаются по восточно-западной оси, что символизирует точки восхода и заката солнца в равноденствия, когда солнце пересекает небесный экватор. Лестница, поднимающаяся из Полуподземного храма в западном направлении до нижнего уровня, ведет ко второй лестнице, поднимающейся к ограждению на втором уровне Каласасайи, где находится монолитная статуя бога (так называемая Стела Понсе), смотрящая на восток, спиной к Полуподземному храму.
Такое концептуальное моделирование линии равноденствия, выраженное в лестницах, сразу же вызывает ассоциацию с андским созвездием чаканой («лестницей»), тремя звездами Пояса Ориона, расположенными на небесном экваторе.
Эти относящиеся к осям структуры служат также наглядным свидетельством религиозной космологии, связанной с мифом о возникновении Титикаки. Как мы уже видели, в архитектурной символике небесной сферы пол дома, символизирующий южный тропик, должен быть, строго говоря, подземным уровнем, позволяя тем самым наземному уровню символизировать небесный экватор. Как уже отмечалось, хопи кива в наибольшей мере удовлетворяют этим требованиям. Как мы помним из мифа о Доме Ложного Бога, эта проблема разрешалась нахождением «дыры» под жерновом, дававшей «визуальный доступ» к жабе, глубоко «под» «землей». В ритуальной практике Анд то же самое делалось и продолжает делаться посредством захоронения плода ламы (вспомним, что детеныш небесной Ламы находится у пересечения Млечного Пути и эклиптики на южном тропике) под фундаментом дома.
Полуподземный храм, как подсказывает его название, был построен приблизительно на шесть футов в глубь земли, открытым для доступа воздуха. Следовательно, пол Полуподземного храма, опять же строго говоря, должен символизировать южный тропик и доступ на землю усопших. (Таким же образом опущенный пол площадки для игры в мяч у киче находился, согласно утверждениям, на крыше дома властителей преисподней.) Не противоречит такой интерпретации и тот факт, что родовые уаки земледельческих племен, находившихся в сфере влияния Тиауанако, сажались на пол в Полуподземном храме. В этом ансамбле вторая стела, называемая Стелой Бенета и содержащая комплекс сведений о сельскохозяйственном годе, фронтальной частью выходила на запад (небесное направление, связанное с луной, ночью, дождем и усопшими), а оборотной стороной — на Стелу Понсе, на поднятых ограждениях Каласасайи. Напротив, Стела Понсе в Каласаи возвышалась в направлении восточного горизонта.
Второй, менее опущенный, внутренний двор размещался на вершине седьмого уровня пирамиды Акапаны. Как в представлениях Старого Света, в которых вершина священной храмовой горы выступает «пупом земли», опущенный внутренний двор Акапаны, образно говоря, являлся пупом. Этот опущенный внутренний двор имел форму квадрата и располагался над греческим крестом (рисунок 8.5). Пересечение, символизирующее страны света (и поэтому упоминаемое как полярные и экваториальные координаты), представляет небесное царство, или Отца-Небо. Квадрат, как мы уже встречали это в форме четырехугольного марас, или «женского» жернова (название которого происходит от аймарского слова, означающего «год»), очерчивает своими углами точки стран света, представляющие места восхода и захода солнца в солнцестояния, то есть параметры «небесной земли» в том виде, в каком она определяется плоскостью эклиптики. Соединение углов по диагонали и X отмечают место, центр, пуп земной богини. Эта символика, как уже отмечалось, просматривается в штандарте, или унана-че, Виракочи на рисунке Пачакути Ямки, помещенная над пересечением направлений стран света снизу на женской стороне рисунка; и, как также упоминалось в главе 6, точно такая же символика встречается у киче, где Бог-Семь, иероглифически изображаемый как Большая Медведица и Орион, располагается в пупе земной богини.
Другая уникальная особенность опущенного внутреннего двора Акапаны была раскопана лишь недавно. Этот внутренний двор служил в качестве дренажа дождевой воды и был соединен с системой дренажей, которые поочередно лили воду из вертикально расположенных стен каждого уровня, беря заново подземные воды из-под горизонтально расположенной поверхности каждого яруса, а затем снова и снова неся их дальше, образуя каскады на всех уровнях пирамиды.
Таким образом строители Тиауанако создали «наполненную водой гору» на фоне озера и острова, называемых Титикакой, или «Львиным Утесом», где вода лилась с утеса и иероглифический аналог которого в Мексике — гора со штольней и пещерой у подножия — представлял селение, алътептль, буквально «наполненная водой гора». И подобно всякой истинно космической горе, на Акапане рециклиро-вались воды духовной жизни, чьи истоки возникли на вершине космической горы в июньское солнцестояние у края Млечного Пути.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПОНЯТИЯ УАКИ
Во всем мире представления о седой старине увязывают животных с небесными прототипами в звездах. Маршак исследовал изображения животных в передвижном (то есть «переносном») искусстве периода Верхнего Палеолита в их отношении к сезонным явлениям. Он показал, как животные изображались то рождавшими детенышей, то спаривающимися в более широком контексте одновременно происходивших сезонных явлений, таких как нерестовая путина лосося, преследуемая до верховий рек морскими котиками, когда расцветают растения, и так далее. Одно особенное изображение, каменная фигурка козла, и его постоянное упоминание по отношению к ранней весне, рядом со временем весеннего равноденствия, привело Маршака к подозрению о сезонном ритуале жертвоприношения козла в период рождения козлят, близкий к весеннему равноденствию. Особый интерес представлял гравированный охотничий рожок из Куэто де ла Мина, датированный периодом Верхнего Мадлена (приблизительно 14 000 — 12 000 лет назад) и не только изображающий каменного козла в связи с приходом весны, но и содержащий отметки дней, выстроенных по лунным фазам в течение примерно девятимесячного периода. Маршак отмечал:
«Методика записи дневных (месячных или годовых) периодов символами горизонтально по лезвию накладывается на дни… Указание на периоды важных обрядов, мифы, наблюдение или смену сезонов исторически появляется в греко-римских календарях, скандинавской календарной руне, английском альманахе, календаре сибирских якутов и на посохах для фиксирования у некоторых американских индейцев… В этом охотничьем рожке из Куэто дела Мина мы, похоже, находим пример, указывающий на объединенные истоки арифметики, астрономии, письменности, отвлеченной символики и изображения условными знаками. Есть также подозрение, что эти навыки культуры были связаны с экономической и ритуально-религиозной жизнью групп охотников».
В свою очередь, Дехенд отыскала в этнографических данных такой период, когда народы верхнепалеолитической культуры оставляли запись своих представлений о сезонных привычках у животных, на которые они охотились. В этом периоде она обнаружила наличие знаний о звездах: как и почему, например, африканские бушмены — точно так же, как в перуанских Андах, — находили в звездах покровителей всевозможных видов:
«В мифологии считалось, что звезды некогда были животными или людьми Ранней Расы… Многие из звезд и созвездий, как отмечал доктор Блик, носят такие имена, которые со всей очевидностью обязаны только тому факту, что они созерцались в те времена, когда наступал сезон или изобилие животных или других объектов, чьи названия они носят». [Курсив мой.].
Практика наименования звезд названиями животных, сезонная деятельность которых совпадала с появлением определенной звезды, возникла не только из практических соображений, но также и потому, что сознание охотника отыскивало способ передачи сведений в отношении охоты. Бушмены всегда заботились о том, чтобы не повреждать игральные кости, потому что душа животного после возвращения на предназначенную для нее звезду восстанавливалась и возвращалась к жизни через кости. Если же кости окажутся поврежденными, то, согласно представлению бушменов, «свет звездного неба исчезнет».
Собранные Дехенд богатейшие материалы описывают традиции (1) тщательного сохранения костей животных, составлявших объект охоты; (2) уважительного отношения к убийству животных; и (3) осуществления ритуалов, дабы гарантировать возвращение души животного и возможность снова охотиться на него. «Умилостивленные подобающим образом животные возвращаются «домой» и рассказывают на небе, насколько хорошо с ними обращались».
Если окунуться в культурный кругозор мезолитических народов, таких как наскапи Лабрадора, то начинают возникать представления, увязывающие происхождение людей и звездного царства. Согласно наскапи Лабрадора, души живых нарождаются в небе, где они пребывают на небесном своде до тех пор, пока не окажутся перевоплощенными». Аналогичным образом в Сибири «гольды, долгаци и тунгусы говорят, что до рождения души окуня детей рассаживаются, как мелкие птички, на ветвях Космического Древа [уранового царства], а шаманы отправляются туда на их поиски». В Южной Америке у пуэльче Патагонии считалось, что было некогда время, когда «звезды были людьми», тогда как эти же люди «сегодня являются животными».
Эти данные показывают, что звезды получили первоначальные имена от охотников, которые связывали сезонную деятельность животных с сезонными «действиями» звезд. Эта простая гипотеза, основанная на надежном этнографическом и археологическом материале, не только доносит до нас живые экспонаты Ледникового периода, но и сообщает нам, почему по всему миру большинство созвездий называются по именам животных и почему так мало созвездий выглядит в чем-то похожими на тех животных, которых они, как считается, представляют. Замечая, что некоторые группы звезд всходили в важные периоды, потому что отмечали сезонную деятельность основных животных, составлявших объект охоты, охотники называли эти звезды именем рассматриваемого животного. Таким образом, астрономия, наименование звезд, стала важной схемой наблюдения и механизмом обучения и запоминания, когда следует или не следует охотиться на ту или иную дичь. Через какое-то время эти поименованные созвездия стали рассматриваться как «властители дичи» или покровители духовного мира определенных видов животных, имена которых они носили, что обеспечило человечеству «повествовательный фон» для конструирования философских понятий о природе смерти и рождения. Наконец, эта логика объясняет, почему звезды плоскости эклиптики, то есть те звезды, к которым, естественно, приковывалось наибольшее внимание с приближением рассвета, назывались в древней западной традиции «зодиаком», или «циферблатом животных».
ИЛЛЮСТРАЦИИ

РИСУНОК 1.1А.
Гелиакический восход Рыб в весеннее равноденствие в эру рождения Христоса.
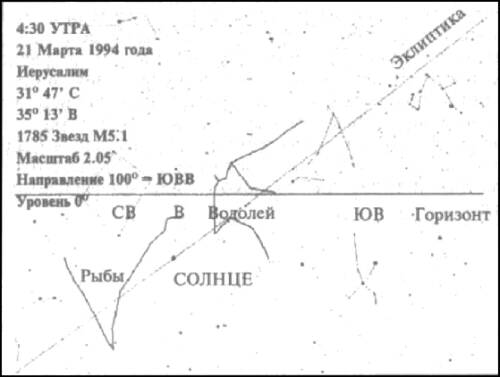
РИСУНОК 1.1В.
Почти на два тысячелетия позже, в тот же день, созвездие Рыб было «заменено» вследствие прецессии «понижением» Водолея.

РИСУНОК 2.1.
Небесная Лама со своим детенышем.

РИСУНОК 2.2.
Кечуанское созвездие cruz calvario, состоящее из звезд в хвосте Западного Скорпиона: лямбды, упсилон, зет 1 и 2, мю 1 и 2 и эпсилон Скорпиона. Эпсилон Скорпион — самая близкая яркая звезда на переход эклиптики и Млечного Пути.

РИСУНОК 2.3.
Cruz calvario, видимый относительно небесной Ламы.

РИСУНОК 2.4.
Космологическая диаграмма Хуана де Сантакруса Пачакути Ямки Салькамайгуа.

РИСУНОК 2.5.
Набросок Гуамана Помы типичного жилища Третьего Века.

РИСУНОК 2.6А.
Гелиакический восход Плеяд 20 мая 650 года н. э. за месяц до «потопа».

РИСУНОК 2.6В.
Одновременный закат небесной Ламы 20 мая 650 года н. э.

РИСУНОК 2.7.
Небесная Лиса. «Лиса всегда следует за Ламой».
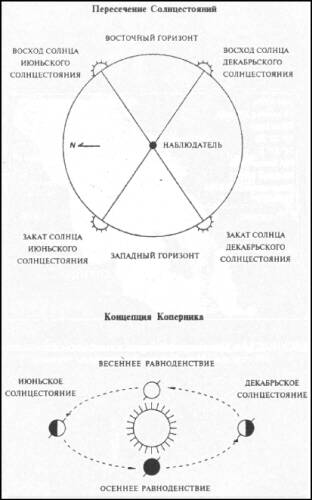
РИСУНОК 2.8.
Идеальное отношение пересечения направлений стран света к восходу и точкам солнцестояний.

РИСУНОК 2.9А.
Гелиакический восход в декабрьское солнцестояние 650 года н. э., Или «Почему Хвост у Лисы Черный».

РИСУНОК 2.9В.
Вид на северо-запад в тот самый момент, когда «падает» Лиса (Рисунок 2.9 А).

РИСУНОК 2.10A.
«Потоп»: прекращение гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние 650 года н. э. Солнце больше не находится в Млечном Пути в той точке, где он пересекается с горизонтом.
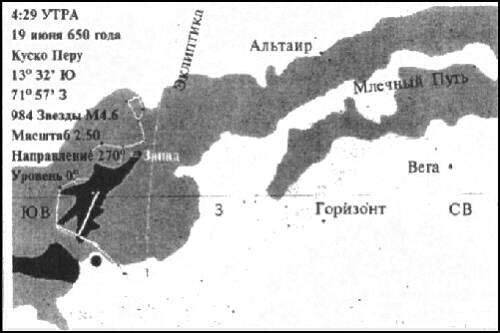
РИСУНОК 2.10В.
«Самец ламы» (Вега) наблюдает потоп, Вега заходит на западе в момент гелиакического восхода (рисунок 2.10A), июньское солнцестояние 650 года.

РИСУНОК З.1А. Северо-восточный/юго-западный поток (выполнять переход) Млечного Пути, проходящий сверху, июньское солнцестояние 650 года н. э.
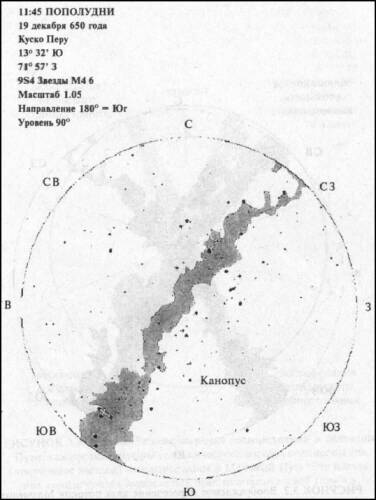
РИСУНОК 3.1В.
Северо-западный/юго-восточный поток Млечного Пути, проходящий сверху, декабрьское солнцестояние 650 года н. э.

РИСУНОК 3.2.
Воображаемое пересечение двух потоков Млечного Пути, образующее деление небесного пространства на четыре части.

РИСУНОК 3.3.
Идеальная конфигурация солнцестояний и Млечного Пути: каждое наступление гелиакического восхода солнцестояния (отмеченное звездой) «вмонтировано» в Млечный Путь. Эта идеальная конфигурация завершилась приблизительно в 650 году н. э.

РИСУНОК 3.4А.
«Истоки» Млечного Пути в северном небе при гелиакическом восходе, июньское солнцестояние 650 года н. э.

РИСУНОК 3.4В.
Северо-западный/юго-восточный поток Млечного Пути, текущий на юг за восточный горизонт при гелиакическом восходе, июньское солнцестояние 650 года н. э.

РИСУНОК 3.4С.
Северо-восточный/юго-западный поток Млечного Пути, текущий на юг за западный горизонт при гелиакическом восходе, июньское солнцестояние 650 года н. э.

РИСУНОК 3.5.
Южные, околополярные созвездия, включая Южный Крест, льямак ньяуин (альфу и бету Кентавра), Жабу и льюту (куропатку).

РИСУНОК 3.6.
«Открытие» земли мертвых: восточный горизонт при гелиакическом восходе в декабрьское солнцестояние в эпоху инков.

РИСУНОК 3.7.
Крышка саркофага владыки и покровителя Паскаля, изображающая вертикально сложенный трехъярусный космос со входом в мир внизу, по сторонам которого находятся раковины.
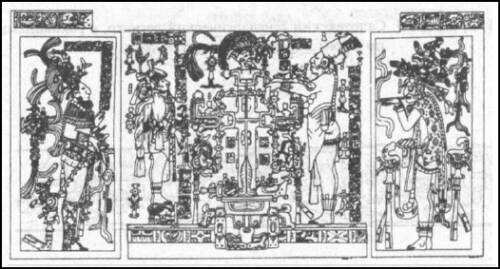
РИСУНОК 3.8.
Памятник, посвященный вступлению на престол владыки Чан Балума и изображающий те же трехъярусный космос и раковины, что и на рисунке 3.7.

РИСУНОК 3.9.
Сапотекский генеалогический регистр, с раковинами по бокам «Челюстей Преисподней».

РИСУНОК 3.10.
Образец кубка для питья эпохи конкисты, изображающий «рождение солнца» у «истоков» двух рек.

РИСУНОК 3.11А.
Небесная сфера по отношению к ориентации земли (= «север») с позициями солнц солнцестояния по эклиптике. В мифологической терминологии отношение эклиптики к небесному экватору называлось «разделением вселенских родителей».

РИСУНОК 3.11В.
Небесная сфера с тропиками.
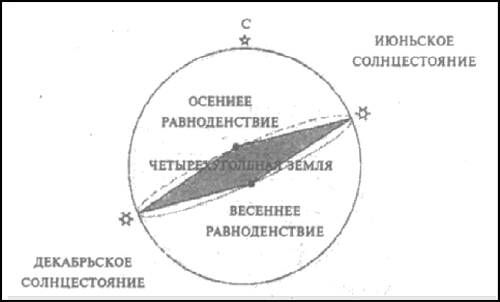
РИСУНОК 3.12А.
Четырехугольная земля, или квадрат, образуемый соединением точек в звездах, отмечающих гелиакический восход в солнцестояниях и равноденствиях.

РИСУНОК 3.12В.
«Вселенский Дом», поддерживаемый четырьмя столбами по четырем «углам» четырехугольной земли.

РИСУНОК 3.12С.
Из наблюдения двух разных плоскостей эклиптики и экватора (верхний левый рисунок) возникает представление о «четырехугольной земле» (верхний правый рисунок), ведущее, в свою очередь, к установлению границ «небесной земли» (нижний левый рисунок) или, как на противоположном рисунке, структуры «вселенского дома» (правый нижний рисунок).

РИСУНОК 3.13.
«Небесная земля», изображающая расположение «высочайшей горы» в июньское солнцестояние и раковины на «дне моря», в декабре. «Уровень моря», разделяющая «сушу» и «море», представляет небесный экватор… «Небесная земля» и «вселенский дом» (смотри рисунок 3.12В) служили разными терминологическими понятиями для описания событий в одной и той же области небесной сферы.

РИСУНОК 3.14.
Все те же три области небесной сферы.

РИСУНОК 3.15.
Гелиакический восход Веги во время умышленного затопления Куско инками. (Смотри Приложение 1.)

РИСУНОК 4.1.
Прецессия равноденствий.

РИСУНОК 4.2.
Бог Ворот Тиауанако.

РИСУНОК 4.3.
Южный горизонт при гелиакическом восходе в декабрьское солнцестояние 850 года н. э.

РИСУНОК 4.4.
Гелиакический восход звезды х в июньское солнцестояние, как он видится глазу наблюдателя (выше) и в концепции Коперника (ниже).
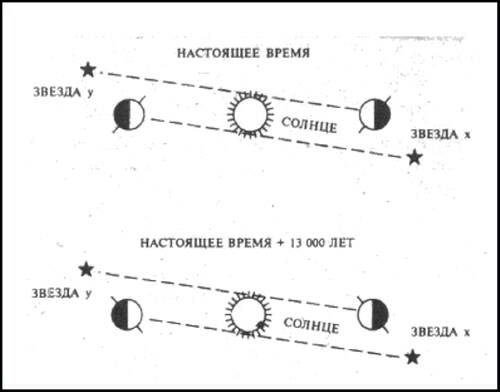
РИСУНКИ 4.5А, 4.5В.
Отношение земли к гелиакическому восходу звезд х и у на протяжении прецессионного времени.
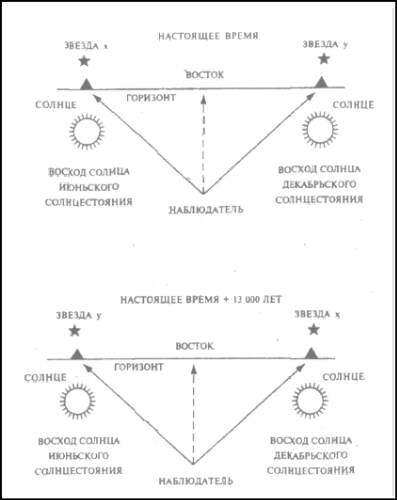
РИСУНКИ 4.5А, 4.5В.
То же событие, что и на рисунках 4.5 А и В, с точки визуального наблюдения.

РИСУНОК 5.1.
Изображение треугольника Кеплера.

РИСУНОК 5.2.
Манко Капак, обладающий тупайаури.

РИСУНОК 5.3.
Таблицы Тюкермана для июньского солнцестояния 650 года н. э.

РИСУНОК 5.4.
Сближение Сатурна и Юпитера накануне июньского солнцестояния 650 года н. э.

РИСУНОК 6.1.
Тип жилища Второго Века, согласно Гуаману Поме
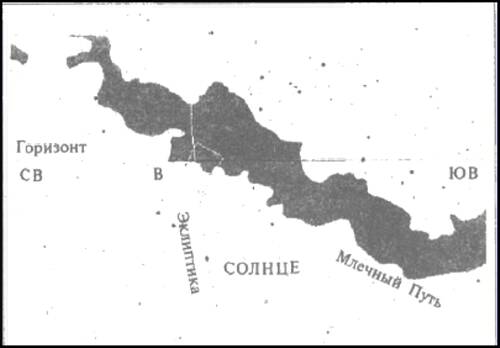
РИСУНОК 6.2.
«Вступление на землю» Млечного Пути. Восточный горизонт при гелиакическом восходе в июньское солнцестояние 200 года до н. э.

РИСУНОК 8.1.
Портрет правителя Уари из керамических жертвоподношений в Кончопате.

РИСУНОК 8.2.
«Жертвоприноситель» Пукары.

РИСУНОК 8.3.
Ритуальное жертвоприношение Ламы, согласно Гуаману Поме.
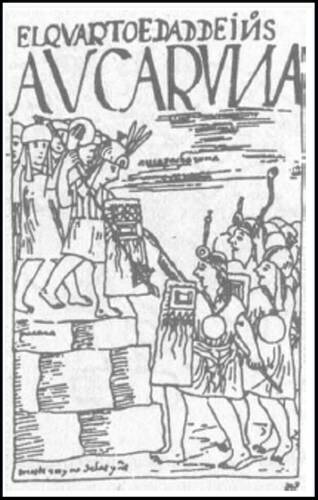
РИСУНОК 8.4.
Крепость на вершине холма, типичное строение Четвертого Века, согласно Гуаману Поме.
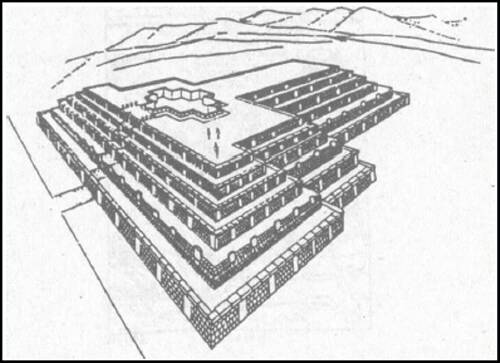
РИСУНОК 8.5.
Опущенный внутренний двор на вершине Акапаны. (Смотри Приложение 4.)
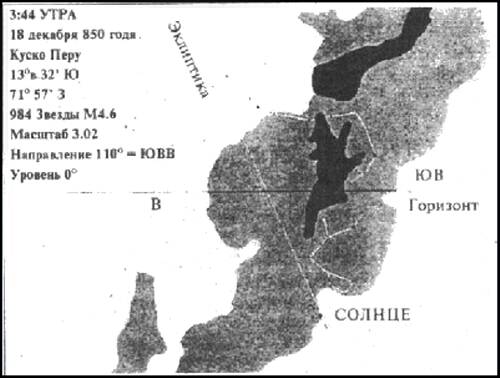
РИСУНОК 9.1.
Падение Лисы. Гелиакический восход в декабрьское солнцестояние 850 года н. э.

РИСУНОК 9.2.
Из-за «падения» Лисы исток «ирригациoнной канавы», находится теперь «ниже» на «горе». Гелиакический восход в июньское солнцестояние 850 года н. э. (Сравните с рисунком 2.10А.)

РИСУНОК 9.ЗА.
Гелиакический восход в декабрьское солнцестояние 1432 года.
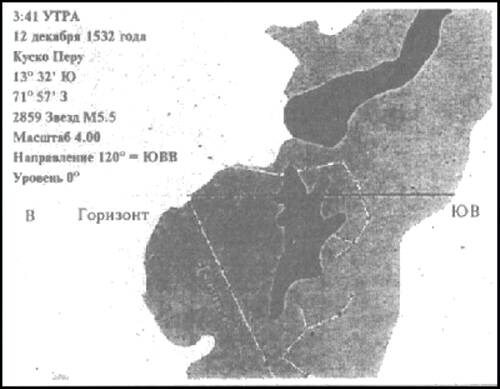
РИСУНОК 9.3В.
Гелиакический восход в декабрьское солнцестояние 1532 года.

РИСУНОК 9.4.
Сближение Сатурна и Юпитера, 1444 год.

РИСУНОК 10.1.
Индусские Титаны на Мельнице. Обратите внимание на технологию получения возвратно-поступательного движения.

РИСУНОК 10.2.
Бордюр Бога Ворот.
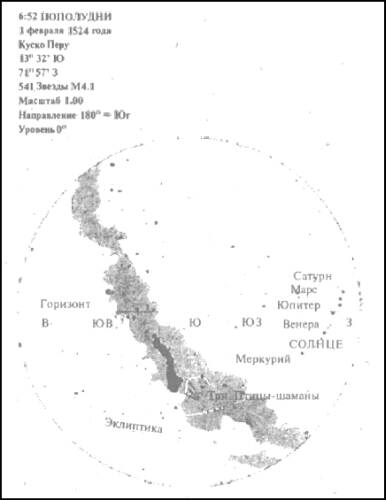
РИСУНОК 11.1.
Три птицы-шамана на пути в преисподнюю.

РИСУНОК 11.2А.
1 февраля 1524 года. Виракоча встречается с Уайной Капаком, сближение Сатурна и Юпитера.

РИСУНОК 11.2В.
5 февраля 1524 года. Любопытная птица-шаман открывает ларец и видит «крошечную» женщину, которая исчезает; Венера впервые появляется заново в качестве вечерней звезды.

РИСУНОК 11.2C.
10 февраля 1524 года. «Ровно через пять дней» шаман доставляет подарок Уайне Капаку и Виракоче; сближение Венеры, Юпитера, Сатурна с Марсом несколько в стороне.

РИСУНОК 11.2D.
«Родственник», Марс, уходит один, чтобы наблюдать за гражданской войной и испанской конкистой.
