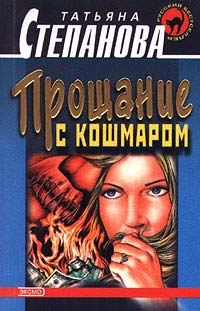

Татьяна СТЕПАНОВА
ПРОЩАНИЕ С КОШМАРОМ
Пролог
Свет в подвале был недостаточно ярким. Мощная лампа, укрепленная на стальном кронштейне в центре низкого сводчатого потолка, освещала лишь малую часть этого просторного помещения. Ниши в кирпичных стенах со встроенными в них закрытыми стеллажами, углы — все это тонуло в сумраке. В подвал никогда не заглядывало солнце — здесь просто не было окон. И когда гасили лампу, тут воцарялась кромешная тьма.
Но сейчас в подвале было светло и работали люди. Двое. Оба полуодетые, взмокшие от усталости и напряжения. Несмотря на жаркий летний день, в подвале вовсю раскочегарился АГВ — нагревал воду в чугунном корыте, вмонтированном в цементный пол. Была включена на полную мощность и электроплитка. Над ней на крюке, вбитом в стену, что-то сушилось. Что-то темное, бесформенное.
Люди трудились молча и сосредоточенно. Точнее, работал один, сидя за небольшим столом со столешницей из белого больничного кафеля. Так ее было удобнее мыть после работы. Просто протереть губкой с мылом…
Второй стоял у стола, подавал инструменты как подмастерье. Вот из рук в руки перешли длинные изогнутые хирургические ножницы, вот нож с коротким острым, как бритва, лезвием.
— Г-гадство.., расползается прямо под руками.., г-гадство. — Тот, кто работал за столом — молодой парень, внезапно резко выпрямился. — Не рассчитал, потянул, а оно…
Второй — постарше — придушенно ахнул, всплеснул руками:
— Потянул? Ну-ка покажи! Разорвал?! Опять все испортил? Ну-ка дай сюда!
Он грубо спихнул сидящего со стула, наклонился и…
— Ч-черт! Черт, зараза, у тебя руки или что, Женька? Руки с какого места растут? Потянул ой! Снова все испортил! Снова все насмарку — столько трудов! Кретин несчастный, что вытаращился на меня? Это что, работа? Работа, а? Этому тебя учили?!
— Меня учили делать работу хорошо… Стараться… — Речь «несчастного кретина» была немного странной — чуть замедленной, словно он припоминал слова заученного урока, ускользавшие из памяти. — Я не хотел…
— Не хотел он! Ну а что теперь с этим делать? Куда это девать? Разрыв на самом видном месте, шипел старший. — Это даже выбросить нельзя. Черт! Столько работы, столько мучений и вот — все коту под хвост.
— В прошлый раз я все сделал правильно, младший нахмурился. — И в прошлый раз не было такого гадства. Я говорил, что это нельзя класть в холодильник. — Он кивнул на белое громоздкое пятно, выступавшее из сумрака дальнего угла подвала.
Старший снова грубо толкнул младшего — вроде приказывая посторониться, а на самом деле просто срывая злость и досаду. Положить это в холодильник была его идея. Чучельник и правда предупреждал, что этого делать нельзя. Чертов полудурок оказался прав. Где-то наверху, словно под сводами, лязгнула железная дверь. Кто-то осторожно начал спускаться по лестнице.
— Ну, как дела подвигаются? — Того, кто спрашивал, трудно было разглядеть в сумраке. Голос же хорошо поставленный, мужественный и звучный, но сейчас усталый, с простуженной хрипотцой, свидетельствовал о том, что обладатель его тоже еще молод, но и молодость, а также, возможно, и иные подарки судьбы — здоровье, привлекательность, физическая сила — ему уже как-то не в радость. Отчего? Ответ на этот вопрос подсказали бы его глаза, взгляд, выражение лица. Но человек так и остался невидимкой, прячущимся в тени: спустился лишь до середины лестницы, куда не достигал свет лампы, и остановился, облокотясь на железные перила.
— Все ни к черту, — старший из работавших в подвале злобно сплюнул. — Разорвалась!
Он чувствовал на себе взгляд стоявшего на лестнице. Тот явно ждал объяснений, жалоб: мол, Чучельник снова все испортил,. Проклятый идиот! Но жалоб не последовало. Старший не имел привычки играть роль доносчика. Чаще он даже брал вину на себя, выгораживая Чучельника. Так уже было не раз. Ведь Чучельник доводился ему младшим братом. И он считал, что они всегда разберутся сами между собой, без посторонних.
— Ну, чего-то в этом роде и следовало ожидать. При такой квалификации, — стоявший на лестнице усмехнулся. — Значит, придется исправить ошибку.
Наступила гнетущая пауза. Было слышно лишь шипение электроплитки да клокотание начинавшего бить ключом кипятка в чугунном корыте.
— Очень жарко тут, — заметил стоявший на лестнице. — Сахара, да… Ну, что застыли? Идите отдыхайте пока. Только сначала, Егор, убери здесь все. Будь добр.
В последних словах было что-то такое… Старшему почудилось, что он словно змее на хвост наступил и она человеческим голосом заговорила с ним…
— Ладно, — буркнул он торопливо и покорно. — Я уберу и… Только принеси пластиковый мешок, наши тут все кончились. Я в таком виде наверх не пойду. А вечером вывезу все.., все бренные останки… Мы не хотели, правда. Так получилось. Материал — дрянь. — Г-гадство, — эхом откликнулся его напарник. Голос его дрогнул от разочарования.
— Начнете все сначала. — Шаги двинулись по лестнице вверх. — Сейчас принесу пакет и швабру. И пусть Женька пол тут вымоет до зеркального блеска, а то… — Дверь лязгнула.
Человек постарался закрыть ее за собой как можно тише, но она, проклятая, все равно каждый раз лязгала, как несмазанные крепостные ворота или магнитный запор новехонького домофона в кооперативном доме. Он медленно направился по узкому коридору в кладовку. Эти переходы-щели и этот гулкий и просторный, как футбольное поле, подвал — все это были издержки планировки старого замоскворецкого купеческого особняка: приземистого, двухэтажного, с мезонином и развалившейся башенкой-флагштоком на покатой крыше.
Особняк недавно был отремонтирован, но старую планировку помещений сохранили. Он сам лично настоял на этом. Некогда, до революции, в этом доме помещался лабаз и товарные склады купца Пескова. Затем уже веред самым 17-м сюда переехало замоскворецкое отделение Русско-азиатского коммерческого банка. Тогда-то здесь укрепили и обустроили этот роскошный подвал-бункер. А после революции и войны тут обитало бесчисленное множество сменявших друг друга контор и НИИ, последний из которых развалился в начале 94-го от безденежья и невостребованности его научных идей и кадров. И в этом же году дом, точнее его обветшалый призрак, откупил у властей столицы предприимчивый Салтычиха. Сначала здесь планировалось открыть салон по продам стройматериалов, но затем…
Дверь демонстрационного зала была приоткрыта. Оттуда лились потоки жаркого солнечного света стекла современных окон немецкого качества, скрадывающих уличный шум, защищенных мощной стальной решеткой, всего два дня как отмыли.
Из зала доносилась тихая музыка: перед тем как спуститься в подвал, он включил в зале видео, причем исключительно из-за музыки выбрал фильм «Дитя Макона» Питера Гринуэя. Но находившиеся в зале покупатели не смотрели на экран, где разыгрывалась мистерия о девственнице, родившей младенца. Покупателей всего-то было двое: ожиревшая немолодая супружеская пара, более похожая не на людей, а на породистых шарпеев, бредущих на одной сворке. От количества украшений на «мадам» у него сразу же зарябило в глазах. И он поручил их заботам умницы Лекс — Лександры-Александрины. Пусть поглазеют, приценятся, может, что и купят сдуру…
— Это чересчур уж какое-то пестрое, Ира, — донесся вальяжный басок. — Глянь на табличку-то во-он там внизу… Что он там намалевал-то? Как это хреновина зовется?
— Зато модно и подойдет под обои, — голос «мадам» был безапелляционен; словно неотложное хирургическое вмешательство. — В спальне, Лёсик, над кроватью нам просто необходимо такое яркое, цепляющее глаз пятно. И вообще, по-моему, это стильная вещь. Девушка, эта картина продается? Сколько она стоит?
«Оттого-то они, накопив к сорока годам бабок и переведя их благополучно за Альпы, и бросают таких вот подруг суровых дней и бедной юности и женятся на юных, длинноногих и миловидных. Такое карканье над ухом каждое утро — это ж подохнешь!» Человек осторожно прикрыл дверь в демонстрационный зал. Эти двое еще долго будут раскачиваться, он успеет зайти в кладовку, отнести все вниз и вернуться. К тому же, если эта парочка все же надумает купить этюд Сарьяна, Лекс его позовет.
В кладовке он извлек из старой рухляди пластиковый пакет, из тех, в которых домохозяйки хранят в антимоли меховые вещи. Весной они с Егором купили целую кипу таких пакетов в хозяйственном в Павловском Посаде. Великоват, конечно, но удобен. Самое оно: черный плотный пластик. И главное — непромокаемый.
Когда он возвращался, сквозь закрытые двери зала все еще доносилась музыка. Клавесин, свечи, тайна средневековой мистерии — «Дитя Макона»… Бог ты мой, Гринуэй и его грезы, божественная заумь… Но очень, очень душевно и заманчиво. А кто не знает, тот, как говорится, пусть отдыхает. Пусть…
Там, за этими дверями, было все то, что он любил. И там была Лекс и эти шарпеи с их невежеством и деньгами. А он.., он лишь крепче зажал под мышкой пластик и двинулся в подвал — место, которое и существовало только для того, чтобы была возможность и впредь иметь все те милые сердцу, приятные духу, глазу, слуху предметы и вещи. Это было словно две стороны одной медали — подвал и то, что наверху, над подвалом, залитое солнечным светом, наполненное музыкой. И одна без другой стороны существовать не могли.
Человек открыл дверь в подвал, и она снова лязгнула, пугая тишину. Что ж, если все их труды! Пошли насмарку, если исходный материал снова испорчен, придется начинать все заново. С нуля. А те бренные останки… Человек не хотел лукавить сам с собой — сил нет смотреть на эту блевотину, этот ужас, но… Вечером Егор отвезет эту мертвечину куда-нибудь подальше за Кольцевую. И зароет в лесу. Как он делал и прежде, когда работа не удавалась. И никто никогда ничего не найдет. Никто и никогда.
1
ПРОПАВШИЙ ПАССАЖИР
Дело оказалось совсем не таким простым, каким представилось на первый взгляд. Даже совершенно непростым — в цепи событий внезапно появилась странная загадка, и это весьма и весьма озадачило Катю Петровскую.
Катя, а если более официально, Екатерина Сергеевна — криминальный обозреватель пресс-центра областного ГУВД, вот уже целую неделю слезно жаловалась всем и каждому, что по уши увязла в трясине скуки: лето — мертвый сезон. И даже уголовный элемент всех мастей и окрасок знойным месяцем июнем, когда на небе ни облачка, а на градуснике тридцать выше нуля, вял, ленив и малооригинален в нарушениях закона.
Нельзя было, конечно, сказать, что на всем белом свете, а точнее, в лучшей его части — Подмосковье вообще не случалось никаких криминальных происшествий. Нет, как обычно, «контингент» регулярно совершал противоправные действия: воровал, насиловал, грабил. Но все это была уже набившая оскомину, надоевшая до чертиков рутина — никаких ярких, захватывающих, интригующих тем для газетного репортажа. Ни малейшей сенсации.
Короче — полный профессиональный ноль. Но вдруг… Сидя в пустом кабинете, залитом заходящим над родным Никитским переулком солнцем, едва живая от духоты И усталости, Катя — по ряду причин ей предстояло задержаться на службе до восьми вечера — в который уж раз перебирала в памяти события минувших суток, результатом которых и стала эта ужасная и таинственная находка в лесном овраге.
Началось же все это дело с громкого, хотя и на особенно оригинального ЧП: на двадцатом километре шоссе, ведущего в аэропорт Быково, ранним июньским утром водитель бензовоза неожиданно для себя услышал доносившиеся из-за поворота дороги выстрелы. Рисковать он не стал — мигом развернул махину-бензовоз и что есть сил погнал на ближайший пост ГАИ.
Первый милицейский наряд прибыл «туда, где стреляли», то есть на двадцатый километр, через четверть часа, точнее, в пять семнадцать утра. Кате же и прочим сотрудникам пресс-центра стало известно о происшествии, как только они пришли на работу — то есть около девяти утра. Но пока собрались, пока завели свою потрепанную машину, пока «докондёхали» до городка Красноглинска (расследовать ЧП пришлось ОВД именно этого района), дело уже крутилось вовсю, и к официальным лицам, как-то: следователю Красноглинского ОВД, сотрудникам спецбатальона ГИБДД и местному начальству, окрыленному энергичным раскрытием и задержанием по горячим следам банды дерзких злоумышленников, — было прямо-таки не подступиться на пушечный выстрел. А «официальные» были до чрезвычайности «при исполнении» и от прессы и телекамеры прямо шарахались — у нас такое раскрытие, ребята, а вы тут со своей ерундой под ногами крутитесь!
Но Катю подобным обидным пренебрежении было не пронять. Вы, ребята, сами по себе — и мы из пресс-центра тоже сами по себе. У вас — героическое раскрытие особо тяжкого, а у нас — святая обязанность информировать о вашем героизме и оперативности широкие массы, формируя у общественное позитивный взгляд на деятельность правоохранительных органов. Так что будьте ласковы, товарищи следователи и оперы, не скаредничайте, не зажимайте информацию, а смело делитесь с ведомственной прессой о том, как вы сейчас взяли этих бандитских гадов, как сделали их и…
Вишневый «Икарус» на обочине — это было первое, что узрела Катя еще из окна пресс-центровских «Жигулей». Пустой автобус, а возле него — толпа галдящих испуганных пассажиров, милиционеры в форме, эксперт-криминалист с фотокамерой.
— Они к нам сразу же как сиганули, заорали: «Ограбление, всем стоять-сидеть на местах, быстро деньги — „зеленые“ и какие есть, и все золото, что на пальцах и в ушах». Так прямо и заявили, дословно говорю, — возбужденно жестикулируя, рассказывала одна из женщин в толпе, обращаясь к стоявшему подле нее омоновцу. — Это прям какой-то ужас — в двух шагах от аэропорта! Сначала-то никто из нас и не понял нечего. А потом, когда этот лоб в маске выстрелил, мы…
И правда, как удалось выяснить Кате из бесед с очевидцами-пассажирами, в первую минуту в «Икарусе» никто толком ничего не понял. На этом автобусе ехали в столицу дальние путешественники — челноки аж из самой Йошкар-Олы. «Икарус» был забит багажом до предела. После утомительного ночного переезда почти все пассажиры в салоне спали. Водителя, валившегося на руль от усталости, только-только сменил его напарник. Утреннее шоссе (а часы на приборной доске «Икаруса» показывали всего половину пятого утра) было пустынным и тихим.
Как вдруг на двадцатом километре автобус бесшумно обогнала неизвестно откуда взявшаяся черная «девятка». Она вильнула перед самыми фарами «Икаруса» и резко перегородила дорогу. От неожиданности водителя прошиб холодный пот — столкновение казалось неминуемым. Он крутанул руль, взвизгнули тормоза и…
— Открывай дверь, быстро! — Водитель даже не успел понять, что происходит: к автобусу бросились пассажиры «девятки» — один, второй, третий. Секунда — рывок, и.., некто в черной маске-"бандитке" уже у самой кабины. На водителя уставилось пистолетное дуло.
Некоторые пассажиры «Икаруса» проснулись от резкой остановки. Других разбудил шум, когда эта троица из «девятки» (всего, как оказалось, там было четверо) ворвалась в салон и прямо с порога громогласно объявила, что это, мол, ограбление, деньги, мол, на бочку…
Сама бандитская акция длилась не более восьми : минут. Как рассказывали пассажиры, один из налетчиков в маске продолжал держать водителя под дулом пистолета, второй — явный «водила» — оставался за рулем, а остальные двое (тоже в масках) быстренько прошвырнулись по салону. Мало слов — много дела, угроз и экспрессии: дуло в зубы, рука — за дамскую сумочку, мужскую визитку, бумажник. Некоторых пассажиров заставляли вставать — срывали кожаные пояса с деньгами. А одному бедолаге даже приказали спустить брюки и трусы, подозревая у него потайной набрюшник. Когда пассажир заартачился, а остальные негодующе зашумели, бандит, охранявший водителя, молча и многозначительно пальнул — конкретно ни в кого не целился, но негодование разом стихло.
Ограбление шло своим чередом, пока, по словам очевидцев, нападавшие не дошли до «той женщины в красной кофте», как ее называли остальные пассажиры «Икаруса». Когда бандит схватил ее сумку, женщина забилась в истерике, крича, что еле нашла денег на поездку, наскребла у родственников, что дома дети, парализованная мать, что муж вот уже полгода как не получает зарплату на заводе, и что, только продав эти чертовы корейские кофты из ангорки, она надеялась хоть как-то свести концы с концами, и что «неужели у вас нет сердца и вы не понимаете, что мы так с голоду подохнем?!», и что «уж лучше стреляйте меня, потому что без денег я дома детям на глаза не посмею показаться!».
Нападавшие явно не ожидали такого потока брани, слез, воплей, яростной непокорности и абсолютного презрения к демонстрируемому огнестрельному оружию. Тот, кто «экспроприировал» сумку, сначала даже попятился, но потом, рассвирепев, со всего размаха въехал строптивой жертве кулаком в подбородок. Нет, никто из пассажиров не вступился — все челноки были парализованы страхом, однако…
Однако этот эпизод и явился катализатором к дальнейшим событиям, которые, как опять же рассказывали очевидцы оперативникам, следователю и лично Кате, развивались так: женщина захлебнулась криком, но продолжала отчаянно цепляться за сумку. Ее ударили рукояткой пистолета по пальцам. На заднем сиденье оставалось еще четверо необобранных пассажиров. Им приказали «по-быстрому скинуть баксы», но они медлили. Тогда бандит, охранявший переднюю дверь, снова выстрелил — на этот раз пуля разбила стекло в одном из окон. С грохотом посыпались стекла, среди пассажире" началась паника, и в этот миг шофер, воспользовавшись тем, что о нем вроде бы позабыли, закрыл двери автобуса, а сам попытался через свою персональную дверь выскочить из кабины, но… Бандит в маске выстрелил на этот раз уже прицельно в этого безрассудного смельчака. К счастью, лишь легко ранил в мякоть предплечья.
— Открывай двери! У нас гранаты с собой — взорвем к.., весь ваш табор!!! — орали нападавшие. — Считаем до трех, ну!
— Откройте двери, ради Бога, пусть они убираются, — запричитали наиболее пугливые из пассажиров. — Не дай Бог возьмут нас в заложники!
Водитель не стал ждать второй пули — открыл обе двери. И вот черная «девятка» газанула — и только они ее и видели.
Когда Катя беседовала обо всех этих событиях с потерпевшими, те ее через каждую секунду спрашивали: «Девушка, а правда, что их задержали? Это точно? И когда же нам вернут наши деньги?»
Катя насчет задержания говорила, что правда, а насчет денег и возврата имущества уклончиво советовала потерпевшим обращаться к следователю Красноглинского ОВД. Тот, уже обалдевший от криков челноков, требовал, чтобы всех потерпевших немедленно убрали с места происшествия, где еще не закончился осмотр, и отвезли на специальном автобусе в отдел милиции. Но челноки боялись оставить свой багаж в «Икарусе» и наотрез отказывались без него ехать в отдел. А отбуксировать сам «Икарус» тоже было пока нельзя, потому что храброго, но безрассудного напарника водителя, раненного в сражении, вместе с пострадавшей «женщиной в красной кофте» только-только увезла «Скорая». А сменный водитель от всего пережитого был в настоящем шоке: глотал валидол, и у него, по его признанию, «все плыло перед глазами». Ждали шофера с автобусом из местного автопарка, но он запаздывал. Дело, в общем, было обычное, житейское…
Кате все эти житейские неурядицы показались адом кромешным. Однако, не теряя времени, она тишком порасспросила сотрудников ГАИ — те всегда знали больше других — про обстоятельства задержания по горячим следам пассажиров «девятки». К счастью, далеко с награбленным они не ушли. Благодаря оперативности водителя бензовоза, услышавшего выстрелы и предупредившего милицию, ГИБДД успели перекрыть шоссе и все повороты на проселки, и на одном из них, неподалеку от аэропорта, черную «девятку» заметили и задержали спустя всего час посла событий на шоссе.
— Со стрельбой брали? — все допытывалась Катя у гаишников. — Красиво?
— Нет. На этот раз все по-тихому прошло, скромничали те. — Тормознули и сразу поставили под автоматы. Они, конечно, тоже со стволами, но… Во-первых, не ждали, что так быстро вляпаются, а во-вторых, просто шкурой рисковать не захотели. Да и пушка-то настоящая у них одна, остальные газовые, так, для устрашения только. С таким арсеналом на автоматы не попрешь.
Узнав, что бандиты, видимо, местные, что оружие, маски и награбленное у них уже благополучно изъято, а сами они уже препровождены в Красноглинский отдел, Катя уже было собралась стремглав мчаться туда. Авось и повезет — в Красноглинске у нее была масса знакомых сотрудников. И, возможно, появился бы удачный шанс пообщаться с этими дорожными отморозками сразу же после их задержания (такое интервью очень бы оживило репортаж). Но тут внезапно произошло событие, с которого и начались в этом в принципе простом, хотя и до ужаса громком деле все загадки и заморочки.
Толпа челноков горлопанила: одни продолжали наотрез отказываться ехать в милицию без багажа. Другие вроде бы уже соглашались покинуть родной «Икарус», но предварительно настаивали на том, чтобы сохранность багажа была сначала проверена прямо при них на месте: «А то ищи потом, куда вы наш автобус отгоните!»
Измотанный, злой следователь не выдержал и сдался: ладно проверяйте свои баулы, и тронемся. И вот едва оправившийся от стресса водитель открыл багажное отделение, как вся толпа хлынула перетряхивать вещи. Челноки, пыхтя, выволакивали из брюха автобуса клетчатые клеенчатые баулы, сумки на колесиках, пакеты, узлы и тюки. Когда все разобрали свое, в багажнике остались еще две небольшие спортивные сумки.
— А это чье добро? — удивленно спросил водитель. — Эй, кто хозяин?
Послышались голоса: «Бог его знает» и «Нам чужого не надо».
— Да это, наверное, соседа моего, — раздался голос из толпы. — То-то гляжу, его не видно что-то. Куда ж это он делся в суматохе?
Катя, хоронясь за спиной одного из оперативников, выслушала сбивчивые объяснения полного мужчины, данные им сотрудникам милиции: мол, позади него на последнем, если считать от средней двери, сиденье ехал молодой парень. «Какой-то узкоглазый. Ехал с нами не с дома, а подсел где-то по дороге. Вроде сказал мне, что Кимом его звать — я не усек: то ли в честь Коммунистического Интернационала, то ли в честь корейского вождя. На вид восточный, но по-русски говорит, как мы с вами. Наш, в общем, кореец. А вот когда и куда он делся, сказать не могу, — толковал челнок. — Как эти в масках ввалились к нам, сами понимаете, тут уж не до соседей стало. Потом стрельба, потом, как двери открыли, эти твари выскочили с нашими-то деньгами, ну, тут мы тоже по сторонам не оглядывались. А может, он следом за ними утек? Ведь у самой двери сидел. Только зачем? Куда это его понесло?»
Тут его сбивчивый рассказ прервали — омоновцы подогнали наконец собственный автобус и потерпевших начали спешно грузить. Следователь уже терял остатки терпения: в отделе задержанные ждут, осмотр места еще не закончен, да тут работы на сутки хватит!
— А с сумками этими что же? — спросил водитель. — Я, ребята, сразу предупреждаю: что в них — понятия не имею. А то будете потом собак вешать.
— Выбирайте выражения, уважаемый, — сухо отрезал следователь.
Катя молча и с любопытством разглядывала сумки, сиротливо стоявшие на траве. Странно как: ехали челноки в столицу, напали на них разбойники, грабанули, а потом один из челноков словно в воду канул. С чего бы это? Может, это был наводчик? Один из тех, кто помогал «девяточникам» изнутри, «пятая колонна», так сказать? Да нет, чушь. Что эти, в масках, из ЦРУ, что ли? Банальные деревенские бандиты, этакие махновцы-гуляй-поле. У таких все проще пареной репы: побольше угроз, побольше наглости. Они вон и шума особенно не боятся — палят на дороге почем зря. Вывод: не первый это случай у них, а прежние благополучно сходили с рук. Забрасывать же, словно диверсанта, наводчика в автобус, вести его (по рации, что ли?) для таких махновцев — что-то слишком уж мудрено… Но тогда куда же делся пассажир, так и не доехавший до столицы каких-то двадцати километров и бросивший багаж? Да и багаж что-то для челнока маловат.., Она оглянулась.
Милиция тем временем тормознула легковушку. Ясно, следователю потребовались понятые для вскрытия и осмотра бесхозного имущества. Катя придвинулась ближе, вытянула шею. Оператор телегруппы дышал ей в затылок, готовясь снимать. И чутье на интересный кадр его не подвело. Из двух спортивных сумок извлекли семь тугих, аккуратно запечатанных пластиковых пакетов с… Катя видела подобные вещички уже не раз: анаша.
— Наркота?! — Едва услыхав, водитель «Икаруса» только руками замахал:
— Вы меня в это не путайте, я и так чуть инфаркт тут не заработал. Почем я знаю, чье это?
Катя краем уха услыхала, как следователь тихо беседовал с оперативниками: можно, конечно, предположить, что анашу в Москву вез тот самый пропавший в суматохе парень. Если это наркокурьер, должен был сразу смекнуть, что после ограбления на дороге не миновать встречи с милицией, а поэтому счел за лучшее смыться, бросив товар, но… Точно так же можно было предположить и то, что наркокурьер — кто-то из челноков, отправленных в отдел. Кто-то, посчитавший за лучшее не афишировать при милиции свое право собственности на эти сумки, а поэтому…
— Ладно, коллеги, сейчас закончим тут, приедем в отдел и разберемся со всей этой неразберихой, — подытожил неудачным каламбуром следователь. — А насчет пропавшего пассажира… — Он ограничился пока тем, что отрядил одного из оперативников повторно опросить толстого челнока о приметах его таинственно исчезнувшего соседа.
Катя присутствовала при осмотре автобуса и наблюдала за кропотливой работой эксперта-криминалиста. Раз не уехала в Красноглинск сразу, теперь лучше подождать, когда здесь все закончат. Надо держаться поближе к этому деловитому следователю. Андреев, кажется, его фамилия…
Солнце пекло немилосердно: час дня. Ого, как время летит! Оператор, закончив видеосъемку, угнездился в тени кустов боярышника на обочине. Туда же с дороги уползла и Катя. А следователь, эксперт, оперативники под палящими лучами все еще осматривали дорожное покрытие — на асфальте шоссе кое-где отпечатались бурой глиной фрагменты протекторов разбойничьей «девятки».
И тут вдруг из-за поворота послышались резкие переливы милицейской сирены. А затем вылетел на всех парах, дребезжа и вихляясь, словно параличный старенький «уазик» — «канарейка» — средство передвижения дежурной части Красноглинского ОВД. «Канарейка», взвизгнув, тормознула возле «Икаруса».
— Надо же.., еще одно… — донеслось до разомлевшей от жары Кати. — В прокуратуру уже звонили — прокурор на обеде, отъехал, ждут. Если здесь закончили, перебрасывайтесь туда. Там работы…
Катя слушала через силу: Господи, какая жара. И это только еще середина июня! Какое-то новое происшествие… Так всегда бывает: не сложились с утра дежурные сутки, значит, как в пословице будет таскать не перетаскать…
— Колосову в главк уже звонили… Сказал, что едет, чтобы начинали там пока без него…
Катя заставила себя отлепиться от спасительной тени кустов. Насторожилась. Это что еще такое? Если Никита Колосов — начальник отдела убийств областного уголовного розыска, у которого сегодня (это было ей доподлинно известно) соревнования по стрельбе на тренировочном полигоне в Видном, бросает все и мчится сюда, то…
— А что случилось-то? — вкрадчиво спросила ой у молодого, мокрого, как мышь, от трудового перенапряга на солнцепеке оперативника, лицо которого, однако, выражало самый живейший интерес к происходящему.
— Жмурик, — интимно сообщил он, — в дежурку какой-то дачник сообщил. Они с семьей в лесу остановились на минутку. Там овраг, а через него мосточек. Ну, жена спустилась и вдруг кричит: да тут крови полно! Там под мостом труба для сточных вод, ну, а он вроде в ней…
— Кто? — Катя испуганно округлила глаза.
— Да жмурик, я ж говорю. Ноги только наружу торчат. Сейчас поедем… Эй, Катя, вы куда? Вы же на машине — так нас с напарником захватите! Это ж сорок седьмой километр у Кощеевки, на границе района.
Катя от неожиданности едва не споткнулась: ну и названьица в Подмосковье у деревень! Тихий Погост, Кощеевка, Красные Могилы, например… И охота жителям обзывать места, где они «родились и сгодились», так мрачно?
…И теперь, сидя в душном кабинете пресс-центра, она снова и снова вспоминала то странное чувство, охватившее ее, когда она уже садилась в машину. Она, помнится, машинально оглянулась: «Икарус», раскалившийся на солнце, сожженная жарой трава в кювете, темная стена леса по обеим сторонам шоссе, дорожный указатель на аэропорт. А над всем этим белесое от зноя небо — как опрокинутая чаща. А в нем — высоко-высоко черная точка. Жаворонок? Скорее галка; какие сейчас жаворонки, откуда? И как в «Неуловимых»: И — тишина-а-а…
Дико даже представить, что всего каких-то несколько часов назад здесь гремели выстрелы, кричали и бесновались люди…
И только сейчас, уже на исходе дня, вспоминая с содроганием то, что довелось ей увидеть в том овраге у той самой Кощеевки, Катя понимала: насколько лжива и обманчива была призрачная летняя тишина на подмосковной дороге.
2
КРАСНЫЙ ОКЕАН
В жаркий полдень, когда дрожит и плавится от зноя воздух над заросшими сорной травой полями, когда липнет асфальт к подошвам, осматривать явно криминальный труп — это, знаете ли, весьма сомнительное удовольствие.
Сама Катя в этом отношении была человеком крайне робким и брезгливым. Однако по роду служебной деятельности осмотра мест происшествий — ДТП, разбойных нападений, ограблений и ДАЖЕ убийств ей было не миновать. «Картинка», снятая на натуре, — соль любого репортажа, а личные впечатления криминального обозревателя на месте происшествия — девяносто пять процентов успеха любой статьи, но… Но каждый раз, когда судьба и собственное безрассудное любопытство толкали ее на этот опрометчивый шаг, сердце Кати замирало в груди, а потом тревожно ухало куда-то вниз к спазматически ноющему желудку. И она старалась с самой первой секунды настроить себя на энергично-деловитый лад, отсечь эмоции и — Но это было легко на словах, а на деле-то…
Когда они с оператором и сыщиками подъехали на сорок седьмой километр и оперативники выскочили из машины и через кусты напролом заспешили к оврагу, Катя вылезать не торопилась и лишь пугливо вытягивала шею, стараясь и одновременно страшась увидеть «жмурика».
— Ну что же ты? Выходи. — Оператор что-то; тоже, однако, преувеличенно деловито возился с камерой.
— Сейчас… А где он?
— Оно. Тело. Там, — и оператор сделал жест, каким в римских амфитеатрах зрители приказывали победителю-гладиатору прикончить раненого противника.
И тут Катя внезапно узрела Никиту Колосова. Умение начальника отдела убийств уголовного розыска области неожиданно появляться в тех местах, где его ждут, скажем, ну только лишь через час или вообще к вечеру, изумляло Катю. Ведь Никита с утра был в Видном: палил по-македонски, или как там это делают они, настоящие профи, по движущейся мишени, а от Видного до Красноглинска — дай Боже сколько, но…
Правда, у Колосова теперь новая машина. Старушка «семерка», с которой он, кажется, сроднился и сросся, отдала концы, и Колосов, подначиваемый приятелями, купил себе на Южном рынке подержанную «девятку». Зато самого лихого и бандитского вида — черную, как жужелица, да еще с какими-то пижонистыми «подкрылками», которые, согласно дурацкому вкусу автомобильных купцов, должны были слегка облагородить отечественный жигулевский силуэт, придав ему иномарочный шик.
Известно, что не место красит человека, тем более не новая, пардон, подержанная тачка. Но с тех пор как Колосов пересел на нее, Катя стала замечать в нем кой-какие новые черты. Так, на мускулистой и загорелой шее начальника отдела убийств с некоторых пор появилась тонкая серебряная цепочка. А ведь прежде Никита ничем себя не украшал.
Но сейчас эта серебряная полоска, видимая в вырезе расстегнутой по случаю жары рубашки, в сочетании с пыльной бандитской «девяткой» и пистолетной кобурой из желтой телячьей кожи придавала Колосову дурацкий молодецкий вид, что одновременно позабавило и раздосадовало Катю. Среди ее друзей в «крутого» до сих пор еще не надоело играть одному лишь драгоценному В. А. Кравченко — ее молодому человеку, личная жизнь с которым… Впрочем, обдумывать свои переживания было несколько неуместно. Однако (так уж легкомысленно она была устроена Создателем), прежде чем окончательно выйти из машины и поздороваться с Никитой, Катя успела еще подумать о том, что с некоторых пор большинство участковых Подмосковья, а также весь прочий младший и средний оперативный состав посетило странное поветрие: все эти профи начали появляться на службе со скромными серебряными печаточками на безымянных пальцах. Кате было крайне любопытно, но, как она ни доискивалась, вычислить истоки этой повальной моды ей так и не удалось.
— Ух и жарко, Катерина Сергевна… Катя.., привет, — Колосов выпалил все эти нескладушки единым духом. — Думал, изжарюсь заживо, а ты.., ты давно здесь?
— С половины одиннадцатого, мы автобус только закончили осматривать. В Красноглинск все никак не доедем. Этих-то ведь уже задержали. — Катя, хотя она и была рада видеть Колосова, напустила на себя деловой вид.
— А, этих… Ладно, — Колосов махнул рукой. Ясное дело: авторазбойники — не его клиентура. Ими в розыске занимается специальный автотранспортный отдел, начальник и половина личного состава которого пеклись на солнце с самого утра, изыскивая и закрепляя на месте происшествия возможные доказательства по делу. Колосов же к случившемуся с челноками, увы, равнодушен, а к славе коллег — ревнив. Как же, у транспортников красивое и громкое задержание дерзкой банды (тут Кате внезапно пришло на ум, что черная «девятка» бандитов как две капли, вероятно, похожа на колосовское приобретение), а у начальника отдела убийств повис на шее новый жернов, как выражаются в розыске, жмурик, о котором…
— Он с автобуса, что ли? Дежурный из Краснолинска звонил — я не въехал поначалу, сообщила только… — но тут Колосов запнулся. И Катя поняла дежурный сказал ему по телефону что-то такое; о чем намеренно умолчали в разговоре с ней. Нечто такое об этом трупе, что заставило Колосова, даже малость «не въехавши в ситуацию», все разом бросить и помчаться сломя голову из Видного по раскаленной, забито транспортом дороге сюда, на сорок седьмой километр.
Однако, поразмыслив. Катя решила не торопиться и, придав себе крайне степенный и загадочный вид очевидца (как-никак она оказалась тут раньше этого самоуверенного профи), начала обстоятельно рассказывать Колосову о предшествующих страшной находке событиях.
Никита (и это тоже было на него не похоже) на этот раз не спешил на место происшествия: он стоял, терпеливо слушая Катины сбивчивые: «а потом мне сказали.., вещи.., анаша в сумках.., а потом челноки…»
— Так, ладно. Пропавший, сбежавший, сгинувший, канувший.., пассажир… Ким? Так его сосед называл, говоришь, Катерина Сергевна? Корейское имя. Кореец, значит… Говорят, они собак на свадьбах едят, тех, что с синими языками, — чау-чау. — Колосов внезапно вскинул на Катю быстрый взор и тут же опустил глаза, а окончание; этой нелогичной тирады вообще оказалось неожиданным:
— Ты туда не ходи. Лучше посиди со своими телевизионщиками в холодке. Нечего тебе там смотреть.
И по тому, как он это произнес, Катя поняла: дело очень серьезное. Более того — дрянь дело. И легкомыслие тут уже не то что неуместно, а даже просто неприлично.
Но она не успела его ни о чем спросить: радом затормозила старая, вся в пятнах коррозии прокурорская «Волга» — прибыл прокурор Красноглинска. И через минуту они с Колосовым уже спешили к оврагу, тихо, но горячо что-то на ходу обсуждая. Катя же осталась у машины.
Прошло минут пять. Сейчас, вспоминая в своем родном кабинете пресс-центра все это, Катя думала о том, что в те мгновения в ней, видимо, сработал инстинкт самосохранения, предупреждавший ее: не делай этого. Останься здесь: после узнаешь все с чужих слов, и так будет легче, потому что про это лучше услышать, чем увидеть воочию. Увидеть… А еще она думала (а по спине полз, полз противный липкий холодок) сколько же, оказывается, крови в человеке… Целое море. Безбрежный красный океан.
Подъехала «Скорая». Видимо, кто-то из сотрудников милиции вызвал ее по рации через дежурного и она только-только доползла из города. Обычно «Скорая» так безмолвно не прибывает — ни тебе сирены, ни синих мигалок. И вообще, она больше походила на похоронные дроги. Медбратья в синих комбинезонах медленно направились туда, куда и все, — к оврагу. И только тогда Катя двинулась за ними следом. Оглянулась, ища оператора — надо же а он испарился. Наверное, давно уже на месте снимает, а я-то… Уснула, что ли, на ходу?
К горбатому, покосившемуся от времени бетонному мосту через овраг можно было подойти по шоссе, однако, как с удивлением отметила Катя, все «официальные лица» — сыщики, судмедэксперт, прокурор, следователь и начальник отдела убийств и даже эти вот айболиты в синем — двинулись в обход: вниз по крутому склону, заросшему травой и кустами.
Загадка тут же прояснилась. На обочине в кустах дежурил один из оперативников.
— На мосту и шоссе криминалист работает, — пояснил он Кате. — Просил, чтобы там никто пока не бродил. Спускайтесь, если хотите, во-он там. Только осторожно — скользко и крапивы полно.
Катя поинтересовалась, отчего это на дороге Н1 одной машины. Оперативник буркнул, что на повороте перекрыли движение.
— А вообще-то здесь сейчас мало кто ездит. Мост совсем недавно починили, а то два года все крюк делали, — добавил он. — И вообще… Нечего им, посторонним то есть, пялиться тут. И так уж… Чем меньше про это паскудство в городе узнают, тем лучше.
Трава на склонах оврага была по пояс — влажна несмотря на жару, сочная. Белые зонтики дудника качались, осыпая Катю душистой пыльцой, когда она раздвигала их руками. На сломанных стеблях выступал густой сок. От влаги, солнца, аромата цветущих трав у нее перехватывало дыхание. А потом она услышала глухое гудение, точно где-то внизу, в зарослях орешника и черемухи, работал маленький неутомимый мотор.
Мухи! Господи ты Боже мой, такое количество мух Катя видела впервые в жизни. Синие, черные, зеленые с металлическим отливом, крупные, точно слепни, сытые мухи — падальщики, трупоеды. А потом она увидела, а точнее, почувствовала и то, что их привлекло в таком количестве в этот овраг, эту вырытую в глине талыми водами гигантскую могильную яму.
На дне оврага, заросшем мхом и осокой, на этом изумрудно-зеленом фоне четко выделялись темно-багровые пятна. Точнее лужи: маленькая, побольше, еще побольше, еще…
В первые секунды Катя, щурясь (после слепящего солнца глаза плохо привыкали к тенистому сумраку), еще не могла различить, что это, но затем… Огромная лужа крови растеклась по траве. И к запаху зелени, черемухи, земли, глины, нагретой солнцем смолы на стволах уже примешивался тошный смрад, от которого подкашивались нога, хотя так и подмывало бежать, бежать прочь без оглядки.
Возле кровавых луж работали эксперт из местного ЭКО и один из оперативников, которому следователь, видимо, поручил помочь эксперту собрать образцы травы и почвы. Сейчас, сидя у себя в кабинете, Катя вспоминала их лица — бледные, напряженные, покрытые испариной. Никогда еще ей не доводилось видеть так явственно, как люди, собрав в кулак всю свою волю, пересиливают себя, чтобы не бросить все это — эти пропитанные черными вонючими сгустками клочки мха, катышки глины, которые нужно аккуратно упаковать и опечатать как вещдок… Горек хлеб милиционера, ох как горек! А порой он вообще не лезет в горло — застревает комом. Только водка и помогает или спирт… А судить легко тем, кто ничего этого не видел…
Но самое жуткое еще ожидало Катю впереди. Кровь — это было лишь начало. Катя увидела Колосова. Он, следователь, судмедэксперт в комбинезоне прокурор — все были под мостом, где поперек оврага была уложена неизвестно для какой надобности (вроде для стока вод, хотя они в нее и не попадали) огромная ржавая труба; Кровавый след на траве вел именно к ней.
Катя остановилась на склоне оврага. Туда, вниз, было нельзя, там работали ее коллеги. Колосов и все остальные осматривали нечто, только что извлеченное ими из трубы. И это нечто было полуголым человеческим телом. Только очень странным телом, в котором не хватало самого главного, отчего оно казалось каким-то чудовищным, неестественным обрубком чем-то искусственным и несуразным.
Катя споткнулась о выступающий корень и судорожно ухватилась за куст. Черт, шиповник! Одуряюще ароматный, усеянный восхитительными цветами — такому место в райском саду, а не в этой яме. Шипы впились в ладонь, но она даже не почувствовала боли, потому что…
У тела в траве не было головы. От плеч — пустота багровая жуткая рана. Когда отчленили голову, кровь хлынула рекой и вытекла до капли.
Катя поймала себя на мысли, что ее лицо сейчас наверное, такое же, как у тех двух — эксперта и опера — искаженное еле-еле сдерживаемым отвращением. Этот обезглавленный труп в луже крови просто ужасен. Он омерзителен.
Но она одернула себя: хватит, прекрати это! Перед тобой изуродованное человеческое тело. И всего каких-то несколько часов назад его обладатель был жив и, быть может, прекрасен, как Аполлон. А теперь он действительно тлен и ужас, прах, предмет осмотра, работы твоих коллег и твоей, кстати говоря, тоже, я тому что в этом овраге произошло нечто страшное.
Убийство и надругательство над человеческим существом. И не обезглавленный мертвец — чудовище, а те или тот, кто это сотворил с ним.
— Екатерина Сергеевна, про ЭТО пока никто не должен знать. Ни одна газета, ни один журнал. Очень на вас надеюсь, ну, да мы и в прошлом друг друга всегда понимали. Пока дело не прояснится — ни строчки для печати или телевидения, — это сказал начальник Красноглинского розыска Жаров. Катя и не заметила, как он подошел. Она торопливо кивнула.
— Конечно. Как скажете, Григорий Петрович. Но я могу сейчас хотя бы для себя послушать выводы патологоанатома?
— А он пока никаких выводов и не делает. До вскрытия все откладывает.
— А насчет времени совершения.., когда все это.., весь этот ужас…
— Давность — более пяти часов. Но его убили не здесь, Екатерина Сергеевна, — Жаров мрачно глядел на склон оврага. — Убили наверху на мосту. Видимо, он приехал с кем-то на машине. Потом труп перенесли сюда. Ну, и уже здесь…
Катя прикинула в уме: давность наступления смерти пять часов. Выходит, убивали ранним утром — около половины седьмого, спустя всего каких-то два часа после того, как не так далеко отсюда было совершено нападение на автобус с челноками, когда там уже была милиция и…
— Дежурный передал перечень того, что изъято при обыске у задержанных, — подойдя поближе, она услышала обрывок разговора следователя прокуратуры и прокурора. — Значит, у них при себе было два газовых пистолета типа «ПМ» калибра девять миллиметров, пистолет «ТТ», боеприпасы к нему, а также два неиспользованных газовых патрона, две мобильные радиостанции, две тротиловые шашки — их в багажнике обнаружили, четыре шерстяные маски и комплект полевой военной формы с капитанскими погонами. Но ничего такого, чем бы можно было… — Нож, топор? Их не нашли? — Прокурор хмурился.
Следователь отрицательно покачал головой, заметил:
— Нелогично предположить, что они выбросили их, оставив все остальное оружие. В автобусе они стреляли, там мы гильзы нашли на полу.
Катя поняла: речь идет о задержанных из черной «девятки». Во время личного обыска у них не найдено никаких орудий, которыми можно было бы… Она вытянула шею, осматриваясь, стараясь одновременно не упустить ничего из разговоров, но и не мозолить глаза красноглинскому прокурору — он мог запросто отправить хоть и ведомственную, но все-таки прессу восвояси, чтобы не «мешала расследованию». К Никите сейчас тоже лучше было не соваться.
— Ну так. Можно заносить в протокол, — судмедэксперт разогнулся, потирая поясницу. — Наживу радикулит, как пить дать… Значит, что здесь у нас? У потерпевшего единственная колотая рана — ножевая, по всей видимости, в области сердца. Смерть наступила мгновенно. Били очень точно, профессионально, зная, куда надо бить. Второго удара даже не потребовалось. Далее: незначительные ссадины и кровоподтеки на спине, плечах и пояснице образовались, видимо, вследствие последующего волочения тела. Примечательно, что перед операцией отчленения потерпевшего раздели до пояса. Скорей всего потому, что ворот куртки или рубашки мешал операции. Одежда на месте происшествия не обнаружена, так… Теперь шейный отдел… — Тут эксперт снова опустился на колени. — Все и здесь сработано опять-таки профессионально. Орудие, которым все это делали, специально приспособлено к такому роду операциям. Не могу категорически, утверждать, что это хирургический инструмент. Но это что-то с острым, тяжелым и достаточно широким лезвием.
— Не топор, значит? — Катя услышала хрипловатый голос Колосова.
— Не топор, Никита Михалыч, что-то иное. Поверьте, рубленую рану я как-нибудь да отличу. Далее идем: что еще можно сказать при первичном осмотре? Тело принадлежит лицу мужского пола. Возраст примерно 25 — 30 лет. Нормальное телосложение, средняя упитанность. На груди татуировка — обретите внимание какая. На правом предплечье шрам от прививки оспы в форме треугольника. Какие-либо иные шрамы либо следы хирургических вмешательств отсутствуют. Далее: ногти потерпевшего…
Катя слушала уже вполуха. Ее начинало тошнить от запаха крови. А потом все равно ей пока все это мало что говорило: взятое для исследования содержимое из-под ногтей потерпевшего, наслоение микрочастиц на его коже, одежде (остатках ее)…
Она заметила, что и Никита слушает эксперта тоже хоть и внимательно, однако… Он присел на корточки возле трупа, выбрав наиболее сухой, незамаранный кровью участок. Все его внимание сейчас было направлено на кроссовки на ногах убитого — фирменные, массивные, на очень толстой подошве, перепачканные желтой глиной. По левой подошве он даже легонько постучал. Катя подошла ближе.
— Славная обувка, а, Кать? Не находишь? — Катю всегда удивляла манера Колосова «общаться спиной», точно у него на затылке имелась запасная пара глаз.
— Кроссовки как кроссовки. Китайского производства скорей всего. У них клей слабый. Дешевка.
— Нет, клей тут не слабый. Хотя, сдается мне, для долгого ношения эти тапочки вроде и не приспособлены. — Колосов встал. — Надо бы сегодня все с этим парнем закончить, а? — Он вопросительно глянул на патологоанатома:
Тот в свою очередь покосился на прокурора и лишь обреченно и устало кивнул: эх, начальство, торопите все со вскрытием, а работы и так невпроворот…
— Мы, с вашего позволения, поприсутствуем, — сказал ему прокурор. — Во сколько думаете начинать вскрытие?
Катя близко наклонилась к Колосову. Хотя она немного попривыкла, однако зловоние, витавшее в овраге, до сих пор вызывало у нее в горле спазмы, и голос ее охрип:
— Никита, ты думаешь, это тот челнок с автобуса? — спросила она.
Колосов точно зачарованный не сводил взгляда с кроссовок убитого.
— У него на груди татуировка — пион. Потом кожный пигмент какой, обрати внимание. А потом… Хотя ничего пока и не говорит прямо, что это и есть тот пропавший так загадочно тип. Но ничего не говорит и об обратном… Словом, я эти кроссовки сначала хочу посмотреть. А в сумках анаша, говоришь, была?
Катя смотрела на него с недоумением. Ей показалось, что Никита, видимо, и вправду пережарился на солнце, ибо, как и в случае с байками о поедания собак на корейской свадьбе, несет уж какую-то явную околесицу. Но…
3
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…
За окном стремительно наступал вечер, не принося с собой, однако, особой прохлады. Катя все сидела одна-одинешенька в душном кабинете, уставясь на выключенную пишущую машинку.
В половине девятого вечера за ней на Никитский должен был заехать Вадим Кравченко, а далее их пути лежал в Шереметьево-2, где в половине первого ночи они должны были встретить Сергея Мещерского, наконец-то вернувшегося из… Это жуткое Сережки" путешествие в Индонезию едва не довело Катю до сердечного приступа. Турфирма «Столичный географический клуб», одним из многочисленных совладельцев которой и состоял Мещерский, как всегда, переживала тяжелые времена (а когда они были легкими для этих чокнутых «географов»?).
Организовав с грехом пополам две поездки на Тибет, фирма понесла катастрофические убытки: горе-путешественники растеряли большую часть горного снаряжения и угробили две из четырех взятых напрокат машин, за которые пришлось платить полную стоимость.
Увы, несмотря на все превратности судьбы, Мещерский и его компаньоны-"географы" продолжали практиковать нетрадиционный спортивный туризм, а на него находилось не так уж и много охотников. Дайвинг, сплав по горным рекам, ночевки в палатках у костра в джунглях, полных малярийных комаров и ядовитых многоножек, привлекали своей походной романтикой лишь немногих сильных духом. Но у таких (оголтелых, как выражался Кравченко) туристов-подвижников денег особых не водилось. И поэтому «Столичному географическому клубу» приходилось максимально снижать цены на туры, что, естественно, не способствовало росту его доходов.
Новое сумасбродство — велопробег через пустынные районы Туниса — тоже особого барыша не принес. Все в основном потратили на оплату «авиадоктора» — одному из путешествующих среди раскаленных солнцем барханов стало так худо, что его пришлось срочно эвакуировать самолетом в местный госпиталь, а это не входило в медицинскую страховку.
В этом году, тщетно пытаясь удержаться на плаву в острой конкурентной борьбе, «географы» несколько дрогнули. Мещерский и его компаньоны начали-таки работать с нормальными, посещаемыми обычными туристами курортами. В планах осени-зимы стояли традиционный Таиланд и Гавайи, но… Мещерского понесло еще дальше: остров Бали — тропический рай! Впрочем, и тут «географам», как всегда, не повезло: Как раз, когда Мещерский и двое сотрудников «клуба» отправились в Джакарту налаживать контакты с принимающей индонезийской стороной, там начались уличные беспорядки, быстро перешедшие в настоящие побоища и погромы. Полторы ужасные недели от Сережки не было никаких известий. Катя вся извелась. Вадим Кравченко — а Мещерский был его самым близким и давним другом — хотя внешне держался спокойно и старался вдолбить испуганной Кате, что «все будет хорошо», тоже сильно переживал.
Он развил бурную деятельность, пройдясь по всем своим прежним связям, сохранившимся с той поры, когда он еще работал на Лубянке (где, впрочем, давно уже сменились и вывеска, и состав сотрудников), откопал телефоны всех своих однокашников по Университету имени Лулумбы, который они с Мещерским заканчивали, поставил на уши всех, кого можно, всех работавших на дальневосточном направлении сотрудников фирм, посольств, торговых представителей, советников, дипломатов. Но однокашники лишь руками разводили: «Вадя, дорогой, пойми, и нам жалко Серегу, но где Джакарта и где мы? Как мы можем вытащить его оттуда?» Звонили в наше консульство в Джакарте (находившееся, как и все посольства, на осадном положении) и в представительство Аэрофлота, но нигде и никто о Мещерском и его сотоварищи ничего не знал.
Катя с ужасом слушала каждый вечер новости о происходящем в Индонезии и жарко молилась Богу, чтобы все гражданские битвы, войны на этих далеких тропических островах миновали дурака безмозглого Сережку Мещерского, чтобы он вернулся… Дважды они с Кравченко ездили в Шереметьево встречать самолет — сначала аэрофлотовский, затем МЧС, но сотрудников «географического клуба» на них не оказывалось.
И вот, когда и зареванной Кате, и пытавшемуся сохранить присутствие духа Вадиму уже начиналось казаться, что дело действительно — труба, Мещерский наконец объявился, притом целехонек! Позвонил по телефону, особо не распространялся, сообщил, что в Джакарте в аэропорту в эти дни творилось Бог знает что — европейцы спешно бежали, страшась погромов и убийств, билетов было, естественно, не достать, и тогда, по словам Мещерского, они с ребятами — «тут к нам еще одна группа наших присоединилась» — решили «морем уходить в Сингапур».
Это очень было похоже на Миклухо-Маклая, как звал Мещерского Вадим: морем! Да не куда-нибудь, а в Сингапур! Бананово-лимонный…
Катя не знала, что ей делать: плакать, злиться или смеяться. Она все представляла себе маленькую, хрупкую фигурку Сергея за штурвалом… На чем это они уходили — то бишь драпали? Это мог быть и катер, и яхта, и ржавая баржа, и китайская джонка, и даже утлый бамбуковый плот. Впервые она тогда подумала (со странной ноткой сожаления): «А хорошо, что я все-таки вышла замуж не за Сережку, а за драгоценного В. А.».
Малый рост Сергея Мещерского компенсировался пылавшей в его душе неукротимой жаждой, как говаривали хоббиты, «страшных опасностей и ужасных приключений», и эта жажда толкала Мещерского в такие уголки, о которых прежде простой советский человек слыхал только от Юрия Сенкевича. И мужем, конечно, такой бродяга был бы не очень… Каким? Катя не понимала лишь, одного — откуда тогда эта нотка сожаления в ее размышлениях? Ведь что сделаю — то сделано.
В Сингапуре Мещерский провел еще семь дней в ожидании аэрофлотовского рейса, и вот наконец-то в половине первого ночи…
Катя подошла к окну: Бог мой, какой сегодня длинный день! Как началось с утра с этими челноками, потом этот кровавый ужас в овраге… Дело, которое на первый взгляд было уже закончено громким задержанием дорожных бандитов, на самом-то деле только начиналось. И как начиналось! Кто убил этого несчастного, изуродовав его таким жутким способом Зачем трупу отчленили голову? Самый простой вывод вроде бы напрашивался сразу: чтобы затруднить его опознание. Тогда получается, что личность убитого каким-то образом выводит на его убийцу. Так, что ли И тогда получается, что…
Но отчего Никита так необычно себя вел? Примчался.., хотя что ж тут удивительного, ему по инструкции полагается как начальнику отдела по раскрытию убийств лично выезжать на подобные ЧП, но все же… И с прокурором они все о чем-то шептаний и вообще складывается такое впечатление, что.., что Никита либо ожидал чего-то в этом роде, либо… Быть может, у этой истории уже было начало, и совсем иное?
Но тут Катя оборвала себя: что толку гадать попусту? Завтра она постарается подлизаться к Никите и, возможно, кое-что разузнает. Возможно… Это смотря какое у начальника отдела убийств будет настроение. К тому же освещать это преступление в прессе ей пока строго-настрого запрещено. Оно и понятно — пока преступник-чудовище не найден, нечего распускать по области жуткие слухи о новом маньяке. А найдут ли его еще, нет ли — вилами на воде писано, так что…
Но если учесть, что по части сенсационных материалов сейчас полный ноль, а сводки полны лишь банальнейшей бытовухой и писать абсолютно не о чем, то на перспективу такое загадочное и страшное происшествие стоит взять на заметку и раскрутить и…
Тут Катя взглянула на часы: так и есть, уже опаздывает! Интересно, а закончилось ли вскрытие в красноглинском морге и что нового сказал об убитом патологоанатом? И главное: можно ли отождествить с пропавшего из автобуса корейца-наркокурьера с те" изуродованными останками? «Я видела тело собственными глазами, — думала она. — Но принадлежали эти останки именно корейцу? Колосов что-то говорил о татуировке-пионе, а я даже и не заметила никакой татуировки. Тряслась как лист осиновый от страха — где уж тут замечать? Ладно, будет новый день, возможно, что-то и с этим делом прояснится, а сегодня вечером…» Катя снова глянула на часы и засуетилась.
Конечно, она могла преспокойно уйти с работы вовремя и дожидаться поездки в аэропорт дома, но с некоторых пор, точнее, с начала чемпионата мира по футболу дома Кате находиться стало совершенно невозможно. Кравченко не отлипал от телевизора, когда не дежурил, охраняя драгоценную персону своего традиционного работодателя Василия Чугунова, в просторечии среди охраны, близких и друзей именуемого не иначе как Чучело. На кухне, в комнате грохотало, выло, свистело, дудело, било в барабаны и литавры, что-то скандировало футбольное племя: Когда же Кравченко заступая на суточное дежурство, все пропущенные матчи записывались на видео, а после прокручивались бессчетное количество раз, так что у Кати начинало мельтешить в голове от пятнистых мячей, футболок, бутс и победных или разочарованных (смотря по обстоятельствам) воплей Кравченко.
Нельзя сказать, чтобы Катя совсем не любила футбол. Любила! Свой первый чемпионат смотрела еще будучи школьницей — тогда чемпионами стали итальянцы, за которых она впоследствии болела всегда. Она даже втайне гордилась своими познаниями: невежа Кравченко с трудом вспоминал фамилии футболистов, забивших золотые голы, его интересовала лишь жесткая игра англичан да драки болельщиков, а она, Катя, знала прежних мировых звезд — Платини, Росси, Маттеуса, Бухвальда, Марадону, Руммениге даже по номерам. А в Дино Зоффа — божественного вратаря итальянского «Ювентуса» даже была влюблена по уши в выпускном классе. Но она любила футбол тихо и восторженно, более обращая внимание на симпатичных футболистов, выискивая себе очередной идеал наподобие Зоффа. А драгоценный В. А, просто пугал ее разгулом первобытных инстинктов, которые выплескивались из него во время трансляций из Парижа. Драгоценный В. А. вообще был грубиян, а еще лентяй, лодырь и… Но они были вместе уже столько лет, что порой он представлялся Кате чем-то вроде ее второго "я". Это была ее вторая ипостась — шумная и громоздкая, однако такая родная, что лишиться ее означало, наверное, перестать жить.
Кравченко ждал ее в машине у Зоологического музея, напротив здания ГУВД, сияющий, и довольный. Она объяснила его радость тем, что его закадычный друг возвращался из дальних странствий. Но нет — причина отличного настроения Кравченко была совсем иной: в матче Англия — Тунис выиграли англичане. По дороге он долго мучил ее подробностями игры и потасовок на трибунах. У Кати от его повествований уже трещала голова.
Шереметьево даже ночью напоминало растревоженный муравейник. Внизу, в зале прилета рейс «Су-318» из Сингапура встречала такая толпа — что не протиснуться: родственники беженцев из Джакарты, носильщики-калымщики, шоферюги-извозчики, на ножах конкурирующие с таксистами. Мещерского первым увидел Кравченко.
— Извините, пардон, простите, экскъюз ми, скузи бэлла грацца… Не толкайтесь, а то ногу отдавлю, женщина, да не кричите вы, так он же вернулся! А ты вообще не возникай. — Кравченко, крепко держа Катю за локоть, точно ледокол, грудью прорезал толпу. — Серега, мы тут! Двигай по зеленому коридору! Ребята, таможня родная наша, этого пропустите вне очереди, это беженец, изгой режима, дорогу, дайте дорогу беженцу!
Мещерский, немного обалдевший от долгого перелета, пережитых злоключений, шума и суеты аэропорта, похудевший и осунувшийся от невзгод во время «бегства в Сингапур», но сияющий и смущенный (Катя успела его чмокнуть в щеки, лоб, нос, наверное, уже раз тридцать, тихо визжа при этом от радости), степенно протянул приятелю руку.
— Ну, здравствуй… Катюш, да я… Кравченко сгреб в охапку его хрупкую фигурку, приподнял.
Уже на полпути к машине Катя вспомнила про багаж.
— Эх, Батенька, какой там багаж… Чемодан в отеле еще в Джакарте бросил. Взял что в карманах можно унести — документы, деньги. — Мещерский махнул рукой.
По дороге домой (Кравченко настоял, чтобы приятель переночевал у них на Фрунзенской набережной) Катя с замиранием сердца слушала сагу Мещерского о пережитом: о погромах и пожарах в Джакарте, об убийствах китайских торговцев, разорванных разъяренной толпой, о нападениях на европейских туристов. Все это происходило так далеко, в чужой стране, и странно даже было, что многие из этих ужасов Сережка видел собственными глазами.
— Что там с китайцами творили — прямо средневековье, — рассказывал Мещерский. — Подожгли китайские кварталы — весь центр Джакарты. Многие заживо сгорели. А тем, кто спасался… Мы, когда из города на побережье пытались выехать, видели… Ну, словом, трупы обезглавленные…
— Обезглавленные? — Катя вздрогнула.
— Ну да. Ужас, конечно. Там у них и религиозный антагонизм, и… — Мещерский поморщился. — Во Вторую мировую в Шанхае японцы устраивали соревнования, кто из офицеров больше обезглавит пленных китайских солдат самурайским мечом. Причем с одного удара… Катя, ты что на меня так смотришь?
— Н-ничего, — она отвернулась, — правда ничего. Так. Я жутко рада, что ты вернулся. Больше мы тебя никуда не пустим.
Мещерский только вздохнул. А Кравченко подмигнул ему в водительское зеркальце и начал рассказывать… О Боже, снова про свой футбол!
4
КРОССОВКИ С СЮРПРИЗОМ
Слишком много крови в человеке — мысль эта посетила в тот вечер Никиту Колосова, когда он стоял у анатомического стола в обветшалом морге клинической больницы города Красноглинска. В этом здании стародавние дореволюционные времена помещалась богадельня, которую содержал и патронировал монастырь святого Феодора Стратилата — некогда городская достопримечательность, богатый и красивый, затем разоренный, загаженный, спаленный революцией и гражданской войной, но снова через столько лет восстанавливаемый из праха и пепла горсткой монахов-подвижников, от бедности, тяжких трудов вечного поста более похожих (как казалось Колосову) не на воинов Христовых, каким был их патрон Феодор, а на бледные тени.
Это мертвое препарируемое тело тоже стало слов но бы бесплотным: потеряло всю кровь, впитавшуюся в мох, траву и глину оврага у деревни Кощеевка. Однако труппу крови потерпевшего определили довольно быстро. Патологоанатом провел и гистологическое исследование содержимого желудка — последний раз потерпевший Принимал пищу более суток назад. Это уже вполне вписывалось в версию о том, что убитый — возможно, пассажир того самого автобуса. Ведь челноки обычно в дороге питаются весьма скудно и нерегулярно.
Патологоанатом внимательно осматривал и весьма изощренную татуировку на груди убитого. Отметил, что давность «изделия» — года три-четыре. Работа очень качественная — делал мастер своего дела. "Словно на дорогой китайской вазе картинка, — отметил патологоанатом и, явно желая щегольнуть своими Познаниями, добавил:
— Среди китайских эротических символов пион означает женское естество. Точнее, саму его суть, матку".
Колосов усмехнулся про себя поди ты, какой энциклопедист. И это над мертвым-то телом… Его же самого во время патологоанатомического исследования точно магнит притягивали аккуратно сложенные экспертом на боковом столике вещи потерпевшего: кожаный ремень, разрезанные ножницами брюки и кроссовки.
Именно от кроссовок начальник отдела убийств все никак не мог отвести глаз. Эксперт тем временем в который уж раз осмотрел рану на груди убитого. Его первоначальный вывод о причине смерти полностью подтвердился: пробита грудина, сердечная сумка, сердце. Смерть наступила мгновенно. Это повреждение, в отличие от повреждения шеи, причинено ударом колюще-режущего предмета — ножа с клинком длиной свыше пятнадцати сантиметров, направленным сверху вниз с большой силой.
— А потерпевший сидел или стоял в момент удара? — спросил Колосов как бы между прочим.
— Стоял. В сидячем положении направление раневого канала было бы… Хотя я сказал — сверху вниз… Но видите ли, потерпевший невысокого роста — 165 сантиметров всего. Убийца мог быть значительно выше и… — Эксперт, как дипломат, никогда не скажет прямо того, в чем не уверен: как хочешь, так и понимай.
— Можно предположить, что убитый по национальности — кореец? — спросил прокурор.
— Данные внешнего строения тела дают основание это предполагать, но… Основное доказательство, как видите, отсутствует. — Эксперт указал глазами на обрубок шеи трупа. — По виду — типичный монголоид. Но может быть и казахом, и киргизом…
— Киргизы, слава Богу, у нас в районе не пропадали, — откликнулся следователь Андреев. Хотя расследованием убийства уже занималась Красноглинская прокуратура, он после допросов челноков тоже приехал на вскрытие. Дело о разбойном нападении на автобус было в его производстве. И если все же окажется, что убитый — пассажир автобуса, то…
— На шмотки его не хочешь взглянуть? — тихо шепнул Андрееву Колосов.
— Прямо тут, что ли? Я их в отдел заберу и там уж…
— Кроссовочки любопытные, а? — Колосов, словно не слыша возражений, в который уж раз повторил с восхищением:
— Редкая обувка. Давай-ка тут все и осмотрим, Леша, не отходя от кассы. Я сейчас нянечек в понятые приглашу. Ты только, Бога ради, без меня эти лапоточки не трожь.
Через минуту под скорбными, осуждающими взглядами понятых-нянечек Колосов и Андреев приступили к осмотру вещей потерпевшего.
Несмотря на то что влекли его к себе в основном кроссовки, начальник отдела убийств оставил их напоследок, начав осмотр не с них. На брюках, разрезанных ножницами эксперта, имелось множество кровяных пятен. Брюки и ремень запаковали в целлофан. Это были исходные образцы для криминалистического исследования микрочастиц. Авось что и перепадет любопытное о том, с кем у обезглавленного был так г называемый «конечный контакт».
Кроссовки, пыльные, черно-белые, массивные, на скрипучих липучках, Колосов сначала просто бездумно как-то повертел в руках, простукал рифленую подошву с цифрой 42. А затем вдруг извлек из заднего кармана брюк складной нож. Следователь Андреев иронически поднял брови, покосившись на эту полуразрешенную к ношению в качестве холодного оружия финку и на эффектную кобуру телячьей кожи, которая адски мешала начальнику отдела убийств в этот знойный день, — сыщики ж! Они без этого самого не могут. Оружие, кобура, автоматическое зарядное устройство, мобильный телефон на поясе — все эти хитрые штучки половина имиджа. Это трудяга-следователь — бумажная крыса, юридический клерк, у него таких игрушек не водится. У него лишь дело под мышкой да старая шариковая ручка. А у УГРО по части всех этих профессиональных прибамбасов… Но Андреев не успел додумать свою ехидную мысль..
— Никита, ты что делаешь? Это же вещдок!
— Спокойствие.., только спокойствие. Понятые, красавицы мои, хорошо ли вам видно? — Колосов, поддев ножом сопревшую от ножного пота стельку в правой кроссовке, с треском рванул ее вверх и…
— Какие такие сокровища хранятся в наших калошах? Вот какие. — Он извлек плоский, туго набитый пластиковый пакетик, полный белого порошка. — И без экспертизы скажу, Леша, что это вряд ли поваренная соль.
— Черт, героин! Граммов двести, а то и все триста. — Андреев присвистнул. — Тайник.
Второй точно такой же увесистый пакетик был извлечен и из левой кроссовки.
— Наркокурьер. Выходит, тот самый. И сумка с анашой, значит, его. — Андреев уже брезгливо смотрел на обезглавленный труп. — Саранча поганая. Потому-то он и рванул с автобуса во время той заварушки… Ему, такому упакованному, встреча с милицией ни к чему. Да против этого богатства в подметках сумки с анашой-то ему — тьфу, мелочевка… А может, было все по-другому: эти наши отморозки с «девятки» знали, что в автобусе упакованный под завязку курьер. Ну, и уволокли его с собой как трофей, а потом уж…
— Секир башка, а героин бросили? — Колосов снова хмыкнул. — Не мы одни с тобой, Леша, умные. Если бы специально встречали курьера, знали бы и где главный товар искать. Кроссовки.., да ты только посмотри на них. Тебе ничего не бросается в глаза? Это ж видно — нестандарт, платформа как у первокурсницы.
— Но у него могли быть пакеты и в куртке. Его же раздели до пояса… — Андреев не спорил — просто размышлял. — Они могли взять их и удовольствоваться….
— Но все ваши прежние не были наркокурьерами, — тихо сказал Колосов. — И тебе это отлично известно: из следственного управления тебе разве не звонили, не информировали еще?
— Но это может быть и простое совпадение.
— Это? — Колосов смотрел на кровавый обрубок шеи трупа. — Игра в гильотину? Это, Леша, только жаб в сказках в голове — бесценный брильянт, а наших безголовиков…
Андреев выпятил подбородок: жест одновременно означал у него и «да», и «нет», и «ну ты даешь», «сомневаюсь», однако дискутировать прекратил.
Из морга прямиком направились в Красноглинский отдел милиции, где в следственном изоляторе все еще ожидали первого допроса задержанные «девяточники». Перед его началом Колосов провел с начальником местного розыска Григорием Жаровым (его сотрудники с самого утра прощупывали задержанных в приватных беседах, именуемых «опросами подозреваемых») короткое, однако весьма полезное совещание, чтобы уяснить себе, кто есть кто в пойманной банде.
— Трое из них — наши местные. Уже проверили все из Железнодорожного поселка, что у аэропорта, — рассказывал Жаров. — Машина принадлежит Васильченко Геннадию. Судя по всему, именно он у них и за шофера. Остальные: Говоров Иван, Говоря Константин — братья-разбойники. Один охранник магазина «Автозапчасти» в Быкове, второй, младшим безработный уклонист.
— От армии бегает? Давно? — спросил Колосов.
— Третий год. С Чечни.
— А проживал все время по месту прописки? В Железнодорожном?
Начальник Красноглинского розыска хмуро кивнул.
— К нам военкомат по поводу него не обращался У меня, Никита Михалыч, и без этих бегунков забот выше…
Колосов махнул рукой — полная тишина, ша, как говаривал Шукшин. Не мне тебе, дорогой товарищ Жаров, читать моралитэ. Вышестоящие товарищи на это найдутся. Прочтут — будь спокоен.
— А четвертый кто?
— Четвертого ихнего ты, Никита Михалыч, должен знать и помнить. Это Круглый Павлик.
— Круглый? Свайкин? Да неужели? — Колосов подался вперед. — Точно?
— Его физиономию мы еще не позабыли. Надо же.., мало ему прошлого, подонку такому! Торжествовал тогда над нами, сукин кот.
Этого самого Круглого Павлика знали в Красноглинском отделе милиции: с ним было связано одно из самых больных поражений местных стражей порядка в борьбе с провинциальным криминалитетом. Круглый — трижды судимый за хулиганство и грабеж Павел Владиленович Свайкин одна тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения, два года назад таким же вот жарким июнем убил человека — Джафирова Вартана, державшего на привокзальном рынке Красноглинска палатку турецкой кожгалантереи.
Об этом убийстве, хоть и произошло оно средь бела дня на глазах всего рынка — Варган получил три удара ножом в живот, — никто из свидетелей-торговцев говорить не хотел. Однако, согласно обильной негласной информации, полученной Жаровым и его сотрудниками, Варган и Круглый поспорили из-за места под солнцем. Информация причисляла последнего к сборщикам дани для…
Увы, все негласные слухи так и остались слухами. Переложить их на протокол в качестве правдивых и четких свидетельских показаний тогда так и не удалось. Как Круглый Павлик резал Вартана, видел весь рынок, но, когда приехала милиция, все в один голос твердили: ничего не видели, ничего не знаем. В довершение всего, с места происшествия каким-то загадочным образом пропало и главное доказательство — нож. В результате кое-как слепленное на косвенных «доках» дело против Свайкина начало трещать по всем швам уже на стадии предварительного расследования. И в конце концов обескураженный суд присяжных (а в Красноглинске, как и в ряде районов области, проводился подобный эксперимент) оправдал Круглого Павлика за «недостаточностью доказательств его вины».
Прокуратура, красноглинские сыщики и сам Колосов остро переживали это постыдное фиаско, ибо на каждом оперативном совещании им припоминали этот злосчастный факт как вопиющий пример из рук вон плохой работы по раскрытию, расследованию, а главное, по сбору доказательств вины подозреваемого, взятого под стражу.
Из здания суда Круглый Павлик (кличку свою он получил за круглую, как бильярдный шар, обритую под ноль голову, увенчанную, словно локаторами, парой крупных, розовых, дурно мытых ушей) вышел с высоко поднятой головой и на какое-то время исчез из поля зрения милиции. Но вот, как оказалось, год свободы не был потрачен им впустую: Круглый успел : сколотить мобильную банду и как мог улучшал на подмосковных дорогах свое материальное положение.
— Мы их по всем аналогичным эпизодам в области начинаем проверять, — хмуро продолжал Жаров. — Не только у нас были такие факты нападений на водителей-транзитников, но и на Симферопольском, на Каширском шоссе. Будем их теперь по всем датам гонять. А ты с кем из них, Никита Михалыч, толковать будешь по своему профилю? — Он выделил последнее слово особо: Колосову известно, что нужно от этих отморозков. Круглый же, если учитывать его прошлое и новоприобретенную от безнаказанности наглость, вполне способен и на «профиль», интересующий сейчас начальника отдела убийств. — Учти: Васильченко — сопляк, с семьдесят седьмого года он, недоросток еще. А Ваня Говоров — на игле давно и крепко. Зрачки — с булавочную головку.
— С Ваней пусть Андреев потолкует, а я.., я бы с Павликом сейчас прокатился. — Колосов недобро прищурился. — Под Косовского он челку все еще носит, нет?
— Лысины стыдится. — Жаров потер начинающую редеть макушку. — Это я вот все хочу тоже, да… Будут в городе языками трепать, что начальник розыска под бандюгу стилизуется.
— Не будут трепать, — Никита усмехнулся. — Человека по делам ценят. Побольше добрых дел, Григорий Петрович, и никаких сплетен, все зачтется. Ладно, пусть Свайкина мне покажут во всей его красе, я вниз пошел, в изолятор.
Жаров неодобрительно смотрел вслед начальству из главка: легко ему, Никите, — приехал, уехал, орел ты наш управленческий. А тут сидишь, славно приклеенный к земле, и еще это чертово убийство в Кощеевке… Как говорится: Бог дал, Бог взял. Дал успешное раскрытие серии разбойных нападений на дорогах, дал поимку вооруженной банды, а взял…
Жаров подошел, к окну. Главное — не дергаться, не гнать сейчас волну. Даже если это маньяк — никто пока не должен о нем знать из посторонних. Только диких слухов в районе не хватало. Впрочем, подумал он тоскливо, соседи в Чудинове как ни скрывали тех вьетнамцев безголовых, а тухлый слушок там уже пополз об этом происшествии… Господи, что же это такое? Неужели это наш Круглый Павлик такое вытворяет? Нет, это было бы слишком уж просто. А в оперативной работе просто либо не бывает, либо…
Жаров снова потер макушку. Действительно, с поимкой Круглого и его компании ничего еще не кончилось. Все лишь только начинается…
5
«Я НЕ УБИВАЛ!»
Беседовать с гражданином Свайкиным по своему профилю Колосову не то чтобы не терпелось, а… Ему просто хотелось взглянуть на Круглого Павлика, снова увидеть эти наглые гляделки, которые год назад посла оглашения приговора в суде светились таким торжеством и злорадством. Не то чтобы начальником отдела убийств сейчас двигало низменное чувство мести и не меньшего злорадства, но,.. Лицезреть Круглого Павлика на тюремных нарах было чертовски приятно! Хоть одно положительное впечатление за эти сумасшедшие сутки.
А насчет трупа в кощеевском овраге… В глубине души Колосов сильно сомневался в том, что обезглавливание — новое хобби гражданина Свайкина со товарищи. И для таких сомнений имелись весьма веские основания. Однако кой-какие важные подробности происшедшего в «Икарусе» Свайкин и его подельники все же могли сообщить. Если бы, конечно, захотели. Но Колосов был готов спорить на что угодно, чтя Круглый Павлик, снова угнездившийся на параше, ни видеться, ни тем более откровенничать со своими взявшими наконец верх недоброжелателями в форме категорически не желает.
И все-таки…
В ИВС (изоляторе временного содержания) Красноглинского ОВД, если можно так выразиться, царило торжественно-приподнятое настроение. Колосов отметил, что лица дежурных охранников были исполнены важности. Поимка вооруженной банды вызвала нешуточный ажиотаж даже за этими толстыми бетонными стенами. Все суетились: по коридору то и дело конвой проводил аборигенов — задержанных ранее нарушителей правопорядка, перемещая их в другие камеры, уплотняя. Для Круглого и его свиты освобождались места. Всю четверку надо было рассредоточить по отдельным камерам, дабы они ни под каким видом не могли общаться друг с другом.
Мимо Колосова провели дремучую личность, более похожую на отпрыска снежного человека, чем на подследственного или подозреваемого. Существо несло под мышкой скатанный матрац весь в желтых пятнах с подозрительным запахом. Как пояснил Колосову начальник дежурной смены, это была главная достопримечательность изолятора — Юра Юродивый. Бомж, самолично избравший себе тюрьму в качестве жилища. Его постоянно задерживали за хулиганские действия, грубо нарушающие общественный порядок и отличающиеся особым цинизмом, как-то: отправление естественных надобностей в публичных местах — на площади перед зданием городской администрации, у подъезда местной прокуратуры и «в знак сидячего протеста» у дверей городского суда и управления жилищно-коммунального хозяйства. По его собственным признаниям, Юра совершал все эти циничные поступки «западло», дабы его снова и снова забирали в милицию, предоставляя «на халяву», кров и стол. Однако, уже будучи «на тюрьме», Юра Юродивый наотрез отказывался мыться, стричься и в результате благоухал так, что рядом с ним в камере редко кто выдерживал больше суток.
— Круглого, голубя, сейчас с этим и поместим, — плотоядно усмехнулся начальник дежурной смены. — Пусть они, сизокрылые, друг на дружку любуются.
Этот мелкий садизм был, видимо, лишь началом тех неудобств житейского плана, кои ожидали Круглого Павлика в стане его заклятых врагов. И Колосов решил поспешать с беседой, пока Круглый, узрев своего вонючего сокамерника, не озлобился и не замкнулся.
Когда конвой ввел Свайкина в следственный кабинет изолятора, Павлик с тоской оглядел выкрашенные серой масляной краской стены и крохотное зарешеченное оконце, а потом сел на привинченный табурет и обхватил бритую голову руками, Колосов минуты две молча созерцал его розовую макушку, а потом заметил как бы между делом:
— Ну, это еще не самое плохое место, Паша. Отнюдь. Будут у тебя места и похуже. Как пить дать.
Свайкин не шевелился, напрочь игнорируя собеседника, которого, кстати, распрекрасно узнал. Как же, тот самый мент, который тогда, два года назад, когда все так плохо начиналось и так благополучно кончилось в суде, на нескольких вот таких же беседах ядовито отравлял ему, Свайкину, уже начинавшую помаленьку налаживаться жизнь.
И тогда, и это Круглый Павлик тоже распрекрасно помнил, мент своего добился… Словом, с глазу на глаз с ним в кабинете Свайкин сознался в убийстве палаточника. Его тогда, правда, несколько успокаивала мысль, что постыдная уступка этому легавому — всего лишь слова, слова, слова. Как говорят бывалые люди — пустая мурзилка.
— «Вышку» и на этот раз по нашей гуманности ты, конечно, навряд ли получишь, Паша, врать и пугать тебя не стану, но… — продолжил Колосов задушевным тоном. — Но насчет пожизненного… Или, на худой конец, четвертачок…
Свайкин дернулся, словно его ужалили, и впился в мента яростным взглядом: Колосов грустно усмехался, словно жалея его, пропащего, а сам думал — вот сейчас Павлик лихорадочно кумекает, о каких же еще налетах (помимо красноглинского разбоя) может быть известно оперативникам. За ними много, много всего — по гляделкам его бегающим это ясно, но вот насчет убийств…
— Прошлый раз все тебе гладко сошло с рук, Па ша. Легким испугом отделался. И обнаглел. Ой как обнаглел, парень — Колосов скорбно пригорюнился. — Но ты думаешь, то твое прежнее забылось? Пусть не доказали тебе, но разве такое мы забываем, Паша? И теперь вот, ежели приплюсовать в совокупности — ну понимаешь, не маленький: один пишем, три в уме — все это твое прошлое и нынешнее, то получается… «Вышка» бы получилась, дорогуша. Но так как сейчас у нас на дворе гуманность, то…
— Ты што от меня хочешь? — хрипло спросил Свайкин. — Ты.., ты зачем меня вызвал, а? Чего тебе опять от меня надо?!
— Чего тебе надобно, золотая рыбка… А ты догадайся. Видишь, мы и беседу-то с тобой начали, как добрые старые корешки, словно и расстались-то всего полчаса назад… Ты догадайся, Паша, зачем я тебя вызвал. Должность мою ты, наверное, не забыл?
— Помню я вас.., и должность вашу.., твою помню. — Круглый Павлик скорчил презрительную, недоуменную гримасу. — Клевету поносную на меня возводили, дело фабриковали.
— Правду тебе говорил. А ты, помнится, после легких капризов тоже правду мне начал говорить, в отличие от того, что на суде потом лепетал. Но это дело прошлое. Не Вартан, царствие ему небесное, меня сейчас интересует, не пальба ваша в «Икарусе» и все прочие ваши похождения на Каширском и Симферопольском шоссе… — По тому, как дрогнули веки Свайкина, Колосов смекнул, что уж хоть с одним-то разбойным эпизодом он сейчас явно попал в яблочко: и правда, гонять надо транспортникам этих ханыг по всем фактам нераскрытых грабежей на подмосковных дорогах. — Про дорожные ваши безобразия, Паша, с тобой другие толковать будут и не раз. А со мной ты сейчас потолкуешь о том, за что тебе и твоим дружкам, к моему великому сожалению, «вышку» не дадут, заменив ее пожизненным…
— Да я никого не убивал, матерью клянусь! — Это было выпалено без запятых и пауз на одном дыхании. — Что я, слепой, куда бью, не вижу, что ли? Водила за руку схватился, я ж видел, визжал только, как заяц перепуганный. Я что, не знал, что ли, куда стрельнул? Да я и не хотел, они сами начали… — Круглый осекся, поздно осознав, что с головой полез в ловушку. Черт, ведь он был там в автобусе в маске, ни одна собака б его не узнала среди подельников! Никто б не доказал, что именно в его руке и был пистолет «ТТ» — единственная настоящая пушка, из которой и ранили навылет водителя автобуса. А сейчас он сам по своей же глупости признался, что…
— Шофера ты только ранил, Паша, — перебил его Колосов. — А вот пассажира вы убили. Зверски.
Круглый вытаращился. Однако усилием волк подавил душившие его гнев, досаду и страх и прошипел:
— Какого это еще пассажира, начальник?
— А корейца-то. — Колосов печально наклонил голову, словно это уже было доказанным фактом и никакие возражения Свайкина помочь делу уже не могли.
— Какого корейца? Какого еще корейца?! — взорвался Круглый Павлик. — Прошлый раз айзергуда мне шили.., вашу мать.., и сейчас…
— Заглохни, — жестко оборвал его Колосов. —Недалеко от того места, где вы остановили и ограбили автобус, найден труп пассажира. Зверски изуродованный, раздетый, обобранный (Колосов, вспомнив главном капитале наркокурьера, произнес последнее прилагательное с особым ударением). И улик мы там изъяли достаточно, чтобы тебе и твоим недоноскам предъявить обвинение в убийстве. — Какие улики? Какое обвинение? Какой еще кореец?! — Свайкин затравленно оглянулся на дверь. — Что ты мне снова лепишь? Ты.., да я с тобой… Прокурора давай сюда мне, следователя! А с тобой… Да не буду я с тобой говорить, понял — нет?!
— Не ори, Паша. Прокурор с тобой будет разговаривать, но только после того, как ему на стол ляжет твое чистосердечное признание.
— Что ты надо мной издеваешься? — Свайкин понял, что ором и истерикой с этим «убойщиком» не возьмешь, и решил применить иную тактику:
— Я же поклялся: мы и пальцем никого не тронули! Ни разу, ну! За правило взяли: без мокрухи. Да и зачем, Господи? Они ж как овцы — и так все суют, только ствол покажи… И парни мои — Ванька вообще крови не переносит, куренка в деревне у матери зарезать не может… Ты скажи толком, что вы на нас сейчас вешаете такое?
— Сначала, Паша, ты мне толком, хоть и приватно, без протокола, скажешь, как было сегодня утром дело. Не маленький, должен понять — при таком задержании, с таким поличным, — при этих хвастливых словах Колосова Свайкин со скрежетом зубовным вспомнил, как менты изымали у них на дороге оружие и награбленное, — сел ты на этот раз крепко. И проверить мне твои враки — пара пустяков. Говоров-то старший ваш — наркоголик конченый. Шприц только покажи — сдаст всех вас и еще слезы будет лить, что сдавать больше некого.
— А что ж ты сейчас его о мокрухе не спрашиваешь? — находчиво ввернул Свайкин. — Чего ж опять меня мучаешь?
— А его следователь себе забрал, — равнодушно сообщил Колосов. — Там уже протокол пишут. У следователя производственный процесс ни минуты не буксует, это мы с тобой все тары да бары разводим, а там уж признательные показания строчат во все лопатки. И к тому же.., тот пистолетик-то у тебя был, Павлик.
Свайкин мрачно хмыкнул. Но еще более получаса потребовалось, чтобы он нехотя, но все же начал откровенничать об утреннем эпизоде.
В принципе, его показания мало расходились с показаниями потерпевших челноков, но так как Колосов их не слышал, то внимал Свайкину, не перебивая. И, лишь когда тот дошел до момента, когда водитель автобуса закрыл двери, заперев налетчиков в салоне, начал задавать вопросы:
— А где именно находился каждый из вас, когда двери закрылись? Ты вот где был?
— Впереди. Ну, когда этот задрыга сам напросился… Я ж пугнуть его только хотел, не убивать же!
— Твое счастье, что не в голову шоферу пуля попала, Паша. А где братья Говоровы были?
— Эти сзади. Там баба еще орать начала, точно ее режут. Потом.., потом он дверь открыл, мы и выскочили,
— А кто женщину ударил в подбородок? — Только не я. Я не видел кто. Вообще не видел, что ее ударили. — Ты через какую дверь выходил?
— Как через какую? Переднюю — я ж там стоял!
— А Говоровы?
— Следом за мной.
— И что было дальше?
— Ничего. Сели в тачку и дернули.
— Только вы? И Васильченко за рулем четвертый? А кореец?
— Сиять двадцать пять, начальник! Какой кореец? — Бритая макушка Круглого Павлика начала наливаться кровлю. — Ну какой, на хрен, еще кореец?!
— Тот, что сидел один на последнем сиденье.
— Да я его и не видел вовсе! Я за шофером смотрел, потом эта буза в салоне поднялась, ну стрельнул так вынудили ж! Зачем бы мне сдался этот, как его…
— Зачем? Ладно. Когда драпали от автобуса, видели что-нибудь? Ведь было рано совсем — машины все наперечет на дороге. Может, кто чинился у обочины, кто голосовал?
— Я на тачки не смотрел. И какие-то вопросы странные мне все задаете.., не пойму я, о чем.
— А почему вы именно тем путем драпали?
— Где вы нас тормознули, что ли? Да это Генка, зараза такая, я ж говорил: сворачивать нужно было в лес, а он — через город проскочим, все ништяк, вот и проскочили!
— А что, разве в этом лесу дорога есть? — осторожно спросил Колосов.
— Есть. Только ведет к черту на кулички. Там карьер был когда-то за лесом. — Круглый вздохнул. — Потом забросили его. Ну дорога была. Теперь бугры одни да ямы, но проехать, если знаешь, можно. Только это все равно что круг на ровном месте сделать: упрешься снова в шоссе как раз позади Кощеевки. Там еще овраг. Мост там ремонтировали весной.
Колосов смотрел на Свайкина. Круглый Павлик — точно автомобильный атлас, открытый на нужной странице.
— Значит, ты предлагал ехать лесом до Кощеевских карьеров и там уже позади блокпоста ГАИ сворачивать на шоссе, а водитель твой выбрал иной путь. Правильно я понял?
— Правильно. Если б там ехали — не сидел бы я сейчас перед тобой. — Круглый мрачно сверкнул глазами. — Клевету разную не слушал бы.
— А ведь именно в этом овраге, в лесу у Кощеевки, пассажира-то того и кончили, Паша, — тихо сказал Колосов, — вот ведь какие пироги-то… Ну ладно. Все пока у нас с тобой. Следователь тебя ждет… А наши беседы с тобой еще не кончены. Учти.
— Я не убивал никого, начальник. И учитывать мне нечего, — твердо повторил Свайкин, но взгляд его что-то Колосову не понравился. Было в нем какое-то странное напряжение, словно Свайкину сейчас невольно вспомнилось нечто такое, что он жаждал вычеркнуть из своей памяти навсегда.
6
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Для Кати черная полоса скуки и безделья вроде бы миновала. Задержание банды Свайкина подбросило неплохой материал для будущих публикаций, и весь следующий день (а это был ее любимый день недели — пятница) она трудилась не покладая рук. О Круглом Павлике, его прежних судимостях и оправдательном приговоре за недоказанное убийство она постаралась узнать как можно подробнее. В отделе розыска, занимающемся преступлениями на автотранспорте, ее, однако, снова предупредили: вся предоставленная информация пока строго конфиденциальна. Пока обстоятельства нападения на «Икарус», пропажи и последующей гибели пассажира не прояснятся — в прессу не давать ни строчки. «Да ладно, — благодушно подумала Катя, — месяцем раньше, месяцем позже. Наберу пока фактического материала».
Про обезглавленный труп в овраге она вспоминала с содроганием. Примечательно было то, что об этой страшной находке в сводке даже не упоминалось. Это Катю насторожило: отчего это? К чему такие тайны? Я Она чувствовала: что-то происходит. И Кощеевка — не начало, а лишь продолжение каких-то событий, о которых она не имеет ни малейшего представления.
В который уж раз она скрупулезно проштудировала толстый том сводок, начиная с марта. Когда обычно на свет божий и появляются «подснежники» — неопознанные трупы различных сроков давности". Трупы были, однако никаких указаний на то, что какой-то из них найден обезглавленным, Кате так и не удалось разыскать. Но это тоже еще ничего не означало. В сводке эту важную подробность могли и намеренно опустить, потому что…
Катя с досадой отодвинула подшивку. Потому что — потому, что кончается на "у". Как все-таки розыск любит тайну! Понятно, конечно, что преждевременная огласка их работе мешает, но… Какая все-таки это мука вот так по крупицам выуживать необходимую тебе для работы информацию! Видно, снова ничего не остается, как подлизаться к начальнику отдела убийств: самый ты у нас умный, Никита, самый храбрый, самый сильный… Она вспомнила, что в прошлый раз, когда ей позарез нужны были подробности двойного убийства в Кашире, доподлизывалась до того, что… Колосов, кажется, и вправду чуть-чуть не поверил, что он для нее — самый-самый. Хорошо еще, что Никита, несмотря на всю свою грозную стать, катастрофически застенчив с женщинами (или только с ней одной — кто бы подсказал, а?), а то бы…
Катя тут невольно вспомнила драгоценного В. А.: сколько они с Вадькой вместе, сколько друг дружку знают, а Кравченко ни разу не пожелал пообщаться с Никитой лично. Только через Мещерского (тот, правда, тоже давненько Никиту не видел — все дела у них, все заботы неведомо какие). Странные все же существа мужчины. Иногда, кажется, как на ладони они перед тобой — все-то у них на лице написано, чего хотят, чего не хотят. Но вот коснись дело чего-то важного, и оказывается, что ничегошеньки об их сокровенных секретах тебе и не известно. Обвели они тебя, как наивную девчонку, вокруг пальца. Вот и Колосов такой же, когда дело работы касается, а не каких-то там его сердечных склонностей…
Вот, например, если предположить, что этот труп в овраге — лишь эпизод чего-то страшного и странного, что происходит в области, то… Да как же так? Он, Никита, знает, а ей, Екатерине, до сих пор ОБ ЭТОМ ничего не известно? Неужели прошляпила такую сенсацию?
Подогретая этими мыслями, Катя тут же начала лихорадочно названивать Колосову. Но никто не брал трубку. Спустилась в розыск. Дежурный сообщил, что начальник отдела убийств с утра в Красноглинске работает по вчерашнему задержанию. И это опять-таки было необычно: ведь дорожный бандитизм не профиль Колосова, выходит, он… Выходит, он все-таки подозревает в убийстве наркокурьера именно тех задержанных бандитов. Кого же именно? Неужели Свайкина? Хуже нет, когда тебя так и переполняет энергия, любознательность и жажда действий, а роковое стечение обстоятельств лишает возможности реализовать весь этот рабочий настрой с пользой для дела. Катя чуть не лопалась с досады: пятница — ну разве вернется сегодня Колосов из района, из этого дальнего Красноглинска в главк? Да нет, конечно. Зачем? А у нее, выходит, снова потерянный день. Прямо впору заняться какой-нибудь очередной профилактической операцией по борьбе со злоупотреблениями на потребительском рынке. Описать как-нибудь позаковыристее, поважнее всю эту скукоту: сколько бутылок фальшивых винно-водочных изделий изъято, сколько административных штрафов наложено…И она действительно скрепя сердце занялась итогами операции «Орнадо» и проработала над кипой справок, сводок и рапортов почти весь день.
Под конец рабочего дня она все же для порядка снова решила наведаться к Колосову. А вдруг? Подергала запертую дверь кабинета — никогошеньки. Чего и следовало ожидать — пятница. Придется все отложить до понедельника. И.., столкнулась с начальником отдела убийств у дежурной части чуть ли не нос к носу.
— Ой, Никита, ты приехал! — Колосов, хмурый и усталый, с удивлением увидел, что Катино лицо так и просияло радостью и светлой надеждой. — А я думала, ты уже не вернешься.
Она твердила это так умильно, что… Ч-черт, женщины! Колосов почувствовал, что внутри его что-то дрогнуло, защекотало сладко — не в сердце, нет, а… Ну, словом, там… Катька-Катька… Дураком наивным он не был: давно понял, что она просто лиса. Приходит, поет, льстит, когда ей что-то нужно: интересное дело, подробности задержания, уточнение сведений. Правда; были случаи, когда он чувствовал, что она ему — верный товарищ и помощник, но… Потом все это, эта половинчатая духовная (черт бы ее побрал!) близость как-то незаметно улетучивалась. Катя не появлялась, а он считал ниже своего достоинства напоминать ей о своем существовании. Ч-черт! Она же совсем ничего не желала замечать Ни того, как он к нем относится, как смотрит иногда… Точнее, видела все, но просто.., просто не подавала виду, что видят и замечает. Хитрила лиса. Эх, женщины… Сначала эта ее ровная дружеская приветливость, это ее нарочитое незамечание доводило его до злости и на себя, размазню несчастную, и на нее — лису… Но со временем… Вся завязка-то была в том, что у Катьки был муж или друг (кто он там, Колосов в подробности не входил) которого она (черт бы его побрал!) любила. Славный малый, по отзывам их общего знакомого Сереги Мещерского, очень даже славный и с деньгами, кажется… На него Колосову, правда, плевать было с сорок пятого этажа, но… Он чувствовал: если бы не был таким размазней, давно бы поставил все точки над "и" в этом их зыбком треугольнике даже квадрате, если учитывать чувства малыша Мещерского), но… Опять это проклятое «но»!
— Ой, Никита, а я тебя так сегодня ждала! Ты мне так был нужен с самого утра. — Катин льстивый голосок — так в тот миг казалось Колосову — эхом отдавался во всех коридорах управлений розыска. Но именно из упрямства, из нежелания признаться в том, что и голос, и весь сияюще-радостный вид Кати ему очень-очень приятны, начальник отдела убийств состроил самую равнодушную, самую озабоченную и недовольную мину и буркнул:
— Привет. И зачем же на этот раз я тебе, Катерина Сергеевна, понадобился?
— А ты куда сейчас? — Катя улыбнулась: рычи-рычи, сейчас утихнешь. — Домой?
— Нет. У меня еще дела здесь.
Делопут какой. Катя, не отставая от него ни на шаг, проследовала за ним до самых дверей кабинета. Колосов секунду помедлил, потом пропустил ее вперед.
— Душно как! Хоть бы окно открывал, когда уезжаешь. А то накурено тут…
Он молча рванул старую раму. За зарешеченным окном кабинета во дворе управления чирикали воробьи — спать укладывались.
— Ну? Только коротко, Катя, а то мне звонить сейчас должны. — Однако он сам подвинул ей стул и включил электрический чайник.
Это единство и противоречие действий и слов весьма позабавило Катю: нет, все же Никита — прежний. Даже новая «Девятка» и этот серебряный пижонистый ошейник его не в состоянии изменить.
— Ты из Красноглинска, да? — Она перешла от восторженного на сугубо деловой тон.
— Угу. — Новости какие-нибудь?
— Угу. Впрочем, как посмотреть.
— Насчет Свайкина и его соучастников?
— Угу, угу, угу.
— Прекрати. — Катя сердито стукнула кулаком по коленке. — Не ухай.
— Да-нет не говорить, красный, синий, кровавый, ужасный не называть. — Колосов внезапно оперся руками о спинку ее стула, низко наклонившись. Катя ощутила его дыхание на своем затылке.
— Никита… Чайник кипит.
Он выпрямился. Выдернул шнур из розетки. Это называется — мастерски выключать ток. Этому у нее просто поучиться можно!
— Что же ты делал с самого утра в Красноглинске? — спросила Катя. — Ну в общих чертах. Я же не об оперативных подробностях тебя спрашиваю…
— На обыски с Андреевым ездили, — Колосов невесело хмыкнул, невольно вспоминая то, чем был занят весь этот день.
Обыски на квартирах Свайкина и Васильченко особых улик не принесли. А вот посещение жилища братьев Говоровых запомнилось ему по совершенно иным, нежели выявленные по делу доказательства, причинам.
Говоровы жили в огромной коммуналке на окраине Красноглинска, где еще с тридцатых годов стояли бараки местного кирпичного завода. Таких коммуналок Колосов не видел даже в Москве, в родной Марьиной Роще, где прошло его собственное детство: огромный, разгороженный на тесные клетушки-комнаты ангар, где проживало более сорока семей. Говоровы занимали две комнаты, в которых обитали жена, теща и двое детей старшего брата Ивана. А младшему Константину места в комнатах не нашлось — он спал в кладовке-пенале, рядом с загаженным до последней возможности коммунальным сортиром.
Когда сотрудники милиции и понятые вошли в квартиру, их просто оглушил разноголосый хай (иначе и назвать-то было нельзя), доносившийся из бесчисленных каморок. Несмотря на рабочий день, народу было видимо-невидимо: жильцы никуда не торопились. Немного обалдевший от детского визга, грохота кастрюль, чада, копоти и криков разгорающейся на коммунальной кухне ссоры, следователь Андреев шепнул Колосову:
— Из такого ада вырваться — поневоле на дорогу с кистенем двинешь… Что ж тут за мрак такой?
Прямо напротив входной двери в комнате с голыми облупленными стенами, единственными предметами мебели в которой были железная кровать и колченогий стол, видимо, еще с ночи гуляла компания пропойц. Судя по пустой посуде на столе, они находились уже за гранью реального мира, а потому появление милиции на пороге восприняли как прямое оскорбление.
— Да это не к тебе, Семеныч! Не дрейфь! — зычно возвестила на всю переднюю полная брюнетка бальзаковского возраста в цветастом халате, открывшая милиции дверь. — Это к Ваньке, Говоровы им нужны, ихняя фамилия. Эй, кто-нибудь, оторвите задницу, пойдите стукните им, а то я отойтить не могу — у меня варенье на плите!
Жена старшего брата-разбойника встретила их на пороге своей комнаты: молодая еще, изможденная женщина, обесцвеченная перекисью до такой степени, что сквозь редкий белесый пух на ее голове просвечивало розовое темечко. Известие об аресте мужа она восприняла молча, скорбно поджав губы. Колосов заметил, что с ней что-то не ладно: двигается точно кукла на шарнирах, не сгибаясь.
— А нам-то теперь что же… Мы то как же… Мне что теперь делать? — спросила она тупо Андреева. — Мама, возьмите Светку!
Колосов только тут заметил, что из-за двери с любопытством уставился на него черноглазый детеныш лет двух в байковой пижамке. Второй детеныш — мальчишка лет восьми в этот самый миг, разогнавшись на роликах в коридоре, с размаху налетел на одного из понятых, который испуганно ойкнул и тихо выругался.
— Денег в доме ни копейки, и я ничего не могу. — Женщина все смотрела на Андреева. — Чайник поднять не могу даже, только после операции, все болит еще, ох, как болит… Мама, да возьмите же Светку! Горшок там, под кроватью. Поносик у ребенка, — жалко объяснила она Андрееву, — вот накормили ребенка окрошкой, огурцами, разве ж можно… А он.., муж.., муж мой что сделал? За что вы его арестовали?!
Андреев, предъявив ордер на обыск, коротко сообщил. Женщина лишь руками всплеснула:
— Грабил на дорогах! А деньги-то где ж? Ведь ни копейки никогда последнее время домой — все на отраву свою тратил. Я уж на развод подавать собиралася, только в больницу слегла… Мама, слышите, за что Ивана взяли? А Костя? И он тоже с ними? Тоже? Господи Боже… А мы-то с детьми теперь как же?
В комнатах Говорова-старшего тоже ничего не нашли. Колосова поразила нищета, в которой обитала семья дорожного бандита: полуразвалившаяся мебель шестидесятых годов, истертые коврики на дощатом полу, пустой холодильник. Иван Говоров, видимо, крепко сидел на игле. Все, что зарабатывал разбоем, уходило на вожделенный героин.
Однако, когда начали обыскивать кладовку-спальню Говорова-младшего, повезло больше. Из одного из встроенных в стену шкафов над его кроватью извлекли электрошоковую дубинку, коробку газовых патронов и еще две шерстяные маски-"бандитки".
— Я не знаю, откуда это у него, — бормотала Говорова. — Это Костино, не наше.
За действиями сотрудников милиции молча наблюдал сын Ивана Говорова — тот самый, на роликовых коньках. Он исподлобья глянул на Колосова, и тот аж вздрогнул: никогда еще не приходилось ему видеть такой открытой, вызывающей, яростной ненависти у ребенка.
— За что папку моего забрали? — глухо спросил мальчишка. — Он что, сегодня уже не придет? И завтра тоже?
— Уведите сына отсюда, — Андреев сказал это Говоровой, но та, не двинувшись с места, лишь крикнула:
— Мама, да сколько же раз повторять, заберите Славку и Светку тоже, посидите пока у Завгородних!
Ее мать — полная, молчаливая, в старом застиранном спортивном костюме, попыталась было увести внука из кладовой, но тот лишь вырывался остервенело из ее рук, и вдруг, истерически взвизгивая от еле сдерживаемых слез, выпалил громко и страстно на весь коридор:
— Да чтоб вы сдохли, менты! Чтоб сдохли, сдохли, сдохли!
— Славочка, детка, да что, Господи, с тобой такое! — пыталась перекричать его бабка.
Но мальчишка ударил ее наотмашь по руке и со злобным упорством, со слезами начал выкрикивать во все горло стишок за стишком уличную дразнилку:
— Эй вы, вонючие объедки, чтоб сдохли вы и ваши предки! Эй ты, огарок свечки (это получил один из понятых), чтоб утонул ты в речке!
— Славочка, да кто тебя такому выучил?
— Эй ты, — мальчишка обернул к следователю бледное, искаженное ненавистью лицо. — Эй ты.., обмылок какашки, чтоб завтра же сдох ты от кондрашки!
А в это время мать его выла точно по покойнику.
Оперативники же извлекали из шкафа и заносили в протокол в качестве изъятого вещдока коробку газовых патронов в количестве двадцати пяти штук.
— Как волчонок пацан-то, злыдень маленький, — заметил Андреев, когда они после обыска возвращались в отдел. Батька — наркоман, мать больная, бабка безропотная, бессловесная, дядька… И столько злобы к ментам у мальчишки… Кто-то в нем эту злобу уже начал выращивать. Не папаша ли, задрыга занюханная? Не дядя ли родной-любимый? Я вот о чем сейчас подумал, Никита, — Андреев покосился на мрачно молчавшего коллегу. — Хоть пока ничего конкретного нет на Свайкина и Говоровых по твоему профилю, а все ж погоди пока сбрасывать их совсем со счетов. Мальчишка-то видал каков? Яблочко от яблони… По потомству и о родственничках легко мнение составить. А ведь тут прямо злоба живая, человеконенавистничество, ей-богу,
Это было, конечно, сильно сказано, но в глубине души Колосов был со следователем согласен. Хотя Говоровы и Васильченко, как и Круглый Павлик, с пеной у рта настаивали на своей непричастности к убийству корейца, и в принципе их показания не противоречили друг другу, игнорировать версию о тощ что это именно они прикончили в овраге наркокурьера, пока не стоило. За эту версию было пока несколько фактов: кровавое прошлое Круглого Павлика, слепая жажда героина у Вани Говорова и этот вот мальчишка с его истерическим «чтоб вы сдохли!».
Колосов вздрогнул: Катя настойчиво снова его чем-то спрашивает: «Ты уснул, что ли, Никита?» А зачем ей рассказывать? О том коммунальном содоме что ли? «Обмылок какашки» — это ж надо, а…
— Никита, раз так, — Катя обидчиво надула губы, — я лучше пойду.
— Я думал о том, что тебе предложить — чай или кофе, потом вдруг вспомнил, что кофе кончился, наши выдули все, — тихо соврал Колосов. Ему очень не хотелось, чтобы она сейчас уходила. Но отвечать на бесчисленные Катины «отчего» да «почему» тоже было тяжко. Эх, помолчала бы лучше…
Но Катя молчать в кабинете начальника отдел убийств не желала — не затем явилась.
— А можно предположить, что этот ваш Свайкин и его подручные — убийцы? — вкрадчиво осведомилась она.
— И можно.., и нельзя. Она с тоской посмотрела в окно: нет, зря я сюда пришла. Он не расположен сегодня к откровенности — устал… Но явно думает сейчас о чем-то, что его тревожит и озадачивает.
— Ублюдки. Одни ублюдки кругом. — Колосов потер лицо ладонью. — Как они мне осточертели!.. Ну, что же ты затихла? Отчего еще о чем-нибудь меня не спросишь?
«Грубияна несчастного», — мысленно продолжила Катя, но лишь горестно вздохнула. Чай обжигал губы — кипяток. Уместнее всего сейчас было бы изобрести удобный предлог и улизнуть.
— Никита, большое спасибо за чай, но я пойду, мне тоже позвонить должны, я лучше потом, завтра…
— Посиди на месте, пожалуйста. И не вертись так. Чай сейчас остынет. А у телефона нет ног, не сбежит. — Колосов внезапно дотянулся через стол, крепко взял ее за запястье, сжал и тут же отпустил. — Сейчас чайку попьем, и я на машине тебя домой отвезу. Минут через пяток поедем.
Они замолчали. А потом в поисках нейтральной темы Катя, как за спасательный круг, ухватилась за рассказ о злоключениях Мещерского в объятой революционным восстанием Джакарте:
— М-да, хлебнул Серега наш. — Колосов хмыкнул. — Позвоню ему завтра же. Сто лет не виделись. С того раза.
Тот раз Катя помнила до сих пор так четко, словно трагические события, участниками которых стали и она, и Мещерский, и Никита, произошли не полгода назад, а лишь вчера…
— Не женился Сережка, нет ещё? — Колосов смотрел куда-то вбок. — Ну, теперь и вообще вряд ли… А так, знаешь ли, Катерина Сергевна, хочется на чьей-то веселой свадьбе с бубенцами гульнуть.
А она смотрела на его руки — сильные кисти, широкие загорелые запястья..
— Никита, а почему «и нельзя»? — спросила внезапно.
Он хмыкнул: не правильно, грамматически неточно ставить вопросы — это уж у нее манера такая. Внешняя нелепость и вместе с тем прямо спартанская краткость. И никогда такого вопроса не ждешь, потому что вроде бы уже тему проехали.
— Потому что Свайкина и его ребят нельзя подозревать только в этом одном случае обезглавливания.
— Почему? — Катя насупилась: что ж, каков вопрос — таков ответ. Ничего не поймешь.
— Потому что этот эпизод — не единственный. Были и другие трупы. Точно такие же.
Катя подавилась чаем. Вот, вот оно! Только ради этого стоило сидеть тут, терпя все эти капризные недружественные колосовские выкрутасы!
— Обезглавленные трупы были и прежде? У нас? Когда? Где? Почему я ничего не знаю?
Он не отвечал. Беседа возобновилась, лишь когда она спросила:
— А кто же убитые?
— Кто? Да такие же, вроде этого нашего героиншика, полуустановленные, полунеустановленные. Главная деталь для опознания везде отсутствует. Колобов устало прикрыл глаза, но сквозь ресницы, однако, наблюдал за встревоженно-любопытным выражением ее лица. — В Чудинове за Кольцевой ярмарка вещевая. Вьетнамцы ее лет пять уж как откупили, ну и торгуют разной дребеденью. Ну вот… А тут двенадцатого мая, как раз после праздников, в пяти километрах от Чудинова в лесу лесники на два обезглавленных трупа наткнулись. Потом уж патологоанатом, когда их осматривал — у них, правда, давность уже больше месяца была, — выдвинул версию: возможно, погибшие — вьетнамцы. Ну, мы общагу ихнюю в Чудинове проверять начали. Там общежитие ткацкого комбината. Вьетнамцы там прежде по обмену работали, а сейчас просто живут. Местные это бордель «Вавилоном» зовут. Вот, Катя, куда советую тебе съездить и впечатлений для репортажа поднабраться свежих… Или лучше нет, сиди дома. Смотри одна туда соваться не вздумай, — он погрозил ей пальцем. — Это я так, к слову… Ну, короче, стали мы там справки у местных наводить. Вроде и вправду пропали у них два вьетнамских гаврика по весне. Поехали вроде за товаром в Малый Ярославец и назад не вернулись. Но опознание в морге туго прошло: с момента смерти больше месяца, сама понимаешь, что это. Соплеменники сомневались все: вроде они, а вроде и нет. А потом ..
Катя слушала, затаив дыхание.
— А потом еще один такой случай в Москве был. На Юго-Западе, в парковом массиве, у пруда труп нашли в кустах, полуприсыпанный землей. К счастью для нас, мертвец весь в наколках был. По ним-то и по пальчикам МУР прокручивает, но делится и с нами информацией. Тело тоже вроде восточному какому-то принадлежит — может, киргиз, может, бурят или казах…
— Вьетнамцы, кореец и.., киргиз, ты говоришь? И все обезглавлены? — Катя прикусила губу. — Но зачем? Один — в наколках, выходит, судим, сидел, хотя это еще и ничего не значит, но… Второй, наш, — наркокурьер, как оказалось. А вьетнамцы… Ну, у этих своя мафия, говорят… Может, кто-то таким диким способом счеты сводит? Может, это какая-то особая разборка у них — Восток дело тонкое, а?
Колосов молча допивал чай. Потом нехотя ответил:
— Мы пока только предполагаем, что тела принадлежат людям этих национальностей. Наверняка можно будет сказать или когда там с генами какую-то хреновину наши проведут — а это, говорят, кучу денег стоит, или же когда… — он глянул на Катю, — головы сыщутся пропавшие. А уж по ним докажем и опознаем: те самые.
— Но зачем всех этих людей обезглавили? Господи ты Боже, такого и не бывало-то нигде… А вьетнамцев убили тоже ножом в сердце?
— С одного удара. Чисто. И того, кто из Москвы, — тоже. И это не совпадение. Это взаимосвязанная цепь событий и фактов. Вот почему этих наших придурков-дорожных я должен либо во всех эпизодах подозревать; либо напрочь отмести.
— Но пока ты Свайкина все же не отметаешь, раз сам на обыски вместе со следователем поехал — многозначительно заметила Катя.
— Думай как хочешь. Знаешь ли, тоже трудно в такое совпадение поверить, что на одном километре дороги грабят автобус со стрельбой, а чуть подальше отъедешь — в овраге уже трупешник валяется… Хотя сейчас чего только у нас не случается, Катерина Сергевна.
— Да уж, — с готовностью поддакнула Катя, а сама подумала: «Ясно, отчего мне обо всем этом писать запретили». — И что же ты, Никита, будешь делать дальше?
— А понятия не имею. — Колосов поднялся. Ну, поехали, что ли?
— Да, да, я сейчас, только сумку заберу, — она заторопилась. — Ты можешь у метро меня высадить, и все-таки, если это и вправду цепь и система — кто-то обезглавливает людей определенного.., не знаю, как сказать — типа внешности, что ли, то… Но вообще как, например, тот наш кореец мог очутиться так далеко от места остановки автобуса в том овраге?
Но на этот ее риторический вопрос Колосов ответил лишь четверть часа спустя, когда они уже стояли у светофора на Маяковской, собираясь сворачивать на Садовое.
— Думаю, в автобусе дела обстояли следующим образом, — начал он, словно размышляя вслух. — Кореец — а он действительно наркокурьер, — (тут Катя впервые услышала о тайнике и героине в кроссовках), ехал в Москву с партией товара. К кому и куда — это мы теперь навряд ли узнаем и… И, если все же пока исключить Свайкина и его гоп-компанию из числа возможных убийц, встретился случайно с кем-то. После того, как в автобусе начали стрелять и водитель с перепугу открыл двери, могло произойти вот что: Свайкин и его махновцы драпанули с награбленным через переднюю дверь — у них тачка перед самым «Икарусом» стояла. А кореец тот, так как с нами (а он знал, что мы туда непременно приедем и это случится весьма скоро) ему встречаться совсем не хотелось, тоже по-тихому решил в этой суматохе делать ноги, благо до Москвы уже рукой подать. Он дернул следом за этими отморозками, только через вторую дверь, у которой и сидел в одиночестве. Никто из пассажиров его исчезновения не заметил — им не до того тогда было. А кореец скорее всего побежал в лес и где-то, где точно, это надо еще устанавливать, вышел на шоссе голосовать. Ему нужно было быстрей в Москву — скинуть основной свой товар, об анаше в сумках он в тот миг уже не думал. И вот тут-то… Его увидели или увидел кто-то, кто был на машине, и… Короче, кореец поймал попутку. А потом эта машина свернула с шоссе. Там в лесу дорога есть заброшенная, в сторону карьера ведет. Возможно, кореец и на шоссе-то не выходил, а именно там они его посадили в машину — вроде бы до Москвы, и повезли… Словом, это весьма характерная и важная деталь — и про дорогу в лесу, и про то, что через мост у Кощеевки сейчас еще мало кто ездит, потому что там почти год ремонт шел, — тот, кто взял на борт корейца, распрекрасно это знал. Знал и то, что там им никто не помешает. Надо искать свидетелей. Может, все-таки кто-то ехал тогда по дороге, видел корейца и ту машину. С ума свихнуться, где и как теперь этих очевидцев искать…
— Это какой-то маньяк, да? Ты думаешь, у нас новый параноик с какими-то особыми комплексами? — Катя тревожно смотрела на свою сумочку: замок что-то барахлит.
— Маньяк или же… В той машине, Катя, могли сидеть и двое, и трое человек. Почему говорю… Да потому, что… Ты вот сама была на месте происшествия — что-нибудь необычное тебе сразу не бросилось в глаза?
Катя только головой тряхнула.
— Где уж мне, — призналась она честно. — Еле живая от страха там ползала — столько крови, такой ужас…
— След волочения тела был лишь внизу: от места обезглавливания до той трубы, куда его пытались затолкать. Но убили парня не в овраге, а наверху, на обочине. Видимо, машину под каким-то предлогом остановили на мосту — иначе как бы они смогли за ставить корейца добровольно спуститься в овраг? Та" склоны крутые, обрывистые, но нигде нет следов во лечения тела, ни того, что оно само скатилось по обрыву вниз. Нет, тело аккуратнейшим образом спустили туда — словно на лифте. А это могло произойти лишь в том случае, когда его несли не менее двух человек, или же… Или это был очень ловкий, феноменально ловкий и сильный тип, которому оказался по плечу такой почти цирковой трюк.
Катя вздохнула: час от часу не легче.
— Два маньяка, что ли? Или три? Но почему они всех обезглавливают? И куда головы девают? Зачем они им, солят, что ли? Боже, что я несу! Чего нам не хватает, Никита, так это только двух новых маньяков с топором.
— А это был не топор. — Колосов остановил машину у метро «Парк культуры». — Шею не перерубили, а перерезали. Это не топором было сделано, а каким-то иным, но весьма грозным оружием.
— Скоро Мак-Лаудов тебе в федеральный розыск объявлять придется, демонических горцев с третьей планеты, — попыталась пошутить Катя, но почувствовала, что голос ее дрогнул.
Колосов не обратил внимания на ее слова и продолжал:
— Я тебе больше скажу, Катя: это дело, если мы только размотаем его до конца, будет чрезвычайно интересным и необычным. Или я ничего не смыслю в таких материях.
— Ты смыслишь, — заверила его Катя. — Это я, как ни стараюсь, ничего в толк не возьму. А когда же про это можно будет написать, а?
Никита лишь рукой махнул… Но Катя была с ним категорически не согласна. У тебя своя работа, у меня — своя, и если уж портить нервы, пугая себя какими-то новоявленными маньяками, обезглавливающими людей с Востока, то уж хотя бы делать это, как говаривала Сова в «Винни-Пухе», нэбэзвозмэздно. Но если ты, Никита, как друг, приказываешь мне пока ждать — что же делать, я повинуюсь и жду.
7
НА ВОСТОК!
Дело было вечером — делать было нечего… Честно говоря, дело было уже утром. Но дел особых все равно никаких не предвиделось. Катя сладко потянулась и обняла подушку: суббота, благодать-то какая! Вот и буду спать до посинения. Потому что…
Потому что долгожданные выходные по здравом размышлении рисовались скучными и унылыми, ибо Вадька работал. Мало того, его работодателю Чугунову приспичило в эти выходные отправиться по неведомым коммерческим делам в Питер. И начальнику его личной охраны Вадиму Андреевичу Кравченко было приказано его сопровождать. Вечером в пятницу (они уезжали ночным поездом, ибо старый Чугунов не переносил самолеты) Вадька крыл своего работодателя на все корки: в субботу как раз начинались полуфинальные матчи чемпионата мира, и не увидеть их было для Кравченко полной катастрофой.
Катя брезгливо посмотрела на телевизор: ей было велено записывать все эти футбольные страсти — причем строго по часам. Еще чего! Она мятежно пнула подушку, взбивая ее помягче. Итак, Кравченко не вернется до утра понедельника. Ну и пусть. И футбол его тоже обойдется. Она же на эти дни предоставлена самой себе. С одной стороны — красота: абсолютная свобода, какая и демократам не снилась. С другой же — скука зеленая… Впрочем, такая же скука ждет ее и на работе, если, конечно, за выходные ничего этакого не произойдет…
Вчерашняя беседа с Колосовым немножко выправила ситуацию, однако… Ей вспомнилось Никитин раздраженное «понятия не имею» на ее любопытны вопрос о том, что он дальше собирается предпринимать по делу об убийстве наркокурьера и по предыдущим убийствам. А что тут пока предпримешь? Свидетелей днем с огнем выискивать, которые, возможно, что-то видели? И вообще, то, что якобы этот кореец садился в какую-то машину — может, это предположение ошибочно? Колосов, однако, уверен, что убийство вьетнамцев в Чудинове, происшествие в Краснолинске и обнаружение пока тоже еще неопознанного трупа на Юго-Западе Москвы — связаны напрямую: во всех случаях — налицо одинаковый способ совершения… Надругательства над телами — так пока этот ужас назовем… Обезглавливание… Катя поморщилась. Боже, Катя-дорогуша, о чем ты размышляешь утром в субботу? (!) Это же прямо патология какая-то у тебя. Насчет разной мерзости криминальной с самого раннего утра мозги напрягаешь. Но следующая ее мысль была: а я, растрепа, и забыла вчера у Никиты уточнить про вьетнамцев и неопознанного — где именно их убили: там же, где и обнаружены трупы, или же где-то в ином месте, а затем привезли и…
Она разозлилась на себя: баста. Так больше жить нельзя. Сегодня же суббота! Откинув одеяло, она села в кровати. На стуле валялась футболка Кравченко, в которой он занимался по утрам силовой гимнастикой. Ну правильно, вылез, как таракан из шкурки, не мог даже в корзинку для грязного белья сам отнести. Все я должна, я… Она взяла его майку, да так и осталась сидеть на кровати, поджав ноги калачиком. Уехал Вадичка… И вернется только в понедельник (да и то как этот Чугунов мерзкий распорядится). И вот теперь сиди все выходные одна-одинешенька… Что же, дел домашних невпроворот: надо шторы в чистку сдать — сто лет собиралась, перетряхнуть зимние вещи в шкафу, чтобы моль не догрызла…
Тут зазвонил телефон. Катя лениво дотянулась до трубки. Кто там еще? Для Вадьки рано — они, наверное, только прибыли на Московский вокзал.
— Катюша, доброе утро, я звоню узнать, беспокоюсь — ты не забыла?
Сережка Мещерский легок на помине. Не спится ему в субботу. Хотя Кравченко и Мещерский дружили со школы и в институте и знали друг друга задолго до того, как познакомились с Катей, хотя в их отношениях Мещерский полувынужденно-полудобровольно удовольствовался ролью верного друга семьи и ни разу в жизни не позволил себе в отношении Кравченко чего-то непорядочного и пошлого, а с Катей раз и навсегда взял дружеский рыцарский тон, но…
Но, как Катя неоднократно замечала, именно в те моменты, когда Вадька был, занят на службе или уезжал в командировки, душечка Мещерский особенно часто возникал на Катином одиноком горизонте. Вот и сейчас…
— Привет, Сережка. А что я должна не забыть? — «Ишь ты, беспокоится он в половине восьмого утра!»
— Как? В одиннадцать мы уже должны быть на Варшавке! Хорошо, что я позвонил, надо же… Разве Вадька не говорил тебе вчера?
Катя молча таращилась на кравченковскую футболку. Она помнила про футбол, про моль в шкафу, про то, что убийство наркокурьера — не единичный эпизод, а лишь звено в цепи кровавых происшествий, про бандитскую «девятку» Колосова, помнила про то, как Никита смотрел на нее вчера, явно воображая, что делает это скрытно и незаметно и она ни о чем таком не догадывается, а также про то, что разбойник Свайкин был уже ранее судим и в последний раз его оправдали, потому что доказательств не хватило… Но про то, что в одиннадцать нужно быть на Варшавке…
— Вадька вчера говорил исключительно про футбол, — ответила она неуверенно. — Я точно не помню, но… А зачем нам нужно там быть?
На том конце провода зловеще замолчали, потом вдохнули тяжело-тяжело.
— Я же еще на той неделе говорил вам с Вадькой — мы подписали соглашение с торговым домом «Экзотические сувениры Востока», что на Варшавке о том, что наш «Столичный географический клуб» теперь будет сотрудничать… Словом, в этом магазине мы открываем свой филиал: в планах — пропаганда спортивного туризма по нетрадиционным маршрутам — Тибет, Монголия, Индия, Бирма, Лаос и Вьетнам. В общем, курс — на Восток. А презентация сегодня в одиннадцать!
— Ах это… Ну конечно! — Катя вскричала с таким восторженным энтузиазмом (хорошо, правда, что душечка Мещерский не видел при этом ее лица), что у него сразу посветлело на душе. — Ну, конечно, про это я помню — про филиал, про курс на Восток… И уже собираюсь. Видишь — встала уже. Сейчас позавтракаю и… Ты во сколько заедешь?
— В половине десятого. Поедем пораньше, хотя там наши сегодня с восьми утра уже колбасятся, все готовят, однако…
— Хорошо, как скажешь, — кротко согласилась Катя. А что ей оставалось делать?
За завтраком она уныло размышляла: новая причуда «географов» с открытием филиала турфирмы в какой-то сувенирной дыре, видимо, доест и последние скудные средства «Столичного клуба». И останутся компаньоны Мещерского и он сам, горемыка, на бобах. Нет у них способностей к бизнесу. И все авантюры, которые они затевают, ведут лишь к убыткам и разорению. Нетрадиционный туризм — Тибет, Гималаи, сплав по Брахмапутре — Боже ж ты мой! Мещерский упрямо не желает понять, что одержимых жаждой странствий альпинистов, аквалангистов, спелеологов и скалолазов в сравнений с общей массой обычных туристов, любящих нормальный отдых, — кот наплакал. Ну, отравятся в Гималаи или на берега Ганга, зараженные холерной палочкой, какие-нибудь один, два, три, три с половиной храбрых до безрассудства Миклухо-Маклая. Но разве это называется массовый туризм? Откуда же тут взяться доходам у «Клуба»?
Но тут в ее печальные размышления закрался лучик надежды: а может, и славно, что Сережка берет ее с собой. Она на этой дурацкой презентации все увидит сама. И если почувствует, что эти самые «сувениры», помноженные на деловое невезение и беспечность «географов» — снова прямой и торный путь к банкротству, то… О, у нее найдутся методы, чтобы убедить Сережку бросить авантюру в самом ее начале.
Больше часа Катя вертелась перед зеркалом. Просто мания какая-то каждое лето — все витрины, все стекла припаркованных машин так и притягивали ее к себе. Однако сегодняшние впечатления от собственного внешнего вида были смутными и неопределенными. Кажется, неудачно выбрана оттеночная пенка для волос, есть смысл попробовать другую и… И вообще нужно худеть. Говорят, есть какие-то чудодейственные тайские таблетки. Вот в этом магазине экзотическом и поищем — а вдруг.
Мещерский был, как всегда, точен, как часы на Спасской башне. По дороге на Варшавское шоссе он оживленно повествовал Кате об открывающихся перспективах сотрудничества:
— Покупателей в этом магазине — полно. Найдутся и желающие путешествовать с нами. Не профаны какие-нибудь, а те, кто толк понимают, вот что важно. Так что на следующий год, Катенька, если все пойдет хорошо, если с налогами, конечно, не прижмут…
Магазин экзотических сувениров Востока помещался во дворе мрачного дома сталинской постройки недалеко от метров «Нагатинская». Сначала нужно было миновать арку, над которой на белом полотнище черными, стилизованными под иероглифы буквами было начертано предостережение: «Кто не верит в будущую жизнь, мертв уже в нынешней».
Катя и Мещерский прошли арку и очутились в самом уютном дворике, каких в Москве стоило поискать: крохотные ухоженные клумбы, фонтанчик-ручеек, обложенный камнями, каменные же китайские фонари тут и там, песчаная дорожка, ведущая к черным дверям, входу в торговый зал. Когда Мещерский открыл перед Катей двери, она ощутила тонкий сладкий аромат восточных благовоний.
Хотя она и была поначалу настроена весьма подозрительно, надо признаться, что с первого же взгляда магазинчик этот Катю очаровал. И она тут же позабыла, что ехала только для того, чтобы оберегать деловые интересы Сережки. Просто с любопытством глазела по сторонам.
Магазин имел два этажа и несколько пристрой Помимо сувениров и благовоний тут продавали плетеную китайскую мебель, и фарфор, и книги: мистические, религиозные, эзотерические и колдовские, и видеокассеты, и продукты восточной кухни с от чая экзотических сортов до пряностей с такими названиями, которые Катя встречала лишь в сказках «Тысячи и одной ночи».
Презентация собрала довольно много народа, хватало и покупателей. "Столичный географический клуб занял в магазине две комнаты под офис в одной из пристроек. Мещерский и его компаньоны суетились вовсю. На Катин взгляд, в новом офисе было чересчур уж много разной множительной техники, но она не стала огорчать Мещерского, шепнув, что «все чудесно».
Так как Сережка был занят, она более получаса бродила по магазину, разглядывала полки, уставленные сувенирами, а также публику. И на что было смотреть интересней, решить затруднялась.
Чего тут только не продавали, Господи! Набор масел для ароматерапии (Катя, не удержавшись, украдкой купила для Кравченко ночные духи-пачули,
Говорят, привезли этот наиболее сексуальный мужской аромат из Индии еще старички-"битлы"), шарфики из расписного китайского шелка, буддийские амулеты-колокольчики, мелодично позвякивающие при малейшем прикосновении. Были тут и корзины, наполненные перламутровыми тропическими раковинами, переливающимися всеми цветами радуги, и полудрагоценные камни, в изобилии рассыпанные на черных бархатных подставках: агат, оникс, яшма, нефрит, горный хрусталь, лазурит, гранат и коралл. Резные фигурки черного дерева, кости-нэцкэ и африканские страхолюдные божки, и будда всеблагой, восседающий на буйволе, и будда спящий, и будда улыбающийся…
Катя с восхищением разглядывала и наборы для чайной церемонии, и деревянные лакированные подносы, и пейзажи из разноцветного песка для медитации, и шарики из нефрита, предназначенные для тренировки пальцев в восточных единоборствах, и рисунки для татуировки, и связки бус, и освященные четки, вырезанные из скорлупок грецкого ореха.
В зале благоухали в курильницах индийские благовонные палочки. И от переизбытка этого экзотического аромата у Кати даже запершило в горле. Она поискала в толпе покупателей и гостей Мещерского, но тот куда-то запропастился. Тогда она подошла поближе к вентилятору, гоняющему воздух. Поднялась по лесенке на второй этаж. Тут, на маленькой площадке, все стены были увешаны объявлениями: школы дыхательной гимнастики и восточных единоборств набирали слушателей на новый сезон, маги, черные и белые, потомственные колдуны и сибирские шаманы, ясновидцы в восьмом колене, предсказатели судьбы по картам Таро, кельтским рунам, песку, бобам, кофейной гуще, хироманты, астрологи с дипломом и без, целители всех мастей и оттенков с завидной настойчивостью зазывали с рекламных плакатов клиентов, обещая не моргнув глазом многое из того, что было не под силу, кажется, самому Парацельсу и Калиостро.
Духовные школы и секты тоже вывесили свои лозунги и объявления. Катя задумчиво скользила взглядом по листовкам: Московский дзэн-центр, например, предлагал обучить своих абитуриентов «опыту медитативного проникновения в философию и религию, развить интуицию, подготовить тело к длительной медитации бхавана-саматха и подарить четыре основы внимательности — сатипат-ханасутра».
Катя вздохнула: внимательность, интуиция. Первая у нее уж точно в зачаточном состоянии, а вторая страдает от переизбытка впечатлительности и неуемной фантазии. В самых простых вещах ей порой чудится нечто такое… Она поморщилась, неожиданно перед глазами возникли те жуткие картины: овраг, глинистые его склоны, роскошный шиповник (он также сладко пах там, как тут эти палочки с берегов Ганга) и.., лужи крови на траве, а потом — труп… Не желаю про это думать — она судорожно впилась взглядом в следующее объявление, однако вдруг наткнулась на нечто такое, от чего по спине у нее побежали мурашки. Какое-то объединение белых духовных сил из города Костромы ничтоже сумняшеся заявляло, что проводит «подготовку человека к переходу к эпохе бессмертия». И объявляло самый простейший путь к оному: огнехождение, которое будет проводиться двадцать пятого июня неподалеку от станции метро «Выхино».
Жестокость простоты единственного, как утверждалось в объявлении костромских белых духовных сил, пути к бессмертию взволновала Катю. Ее внимание приковали к себе последние строки объявления: распятие Иисуса Христа на Голгофе и новое распятие нового Христа XX века в Грозном. Она поняла, что авторы имели в виду эпизод из фильма «Чистилище».
Там были такие жуткие кадры, там же были и кадры о том, как нашим солдатам отрезали головы и играли потом ими в футбол…
Катя повернулась к объявлению спиной. Нет. Я говорю тебе: нет. Ты не будешь сейчас об этом думать и воображать бог знает что!
— Лекс, дружок, постой здесь, подожди меня. Или, если хочешь, поднимись наверх, музыку пока послушай. Там новая коллекция записей — «Энигма», кажется, новый диск, и Жарр, они дают наушники.
— Я лучше тут постою. Ты только, пожалуйста, недолго.
Катя покосилась направо. Возле доски объявлений остановились двое покупателей: плотный шатен слегка за тридцать, одетый в черную майку «Версаче» и белые джинсы, и девушка, точнее, девочка-подросток. Катя поначалу подумала — отец и дочь, но…
Мужчина ничего, на ее взгляд, не представлял: усталые глаза, хмурое помятое лицо, точно после тяжелой ночи. А вот девочка… Ей было на вид лет пятнадцать, и она была из породы совершенно очаровательных, белотелых, пышных толстушек, одновременно напоминающих и пуховичок, и взбитые сливки с клубникой, и модель для юной купеческой дочки Кустодиева. У девочки была роскошная русая коса чуть ли не в кулак толщиной, алые губки бантиком, рано округлившаяся тяжелая грудь, масштабные крутые бедра и восхитительная матовая кожа.
Кате тут же вспомнилась Ленка Савкина из ее двора, с которой она училась с первого по восьмой класс, пока та не перешла в другую школу. Та тоже вот была такая сливочно-медовая пампушка, и косы у нее были как у русалки. А мальчишки во дворе безжалостно дразнили ее «жиртрестом» и однажды довели до того, что Ленка по пожарной лестнице забралась на крышу соседнего дома и угрожала броситься с шестого этажа. Тогда во двор приезжали и пожарные, и милиция, и врачи снимать Ленку Савкину с крыши… Как же давно это было…
Послышался легкий хруст: Катя увидела, как девочка с косой извлекла из, сумки пакет картофельных чипсов и начала медленно и методично поедать их. В ее серых глазах, устремленных на объявления, появилось отрешенное выражение, точно у теленка, пережевывающего жвачку.
А Катино внимание тут же переключилось на два весьма колоритных перекормленных бородатых байкеров, слишком уж великовозрастных для такого обилия металлических заклепок, украшавших их кожаные куртки, брюки и сапоги, а еще шипы, кнопка бляхи и значки. Оба были в кричащих банданах. Один — в круглых черных очках, что делало ею похожим на слепца Пью, а второй в шипастом собачьем ошейнике. И оба, присев на плетеный диванчик у витрины с живописью по шелку, что-то горячо обсуждали, тыкая пальцами в стекло.
— Татуировку выбирают.
Катя и не заметила, как подошел Мещерский, словно из-под земли вырос.
— А тут и рисунки продают, и сами татуировки делают? — шепотом полюбопытствовала Катя.
— Тут все делают. Там, за нашим офисом, у них косметический кабинет. Там и татуировки, и тайский массаж делают, Хочешь посмотреть?
Катя покачала головой, нет уж, спасибо. На байкеров она теперь глядела с пугливой жалостью. Это надо терпеть такие адские муки — сорок тысяч уколов иглой и прижиганий, чтобы изуродовать свои плечи или грудь каким-нибудь синюшным зубастым драконом самого пошлого вида или оскаленной харей восточного демона. Байкеры наконец что-то выбрали и позвали менеджера. Затем торжественно и чинно удалились в соседний зал. Катя прислушалась — а вдруг завопят, когда их первый раз уколют?
— Катюша, вот познакомься, это Лева.., ну, Лева Кедров, я же рассказывал тебе! Прошу любить и жаловать, — с этими словами Мещерский вдруг подтолкнул к Кате… Лева этот был ну совершенно крохотульный типчик — прямо фарфоровая куколка-лилипут. Однако ужасно симпатичный и самоуверенный франт, брюнетик, одетый в гавайскую рубашку, шорты-бермуды и сабо. Про этого Кедрова Мещерский действительно рассказывал; он тоже некогда учился в Университете имени Лумумбы, как и Мещерский с Кравченко, впоследствии работал переводчиком в торгпредстве в Осаке, а затем пристроился в какую-то сначала советско-, а затем российско-японскую фирму.
В злосчастную Джакарту он, как и Мещерский со товарищи, прилетел по делам. И затем уже вместе с Мещерским и его «географами», бросив весь багаж, удирал из объятой пожарами и убийствами индонезийской столицы. Несмотря на миниатюрное сложение (Мещерский рядом с ним казался почти высоким), а также простецки-пляжный вид, этот Лева-Кедров (по словам Мещерского) был очень даже денежный парень и дельный профессионал. Он вот уже третий год являлся ведущим специалистом по маркетингу и импорту преуспевающего коммерческого объединения, владеющего сетью столичных супермаркетов «Шелковая нить», торгующих тканями, мебелью, ковровыми изделиями, а также антиквариатом и предметами старины из стран Востока.
Катя, знакомясь с этим товарищем Сережки по «бегству в Сингапур», чуть не пополам согнулась. «Вот, — подумала с грустью, — и всего-то мужичок с ноготок, а уже фирмач, и денег, наверно, полно. А некоторые хоть и здоровые, а только и могут что кулаками махать…» Последнее замечание ясно к кому относилось, но Катя так и не успела детальнее сравнить мужичка с ноготок с верзилой Кравченко.
Кедров, ничуть не смущенный тем, что собеседница выше его на целую голову, с жаром начал шептать, что в этой «чертовой забегаловке все дрянь, дешевка, приличные люди сюда ни ногой, потому что тут и цены грабительские, а если кто знает толк в вещах и кому нужны подлинные шедевры мастеров Востока для украшения домашнего интерьера, те посещают один из многочисленных филиалов „Шелковой нити“, что расположен на Покровском бульваре»… — Да, тот, кто понимает толк, приходит не сюда, а к нам, — заявил он небрежно. — Тут так, мелкая шелупонь крутится. И.., да вот, кстати, Катя, будьте свидетельницей, все отговариваю вашего Сережку от этой авантюры. Да ей-богу, старик, — он, поднявшись на цыпочки, как клещ, впился в лацкан пиджака Мещерского. — Зря ты с этой невезухой здешней связался. У них проблемы, понял-нет? Про-бле-мы.
Это я тебе говорю. Я б с шефом потолковал — лучше бы у нас свою контору открыли. И пунктик валютного обмена можно было б заодно пробить… Эх, Серега… Ну, не поздно еще все переиграть, хочешь, потолкую с шефом?
Мещерский переминался с ноги на ногу: не время и не место для таких бесед. Катя пришла ему на выручку, потянув за рукав к одной из витрин со словами: «Сережа, тут такой веер изящный. Хочу тебе показать.»
Но Кедров неожиданно умолк, словно подавившись на полуслове, вытянул шею и с интересом посмотрел куда-то в толпу покупателей.
— Ты что это, Лев? — спросил Мещерский.
— Ничего, так… Нет, ты смотри кто сюда пришлепал… Кого я вижу… Что-то тут откопал… Что только?.. Кого я вижу! — вдруг зычно крикнул он. —Иван! Ива-ан! Ваня — радость моя!
Катя увидела, что крошка Кедров так горласто кричит и призывно машет рукой тому самому хмурому мужчине в майке «Версаче» и белых джинсах.
Тот, узрев Кедрова, как-то кисло и двусмысленно ухмыльнулся, но все же подошел. За ним по пятам следовала девочка с косой царевны из сказки. В руке ее был новый пакетик чипсов, и она все время жевала, жевала, шуршала им и опять жевала.
Катя снова подумала было, что девочка эта дочь белобрючника, однако… Для ее отца он все же был слишком молод. И потом она перехватила взгляд каким Левик Кедров мазнул (точно жирной масленой краской припечатал) по груди и ногам этой нимфетку, и, в свою очередь, ухмыльнулся. Тоже весьма двусмысленно, однако не кисло, а даже совсем наоборот.
— Какие люди, Ванечка! Сто лет одиночества прямо. — Кедров пялил на белобрючника дерзкие карие глазки.. — Позвольте, ребята, это мой старинный враг Иван Белогуров. А это… — Он повернулся к девочке.
— Привет, Лев. Здравствуйте, — Белогуров кивнул Мещерскому и равнодушно-вежливо улыбнулся Кате. — Не слушайте этого шута. А это ваша туристическая фирма тут, значит, обосновалась теперь? спросил он Мещерского. — Что ж, удачи вам, тут людей много бывает, разных. Толк будет.
— А ты в Тибет никак собрался, Ваня? На презентацию-то спозаранку явился? — Кедров выжидательно смотрел на своего «врага».
— Нет, это все Лександра моя пристала, — Иван положил руку на плечо жующей девочки. — Какая-то дребедень ей тут приглянулась — купи да купи. Мы вообще-то к друзьям на дачу ехали, по дороге заскочили..
— А, ну-ну, — Кедров усмехнулся. — Хорошо тебе, радость моя, на природе отдохнуть.
— Спасибо. Ну идем, — Белогуров подтолкнул девочку. — До свидания.
— Сережа, я вас покину на секунду. — У Кати уже начиналась мигрень от развязного Кедрова. — Мне все же тот веер хочется поближе рассмотреть.
— Веер? Черный? — Белогуров покосился на Катю. — Он из Ханьчжоу. Это местный художественный промысел там, но работа довольно сносная. А вы, девушка, любите красивые старые вещи?
Катя лишь пожала плечами.
— Конечно, люблю. А кто их не любит?
— Я тоже — это моя слабость. Но все дело в том, что этот веер мы и хотели купить.
— Да ради Бога, — Катя усмехнулась. — Все равно для меня это слишком…
— Дорого, что ли? Катя посмотрела на его капризно-приподнятую бровь. Ей отчего-то не хотелось признаваться в том, что этот китайский веер из Ханьчжоу для нее действительно зверски дорого стоит. Совестно отчего-то было в этом признаться…
— Слишком вычурно и… Мадам Грицацуева с веером из рисовой бумаги… — Она фыркнула.
Белобрючник бледно улыбнулся.
— Значит, вы любите красивые дорогие вещи. И не любите стиль Грицацуевых, так скажем… Ну раз так, то… Вот при случае, — он достал из кармана джинсов визитку. — Загляните как-нибудь по пути. И мужа своего обязательно прихватите. — Он, видимо, воспринял в качестве Катиного мужа Мещерского. — Это рядом с метро «Третьяковская». Гранатовый переулок. Мы открыты во все дни, кроме понедельника, с десяти до шести.
Катя смотрела на визитку: Иван Белогуров. «Галерея Четырех». Живопись. Скульптура. Антиквариат. Телефон, факс… Гранатовый переулок, дом 6.
Когда она вернулась к Мещерскому и его собеседнику, то услышала, как Кедров с завистливым раздражением говорил:
— Черти Ваньку сюда принесли не зазря. Что-то стоящее он на этой помойке унюхал — спозаранку примчался перекупить. У него галерея по продаже антиквариата в Замоскворечье, на всех аукционах он первых рядах сидит. Ну, «крыша», естественно, такая, что закачаешься. Это мы люди тихие — никакого компромата и криминала, Никакой урлы, а Ванька, Но интересно, зачем же он сюда приезжал, а? Пойти что ли, справки навести…
— Что он так на этого типа взъелся? — тихо осведомилась Катя, когда Кедров с новым громогласным «Кого я вижу!» метнулся от них куда-то в другой конец зала.
— Да конкуренты ж они, Катюша, — Мещерский лишь рукой махнул. — Конкуренты на ножах. Лева подозревает, что этот тип что-то стоящее из восточного антиквариата хотел приобрести, вот и бесится теперь, что не ему, точнее, не «Шелковой нити» достанется. Нас же это вообще не касается. А он что, этот, тебе свою визитку всучил? Зачем?
— Вот, — Катя показала ему белый кусочек картона. — Сейчас все к себе в магазин покупателей заманивают, вот зачем. Только антиквариата нам с тобой, Сереженька, и не хватало для полного счастья, мда-а…
А через пять минут она уже и думать забыла об этом Белогурове в белых брюках и о его малолетней спутнице, кем бы та ему ни была. Мещерский повел ее в офис — там снимались на видео на память все сотрудники. А потом она листала рекламные каталоги путешествий в Непал, на Цейлон и на Мальдивы и лениво размышляла о том, как все-таки это хорошо — быть богатым и здоровым и путешествовать без проблем со «Столичным географическим клубом» во все эти тропические уголки, столь заманчиво изображенные на финской мелованной бумаге каталога.
8
НАЧАЛО ВСЕГО
То, зачем он приехал в магазин, то, что ему обещали доставить по специальному заказу, то, под что он уже взял с клиента предоплату на покрытие расходов по «соблюдению конфиденциальности груза»
— Не привезли. Павловский — коммерческий директор «Экзотических сувениров Востока» встретил его самой постной, самой униженной миной, бормоча, что «вышла накладка на таможне, нашего человека оттуда внезапно перевели, и в такой ситуации мы бы просто не смогли объяснить назначение этого товара, а поэтому…».
Лживая тварь Павловский! Белогуров был готов придушить этого торгаша соевой лапшой и чаем против запоров прямо в его кабинете. Ему не доставили эту чертову китайскую штуку, под которую он уже взял у заказчика деньги, которые частично уже потратил! И что теперь было делать?
Белогуров не знал.
Правда, если.., если лис-Павловский все же не лгал и транспортировка товара через границу сорвалась только из-за того, что в аэропорту Владивостока на таможне прикрыли то «окно», то.., рисковать не стоило. Назначение этой китайской игрушки, этой антикварной безделицы конца девятнадцатого века и правда было бы очень трудно объяснить таможенникам.
Белогуров, хотя его и душили досада и злость, хмыкнул. Надо на досуге и на этот предмет полистать Уголовный кодекс. Относится ли «сбыт и перепродажа» гуй пэй к уголовно наказуемым по этой статье действиям по сбыту порнографии. Но разве изящнейший гуй пэй — порнография? Гуй пэй — китайский музыкальный инструмент — нечто среднее между виолой, лютней и скрипкой-пикколо со смычком и струнами. Но играли на нем в конце прошлого века исключительно в покоях наложниц и жен китайских императоров, театральных певичек и любовниц высшей пекинской знати. Потому что гуй пэй не простой музыкальный инструмент, а самый искусный и пленительный механический мастурбатор, который только выдумывало изощренное восточное сладострастие.
При Чан Кайши и Мао эти игрушки нефритовых покоев исчезли. И лишь у любителей и коллекционеров в Гонконге, Сингапуре и на Тайване их еще можно было отыскать. Этот гуй пэй, заказанный и щедро оплаченный Белогурову клиентом, должны были доставить с Тайваня, однако…
Проклятие! Белогуров скрипнул зубами — теперь надо возвращать этому придурку его деньги — предоплату. Восемнадцать тысяч долларов. А вся сумма составила бы сорок тысяч… По миру пойдешь с такими… Он прикрыл глаза. Ублюдки! Кругом одни ублюдки. Если бы хоть кто-нибудь знал, как они мне противны, как осточертели они и их…
С этим клиентом его свел Сеня Зенчук. Тот самый вечный вездесущий Сеня, которого знала вся артистическая и художественная Москва: постоянный гость всех тусовок, банкетов, презентаций черт знает чего и кого. Сеня подошел к Белогурову (это было на открытии нового салона «Маурицио Гуччи») и ткнул пальцем в рыжего, рыхлого, помятого жизнью мужика в отлично сшитом костюме и туфлях игуановой кожи, дорогих и стильных, но которые на его косолапых ногах, привычных к кирзовым сапогам, смотрелись словно снятые с чужого. Сеня шепотом назвал фамилию мужика. И Белогуров сразу усек с полуслона, что это его потенциальный клиент из новых: абориген северного медвежьего края, баснословно разбогатевший на добыче и поставке за рубеж фосфатов и селитры, этакое колымское чудо, приехавшее в столицу встряхнуться, на людей посмотреть и себя показать, прибарахлиться (его занесло не куда-нибудь, а к самому Гуччи) и спустить лишние деньжата, которые явно жгли ему упитанную ляжку.
Но спустить — и это было заметно по его взгляду, оценивающему и жадному до новизны и заграничной моды, — не значило бездумно растранжирить их на разные пустяки типа валютных потаскух и ночных казино. Нет, колымское чудо явно намеревалось привезти домой из столицы что-то этакое — стильное, дорогое, памятное, словом…
Словом, они познакомились. И уже на следующий день Белогуров пригласил клиента к себе в галерою: авось и спустит, уверенный, что надежно вкладывает нажитые на селитре бабки в дорогостоящие раритеты — шикарные штуки — предметы антиквариата, которые перейдут впоследствии потомству — детям, внукам и правнукам. Но ни одна выставленная в галерее вещь клиента всерьез не заинтересовала, как Белогуров ни старался. Зато в кабинете, точнее, подсобной конторке, где работал Егор Дивиторский икуда он случайно заглянул, клиент с удовольствием и вожделением вперился в фотоплакат с итальянской выставки, где был снят Спящий Гермафродит Виллы Боргезе (у Егора это просто мания — покупать фотографии известных скульптурных памятников — в основном обнаженных мужских античных статуй и залепливать этими черно-белыми плакатами стены) И вот, глядя на этого-то спящего мужчину с восхитительной округлой грудью девственницы, клиент за рюмкой коньяка и поделился с Белогуровым «как со специалистом в вопросах искусства» заветной мечтой о том, какую именно коллекцию он желал бы собрать.
Начало ей положила фарфоровая статуэтка, изображающая двух совокупляющихся свинок, некогда преподнесенная ему в качестве шутливого презента одним известным эстрадным исполнителем, который гастролировал в родном городе клиента. За згой фривольной вещицей вскоре последовало обширное собрание порнофильмов, покупка альбомов с соответствующими открытками, книжечки…
Теперь же, располагая достаточными средствами этот сексуально озабоченный клиент хотел бы чего-то "посерьезней, посолидней, подороже, пошикарнее.., но все в таком же духе. Ты меня понимаешь, парень, как там тебя, Иваном зовут-то, мда-а?..
Белогуров его понимал: старому импотенту, наверняка отморозившему свое главное сокровище в полярных широтах, в его пятьдесят пять уже хотелось сахара с перцем. И желательно к тому же было бы чтобы ЭТО явилось еще и выгодным помещением капитала.
Белогуров тогда согласился подыскать клиенту раритет по специальному заказу. Эксклюзивчик, так сказать… Сначала он хотел предложить этому ублюдку знаменитый сомовский «Альбом Маркизы», но книгу с этими восхитительными галантными рисунками не достали. Не смог перекупить он и роскошное лондонское издание «Тысяча и одной ночи» с особыми иллюстрациями. На аукционе эту букинистическую порнушку просто увели у него из-под носа. На антиквариат с душком, на вещи такого сорта — будь то чистая порнография или высокохудожественная эротика, цены на всех мировых аукционах (не известных, открытых для широкой публики, а особых, о которых знает лишь узкий круг) — дай Боже. Самый ходовой товар, хотя и полузапрещенный.
Вот тогда Павловский, бывший на том же аукционе, и подал идею китайской скрипки-мастурбатора: мол, есть такие, достану, привезу. Когда Белогуров описал клиенту вещь, тот сначала долго не мог понять, что это такое, а когда понял, то… В общем, это дитя непуганой тайги (откуда такая высокоградусная развращенность у этого лесоповальщика?), не торгуясь, чистоганом выложило за скрипку предоплату и… Его только чрезвычайно занимал вопрос: а как действует эта штуковина? Ты, парень, говоришь, там специальный отросток имеется — вибратор. Ну? И когда водят смычком по струнам, он и заставляет… А куда ж его, отросток этот, вставляют? Куда?! А, понял…
После пятого объяснения до клиента дошло. И он возликовал душой и загорелся: хочу такое заморское восточное чудо. Достань — за ценой не постою, тем более говорят, что лет этак через пяток цена на этот гуй или как там его только подскочит.
Договорились о цене, сроках — и вот… Сволочь, сволочь Павловский! Все же наверняка брешет про таможню. Наверное, кто-то подставил, опередил его, Ивана Белогурова, перекупил и теперь сам толкнет эту дрянь клиенту, не тому самому, так другому, с такими же вкусами. И если это правда, то…
Белогуров попросил у бармена пачку сигарет и зажигалку. Перед ним стояла пустая рюмка. Он заказал повторить. После того как Павловский в магазине огорошил его неприятной новостью, Белогуров почувствовал непреодолимое желание напиться. Быстро отвез Лекс домой (девчонка хныкала — мы же хотели в Пассаж, прошвырнуться по бутикам). Но Белогурову теперь было уже не до покупок и сияющих при виде подарков глаз Лекс. Скоро, очень скоро, если дела так пойдут и дальше, со всеми этими бутиками, барами, тряпьем, ремонтом квартиры, новыми тачками вообще придется завязать. Копейки снова считая придется, если только…
Бармен услужливо щелкнул зажигалкой. Белом ров (он вот уже час сидел на высоком табурете у стойки бара «Покровский дворик», что лишь недавно открылся) прикурил, выпустил дым из ноздрей.
Придется разориться вчистую, если только те вещи не окупят себя, не оправдают возложенных на них надежд. Грешно признаваться, но сейчас вся их с Егором и Александринкой судьба в руках этого полудурка, этого идиота с внешностью раскормленное купидона, этого недоноска — в руках Женьки Чучельника.
Белогуров пригубил коньяк и.., отчего-то не ощутил его вкуса. А у Чучельника и правда руки золотые ручки… В чем-то мальчишке прямо равных нет. Виртуоз, хотя частенько (вот и в прошлый раз — проклятие!) ошибается, портит материал. Но ручки золотые. Как шутят в «Пока все дома», очень умелые — очумелые ручки… А мозги… Мозги у Чучельника вот уж действительно очумелые — вывихнутые наизнанку. Но впять же, если бы его мозги таковыми не были от природы, то… То и ничего бы не было. Никакой уже надежды, что дела в галерее когда-нибудь снова пойдут на лад. Можно было бы уже сегодня закрывать их «Галерею Четырех» и… И просто заказывать себе гроб с музыкой. Покупать мыло, веревку, синильную кислоту, цианид, пистолет — что угодно, лишь бы побыстрее и поверим потому что Салтычиха при таком раскладе все равно не дал бы жизни ему, Ване Белогурову, а заодно и тем, кто был с ним рядом. Он держал их за горло мертвой хваткой, так, как только он, Салтычиха, и умел держать, и мог сделать все, что угодно, потому что на его стороне были и его сила, и его власть, и их панический страх перед ним.
Белогуров пил коньяк, чувствуя, как внутри мало-помалу поднимается к горлу тяжелая, липкая и черная, словно деготь, злоба против… Да полно, против одного лишь Салтычихи? Или против их всех — их, этих… О, ублюдки, если бы вы знали, как я вас всех ненавижу!
Эти приступы внезапной ослепляющей ярости против всех и вся были, пожалуй, одними из самых сильных, загадочных и неприятных сюрпризов его в общем-то довольно флегматичной натуры. Впервые он ощутил и запомнил в себе прилив подобной черной волны еще в раннем детстве, когда стал свидетелем того, как мальчишки во дворе, подвесив на ветку за хвост бродячую кошку, подпаливали ей шерсть спичками. Кошка орала благим матом, они смотрели, А он, Ванечка Белогуров, он ничего не мог поделать — мальчишки были старше, их было много, а он был первоклассник-недомерок. Он просто смотрел на мучения кошки и чувствовал слепую ненависть. Ему хотелось, чтобы мальчишки сдохли сию же секунду и желательно так же бы орали и корчились перед смертью, как эта рябая паленая киска.
Потом аналогичные приступы ярости повторялись в разные моменты его жизни. Но мало-помалу он научился подавлять их. Научился сдерживаться" говорил особенно тихо, мягко и вежливо в те моменты, когда внутри его все так и вставало на дыбы. Такое обуздывание страстей давалось нелегко. Но впоследствии, уже будучи взрослым, он оценил все плюсы этой своей интуитивной самодисциплины. Вот тогда он впервые понял, что у него действительно сильный характер. Потом он и других заставил это понять.
А разговаривать тихо-вежливо, не повышая ни при каких обстоятельствах на собеседника голоса было просто принято в том доме, где он родился и вырос.
Сначала это была хорошая трехкомнатная квартира на Чистопрудном бульваре. Окна ее выходили прямо на площадь с памятником Грибоедова, где кольцевались трамваи. Та квартира была сплошь увешана картинами, набита антиквариатом, и жил в ней родной его дед — тоже Иван, тоже Белогуров, который был одним из известнейших московских собирателей-коллекционеров. Дед более полувека проработал в Министерстве культуры (служил — как он говаривал) в отделе, затем и Главном управлении по делам музеев. И свою личную коллекцию живописи и фарфора начал собирать еще во время войны. На фронт он не попал по причине заподозренного туберкулеза (который после войны благополучно излечился в одном из ялтинских санаториев), служил всю войну по интендантской части. И сразу же после прорыва блокады Ленинграда и освобождения таких городов, как Рига, Таллин, Кенигсберг, находил тысячи разных способов посетить эти разоренные войной и оккупацией места. И там скупал за буханку хлеба, за банки с тушенкой, за мыло и картошку у разных истощенных голодом, обстрелами, бомбардировками граждан, преимущественно из «бывших» и из числа творческой интеллигенции, то, что, по его опытной оценке музейного зубра, хотя во время и не представляло для голодных людей особой цены, но в будущем могло бы составить гордость любой частной коллекции.
У Белогурова-старшего был отличный нюх на редкости и дар предвидения. Зная, картины каких художников пылятся в запасниках Эрмитажа, Пушкинского музея и Третьяковской галереи, как «творения чуждых пролетарскому искусству элементов», он начал собирать именно эти, отвергнутые соцреализмом полотна. И не прогадал. За десять лет, прошедшим Дня Победы, в его собрании появились и Григорьев, и Лентулов, и Фальк, и Ларионов, и Гончарова, и Тышлер, и Александр Бенуа. Позже он увлекся приобретением фарфора двадцатых годов, обменял несколько полотен Петрова-Водкина, Бакста, Сарьяна и Рериха. А в 59-м году в его руки попала та самая картина, которая позже и вогнала его в гроб, — «Композиция А» Василия Кандинского.
Странно, но Иван Белогуров-младший испытал приступ испепеляющей ненависти (и продолжал порой его испытывать по сей день) к деду, этому старому кретину, именно в связи с той злополучной картиной. В связи с ней стоило бы возненавидеть и родного отца (тот тоже во многом был виноват). Но это было, пожалуй, единственным, чего Белогуров не мог, — возненавидеть отца.
Отец, эх… Папа, папа, дорогой и любимый… В раннем детстве Белогуров-младший почти не видел своего отца. Мать (она была очень эффектной, породистой, зеленоглазой и длинноногой, красилась в платиновый цвет, обожала крупную бижутерию стиля Шанель, коралловую помаду, длинные сигареты и кроваво-красный лак для ногтей) вышла за отца и произвела на свет его — сына-первенца — довольно поздно: это был ее второй брак. Она окончила филфак МГУ, свободно говорила по-итальянски и французски и работала в Интуристе. Сколько Иван себя помнил, мать всю жизнь была окружена иностранцами. У нее были группы, которые она в качестве гида сопровождала на автобусные экскурсии по Красной площади, ВДНХ и Ленинским горам.
В 70-х иностранцы казались школьнику Ване Белогурову чудесными заморскими зверями из сказки. Они были все какие-то особенные — от одежды до запаха, от них исходящего. Много иностранцев посещало по приглашению матери и квартиру на Чистопрудном бульваре: смотреть и прицениваться к картинам. Но все эти посещения тогда были окутаны какой-то пугливой тайной. И тогда в 72, 73, 75-м годах пионер и звеньевой Ваня Белогуров не понимал, отчего это так происходит.
Отец появился в доме, когда Ване уже исполнилось семь, а затем то появлялся, то снова надолго исчезал. Явления его были мимолетны. Позже мать, выпив целую бутылку джина с тоником (презент очаровательному гиду от руководителя группы туристов), как-то призналась уже семнадцатилетнему Ивану, что «твой отец и женился-то на мне из-за этого всего (она обвела слабым пьяным жестом стены, увешанные картинами), а когда случился тот ужас с Кандинским и когда он понял, что ему больше ничего не светит тут — прос-с-сто с-с-сслинял… Все мужчины ссссвиньи, Ванечка… И ты станешь такой же свиньей, уж прости свою мамочку за правду…».
Чем занимался его отец до некоторых пор, тоже было Ивану непонятно. Этот стройный темноглазый, похожий на Остапа Бендера обаяша-брюнет в модных джинсах и заграничных пиджаках с иголочки (Иван отлично помнил все пиджаки отца — и кожаный, и вельветовый, и бархатный, и твидовый в елочку) всегда надушенный импортной туалетной водой, пахнущий «Честером» или «Мальборо», что в тех далеких семидесятых было просто верхом шика, тоже представлялся Ивану в их короткие встречи существом особенным — загадочным и притягательным. Отец постоянно врал, говоря Ивану то, что он — эстрадный конферансье, то, что — администратор Росконцерта, то, что сотрудник «Мосфильма», то, что товаровед «Березки», А он был просто мошенником. Сначала мелким фарцовщиком, затем с годами — валютным спекулянтом, подпольным маклером. Он сидел в тюрьма И все это позже стало ясно Ване Белогурову как белый день. Если возле красавицы матери всегда роем вились иностранные туристы, то обаяша-отец сам толкался возле забугорных. Его чаще всего было можно встретить «на уголке» в баре ресторана «Националь», в гостинице «Берлин» и около отдела виз американского посольства.
В том году — 76-м, родители неожиданно снова сошлись (как оказалось, они и не разводились). Отец вернувшийся очередной раз «оттуда», стал жить вместе с семьей в квартире на Чистопрудном бульваре. Мать выглядела помолодевшей и счастливой.
В тот год отец привел в их дом (это Иван узнал уже впоследствии) покупателя на картину Кандинского. Мать тогда бредила идеей купить дачу в Тарасовке. Нужны были деньги. Белогуров-старший (дед, как его звали) возражал против продажи именно «Композиции А», предлагая любую другую картину. Но покупатель, а это был какой-то вертлявый хлыщ из американского посольства, вкрадчиво настаивал именно на Кандинском.
И предложил за него двадцать пять тысяч рублей наличными. По советским временам это были большие деньги (и тогда еще в Союзе было мало что известно о ценах на Кандинского на мировых аукционах — ну, откуда, Господи?!). Родители настаивали, и дед уступил и…
С этого момента все и пошло прахом. На следующий год один из французских туристов как-то показал матери старый номер «Либерасьон», где рассказывалось о «последней сенсации» мюнхенского аукциона «Отто Бауэр», где неизвестное доселе полотно Кандинского «Композиция А», вывезенное из СССР, было продано его американским владельцем за полтора миллиона марок одному коллекционеру и любителю творчества «Синего всадника» <«Синий всадник» — творческий художественный союз, сложившийся в Германии (1912) вокруг одноименного журнала.>, имя которого в статье по понятным причинам не называлось.
Как только дед узнал, что он упустил из рук, его разбил инсульт. Он умер в том же году полной парализованной развалиной. Перед смертью он взял с дочери клятву, что ни одна вещь из его коллекции не достанется ее муженьку, «вору и прохиндею», а все «будет сохранено для Ванечки», «Времена изменятся, — прозорливо шептал старик на одре. — Все будет у нас по-другому. Тогда он и распорядится всем этим. Тогда, не сейчас…»
После смерти деда в семье начался ад: скандал за скандалом, дележка денег, сцены ревности. Мать стала раздражительной, крикливой, много пила. Родители уже окончательно подали на развод. Начали менять квартиру и разменяли быстро и плохо на комнаты в коммуналках (матери с Иваном две на Арбате, отцу одна на Ленинском проспекте). А потом внезапно мать уволили с работы, открылось, что она была в связи с одним французом из своей группы и забеременела от него.
Был грандиозный скандал, за «аморалку» (это же был еще только 79-й год) ее склоняли на всех профсоюзных собраниях. Белогуров, которому было уже шестнадцать, относился к беременности матери с тоскливой брезгливостью (это в сорок-то с хвостом лет, старуха ведь уже — и на тебе!). Но ребенок — сына француза, родился семимесячным и умер на третьи сутки.
А мать после родов начала пить, пить, пить… А потом наступил 80-й год — год Олимпиады, и в который уж раз посадили отца. Как было объявлено на этот раз в приговоре суда, он получил двенадцать лет за незаконные валютные операции, совершенные повторно группой лиц, причинившие крупный материальный ущерб. Тогда, в год Олимпиады, Москву чистили, словно метлой…
И потом все годы, пока Белогуров учился на отделении промышленного искусства в Строгановском училище, они жили с матерью. Она постоянно устраивалась на работу: то официанткой в ресторан аэропорта Шереметьево-2, то горничной в гостинице «Москва», то билетершей в театральную кассу. Но она уже превратилась в хроническую алкоголичку, и нигде ее долго не держали. Часть денег за Кандинского, доставшаяся матери при дележе имущества, ушла как песок сквозь пальцы: поначалу мать ни в чем не хотела себе отказывать. Уже работая скромной билетершей в Театре имени Станиславского, она продолжала втридорога покупать у фарцовщиков «чеки», чтобы одеваться исключительно в «Березке», как и привыкла. Она даже затеяла было обмен комнат на отдельную квартиру с доплатой, но, как только деньги кончились, кончился и привычный для нее и Ивана уклад жизни.
Они оказались на мели: стипендия Ивана составляла мизер, и чуть больше, чем мизер, была зарплата матери. Это были все их капиталы, и денег катастрофически не хватало. Но, как Иван ни настаивал, как ни умолял, мать, верная клятве, наотрез отказывалась продавать картины из собрания.
Так они и существовали: в вонючей перенаселенной коммуналке в Серебряном переулке, не имея порой лишней копейки, но зато в их комнатах не было свободного клочка обоев от полотен Рериха, Петрова-Водкина, Сарьяна, Лентулова. Кончаловского, Фалька, Альтмана и многих других художников.
Если ломался утюг или отлетала подметка ботинка, им надо было дня три экономить, чтобы выкроить несколько рублей на починку. В холодильнике не водилось ничего, кроме поганой дешевой колбасы, копеечных котлет и черствого батона, а за холодильником, и на подоконнике в комнате, и за шкафом, и в мусорном ведре выстраивались батареи пустых бутылок. Мать все чаще рыдала по ночам в пьяной истерике о том, что она «устала так жить», а Иван пытался что-то читать и зубрить, потому что на носу маячила сессия, однако ночные занятия под аккомпанемент материнских всхлипов впрок не шли.
Вот тогда он и начал снова переживать те приступы испепеляющей ненависти. Ненавидел и эту вонючую коммуналку, и соседей, и мать, которая только пьет и плачет, и лепечет что-то по-итальянски (старая идиотка, филологиня, кому теперь нужно, что она знает наизусть Леопарди и Теофиля Готье!), и покойника-деда, который в том далеком сорок пятом облапошил не один десяток подыхавших с голодухи питерских интеллигентов, почти задаром выменивая у них фамильные ценности, но так и не удосужился за всю свою долгую жизнь коллекционера навести справки о реальной стоимости полотен русских авангардистов за рубежом!
И еще Белогуров ненавидел себя за то, что… За что — он объяснить себе не мог. Просто однажды вдруг осознал: такой, какой он есть сейчас, бесхребетный Ванечка Белогуров, он не нужен ни другим, ни тем более себе. Он должен, если хочет жить и жить хорошо, изменить себя. Раз и навсегда уяснить для сея железное правило: миром правят деньги. Без них неважно, в какой валюте — ты, хоть ты и свободно говоришь по-французски, читал Пруста и Джойса, можешь спокойно поспорить о наследии латинских риторов и «Сатириконе» Петрония Арбитра — ты ноль, пустое место. Нищий. А быть нищим даже при рая витом социализме — участь плачевная…
Когда в начале девяностых волна за волной пошли крутые перемены, Белогуров, восприняв их с большой настороженностью, вывел для себя новое железное правило: и при диком стихийном капитализме участь нищего интеллектуала столь же плачевна, посему надо костьми лечь, но заработать столько, чтобы уже не думать о том, что такое за материя, бабки, тугрики, злотые, баксы, «зеленые».
В 1990-м (Белогуров работал тогда в том же Театре имени Станиславского, как некогда и его мать, но только заведующим художественно-постановочной частью) в его жизни произошли три крупных события: после отбытия наказания досрочно, за примерное поведение, освободили отца, в феврале от болезни почек умерла мать в 1-й Градской больнице и ..
И неожиданно ему позвонили из Художественного фонда с предложением и просьбой показать имеющиеся в его личной коллекции (теперь собрание деда целиком и полностью стало его собственностью) картины на выставке «Сто лет русского искусства».
С той памятной выставки, наверное, все для него и началось. Он тогда впервые понял, что принят в некий закрытый клуб. Принят, правда, не так, как некогда его дед — знаток и собиратель. Он был всего лишь наследником, однако его все же приняли в эту почти «масонскую ложу», как шутя говаривали некоторые члены этого сообщества, потому что собрание, которым он теперь владел, говорило само за себя. И вскоре табличка «Из частного собрания И. Белогурова» заняла прочное место на выставках рядом с указателями «Из собрания Чудновских», «Из собрания Ржевских, Семеновых, Рубинштейна, Андреевой…» — то есть рядом с фамилиями крупнейших отечественных коллекционеров и их наследников.
Летом выставка «Столетие» уехала в Лондон, где разместилась в залах престижнейшего выставочного зала — Культурном центре Барбикэн. Белогурова тоже пригласили. И в Лондоне он получил предложение от галереи Барбикэн на приобретение единственной имевшейся в его собрании картины Лентулова «Апофеоз Победы». Он, осторожничал. Его страшило, что он совершит ту же самую роковую ошибку, как некогда с Кандинским.
А осенью они впервые после стольких лет разлуки встретились с отцом. Встретились словно чужие в баре гостиницы «Космос» (отец приглашал). Иван поразился, что этот красивый, поджарый и смуглый брюнет (ни годы в тюрьме, ни возраст — а ведь отцу уже перевалило за пятьдесят — словно и не коснулись его ни морщинами, ни сединой) и есть его родной отец. Тот единственный человек, которого он, пожалуй, не смог бы возненавидеть никогда, ни при каких ударах судьбы.
Отец впоследствии и познакомил его с Салтычихой — а если отбросить эту двусмысленную лагерную кликуху, с Василием Салтыковым — дядей Васей. И знакомство это стало во многом для Белогурова судьбоносным. Но вспоминать, как это все у них начиналось с Салтычихой семь лет назад, когда этот тип (если не считать его четырех судимостей, он на первый взгляд был человек весьма приземленный и скучный) с подачи отца решил вложить в «молодого и прыткого» Ваню Белогурова деньги, поощрив его открыть собственную галерею по продаже предметов антиквариата, Белогурову сейчас не хотелось. Коньяк делал свое дело: опьянение накатывало теплой волной.
Белогуров тяжело облокотился на стойку. В зеркале позади бармена и его напарника он увидел и свое отражение. Его голова словно плыла в зеркальной глади — ниже был никель, бутылки, разноцветное стекло посуды, а голова была словно сама по себе. Только голова без туловища…
Белогуров наклонился вправо, голова в зеркале повторила движение, словно укоряя его. Она сейчас до боли походила на те, другие. Он снова дернулся. Боже милостивый, зачем же это я так надрался? Только не хватало сейчас думать о Чучельнике. О нем и этих чертовых штуках. Ведь он…
Раздался мелодичный гудок — заработала «сотовый». Белогуров вынул телефон из чехла у пояса, услышал краем уха, как бармен тихо сказал официанту:
— Оборзели совсем… Как на АТС целый день. Одно меня утешает: от «соток», говорят, рак неминуемый. Разжижение мозгов у всей этой расфуфыренной сволочи…
Рак… Рак сожрал отца в 95-м. А ничего вроде бы этого не предвещало… Как он кричал перед смертью, кусал руки… Был красавец без единого седого волоска и за три месяца превратился в мумию, обтянутую кожей. Врачи сказали: уже неоперабелен. Ублюдки! Не спасли… Ублюдки, как я вас всех…
— Алло, я вас слушаю, — Белогуров включил телефон. Голос его слегка хрипел, но говорил он спокойно. И очень даже доброжелательно.
— Ваня, привет. Звонил Егор Дивиторский из Гранатового переулка.
— Лекс там? Не ушла? Я ей обещал, но… — Белогуров кашлянул.
— Она мне сказала, что вы ничего не забрали у Павловского, — голос Егора тревожно дрогнул. — Она не путает?
— Нет. Павловскому это не привезли. Придется вернуть деньги.
— Вернуть?! Ты в своем уме?
— В своем. И не ори так.
— Ты пьян, что ли? — Егор еле сдерживался. — Опять?
— А это тебя вообще не касается. Деньги придется вернуть. Не сейчас — клиент на отдыхе, у нас в запасе дней десять-пятнадцать — Белогуров и сам удивлялся спокойному тону, каким произносил все это. — А вам с Женькой придется поторопиться. Приложить максимум старания. Ты сам понимаешь, что в такой ситуации теперь вся надежда на вашу расторопность и.., мастерство.
Он слышал дыхание Егора.
— Шутит еще тоже… Мы поедем — завтра, не сегодня, конечно, а завтра, — процедил наконец тот. — Ч-черт, в ночь поедем. И завтра, и послезавтра… Только уверен ли ты, что и за это после стольких мучений нам не придется возвращать деньги?
— Он же уже оплатил нам первый заказ. Заплатит и за второй, не торгуясь. Такого клиента терять — преступление. Тем более что с другими нам сейчас…
— Ты пьян, Ванька, — Дивиторский хмыкнул. — А когда ты пьян, тебе море по колено. Хотел бы и я вот так уметь расслабляться… А мы.., мы все в такой заднице…
— А ты тоже выпей. Или тебе и твоему обожаемому братцу это противопоказано врачами?
— Салтычиха звонил, — неожиданно жестко врезал Егор. У него была такая дурная манера сообщать важные новости в самом конце разговора. — Велел передать тебе дословно: ему обрыдла вся эта наша хренотень. Требует тебя к себе. Ты знаешь куда. Сегодня же. К восьми вечера.
Он ждал, что ответит Белогуров. Ждал очень долго.
— Тем более вам с Чучельником стоит поднажать, — устало и тихо ответил наконец тот. — И знаешь что, — он пьяно то ли икнул, то ли всхлипнул, толи хмыкнул, подавившись нездоровым смешком. — Я даже рад, что с этой китайской порнушкой все так нескладно получилось. Лекс стала проявлять к ней нездоровый интерес. А для ее возраста пристрастие к онанизму перед зеркалом, — он сделал коварную паузу, — пагубно для здоровья.
Дивиторский в трубку тоже хмыкнул. Но его раздраженное: «Кончай пить, Ванька» было произнесено уже в пустоту. Белогуров отключил связь.
9
ХОЗЯИН И СЛУГИ
Встреча с Салтычихой состоялась в тот же вечер в отдельном кабинете ресторана «Колорадо», владельцем которого состоял салтычихинский дальний родственник. В этом причудливом загородном вертепе на Киевском шоссе, где над входом лихо галопировал неоновый ковбой на огненном мустанге, на стенах красовались уздечки, седла, лассо, пустые кобуры для бутафорских «кольтов», где посетителям подавали мясо с красным перцем, копченые куриные крылышки, текилу и мексиканские пирожки тортильяс с начинкой чорризо, но где у дверей кухни, однако, рылись в отбросах отнюдь не техасские, а самые что ни на есть нашенские бомжи «с Рязани да с под Коломны», где пьяные посетители, оглохнув от Мика Джаггера, слезно просили бармена «врезать» «Миллион алых роз» и «Ромашки спрятались», где першило в горле от дыма дорогих сигарет, а уши безнадежно вяли от вялой российской матерщины, витавшей, как удушливый смог, почти над каждым занятым столиком, Салтычиха смотрелся, по мнению Белогурова, на редкость нелепо.
Весь этот бредовый техасский антураж ну никак не вязался с обликом этого кряжистого, коротко стриженного, медлительного, побитого оспой мужика. Если с кем и сравнивать Салтычиху, то уж никак не с сорвиголовой из «Великолепной семерки», нет. И на крестного отца он тоже походил мало. На взгляд Белогурова, Василий Леонтьевич Салтыков более всего походил на печального бульдога, которому вывихнули челюсть.
Салтыков был моложе отца Белогурова, и сейчас ему было что-то около полтинника, пятнадцать лет жизни он провел на зоне по самым различным статьям: от пустяка юности — квартирной подростковой кражи, до «хищений государственного имущества в особо крупных размерах повторно».
С отцом, хотя Салтыков об этом и не любил говорить, они познакомились там. И, видимо, сразу же нашли общие точки соприкосновения. Белогуров помнил, что, когда отец умер, организацию его похорон взял на себя этот дядя Вася: семья тогда не потратила ни копейки ни на грандиозный поминальный банкет в ресторане, ни на дорогой гранитный памятник на Николо-Архангельском кладбище.
Среди таких, как Салтычиха, отец, видимо, пользовался большим почетом — Белогуров помнил, сколько черных «Вольво» и джипов было в день его похорон у ворот кладбища, сколько незнакомцев плотного телосложения в костюмах колониальных расцветок окружало могилу. А сколько было венков с трогательными надписями «Дорогому другу от безутешных друзей!».
Белогуров тогда лишь недоумевал: как странно все же — он и его отец, которого он, правда, едва знал, и эти вот… Вон у того морда совсем протокольная, а тот синий от наколок…
С ним вся эта братия держала себя корректно, но настороженно: он был сын усопшего, плоть от плоти его, но он был чужой. Что-то изменилось в их глазах, лишь когда после поминок Салтыков обнял Ивана за плечи и усадил в свою тоже вороную, новенькую с иголочки машину «Вольво» и предложил проехаться по ночной Москве развеять тоску-печаль. Развеять, да…Хотя сам Салтычиха выглядел печальным всегда.
Белогуров сначала думал — это он такой от грусти по отцу. Но потом понял, что маска печального бульдога — любимая личина Салтычихи.
Кто дал Салтычихе эту двусмысленную, оскорбительную для мужского достоинства кличку? Для Белогурова это так и осталось тайной, но в мире, с которым он вскоре соприкоснулся благодаря «связям» и имени отца, Салтыкова за глаза так звали все. Боже упаси, повторять ее Салтыкову в глаза никто не отваживался. Причем подхалимы старались уверить несведущих, что кличка эта совсем не скрывала в себе никакого намека на «голубизну». Рассказывали даже, что один наглый и неблагодарный подонок по прозвищу Ося Гурзуфский однажды в пылу картежной ссоры обозвал при свидетелях Салтычиху не в меру ссучившимся и зарвавшимся пассивным педерастом — это было сказано гораздо крепче и обиднее на жаргоне, на котором виртуозно изъяснялся тот охальник. А недели через две Гурзуфского нашли на железнодорожной насыпи на перегоне Торжок — Тверь. В черепе его зияли три пулевые дырки, а кончик болтливого языка был отсечен бритвой.
С тех пор стало принято считать, что кличка Салтычиха была дана Салтыкову на заре его воровской юности во время первой ходки «туда» не за какие-то позорные веши, пятнавшие его имя, а это был намек на весьма темные и странные стороны его юного характера, которые только-только начали себя проявлять: жестокость, коварство, мстительность, безжалостность и т, п.
Хотя, на взгляд Белогурова, жестоким только лишь из любви к чисто абстрактной жестокости Салтычиха тоже не был. Он был… Белогуров затруднился бы описать этого человека обычными словами. Печаль и скука стояли в его голубых узких усталых глазах. Но порой в его присутствии даже во время самого незначительного разговора людям становилось трудно дышать. Что-то угнетало, пригибало к земле собеседника, стискивало сердце предчувствием неминуемого страшного несчастья, которое витало еще где-то далеко, но готово было постучаться в дверь, едва лишь этот медлительный, тронутый оспой, тяжеловесный Салтычиха призывно щелкнет пальцами.
Но и это ощущение несчастья, напрямую связанного с его взаимоотношениями с Салтыковым, появилось у Белогурова не сразу. Нет, как раз наоборот: сначала-то все складывалось у них даже слишком идеально. Но тогда, правда, еще был жив отец, и его слово тоже, наверное, что-то значило…
Короче, сначала, когда Салтыков сам прямо предложил ему взаимовыгодное сотрудничество и стартовый капитал для того, чтобы раскрутиться, организовать свое дело — магазин-галерею, Белогуров чувствовал себя так, словно наконец вытянул у жизни счастливый лотерейный билет. Отец одобрил это «маленькое теплое партнерство», сам, видимо, намереваясь прибрать дела в будущей фирме к рукам. Но рак сожрал его в три месяца, и Белогуров начал вести дела со своим «инвестором» Салтычихой единолично. Условия, ему предложенные, были просты до одури: Салтыков вкладывает в проект деньги, покупает и сдает ему помещение, а остальное уж — головная боль Белогурова.. Расчеты с инвестором тоже крайне просты: вложение должно окупиться за три с половиной года. Белогуров возвращает стартовый капитал плюс двадцать пять процентов прибыли, а затем начинает отчислять по столько же от каждой заключенной сделки. «Ну, это уж как дела пойдут у тебя, Вано, — Салтычиха отчего-то звал его на грузинский манер. — Не трусь, не обижу и не ограблю. Доволен будешь. Но только если и сам будешь умным. А если нет — спрошу за все и сразу, понял — нет? Мне недотеп не надо. И это ты себе раз и навсегда заруби на носу».
Впоследствии Белогуров узнал, что Салтычиха делал такие вот «вложения» не только в «искусство», но и в более прозаические вещи, как-то: открытие нескольких павильонов по торговле кожей и меховыми изделиями в Петровско-Разумовском, строительством трех парфюмерных бутиков на Кутузовском проспекте, организация закупок и поставок на Ярославский колхозный рынок мяса и битой птицы из соседних со столицей областей, строительство сети авторемонтных мастерских в пределах второго бетонного кольца, а также строительство жилых домов и приобретения собственность и переоборудование под современные отели нескольких ведомственных гостиниц в центре Москвы.
Короче говоря, Салтычиха разворачивался где только мог. Откуда он черпал деньги на все эти свои проекты — о, этого Белогуров не спрашивал. Да ему просто наплевать было тогда на это. Да, Салтычиха сидя пятнадцать лет, нигде не работал, потом вышел и стал баснословно богатым человеком. А может, ему просто повезло, а? Белогуров слыхал и про «отмывание капитала», и про «черный нал», и про что-то абстрактное, именуемое «общаком», но позвольте — какое все это ко мне имеет отношение? Так думал он сначала, пока…
«Галерея Белогурова» — теперь он звал ее скромнее «Галерея Четырех» — кое-как держалась на плаву первые четыре года и только за счет «ударных» вещей из коллекции деда. Иван понял это не сразу, но в конце концов до него эта скорбная истина дошла. Сначала для того, чтобы побыстрее встать на ноги, вернуть Салтычихе хоть часть долга, Белогуров продал-таки лондонской галерее лентуловский «Апофеоз Победы». За ним в руки покупателей перешли такие жемчужины дедовского собрания, как «Сценка в парижском кафе» Григорьева, пейзаж Александра Бенуа и несколько полотен Гончаровой. Потом он кое-что еще пытался продать, но ни одна картина уже не могла сравниться в цене с Лентуловым, а тем более с так глупо и преступно утраченным Кандинским.
Иностранцы интересовались исключительно русским авангардом. Но, увы, в собрании старого Белогурова не водились ни ценящийся на всех аукционах чуть ли не на вес золота Малевич, ни Татлин, ни Чекрыгин, ни Бурлюк. А с домашними «ценителями живописи» вообще дела обстояли как-то странно.
Белогуров долго не мог поняты какого рожна нашим надо?! Те из соотечественников, кто его действительно интересовал в качестве настоящих покупателей, у которых водились лишние деньги, и немалые, и которые вроде бы хотели их выгодно вложить в «раритеты», словно и не слыхали ни об одном из художников, которых так любовно коллекционировал старый Белогуров. У этих денежных «новых» было только три с трудом запомненных идола: Дали, Климт, Шагал и… «А нет ли у тебя чего-нибудь этакого? Ну ты понял меня, нет?»
Ну где было взять Белогурову Дали? Он, правда, пытался по наиву вести переговоры с одной французской галереей, предлагая обмен один к трем, но ему быстренько указали на его место. И вскоре он понял, что его смутное восприятие конъюнктуры и спроса отечественного рынка предметов искусства знакомо и западным коллекционерам и торговцам антиквариатом. Те словно тоже терялись в догадках: какого рожна этим русским, «новым», нужно?
Два года подряд Белогуров не пропускал ни одного аукциона — и что же там видел? В первый раз для наших «новых» привезли из Парижа и выставили на, продажу полотна импрессионистов, но ни одна вещь — ни Дега, ни Сезанн, ни Мане, так и не нашла покупателя. На второй год на тот же аукцион (явно потворствуя новорусскому вкусу) привезли исключительно одни ювелирные изделия. Раритеты знаменитых фирм, эксклюзивные вещи. Но снова ни бриллиантовое колье в десятки каратов, ни даже уникальные украшения самой Марлен Дитрих проданы с молотка не были. Запад терялся в догадках; о, загадочная русская душа. Белогуров же… О, он тогда понял: даже если круто переориентировать ассортимент «Галереи Четырех» в сторону «митьков», соц-арта и животрепещущей современности — толку от этого и прибыли будет все так же мало. Увы, «Галерея Четырех» слишком поздно взяла старт, чтобы кого-то этой самой эпатирующей современностью уесть в печенку.
Времена 80-х, когда благодаря горбачевскому лозунгу ко всему русскому-перестроечному, в том числе и к живописи (даже если это была самая убогая мазня) был и у нас, и на Западе огромный интерес, вещи охотно раскупались на выставках в Брюсселе Амстердаме, безвозвратно канули в Лету.
Русский самородок, едва научившийся владеть кистью, мазила-бунтарь, полуанархист, полумонархист, с полотен которого попеременно пугали и умиляли до слез зрителя Иосиф Виссарионыч Грозный, лапти, серпасто-молоткастый медведь, тренькающий на балалайке, и аллегорическая птица-тройка, уносящая в светлую даль Троцкого, Павлика Морозова убиенного большевиками императора-самодержца, стал наводить на того же самого, прежде восхищенного этой «новизной и свободой» зрителя неодолимую зевоту. Постперестроечные штучки обрыдли так быстро, как и заинтриговали. Продать их было еще можно, но с каждым годом, с каждым часом спрос на такую живопись падал, и делать на нее ставку Белогуров не собирался. Более того, он с ужасом понял, что ставку делать вообще почти не на что.
И последние три с половиной года он просто выкручивался как мог, ибо его дело, как он с горечью понял, обанкротилось. Платить долги Салтычихе было бы совсем нечем, если бы только…
Кое-какое прозрение о вкусах на предметы старины и антиквариата, о том, что сейчас берут в первую очередь, за чем гоняются, чем хвалятся друг перед другом и во что готовы вложить крупные деньги те самые их величества покупатели (потому что только таких вот ублюдков и послал ему Бог), Белогуров получил однажды почти случайно. Среди вещей деда он обнаружил три китайские акварели по шелку конца прошлого века, именуемые в дедовском рукописном каталоге как «Картинки Персикового дворца». Это была очень изящная высокохудожественная порнография — подробное, изощреннейшее пособие по технике… Черт возьми, сколько ни вертел эти картинки Белогуров в руках, так и не смог понять, как такая брутальная техника группового полового акта вообще возможна.
Как эта хитрая, развращающая воображение вещица попала к скромнику-деду, Белогуров понятия не имел. Но решил ее кое-кому показать. И успех был ошеломляющий! Покупатель кстати, весьма известный в политических кругах человек) буквально глаз не мог оторвать от этих расписных тряпочек. И ничто (ничто!) уже из вещей, украшавших стены «Галереи Четырех» — ни «Гималаи» Рериха, ни этюды к декорациям Судейкина, ни портреты Серова и Борисова-Мусатова (за чем, собственно, он, по его словам, и заглянул) его не интересовали. Он купил только «Картинки Персикового дворца», сразу и не торгуясь, за ту цену (очень высокую), которую внаглую брякнул ему удивленный Белогуров. И.., и, пряча глаза блудливо, попросил «при случае подыскать для него что-то еще… Этакое… Ну, вы, друг мой, понимаете меня?».
И До Белогурова дошло. Скрипочка-мастурбатор оказалась бы лишь эпизодом в веренице «антиквариата» такого же пошиба, который в последние годы прошел через его руки. Но увы, такие вещи нужно было искать по всему миру чуть ли не с фонарем. Как и все, на что с каждым днем рос спрос и цена, такие вещицы на любителя были чрезвычайно редки. Приходилось наводить справки, таиться от конкурентов, адски переплачивать… Доходы с такого бизнеса хотя и были довольно высокими, но поступали нерегулярно и…
И если бы он делал ставку только на одно это, то… То все равно все бы у над лопнуло еще в прошлом году, когда дела особенно были плохи: Он тогда уже стал несостоятельным должником Салтычихи, а это означало,.. То самое неминуемое и страшное несчастье, призрак, которого словно ореолом окружал подбритый затылок и печальный изрытый оспой лик Василия Салтыкова. Не Белогуров не желал быть несчастным по милости Салтычихи. А посему нашел-таки выход, делая ставку на…
Странная штука наша память: сейчас, поднимаясь по лестнице (и всего-то двенадцать ступенек) на второй этаж гудевшего, как пчелиный улей, ресторана «Колорадо», где в отдельном кабинете поджидал его Салтычиха, Белогуров успел передумать почти обо всем важном, существенном для себя — и как все это начиналось, и о том, что терзало и беспокоило его неотступно, словно все длинные годы, что он промыкался владельцем «Галереи Четырех», втиснулись в эти крохотные временные отрезки — секунды, за которые он успел лишь шагнуть со ступеньки на ступеньку. И только об одном, что и было для него сейчас самым главным, пугающе главным и важным, он подумать так и не успел. Или просто не захотел? Была ли это защитная реакция памяти, еще затуманенной коньячными парами? Ибо самое основное, пугающее, главное заключалось в…
— Привет, Ваня, что такой хмурый? Белогуров словно очнулся (сплю на ходу прямо что же это со мной творится?). Перед ним, прикрывая квадратной спиной двери в кабинет Салтычихи, стоял Саша Марсиянов — кличка Пришелец — личный телохранитель Салтыкова, тридцатилетний флегматичный, смертельно скучающий от безделья атлет с внешностью героя-любовника из бразильского телесериала. Белогуров отметил, что Пришелец в который уже раз сменил прическу: покрасил волосы и отпустил косые баки, явно стилизуясь под Антонио Бандераса. И это ему чертовски шло.
— К самому? — Пришелец лениво кивнул на дверь. — Злой сегодня, учти. Шею ему где-то продуло — не ворочается. Китаеза наша массирует его. Погоди, я спрошу насчет тебя.
Он ушел в кабинет. Белогуров стоял в душней «предбаннике», отделанном фальшивыми дубовыми панелями, и терпеливо ждал. Эх, хоть и говорят про Салтыкова, что эта его бабья кличка и подозрение в кое-каких противоестественных склонностях — две веши несовместные, однако…
Вот, например, личники его — все как на подбор мальчики-картинки. Этот вот Шура Марсиянов — у Шуры, кстати, судимость за плечами — и второй личник, этот китаец Чжу Дэ, кличка Пекин… Этот двадцатисемилетний дальневосточный принц всего год назад вместе с сестрой (они бежали из Таджикистана, где до гражданской войны жило много этнических китайцев) продавал на Павелецком рынке острые закуски от китайского ресторанчика: червонец порция в пластиковом мешочке.
И вот на тебе — попался на глаза Салтычихе (у того и на рынке имелись свои «вложения капитала»), понравился, чем-то угодил. И уже произведен в личники, а точнее, в домашние холуи: немного ученического карате, немного доморощенного массажа, пушка в кобуре, да,..
— Заходи, Ваня, — Марсиянов широко распахнул дверь. — Будь как дома. Да не забывай, что в гостях.
В кабинете тоже было душно, оба окна были закрыты портьерами от солнца. Да еще и тесно: обеденный стол, стулья — все сдвинуто в угол. Салтычиха, раздетый до пояса, сидел на какой-то облезлой табуретке (явно принесенной из подсобки), уперев руки в колени. А над ним трудился Чжу Дэ в роли массажиста-надомника: разминал плечи, осторожно массировал шею, лопатки. Салтычиха сопел, но видно было, что это лечение ему приятно.
А Белогуров, переступив порог, замер: он впервые так близко увидел этого китайца. Говорили, что он привлекателен, но…
Парень был потрясающе красив. Хотя и невысокий, но пропорционально сложенный, мускулистый, гибкий, как кошка. У него были длинные волосы, перехваченные сзади золотым шнуром, — черные как вороново крыло, блестящие, смуглая оливковая кожа и совершеннейшая гармония черт — глаза, чувственный изгиб губ, мужественные очертания скул и подбородка, сильная шея… Он приветливо улыбнулся Белогурову, вытер испачканные массажным масле" руки, подвинул ему кресло.
— Здоровеньки булы, — Салтычиха усмехнулся потом поморщился. — Шея болит — света белого, Вано, не вижу. Наверное, в машине продуло. Ехал, сигаретку смолил, думал, вот она, зараза, и… Сквозняк.
— Шарфом завяжи шерстяным. — Еще когда был жив отец, они перешли с Салтычихой на «ты» — «вы» в отношениях со своими тот, кажется, вообще не воспринимал. Однако знаки подобострастного уважения любил. И приходилось ломать голову, как бы в разговоре это самое «тыканье» не показалось ему нарочито фамильярным и вызывающим.
— Вот и говорю, Вано, ехал вчера из Звенигорода, — (там у Салтычихи был загородный дом, где жила его сестра с двумя дочерьми), — думал, размышлял… Про тебя, Вано, кстати, мысли мои были. Все прикидывал, кумекал… — Салтычиха кашлянул. Чжу Дэ накинул ему на плечи неизвестно откуда взявшийся в этом ресторанном кабинете банный халат. Салтычиха сейчас, как никогда, был похож на престарелого бульдога, которого душит слишком строгий ошейник.
— Обо мне думал-прикидывал, дядя Вася? Чем же я такое пристальное внимание заслужил? — нарочито небрежно осведомился Белогуров, уже зная, что ответит его собеседник.
— Ну-ка, Пекин, — Салтычиха звал китайца так по-домашнему, не утруждая себя тем, чтобы выговорить его настоящее имя, — поди скажи, чтоб пожрать нам чего-нибудь сюда принесли. И молока холодного пусть…
— Холодное сейчас тебе нельзя, — китаец скользнул к двери, — лучше чаю с медом, с айвой.
— Мне — только не чай — криво усмехнулся Белогуров.
— Обойдется он, — Салтычиха махнул китайцу, и тот скрылся за дверью. — Пьешь ты, Ваня, последнее время, как буденновский конь. Себя не бережешь. Глянь, глянь, кому говорю, в зеркало — морда серая, мешки под глазами. Сопьешься — никто ведь не пожалеет, кроме меня. С чего злоупотребляешь, — не пойму… Деньги, что ли, не знаешь уже куда девать?
Белогуров молчал.
— Мда-а… Тратишь много чересчур, — Салтычиха плотнее укутался в халат. — Квартира эта — скромнее не мог, что ль? Девчонка-пигалица… Ну, это не мои дела — тебе жить. Смотри только, как бы в историю не вляпаться… И эти два твоих… Ну, Егор парень дельный, а этот его дармоед-братец… Ведь ты и его, инвалида, содержишь?
— Я Егору плачу за…
— Дармоед в твоем доме живет, твой хлеб ест. — Он… Да Женька нужен нам.
— Для чего это? Он же придурок дефективный.
— Он.., он помогает Егору. И потом они так друг к другу привязаны…
— Альтруист ты, Вано, выходит, — Салтычиха прищурился, — Но и дурак. А дураку только в сказках — счастье. А я вот вчера думал про то, что кончать мне надо с тобой… Канитель.
Белокуров смотрел в пол.
— Дело твое бесперспективное. — Салтычиха изрекал все это тихо и печально, но неумолимо. — Сколько лет валандаешься, а пользы мне от тебя, Вано; никакой, так что…
— Что? — Белогуров вскинул голову.
— Все. Долги пора возвращать, Вано. Все, что должен заплатить за тот год и не уплатил, все, что за этот, и еще ссуда моя тебе на хату, плюс… Ну, посчитаем в общем. А галерею, богадельню эту твою, я на хрен закрываю. Если что продашь до августа — то ладно. А с осени?..
— Подожди.., дядя Вася, я.., я прошу тебя. — Белогуров даже встал — руки по швам, и стоял, как школьник у доски перед учителем, как первогодка призывник перед старшиной-людоедом. — Мы же только весной с тобой обсуждали…
— А сколько вещей ты продал с весны?
— Полотно Бакста.
— Одну штуку? — Салтычиха считал картины, как и тушки цыплят, и кожаные куртки, и коробки с парфюмерией, и обувь, исключительно на штуки.
— Ну, и эти вещи, НУ, ты знаешь, о чем я… — Последний заказ Павловский для тебя не исполнил.
«Откуда-то уже знает, — тоскливо подумал Белогуров. — Наверняка от этой сволочи — Павловского!» — Ну и? — Салтычиха глядел выжидательно снизу вверх — Ты сядь, Вано. Такие дела за столом делаются, в мягких креслах. На паскудных картинках эти твоих, хоть они и раритеты и денег стоят, капитала не наживешь. Торговля твоя для меня сейчас — убытки сплошные. Народу сейчас не до картинок ваших, не до ваз, не до тарелок щербатых с царскими вензелями — жратву да одежу вон покупают, а не Третьяковку твою… Тьфу им сейчас на Третьяковку-то… И эти ваша «Галерея Четырех» хромых и нищих у-бы-то-чна. Да ты и сам это знаешь. Так что я, пока не поздно, из проигрышной этой лотереи намерен выйти. И незамедлительно, так что…
— Но я сделку заключил! Два месяца назад. Вещь на заказ. Мне уже уплатили половину суммы, я… Если ты сейчас заставишь меня все свернуть, если выбросишь с Гранатового — вся договоренность сорвется и… — Белогуров снова сел. Салтычиха обратил внимание, как он судорожно стиснул худые пальцы они дрожали.
— Почему я ничего не знаю? — хмуро спросил он. — Что за вещь?
— Амулет… Начало двадцатого века. Редчайшее изделие… Амулет… Тсантса. Это по нашим прежним каналам из Сингапура… Один уже привезли. И заказали второй. Такой же. Я звонил в агентство Табаяки в Гонконге, уже о комиссионных договорился, — Белогуров говорил быстро, страстно. — Если сейчас ты заставишь меня закрыть дело, то… Все насмарку пойдет. А цена за эту вещь…
— Сколько? — коротко спросил Салтычиха.
— Сто. И за вторую — столько же. Салтычиха присвистнул.
— Из носорожьего рога амулет, что ль? — хмыкнул он. — Колдовать, что ль, кто за такие бабки намылился.., не иначе как импотент какой раскошелился, носорожье-то как раз для этого дела… Из Сингапура, говоришь?
— Место изготовления — Малайзия, начало двадцатого века, приблизительно шестнадцатый — двадцатый годы. Редчайшее изделие. Но это не рог носорога.
— Единорога, значит, — Салтычиха колебался. — Сто кусков, мать честная… Ну, ты больше моего в этих раритетах сечешь… Говоришь, значит, стоящая вещь?
— Очень редкая. На мировых аукционах ее цена колеблется в зависимости от качества выделки и материала от ста тысяч до полумиллиона. — Белогуров сейчас смотрел в окно — рукой отодвинул пыльные гардины: на небе полыхал самый прекрасный из когда-либо виденных им летних закатов. Небо переливалось всеми цветами радуги от фиолетового до золотисто-алого и от розового до нежно-салатового.
— А кто платит? Кто заказывает? — Салтычиха все еще щурился: он верил и не верил собеседнику. И правда, чудно: дела в галерее на ладан дышат, одни убытки сплошные, ни одной картины не продано с марта, а тут — такая сделка…
— Михайленко. Сын.
Услыхав фамилию заказчика, Салтычиха и сам тяжело поднялся, подошел к окну, еще дальше отодвинул гардины.
— Видел его я тут как-то в одном гадюшнике, — тихо сообщил он. — Ходить-то после того раза он теперь вряд ли будет, и протезы там не к чему присобачить даже, на коляске везли… И на морду без слез не взглянешь. Не врешь ты. Точно, вернулся он из этой своей Швейцарии, отвалялся по больницам-то, домой пацана потянуло… Только он ведь того, — Салтычиха постучал пальцем по виску. — Слухи… Говорят, сдвиг у него — хоть и лечили его там… Да с такого дела сдвинешься… Сто кусков, говоришь, дает? каждую штуку?
— Половина за одну уже, уплачена. Наличными. — Привезешь в счет долга.
— Но… — Однако, наткнувшись на взгляд Салтычихи, Белогуров лишь кивнул. — Да. Конечно. Я заплачу.
— А когда же будет остальное?
— Как только мы привезем ему вторую вещь.
— На таможне что-то? — Салтычиха подозрительно нахмурился. — Смотри мне! Только с этой стороны мне неприятностей не хватало.
— Нет-нет, с таможней там все схвачено. Пойдет через дипломатический багаж… Там только вся загвоздка в сроках.
— Ладно. Это твой дела — я не вникаю. — Салтычиха махнул рукой. — Деньги привезешь завтра. Остальное — ну, ты и мои личные сроки знаешь, парень. А разговор на этом пока не кончен. Понял? До осени время есть, так что думай, действуй. Но тема открыта.
— Ты не пожалеешь. Мы все наверстаем. — Белогуров встал. — Этот проект — только начало, мы… Я сейчас изучаю конъюнктуру спроса… Еще не поздно все изменить: доходы с этих сделок следовало вложить в приобретение…
— Да ты их получи сначала, деньжонки-то, — хмыкнул Салтычиха. — Кэ-эк ахнет самолетик, где раритет-то твой везут, в Тихий, так что… Кто везет, какой авиакомпанией летит? Тоже с Сингапура, что ли?
— Да, — Белогуров с готовностью кивнул. — Славный парень, посольская крыса, крысенок… Молодой еще, жадный, его русская иконопись интересует, самовары, мы с ним…
— Это ваши дела, Вано. Я человек темный! Мои класс-университеты не здесь начались-кончились. — Салтычиха печальнейшим образом улыбнулся заглянувшему в дверь Пришельцу-Марсиянову. — Обедать останешься?
— Нет, спасибо, дядя Вася, дела еще в одном месте, — Белогуров заспешил к дверям.
На лестнице, спускаясь в зал ресторана, он столкнулся с китайцем. Тот уже успел натянуть на себя рубашку, но от него все еще пахло тем душистым маслом.
— Айда, Пекин, выпьем, — предложил Белогуров, указывая глазами на столики внизу. — Угощаю.
— Спасибо, Иван, — парень покачал головой, — не могу…
— Да он не заметит. — лимоном заешь и… Он обедает. — Белогуров и сам не знал, отчего тянул себе в собутыльники этого полузнакомого человека: то ли красота его глаз радовала, то ли просто тошно пить одному, постоянно возвращаясь мыслями к…
— Нет. Он-то не заметит. Пришелец доложит. — Пекин тряхнул, точно породистый конь, своим смоляным хвостом. — Собака он. Стучит все, время на меня самому.
— Дятел стучит, Пекин. Так будет по-русски правильно. А собаки гавкают. — Белогуров обдал его за плечи. — А когда они гавкают, их под зад пинают, понял? Нос Пришельцем ты лучше не задирайся, не надо. А то изуродует он тебя вконец. У него кулаки как свинчатка; сломает нос и…
— Я ему хребет сломаю. — Китаец улыбнулся — блеснули белые зубы. То ли улыбка, то ли оскал. Он как-то враз подурнел: нежные черты лица стали жесткими. — Когда в Печатники задумаешь ехать, — (там находилась сауна-люкс, принадлежащая Салтыкову, которую посещал не только он сам, но и все приближенные к его персоне), — позвони мне. Вот мой номер на мобильный. Буду свободен — поедем вместе. Я тебе сделаю настоящий массаж Тай Дзин — меня учили. Останешься доволен. Очень. — И он неслышно и мягко, как кошка, скользнул по лестнице вверх. А Белогуров, спускаясь вниз, недоумевал: о чем этот херувим? Просто дружеский жест или все же эти штучки насчет сауны… И так ли уж был не прав тот бедный, изрешеченный пулями, лишенный языка Ося Гурзуфский в своих грязных намеках? Салтычиха — и два его красавца тел охрана, которые явно на ножах друг с другим из-за… Из-за чего же? Он хмыкнул. А, плевать на них. Плевать на всех этих ублюдков. Если б они только знали, как я их всех… Однако телефон Пекина он сунул в карман. Чисто машинально.
10
«ВАВИЛОН»
Впереди маячил все такой же пустой и унылый понедельник. Катя поняла это еще в воскресенье — Кравченко позвонил из Питера и мрачно сообщил, что Чучело из-за неумеренного потребления алкоголя снова схлопотал «приступ печенки» и теперь…
— Лежит как бревно в гостинице, — хмуро поведал Кравченко. — Билеты на поезд мы с ребятами уже сдали. Врач говорит — транспортабелен будет не раньше пятницы. Катька, как, соскучилась без меня, а? Эх… А ты футбол смотрела? Тут везде, конечно, телики, но ни присесть, ни глазом, понимаешь… Как французы с хорватами вчера сыграли?
Катя отвечала уклончиво: а Бог их знает. Ее крайне опечалило, что драгоценный В. А, застрял в Северной Пальмире с недужным Чугуновым, но… Но за эти дни она немного уже свыклась и с тишиной в квартире, и с собственной неприкаянностью: никому-то не нужна, никто ею не интересуется, кроме…
Этот понедельник прежде она намеревалась посвятить сугубо домашним делам. Но раз Вадичка задерживался, то и суетиться не стоило. Вытащенная было накануне и торжественно возложенная на кухонный стол в качестве главного руководства к действию кулинарная книга, испещренная закладками, помарками на полях и советами великого повара Мещерского, снова вернулась в шкаф, а квитанции на получение белья из прачечной по-прежнему сиротливо торчали из ящика в прихожей.
На работе же этот унылый понедельник Катя начала с того, что твердо решила: раз гора не идет к Магомету, то Магомет, то бишь она, сама должна начинать все с нуля в том деле, которое ее сейчас интересовало до чрезвычайности.
Как водится, самый легкий путь «начать с нуля самой» был позвонить Колосову. Она позвонила. Но начальника отдела убийств уже где-то с утра носило по его важным и тайным оперативным делам. Трубку поднял один из самых молодых сотрудников этого отдела Андрюша Воронов, с которым у Кати были самые дружеские отношения на почве общей любви к литературе.
Воронов был поэт-самородок и каждый месяц являлся в пресс-центр радовать Катю новой героической балладой о буднях милиции или о неразделенной любви к ней (Катя не имела к этому никакого отношения, это был всего лишь поэтический вымысел). Так было и на этот раз — по телефону. Она слушала, изредка придушенно ахая от восхищения — чтоб он слышал, радовался. Господи, ну кто больше юного безусого рифмоплета нуждается в похвалах и восторгах? А стихи, даже самые наивные и нескладные, если их читал ей милый молодой человек, всегда вызывали у Кати умиление. От них щипало в носу, как от газированной шипучки.
Устав наконец хвалить поэтический гений оперуполномоченного Воронова, Катя тихонько перешла к сути своего шкурного интереса, как-то: есть ли какие-то сдвиги по делу обезглавленных? Воронов как-то сразу завял, замялся:
— Да нет пока… Шеф вот уехал. В Москве кое-что произошло ночью вроде… — Катя насторожилась. Колосова вызвали московские коллеги — зачем, куда? На новое место происшествия? На новый труп без головы?
Однако Воронов мялся и ничего конкретного не говорил, хотя Катя настаивала.
— Не знаю я ничего — меня еще не было, когда Никита Михалыч отбыл… Слушай, Кать, а тут вот другое… Сейчас ответ принесли для шефа. Но это тоже не по нашему случаю, а по тому эпизоду, что на Юго-Западе, ну, когда труп на берегу пруда в Олимпийской деревне нашли. Колосов по дактилоскопии татуировкам банк данных запрашивал на всякий случай. Так вот, потерпевший из Калмыкии, из Элисты. Дважды судим. Оба раза отбывал наказание за бытовое хулиганство. Баклан в общем. — «Баклан» значило махровый нарушитель общественного порядка. На зоне ему спину и грудь так разукрасили — живого места не осталось. По тем картинкам и установлена личность — Дастерджанов Керим. Двадцать восемь лет. Но как он в Москве очутился, неизвестно. Видимо, после освобождения осел. Будем, точнее, московские будут устанавливать, где проживал, что делал. Установят. МУР, Катенька, есть МУР.
«Объелся кур, — про себя передразнила Катя. — МУР — подумаешь! Устанавливать и миллион лет можно».
— А что тебя так это дело интересует? — осведомился Воронов.
— Да писать не о чем совершенно, — честно призналась Катя. — Газетам нашим обычный ряден криминал уже не интересен. Все чего-то этакого требуют, с вывихом, а я…
— Слушай, насчет вывиха… Наши тут в Чудиново минут через двадцать едут, там рейд сегодня профилактический в «Вавилоне»…
— Где? — Катя напрягла память: в Чудинове нашли первых двух обезглавленных вьетнамцев. А "Вавилону Колосов говорил, это…
— Общага там интернациональная бывшего комбината, — подсказал Воронов. — Ну и бардак там сейчас первостатейный! Сегодня местные пинкертоны строгость будут там наводить — проверка паспортно-визового, ну и все прочее, а наши там… Ну, наши по своим делам туда едут: Вот мигают мне — могут подбросить тебя. Материал там такой найдёшь о житухе беженцев из страны Лимпопо в Подмосковье — ахнут твои журналы.
Катя колебалась недолго: в Чудиново ехать стоит. И дело даже не в материалах о жизни иммигрантов (хотя и они не помешают). А вдруг она узнает в этом «Вавилоне» что-нибудь новое про тех обезглавленных вьетнамцев? Правда, и Колосов, и следователь прокуратуры, и оперативники в общежитии уже бывали и не раз допрашивали тамошних обитателей, но… «Кажется, не глупей я их, — ревниво решила Катя, уже прыгая через три ступеньки по лестнице вниз — скорей, машина ждать не будет. — И потом надо же хоть что-то делать! Не сидеть же весь понедельник сложа руки!»
«Вавилон» встретил их, как и полагается, смешением языков, лиц, наречий, нравов и одежд. Катя сначала даже как-то потерялась в этом гулком шестиэтажном кирпичном муравейнике, который был битком набит:.. Боже ты мой, кто только не жил теперь в этой текстильной общаге! Катя робко жалась к местному участковому — степенному пятидесятилетнему великану в кожаной форменной куртке, галифе старого покроя и новехонькой пилотке, лихо заломленной набекрень. Фамилия его была Арбузов. И его кулаки были величиной с хороший арбуз.
В прохладном вестибюле, выложенном давно не мытой кафельной плиткой, во дворе общежития, на лестничных пролетах собрались, точно на митинг, почти все жильцы «Вавилона»: невозмутимые смут-лью курды, быстрые, точно ртуть, вьетнамцы, афганцы со жгучими скорбными глазами, окруженные многочисленной родней. Видно было — все они обосновались здесь давно и надолго, спасаясь от войны, революции, голода и землетрясений. Были тут и весьма экзотические, ни слова не понимавшие по-русски пришельцы из Анголы, Конго, с Берега Слоновой Кости и других стран. Как, какими путями покинули они родную Африку, оказавшись за тысячи километров в далекой снежной России, каким образом без всяких документов, а порой и без гроша в кармане пересекали океан и все границы — оставалось тайной не только для несведущей Кати, но и для многоопытных зубров из ОВИРа и иммиграционной службы.
Проверку документов все эти плавающие и путешествующие восприняли со скорбными охами, стенаниями и причитаниями на всех ведомых и неведомых языках. И огласился «Вавилон» плачем и воплями: горе, горе тебе, о великий город! Кате чудилось, что она присутствует при отзвуках какого-то почти библейского действа…
— Куда мы пойдем? Гонишь, не разрешаешь. Тогда скажи — куда нам? — патетически восклицал худой, точно Царь-Голод, афганец, за брюки которого держались, мал мала меньше, шестеро черноглазых, испуганных, точно мышата, ребятишек. — Ну нэт у меня разрешения, нэт визы… Ну куда мне идти отсюда? Я офицер, в Кабуле жил раньше. Бабраку служил, Наджибулле, вам же служил, как пес, — голос его пресекся. — А теперь… Вы ушли — нас там рэзать свои же стали, головы — долой…
Катя вздрогнула невольно: это он к чему?
— Куда я с детьми, с матерью больной без копейки пойду?
— Я тебя понимаю, Резвон, — басил в ответ участковый Арбузов (видно было, что афганца этого он отлично знает, проверял вот так уже не раз, и все это было словно хорошо отработанный, однако безрезультатный ритуал, потому что в самом деле — куда этих вот оборванных, нищих беженцев-горемык было девать?). — Я все понимаю. И детей мне твоих жаль, Резвон. Но и ты нас пойми. Порядок есть порядок.
Они долго еще выясняли, «что есть порядок», Катя же почти оглохла от воплей, причитаний, призывов. Ее со всех сторон дергали, теребили за платье, что-то горячо объясняя по-арабски, по-бенгальски, по-курдски…
Однако в этом содоме она все же успела заметить, что в растревоженной горластой толпе разные люди ведут себя по-разному. Вьетнамцы, например, держались особняком от остальных. Документы у них были в полном порядке. И вообще они не производили впечатления людей, задавленных нищетой и сломленных отчаянием. Катя, когда ажиотаж вокруг Арбузова и сотрудников ОВИРа несколько поутих, попросила участкового показать ей тех вьетнамцев, которые с трудом, но все же опознали в обезглавленных своих соплеменников. И спустя десять минут Арбузов подвел к ней двоих. Катя сначала думала, подростков — они ей до плеча едва доходили, но оказалось, что это взрослые и даже пожилые мужчины.
Говорили они по-русски сносно. Впрочем, когда речь заходила о вещах, которые они по какой-то причине не желали обсуждать, тут же прикидывались, что «моя твоя не понимай».
После получасового увертливого диалога Кате удалось узнать очень немногое; что тех пропавших звали Чанг и Тхо. Что жили они в Чудинове уже пятый год, деньги семьям в Ханой посылали регулярно. А сами занимались тем, что торговали, как и рассказчики, на вещевой ярмарке за Кольцевой дорогой хлопчатобумажными изделиями, полотенцами и постельным бельем. Что — «весной это случилось, а когда — точно не помним», — собирались они в Малый Ярославец за товаром. «Господи, — подумала тут Катя, — куда их носит!»
Но из поездки той Чанг и Тхо так и не вернулись. «А потом нас больница полиция везла, — продолжали вьетнамцы, — а там мертвые, уй-юй-юй нехорошо это…»
Катя кивала головой: конечно, нехорошо, а сама уныло думала — примерно то же самое рассказал ей Колосов. Не стоило и тащиться в такую даль, в этот сумасшедший «Вавилон», чтобы…
— Ходить за мной быстро, не оборачиваться! Кто-то прошипел ей это в ухо, ущипнув за руку.
Позади, точно видение из экзотического сна, стояла молодая пышнотелая мулатка, похожая на спелый грецкий орех, в синем открытом сарафане и желтом тюрбане. Очень даже нарядная для этой ночлежки. Плавно лавируя в толпе, она двинулась куда-то по коридору. И вот желтый тюрбан мелькнул уже где-то на лестнице, ведущей на второй этаж…
Катя начала протискиваться следом в толпе жильцов. «Вах! — брутальный индус в бархатной черной чалме сделал вид, что ослеплен ее видом. — Вах, какой сладкий русский дэвочк!» Катя заскользила, как угорь, вертя головой: ей не очень-то хотелось углубляться одной в недра этого «Вавилона», теряя из вида Арбузова и сотрудников милиции, плотно занятого проверкой документов еще пока только на первом этаже.
А мулатка, вертя пышным задом, поднималась на третий. Катя, собравшись с духом, шла по пятам за ней. Ах, если бы все это приключение происходило где-нибудь на Багамах, в какой-нибудь ромово-банановой фазенде… А не в подмосковной хрущевской развалюшке на шоссе Москва — Рязань…
— Сюда ходить. Здесь. — Мулатка толкнула одну из дверей. — Тихо, ш-ш-ш… — Она таинственно приложила палец к губам.
Катя оглянулась — нечто вроде общественной кухни циклопических размеров: столы, газовые плиты, странные запахи, немытая посуда в рыжей от старости раковине…
— Ты понять меня. Ты русский, но баб. Я — Мозамбик, но тоже баб. Мы обе — баб, и понять должны. — Мулатка тараторила, как мельница, тихо, но с великим жаром. — Тут один бой, шибко хороший. Мэйк лав, любовь, понимаешь? Любовь мне, мой. Сильно хорошо. Едем Гамбург: он, я. — Она ткнула себя в пышную грудь. — Бумаг — нет, баксы, долларс — нет, понимаешь? Серая Голова сердит, гонять хочет. Скажи ты своя Серая Голова, — тут Катя с превеликим трудом поняла, что ее явно просят замолвить словечко перед участковым Арбузовым, трогательно именуя его «Серой Головой», из-за форменной пилотки. — Скажи: не надо гонять — я, он — любовь, понимаешь?, Пусть — Гамбург, понимаешь? А я.., про Сайгон сейчас спрашивала? Сайгон тоже любовь мне делать — слабо, — мулатка усмехнулась. — Потом я бросать его для бой… Скажу тебе. А ты скажешь Серая Голова?
— Скажу, скажу, — заторопилась и Катя: ох, Сережку Мещерского бы сюда! Он спец великий по африканским диалектам, пять лет в институте зубрил. А тут как сквозь дебри: про погибшего вьетнамца эта шоколадная прелестница что-то толкует, который был ее прежним любовником и…
— Они машину искать то утро. Холодно быть. Дождь. Машину голосовать — я видеть. — Мулатка наклонилась к Кате. — Я следить, хотеть видеть, как Сайгон уезжать, — он ревновать меня, бить, понимаешь? Две машины они останавливать, торговать. Их не брать — мало давать денег. Потом третья взять. Они садится в нее и ехать, понимаешь? И все — не приезжать.
— Какая это была машина? Какой марки? — спросила Катя. Мулатка лишь пожала плечами:
— Маленький. Марка — я не понимать.
— Не грузовик? Легковая, значит… А цвет? Какого цвета машина была?
Мулатка молча ткнула в Катину бежевую летнюю сумочку.
— Такой. И грязный. Дождь. Они садится, ехать и не быть назад. Теперь иди ты, говори Серая Голова гонять не надо, надо — Гамбург.
Катя, спустившись вниз, поискала Арбузова, а наткнулась на колосовских оперативников, привезших ее сюда. Они о чем-то беседовали с афганцами. Катя (жадиной на существенную для дела информацию она сроду не была) кратко поведала им суть дела, указав глазами на мулатку, терпеливо караулившую на лестнице.
— Сейчас сами с ней потолкуем, — заверили сыщики. — Постараемся уладить и с ней, и с ее дружком. Если она что-то видела, понадобится нам в качестве свидетеля.
"Итак, вьетнамцы торговались с водителями, нанимая машину для дальней поездки. И их взяла какая-то легковушка бежевого цвета. Значит, тот, кто был за рулем, много не запросил с них… — Кате отчего-то стало вдруг жарко. — Но и довезли их за эту цену недалеко. Всего-то до… Трупы в лесу были найдены на двадцать втором километре. Они совсем не много пробыли в той машине… И в тот день как раз шел дождь, смывший и следы на дороге, и кровь…
11
«ИХ СПУГНУЛИ»
То, что произошло этой ночью в Солнцеве, стало для сотрудников милиции предметом нового расследования. Колосову, едва он утром приехал на рабсил дежурный передал, что звонил капитан Свидерко из УВД Юго-Западного округа, мол, срочно просит, чтобы с ним связались.
Николай Свидерко был старый колосовский знакомый. Впервые их пути пересеклись во время работы по одному весьма странному делу, имевшему неожиданный конец и доставившему обоим массу острых впечатлений. Свидерко и правда прежде работал в УВД Юго-Западного округа, а сейчас перешел в спецподразделение по раскрытию преступлений против личности на Петровку.
Последний раз они виделись с Колосовым около месяца назад, когда на юго-западе Москвы на берегу пруда было найдено обезглавленное тело. Эта находка обнаружилась почти сразу же после того, как в подмосковном Чудинове были найдены обезглавленные трупы вьетнамцев. И чудовищная общность почерка в обоих этих преступлениях сразу же тогда насторожила областных и столичных сыщиков.
Колосов был рад, что и этим паскудным, полным тайн и загадок делом с ним занимается в спарринге — как он говаривал — именно Свидерко. Этот рыжеватый, энергичный, подвижный как ртуть крепыш горячего и задиристого нрава нравился ему и как настоящий профи, и как свой в доску парень. Только уж очень скор был Коля на выводы и на принятие «неадекватных» решений. Он был из тех, кого в розыске зовут трудоголиками, — обожал риск в работе и порой, что греха таить, когда без этого по делу «ну никак не получался нужный расклад», действовал не всегда согласно строгой букве УК. Он также терпеть не мог и чьих-либо советов, и предостережений о том, что при такой дерзости недалеко и до… Ну, уж такой он был человек — фанатик и в принципе великий трудяга, один из тех, кому еще было не все равно, как она будет течь дальше, эта наша маленькая жизнь. И за это «не все равно» Колосов мирился со всеми его недостатками. С Колей работать было легко и приятно — они понимали друг друга с полунамека.
Свидерко звонил из района — а это что-то да значило. Колосов разыскал его через дежурку, тот был чертовски, на что-то зол и лаконичен:
— Привет, Никита. Ну, как губерния поживает? Дышите еще? Ишь ты… А мне кислород перекрывают, — буркнул он в трубку. — Ты меня в пути застал. Мчусь, угу, угадал, на всех парах, щас колеса отскочат. Если желаешь, подъезжай и сам к нам на Бородинское шоссе… Район Терешково. Тут пост ГАИ. Там спросишь. Они в курсе. Вроде новый у нас, понял.
Почти все детали сходятся, кроме… Ну, на месте увидишь. Это у переезда железнодорожного — тут свалка дикая. ГАИ покажет, в общем. Или оно не ГАИ, уже ГИБДД какое-то, язык сломаешь… В общем, тут такое дело, Никита: есть свидетели вроде. Понял, нет? Так что, ежели заинтересовался… Жду, в общем. Мигом давай.
«Новый» и «давай мигом» в устах Свидерко означало лишь одно: ЕЩЕ ОДИН ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ ТРУП. И Колосов поторопился увидеть его собственными глазами. Это дело начинало приобретать действительно чудовищный оборот: убийства начинали учащаться.
Если раньше между страшными находками проходил минимум месяц, то… После убийства корейца Кощеевке прошло всего-то три дня…
Как ни совестно было признаться начальнику отдела убийств, но в этом Солнцеве он едва-едва не заблудился: там поворот запрещен, там, как кроты, что-то роют — объезд, там асфальт кладут. Слава Богу ГАИ (новое название, как ни старался Колосов, не приживалось) вразумило. «Там уже опергруппа работает с Петровки», — сообщили Колосову, внимательно изучив его удостоверение. Место происшествия на этот раз представляло собой действительно дикий, заросший густым бурьяном, захламленный до безобразия пустырь у заброшенного железнодорожного переезда, каких немало вокруг Москвы. Чахлый клин «зеленых насаждений» у дороги, насыпь, завоеванная сорняками, вдали — развалившиеся корпуса какой-то фабричонки… Прямо на насыпи — круглая глинистая яма, наполненная гнилой от жары водой: то ли пруд, то ли просто большая дырка в земле. Кругом раскидан разный ржавый хлам — от чугунных увесистых, вросших в землю болванок до остова кабины грузовика «ЗИЛ».
Колосов припозднился: осмотр трупа уже закончился. Милиция, как он узнал, находилась на пустыре с пяти утра — с того времени, как стало известно об убийстве. Свидерко вынырнул откуда-то из-за милицейских машин. Они с Колосовым поздоровались.
— Нам там уже или пока еще делать нечего — и так народу полно. Давай-ка притулимся в твоей развалюшке. — Свидерко по-хозяйски плюхнулся на переднее сиденье колосовской машины. — Я тебе в двух словах сейчас обрисую ситуацию. А потом по свидетелям двинем, пока прокурорские чухаются.
Рыжеватые усики Свидерко топорщились. И весь он был сейчас похож на взъерошенного рыжего кота, у которого удрала из-под носа уже пойманная мышь. Говорил он, словно рапорт читал: личность потерпевшего на этот раз устанавливать не надо, документы при нем найдены в кармане — Рахмонов Рахмон, житель города Ташкента.
— На вид ему лет двадцать с небольшим, салага еще зеленая. Эксперт на месте экспресс-анализ сделал — в крови зафиксировано значительное содержание алкоголя. В дупель пьян он был, когда его кончали, — повествовал Свидерко. — Не соображал, куда его привезли, сердешного. А красивый малый, прямо что тебе Чингисхан в рекламном ролике.
— Погоди… Ты что, его лицо видел? Ах да, там же паспорт, — Колосов разочарованно спохватился.
— Не только паспорт. На этот раз голова цела, Никита. При нем. Но, увы, только на три четверти, — Свидерко поморщился. — Они на этот раз просто не успели все закончить. Их спугнули.
— Их? Свидетели точно видели, что их двое?
— Свидетели одного видели. И тачку ихнюю. — Свидерко хмурился:
— Только это все равно пока туфта;.. Да сам сейчас поймешь, отчего я такой скучный. А дело было, как мы установили, вот как…
Ночью на солнцевскую свалку забрели двое бомжей. Зачем и почему именно ночью? «Так у них же конкуренция, — рассказывал Свидерко. — Бутылки, тряпье, утиль разный собирать — они ж друг с другом из-за такого богатства на ножах. С вечера на промысел приладились ходить, ну, чтоб конкурентов опередить. Эти наши Барсуков и Водкин…»
— Кто? — Колосов не мог не усмехнуться.
— Фамилия такая русская. Водкин Петр Захарыч. Амбре от него — с ног прям валит, закусывать надо. Свидерко сплюнул в окно и закурил. — В общем, они на пустырь где-то во втором часу заявились — до этого пили в ларьке у станции метро. Пришли, говорят, за ломом. Присмотрели, мол, накануне какую-то чушку тут — вроде медная. А у метро третий день фургон стоит с объявлением «Металлолом покупаем». Ну, начали возиться, чушка тяжеленная, чуть пупки не надорвали. Вдруг слышат шум машины. Ну, им плевать — проехала и проехала. Ан, слышат, останавливается. Дверца потом хлопнула. — Свидерко глянул в окно. — Э, да вон они, кажется, налево уже намылились, ну я им покажу, сказано же было не уходить. Сиди, сейчас от них все узнаешь сам.
Свидерко выскочил из машины пулей, исчезнув, через секунды вновь появился, точно у него была шапка-невидимка и он то нахлобучивал ее, то снимал. Его сопровождала уже компания: молоденький лейтенантик в форме и двое оборванных существ неопределенного на первый взгляд пола и возраста.
Лейтенантик был явно теперь уже приставлен следить за этими свидетелями без адреса, которые хотели дать тягу, потому что затянувшийся осмотр и вопросы их уже давно тяготили. Амбре от обоих исходило действительно устрашающее: Колосову померещилась даже уборная-очко в той разбойничьей коммуналке в Красноглинске. Он еле заставил себя выйти из машины, чтобы выслушать оборванцев. Оба бомжа, грязные, небритые, завшивленные. (Водкин еще ко всему как-то подозрительно отхаркивался, сея себе под ноги жирные плевки), начали при виде начальника отдела убийств сразу в унисон истово и заполошно выкликать:
— Да товарищи-господа-начальники, мы-то штой-то у вас… Да нам итить надо, да мы с утра не жрамши… Да сколь можно об одном и том же талдычить?
— Вас еще следователь не допрашивал, — строго обрезал их Свидерко. — Не жрамши они… Не опохмелились, скажите лучше. Снимут с вас показания, тогда гуляйте на все четыре стороны.
— Да каки-таки показания? У нас и в горле сушь и язык отмолотили весь…
— Расскажите мне, что вы видели. — Колосов произнес это голосом усталого и важного «большого начальника» — кого-то из министерства передразнивал, кого — забыл. — Вас скоро отпустят, вы и так очень помогли следствию, товарищи. — Пересилив себя, он доверительно положил руку на плечо Водкина, зорко следя, чтобы к нему не перекочевали вошки.
Мало-помалу бомжи утихомирились, уяснив, что их все равно без «разговора» на четыре стороны не отпустят, а значит…
— Ну, корячились мы тут с энтой железякой, — начал обреченно Водкин. — Слышим, машина подъехала. Ну, я Сашке и говорю…
— Это я тебе говорю, — влез ревниво Барсуков, — я и говорю, кого на хрен несет сюда за полночь? А лунища-то как бельмо — белая-белая, видно все как днем. И она тоже белая, машина-то у леска, как вошь… Смотрю, движение какое-то вроде возле…
— Ну-ка, пальцем ткни, где вы корячились и где остановилась машина? — вклинился Свидерко.
— Мы о-он там были, где бузина растет, мать ее, — указал Водкин. — А машина стала на шаше… Встала — фары горят, как зенки. Потом гляжу — двое из нее вышли. Точнее, один на своих ногах, а второго он волоком. Тот стоит — шатается. Ну, я думал, рвать его сейчас начнет, указало. Чего, думаю, на блевотину глядеть? Стали мы с Сашкой дальше корячиться. Потом спины разогнули, глянули в ту сторону — батюшки! Один стоит, а второй уж лежит! И тот первый пал на него сверху наземь-то, как коршун. Глядим…Что-то чудное происходит. А машина — фары снова включила, и лунища светит… И этот с машины над лежащим что-то… Ну, я возьми да и шагни из кустов. Думаю, чего он там — обирает этого, што ль? Как увидел он нас — кэ-эк попятился, что твой зверь. Скок в машину, она газанула! Мы с Сашкой рысью туда. А там, мать моя начальница…
— Айн момент, — прервал его Свидерко. — Что за машина была? Марка какая?
— «Жигуль». Не новая, не такая, как эта. На «копейку» вроде смахивала, белая или бежевая… Как вошь, я ж говорю.
— Первая модель «Жигулей»?
— Ну, может; не первая, а третья, пятая… Хрен ее знает — фары круглые, тупорылая такая, старая, в общем, не как эта ваша, — бомж отмахнулся, — По глазам вижу — щас про номер спросите. Не видал я номера! Что я, филин, в ночи цифирь углядывать?
— Лунища же светила, — фыркнул Свидерко. —Ладно, папаша, не помнишь номера — Бог с тобой А в машине еще кто-то был?
— Был. Был. Двое, точнее, трое их всего было. Один остался — мухи его вон уже облепили. А те двое утекли, как нас увидали, — вмешался снова Барсуков. — Этот, ну, который убивал-то потом… Ну, в общем, он назад сиганул — я видел, на заднее сиденье. И машина сразу же тронулась. Выходит, шофер у него был.
— Выходит. Наблюдательный ты, — одобрил его Колосов, перейдя на «ты» — «вы» эти челкаши даже не знали что такое. — Потом ничего у убитого не брали?
— Да что мы, звери, что ли? Как увидели, как он, — давай только Бог ноги. К Трифонычу побегли на бойлерную, во-он в том доме. Он потом сам и до телефона побег вам звонить… Вы вот что, товарищи-господа-начальники, нас уж тут все насчет опознания пытают. Ни-ни — поняли? Никаких опознаний. Мы энтого и видели всего минуту-две. Молодой вроде, в черное одет, а уж какой с лица — не запомнили, да рази до того было?
— Эти наши ханыга их и спугнули, — подытожил Свидерко, когда свидетелей под конвоем бдительного лейтенантика позвали к прокурорскому следователю, крайне недовольному, что их «опрашивают какие-то посторонние лица». — Парень, как и те, наши и ваши, убит ударом ножа. На этот раз в горло. Ударили, видно, в самый тот момент, как он вышел из машины. Там кровь на траве. Если он был действительно сильно пьян, даже и сопротивляться-то не мог. Потом, когда он упал, его перевернули лицом вниз. Эксперт описал механизм нанесения последующих повреждений. Перед тем как начинать его разделывать, с него сняли кожаную куртку и свитер. В такую-то жару так утеплился! Ну, узбек же, они привыкли там у себя… Мда… Вещи рядом с телом валялись, они бросили все, как есть. Там, кстати, и документы были…
— А деньги там были? — спросил Колосов.
— В кармане брюк стольник с мелочью. Пил не на свои, на чужие, правильно ты думаешь. — Свидерко глянул на коллегу. — Могли и специально напоить, чтоб потом легче справиться. Слушай, а разве им Коран пить разрешает? Впрочем, Коран дома, а тут… Ему не успели отчленить голову. Только готовились: на шее трупа на затылочной части глубокий поперечный разрез длиной около восьми сантиметров. Словно каким-то острым широким лезвием сначала наметку сделали. Мышцы рассечены, вены, эксперт говорит, что позвоночный столб не затронут, не успели…
— Что-нибудь еще найдено на месте? — спросил Колосов.
— Только смазанные фрагменты протектора. Стандарт, никаких особых примет. Следы действительно принадлежат «Жигулям», модель наши в лаборатории определят, так что… Эхма, да что это пока дает? Что же это, Никита, у нас получается-то, а? Два параноика, что ли, буйных в союз объединились?
Колосов не отвечал, перебирая в уме скудные данные: светлые «Жигули» неопределенной модели, старые. Потерпевший снова с Востока. Почему их так привлекает этот тип? Это какой-то особый фетиш или это отчего-то очень важно для них — вот такой внешний вид жертвы — восточный? И еще одна деталь: нападение снова совершено у воды. И вьетнамцев, и того беднягу с Юго-Запада находили одних у лесного ручья, второго у пруда. Кощеевского корейца убили на шоссе возле оврага, пытаясь потом спрятать труп в трубе для сточных вод. И здесь вон рядом водоем — яма… Что это? Простое совпадение или же… Далее, чем занимался этот Рахмон Рахмонов в Москве? Из пяти жертв — один ранее судимый, двое полулегальных иммигрантов-торговцев, один даже наркокурьер. А этот кем был? Ну да это можно установить на этот раз почти точно… Но зачем им, этим ублюдкам, их головы? Что это за дикая охота за скальпами при луне? Кто же они, те двое из бежевых «Жигулей», пассажир и водитель — сдвинутые с катушек маньяки? Сразу вот так оба синхронно на одном пунктике сдвинутые? Объединившиеся ради одной цели? А что, разве такого не бывало — два маньяка? Редко, но… Правда, серийный убийца такого полета — чаще всего закомплексованный одиночка. Но в криминальной практике встречались и такие вот «двойняшки». Правда, не в нашей стае, как говаривал старина Киплинг, однако…
Колосов понуро смотрел себе под ноги: итак, свершившийся уже факт — случаи нападений начинают учащаться. А это значит.., либо у этих полоумных наступил некий пик активности (луна, что ли, действует?), либо же… Либо тут кроется что-то еще. Дело в чем-то ином… В чем, Господи? На этот раз у них все планы сорвались по вине случайных свидетелей, а это значит…
— Ждать нового жмурика, Никита, — вот что нам, кажется, остается, — эхом, словно угадав его печальные мысли, откликнулся Свидерко. — И где он всплывет — у нас ли, у вас ли… Объект посягательств у них одинаков в каждом случае: приезжие с Востока. Причем такие, к которым сторожа, даже если б мы очень хотели, приставить все равно бы не смогли. Приезжие — перекати-поле, кого и не хватится никто. Хрен знает почему, но только азиатов они отчего-то и уважают… Может, обиженные какие? Мстят за какие-то грехи на межнациональной? Только этого нам туг не хватало! А надо и эту версию проверять. Тут, глядишь, и фээсбэшники еще подключатся… Сейчас тело в морг повезут. Не хочешь лично на затылочную рану взглянуть?
12
НАРЦИСС И ЕГО БРАТ
Такими он их еще никогда не видел. Было половина пятого утра, когда они вернулись домой: Белогуров слышал, как стукнула входная дверь. Он поднялся с постели, спустился в холл-прихожую, позаботившись сначала о том, чтобы двери спальни были плотно закрыты — не хватало еще, чтобы Лекс проснулась.
В эту ночь он, честно говоря, почти не сомкнул глаз. Женька и Егор уехали около полуночи, и он ждал их — сидел в гостиной, тупо глядя сначала в телевизор, потом просто на абажур лампы, и пил коньяк. Хмурая Лекс бесцельно слонялась по дому. Ее мучило очередное недомогание, а в эти дни она, по ее словам, чувствовала, «словно ее поезд переехал». Будь она в форме, он бы сразу забрал ее в постель, забылся лучше ею, а не глушил бы как заведенный робот, рюмку за рюмкой, напряженно прислушиваясь — тормозит ли в переулке у их дома машина, не возвращаются ли Дивиторские с очередным…
Спать он поплелся лишь тогда, когда почувствовал, что коньяк переполняет его до краев, плещется внутри, как теплое полноводное озеро. Лекс уже сопела, видела седьмые сны. Раскинулась на кровати, раскрылась. Он не позволял ей спать в ночных рубашках, любил чувствовать у себя под боком это нежное тело, эту пухлую мяконькую плоть, шелковистую кожу. Но сейчас по причине своих девичьих проблем Лекс напялила на себя смешные панталоны. Они придавали ее сонному облику что-то клоунское и непристойное. Он прикрыл девочку простыней, отодвинулся на самый край кровати. Спал тревожно и плохо. А потом очнулся, заслышав шум в прихожей.
Первое, что его насторожило, когда он увидел Дивиторских, — шальные, испуганные глаза Егора. Парень был в той, выездной (как он ее называл) одежде, он Молча и стремительно прошел по коридору и заперся в ванной. Белогуров услышал, как его рвет над раковиной. Так уже бывало: у Егора был слабый желудок. Его тошнило и выворачивало наизнанку от страха с тех самых пор, как с ним произошел тот несчастный случай на арене. Потом за дверью ванной загудела вода. Его брат, это Создание, как звал его Белогуров, напротив, был вял и медлителен. Даже как-то чересчур медлителен. Предварительно постелив на пол прихожей пластиковый чехол (такие чехлы теперь постоянно висели в прихожей в шкафу-купе), он начал неторопливо разоблачаться до плавок. Потом сложил все вещи на полу горкой и закатал в пластик. Выполнения вот такого странного ритуала по возвращении жестко требовал с него сам Белогуров. Хотя Чучельник и работает на месте всегда очень чисто, но были случаи, когда на его выездной одежде оставались следы крови. Однажды он даже замарал ею обивку кресла в гостиной. С тех пор Белогуров не пускал его в таком виде дальше прихожей — пока не разденется и все за собой не уберет.
Сброшенную одежду, а иногда и обувь (если она была не особо запачкана), срочно стирали в машине. Если же отстирать ее было уже невозможно, то ее на следующий же день вместе с прочим мусором и отходами вывозили в пакетах куда-нибудь за Кольцевую и тщательно закапывали. Белогуров лично настоял на таком железном порядке: экономить на барахле не стоило, ибо в случае чего непредвиденного экономия могла дорого им обойтись.
Белогуров смотрел на кучу тряпок у ног Создания. Кроме этого узла, должен быть еще один — пластиковый черный пакет, специальная, непромокаемая тара… Но на полу больше ничего не было.
— Что произошло? — хрипло спросил Белогуров. Он еще плохо соображал — внутри плескалось и перехлестывало через край коньячное озеро. — Почему вы пустые? Снова что-то не так?
Из ванны вышел Егор — уже в махровом халате. Мокрые волосы — в кольцах кудрей, капли воды на коже. А глаза по-прежнему шальные, странные.
— Нас едва не застали там, — сказал он. — Все было готово, мы почти все сделали, а там.,. Какую-то падаль" вдруг туда поднесло.
— Куда? Куда поднесло? Кого? — Белогуров чувствовал: Вот-вот сорвется на сиплый истерический крик, хотя и сдерживается изо всех сил. Но этот остекленевший страшный взгляд Егора Дивиторского, в котором застыл один лишь животный испуг, выносить было не просто…
— На свалку. Мы его на свалку привезли в Солнцево. Там так тихо, — это произнес Женька Создание. И неожиданно потянулся всем телом, хищно, словно разминая затекшие мускулы, вскинул руки, коснувшись пальцами дверной притолки. На груди его надулись бугры мышц. — Он сюда с Ташкента вроде приехал, а жить негде. Мы его на Казанском возле бильярда встретили, где игровые автоматы: Егор его просто очаровал. — Создание говорил на удивление связно. Белогуров давно заметил, что обычно молчаливый и заторможенный Женька после таких вот ночных возвращений словно бы оживал. На щеках его играл румянец, глаза как-то блаженно туманились, а во всем теле — сытом теле молодого животного, телепрекрасно развитого физически недоумка с ущербными мозгами (словно природа, истратив все свои генетические запасы на эти великолепные плечи и торс, поскупилась на дополнительные извилины) — чувствовалась какая-то сладострастная истома.
— Он выпил. А Егор ему еще купил в кафешке. Потом мы ему и пива взяли, — продолжало повествовать Создание, словно смаковало слова на вкус. Сам же Егор молчал. А именно его объяснения и хотелось сейчас слышать Белогурову; — Он нам подходил. Кожа чистая, ни угрей, ни шрамов, волосы густые… Я его сначала хорошенько рассмотрел. Сказал, что он может переночевать у нас на хате. У нас никого — только мать… А он пьяный был, в машине плакал даже, говорил — живем мы очень хорошо в Москве, весело. Остаться хотел. И я ему пообещал, что останется… — Создание, цепко ухватившись за притолоку, вдруг гибко подтянулось. Далее Женька говорил, чередуя слова с подтягиванием, словно ему необходимо было немедленно израсходовать бьющую через край энергию. Белогуров уставился на эти странные акробатические номера — он по-прежнему мало что понимал. Он не видел, что за его спиной Егор с тревогой не спускает глаз с лестницы, ведущей на второй этаж. О, он-то сразу усек, отчего Женька Чучельник начал так взбрыкивать и играть мускулатурой. Только этого еще сейчас тут не хватало!
— Егор и повез нас. Куда-то далеко-о… — Создание перевело дух. — Я его потом за шиворот вытащил, он легкий. Сказал — дома мы уже. Я все старался сделать; правильно. Очень-очень старался. Волосы у него были густые, я даже потрогал — такие густые, как коса у… Я уже хотел начинать работать дальше, а они вдруг закричали на нас из кустов.
— Кто, закричал? — Белогуров спросил это очень тихо.
— Я не видел. Какие-то люди. Дядьки.
— Ты не видел. А они вас видели?
— Да. — Создание безмятежно улыбнулось.
— И они видели все.., с самого начала?
— Иван, погоди, мы.., мы действительно там огромного дурака сваляли, не проверили сначала, но.., но они далеко от нас были, там ни один фонарь не горел, только луна… Они нас не узнают, Иван, ни при каких условиях. — Егор говорил это твердо, быстро, словно сам себе зубы заговаривал, успокаивая, но по его остекленевшему взгляду, где все еще так явственно читалось «нас застукали, все пропало», было видно: сам себе он не верит.
— Они видели меня. Егор был в машине, — простодушно сообщило Создание. — Мне пришлось все бросить. Но я не испугался. Я вообще никого не боюсь. — Последнюю фразу он выдал как-то особенно вызывающе и строптиво, устремив взгляд через голову Белогурова куда-то на лестницу.
Белогуров оглянулся. Наверху, на самой последней ступеньке, стояла Лекс — Господи, они все-таки разбудили ее. Она накинула на себя его рубашку, но та была ей мала, расходилась на груди, едва прикрывая соски. Именно туда и смотрел сейчас Женька, этот полоумный Чучельник, это Создание, а точнее, ошибка природы.
Белогуров вздрогнул, что-то невыносимо гадливое, подобно нечаянно проглоченному таракану, ощущая в горле, и вдруг неожиданно для самого себя.., со всего размаха ударил Чучельника кулаком в лицо. Секунду он еще ничего не видел перед собой — точно это его так вот звезданули между глаз: лишь плыла, ворочалась, плавилась ярость, пропитанная коньячными испарениями. Ярость, копившаяся в душе так долго, а теперь прорвавшаяся наружу, как гнойный нарыв.
Он слышал сдавленный хрип Женьки, подавившегося кровью из разбитой губы, и сердитый и испуганный окрик Егора:
— Да ты свихнулся, что ли? За что ты его-то бьешь?! — За то… — Белогуров со свистом втянул воздух сквозь зубы, последним усилием воли сковывая свое бешенство. «Господи, какой же я дурак, какой дурак — разве можно вот так перед ними распускаться…» — Зато, чтобы помнил впредь.
— Что помнил?! Мы что, виноваты, что эта рвань коричневая в отбросах там рылась? Какие-то доходяги… Сам бы попробовал съездить… А то все нас посылаешь! — Лицо Егора перекосилось от злобы, «Видел бы сейчас этот Нарцисс себя в зеркало, — подумал Белогуров, — Как шакал, как шакал в капкане…»
Создание (удар отбросил его к стене — Белогуров и сам удивился своей силе) молча стерло кровь с подбородка, горестно всхлипнуло. Вообще-то он привык к побоям: Егор тоже частенько поднимал на него руку, когда злился, что его слушают недостаточно внимательно. С детства колотушки вбили в Женьку хорошо усвоенную заповедь: старших — Егора, а потом и дядьку Федора, а потом и этого вот типа, хозяина, что жил в этом красивом просторном доме, надо беспрекословно слушаться, иначе…
Белогуров брезгливо наблюдал, как Женька (он словно потух теперь, как перегоревшая лампочка) наклонился, собрал комок сброшенной одежды и поплелся в ванную. На Лекс на лестнице он больше не глядел..
— Ты еще пялишься! Застегнись! — зло прикрикнул на девчонку Егор. — Ну чего тебе-то тут надо? Зачем его дразнишь?
— Я? Кого? Да я просто смотрю, как вы грызетесь. — Она облокотилась о перила. — Сами же, дураки, разбудили… Вы откуда такие бешеные? Что-то случилось?
— С печки азбука свалилась. — Дивиторский-старший с досадой отмахнулся. — Иди к себе! Дай нам, Бога ради, поговорить нормально!
— Женьке нос расквасили, а говорят нормально, — невозмутимо фыркнула Лекс. Невозмутимость — вот что больше всего поражало Егора в этой девице с таким чудесным старинным именем Александрина. Правда, к этому имени, точно банный лист к заднице, совершенно некстати лепилась самая плебейская фамилия Огуреева («Обалдеть как колоритно», — смеялся Белогуров), подаренная Александрине родным папашей. Девчонке весной исполнилось пятнадцать, а невозмутимости у нее с лихвой хватило бы на всю их троицу.
— Ступай к себе. Я сейчас приду, — велел Белогуров. — Это нечаянно у нас получилось. Я не хотел.
— Дайте я хотя бы Женьке умыться помогу. — Лекс совсем свесилась с перил — рубашка на ней почти вся распахнулась. Чувствовалось — ей нравилось, что мужчины там внизу не могут оторвать от нее взора.
«Наплачется Ванька с этой малолетней шлюшкой, — как раз в эту минуту думал Егор. — Ох, наплачется. Мне-то плевать, но как бы с Чучельником у них беды не вышло… Это она, мерзавка, его заводит нарочно. У Женьки вон уже чуть плавки не лопаются…»
— Иди к себе, — повторил Белогуров. — Ложись, еще очень рано. Я скоро.
Лекс состроила капризную гримасу и шмыгнула за дверь.
— Ну, ты наконец объяснишь мне вразумительно, что произошло? — Белогуров круто обернулся к Егору. — Идем в кабинет. А ты… — Он кивнул Чучельнику…
Создание с порога ванной смотрело на него. Отрешенное внимание к чему-то внутри себя — такое выражение Белогуров уже не раз наблюдал на лице этого недоумка. Но в этих пустых зрачках сейчас было и что-то иное, что-то, не очень-то понравившееся Белогурову. Он пересилил себя и снова кивнул Женьке. Он уже почти стыдился того, что поднял руку на это существо. Это, наконец, просто недостойно — вот так погано и грубо вести себя в своем собственном доме, при Лекс, уподобляясь…
— А ты иди умойся, — сказал Белогуров строго, — прими душ. Там в аптечке найдешь пластырь. Заклеишь ссадину. Только сначала прижжешь йодом, чтобы инфекция не попала.
С Чучельником надо было разговаривать именно так. Как с ребенком — строго и внятно, разжевывая то, что он должен будет сделать, до мельчайших деталей. Поначалу такая утомительная манера общения несказанно раздражала Белогурова. А потом он привык, ибо только после того, как Женька-Чучельник получал точные инструкции, как ему следует поступить, он делал все правильно, точно робот, на автомате. И действительно старался — этого качества у него нельзя было отнять.
— Мне не больно, — ответил Чучельник. — И если это так надо, я пойду в душ.
Белогуров смотрел, как он бесшумно скрылся за дверью ванной. Животное без мозгов, рептилия… Создание… Однако сколько у этого двадцатишестилетнего Женьки Дивиторского, обиженного природой, прозвищ в этом доме… Чучельник. Так они зовут его даже в глаза, даже Лекс иногда, хотя ей в некотором смысле и невдомек… Но только он, Белогуров, иногда зовет этого парня про себя и более претенциозно — «брат Нарцисса». Не слабо, да? Но что поделаешь, Женька действительно брат настоящего Нарцисса, не пропускающего ни одной гладкой полированной или зеркальной поверхности — уличной ли витрины, окна ли припаркованной машины, пластмассового рекламного щита, крышки стола, чтобы не полюбоваться украдкой на свое обожаемое отражение…
Дивиторский-старший, Егор, — истинный Нарцисс. Клинический случай, так сказать… И сам знает за собой эту маленькую причуду, а его братец-кретин… Странно все же, подумал Белогуров, шагая в шестом часу утра по коридору в свой рабочий кабинет, что имение с Нарциссом и его тронутым братцем три года назад так причудливо повязала его судьба-авантюристка…
С братьями Дивиторскими Белогуров познакомился в городе Сочи. То лето для него было поистине жарким, дел в недавно открывшейся галерее было столько, что лишь успевай поворачиваться. Белогуров делал все сам — никто тогда не помогал ему; обивал пороги в префектуре, следил за рабочими, командовал дизайнером, утрясал недоразумения с вневедомственной охраной. Собрание картин его деда было давно уже занесено в особый список музейных ценностей, и любое помещение, где оно находилось, предписывалось сдавать на охрану, ставя «на пульт» в отделении милиции. (Впоследствии, когда год назад в Гранатовом переулке они начали эти работы в подвале, сколько крови и нервов попортил Белогуров, чтобы добиться в местном УВД разрешения сдавать на охрану не здание магазина, а свою новую квартиру на Ново-Басманной улице. Он объяснил тогда милицейскому начальству, что хранит картины именно в квартире, опасаясь кражи из галереи. Но боялся он уже тогда не краж, а самой милиции. Не хватало только, чтобы когда-нибудь, когда Чучельник и его братец Нарцисс заняты в подвале, где-нибудь в демонстрационном зале по ошибке сработала бы сигнализация и в дом ввалился патрульный наряд!)
И вот в том августе, совершенно измотавшись, Белогуров решил устроить себе передышку на недельку. Ехать куда-то за границу он не успевал — припозднился с визами, а тащиться в какую-нибудь задрипанную Анталию или далекие Эмираты — глотать там пыль выжженных солнцем пустынь — его не тянуло. И он решил махнуть с понедельника до понедельника в старые добрые Сочи, куда еще в детстве не раз возила его мать.
Белогуров поселился в новой, недавно отстроенной «Редиссон-Лазурной» и в первый же день увидел в летнем баре на пляже Егора Дивиторского. Такого парня просто нельзя было не заметить: когда он шел по пляжу, ему смотрели вслед и девицы, и сорокалетние дамы, и старухи, и старики… Больно хорош он был, даже чересчур хорош для города Сочи. Был он с женщиной лет на пятнадцать старше себя — судя по количеству золота на пальцах и в ушах, преуспевающей провинциальной «мадам» из «новых», которая после третьего коктейля, где было две трети водки, одна треть льда и капелька грейпфрутового сока, громко твердила ему на весь бар, что в нем есть что-то «от Тимоти Далтона — мистера Рочестера». Аллегория была не слишком удачная, однако Егор Дивиторский был и вправду очень видным парнем: высоким, атлетически сложенным, стройным, холеным, самоуверенным, воспитанным, насмешливым и настойчиво-небрежно-пылким со своей переспелой подпившей дамочкой.
Окунувшись и немного позагорав, они ушли к себе в номер, а потом появились, как насмешливо отметил Белогуров (который смертельно скучал на пляже и от нечего делать начал наблюдать за этой колоритной парочкой), «со следами наслаждений на лицах». Тогда он решил, что эта великолепная микеланджеловская модель — скорей всего отъявленный курортный жеребец и бабник, Позже, узнав Егора поближе, он понял, что никакой тот не бабник (с женщинами он просто, по его словам, «либо поправлял здоровье, либо работал»), а всего-навсего Нарцисс — себялюбец. С той богатенькой и одинокой разведенкой, приехавшей встряхнуться из родимого Нижнего, где она владела одним из лучших в городе коммерческих ресторанов, он именно «работал». Трудился мальчик до седьмого пота и на жаре, и в ночной прохладе, и на диком нудистском пляже, и в номере отеля, и на задней площадке последнего ночного фуникулера, и в укромном уголке дендрария на укрытой от глаз кустами роз скамейке…
Нет, альфонсом на час он не был. Но среди смятых в экстазе простыней гостиничной кровати, среди поломанных роз, примятой травы, влажного песка он, как никто другой, умел внушить осчастливленной под самую завязку женщине, уже переступившей порог осени своей жизни, что за такие вот упоительные минуты с таким вот мужчиной, как он, надо щедро, очень щедро расплачиваться. И те, кто приехал в Сочи крутануть жизнь в последний раз, встряхнуться, забыться, завести знойный курортный романчик и у кого были деньги на все эти тридцать три удовольствия, платили ему, точнее, содержали его на всем готовом, лишь бы только он оставался рядом, не уходил, не изменял, подлец такой, красавчик и победитель, долгожданный двухметровый принц и неутомимый трахальщик до сладких обмороков и сердечных трепыханий среди новехоньких перин и подушек из мягчайшего финского пуха.
Жизнь капризной и ветреной женской содержанки, однако, Егор вел не всегда — только в летние «каникулы» во время отпуска. Однажды, когда они с братом уже жили в доме в Гранатовом переулке, он как-то вечером напился с Белогуровым на пару до положения риз и единственный раз в своей жизни разоткровенничался о своем прошлом.
Он и его брат Женька, оказывается, были из семьи цирковых артистов. О матери своей Егор сказал только, что она одно время была в кордебалете, потом работала ассистенткой у кого-то из Кио, а потом ездила по всей стране в шапито с сольным акробатическим номером. Об отце своем он вообще не упоминал. Зато много говорил об отчиме — родном отце Женьки, который женился на матери Егора, когда тому было шесть лет, и усыновил его. Дивиторский была ею фамилия (фамилии отца своего Егор, кажется, даже не знал), и он был младшим в известной династии цирковых дрессировщиков. «Потом он умер, батька мой приемный», — печально сообщил Егор. А Белогуров ехидно подумал: «Вот сейчас он добавит, что его сожрали львы прямо на арене». Но отчим Егора, оказывается, умер более банально: нетрезвый переходил Сибирский тракт, когда они гастролировали с цирком в Бийске, и его сшиб самосвал. Но это случилось, когда Егору было уже девятнадцать, а до этого они жили дружной семьей — трое мужиков: отчим и они с Женькой. «Мать нас бросила, — равнодушно сказал Дивиторский. — Когда поняла, что с Женькой не все ладно и он у нее на руках повиснет инвалидом, — сразу и слиняла. Кого-то себе нашла, в Киеве живет. Иногда пишет — редко».
С одиннадцати лет Егор уже сам выступал на арене. Его брали «мальчиком» в номера силовых гимнастов и жонглеров-эксцентриков. Он не боялся высоты, был силен и ловок не по летам, и мир подкупольных трапеций, лестниц, натянутых канатов, мир головокружительных сальто-мортале над затаившим дыхание зрительным залом под рокот барабанной дроби влек его к себе непреодолимо. «Цирком я даже во сне тогда бредил», — признался он Белогурову.
Он поступил «легко», как не преминул тут же похвастаться, в цирковое училище, учился там очень успешно и одновременно уже выступал в номере воздушных гимнастов. Получил отсрочку от армии — за него хлопотали в Управлении Госцирка, мечтал уже о своем собственном сольном номере. Но тут внезапно произошла трагедия с отчимом, и Егору пришлось думать, что теперь ему делать с братом-сиротой.
«А чем болен-то Женька у вас? — тогда пьяно поинтересовался Белогуров. — На олигофрена вроде не похож. Красивый такой малый, кудрявый, только заторможенный какой-то…»
С Женькой, как рассказывал Егор, с самого детства было что-то не так. Сначала и внимания не обращали — пацан как пацан, говорить только поздно начал. Но в семь лет, играя с цирковой обезьянкой («Коверные дети — так всю эту сопливую мелкоту в цирке зовут, — рассказывал Егор, — вечно за кулисами у клеток с животными ошиваются. Едва с горшка спрыгнут, уже кто родителям помогает, а кто так…»), он выколол ей глаза.
Сначала посчитали — несчастный случай. Но вскоре то же самое случилось с собакой пуделем, который так визжал от боли и ужаса, что его пришлось усыпить.
Женьку перестали пускать за кулисы, а от клеток с животными гнали прочь. Сверстники тоже его своей компанией не баловали. Одно время до школы у него была нянька — суровая и властная старуха, бывшая балерина на канате. Сплетничали, что это о ней молодой еще Окуджава пел: «Она по проволоке ходила, махала белою ногой…» Нянька обращалась с мальчиком как со строптивым зверенышем, учила в основном кнутом, редко-редко поощряя пряником. Женька ее боялся и ненавидел и однажды даже попытался сбежать из дома.
В школе, едва он пошел в нее, у него сразу же начались трудности с успеваемостью: он по два года сидел в каждом из начальных классов. Сначала эти неуды списывали за счет того, что ему часто приходилось менять школы — цирк постоянно переезжал. Когда отчим погиб, а Егор был студентом циркового училища, Женьке только еще исполнилось двенадцать лет, и директриса его последней школы прямо заявила Егору, что его младший брат в силу «своих слабых умственных способностей не успевает по программе и его следует перевести во вспомогательно-коррекционное заведение, предварительно посоветовавшись с психиатром».
Но тогда с психиатром решили повременить — еще чего, ребенка мучить! На помощь пришла многочисленная родня дрессировщиков Дивиторских. И в конце концов Женьку взял на воспитание его двоюродный дяди Федор Маркелович.
В молодости он тоже пробовал себя в цирке, но по причине обнаруженного врачами порока сердца вынужден был круто поменять профессию. Он по-прежнему любил животных, как и все в клане дрессировщиков" и укротителей, не мыслил себе жизни без них, а посему, окончив некие специальные курсы, стал работать на Сельскохозяйственной выставке.
С годами он стал великим мастером своего дела. А дело состояло в том, что он изготавливал чучела выставочных медалистов. Например, был на ВДНХ знаменитый конь-иноходец, или племенная свиноматка-призер, или баран-суперпроизводитель. И когда все эти выставочные знаменитости сдыхали от старости, из них для памяти музейной в павильоны «Коневодство», «Свиноводство», «Охота и рыболовство» делали чучела. Вот, мол, полюбуйтесь, уважаемые зрители, это — Буян, а это наша красавица Ромашка, а это знаменитый Браслет, взявший Большой кубок на бегах в Одессе в 59-м…
Работал Федор Маркелович и для лабораторий биофака МГУ, и для Зоологического музея, и для Сельхозакадемии. Деньги получал неплохие. К этому своему ремеслу он и решил приобщить странноватого, но весьма послушного, молчаливо-задумчивого племянника Евгения, раз уж тот никак не усваивает в школе положенные ему алгебру с геометрией.
«Ему не аттестат, не корка нужна, раз он у нас такой, а дело, что кормить его станет, когда я помру, — говаривал Федор Маркелыч Егору. — Ты-то бросишь его, знаю… Ты вон какой у нас парень, тебя такая дорога ждет, слава. На кой тебе такая обуза в жизни… А ему, ему, милый, учиться надо самому себе на хлебушек зарабатывать. Ничего, профессия моя редкая. В Москве нас, мастеров, по пальцам пересчитать можно. Однако и нужная, вон сколько заказов — один Зоологический с Никитской каждый месяц по пять шлет. Выучу я Женьку себе в помощники. Если понадобится — ремнем навык вобью. Парень-то он старательный, только молчун да заторможен… Но у нас, Дивиторских, дрессура годами, опытом накоплена — и мыши в поездах у нас ездили, и свиньи под ярмом ходили, и слоны польку-бабочку плясали. Так что и Женька наш усвоит, как ему теперь в жизни работать придется».
Пока Егор учился в цирковом училище, жил в Москве в общежитии, виделись они с братом часто. Женька постепенно, шаг за шагом осваивал будущее ремесло. Он был домосед, со сверстниками почти не общался, все дни проводил в мастерской Маркелыча. Тот то хвалил его, то поругивал, нередко и ремнем угощая с оттягом, но в общем-то был доволен: «Руки-то, руки, ты глянь, Егорка, у него какие — как у пианиста. Пальцы сами кожу чувствуют. А это в нашей профессии самое главное. Чутье — а не мозги ваши».
Потом, когда Егор, окончив учебу, попал по распределению в Управление госцирков Южного Урала и два года колесил с шапито по стране, когда он упорно работал над созданием собственного номера, который мечтал показать в Москве, они с братом долго не виделись Потом он действительно попал на гастроли в Москву — они выступали в летнем шапито в парке Горького, и там-то и произошел с ним на репетиции тот несчастный случай. «Номер не клеился, — рассказывал Егор. — Страховка мешала, я ее и отстегнул и… Как прыгал — еще помню, как летел оттуда камнем — уже нет. Очнулся уже после операции в реанимации в Склифе…»
У него были сломаны ноги, трещина в позвоночнике. Он провалялся четыре месяца в больнице, а затем в корсете и на костылях Маркелыч и Женька привезли его к себе в коммуналку возле Павелецкого вокзала, в дом, где была знаменитая пивнушка.
И вот там Егор, по его признанию, понял, что у него есть младший брат, который его любит и жалеет — наверное, единственный на всем белом свете. «Женька меня и выходил тогда, — говорил Егор, — с ложки кормил, горшки из-под меня таскал, гулять на своем горбу выволакивал. Полтора года мне еще потребовалось, чтобы на человека стать похожим (он пил, пил, пил, словно его во время этого рассказа мучила страшная жажда). А когда я к ребятам в цирк вернулся, то… В общем, почти сразу понял — баста, отработал свое…» Белогурова тогда поразили его глаза — темные, с расширенными от выпитого коньяка зрачками, — они говорили гораздо больше, чем эта сумбурная пьяная исповедь.
Нет, тело, хоть и жестоко покалеченное, но тренированное, привычное к нагрузкам и испытаниям тело атлета-гимнаста, не отказывалось служить Егору. Отказалась служить… «Душа, что ли, черт ее знает, — говорил он. — Когда поднялся, посмотрел вниз на арену, пот меня прошиб холодный. Понял — не могу ничего. Пальцев не разожму, канат не брошу. Только попытался оторваться — как начало меня там рвать, точно я из холерного барака сбежал».
Он напрочь утратил кураж, как называли это специфическое цирковое чувство бесстрашия и допуска разумного риска его коллеги-артисты. Спазмы страха и вызванная ими рвота скрючивали его пополам всякий раз, когда он только пытался посмотреть с высокой трапеции вниз на арену. Вот так все и пошло для Егора прахом — надежды, годы учебы, мечты о славе. Он не мог больше работать в цирке. Но надо было как-то жить. На дворе стоял 92-й год.
Все деньги, заботливо скопленные Маркелычем за его долгую трудолюбивую жизнь, все его кровные восемь тысяч «тугриков» — «машина, положенная на сберкнижку», в одночасье ухнули в вихре гайдаровских реформ. Маркелыч с горя запьянствовал (кстати, этот порок был широко распространен в семье Дивиторских, как и в семье по линии матери у Белогурова), а потом умер — сердце не выдержало (реформ или пьянства, этого Егор не знал).
И они остались вдвоем с Женькой в той комнате в коммуналке у Павелецкого. Женька уже числился тогда в кожевенно-скорняжной спецмастерской ВДНХ в качестве мастера четвертого разряда и кое-что зарабатывал. А потом и ВДНХ, и павильоны «Свиноводство» и «Охота», и чучельная мастерская тоже канули в небытие. Все закрыли, сдали род торговые павильоны, откупили, а что никто не взял — то просто развалилось, быльем поросло…
Егор Дивиторский с большими трудами, но все же нашел себе работу по вкусу — сначала продавцом в павильоне «Керамическая плитка из Испании» на той же ВДНХ, затем тоже продавцом в секции мужской одежды в супермаркете на проспекте Мира. Потом,
Прельстившись его великолепными внешними данными, его «повысили рангом» — взяли в фирменный обувной бутик на Садовом. И он зажил жизнью… Какой? Да чудной, как он сам признавался. Работал в шикарном дорогом магазине (это была словно приоткрытая дверь в другой, лучший, алмазно-брильянтовый мир богатых и сильных мира сего), всегда в белоснежнейшей сорочке при галстуке, отглаженных брюках, начищенных ботинках, всегда готовый подставить клиенту стул, зашнуровать, как «шестерка», шнурки, подать рожок, посоветовать новейший крем для туфель из кожи игуаны. Зарплаты хватало на хлеб с маслом, на тряпки, на Женьку, даже на отдых в городе Сочи…
Не прав был Маркелыч — Егор брата не бросил, даже напротив. И не потому, что был уж так чувствителен и добр, а… Он помнил только, что, когда лежал сломанный и жалкий, как раздавленная гусеница, рядом с ним никого не было (друзья из цирка звонили, навещали, соболезновали — но и только), кроме Женьки, который в меру своих сил и способностей, но все же как-то пытался помочь старшему брату.
Женька жил уже как трава — сам по себе. И что варилось в его кудрявой голове, было теперь одному Богу известно. Когда ему пришла повестка в армию, Егор сам пошел с ним в военкомат. Его направили на медкомиссию, а там врачи лишь головой покачали: да уж… Поставили диагноз: вялотекущая шизофрения в стадии временной ремиссии — и отпустили призывника на все четыре стороны. Автомат доверить ему так никто из армейских и не решился. По настоянию Егора, Женька прошел ВТЭК и стал считаться инвалидом детства, получал крошечную пенсию и имел право на бесплатный проезд.
В Сочи они тогда приехали вместе — Женьку просто не с кем было оставить в Москве. Да и Егору хотелось, чтобы он поплавал в море, пожарился на солнышке, кости погрел. Жить устроились на частном секторе Мацесты… Но все это, всю (или почти всю) подноготную братьев Дивитореких Белогуров узнал гораздо позже. А их первое близкое знакомство, с которого все и началось в городе Сочи, произошло при самых экстремальных и трагических обстоятельствах.
Тот проклятый вечер Белогуров провел в баре «Лазурной», кайфуя от безделья на летней веранде под шум прибоя. С ним была одна девчонка — двумя часами раньше он снял ее на нудистском пляже. Какая-то местная крашеная, точнее, мелированная блондиночка, только-только закончившая этой весной школу: Белогурова всегда тянуло к непорочным нимфеткам. Но девчонка, как оказалось, распробовала все уже аж с двенадцати лет — каждый год ошивалась среди нудистов, где в основном были солдаты из получивших увольнительную. Кроме того, у нее был какой-то воздыхатель из местных, которою она: и бросила в тот вечер ради «богатенького москаля» Белогурова, обещавшего сводить ее в шикарный бар на семнадцатом этаже «Редиссон».
То, что его сейчас будут самым банальнейшим образом бить, Белогуров понял, когда они с этой вертлявой недомеркой спустились во втором часу ночи на пляж. Девчонка уже скинула платьишко и трусишки и нагишом бултыхнулась в теплую воду. Белогуров же запутался в брюках, размышляя, скидывать ли уже заодно и плавки, и тут вдруг чья-то тень заслонила от него звездное небо.
На пляже появились пятеро темных (он их даже разглядеть толком не мог в ночи) личностей, крепких, как быки, и столь же агрессивно настроенных. Сначала Белогуров (как столичный житель из интеллигентной семьи, он терпеть не мог разных там резких слов и телодвижений) пытался разобраться с ними по-хорошему: мол, ребята, да в чем дело, да… Но его, полураздетого, начали попросту футболить, как мяч, — удар, еще удар — грудь, живот, подбородок, нога, пах — искры из глаз, адская боль.
Он никак не мог взять в толк: да за что?! Неужели за эту вот мелированную Аллочку или Анюточку, или как там ее…
От боли он унизился даже до того, чтобы визгливо и сипло заорать, призывая на помощь. Никто не откликнулся сначала, лишь пугливо метнулись из-за мола какие-то тени — парочка, застигнутая врасплох и не желающая вмешиваться в драку. Но потом… Потом в качестве героя-спасителя, точнее даже двух героев, принесло этих вот Дивиторских — Нарцисса и его братца, и вот тут-то…
Белогуров потом однажды спросил Егора: «А зачем вы вмешались тогда на пляже — не пойму?» А тот ответил: «Да дурака, наверное, сваляли. Мы тебя вечером видели на дискотеке в баре, когда еще белый танец объявили, вальс. Женька прямо глаз не мог оторвать — ты вальс классно танцевал, один из всех, все по углам жались. Кто ж из наших ровесников вальс-то танцует? А ты класс давал с этой девчонкой, перышко она в твоих руках была. Женьке и понравилось. А потом мы вас на набережной увидели, когда на квартиру возвращались. Женька меня тогда влезть в то дело дернул, он же сдвинутый…»
Получив удар ногой в грудь, Белогуров упал на гальку. Один из нападавших замахнулся на неге бутылкой — и убил бы непременно, размозжил череп, если бы не… Короче, в драку внезапно вклинились двое каких-то новых парней, в одном из которых Белогуров с изумлением признал того Казанову из бара. Сначала все было даже забавно: Егор драться умел и делал это с большим вкусом, но затем… Какой-то подлец, изловчившись, снова достал Белогурова ногой в кованом ботинке, а затем насел, колошматя по спине и ребрам; как вдруг…
Нападавшие под свежим натиском Дивиторского-старшего дрогнули. «Полундра!» — и их ветром сдуло с пляжа. Белогуров, стирая кровь с разбитого лица, кое-как поднялся и увидел…
Вот таким он впервые и увидел Женьку Дивиторского: тот сидел верхом на том самом типе, что пытался угробить «москаля» бутылкой из-под шампанского «Надежда». Сидел верхом на уже бездыханном трупе, все еще сжимая его горло руками. Когда до Белогурова дошло, что человек задушен этим вот странным на вид кудрявым юнцом в красной фирменной майке и джинсовых шортах, то…
То Ивану стало очень скверно. Да, этот кудрявый Женька тогда спас ему жизнь, спора нет, однако…
Они позорно бежали с пляжа, после того как Егор оттащил своего брата от мертвеца, за ноги сволок труп в воду и отпихнул как можно дальше от берега — пусть плывет в Турцию по воле морских волн. Бежали, тяжело дыша, обливаясь холодным потом страха, затем долго приводили себя в порядок в номере-"люксе" Белогурова. Потом решили, раз уж так получилось, немедленно возвращаться в Москву.
Белогуров купил билеты на самолет, на ближайший рейс, дико переплатив за первый класс — других билетов, дешевле, просто не было. Они летели вместе и…
С тех пор Белогурову казалось, что их всех троих словно связало какой-то невидимой, но крепкой нитью. Странно, но в Москве он сам (!) первый позвонил Егору (тот не делал попыток к сближению) и предложил работу у себя в галерее. Ему как раз позарез был нужен помощник и надежный, верный, свой в доску человек. А уж надежнее того, кто бросился защищать его в драку, невольно оказавшись замешанным в дело об убийстве, он вряд ли когда мог бы еще отыскать.
И Егор тотчас же согласился. Даже про деньги сначала не спросил… Попросил лишь, чтобы и Женьке приискали хоть какую-то работенку — «хоть полы на кухне мыть, хоть пылесосить и мусор убирать, а то он от безделья звереет». И Белогуров, хотя воспоминания о происшедшем на пляже вызывали в нем тоскливый ужас и брезгливую дрожь, согласился.
О том, что он взял себе в помощники и компаньоны в «Галерею Четырех» Егора Дивиторского, он не пожалел действительно ни разу. Странного Женьку он сначала с трудом переносил, едва-едва удерживаясь, чтобы не помыкать им. Но со временем, когда понял, что это Создание — не только трехнутый братец Нарцисса, но еще и Чучельник — человек, хотя и обделенный многим, но, как ни странно, обладающий талантом и навыками в таком ремесле, которое внезапно пригодилось им всем, тоже перестал жалеть, что взял его в свой дом. Если бы только не тревога за Лекс, то и вообще бы…
Белогуров поднял голову: они с Егором замерли посредине кабинета и не смотрели друг на друга. Всего-то несколько секунд прошло с того момента, как они покинули холл, а столько всего вспомнилось ему…
— Ну? Ты наконец объяснишь мне внятно, что стряслось? — спросил он, когда молчание стало уже невыносимым.
Егор смотрел в темное окно, закрытое от утренней зари снаружи непроницаемыми немецкими ставнями. Смотрел на смутное свое отражение, силуэт… Нарцисс — даже сейчас не может от себя оторваться! Когда братья Дивиторские перебрались со всем своим немудреным багажом в этот дом и стали помогать ему в галерее, Белогуров как-то однажды застал Егора врасплох. Нагишом тот разгуливал по холлу, пристально, завороженно наблюдая за собственным двойником в многочисленных зеркалах. Играл мускулами, любовно поглаживая плечи, бедра, принимал картинные позы культуриста и, возбудив себя, начал…
Белогуров тогда испытал странное чувство удовольствия и унижения. Он (он!), как какой-нибудь слюнявый извращенец, в дверную щель подглядывает за этим скульптурным онанистом. До чего можно докатиться, однако… Сначала он решил, что Егор довольствуется собственной секс-компанией лишь потому, что с ним, в данный момент нет подходящей женщины. Но потом пенял, что эта прискорбная самодостаточность и была единственным из способов плотской любви, полностью удовлетворяющей этого неудачливого короля цирка. Как печальный Мистер-Икс, Егор Дивиторский сам добровольно обрекал себя на одиночество и делал это потому, что… Ну, уж таким его Бог создал, ничего не попишешь… Впрочем, раз или два в месяц он все же ездил к проституткам, причем придирчиво и долго выбирал себе товар у «Националя» на уголке или у «Метрополя». Его интересовало лишь стройное, гибкое тело. На лица он даже не смотрел. Белогуров запретил ему привозить девок на Гранатовый, даже снял им с Женькой однокомнатную квартирку на Ордынке. Но вскоре обстоятельства потребовали, чтобы братья жили и работали именно в доме. И Белогуров тогда забеспокоился из-за Лекс: с Егором, захоти тот девчонку, ему было бы трудно соперничать. Но Егор на Александрину не реагировал, однажды даже обозвал ее «жирной» — видимо, ее тельце не будило в нем вообще никаких желаний.
— Нас едва не застукали, — после затянувшейся паузы в который уж раз повторил Дивиторский. — И Женьку ты зря так, ни за что… Это я скорей во всем виноват, он же просто…
Он начал рассказывать, как было дело. Белогуров слушал и думал: Нарцисс всегда выгораживает своего братца. Отчего это? И вообще, что заставляет Дивиторского-старшего столько лет так нянчиться с этим недоумком? Только лишь одно родственное чувство? Сострадание? Он вздрогнул: сострадание у них?! У этих двух.., которые делают то, что иному-то и в страшном сне не приснится? Вон как выгораживает Женьку — мол, делал все правильно, старался. Это я виноват — повез клиента на пустырь в районе Терешкова, специально карту смотрел, да и место уже знакомое, откуда было знать, что туда принесет ночью каких-то оборванцев?
— Кончай оправдываться, у тебя получается это плохо, — оборвал его Белогуров. — Скажи спасибо, что это произошло так, а не гораздо хуже. Сядь, налей себе вон коньяка. И не смотри на меня так… Успокойся же, ну!
— Вот только этого не надо, ладно? Этого — не надо! — Егор резко отвернулся. Он чувствовал — потерял лицо. Страх убил в нем все, чем он прежде так бравировал и втайне даже гордился. Животный страх, чувство непоправимой катастрофы (Неужели мы попались? Нас видели там? Неужели вот так глупо все и… Закончится? Неужели?!) гнали его по ночному городу, заставляя выжимать последние силы из стареньких «Жигулей». (Эта полудохлая, подержанная тачка, кстати, специально была выбрана и куплена Белогуровым на рынке, чтобы внимания привлекала как можно меньше.)
И только здесь, дома, когда он вывернулся наизнанку в ванной, страх немного отпустил. Разум уже нашептывал, успокаивая: тебя никто не видел, ты сидел в машине. Они, эти забулдыги, даже не смогут тебя опознать. Да и Женьку они видели секунду, не больше. А потом там было так темно… Только луна светила… Луна… Сквозь волнистые туманы…
— Что?! — Белогуров не верил ушам своим. — Что с тобой, Егор?!
— Сквозь волнистые туманы… Невидимкою луна… На печальные поляны льет печально свет она… — Егор провел по лицу рукой, словно срывая прилипшую паутину, потом налил себе коньяка и с жадностью осушил полный бокал. (Пил он вообще очень редко. «Не люблю», — как объяснял, памятуя о злой смерти отчима, сгинувшего «по пьянке», но, когда на него накатывало, не уступал в количестве выпитого Белогурову.) — Ты можешь что угодно мне сейчас говорить, Ванька, — сказал он, переведя дух. — Можешь орать на меня, можешь даже ударить, но… Так больше нельзя, понимаешь? То, что мы делаем, это… Словом, так больше невозможно.
— Что невозможно? — Белогуров сел на диван.
— Ездить, выслеживать. Ты думаешь, много в Москве косоглазых? Таких, какими Женька там в подвале доволен останется? Не забракует матерьяльчик исходный? Ты думаешь — они на каждом углу нас ждут? Три дня ездили — и что? Ноль полнейший. И вот только сегодня… А потом я вообще не могу, понимаешь ты?
Эх, да что ты понимаешь! Ты попробуй сам — там, на дороге, когда каждую секунду кого-то поднести может, когда… Женьке все по фигу — ясно. Но я-то, Ваня, я же живой человек, не робот бесчувственный.., — Рука Дивиторского, когда он ставил стакан на стол, предательски дрожала. Он стиснул кулак, стекло хрустнуло. Осколки впились в ладонь. Он тряхнул рукой.
Живой человек. Че-ло-век… Белогуров чуть не усмехнулся про себя, хотя и не до смеха ему было. Что ж, это либо открытый бунт на корабле, либо все еще отголоски того истерического испуга, пережитого на пустыре.
— И что же ты предлагаешь? — тихо спросил Белогуров. — Кто виноват, что у твоего безрукого безмозглого братца из трех исходных заготовок подучается только одна вещь? Кто виноват, что он портит все, к чему ни прикоснется? Если бы он делал все аккуратно, качественно, разве надо было бы столько материала?! Разве надо было бы вам, идиотам, столько ездить и искать?!
Дивиторский, ссутулившись, извлекал осколки стекла из ладони.
— Ну, что молчишь? — подстегнул его Белогуров. — Что ты конкретно предлагаешь? Бросить все? Вернуть деньги, отказаться? Нам заказали вещь — всего только еще одну вещь, потому что та, первая, как нельзя более пришлась заказчику по вкусу. Он хочет пару, ну? Нам он заплатил большие деньги — ведь ты же денег этих хотел, ты, Егор, им радовался. Нам установили срок. Твой братец требует себе минимум месяц для работы, для доводки, как он выражается, чтобы вещь приобрела тот вид, который нужен… Ну, я тебя спрашиваю! И что же остается нам? Сегодня вы не привезли ничего. Остается завтра, послезавтра, после-послезавтра и… ВСЕ. Все — финита, сроки выйдут, и Женька просто не сумеет довести эту чертову штуку до ее чертовой кондиции! Ты, наверное, ответишь: лучше отказаться прямо сейчас, раз уж так получилось. — (Тут Егору снова почудилось, что перед ним — кобра, которой он наступил на хвост, и она вот-вот бросится.) — Вернуть Михайленко деньги. Разбежаться в разные стороны. Прекратить это — не только прекратить выезжать и выслеживать, но и вообще прекратить это все. Я тебя верно понял, Егор? Смотри мне в глаза! Так вот: прекратить это ни я, ни ты, ни даже твой Женька уже не можем поздно.
— Да почему?!
— Потому что я уже не могу вернуть деньги Михайленко. Вчера еще мог. Но не сегодня. Не могу, потому что сегодня часиков этак в девять я должен их отдать — как первый взнос, Егор. Отдать за то, чтобы однажды таким же вот утром меня, тебя и твоего братца-придурка не нашли на такой же вот свалке в Терешкове с дырками в черепе и выпущенными кишками. Понял меня, нет?! Утром я должен отвезти их Салтычихе, потому что он так приказал мне!
Дивиторский длинно выругался. И с этим виртуозным матом, который так странно было слышать в кабинете, на стене которого над письменным столом висел нежно-серебристый «Портрет незнакомки» кисти Серова, а в простенке между окнами «Фейерверк в Монплезире» Сомова и «Царскосельские пруды» Александра Бенуа, как будто что-то разрядилось в сгустившейся над головами ссорившихся атмосфере. Что-то темное вроде как полиняло, рассеялось прахом, улетучилось, словно морок и мгла, но от этого не стало легче дышать, напротив…
— Итак, что ты конкретно предлагаешь? — в который раз повторил Белогуров.
— Тогда.., тогда, раз уж так получилось.., надо делать все здесь. В подвале. Привозить их сюда. — Егор выдавил это с трудом. — Раз уж так получилось… На дороге — это слишком опасно. Я не могу больше, я не ручаюсь там за себя… А в подвале… Никто ничего не услышит, там как эсэсовский бункер. А все.., ну, что останется.., можно будет в мешках вывезти потом…Тем более что нам ведь нужен только еще один, последний… Да? Последний, да? Женька больше не ошибется, не испортит. Я ему почки на.., отобью, если только посмеет испортить на этот раз! — Дивиторский встал — от него разило коньяком, как из бочки. — Времени мало, конечно, остается, чтобы подходящего найти… И я тут подумал…
— Что? — Белогуров поморщился: пожалуй, правильнее было бы спросить, когда он успел подумать?
— Раз времени почти не остается и нужно скорей… Словом, тот парень, что тебе звонил. Ну, Пекин…
Белогуров снова не верил ушам своим.
— Я его видел в «Колорадо» несколько раз, — Дивиторский облизнул пересохшие губы. — Он то, что нам нужно. Лучше мы никогда не найдем. Даже если бы время было, все равно". И потом, это же можно легко организовать — если ты его сам позовешь, позвонишь ему, он примчится сюда, и мы…
— Да ты в своем уме? — Белогуров смотрел на собеседника как на ненормального. — Ты знаешь, что Салтычиха с нами сделает, если узнает?
— Он не узнает. Он никогда на нас не подумает, — Егор снова смотрел в окно на свое отражение на стекле, — ему и в голову не придет. Они с Пекином… Ну, у него ж, у твоего разлюбезного дяди Васи, на морде все ЭТО написано… А Пекин… Я в таких делах не ошибаюсь… Ну, словом, о том, что он к тебе в гости наведается, китаец докладывать Салтычихе ни за что не станет. Ты понимаешь, о чем я? Был китаец — и нет, сплыл. Исчез, испарился. Они с Шуркой Пришельцем последнее время на ножах. Кое-что не поделили, — Дивиторский криво усмехнулся. — Ясно или тебе по буквам объяснить? Я в «Колорадо» их обоих видел — как две собаки, давно бы глотку друг другу перервали, только педика-благодетеля своего страшатся. При таком раскладе, уж если на кого Салтычиха и подумает — то не на нас, а на Пришельца своего, хлыща с баками. Ну и пусть разбираются, а мы — в стороне. Ни тени подозрения. А для нас, нам все равно, Ванька, лучше этого китайца не найти. Видел материальчик какой исходный? Даже если бы и сроки не поджимали, все равно… Он ведь словно создан для того, чтобы…
Белогуров закрыл глаза. Нет, они все же оба сумасшедшие. Это у них в роду — безумие, паранойя… Это гены одни и те же…
— Пошли спать, — сказал он хрипло. — Завтра.., договорим, точнее, сегодня, но позже. Мы сегодня закрыты. После такой ночи — какая уж работа…
— Ты только ответь — согласен?
— Я сказал — за.., позже. Я ничего не решил. А ты, — Белогуров шагнул вплотную к Дивиторскому, наклонился, тот подумал — неужели ударит? Но Белогуров лишь коснулся легонько его волос. — А ты, Егор.., я все тебя спросить хотел… Отчего за все эти годы ты в цирк ни ногой? Неужели нелюбопытно было бы взглянуть на… Ладно. Ну, словом — позже. Потом, не сейчас…
Шаги Белогурова затихли в коридоре, а Дивиторский все сидел, сгорбившись, в кресле.
13
«ВОЗЬМИТЕ ГОЛОВУ ВАШЕГО ВРАГА…»
Итак, случаи убийств учащались — Катя, узнав о новой трагедии в Солнцеве, сделала для себя точно такой, же вывод, что и Колосов.. Дело было московским «по территориальности», но эти ведомственные разграничения уже ничего назначили: столичный регион посетила общая беда — новая чума в лице новоявленного маньяка, а точнее — двух.
С утра Катя долго беседовала с Вороновым (от него и узнала про солнцевское дело). Известие о том, что наконец-то появились свидетели, — обрадовало. Сравнила информацию о солнцевской «копейке» и светлой легковушке, замеченной обывательницей «Вавилона»: цвет машины в обоих происшествиях почти совпадал, так что…
Однако существенных выводов делать все равно было пока не из чего. Машина? Да в Москве и области — тысячи таких светлых «Жигулей» первой, третьей, пятой модели. Свидетели? Полупьяные бомжи, наотрез отказывающиеся опознавать убийцу. А второго человека в той машине — шофера вообще никто не видел, так что…
Ей хотелось поделиться своими сомнениями с Колосовым. Но того, как всегда, не было на месте: он дежурил от руководства по главку и в качестве руководителя дежурной опергруппы был обязан выезжать на абсолютно все значимые происшествия. Дежурный сообщил, что в Стаханове на Клязьме совершена какая-то крупная кража из церкви — Колосов и «убыл руководить организацией раскрытия».
Весь день Катя трудолюбиво работала над материалами по задержанию банды Свайкина. Однако мысли ее постоянно возвращались к другим событиям. Наконец, не выдержав, она позвонила в отдел по розыску лиц, без вести пропавших, и установлению личности неопознанных трупов. Ее интересовало: пришли какие-нибудь данные, подтверждающие личность убитого в Кощеевке корейца? Тот ли он вообще, за кого его принимают? Но в отделе пропавших без вести ее огорчили: запросили по данным дактилоскопии и татуировки ГИЦ МВД, направили ориентировки в Йошкар-Олу — и ждем-с.
Катя даже расстроилась: то угрюмое колосовское «понятия не имею, что делать» начинало принимать все более масштабные размеры. Неужели только и осталось, что ждать появления нового обезглавленного трупа и снова пытаться найти на месте происшествия хоть какие-то улики? Но все эти улики: свидетельские показания, данные судебно-медицинской экспертизы, изъятые на месте фрагменты протектора — были столь зыбки и неопределенны, что найти по этой скудной информации подозреваемых — об этом даже думать было нечего. Так что же оставалась делать?
И тут ее осенило: как говаривали хоббиты, надо просто подумать своей головой. Точнее.., и своей собственной, и светлыми мозгами Сережки Мещерского. Он воображает, что обладает выдающимися способностями в области дедукции, логики и абстрактного мышления. Это, конечно, слишком сильно сказано, однако, что греха таить, многие из его отвлеченных гипотез по прежним делам (по которым Катя, а несколько раз и сам Колосов просили у него совета) полностью подтверждались.
Мещерский быстро вникает в суть вопроса и умеет.., не суммировать и обработать разрозненные данные, подобно дурацкому компьютеру, а вычленить из всего, порой скудного, хаоса сведений нечто главное, что и является основным стержнем происходящих событий.
Катя, не медля ни секунды, позвонила Мещерскому на работу. Он был занят, однако…
— Сереженька, а что ты сегодня делаешь, ну, скажем, в половине седьмого? — вкрадчиво осведомилась она после словечка «привет».
— Я? Да футбол, Катюша. Хотел домой да сразу и за телевизор: Бразилия с Голландией играют. Говорят — главное зрелище чемпионата, и я…
Катя вздохнула: вот что значит холостяк. Милый, славненький Сережечка все же очень одинок. И ему, конечно, конечно, надо жениться. А то с таким, мягким, таким рыцарственным характером ему ой как несладко придется в его одиночестве. Либо какая-нибудь хищница провинциальная подцепит, либо…
— Сереженька;, а я так тебя видеть хочу сегодня… Не знаю, что-то вдруг — такая тоска, — лживый Катин голосишко дрогнул. — И Вадька с воскресенья больше не звонил…
— Он позвонит, он же на работе! С этим Чугуновым ты же знаешь, какая морока, тем более с хворым… Катя, а ты правда хочешь меня видеть?
— Угу. Такая жара сейчас… Жара была такая, что с ветвей комочком серым падал воробей, — переврала она Китса. — Давай посидим где-нибудь на воздухе. Ту кафешку в парке Горького помнишь?
Они ездили туда в мае: Катя с Кравченко, Мещерский и Катина подруга Ира Гречко, которую она пригласила специально для Сережки. Но ничего путного из этого знакомства тогда не вышло. А Мещерский перевернулся в пруду на водном велосипеде — вымок до нитки. Они с Кравченко потом «в целях профилактики простуды» пили водку, а Ира Гречко уехала одна и очень рано — она жила за городом и торопилась на электричку.
— Ты, значит, в полседьмого освободишься? — спросил Мещерский, и голос его тоже дрогнул. — Тогда я заеду?
«Ах ты, ласточка», — умилилась про себя Катя и ответила: «Конечно».
В парке Горького (или как он там теперь назывался по-новому) в этот жаркий вечер было не так уж и много народа: роллеры катались по набережной да в летних кафе под красными тентами «Кока-колы» сидели влюбленные парочки. Мещерский был взволнован. Кате вспомнились слова одной своей приятельницы: «Если расстанешься с Вадькой, всегда будет у тебя под рукой запасной вариант. Сережка — золото. А что ростом не вышел — о таких пустяках даже говорить смешно! И вообще, он на молодого Джека Леммона очень похож…»
Они сидели за столиком кафе над заросшим ряской и плакучими ивами прудиком, по которому, точно челнок, лениво плавал одинокий черный лебедь. Катя помалкивала, и это было так на нее не похоже, что Мещерский разволновался еще больше. Ему уже мерещилось, что его позвали для каких-то важных решений. Черт, а что, если и правда Катя и он…
— Сережечка, я вот почему тебя видеть хотела:
Мне твоя помощь нужна, твой умный совет. Сама-то я ничегошеньки в этом деле не понимаю. Может, ты что подскажешь, — Катя, допив вкусный вишневый коктейль, проглотила вишенку с косточкой и пригорюнилась — У нас такие жуткие события на работе начали происходить! Я тебе сейчас все по порядку расскажу, ну а ты уж…
По мере того как Мещерский слушал ее сбивчивый, однако весьма подробный рассказ о событиях в Чудинове, Красноглинске, Кощеевке, о московских находках, его лицо вытягивалось. Катя, выходит, позвала его только затем, чтобы посоветоваться насчет очередной страшилки, которую она избрала себе темой для очерка. А он-то, дурак несчастный, размечтался, он-то…
Она поймала его укоризненный взгляд и.., опустила глаза. Бедненький душечка Мещерский… А он ведь действительно похож на молодого Джека Леммона… Отчего это маленьких мужчин словно магнитом тянет к высоким и крупным женщинам? Ну, прямо загадка природы…
— Я не понимаю, Катя, что ты хочешь от меня услышать? — Тон Мещерского был грустен. В нем сквозило: и ради этого ты звала меня — и эх!
— Сереженька, ну ты же умница, ты… Вспомни, как с тем делом в Каменске ты мне помог. А ведь здесь еще хуже — дикий, беспрецедентный случай — обезглавливание серийное! Это же.., ужас. И потом, мне как-то одной страшно и тревожно… И Вадька уехал, а я… К кому, кроме тебя, мне обратиться? Ты же самый-самый, самый.., большой мой друг.
Мещерский встал. Каш подумала: ах ты, переборщила! Сейчас тебе что-то будет, за твое коварство. Но нет, Мещерский отправился к стойке бара, принес кофе и тарелку бутербродов.
— Вместо ужина, Катюш, вот…
Он все ещё слышал ее «ты самый-самый»… Ладно, чего уж там. Проехали. Что сделаешь, раз уж так сложилось в жизни… — Да, я рад тебе помочь, — он улыбнулся. — Только…
— Тогда я вот о чем тебя сначала спрошу, — энергично кинулась Катя в наступление. — Вот из того, что я тебе сейчас рассказала, что бы ты — человек со стороны — выделил сразу для себя? На что бы обратил внимание в первую очередь?
— На то, что убийства происходят, Катя. Не одиночка, а группа людей — вы же установили, что их минимум двое, — с поражающей регулярностью убивает приезжих лиц восточной национальности, отчленяя и похищая у трупов головы.
— Ну? Это и я знаю. И что? Какой вывод у тебя из этого?
— Убийство — очень серьезная штука. На убийство не каждый решится — это аксиома. А уж если решается, для этого нужен очень серьезный повод.
— Ну? Мотив, ты хочешь сказать?
— Именно мотив. Из-за чего сейчас в основном убивают? Из-за денег, из мести, на заказ, из ревности и по пьянке. Убийство — такой вид преступлений (я сейчас не говорю о бытовых), когда страх убийцы отступает перед.., перед желанием, а иногда и потребностью лишить другого человека жизни. И всегда что-то для убийцы становится превыше его инстинктивного страха быть пойманным. Может, это странно звучит, но мне представляется, что в каждом таком случае для убийцы есть в его жертве некая определенная ценность. Эту ценность либо похищают, либо завладевают ею уже после как-то по-иному… Я туманно объясняю, но… — Мещерский и сам не заметил, как разошелся. — В том, что ты мне сейчас рассказала, есть одна странность: картина происшествий такая, словно бы единственной целью, единственной ценностью для этих людей является отчлененная часть трупа — мертвая голова. Что же это? С кем же мы, точнее, вы на этот раз имеете дело?
— С маньяками оголтелыми. На них это как раз и похоже. — Катя слушала Мещерского очень внимательно, подбрасывая время от времени крючки для наживки.
— С маньяками.., вроде бы да, а вроде бы и… Их, значит, двое. Два маньяка? Что ж, случалось и такое… И как же они себя ведут? Раз за разом терпеливо выслеживают жертву — заметь, им отчего-то нужен строго определенный тип, — везут ее в безлюдное место, убивают профессионально, с одного удара, затем обезглавливают. Отчаянный риск, страх разоблачения, постоянная опасность быть застигнутыми на месте, механически повторяемый, отлаженный, я бы сказал, набор одних и тех же действий — на одной чаше весов. А на другой — единственный вожделенный результат всех усилий: голова жертвы. И чаши весов, мне думается, тут равны… В каждом случае все направлено на одну цель: не просто обезглавить труп, нет, а и похитить его голову. Другими словами, унести с собой… Вывод?
— Какой же, по-твоему?
— Отчлененные головы им нужны, причем так нужны, что они готовы отчаянно рисковать, чтобы их заполучить. Я не знаю, с кем вы имеете дело — с маньяками — нет ли, но эти люди остро нуждаются в таких вот страшных сувенирах. Это мне и представляется главным (ты же о главном меня спрашивала) во всех известных эпизодах.
Далее будем рассуждать так: а отчего возникает у этих людей такая дикая потребность? Если ее диктует больной мозг, точнее, пара синхронно на одном пунктике свихнувшихся мозгов, это одно. А если нет…
— Если нет, — эхом повторила Катя, — то все равно, по-твоему, получается, что головы мертвецов им зачем-то нужны. Вот ужас-то, бр-р-р…
— Ужас, да. И опять же мы сталкиваемся с новым кругом вопросов. Головы, а их у преступников уже четыре штуки, надо где-то хранить. Если уж с таким риском они добыты, то их вряд ли выбросят… Даже если, как в фильмах ужасов показывают, их держат, как помидоры, в холодильнике, этот холодильник должен стоять в достаточно уединенном месте. Вряд ли такое возможно в коммуналке, общежитии, гостинице. Это либо отдельная квартира, дача, где проживают эти двое, либо какой-то дом, особняк, офис…
— Подвал, — подсказала Катя. — В ужастиках подвалы показывают.
— Итак, суммируем, что мы предположительно знаем об убийцах. Они люди не старые — это видно и по их энергичным действиям; и по возрасту их жертв; явно местные, хорошо изучившие дороги Подмосковья, — либо областники, либо столичные жители; имеющие отдельное помещение, куда не заглядывают посторонние; имеющие машину, незаметную и неказистую на вид — явно в целях маскировки; имеющие на вооружении нож и еще какой-то необычный, но удобный вид оружия с широким острым лезвием, пригодным для быстрого и аккуратного обезглавливания. Они также ловкие, решительные, сильные, не боящиеся крови люди, не бросающие друг друга в опасности и словно бы не задумывающиеся над всем ужасом того, что они совершают, объединенные одной…
— На уголовников или каких-то наемных это тоже вроде не похоже, Сереж.
— Их объединяет одна причудливая цель: заполучить голову очередной жертвы, — продолжил Мещерский. — Словно это какой-то чудовищный спорт или насущная потребность для них… Мда-а, потребность… Если кто-то зажигает звезды, Катя, уж прости мой цинизм, значит, это кому-нибудь нужно… Если же кто-то отчленяет головы, это тоже кому-то нужно… Очень нужно, просто позарез.., Не смотри на меня так. Это я в порядке полного бреда. Ты не могла бы в следующий раз поточнее привести цитаты из заключения судебно-медицинской экспертизы? Меня интересует, как эксперт предположительно описывает орудие, которым обезглавливали во всех случаях. Ведь это одно и то же орудие, так?
— Одно. Завтра же у Никиты из компьютера распечатку заключения возьму, — заверила Катя.
— Он мне звонил в воскресенье. Давно мы с ним не виделись. — Мещерский следил глазами за черным лебедем в пруду: тот клянчил булки у посетителей кафе. — Кстати, обезглавливание врага — древнейший ритуал, известный еще с каменного века. Встречался и у скифов, и у древних кельтов, был популярен еще в прошлом веке у многих диких племен Малайского архипелага. Были зафиксированы случаи и даже после Второй мировой у лесных племен Амазонки. А у древних хеттов даже руководство такое было своеобразное по бальзамированию такого вот военного трофея. Я перевод читал. Начиналось словами: «Возьмите голову вашего врага…»
— Сереж, но это не на Амазонке происходит и не в Хеттском царстве, а в двух шагах от Кольцевой дороги. У нас, понимаешь ты!.
— Сейчас многое что может происходить.., в двух шагах от Кольцевой автодороги; Время сейчас такое поганое, — Мещерский невесело усмехнулся. — А те ваши свидетели-бомжи точно не могут опознать одного из убийц?
— Нет. Мне в розыске сказали: они там сами в расстроенных чувствах — вроде что-то уже наклевывалось, и вот… — Катя махнула рукой. — Нет, Сережа, я чувствую: это дело — дрянь. Его вот так просто по случайному везению не раскроешь.
— Ну, никогда наперед не знаешь, как события обернутся. — Мещерский, видя, что Катя встает из-за стола, тоже поднялся. — Порой совершенно разные на первый взгляд происшествия оказываются связанными самым тесным образом. Может быть, и в этом случае…
Катя лишь плечами пожала. Она плохо поняла, что Мещерский имел в виду.
Она и не подозревала, что на пороге их всех уже караулит некое событие, вроде бы абсолютно «не связанное на первый взгляд» с тем, что так их всех сейчас интересовало и тревожило, которое и придает всему этому странному делу такой неожиданный оборот.
14
ЦЕРКОВНЫЙ ВОР И…
Это происшествие было нужно Колосову как собаке пятая нога. А выезд на него — как шестая. У него и своих дел было по горло. Но он дежурил сутки по главку и в качестве дежурного от руководства был обязан выезжать на любые значимые происшествия, чтобы контролировать работу оперативной группы своим недремлющим начальственным оком.
На этот раз выезжать пришлось в Стаханово — полусело-полупоселок городского типа на Клязьме. Там ночью обворовали местную церковь, украли несколько икон, представляющих «культурную ценность». Туда, точно коршуны на добычу, ринулся весь «антикварный» отдел розыска — у них давненько не случалось крупной церковной кражи, и они уже с ходу рыли землю.
Колосов чувствовал себя в этом деловом ажиотаже несколько лишним: в «антикварном» умные ребята сидят, профиль свой знают досконально, не ему указывать им на месте, как и что. Но делать было нечего. Церковь в Стаханове только-только открыли после восстановления. Была она старой, посвященной святому Александру Невскому, чей суровый образ еще сохранился на остатках фрески в левом приделе. Остальные фрески сгинули, за их восстановление никто не взялся — стены церкви просто покрасили масляной краской. Церковь была просторной, залитой солнечным светом, пустой и голой. Колосов осматривался по сторонам: да, негусто тут церковного добра, не обжились еще. А тут и последнее уперли…
Как было сразу установлено, вор или воры проникли в запертую церковь через окно фасада, сдернув предварительно с него решетку и выдавив стекло. Решетку сдергивали, привязав канатом к какому-то автомобилю (во дворе имелись следы протекторов). Ворюга был на «колесах» — либо на собственных, либо наверняка числящихся в последние три дня в угоне — и весьма профессионально укомплектован. Даже скотч, которым он залепил стекло, чтобы выдавить его бесшумно, был у него импортный, липкий, как моментальный клей.
По всему, действовала какая-то профессиональная уголовная морда, как отметил Колосов, отлично знавшая, что нужно брать: с иконостаса были украдены всего три иконы, однако весьма ценные — семнадцатого века.
— Так сигнализацию нужно было в церкви ставить! Что ж ты, отец дорогой, все тут наладил с ремонтом, а о самом главном не позаботился!
У дубовой конторки, за которой продавались свечи, иконки и душеспасительные книги, сейчас вместо старушки-продавщицы восседал один из оперативников «антикварного», а напротив, небрежно облокотившись на гигантского размера жбан-копилку для пожертвований, стоял… Это укоризненное «отец дорогой» относилось к нему — настоятелю храма отцу Дамиану, который с первого взгляда чрезвычайно заинтересовал Колосова.
Во-первых, он был ровесником Никиты, ему стукнуло чуть больше тридцати. Крепкий, плечистый, стриженный по-модному коротко молодец с бритым, выдающимся вперед упрямым подбородком и щегольскими усиками (что явно шло вразрез с общепринятым каноном). Во-вторых, под фиолетовой летней рясой отца Дамиана была.., тельняшка, видневшаяся в раструбы широких рукавов. Отец Дамиан был местной достопримечательностью: бывший кадровый офицер-десантник, принявший сан, окончивший духовную семинарию, а затем направленный в качестве полкового капеллана в войска. Он побывал в нескольких «горячих точках», потом занимался поисками и обменом наших военнопленных в Чечне, сам был пленен, Но, как говаривал близким друзьям, «с Божьей помощью утек» из кавказского плена, таким образом сэкономив для родной епархии деньги, потребованные за его освобождение.
В целях поощрения и повышения его направили «на отдых» в ближний подмосковный приход — в тихое Стаханово, поручив еще раз потрудиться во славу Божью: поднять из руин церковь святого победителя ливонских рыцарей на Чудском озере — как известно, человека тоже военного, бравого и героического.
И отец Дамиан два года сам лично, с топором, пилой, рубанком, стамеской и малярной кистью, во главе бригады добровольцев-сподвижников восстанавливал порушенный храм. И восстановил. А сейчас еще и строил при церкви Дом святого Аники-Воина — общежитие для инвалидов войны, тех из покалеченных в боях за Грозный, кто был в тягость родне и жид тем; что побирался по метро и электричкам «на протез».
Отца Дамиана уважали в Стаханове, и не только одни лишь богобоязненные старухи прихожанки, но и молодежь. А милиционеры местного отдела все сплошь либо крестились у него сами, либо крестили детей. Не раз отмечали вместе после праздничного дежурства Рождество и разговлялись на Пасху и считали отца Дамиана своим человеком, именуя меж собой исключительно Батей.
— Так денег нет у меня на сигнализацию. Епархия не выделяет, — ответил отец Дамиан. — Наши вон с отдела послали бумагу начальству во вневедомственную, мол, чтоб бесплатно установили или за счет отдела. Так ответа пока ждем.
— Ничего, батя, не переживай, найдем иконы. Все до одной найдем. — Это откликнулся мрачный как туча начальник местного розыска. — А тот, кто это сделал, кто сунулся сюда, ох и пожалеет, что на свет белый родился.
— Человек всякий милостью Божией силен, — ответил отец Дамиан. — Что поймаете вора и найдете украденное — не сомневаюсь даже. А потому просьба моя к вам; разрешите мне сначала с тем грешником переговорить. Милость Божия беспредельна. А человек — существо слабое… Не карать его, говорить с ним, разбираться надо сначала.
— Перечислите, пожалуйста, отец, какие иконы пропали. Они в каталог музейных внесены? — начали «разбираться» асы из «антикварного».
Колосов не стал им мешать. Его подозвал для консультации эксперт-криминалист, осматривавший осколки стекла на полу. Потом они перешли к осмотру двери ризницы, которая тоже привлекла внимание вора. В ризнице, как сообщил отец Дамиан, ничего не похитили, однако усилий, чтобы туда проникнуть, затратили немало.
— Он сначала пытался справиться с замком. Фомкой орудовал, — Колосов сбоку на свет посмотрел на вмятины на дверной притолоке. — Просунул ее вот сюда и пытался расширить отверстие, чтобы ригель замка из гнезда выскочил. А когда не удалось…
— Выпиливать начал. — Эксперт елозил на коленях у двери, осматривая выпиленную нижнюю филенку. — Сначала, змей такой, дырки сверлил, затем уж просовывал в них пилу… Сверло стандартное… А смотрите, Никита Михалыч, какой гладкий распил. Ни царапины на поверхности. Рука у подлеца тренированная.
— Здоровый парень. — Колосов прикинул на глаз ширину отверстия. — Дырка большая потребовалась, чтобы влезть. Пилил-пилил, а украсть ничего и не поддуло, — сказал он, оглядывая скудную утварь. — Ничем не прельстился тут. Думал, раз дверь на замке, значит, тут ценности, а тут… Бедная церковка, нищета прямо…
— Настоятель все деньги на благотворительность тратит да на общежитие теперь вот для калек. Мне мамаша одна тут местная сейчас поведала. Хвалит попа-то очень. — Эксперт вынул из чехла камеру, намереваясь сфотографировать следы взлома. — Иконы, что украли, — дар прихожанки. Старинные, дорогие. Берегла их в семье, вроде бы с тех пор, как храм тут в тридцатом разорили. Она от матери получила на хранение, потом в церковь снесла, как тут все наладилось. Плачет старуха, говорит, раз иконы в селе украли — быть беде. Либо умрет кто лютой смертью, либо гореть кому, давняя, мол, примета. Никита Михалыч, а вы в приметы верите?
Колосов лишь плечами пожал. Он давно уже к чему-то прислушивался. Гул какой-то доносился с улицы…
— Отец Дамиан, там народ, мужики во дворе собрались. Подите к ним, — звонко, на всю церковь крикнул влетевший с улицы белобрысый паренек в черном стихаре — церковный звонарь из послушников, приглашенный оперативниками в качестве одного из понятых.
А во дворе действительно собралась целая толпа — в основном старики и старухи, но была и молодежь, и люди среднего возраста, причем самые разные: домохозяйки с колясками, группа работяг в промасленных спецовках, два инвалида на костылях, бармен, официанты из кафе, что раскинуло летние тенты «Макдоналдс» у шоссе, кто-то из местной мэрии и даже три каких-то по виду весьма резких и крутых дяди с подбритыми затылками, подрулившие на синем джипе к самой паперти.
— Это кто ж такие будут? — Колосов запнулся — он не знал, как ему называть этого парня в стихаре и в рясе, фактически своего сверстника: ваше преподобие, отец, Батя…
— А это все наш приход. Прихожане. И те, что деньги на восстановление жертвовали, и те, что сами тут по выходным работали. Бармена видите? Он, кстати, и каменщик отличный. Дом себе сам построил.
И вот эту стену, она совсем у нас развалилась, почти заново всю переложил, — ответил настоятель.
Но тут прихожане обступили его — старухи ахали, плакали, жалели иконы, особенно «Матерь Божью, заступницу с младенчиком» и какую-то «Неопалимую Купину». Мужики допытывались: «Ну а што милиция говорит: найдут — не найдут? А когда найдут? Это дело на самотек нечего пускать, жалобу надо Генеральному писать. Милое дело — тока всем миром отстроили церковь, нате вам, какая-то гнида вломилась! Ну, Батя, ежели тока дознаемся, что это кто из нашенских, то…»
Личности с подбритыми затылками говорили мало. Лишь мрачно наблюдали за милицией. Местные стражи порядка их тоже вроде игнорировали. А что цепляться-то? У одного все его кровные три судимости погашены;, другой, хоть и рожа протокольная, по закону чист — бильярдную на станции содержит, и все у него вроде легально, сколько раз во время рейдов проверяли…
— А эти лбы, отец Дамиан, — осведомился Колосов, улучив момент, когда настоятеля прекратили осаждать вопросами и советами. — Тоже ваша паства? Вы и у таких деньги на церковь берете?
— Да, — отец Дамиан посмотрел ему в глаза. — Дайте вы — возьму у вас. Не имею права отказать человеку, который хочет отдать свою лету Богу, лишь потому, что лицо его и образ жизни мне не по душе. Он Богу, не мне дает. И если его благотворительность идет от сердца…
— У них? У этих вот? — Колосов недобро усмехнулся, — Ну, вы, батюшка, я скажете тоже… Не удивлюсь, если выяснится, что один из них или их корешки и грабанули у вас тут все хозяйство.
— Они не трогали иконы. — Отец Дамиан отвечал спокойно. — Не надо пустословить вот так… А насчет того, от сердца или нет идет у кого-то жертва Богу, это он сам без нас разберется. И зачтет на том суде, где и я, грешник, и вы, и эти вот из джипа, и все другие рядом стоять будем.
— На каком еще суде? — не понял Никита.
— Да уж не на уголовном. На последнем. Когда труба архангела позовет. — Отец Дамиан смотрел на начальника отдела убийств. — В Писании он Страшным зовется. Но мне что-то не очень то название нравится. Нет, там уже нас пугать не будут. Просто разберутся с каждым. И каждому воздадут.., на орехи с изюмом.
— И вы.., и ты веришь в такой суд? Серьезно веришь? — Колосов тоже смотрел на этого стриженного по-модному парня в рясе: ну и поп в Стаханове, чудной какой-то… Не поймешь — говорит как: то ли насмехается, то ли… И вообще тема разговора такая: кто из наших ровесников говорит о каком-то Страшном суде?
— Я уже верю. А ты еще нет? — Отец, Дамиан усмехнулся, хотя усмешка была какая-то странная — дрогнули лишь углы губ, а глаза остались серьезными. — Что ж, значит, тебе, дорогой мой, брат мой, еще верить в него время не приспело.
Кто-то из прихожан окликнул его, и он, кивнув Колосову, отвернулся — лишь мелькнули полосы исподней десантной тельняшки в раструбах рукавов… А Никита только хмыкнул: во дает поп, наловчился проповеди читать перед этими своими «овцами». Его отчего-то задевало, что этот «поп», этот бывший офицер, побывавший в чеченском плену и явно много чего повидавший, словно поучает его. Ненавязчиво, но поучает чему-то… Чему?
Но тут внезапно произошло событие, которое направило мысли Никиты в совершенно противоположную от богословия сторону. Всех собравшихся во дворе церкви неожиданно оглушил истошный женский визг.
— Да помогите же, люди добрые, да чтой-то так и будете смотреть, как там Петьку маво убивают! Да не брал он ничего с церкви, не воровал, не края! Да он больной у меня, не в себе.;. Ой, люди, да что ж такое тут творится!..
Женщина лет пятидесяти, растрепанная, зареванная, загорелая до черноты, вбежала во двор, растолкала толпу, отпихнула локтем сотрудника «антикварного» отдела и цепко впилась в отца Дамиана:
— Батюшка.., за ради Христа помоги, они ж убьют его там вконец! Касторовы, они ж, как нальют глаза, ничегошеньки не соображают… А он, Петька-то мой, во дворе у них за сараем копошился чего-то… Споймали они его, за курицу убить ведь готовы и еще что-то про церкву орут, он, мол, и обворовал… А он дома вчера сидел, до-ма-а-а!!
Начался настоящий содом: толпа, смяв сотрудников милиции, ринулась на улицу. Все бежали в заросший липами тенистый проулок, застроенный частным сектором — деревенскими хибарками, сараюшками, летними уборными-скворечниками, покосившимися заборами.
— Надо подкрепление из отдела вызвать, а то как бы беспорядки не начались!. — на бегу крикнул Никите начальник местного розыска. — С чего взбесились-то, Господи?
— Подожди вызывать, сами разберемся. Там, кажется, кого-то поймали и по деревенскому обычаю бьют по тыкве. Вора подозревают.
Во дворе одного из домишек, заросшем лебедой и лопухами, и вправду кипела драка, точнее, избиение. Трое здоровенных полупьяных мужиков (оказалось, это были братья Касторовы и их свояк) пинали ногами парня, которого насилу вырвал у них подоспевший наряд милиции.
— Да вы что, менты, его защищаете?! Петьку-то?! — орал Касторов-старший, когда его оттащили от жертвы в противоположный угол двора. — Вы гляньте только, что мы за сараем у него нашли!
— Тихо! Отставить базар! Прос-с-сти Гос-с-споди нас грешных…
С лип стаей вспорхнули вспугнутые воробьи. А толпа во дворе моментально смолкла. Колосов же пришел в восхищение: ай да поп! Ну и глотка прямо генеральская!
Один из патрульных подвел к нему и оперативникам из «антикварного» парня, которого лупили, — хлипкого, тщедушного, неухоженного на вид; одетого в полинявший от стирок спортивный костюм. Он давился слезами, соплями и кровью, обильно текущей из расквашенного носа, и только мотал головой, кашлял, отплевывался и всхлипывал. Мало-помалу выяснилось, что жертва побоев носит имя Петра Куренкова, что он безработный, местный, проживает с матерью и бабкой и.., вот уже лет восемь состоит на учете в местном психдиспансере.
— Он же не в себе, больной человек, как вам не стыдно так себя по-зверски вести? Бить его, — сурово выговаривал отец Дамиан Касторовым и их свояку. — Вы же люди, взгляните на себя! Что за самосуд такой? И с чего вы взяли, что именно он украл иконы?
— А копался-то за нашим сараем зачем? Прятал что-то? Я за ним четверть часа наблюдал. — Хмурый свояк сплюнул. — Выпили мы маненько с ребятами, зарплату в ремонтной наконец за три месяца выдали нам, ну и… Вышел я за своей надобностью, смотрю — мать честная, этот с огородов через забор сиганул. Я думал, из парника огурцы воровать намылился. А он — за сарай; я за ним. Сел он там, начал компост руками разгребать. Я гляжу — что-то белое — вроде сверток тама… Не иначе, думаю, он, паразит, ночью иконы спер из церкви, а теперь прячет. Ну и свистнул я ему в сердцах в морду, а он…
— Слушайте, да тут что-то интересное, — один из оперативников начал сначала ногой, а затем и руками разгребать компостную кучу. На свет появились оттуда несколько свертков, обернутые в некогда белые, а теперь запачканные землей и гнилью старушечьи платки, из тех, что бабки в деревнях зовут смертными.
Узрев свои сокровища на свету перед глазами стольких зевак, Куренков, до тех пор тихий и плачущий, вдруг дико завизжал и начал рваться из рук милиционера. И внезапно остервенело укусил того за кисть.
— Ах ты, зараза…
Его повалили на землю, начали утихомиривать, но он орал что-то матом и бил ногами, точно в припадке. Побежали к телефону вызывать ему «Скорую».
Ни в одном из заветных свертков икон не оказалось. А вот что там было… Колосов наклонился: оперативники выкладывали на землю перед ним содержимое. В одном свертке.., две пары рваных женских трусиков, носовой платок и любовно завернутая в гигиеническую женскую прокладку полусгнившая отрубленная голова курицы. Во втором — исключительно куриные головы, штук пять. В третьем — тоже отрубленная голова (точнее, ее остатки) рыжей кошки, завернутая в клетчатый носовой платок. «Ох, да он Мурку мою угробил, — охнула одна из старух. — То-то кошка у меня неделю назад сгинула. Думала, убегла куда, а это он… Ах ты, паразит, душегубец, что вытворять удумал!»
В двух других свертках были снова куриные головы, пара отрезанных крыльев, иссохший от старости трупик воробья и.., большой осколок зеркала, на котором губной помадой были нарисованы женские груди с острыми, как атомные боеголовки, сосками.
— Шизик, мать его за ногу! — снова сплюнул свояк Касторовых. — Ишь, склад у нас на задворках устроил… Курям головы поотшибал. То-то жаловались, что пропадать по деревне начали… Головы тут, а тушки где ж? Ну-ка признавайся, — он круто обернулся к женщине, переполошившей всех, — матери «шизика». — Таскал тебе Петька наших курей, а? А ты их небось в лапшу, воровка старая? У вас и фамилия такая — воры вы куриные спокон веков были! Вор на воре!
— Это сам ты вор! — заголосила Куренкова. — Люди добрые, да за что ж это мне? Сам ты вор, Алешка! Когда МТС приватизировали, кто больше всех солярки задарма уволок — думаешь, не видели? А кто за свеклой на тракторе ездил — не ты, что ль? Свекла-то совхозная, а вы со всей родней ее там мешками таскали!
Закипела бы новая свара на тему «а ты кто такой?», если бы не отец Дамиан, снова громовым голосом приказавший односельчанам угомониться и дать возможность милиции работать.
Однако милиция (все, кроме Колосова) лишь плечами пожали: дрянь какая-то — ясное дело: шизик-фетишист, коллекционировавший в качестве фетишей предметы женского туалета, интимной гигиены и части трупов убитых им животных. С ним на эту тему пусть психиатр разбирается, а мы…
А Колосов приподнял с земли клетчатый узелок с кошачьей головой. Вот, значит, какое хобби у гражданина Куренкова… Причудливое — так скажем…
— Вы знали, чем сын у вас занимается? — спросил он у несколько поостывшей матери Куренкова.
— Нет, что вы! Да он вообще тихой, послушный. Только когда выпьет, чудит, а так…
— У вас бумаги от врача имеются какие-нибудь дома? Ну справка, выписка из карты? Я хочу его диагноз, посмотреть. — Колосов галантно взял женщину под локоток. — Пойдемте, пока тут суть да дело, покажете. И заодно уж позвольте на кухню вашу посмотреть. Это не обыск — не пугайтесь. Я просто хочу ножи посмотреть, чем он это делал. — И он уронил на землю узелок с головой кошки Мурки.
— Да пожалуйста. Мне скрывать нечего. У нас в дому воры сроду не водились, а чтоб кур по соседям таскать… А Петька — больной. И доктор в больнице так и говорит: дурак он у вас набитый! А мест в лечебнице сколь лет нет свободных, чтобы полежать" полечиться:.. — всхлипнула Куренкова. — А он тихой, безропотный у меня. Тридцать годов уж скоро стукнет, а ни-ни, ни с одной девкой не баловался… Может, что в голову-то и стукнуло…
Колосов кивал. Странно, но у него вдруг появилось предчувствие, что приехал он на эту совершенно не нужную ему кражу не напрасно.
15
УРАГАН
Этот день — пятница, закончившаяся для Москвы тем страшным ночным ураганом, аналога которому не припоминали старожилы, прошел для всех героев этой истории по-разному.
Катя с самого утра с головой погрузилась в материалы для будущей статьи об организации поисковых мероприятий по «делу обезглавленных». Только тут она поняла с удивлением, какой гигантский объем проделанной работы по розыску убийц кроется за тем уклончиво-раздраженным колосовским «понятия не имею, что делать».
С момента обнаружения первых жертв в Чудинове были уже проверены сотни подозреваемых — ранее судимые, лица, состоящие на учете в психдиспансерах, бомжи. Велись масштабные поиски светлых «Жигулей» — каждый участковый, патрульный и сотрудник ГИБДД Подмосковья был ориентирован об их приметах. По компьютерному банку данных проверялись поголовно все владельцы «Жигулей» первой, третьей и пятой моделей. На дачных станциях, в местах отдыха, на вокзалах, во всех увеселительных забегаловках: бильярдных, в залах игровых автоматов, в уличных летних кафе, а также на вещевых и продуктовых рынках и ярмарках — везде, где только можно было встретить приезжих, дежурили сотрудники милиции в штатском, фиксирующие всех, вступавших в контакт с «лицами восточных национальностей», — пусть это была банальнейшая покупка дыни на рынке у приезжего узбека. Катя впервые поняла и то, сколько, оказывается, людей, сколько сотрудников — и в области, и в Москве — уже подключено к этой поисковой операции. А она-то видела одного только Колосова — то он приезжает, то уезжает. И вроде ничегошеньки не делает, а у него, оказывается, все нити в руках — и сколько разных…
В отделе по раскрытию убийств она узнала, что его сотрудники теперь фиксируют и все случаи пропажи без вести лиц «восточной национальности». Колосов не желая ждать нового трупа — он ориентировал свой отдел на работу в том числе и по делам пропавших без вести — то есть «невидимок». Можно было также предполагать (хотя Кате в розыске об этом даже и не заикались), что по всем версиям ведется и напряженная негласная работа. Все это напоминало по масштабам операцию «Лесополоса», когда искали знаменитого маньяка, но… Кате отлично было известно и то, что на «Лесополосу» ушли годы. Неужели все так сложится и с делом обезглавленных?
Но лишь только она обращалась к отчетам, справкам, рапортам, компьютерным распечаткам о том, сколько лиц проверено, какие машины осмотрены, сколько водителей опрошено в целях установления возможных очевидцев, какое количество сотрудников милиции задействовано в рейдах и проверках, патрулировании и наблюдении, ей начинало казаться: да не может быть, чтобы такой грандиозный коллективный труд пошел прахом! Они найдут их, непременно найдут. Задержат по приметам машину на дороге, или установят свидетеля, который их видел и запомнил тогда в Кощеевке, или просто еще как-то выйдут на них, этих ублюдков, по своим «негласным каналам» — ведь у розыска много методов и средств воздействия на ситуацию, о которых они прессе не говорят. Они задержат их — может быть, даже завтра, если только…
В этот день — пятницу — в Москве стояла страшная духота. Вместо неба было какое-то мглистое марево, сожженное солнцем, пропитанное парами бензина. Но закат, напротив, был чист и божественно красив. Катя никогда не видела такого красного солнца, садящегося в такие багряные, словно плащ триумфатора, облака. Они, подобно горе, громоздились на западе. От них глаз нельзя было отвести, но на сердце от всего этого великолепия становилось тревожно: солнце, а теперь уже верхний край его, видимый над горизонтом, было похоже на вулканическую лаву, а его последние вечерние лучи — на зарево дальнего пожара.
* * *
Этот день — пятницу, отмеченную ураганом, Белогуров запомнил на всю оставшуюся жизнь. Жаждал забыть, хотя бы для этого кувалдой пришлось вышибить из мозгов, но…
— Иван, а я и не слышал, как вы вошли… Да что это с вами? Больны?
Белогуров захлопнул дверь и прислонился к ней мокрой спиной. Его о чем-то спрашивают… Сейчас семь утра. Он — в своей новой квартире на Ново-Басманной улице, той, где ремонт, долгожданной, вожделенной квартире, за которую столько уплачено бабок — площадь сто пятьдесят квадратных метров, три комнаты-залы, холл, две ванных, кухня и лоджия — зимний сад… В квартире идут последние работы: мастера устанавливают кухню, подключают встроенную технику, в ванной облицовывают стены испанскими панелями; под терракоту. А надзирает за всем здесь Якин — тот, что стоит сейчас перед ним; они знакомы уже более года; Гришка свободный художник, бродяга из Дитера, картины которого никто не покупает, он занимается в столице модней халтурой — расписывает в квартирах состоятельных любителей декора фрески в стиле модерн, а также в барах, казино, ресторанах и клубных фойе.
С Белогуровым Якин познакомился в салоне на Крымском валу. Привез в «Галерею Четырех» три своих полотна. Белогурову он понравился Своей дерзостью, и полотна были приняты и выставлены. Никто ничего, конечно, не купил…
«Гриша, милый мой, для того чтобы сейчас тебе или кому-то из наших имя приобрести настоящее и на Западе, и среди неандертальцев, нужно: а) либо посидеть чуток в психушке и намалевать там парочку композиций, б) попасть в Книгу Гиннесса по любому самому скандальному поводу и в) ну, насчет этого пункта я вообще затрудняюсь — на политически репрессированных диссидентов сейчас моды нет, — насмешливо внушал некоммерческому Якину Белогуров. — Таким, какой ты есть сейчас, как бы мне этого ни хотелось, ибо ты мужик талантливый, я тебя не продам ни под каким соусом. Коси под дурачка, а? Глядишь, и сделаем из тебя русского Ван Гога».
То, что Якин талантлив, и то, что он первоклассный художник, Белогуров понял с первого взгляда на его, работы. А то, что он не продавался, это — кто же пророк в своем отечестве? Был он к тому же страшный алкаш, как и вся полунищая богема Арбата и Дворцовой набережной, где его знали все собаки, и московские, и питерские, и к тому же большой оригинал левацко-большевистского толка. Считал себя единственным, «некупленным властью» борцом за пролетарскую идею, бредил великим Че Геварой, а в свободное от росписи фресок для бара «Гайка» время даже сочинял «диктуемые моментом» поправки к «Государству и революции». Якин вечно нуждался в деньгах (после бегства от «идейно-буржуазно-чуждой» сожительницы в Питере все его имущество состояло из старенького мотоцикла с коляской, сумки с одеждой да «средств производства»). Внешне он был видный парень — яркий блондин с роскошной гривой русых, собранных на затылке в густой хвост волос, умный, насмешливый, пылкий, резкий, и, если бы не «злоупотреблял», все бы в его жизни, наверное, сложилось по-другому. Но Белогуров и сам уже «злоупотреблял», а поэтому не ему было винить Гришку Якина в его слабости.
Якин рисовал (не бесплатно, конечно) для Белогурова фреску-коллаж на стене в гостиной. И странная фантасмагория представлялась его вдохновенному взору: Fn de sncle, как он говаривал — Конец века. Скончание времен. В композицию эту вошли многие образы, памятные Белогурову с детства и юности, —Мэрилин Монро в виде голливудской феи-бабочки, «Битлы», словно валеты, выпавшие из игральной колоды, Высоцкий в алой кумачовой рубахе и царских регалиях Емельки Пугачева, нахлестывающий нагайкой серого в яблоках, вставшего на дыбы жеребца, Сухов и Верещагин, чокающиеся гранеными «сто грамм» над станковым пулеметом, ее благородие госпожа Удача в виде бубновой дамы в подвенечном уборе. Образы эти вырастали из какого-то фантасмагорического хаоса клубящихся облаков, развевающихся кумачовых знамен, залатанных хипповыми заплатами джинсовых драпировок, кусков потрескавшейся кухонной клеенки (такая, в синюю клеточку, помнится, была на коммунальной кухне Белогуровых на Арбате). Они отпочковывались друг от друга, как побеги невиданного живого дерева — небоскребы Нью-Йорка, «где я не был никогда», Роберт де Ниро в облике гангстера с автоматом, тут же — зеленоглазый загадочный Улисс — дитя Джойса, растекающиеся по столу в форме яичницы знаменитые часы Дали, отсчитывающие последние минуты Века и Тысячелетия, и еще…
Белогуров смотрел на фреску и словно видел эту фигуру впервые.
— Что это? Что это такое? — прошептал он хрипло.
— Это же… Иван, да вы сядьте, на вас прямо лица нет. Что-то случилось? Так рано еще, я только встал, за работу не брался и… А это вчерашнее, я закончил… Да что с вами?
— Чуть не врезался. Там.., у Курского на кольце. — Белогуров сел на рулон коврового покрытия у стены. В гостиной, так как тут работал Якин, пока не было даже мебели. — Я.., не из дома еду.., так, шлялся.., решил заглянуть по пути да чуть в аварию не угодил… Болван…
Якин покосился на этого «хозяина апартаментов», как он звал про себя Белогурова, — шлялся? Всю ночь, что ли? Странно — трезвей стеклышка, даже и не пахнет спиртным. Но вот лицо… Белая окаменевшая маска вместо лица — ходячий испуг и страдание. Белогуров не сводил глаз с фрагмента фрески, где Якин, кстати, после детального с ним обсуждения, только вчера вечером закончил фигуру из «Страшного суда», что в Сикстинской Капелле. Ту самую, знаменитую, часто изображаемую на открытках и репродукциях фигуру человека, закрывшего в ужасе и потрясении от представшей перед ним картины Ада, Чистилища и Суда лицо ладонью.
— Но вы ж сами, Иван… Мы же это с вами предварительно обговаривали.. Вы сами остановились на этом микеланджеловском «Ошарашенном», как вы его окрестили, — заметил Якин. — Теперь неприятно на него смотреть? Он тут ни к чему, думаете? Что ж, давайте уберем. Хотите, — он усмехнулся, — влимоним сюда «Титаник», камнем идущий ко дну, хотите, я вам сюда Леонардо Ди Каприо вставлю, еще что-нибудь этакое из.., соплей с сахаром?
— Нет. — Белогуров все глядел на искаженное ужасом лицо на фреске. — Пусть.., черт с ним, пусть остается, без соплей обойдемся… Я что-то никак не могу в себя прийти, Гриша… Авария. Едва вывернулся. Пусть этот будет, не трожь его… А ты сам, скажи, веришь? Микеланджело вон верил, а ведь не глупее нас был… А ты, скажи, веришь?
— Во что? — Якин, присев на корточках в углу, рылся в своем барахле, сваленном в сумках и так просто кучей прямо на полу. Извлек початую бутылку водки.
— А вот в этот Суд? Что, мол, все равно всем за все воздастся? — Белогуров пытался усмехнуться, но усмешка обернулась жалкой гримасой.
— Не-а. Экие каверзные вы с утра вопросы задаете, Иван… За жизнь, философию и любовь русский интеллигент обычно к ночи рассуждать начинает.
— И я не верю. Брехня все это, чушь. Ничего там нет, тьма. А.., а так иногда страшно, Гришка, — Белогуров сгорбился, — И я просто не могу., не знаю… Что это, водка у тебя? А, все равно, давай. Немного, а то я все же за рулем.
— Да разве можно вам сейчас за руль? — Якин выглянул в окно: во дворе на охраняемой платной стоянке действительно стояла вишневая белогуровская «Хонда». — Егору вон позвоните, он за вами приедет и машину отгонит. Хотите, я позвоню?
— Не звони туда! — Белогуров и сам испугался своего хриплого крика. — Не нужно, все ерунда… Черт с ними, и с Егором, и с тачкой.., я тут посижу, дух переведу и поеду — работай, мешать тебе не стану — Он провел по лицу рукой, — Обрыдло мне все, Гриша. Дом и вообще… Глаза бы не глядели. Хоть бы сбежать куда… Ты — «вольняшка» как отец мой говаривал, закончил день, собрал манатки — и свободен. Завидую тебе, не потому, что талант ты, а потому, что вольный ты человек…
— А вас кто неволит? — спросил Якин, разливая водку в две кофейные чашки.
— Меня? Я сам себя неволю.
— Это все деньги. Деньги вас душат, из горла прут, — назидательно заметил Якин. — Собственность. Капиталист вы, Иван, де-факто, а де-юре… Вы же образованный, культурный человек, тонкая натура. В душе-то разве этого вам надо?
— Этого, — Белогуров обвел глазами гостиную. — А ты бы разве, Гриша, от всего этого, будь оно твое, у тебя, отказался?
— Врете вы. Дело-то все в том, что этого вам уже тоже не надо. Сыты вы этим во как. — Якин ребром ладони черкнул по горлу. — Оттого и пьете. — Я пью? А ты с чего пьешь?
— Вы знаете с чего. С горя. Мне за державу обидно. Была страна, всех в кулаке держала, все кланялись, под козырек держали, а сейчас.;. Сердце болит — вот с чего пью. Перестану, когда грянет, Иван. А оно грянет — попомните мои слова, — таким заревом полыхнет! Все эти ваши «мерсы», версаче-хреначи — вверх тормашками… Предупреждаю, с вас первого я тогда начну.
— У меня нет «мерса», Гриш.
— А, все равно! Начну с вас — потому что вы, хоть и не один из них, вы хуже — вы это все позволили, потакали. Да-да! Скажите, нет? А теперь вам самим противной..
Белогуров смотрел на Якина. Алкашу этому полрюмки достаточно, чтобы вот так идейно воспарить буревестником. Боже, какой идиот. Как он мае осточертел. Как они все мне осточертели со своими… Что проку с ними говорить? Это же как от стенки горох. Разве может он, Белогуров, сейчас объяснить, разве осмелится сказать, что с ним происходит?! Что он чувствую сейчас после этой проклятой ночи, когда…
Белогуров залпом допил водку. Якина унесло на кухню. Там у него была оборудована собственная электроплитка, потому что шикарная белогуровская техника из салона «Мебель Италии» еще не была готова. На плитке что-то зашипело, в раковине полилась вода.
Белогуров уже не смотрел на фреску, на пустой стакан. Хорошо, что Якин ушел (что-то бормочет еще с кухни: «Че Гевара говорил…»). Слушать эти бредовые обличения и отвечать ему непереносимо. И врать про аварию тоже непереносимо. Ведь никакой аварии не было. И приехал он из дома с Гранатового. Не мог больше находиться в том доме, потому что этой ночью они — он, Егор и Женька — убили там китайца Чжу Дэ, который приехал после того, как Белогуров ему позвонил и сказал: «Для чего нам встречаться в Печатниках, Пекин? Я тебя к себе приглашаю. У меня нам будет лучше, не правда ли?» Но вспомнить то, что Пекин ответил и как он переступил порог дома в Гранатовом переулке, было,.. Да Белогуров ничего и не помнил толком — внутри его сейчас словно вата была набита — глухая, непроницаемая. Это был не страх, в котором, не сдержавшись, он только что признался этому революционному девственнику Якину, нет. А просто вата. И он сам был словно ватный тюк, узел, мешок — его можно было бить, пинать, футболить — он все равно бы ничего не почувствовал, потому что из чувств в нем жило только одно…
Самое страшное, что Пекин коснулся его — схватил за руку… Пытался опереться, цепляясь за Белогурова, слепо шаря по его рубахе, на которую уже хлынула его кровь. Царапал ткань ногтями, пытаясь ухватиться, устоять на ногах…
Белогуров сам лично позвал его в подвал. Сказал, что там у них с ребятами оборудован «спортивный зальчик с бассейном», где они и «расслабятся». Пекин приоделся ради их свидания. Этот черный дорогой костюм ему шел. Пушки при нем не оказалось, да она, впрочем, ему бы и не помогла… Он молчал все время, как переступил порог галереи, лишь вызывающе и выжидательно смотрел на хозяина дома; который сам ему наконец-то позвонил и пригласил к себе. Когда Белогуров, пряча глаза (Пекин отнес это к обычной в такой ситуации неловкости), позвал его вниз «поплавать в бассейне», китаец лишь улыбнулся. Его возбуждало, что этот парень так волнуется из-за… Все поначалу волнуются. Погоди, то ли еще будет у нас с тобой…
В подвале свет не горел. «Выключатель внизу, тут лестница, Пекин, осторожнее», — предупредил Белогуров. А когда свет вспыхнул, ослепив их, то… Пекин даже не понял, что все для него уже кончено. Егор, притаившийся вместе с Женькой до этого момента во мраке, подскочил сбоку и со всего размаха ударил его в живот ножом — в печень и…
Белогуров помнил фонтан крови, остекленевшие от боли и изумления глаза Пекина — тот упал прямо на Белогурова. Его лицо, глаза, уже ничего не видевшие, губы, враз помертвевшие, были уже чертами мертвеца, и все это было так близко от лица Белогурова… Пекин коснулся его, схватил за руку, стиснул, что-то хрипя в последней агонии, а потом как мешок упал на цементный пол. Все.
И еще Белогуров помнил, как Женька Чучельник, вынырнувший откуда-то из-за угла, наклонился над трупом. Ноздри его раздувались, он словно втягивал в себя запах бившей толчками из раны черной крови. Потом по-жабьи присел на корточки, за волосы повернул к себе мертвую голову китайца и начал ощупывать его шею, скулы, подбородок своими длинными, ловкими, чуткими пальцами. Примерялся…
Белогуров, спотыкаясь на каждой ступеньке, ринулся прочь из подвала. Егор шел за ним по пятам. Да, он тоже был не из камня, как недавно назвал себя с гордостью. Его тоже била дрожь — зуб на зуб не попадал. Однако тут, в подвале, не на дороге, а дома, в родных стенах, он чувствовал себя все же более уверенно. Уже строил планы о том, «как они будут все там убирать после того, как Чучельник закончит с телом». — Нам с тобой вывозить придется, — сказал он. — Женька занят будет. Сам знаешь, ему сегодня отлучаться нельзя. А оставлять это дольше ночи тоже нельзя — жара. Так что… Поедем в Химки. Я там местечко присмотрел, там и сбросим. Либо в канал, либо… Э, Ванька, да ты слышишь меня? Как оно это самое впервые-то, а? То-то. А на нас орал. Понял, что это такое? Понял? Ну, хватит тебе, пойди умойся. Только рубашку здесь сними. Хорошая была рубашка, лейбл какой? «Рэд-грин»? Для такого дела мог и похуже надеть.
Белогуров негнущимися пальцами расстегнул пуговицы, скатал окровавленную рубашку в комок, швырнул ее в пластиковый мешок, уже заботливо приготовленный Чучельником для «отходов». И это было последнее, что он помнил ясно; как вышел из дома, завел машину, как на ней ехал — это уже было как пеленой скрыто.
Как оно это самое в первый-то раз, а? Это был не первый раз. Но в те прежние все делали Егор и Женька. Он не видел ни трупов, ни того, во что их превращали. Он видел лишь результат — ту вещь. И надо сказать, не испытал тогда особенного потрясения, потому что это была не страшная, а скорее очень странная вещь. Он не ходил в подвал, точнее, не спускался ниже середины лестницы, когда Чучельник начинал там «стараться». Впрочем, не такая уж это была, видно, и сложная работа, раз это Создание с ней справлялось.
Был и самый первый раз — тот, на сочинском пляже. Но и тогда Белогуров ничего не делал сам, а лишь, как говорится, рядом стоял, да к тому же это была самооборона в драке. И тот задушенный придурок снился ему только в первые две недели, а потом его словно вычеркнуло из памяти. Но сегодня…
Пекин, ослепленные болью, удивленные глаза, его судорожное объятие — мольба уже мертвого человека о помощи и сострадании. О пощаде… Господи милостивый, да что же это мы наделали?! Белогуров вздрогнул. Неужели он сам задал себе этот вопрос? Он, который подсознательно все эти месяцы запрещал себе даже думать на эту тему?
Якин крикнул с кухни, что «чайник закипел, кофе крепкий или…» Или… Белогуров встал, подошел к фреске, дотронулся пальцем до лица Мерилин Монро — сырая еще штукатурочка… Эта фреска, весь этот разноликий пестрый мир образов, на ней изображенных, будет тут теперь до тех пор, пока краски не потрескаются и не поблекнут. Но картины живут дольше людей. Когда в этой квартире уже не станет ни его, ни Лекс, эта фреска все так же будет смотреть со стены на тех, кто поселится здесь после. Ради кого я все это затеял? Белогуров закрыл глаза. Господи, ты же видишь — я погибаю, я уже погиб — ради кого же? Ради Лекс? Нет? Она — счастье мое миндальное, солнечный луч, без нее жизнь моя пуста — так я внушаю сам себе по ночам, но… Но вот я бежал и не сказал ей ни слова. И мне было просто наплевать на то, как она там одна, с ними, этими ублюдками в моем Доме… Впрочем, Чучельник занят в подвале, он не поднимется наверх. И Егор запирает его всякий раз, когда идет за чем-нибудь в комнаты. А галерея сегодня закрыта. И завтра будет закрыта, и послезавтра… А я должен буду сейчас: вернуться туда, потому что в моем доме — труп. И если его не убрать сегодня же ночью, он просто протухнет на этой адской жаре. Красавец Чжу Дэ, принц Востока, Салтычихина утеха, игрушка и «шестерка» на побегушках, протухнет, как гнилая камбала…
— Уезжаете? А кофейку? — Якин вышел в холл, вытирая тряпкой руки, дожевывая что-то. — Ну, Иван, как хотите — хозяин-барин. За руль крепче держитесь… — Он хмыкнул, а потом добавил уже серьезнее:
— Недельки через две закончу тут у вас все. Домой махну, по невской нашей водичке стосковался. Или к тетке на Валдай подамся. Есть тетка у меня в деревне, писала как-то, погостить звала. Лето ж, надо на природу выбираться… Кстати, о природе, звонили тут — сегодня приедут из оранжереи, лоджию вам будут оборудовать. Там что-то подогрев барахлил. Пальм и папоротников вам навезут… Да, классная все же квартирка, ну западный стиль! Вы, Иван, правы. И я от всего этого не отказался бы. Вряд ли бы смог… Знаете, генерал Че однажды на митинге в Гаване сказал…
Но Белогуров уже не слушал, что сказал обожаемый Якиным великий Че Гевара своей революционной аудитории…
* * *
В подвале дома в Гранатовом переулке было нечем дышать. Пот лил с Егора в три ручья. Он со злобой смотрел на установку для загара «Кетлер», столь странно выглядевшую в этом месте. Сейчас Женька включи этот агрегат на полную мощность и.., и пока не истекут положенные и зафиксированные таймером четыре с половиной, часа, в этом подвале будет как в нагретой духовке. Он наблюдал за братом. Чучельнику все нипочем — ни жара, ни усталость. Крепкий орешек братик… Егор с брезгливой жалостью вспомнил Белогурова — его бескровное, искаженное страхом и отвращением лицо. То-то, чистоплюй Ванька. Вот оно как, самому-то в это наше дерьмо вляпаться. Попробуй теперь. Они с Белогуровым теперь квиты за их с Чучельником позорное бегство с пустыря. Теперь и сам Ванька на своей интеллигентской шкуре узнал, что это такое — то, чем они занимаются, как зарабатывают эти проклятые доллары.
Женька направился к стеллажам в глубине подвала. У лестницы лежал громоздкий тюк, запакованный в черный непромокаемый пластик. Он старательно обошел его. В стеллажах хранилось вино — около тридцати бутылок красного испанского разлива 1995 года. Для работы. Чучельнику нужно было именно красное, причем крепленое с высоким содержанием сахара. Белое, столовое или десертное не годилось. Вино выливали из бутылок в специальную чугунную ванночку. Потом Женька разводил в вине дубильные вещества, те самые, какие добавлял еще его дядька Федор Маркелович. Егор скривился в невольной усмешке — старика хватил бы удар, если бы он хоть краем глаза увидел, что его воспитанник и ученик собирается дубить в этой импровизированной ванне…
— Один из камней, самый большой — нагрей. Пора. — Женька штопором легко откупорил бутылку, вторую, третью. Струи темно-алой влаги хлынули в емкость, запахло спелым виноградом. — А это.., это можно забрать. Это мне больше не нужно.
Он произнес это так равнодушно, словно речь шла о… Егор покосился на небольшой сверточек на кафельном столе, тоже уже аккуратно запакованный в черный непромокаемый мешок. Нет, Женька — маньяк. Настоящий маньяк, раз он может говорить об этом так невозмутимо. Ведь в пакете — череп. Они должны вывезти его вместе с трупом. Череп с пустыми глазницами. Бедный Йорик — косоглазый китаец Пекин, что с ним стало… Был у Салтычихи красавчик-телохран и сплыл, превратившись в…
— Нагрей большой камень. Пора, — настойчиво повторил Женька. Он уже деловито возился возле ванночки, погружая в нее что-то.
Егор снял со специальной подставки гранитный шар размером с небольшой мячик. Таких шаров на полке было всего восемь. Они различались лишь размером — с мячик поменьше, с ананас, с мелкую дыньку. Самые маленькие были размером с апельсин и куриное яйцо. Но Женька пользовался в основном не ими, а шестью крупнее. Он еще никак не мог довести вещь до таких малых размеров, хотя это было идеальным для такого рода изделий. По-видимому, это просто было невозможным в их условиях…
Шары из гранита они с Белогуровым специально заказывали в мастерской «Мир камня», что на Николо-Архангельском кладбище. Там делали все — памятники, надгробия, цветники, подрядились и выточить для них эти шары по размерам, указанным Белогуровым. «Для плиты, что ль, надгробной украшеньице? — полюбопытствовал мастер. — Или на ограду, на бордюр? Зачем так много — восемь штук? В копеечку влетит вам. Лучше вазоны купите готовые уже. Дешевле выйдет…»
Белогуров ответил, что шары заказывает для дачи — декоративные штуки эти украсят клумбу.
Шары они перевезли потом в подвал. Это было одним из необходимейших подручных средств в «производстве» Чучельника, так же, как и красное вино, и дубильные вещества, и ножи, лезвия, ножницы разных форм и размеров, и фруктовый джем, густым слоем которого покрывалась вещь, когда ее помещали для доводки в установку для загара под жаркие искусственные лучи почти тропического солнца.
Сейчас самый крупный шар нагревался в электрической жаровне, входившей в комплект оборудования обычной финской домашней сауны. Ее они с Белогуровым приобрели в магазине евросантехники. Купили все оборудование, чтобы не вызывать ненужных подозрений, хотя им позарез нужна была лишь эта жаровня для нагрева камней. Мукой было извлекать из нее этот раскаленный увесистый шар, водружать его потом на кафельный стол. Это пришлось сделать Егору, и, как всегда, он обжег руки, несмотря на тройные ватные рукавицы. Потом молча наблюдал, как работает Женька, аккуратно, осторожно и точно надевая вещь на этот пышущий жаром шар, на эту сферу. Вот он потянулся за специальной изогнутой иглой и нитками…
Затем, когда вещь дойдет в «Кетлере» до «нужной кондиции», Женька повторит всю операцию, заменив шар меньшим по размеру. А затем еще меньшим, еще, еще…
— Все. Таймер я поставил. — Чучельник вытер со лба капли пота, — Ох, жарко! Я старался, Егор. Вроде все пока получается, а?
Он действительно старался. Еще бы! Когда они приступили к работе, Егор предупредил его: «Ошибешься на этот раз — убью. Я по твоей милости больше не собираюсь все начинать сначала, понял — нет? Только попробуй сделать что-то не так! В землю по плечи вобью».
Потом он следил, как копошился Чучельник возле тела китайца, над его головой в тем, что с ней стало. Нет, Женька Чучельник все-таки маньяк. Сумасшедший маньяк… А кто же тогда я? Егор устало закрыл глаза: а пошли вы все на .! Сейчас, измотанный до предела, он испытывал одно лишь желание — увидеть себя, свое отражение в зеркале. Зеркальный двойник был его единственным другом, судьей и собеседником. А то совершенство телесных линий, гармония черт — все, что составляло лучшую часть его внешнего "я", — было его единственной отрадой в жизни. Ни один человек — будь то женщина, с которой он спал, или мужчина, не заставлял его чувствовать то, что он сам, Егор Дивиторский, чувствовал к себе, отраженному в зеркале. Ведь это просто какое-то чудо — ОН. Чудо, как те удивительные античные статуи, которые он видел в капитолийских и ватиканских музеях, когда в прошлом году они — он, Белогуров и Лекс — были летом в Риме. Иногда, запершись в комнате наедине со своим зеркальным двойником, Егор и сам воображал себя неким подобием тех умерших богов Греции и Рима — , разве он не был так же прекрасен, как они? Даже лучше…
— Есть хочу, — Женька вздохнул. — Жарко, а все равно есть хочу. Ты — нет, Егор?
Дивиторский открыл глаза, глянул на часы. Когда Белогуров уехал, было почти пять утра. Они занялись работой, позабыли о завтраке, обеде. Все надо было делать очень быстро, пока труп был свежим. И что говорить, Егору просто и кусок бы в горло не полез. А сейчас…
Половина четвертого. Полдня как не бывало, вот уж летит время в этом чертовом подвале…
— Сейчас чего-нибудь перекусим. — Егор старался, чтобы его голос звучал нормально, без постыдной сиплой дрожи. — А ты.., ты пойди, прими душ пока.
— Меня все время посылают в душ. Я такой грязный?
Женька смотрел на свои ногти. Егор не видел глаз брата. Ресницы у парня, как у девицы, на полщеки. Красивый он малый, Чучельник, это, видно, у нас с ним от матери — «выглёнд», как говорят поляки: кудрявый затылок, капризные чувственные губы… Только не мешало бы ему похудеть. Жрет много, разносит его. Ну да мозгов-то нет, чтобы удерживаться. Точнее, мозги есть, но…
— Я такой грязный?
Егор нахмурился. Что? Чучельник что-то там о себе понимает? Издевка, сарказм? Это у Женьки-то?!
— Пошел отсюда, — процедил он сквозь зубы. — Ну? Я кому сказал!
Брат прошел мимо, легонько задев его плечом — случайно или намеренно, Егор допытываться не стал. Он еще раз проверил установку для загара: ВЕЩЬ будет находиться в ней четыре с половиной часа. Потом, вечером, когда они с Белогуровым поедут избавляться от «бренных останков», Женька повторит всю операцию, использовав в качестве болванки меньший шар. Они запрут его в подвале на ключ. Не задохнется ли он тут, интересно?
Егор прислушался — как тихо в этом подвале, как в могиле. Словно и нет ничего там, наверху…
Женька плелся, как ему было приказано, в душ, когда повстречал в коридоре Лекс. Точнее, это она его увидела первой и подошла. Сдернула наушники плейера. Ей было смертельно скучно. Странно как: магазин сегодня отчего-то закрыт, Ивана куда-то унесло… Вчера она так быстро и крепко уснула. Белогуров дал ей дозу снотворного в стакане сока: на всякий пожарный, чтобы девчонка не увидела китайца в их доме.
— Где все наши? — капризно спросила Лекс. — Куда все подевались?
Женька остановился. Ему запрещали к ней прикасаться. Егор однажды предупредил: «Пальцем дотронешься — кастрирую, понял?» Женька не понял слова «кастрирую». Когда брат объяснил популярно, ему стало противно. Но не страшно. Он вообще мало чего боялся.
— Я тут перед тобой, — ответил он. — Егор внизу.
— А Иван куда уехал? С утра его жду.
— Я не знаю.
— Ты вечно ничего не знаешь, — фыркнула Лекс. — Бедный Женечка, Ну скажи, что ты вообще знаешь?
— Ты очень красивая сейчас.
Она снова хотела фыркнуть, но.., покраснела. Проклятие! Этот предательский румянец — «миндаль цветущий», как говаривал ее папаша, будучи под мухой…
* * *
Отец носил фамилию Огуреев и был алкаш запойный, но веселый. По профессии художник-реставратор, он работал в реставрационных мастерских сначала Ораниенбаума, а затем Гатчины под Питером. В Гатчине они и жили. А в 93-м мастерские накрылись к чертям собачьим…
Тогда отец стал завсегдатаем «дикого вернисажа» на Дворцовой набережной — предлагал иностранцам посредственные акварели, торговал открытками и видеокассетами. Мать его бросила давным-давно — и, наверное, правильно. «Неудачник наш папка», — говорила она своей дочке Александрине-Лекс. Впрочем, Лекс с матерью виделась редко. У той началась бурная личная жизнь, закончившаяся вторым браком и рождением сына. А Лекс жила с отцом: при разводе родители договорились — раз девочка так отлично успевает в школе, нечего ее травмировать переводом в другую.
Лекс и вправду была круглой отличницей и отнюдь не зубрилой. Просто ей легко все давалось. Она чувствовала себя умнее и старше сверстниц. Она чрезвычайно любила читать, книги заменяли ей весь мир. Отец, к счастью, никогда не интересовался, какая книжка ночует у нее под подушкой.
Одно время отец начал подрабатывать в какой-то «студии». Однажды, пьяный, он зашел в ванную, где мылась Лекс, молча отодвинул клеенчатый занавес, молча смотрел. Она чувствовала, что сгорает от стыда. Ничего не произошло. Отец, вздыхая, попросил ее «войти в его положение, деньги нужны, денег нет… Надо бы и тебе хм.., подзаработать, а? Попозируй нашим в студии. Ты вон какая у меня, Лександра, гладкая… Прямо женщина роскошная…»
Женщина роскошная… Лекс знала, что выглядит старше своих лет. Ей все давали больше, потому что она была «жирной», как дразнили ее в школе. Она порой дико, до слез стеснялась своей рано развившейся тяжелой недевичьей груди, широких бедер. Если было бы возможно, она села бы на самую зверскую диету, питаясь одним обезжиренным йогуртом, как модель Кейт Мосс, но дома на импортный йогурт денег не хватало. Отец покупал в магазине лишь хлеб, молоко, сардельки, окорочка да водку в неограниченном количестве.
В той студии с нее, когда она пришла туда и разделась, никаких картин никто не рисовал. Ее в чем мать родила просто фотографировали, сначала какой-то астматик-старик, а затем девушка-фотограф, стриженная под сорванца. Так продолжалось всю зиму, она привыкла раздеваться и уже не так стеснялась и не комплексовала.
А весной к отцу приехал Белогуров. Он заезжал в Питер из Хельсинки по делам. У него была масса знакомых среди антикваров, владельцев галерей, председателей аукционов и художников. Он отбирал работы, тогда, три года назад, еще надеясь что-то продать…
Он молча смотрел на Лекс, когда они втроем с отцом, уже пьяненьким и благодушным, сидели на кухне. Она тогда училась; в шестом классе.
Через два года, опять же весной, в мае, он приехал снова. Лекс в тот день впервые в жизни попробовала водки. Они с девчонками из класса сдали экзамен по истории и решили отметить это событие на квартире одной из подружек, родители которой укатили «на фазенду» полоть огород. Ребят не было — собрались одни «дурнушки», те, за кем в классе никто не бегал. Слушали рэп, слушали «Иванушек», млели от «Утекай» Лагутенко, слушали «Ногу свело», хихикали, хохотали, прыгали, танцевали и пили. На всю компанию имелось три бутылки водки да персиковые коктейли в жестяных баночках. А потом нежданно вдруг нагрянули родители, устроили страшный скандал, отхлестали дочь по щекам, а ее подружек, обозвав их «проститутками и за…ми», вытолкали взашей из квартиры.
Лекс не помнила, как Добралась до дома. Ползком, наверное. Ей было так плохо! Мамочка моя родная… В подъезде, у лифта, нос к носу она и столкнулась с Белогуровым — он только что приехал из Питера на такси. И там в лифте.., она сама поцеловала его. И как это у нее получилось? Просто обвила его шею руками, пьяно всхлипывая, жалуясь на обиду и тошноту, ткнулась в грудь, потом губами куда-то в плечо, а потом, когда он к ней порывисто наклонился — и в губы. Нечаянно? Было как-то странно и мокро, и… Это был ее первый в жизни поцелуй. Ни в школе, ни на дискотеке ее еще ни разу не целовали — сверстники обзывали ее «жирной», и даже танцевать ее никто не приглашал.
Белогуров тогда на руках вытащил ее из лифта. Понес не к двери квартиры, а выше — на чердак. И там начал ее обнимать, сильно сдавливая грудь, прижимать к себе, гладить, целовать. Задрал подол платья, стащил трусики, ласкал все яростнее. Потом расстегнул свои щегольские белые брюки и сначала сам, манипулируя ее вспотевшей рукой, показал, что она должна делать, чтобы и ему стало «в кайф».
Он и сам был тогда как пьяный. Лекс помнила его затуманенные страстью и нежностью глаза. Как странно — они и виделись до этого всего один раз и даже не разговаривали…
До самого главного они тогда не дошли. Делать это с ней на чердаке показалось ему просто кощунством. А на следующий день они встретились в гатчинском парке, после того как у Лекс закончилась консультация перед экзаменом по алгебре. Она в тот день и не слышала слов учителя, вся переполненная чудесными воспоминаниями о поцелуях и прикосновениях, которые словно жгли ее. Во рту отчего-то при этом скапливалась слюна, а между ног было как-то влажно… Лекс словно прислушивалась с удивлением сама к себе и не узнавала себя.
Когда она увидела Белогурова, все в ней оборвалось, но… Черт ее тогда дернул? Он был такой взрослый, такой старый, так хорошо одет, так не похож на собутыльников отца, что… Она начала болтать без умолку, желая доказать, что и она не какая-то сопливая школьница, а взрослая — ему под стать. Словом — женщина роскошная. Она без запинки, точно отвечая ему урок, выложила про то, о чем читала с девчонками украдкой в тех книжках, которые не водятся в школьной программе, Белогуров был удивлен. Сам он прочел «Тропик Рака», «Тихие дни в Виши», «Любовника леди Чаттерлей» и «Рыжего» лишь студентом. Ну, тогда времена были, конечно, другие…
Вечером он уезжал домой, в Москву, и.., увез ее с собой. Было это очень просто. Они поехали на вокзал, и он купил второй билет по броне на поезд «Красная стрела». А она… Она была тогда как во сне и просто наплевала и на недосданные экзамены, и на неоконченное среднее, и на папашу: (Отец, кстати, через неделю примчался в Москву «разбираться с Белогуровым по-мужски». Но, увидев дом и обстановку, в которой жила Лекс, а главное, получив в зубы в качестве отступного две тысячи долларов, отвалил.) В общем-то, он запродал ее, папаша, за те баксы, но это уже были такие частности…
А школа, что ж, фиг с ней. Иван ведь обещал: захочешь учиться, за деньги в любой вуз поступишь. А когда тебе восемнадцать исполнится — распишемся.
В Москву они ехали в мягком вагоне, в купе СВ на двоих. Белогуров сразу разделся. Раздел и ее. Она помнила ту их первую ночь так, словно это случилось вчера. Он был сначала удивлен, что она — девственница. Это после всего, что она наплела ему из «Тропика Рака»… А ей было сначала больно, потом хорошо. Она никак не могла удержаться, чтобы не вскрикивать, но это ему так нравилось… Они едва не упали на пол — нижняя полка была все же узкой. Он сел, взяв ее себе на бедра, целовал, сильно надавливая языком и губами, словно пытался отыскать у нее что-то во рту. Потом положил ее полные ноги себе на плечи…
Все это было так давно, год назад, и с тех пор Иван сильно изменился. Он все больше становился похож на отца, потому что пил, пил, пил теперь почти каждый день. А когда он был пьян, то совсем ее не хотел. Просто трепал по щеке, как верную собачонку. Часто уезжал, часто просто, казалось, не обращал на нее внимания. Был занят в галерее, хотя покупателей там кот наплакал, порой спускался в подвал, когда там работали Женька с Егором: «А что вы там делаете?» — спрашивала Лекс. «Да муть разную. Егор разбогатеть мечтает. Старых мастеров подделать пытается, они с Женькой там над краской колдуют, что-то малюют, — криво усмехался Белогуров. — Только, Лександра, ш-ш-ш! Это наш большой секрет. А то загремим все за подделку антикварки…»
Лекс не была дурой. Конечно, они занимались там чем-то этаким, крутились, в общем. Зачем, в противном случае, было на ключ запираться? Но ей-то до всего этого какое было дело? Ее терзала скука, жара, ревность и печаль. Иван ну совершенно не хотел трахаться — вот уже две недели он просто бухается в кровать, как бревно, и все. Иногда он целовал ее, гладил ей грудь, уставясь при этом в потолок пустым, ничего не выражающим взглядом. Но когда она пыталась передвинуть его руку ниже или самой прижаться плотнее, он лишь морщился, вздыхал, бормоча, «устал и вообще не в настроении…». Лекс, когда он засыпал, брала с кровати набитый поролоном валик и обнимала его ногами. В такие моменты ей хотелось не целовать того, кто посапывал и вздыхал во сне с ней рядом, а зубами до крови разорвать ему равнодушные губы.
А на этого чудного Женьку Дивиторского, что жил и работал в доме еще до того, как она появилась, она… Сначала она о Женьке думала так: это ее ровесник. Выглядел он совсем как здоровенный, кудрявый, раскормленный мальчишка — маменькин сынок. Но оказалось, что он старше ее почти что на червонец. Да к тому же был шизанутый со справкой — инвалид, мол, детства.
Ей, по правде сказать, поначалу очень приглянулся его старший брат Егор — «ну такой классный, прямо мистер Рочестер!». Но этот ее словно в упор не видел. Он вообще никого не видел, кроме себя, павлин надутый? Лекс за это начала его втихомолку презирать.
А Женька… Однажды весной она сидела в гостиной в кресле — читала. Женька вкалывал как папа Карло. (Кстати, всю работу по уборке салона и дома делал он. Сначала ему помогала приходящая уборщица тетя Поля, она же и повар. Но в этом году ее отчего-то не наняли. Иван заявил, что — дорого, надо сокращать расходы.) Женька пылесосил, а потом начал тряпкой протирать пыль с мебели. Ползал по ковру на коленях, полируя ножки стульев.
* * *
Лекс, погруженная в «Калигулу» Гора Видала, внезапно вздрогнула — словно гусеница проползла по ноге… Женька сидел на полу возле ее кресла. Он поцеловал ей ступню возле большого пальца, ноготок которого она красила белым лаком. Она погладила его по голове: дефективный, а какие у него кудряшки, точно на термобигуди завивается. Блондинчик — прямо купидон, какие вытканы были на знакомых ей с детства по гатчинской реставрационной мастерской шпалерах вместе с рогами изобилия и куртинами роз.
С той мимолетной ласки Женька, что бы он ни делал: мыл ли во дворе из шланга машину, вешал ли картину на стену, драил ли ступени лестницы, — всегда провожал ее странным собачьим взглядом, словно он был пес на цепи, а она миска, отодвинутая от него слишком далеко.
И теперь он вот так же смотрел на нее, не мигая.
— И это все, что ты знаешь? — Лекс наконец-то справилась с предательским румянцем.
— Да. Это все.
— Хочешь музыку послушать?
— Да…
— Ты что застрял тут? Ты куда шел? Тебе два раза повторять?
Лекс поморщилась: нашего мистера Рочестера, павлина ненаглядного принесло! И чего он орет? Она, прислонясь к стене, наблюдала, как Егор Дивиторский толкнул Женьку в загривок по направлению к ванной.
— Что ты на него все время кричишь? — спросила она недовольно. — Иван кричит, ты…
Егор на нее даже не взглянул: тоже, заступница.
— В холодильнике что-нибудь нам найдется? — буркнул он. — Пицца, мясо, салат?
— У нас всегда что-нибудь да найдется. Пойти разогреть?
— Я сам… Спасибо. Это.., я хотел тебе сказать… Иван уехал — срочно позвонили, дела.
— Там на факсе вам сообщение — из Вены, что ли… И почта пришла, счета за телефон…
— Я позже с ними разберусь. — Егор выдавил из себя бледную улыбку и даже снизошел, чтобы потрепать девчонку по плечу. Кожа была влажной и липкой — он украдкой вытер руки о брюки. — Ты, Александрина, не волнуйся насчет Ваньки. Вернется, никуда не денется.
— Я и не волнуюсь. — Она снова надела наушники, словно отгородилась от всего, и, цепляясь рукой за стену, лениво побрела по коридору в гостиную — на любимое кресло.
Дивиторскому казалось, что она переваливается на ходу, как раскормленная утка. Для пятнадцатилетней нимфетки, на его придирчивый вкус, у этой малолетней сучонки был чересчур увесистый зад. Ну и вкус у Белогурова. Одна радость, что молодая — свежачок…
А Лекс, надорвав очередной (шестой по счету за этот день) пакетик картофельных чипсов, отрешенно слушала музыку. Это был саунд-трек из «От заката до рассвета». Она жевала чипсы, жевала, жевала… Ей неудержимо хотелось плакать.
Белогуров вернулся домой только на закате.
— Попозже не мог явиться? — прошипел Егор, встречая его в холле. — Девка ко мне как пластырь липнет: где ты да где ты.
— Отстань, — Белогуров направился наверх в спальню, — я с ней сам разберусь. Что.., получилось что-нибудь у Чучельника?
— Получилось… Вроде бы…
— Душно. Включи кондиционер, — Белогуров старался не смотреть на Дивиторского. — Отдохну немного и.., поедем, да?
— К ночи ближе поедем. Я Лекс сказал, что мы приглашены. Ну, в общем, на мальчишник, без сопливых дам. В клуб. Так что одевайся соответственно. В маскарад в собственном доме рядиться приходится!
— Она где?
— Как всегда — возле холодильника, — хмыкнул Егор. — Молотит как мельница, скоро в двери не будет пролезать твоя Лолита.
— Оставь ее в покое. Заткнись!
На звуки ссоры из гостиной, где грохотал и стрелял телевизор, выглянул Женька. Он жевал кусок пиццы, обильно сдобренный кетчупом. Белогуров только вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера. Но чувства голода не ощущал — только тошноту и жажду.
— Привет, — Женька выжидательно, как ящерица, уставился на «хозяина дома». — Ты вернулся. А мы старались. И ничего не испортили.
Белогуров быстро прошел к себе. Вид жующего с таким аппетитом Чучельника был ему сейчас мерзок до дрожи. Он принял душ, включил в спальне кондиционер на полную мощность. Духота сводила с ума. Раздвинул шторы.
Солнце садилось в тучи. В Гранатовом переулке, залитом багровым светом, стояла мертвая тишина. Замоскворечье, как и весь деловой центр, с вечера пятницы и на все выходные вымирает. Из дома вышел Егор, сел в белогуровскую «Хонду» — поехал на заправку. Ведь ночью им предстояла особая поездка. Белогуров дернул за шнур, задвигая шторы. Потом рухнул на кровать. Он все ждал, что в спальню поднимется Лекс. Но она так и не пришла.
В половине одиннадцатого он проснулся, словно от толчка, и начал лихорадочно собираться. Из-за глупого вранья Дивиторского насчет набега на ночной клубешник пришлось надевать костюм и галстук. Белогуров смотрел на себя в зеркало и видел словно бы незнакомца — мрачного, элегантного, но до крайности неуверенного в себе. Это чертово переодевание напоминало фарс, черную комедию. Стоило ли так выряжаться, чтобы таскать на себе мешок с обезглавленным трупом? Белогуров при этой мысли подавился истерическим смешком — вот так и рехнешься тут… Когда он спустился, оказалось, что ничего еще не готово. Дивиторский, тоже при параде, цепко ухватил Белогурова за плечо.
— Пошли, вытащим эту дрянь, пока девка телик смотрит. Там с ней Женька. Потом я его в подвал запру — работы ему на всю ночь хватит.
— Он задохнется, — тихо сказал Белогуров, — когда включит все эти агрегаты…
— Потерпит, не маленький. Да мы быстро — туда и обратно. К двум, максимум к половине третьего, вернемся.
Труп китайца в пластиковом мешке, когда они вытаскивали его из подвала, показался Белогурову тяжелым, как гробовая плита. Странно, при жизни Пекин был легким, поджарым, подвижным — откуда же такая тяжесть в мертвом? Егор подогнал «Хонду» к самым дверям дома.
Белогуров отметил, что на этот раз «для вывоза бренных останков» Егор выбрал не те старые «Жигули», не свой «Форд», что приобрел в прошлом году, а эту белогуровскую красавицу-иномарку. Видимо, у него на то имелись причины.
По Москве ехали без приключений. Егор вел машину уверенно. Белогуров сидел сзади. Они оставили позади центр, «Сокол», «Войковскую», миновали мост через канал, и тут вдруг… Егор резко сбавил скорость. Впереди маячил огнями пост ГИБДД — возле него милиционеры в бронежилетах с автоматами да еще военный патруль. Один мент с жезлом стоял на обочине. Взмахнул. Белогурова прошиб холодный пот — им приказывают остановиться?! Но гаишник небрежно крутанул жезлом, показывая, чтобы они проезжали. Белогуров оглянулся: на мосту за ними почти не было машин: грузовик, иномарка, микроавтобус «Автолайн». Их тоже пропустили. А вот ползущим следом неказистым «Жигулям» с какими-то досками, притороченными на верхний багажник, было приказано съехать на обочину.
Егор плавно свернул с Ленинградского шоссе на какую-то улицу. Они очутились в Химках. Замелькали освещенные многоэтажки, магазины, потом потянулся темный парк. В открытое окно машины внезапно ударил сильный порыв ветра. Белогуров, измученный духотой, с наслаждением подставил ему лицо. Послышались глухие раскаты дальнего грома.
— Гроза идет. Наконец-то! Дождичка б сейчас хорошего. — Егор тоже прислушался. В небе вспыхнула зарница, еще одна…
Белогуров смотрел в окно: Егор направлялся к каналу.
Они остановились на темной, пустой проселочной дороге. Впереди тускло мерцали огоньки дальних домов. Деревенька, дачи? Небо над головой было черным, непроглядным — ни луны, ни звезд. Снова синим полыхнули одна за другой зарницы. Зарокотал гром, уже ближе. В воздухе снова установилось безветрие и странное безмолвие. Даже цикады затихли в траве. Потом в кронах деревьев зашумел ветер. И внезапно в той деревеньке или дачном поселке раздался многолосый тоскливый хор — во всех дворах лаяли и выли собаки.
— Что это? — Белогуров вздрогнул. — Чего они воют?
Егор сошел с дороги, что-то осматривая, высвечивая карманным фонариком.
— Не здесь. Проедем еще метров триста. Там, за яхт-клубом, спуск к воде полегче, — сказал он, тоже настороженно прислушиваясь к собачьему вою. Они проехали еще, остановились, вылезли и… Страшный порыв ветра, налетевшего вроде бы ниоткуда, едва не сшиб их с ног!
— Сейчас ливанет! — крикнул Егор. — Давай быстрее, шевелись! Вытаскиваем!
Мешок с трупом снова удивил Белогурова своей тяжестью.
— Груз я туда присобачил к нему, к ногам привязал секцию батареи, что после ремонта в подвале остались, — пояснил, задыхаясь, Егор, — не всплывет теперь. Берись с этой стороны. Поволокли!
И тут над самой их головой полыхнуло так, что они на миг ослепли. И гром — точно разрыв авиабомбы.
Они быстро, как могли при такой тяжести, начали спускаться к реке. Белогурова хлестнуло веткой по лицу. Егор что-то крикнул, обернувшись, но снова налетел ветер — ничего нельзя было понять. А затем — Белогурову показалось, что его отрывает от земли и поднимает на воздух невидимая сила., Он не мог дальше идти: впереди выросла огромная и упругая воздушная стена. Над их головами что-то затрещало, заскрипело — это деревья, росшие по склонам обрыва, гнулись от ветра дугой до земли.
Москва-река вздулась волнами. Что-то в ней кружилось волчком, металось из стороны в сторону — сорванная лодка, плот?
— Черт! В воду не сунешься! — кричал Егор, ветер залеплял ему рот. — Потащили дальше, тут метров через сто — карьер есть, промоина… Там вода. Неглубоко, но сойдет. Теперь больше ничего не остается!
Молнии сверкали так, что было больно глазам. Беспрестанные их вспышки разогнали ночной мрак. Над рекой, лесом, дальними полями царило мертвенное, пугающее своей яркостью грозовое сияние, словно на Венере, где не бывает ни дня, ни ночи. Справа, с треском ломая густой подлесок, рухнула старая береза — корни ее выбросили из земли целый фонтан комьев глины. Белогуров внезапно остановился. Взгляд его был устремлен в небо, ослеплен этими молниями, с треском рвущими небо над их головами…
— Господи. Господи… — бормотал он трясущимися губами, — не надо.., мы же не хотели…. Мы.., прости, не надо так…
Новый раскат грома грянул уже совсем близко — неистовый треск, словно залп тысяч орудий, рев ветра, набирающего и набирающего силу, сучья, комья земли, взметнувшиеся вверх сухие листья, мусор… Егора больно ударило что-то в спину. Он упал от неожиданности на колени в глину, чуть ли не ползком по ней волочил за собой в одиночку тяжеленный тюк с трупом. Белогуров отстал. Вон наконец и та яма — промоина, полная гнилой воды. Он оглянулся, ища того, с кем сюда приехал. Но снова ослепила молния, ахнул гром. Последним усилием Дивиторский подтянул тюк к промоине и руками, поднатужась, спихнул его в черную воду! Всплеск и…
Раздался адский грохот, словно рушились горы. Егора отбросило порывом ветра, он успел уцепиться за какой-то ствол. Последнее, что он видел, перед тем как его снова ослепила молния, был гигантский тополь, низвергающийся с высоты…
Но беспамятство и оцепенение продолжалось секунду, не более. Глухой удар о землю ствола, упавшего совсем рядом, и.., ямы, где покоился труп китайца, больше не существовало: ее скрыли вывороченные из земли узловатые корни гигантского дерева. А потом хлынул дождь… Егор, скользя по вмиг раскисшей глине, спотыкаясь и падая, пошел назад и…
Белогуров валялся на берегу, скорчившись в три погибели, закрыв голову руками, что-то хрипел. Когда Егор попытался его поднять — на него глянуло безумное, мокрое то ли от дождя, то ли от слез страха лицо.
— Ты что, не видишь, не понимаешь? Это — нам, нам весь этот ужас! — бормотал он. — Господи, ну не нужно, пожалей нас, прости! Никогда больше, клянусь тебе счастьем своим, жизнью клянусь — никогда!! Прости меня, Господи!
Синий, ослепительно яркий зигзаг перечеркнул черное небо. Белогуров подавился криком. Громыхнуло так, что у них едва не лопнули барабанные перепонки. Молния ударила в высокую сосну метрах в пятидесяти от них. Сосна вспыхнула как факел. Даже ливень не в силах был погасить пламя, с ревом пожиравшее сухой стеблистый ствол и ветки.
— Мотаем отсюда! — заорал Дивиторский. — Эта буря чертова… Уматываем, не то нас тут заживо похоронят! Ты ошалел, что ли, Ванька?! Что с тобой такое? Поднимайся же, ну?! — Он грубо за шиворот пиджака рванул Белогурова вверх.
— Оставь меня! Пусти! Господи, не надо, не трогай, не убивай, мы никогда больше — обещаю, клянусь тебе! — Белогуров и правда был как безумный — все рушилось кругом, горело. Ревел ветер, хлестал дождь. — Прости меня, умоляю, прошу, прости-и-и…
Новый порыв ветра, как та давешняя призрачная вата, словно кляпом заткнул ему рот — казалось, легкие разорвутся…
Егор, ругаясь по-страшному, подхватил Белогурова под мышки и… Он все же был очень силен, раз почти против воли своего подельника и компаньона втащил его кое-как в машину.
Дождь барабанил по крыше крупной дробью, а может, град? Рухнувшее дерево перегородило дорогу — ехать можно было лишь вперед по проселку в ночь, рвущуюся молниями, где, взбесившись от смертного страха, выли деревенские собаки.
— Ты что, не понял, что это все нам?! — Белогуров орал, словно ему без наркоза ампутировали ногу. — Пусти меня! Он убьет нас тут! Ты видел:.., видел когда-нибудь такой ад?!
У него была истерика на почве алкоголизма (так решил про себя Дивиторский, не веривший в мистику и Божью кару). Бог был для него лишь абстрактным словом. Он никогда не задумывался, что это такое. Но этот небывалый, жуткий ураган напугал и его до полусмерти. Надо было выбираться любой ценой, пока машину не придавило очередной вывернутой с корнями вековой березой. Он с ненавистью глянул на бьющегося в истерике Белогурова и внезапно, со всего размаха (так же, как некогда сам Белогуров Женьке) въехал ему в челюсть кулаком. Лишь бы заглох, зараза, отключился, перестал выть и причитать хоть на минуту!
Магнитола при каждом грозовом разряде издавала хриплый треск, он в бешенстве саданул кулаком и по ней — треснула пластмассовая панель. Нажал на газ — «Хонда», вихляя по мокрому асфальту, с визгом и скрежетом ринулась вперед — в непроглядный мрак: в домах погасло электричество. Потухли разом и все дорожные фонари.
Они вернулись домой в Гранатовый переулок лишь под утро — Москва представляла собой точно пейзаж после битвы. Из-за поваленных ветром деревьев и рекламных щитов не по всякой улице можно было проехать.
Лекс, напуганная грозой до полусмерти, напоминала мокрого, зареванного звереныша. Женька же, когда Егор выпустил его на волю, только с изумлением таращился в окно на сломанные по всему переулку тополя.
В половине четвертого утра, когда от урагана остались лишь жуткие воспоминания, они все легли спать — дом погрузился в тишину, Белогуров, кое-как пришедший в себя после нокаута, выпил целую бутылку коньяка — словно это был чай, стакан за стаканом. Он проспал как мертвый до полудня.
Его не разбудил тот телефонный звонок. Трубку снял и вел разговор, имевший такие странные последствия, Егор Дивиторский под любопытным и вместе с тем отрешенным взглядом брата.
16
«СПАСИ МЕНЯ ОТ ПАСТИ ЛЬВОВ…»
— Никита, ты выезжал от руководства на кражу икон в Стаханове? Отлично. Значит, это тебя тоже заинтересует…
У Николая Свидерко была такая вредная манера не договаривать фразы. Колосов приехал в ГУВД Москвы на совещание совместного оперативного штаба, созданного по «делу обезглавленных», куда теперь входили и сотрудники МУРа, и отдела убийств уголовного розыска области. Совещание затянулось, Затем они со Свидерко, который курировал это дело от «москвичей», подводили вместе с аналитической группой наработанные итоги. Самым важными из них, на взгляд Свидерко, было то, что, наконец-то личности всех жертв установлены и документально подтверждены. Из Ташкента пришел долгожданный ответ на отдельное поручение, содержащий протоколы допросов родственников Рахмона Рахмонова. Посольство Вьетнама подтвердило личности погибших в Чудинове сограждан. Пришли ответы и по кощеевскому корейцу. Он оказался Кимом Ли Вангом, уроженцем Йошкар-Олинской области. Как ни парадоксально для махрового наркокурьера, это был парень из довольно интеллигентной семьи (мать — художница, отец — врач), учившийся на третьем курсе медицинского института.
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пытались, насколько это было возможно, проработать возможные преступные связи Кима Ли Ванга в столице. В Йошкар-Оле местные сыщики провели даже несколько рейдов по притонам, поприжали наркоту. Но узнать какие-либо сведения о том, от кого и к кому кореец-челнок вез в Москву героин, так и не представилось возможным.
Наркоцепочка, как это часто и бывает, полностью оборвалась вместе с гибелью курьера.
Однако Колосов и Свидерко были почта уверены: героин никак не связан с последующей страшной гибелью студента-медика. Но любой пробел в раскрытии — это минус в оперативной работе. А кто из сыщиков останется доволен такими минусами, когда и плюсов-то кот наплакал? Из полученной по этому делу информации старались выжать все, что возможно. Аналитическая группа работала над многими неясными вопросами, в том числе пыталась смоделировать психологические портреты предполагаемых убийц.
Но Колосов в эти отвлеченные виртуальные грезы верил мало. Слушал умненьких ребят с университетскими значками на мундирах, смотрел в компьютер; аккуратно подшивал распечатки в папочку. Общие фразы этого самого «моделирования» он и так знал без умствования аналитиков. А самого главного, того, что его сейчас интересовало больше всего, эти компьютерные гении ему не сообщали. Два главных вопроса: «Каков мотив преступления?» и «На чем конкретно следует цеплять убийц?» тонули в туманных фразах типа: «с большей степенью вероятности», «предположительно» и «есть версия».
Короче — голова от аналитиков пухла. А туг еще…
Они сидели в кабинете Свидерко, утонув в ворохе бумаг, как вдруг тому позвонили из дежурной части розыска.
— Это из нашего антикварного отдела. Начальник Кревицкий — тебя. Такой жук, ты построже с ним, — Свидерко прикрыл ладонью трубку щегольского радиотелефона (среди аппаратов связи на столе и на компьютерной стойке это был пятый по счету). — Говорит, к ним тип какой-то обратился. Вроде дает информацию. Ему, мол, вещи предложили краденые, как он подозревает. Ну и.., обратился, в общем, сигнализирует. Описал те предметы. Три иконы. Кревицкий по банку данных похищенного прокрутил скоренько. Вроде ваши это вещи с кражи из Стаханова. Говорит, с Байко (это был начальник областного антикварного отдела) пытался связаться, а тот где-то на выезде. А дело вроде срочное. Узнал, что ты у меня в гостях, ну и… На, потолкуй с ним лично. — Он протянул трубку коллеге.
Ситуация, как понял Колосов из энергичных объяснений Кревицкого, действительно складывалась весьма интересная в оперативном плане. И реагировать надо было решительно и быстро. «Жук» Кревицкий преотлично знал, что стахановский случай — не дело Москвы «по территориальности». И решил скорехонько подключить к нему областных коллег, чтобы не отбивать у них хлеб и не рваться самому. В столице и своих дел предостаточно, пусть область по своей краже сама рукава засучивает.
Но в принципе-то он сделал доброе и благородное дело: переадресовал важного свидетеля, и Колосов высказал ему свое личное «мерси» за это и низко поклонился в ножки. Хотя…
Хотя лично ему вся эта антикварная эпопея начала порядком надоедать. Из поездки в Стаханове и кропотливой работы с фетишистом Куренковым вышел, как и следовало ожидать, мыльный пузырь. Фетишиста забрали в психиатрическую больницу. Колосов не поленился съездить туда, беседовал с врачом. Вместе они потом битых три часа «исследовали феномен»: Куренков неохотно отвечал на вопросы, раза три ударился в истерику, а их настойчивый интерес к отрубленным цыплячьим и кошачьим головкам полностью игнорировал, замыкаясь в себе.
Версия его возможной причастности к серийным обезглавливаниям, какой бы смехотворной она ни казалась, все же оставили в стадии разработки. Увязнуть же еще по уши и в разборках с кражей икон — совершенно не входило в планы отдела убийств и его начальника. Но Колосов знал: областные антикварщики в запарке. Два дня назад отделом задержана группа гастролеров из Тулы, промышлявших по подмосковным деревням как раз таким вот иконокрадством. А в розыске есть два основных неписаных правила: помоги занятому коллеге, и придет время, когда он поможет тебе. И второе, самое главное: за дело, на которое ты выезжал лично, ты лично и несешь ответственность до самого конца. Так что…
— С собой его заберешь на Никитский? — осведомился Свидерко, когда Колосов положил трубку. — Ну, Бог в помощь вам. Хотя чудное какое-то дельце: чтобы такой жук, как этот антикварный воротила, и сам в милицию прискакал на вороных — дескать, ему, честняге, краденое посмели предложить! Ей-богу, я таких совестливых граждан не встречал. — Свидерко щурился. — Прямо воспаление законопослушания. С чего бы это у него, а?
У Свидерко все были «жуки». Колосов пропустил это обидное прозвище мимо ушей. Они договорились созвониться, обменяться информацией, и Колосов спустился в вестибюль. У бюро пропусков его уже ждал Кревицкий и…
— Белогуров Иван Григорьевич.
Колосов пожал руку плотному, хорошо одетому шатену с изящнейшим кожаным портфелем под мышкой.
— Ну, Счастливо. Будут результаты — проинформируйте, — отсалютовал Кревицкий и с чувством честно выполненного служебного долга птицей взлетел по лестнице наверх.
Колосов предложил свидетелю сначала побеседовать в машине. Белогуров не возражал. Он закурил предложенную ему сигарету. Начал рассказывать спокойно, неторопливо и обстоятельно. Колосов наблюдал за ним с интересом: итак, этот гражданин обратился в милицию с сообщением о том, что, как он подозревает, его намереваются втянуть в некую противозаконную сделку, предлагая явно краденые вещи. А он — честный коммерсант, в бизнесе не первый год, у него стабильная деловая репутация, и он просто не желает быть втянутым и поэтому доводит до сведения правоохранительных органов…
Колосов размышлял: тут бы в литавры бить — пришел важнейший свидетель с важнейшей информацией для раскрытия. Глядишь, и «задержание с поличным» уже не за горами. Но… «бить в литавры» отчего-то не хотелось. Колосов вздохнул: дожили! Уже их настораживает сам факт, что гражданин добровольно изъявляет свое желание помочь милиции. С чего бы это взыграли в нем честность и законопослушание?
Таких «честных» сейчас днем с огнем. В обыкновенные понятые, просто «поучаствовать», подпись-закорючку свою под протоколом поставить — никого не допросишься. Все шарахаются как от чумы. А тут такой стильный холеный деляга — и сам прибежал спозаранку…
— Человек, который позвонил, а затем встретился с вами, он чем-то напугал вас, Иван Григорьевич? — напрямик спросил Колосов свидетеля.
— Нет. С чего вы взяли, что я испугался? — Веки Белогурова дрогнули. — Просто мы с, компаньоном решили…
Никита смотрел на Белогурова. Его первое впечатление от незнакомца в ходе беседы не изменилось. Голос хрипловатый, но приятный, мужественный. Сильные руки, какие-то даже слишком крупные для антиквара. У Колосова отчего-то это словечко ассоциировалось с этаким декадентом-стилягой с хвостом на затылке, модной облезлой бородкой и круглыми слепыми черными очками от «Ферре». Но Белогуров на хвостатого битника никак не походил — гладко выбрит, аккуратнейшая стрижка с английским пробором. Однако лицо, хоть и холеное, было отечное, землистое, усталое до крайности. И глаза… Складывалось впечатление, что у Белогурова либо болит зуб, либо ноет печень, но правила хорошего тона, усвоенные с детства, и мужская гордость не позволяют ему показать собеседнику собственное нездоровье.
— Итак, Иван Григорьевич, как я уже понял из вашего рассказа, этот человек сам позвонил вам в галерею? — подытожил Колосов.
— Да, вчера днем около половины двенадцатого.. Вчера сами знаете, что ночью с погодой творилось, ну и… Мы были закрыты. А так у нас понедельник выходной… С ним беседовал мой помощник и компаньон Дивиторский.
— А звонивший как-то назвал себя?
— Владимиром. Точнее, Володимиром — он как-то особенно окал. Сказал моему помощнику, что желает предложить нашей галерее вещи, которые нас, возможно, заинтересуют. Просил о личной встрече.
— Он хотел встретиться с вами в галерее?
— Нет. Сказал, чтобы владелец, то есть я — он хотел иметь дело только со мной, — Белогуров кашлянул, — приехал на Ленинградский вокзал. Там забегаловка есть — летнее кафе на Площади у касс. Сказал, что будет ждать меня там в семь вечера. Спросил, как узнает, ну, насчет моей внешности, одежды…
— А вас в этот момент в доме не было, раз он через вашего помощника договаривался?
— — Я спал, — Белогуров выпустил дым из ноздрей, сизая пелена почти скрыла его лицо, — вчера была сумасшедшая ночь. Мы с женой глаз не сомкнули из-за урагана. У нас в переулке все тополя с корнем вывернуло. Боялись, крышу с дома сорвет.
— И вы поехали на вокзал к семи?
— Сначала я ехать не хотел. Но знаете ли… Да дело даже не в том, что Дивиторский, мой компаньон, как-то этого клиента обнадежил, а… В нашем бизнесе — а к нам часто обращаются граждане, просят взглянуть на принадлежащие им вещи, картины, оценить… Словом, в нашем бизнесе никогда не знаешь, что тебе предложат. А вдруг это.., Ну, сами понимаете, каждый коллекционер всегда надеется на чудо, на что-то этакое, — Белогуров бледно улыбнулся. — Я привык использовать все шансы. Это, видно, уже моя вторая натура: если что-то предлагают, не отвергать с ходу, а смотреть и…
— Да я не в осуждение вам, Бога ради, не оправдывайтесь, — хмыкнул Колосов. — Я вам спасибо должен сказать, что вы к этому Владимиру поехали. Ну и?
— Ну, хотя, если честно, мне было совсем не до этих вещей… — (Тут Колосов чуть было нетактично не спросил: «Отчего же?», но прикусил язык. Мало ли что у человека случилось? Тем более вчера этот ураган чертов бушевал…) — Я по настоянию компаньона поехал на вокзал и там…
Белогуров далее излагал факты, стараясь думать только о том, что ему следует сказать этому милиционеру — Колосовым он, кажется, назвался — в следующую минуту.
Как же ему пригодилась та, с детства усвоенная, спартанская самодисциплина! Но теперь он титаническим усилием воли давил в себе не ярость, не гнев, не слепую ненависть и не страх — нет, а… Все ту же проклятую ВАТУ, что все росла в нем, пухла, душила его, словно гигантская раковая опухоль. А в ушах его все еще звучал визгливо-испуганный окрик Егора, просто потерявшего над собой контроль от злости и растерянности, когда он, Белогуров, вернувшись с вокзала со встречи с тем вороватым полудурком, взялся за телефонную трубку, объявив, что немедленно собирается «сообщить обо всем в милицию». «Да ты ошалел, что ли, Ванька?! И вправду сдвинулся?! Ты что, не соображаешь, что сам лезешь в пасть ко льву?!!»
— Вам смешно? — Колосов недоуменно покосился на собеседника. Тот на полуслове вдруг запнулся и, издал какой-то странный смешок-всхлип.
— Простите, это нервное, — опомнился Белогуров. — Я все же, если по правде, крайне взволнован. Ни разу в жизни не оказывался в такой дурацкой ситуации. Ну, словом, продолжаю…
* * *
Когда он проснулся вчера днем около половины четвертого, то в первую секунду не помнил ничего. А потом вспомнил все. Потолок над его головой был как белая плита склепа…
Рядом под боком, тесно прижавшись, спала Лекс. Белогуров поцеловал ее в закрытые глаза. Она вздохнула во сне, пошевелилась. Он поцеловал ее в шею. Откинул одеяло, сгреб девочку в охапку. Его губы шарили, блуждали по шелковистой прохладной коже, опускаясь все ниже. Он будил и ее, сонную, и себя — мертвого, ватного, без чувств, без желаний, без крови в жилах, без силы. Будил чуть ли не насильно…
— Ну что ты со мной делаешь? — забормотала Лекс. — Не хочу, отстань… Не нужно, что ты делаешь… Так, так хорошо.. Я вчера испугалась… Думала, вы погибли, вас током, проводами убило… Такой ветер — деревья ломал, выл… Как хорошо, Ванечка… Я люблю тебя очень-очень.., не могу без тебя, не бросай меня больше… А так мне больно, ой.., что ты делаешь… Ну пожалуйста. Делай, что захочешь…
Он закрыл глаза. Лекс — это только губы (Бог мой, как она неумело, еще по-детски целуется!), море русых мягких волос на подушке, Горячие мягкие руки, обвившие его шею…
— Ваня, мне же так больно, ты что?!
Он укусил ее рот до крови, потому что чувствовал уже, что… Ни черта не получалось. Как он ни старался, как не распалял, как ни насиловал сам себя этой своей любимой игрушкой, этой маленькой сердечной занозой, этой девчонкой с послушным, жадным до его ласк пухлым тельцем, этой маленькой бедной сучонкой, как звал ее Егор Дивиторский, глупой, но такой трогательной, наивной, мягкой, покорной и нежной, — всё равно ни черта сейчас не получалось у него с ней. Потому что.., эта проклятая вата, от которой он скоро с ума сойдет, она по-прежнему в нем, переполняет его, душит и…
— Ты что? — Лекс, вцепившись ему в плечи, приподнялась, силясь поймать ускользающие от" нее губы, удержать его, отстраняющегося, уходящего…
— Я не могу. Ничего не выходит. Извини.
Она еще пыталась помочь ему, предпринимая что-то сама, но он почти грубо отпихнул ее. Ему было по горло достаточно унижения.
Лекс резко повернулась на бок, скорчилась, подтянув голые коленки к подбородку. И тут в спальню без стука вошел Егор. Белогуров набросил на Лекс простыню, но она вдруг с бешеной злостью скинула ее с себя и, как была нагишом, медленно прошествовала мимо Дивиторского в ванную.
— Ох простите, — осклабился тот. — Я, кажется, не вовремя вас, ребятки, побеспокоил.
— Если ты не уберешься, я…
— Погоди-ка, — Егор вдруг доверчиво наклонился к взбешенному Белогурову. — Никаких следов, слава Богу. — Он пристально изучал лицо своего компаньона и хозяина. — Думал, у тебя, Ваня, синячище в полскулы будет, а надо же — ничегошеньки… Ты извини меня за… Понял, в общем, за что. Я не хотел. Но надо было как-то тебе помочь, успокоить. Ладно, ладно, понял, затыкаюсь. — Егор попятился, увидев в глазах Белогурова нечто такое, от чего сразу сбавил тон. Сидевший перед ним человек ни капли не походил на того перепуганного, рыдающего истерика, каким выглядел ночью. Дивиторскому вспомнилась прежняя ассоциация с бешеной ядовитой коброй, готовой к броску. — Там клиент звонил… По-моему, у него интересное предложение для нас. Но он хочет говорить только с хозяином. С тем, кто «платит бабки». Да ты не скрипи зубами-то, Ванька! Ты послушай меня лучше…
* * *
— Он, этот Владимир, сам подошел к вам на вокзале? — спросил Колосов, видя, что Белогуров снова запнулся и смотрит в окно машины, словно подыскивает нужные слова. У Колосова вообще начинало складываться впечатление, что мысли его собеседника витают где-то далеко.
— Да, сам: Там это кафе — грязь, конечно, ужасная… Я взял пива, ждал минут Десять, не больше. И тут он ко мне подошел…
В семь часов вечера на Ленинградском вокзале — столпотворение: выходной день, суббота. Да еще ночной ураган. Народ торопился кто с дач, кто на дачи — посмотреть, что натворила буря. Не побила ли стекла, не сорвала ли крыши, не поломала ли яблони в саду.
— Привет. Белогуров Иван — точно? Я — Володимир. Это я звонил. Ну что, разговор будет?
Белогуров поднял глаза. Перед ним стоял субъект лет сорока в новехоньком спортивном костюме «Рибок». «Молния» куртки открывала волосатую грудь с массивной золотой цепочкой. На коротких ухватистых пальцах тоже золото — печатка, перстень с агатом. И все эти побрякушки, пожалуй, были самыми запоминающимися, яркими деталями в его облике, остальное же… Невзрачное, изоборожденное глубокими морщинами лицо, редеющие на макушке волосы, кривые ноги «иксом». Взгляд черных глазок, похожих на бездонные круглые дырки, насторожен и недобр.
— А тот человек, назвавшийся Владимиром, сразу показал вам вещи, которые намеревался продать? — спросил Колосов, заполняя новую паузу в рассказе Белогурова.
— Нет, — Белогуров отрицательно покачал головой. — Сначала он выложил на стол пачку фотографий, сделанных «Полароидом». Они изображали иконы, снятые крупным планом. Там было три вещи: «Неопалимая Купина», «Богоматерь Тихвинская», а вот третью я по фотографии сначала ни с чем не мог отождествить. Я спросил, что это за вещи. Как они к нему попали.
— Так вот прямо и спросили? — Колосов улыбнулся.
— Ага. — Белогуров тоже попытался улыбнуться — Он как-то вывернулся, явно соврал… Я сказал, что по этим фото вообще ничего не могу сказать, хочу видеть оригиналы. Честно-то говоря, мне хотелось его к черту послать, а он… Он сказал, что за оригиналами дело не станет. Иконы, мол, у него в машине. Он понимает, что вглухую такие сделки не совершаются.
— Так и сказал «сделки»? Это самое слово употребил?
— Нет. Но смысл был этот самый. Короче, он предложил мне взглянуть на иконы. Ну, понимаете, раз уж я приехал туда, Потратил столько времени, то я решил-таки довести это дело до конца. Он повел меня на платную стоянку перед вокзалом. Там была его машина.
— Марка? — Колосов достал из кармана блокнот.
— Девятая модель «Жигулей». Черная, с такими наворотами..
— Вот собака такая, а!
Белогуров с удивлением воззрился на собеседника.
— Ну почему они все именно такие себе тачки выбирают? — хмыкнул Колосов. — Мечта бандита, мда-а…. — Ему вспомнилась «девятка» Свайкина.
— Дикари ж, первобытный вкус. Примитивизм и пошлость. — Белогуров щелкнул зажигалкой, закуривая новую сигарету, и вдруг, спохватившись, окинул взглядом салон колосовской «мечты бандита» с такими же точно «наворотами» и пробормотал:
— Ох, простите. Я имел в виду…
— Давайте лучше про иконы. — Колосов проглотил горькую пилюлю как можно достойнее.
— Они лежали у него в спортивной сумке в багажнике. Мы отъехали к железнодорожным путям. И там он мне показал вещи. Две иконы я бы датировал концом семнадцатого века. Я уже вам назвал их. А вот третья… — Белогуров хрустнул пальцами. — Третья меня просто поразила. Это было «Рождество» — примерно конец шестнадцатого, начало семнадцатого века. Икона явно нуждалась в реставрации — то есть она была не в очень хорошем состоянии, поэтому-то я по фотографии вообще ничего не мог толком сказать. Это действительно чрезвычайно редкая манера письма, видимо, она принадлежит кисти северного мастера. В цветовой гамме там много киновари и прозелени. Очень характерны лики святых. Там есть одна поразительная деталь: Богородица лежит на ложе, а возле нее — повитуха, омывающая новорожденного младенца в корыте. Это отличительная деталь северной иконописной школы еще до никонианского раскола. Позже живописцы полностью отказались от изображения повитух в сцене Рождества, потому что…
— Вы отлично разбираетесь в иконах, Иван Григорьевич. Вы искусствовед по образованию? — спросил Никита.
— Почти. А что разбираюсь — профессия такая. Волка ноги кормят, не будешь разбираться и… Короче, я понял, что имею дело не с подделкой.
Колосов смотрел на собеседника. И тот словно угадал его мысли.
— Вас, кажется, поражает, что я — коллекционер и владелец галереи — тут же не воспользовался случаем, не оторвал с руками по дешевке этот шедевр, а вместо этого помчался с доносом к вам? — В тоне Белогурова не было ни обиды, ни сарказма, ни раздражения, лишь усталость и горечь.
— Это не донос, Иван Григорьевич. Зачем вы так? Это ваша помощь — и не только, кстати, нам, милиции. Эти иконы украдены из церкви в Стаханове несколько дней назад. Там всем поселком только-только церковь отстроили — и бах — , кража. — Колосов постарался придать своему голосу патетические нотки.
— Я сразу сообразил, что эти вещи краденые. У такого типа, что бы он ни плел, таких вещей просто не могло оказаться, иным способом, как кражей со взломом. — Белогуров тоже придал своему голосу некую особую окраску. — Он попросил за все три вещи пять тысяч долларов. Всего-то. Сегодня в шесть вечера он мне позвонит для окончательного ответа. Я ему дал телефон «сотки». А сам сразу же решил, что немедленно сообщу вам, обязан это сделать. Я честный коммерсант и дорожу своей деловой репутацией. Меня знают за рубежом. И я не могу позволить себе участие в незаконных сделках…
Белогуров произносил свой текст, словно отлично вызубренный урок, а сам же…
* * *
Когда, вернувшись с вокзала, он объявил Егору, что сообщит о происшедшем в милицию, того (как было уже сказано выше) едва не хватил удар. Он начал остервенело ругаться матом (они заперлись в кабинете на ключ). Белогуров терпеливо слушал.
— Тебя на неприятности тянет, на катастрофу? — шипел Егор. — Какая муха тебя укусила?! Не желаешь брать иконы — откажись. Зачем этого хмыря сдавать ментам?! Для чего тебе, соваться туда, светиться перед ними?! А если они нами заинтересуются, галереей, этим вот домом? Тебя в Пропасть, что ли, тянет, Ванька, так вот окно — пойди лучше сигани вниз толовой. Ты.., ты разум, что ли, окончательно потерял после сегодняшней ночи?!
— После двух ночей. — Белогуров прислонился спиной к стене, скрестил на груди руки. — Я тебя понял, Егор. Все твои возражения. Но я сделаю так, как решил.
— Но почему?! Зачем?! Зачем ты сам идешь к ментам? Объясни!
— Объяснить? Хорошо. Эти иконы — краденые.
— Это и ежу ясно! Не хочешь связываться с этим уркой — откажись. Уйди в сторону!
— Уйти в сторону… А ты знаешь, как этот полудурок вышел на нашу галерею? — сухо спросил Белогуров. — Он не москвич, периферийник. Видно по морде — только что с зоны. Кто-то из сообщников навел его на отличный куш с этими иконами, ну и… А связей по таким делам, чтобы товар в Москве скинуть, у него либо вообще нет, либо здесь ему за краденое предлагают такую сумму, какая его не устраивает. Вот он и решил кого-то крупно кинуть, забрав себе все деньги. Он, этот Володимир, играет в собственную игру — хочет обойтись без услуг барыги-перекупщика. Напрямую с легалами, то есть с нами, общаться желает. Но все дело-то в том, Егор, что хоть он и ходит в этой игре вроде бы с козырного туза, но делает это по-дурацки. Я его спросил: откуда ему известен наш телефон? И знаешь, что он ответил? По справочнику «Желтые страницы»! Моя фамилия там в списке торговцев антиквариатом, видите ля, первая! Святая простота. Не получится с нами — завтра же этот жадный остолоп по этому же справочнику позвонит и предложит иконы другим. А вот так по-идиотски такие дела с такими вещами, как эти иконы, не делаются. Так вообще, кроме круглых дураков, ослепших от жмотничества, никто не поступает. Эта вещица — я имею в виду «Рождество» — уникальна, И ее уже ищут, откуда бы он ее ни спер — ее уже ищут и, поверь мне, с фонарями и собаками! Ты думаешь, у ментов осведомителей нет? Не пройдет и нескольких дней, если этот кретин будет продолжать в том же духе, — все станет яснее ясного: А вот когда менты возьмут его за задницу, из него вытряхнут и то, к кому он обращался с предложениями купить у него краденое. И он назовет им всех по списку, в том числе и нас с тобой. И вот тогда-то, Егор, мы засветимся гораздо худшим образом. Конечно, ничего серьезного нам не предъявят — мы же отказались, не клюнули, но.., проверять нас будут. Причем так, что мы об этом даже поначалу и подозревать не станем. И сам факт, что милиция просто так сначала решит пощупать нам нервишки, нагрянет сюда как-нибудь нежданно, когда у нас в подвале… Словом, не дай Бог, они застигнут нас врасплох, а мы и так ходим по лезвию ножа.
— А ты думаешь, что, когда ты сам заявишься к ним стучать на этого идиота, они к нам не придут?
— Нет, — Белогуров произнес это зло и твердо. — Я сделаю все так, чтобы этого не случилось,
— Ты, Ванька, играешь с огнем, — Егор покачал головой. — Ты либо безумец, либо такой авантюрист, что… И знаешь, ты, конечно, можешь мне тут с пеной у рта излагать все свои доводы, но… Мне не совсем верится, что ты рискуешь сейчас так преступно и глупо только потому, что хочешь, надеешься каким-то образом упредить развитие событий.
— Ты, Егор, втравил меня в это дело. Ты с ним разговаривал, ты настоял, чтобы я поехал на встречу с этим уголовником! Я сейчас лишь расхлебываю твою…
— Да, да, все, конечно, я, я во всем, как всегда, виноват, — Егор саркастически кивнул. — Ты вот только одно скажи мне, братишка: а если бы это были не иконы, а что-то иное — скажем, картина, фарфор, ювелирка… Ты бы тоже вот так рисковал, точнее, блефовал?
Белогуров не ответил. В нем поднималась знакомая удушающая черная волна: ублюдок! Ту зуботычину в машине он Егору не простил, нет. Сделал вид, что между ними все «образовалось», оставил выяснение отношений на потом, да, видно, зря. Но если только этот самоуверенный ублюдок, этот самовлюбленный Нарцисс посмеет коснуться событий той ночи, то…
— Ну что с тобой творится, Ванька? — Егор вдруг шагнул и обнял Белогурова за плечи.
Тот был готов к чему угодно: они могли подраться здесь в кабинете, разбить друг другу морды в кровь, уничтожить друг друга в слепой ярости. Но этот полный печали, полный искреннего участия вопрос Дивиторского…
— Что с тобой происходит? Я тебя просто не узнаю, — тихо закончил Егор. — Если думаешь, что я ничего не понимаю — ты глубоко ошибаешься, братишка.
Была долгая-долгая пауза.
— Я думаю не только о себе. О всех нас, — нарушил наконец молчание Белогуров. — Я думаю о нашем будущем. О нашем счастливом будущем, Егор, когда весь этот кошмар закончится. Когда все будет позади, мы заработаем кучу денег и… А сейчас мне следует поступить именно так. Это лучший, это единственный вариант.
— Делай как знаешь, — Егор обреченно махнул рукой. — Женька работает… Я смотрел — вроде все там у него пока идет правильно… Можно звонить Михайленко: пусть наш миляга Феликс деньги готовит.
— Позвоним, когда… Когда у Чучельника просто уже не останется шанса что-либо под конец испортить. Салтычиха или кто-то от него не объявлялся?
Егор отрицательно покачал головой. По лицу его можно было прочесть: дорого бы я дал сейчас за то, чтобы узнать, что творится у твоего «дяди Васи» после исчезновения его любимого телохрана. Над чьей головой там сейчас собирается гроза?
— Он на нас никогда не подумает, нет никаких оснований для этого, — произнёс Егор твердо. — Что ж, подождем развития событий…
* * *
… — Итак, Владимир обещался позвонить вам сегодня в шесть, узнать наше окончательное решение. — Колосов глянул на наручные часы — всего-то половина второго. Но на подготовку операции по задержанию с поличным иконного вора отпущено не так уж и много времени. И к тому же неизвестно, где эта вороватая морда назначит Белогурову рандеву. — Так, Иван Григорьевич, помощь ваша неоценима. Но в этом деле у нас к вам будет еще одна большая просьба.
Белогуров смял окурок сигареты в пепельнице «бардачка».
— Говорите, что я должен делать, я готов, — просто ответил он.
— Отлично. Тогда мы с вами поступим вот как…
Белогуров слушал эти ментовские ЦУ, вежливо кивая головой. Он думал о том, чем занимается сейчас Женька Чучельник в подвале его дома в Гранатовом переулке. Странно, но в этот миг он не испытывал к Созданию ни отвращения, ни гадливости, а лишь пронзительную, почти отеческую жалость.
17
ПРОВАЛЫ ПАМЯТИ
Для Кати неделя пролетела совершенно незаметно. Честно признаться, но в эти семь коротких дней служебные дела практически перестали ее интересовать: Кравченко вернулся. А посему… Мир Кати теперь вращался исключительно вокруг «драгоценного В. А.». На остальное же и остальных — просто эмоций не хватало.
Сам же «драгоценный» был настроен на меланхолический лад. Видно было: возня с недужным Чугуновым порядком ему обрыдла. Катя после таких вот возвращений Кравченко из поездок с «патроном» частенько задумывалась о том, что хлеб телохранителя-личника отнюдь не самый сладкий. И дело было даже не в каком-то там мифическом риске. Чугунов, спившийся и отошедший от дел, давно уже перестал интересовать конкурентов по бизнесу. На этого старого забулдыгу, тратившего остатки сколоченного за первые годы перестройки состояния, в Москве все давно уже махнули рукой. И покушаться на его жизнь никто не собирался. Все дело было в том, что… Катя, хотя и гнала от себя подобные мысли, однако все чаще и чаще сравнивала два понятия: телохранитель и слуга. Первое еще вызывало какое-то уважение — быть может, налетом этакой дешевой авантюрной романтики. А вот второе… Но истина была в том (и она все глубже в этом убеждалась), что эти понятия были по сути своей идентичны. Она никогда не делилась своими мыслями с «драгоценным В. А.», но… Вадька тоже дураком не был. Понимал многое из того, о чем она умалчивала.
Из Питера он приехал наутро после урагана. Катя, не сомкнувшая всю ночь глаз от страха, невольно вспомнила старинную семейную байку о своей прабабке. Рассказывали, что та, женщина весьма эмансипированная, учившаяся некогда на Бестужевских курсах, с ума сходившая от Ибсена, Кнута Гамсуна и Владимира Соловьева, при грозе разом забывала все свои передовые взгляды и с визгом пряталась под кровать. Во время урагана Катя едва не последовала примеру эмансипированной прабабки. Ее удержало лишь то, что под диваном для нее было слишком узко, она бы непременно застряла.
Неделю Кравченко отдыхал дома. А Катя… Она, наскоро переделав на работе самые неотложные дела, рысью мчалась домой. Она очень соскучилась по Вадьке. И ей было наплевать даже на то, что «драгоценный В. А.» слишком явно мог прочесть это в ее сияющих глазах. Они никому не звонили целую неделю. Даже Мещерскому. Было не до того. И это была очень хорошая неделя в их жизни. Нечто подобное вспоминается всякий раз, когда кто-нибудь при вас обмолвится тихонько словечком «счастье».
Катя очнулась от сладких снов, когда со дня урагана миновало целых восемь дней. Протерла очарованные глазки — мамочка ты моя! Мир наверняка кардинально переменился, а мы-то…
Но мир изменился мало. Правда, кое-что новенькое все же произошло. В понедельник Катя явилась на работу с твердым намерением вникать во все служебные проблемы и интересоваться всем, что происходит в области. Настраиваться на рабочую волну было тяжко. По-прежнему все мысли витали вокруг «драгоценного В. А.». Когда она уходила на работу, тот все еще был в кровати. Как истый отпускник, он никуда не спешил.
На работе Катю ожидали целых две новости: в дежурной части сообщили о «громком» раскрытии крупной кражи церковного антиквариата. О, это была настоящая сенсация! Вторая же новость заключалась в том, что ей звонил Мещерский, о существовании которого за эту неделю она совершенно забыла.
Перед тем как вникнуть в суть раскрытия нового преступления, Катя (она с трудом вспомнила про то, чем интересовалась раньше, — ах да, было такое «дело обезглавленных» — вот ужас-то, кошмар!) для очистки совести позвонила Колосову. Но того, как всегда, не оказалось на месте. Тогда она решила, не теряя времени, переключиться с «убойного» на «антикварный» отдел — подмосковные газеты ждать не будут.
У антикварщиков все как на крыльях летали: успешное раскрытие крупной кражи — это вам не фунт изюма! А задержание вора-рецидивиста, да еще с поличным, — это тоже не баран чихнул.
— Как? Как, вы сказали, зовут задержанного? — Катя не верила ушам своим. — Это кличка или фамилия у него такая?
— Фамилия, от отцов и дедов унаследованная — Могильный Иннокентий Ильич, он же Кеша Могила, он же Владимир — точнее, Володимир Чалый, он же Присыпкин, он же Пьер Скрипкин, он же Олег Баян, — так один из сыщиков с усмешкой процитировал «Клопа». — Выбирай имечко, какое больше по вкусу. Визитер из зарубежной Одессы-мамы.
— Он гражданин Украины?
— Он наш гражданин. Шесть последних лет отбывал наказание в колонии строгого режима под Архангельском за кражу. Четвертая судимость у него по счету. Освободился в апреле и сразу рванул на Черное море, как он говорит, «кости после снегов погреть». Ну, а как с деньжатами поиздержался — на привычную работу его потянуло. Кражи икон из сельских церквей — это его узкая специализация. А кличка Могила, заметьте, Екатерина Сергеевна, весьма к нему подходит. «Молчит как могила», «могильная тишина» — все из этой оперы. Слова путного от него не добьешься на следствии. Кредо такое: никогда ни в чем не признаваться. Вся надежда на то, что задержали его с поличным, с иконами в руках, когда он покупателю их вручал.
— Покупателю? Подпольный торговец наркотиками? — Катя была само любопытство. Уже шуршала репортерским блокнотом. — Вы и его задержали?
Антикварщики загадочно переглянулись.
— Нет. Что ж, по-вашему, у нас из всех рефлексов лишь хватательный развит? А впрочем, насчет этой операции вы лучше у Колосова поинтересуйтесь. Он от руководства возглавлял. Ничего не скажешь — чисто сработал коллега. Правда, мы тоже сразу подключились…
В их тоне звучала многозначительная важность — сыщики ж! Люди, крайне ревнивые к успехам «параллельной структуры». Катя тут же угодливо поддакнула, что, дескать, «если бы антикварный отдел не подключился вовремя — еще неизвестно, как бы все закончилось». А сама подумала про Колосова: «Никита в каждой бочке затычка. Прямо неймется ему! У антикварщиков хлеб отбирает. Лишь бы галочку — личное задержание схлопотать. Ах ты, жалость какая: и по этому делу ему тоже придется в ножки кланяться! А вот и не буду…»
— А как же это Иннокентий Могильный, будучи на отдыхе в Одессе, узнал, что в нашем подмосковном Стаханове в церкви имеются ценные иконы? Его кто-то навел? — спросила она.
— Без сомнения, он действовал по наводке с заранее обдуманными намерениями. Готовился очень тщательно к краже. За четыре дня до нее похитил машину… Мы по банку данных проверили: числится «девятка» в угоне с улицы Фестивальной в Москве. По наводке этой, по его связям нам еще много работать предстоит, — тут сыщики состроили самые загадочные мины, и Катя поняла, что дальнейшее для нее — табу.
Однако она еще сомневалась задавать последний робкий вопрос: в каком же изоляторе содержат Кешу Могильного и кто из следователей ведет дело по краже из Стаханова? Тут ее ждала удача: оказалось, дело ведет следователь Ластиков, на допрос к которому не далее как через час конвой И доставит арестованного гражданина Могильного.
Костю Ластикова Катя знала еще по работе в Каменском УВД. Три года назад он перевелся в следственное управление, получил старшего по особо «важным» и проклял тот день и час, когда поменял землю на Москву, ибо его быстренько подключили к следственной бригаде, увязшей в адском деле «Властилины». А там, как известно, одних облапошенных потерпевших было сорок тысяч человек — «Сорок тысяч братьев» — как скорбно цитировал Гамлета Ластиков. И всех надо было подробнейшим образом допросить, задокументировав причиненный им аферисткой материальный ущерб.
Когда Катя, вежливенько постучав, заглянула в его кабинет, ей поначалу показалось, что ., майор Ластиков — не иначе сам сторукий бог Шива, который сотней своих дланей мог делать самые разные дела. Ластиков в одну и ту же минуту набирал что-то на компьютере, звеня ключами, отпирал массивный сейф, водруженный у письменного стола, болтал ложечкой в стакане остывшего чая, черкал шариковой ручкой какие-то закорючки на перекидном численнике и придерживая у уха телефонную трубку (не подбородком) устало и лениво переругивался с женой:
— Это не только мой, но и твой ребенок… Нечего на меня голос повышать. Дома не бываю, дома… А ты тоже… Мало ли что обещал — я занят на работе… Ну своди ты его в зоопарк, ну нету у меня путевок в лагерь!
Завидев Катю в дверях, он замахал ей с энергией утопающего, бросив в трубку короткое:
— Все, кончай меня пилить! Ко мне люди пришли! Я занят — дома поговорим!
Катя, видя, что Ластиков воспользовался ее приходом в качестве удобного предлога прекратить семейную свару, решила воспользоваться этим его широким жестом «айда, заходи!» и выпалила единым духом:
— Константин, Станиславович, рада видеть тебя в добром здравии, наше прошлое интервью с тобой о проблемах преступности несовершеннолетних опубликовано на страницах «Вестника Подмосковья». Вот номерок на память с фотографией, очень-очень ты симпатичный на ней. А я слышала в розыске — тебе подозреваемого интересного привезли по краже икон из Стаханова — он вроде бы вор в законе. А мне личные впечатления для репортажа на эту тему нужны позарез, так что дозволь поприсутствовать на первых минутах вашей беседы по старой нашей дружбе. А, Костик?
Ластиков поднял руки — сдаюсь, только умолкни. Кивнул на стул.
— Пять минут посиди, пока мы с ним общий язык искать будем. Потом — не обессудь, Екатерина Сергеевна. Кстати, он не вор в законе. Больно жирно для такого.
— А кто же он? — Катя раскрыла блокнот.
— Прохиндей. Придурок.
За то время, пока они ждали, когда конвой введет доставленного из СИЗО ворюгу, Катя успела узнать от Ластикова почти все подробности стахановской кражи. Записала названия икон, узнала, что их стоимость будет подтверждена экспертизой.
Ластиков выложил ей совершенно не правдоподобную, на первый Катин взгляд, историю о том, что задержать вора помог некий бдительный законопослушный гражданин — человек, которому ворюга и задался целью «скинуть по-быстрому» ворованный товар.
— Могила молчит пока вглухую, — делился Ластиков. — Но, видно, расклад такой: он решил сбыть иконы как можно скорее. Посчитал, что везти их куда-то либо долго, у себя держать невыгодно и опасно. Видимо, прежние свои связи среди перекупщиков он за время отсидки утратил. А может, его и цена, названная этими перекупщиками, не устраивала. Словом, он решил обратиться не к подпольному, а к легальному торговцу антиквариатом. Думал, тот клюнет, купит. А тот возьми и звякни на Петровку: так, мол, и так…
— Такой честный парень? — Катя подняла брови. — Или же он частенько вот так вам помогает?
— Это дело розыска. Не по адресу вопросик. Но сдается мне, что на этот раз никакой это не осведомитель, а… Катя, а что тут вообще такого необычного? Просто честный законопослушный гражданин выполнил свой святой гражданский долг — сообщил в милицию о преступлении. Разве мы уже до того докатились, что такого просто и быть не может, чтобы граждане нам добровольно помогали?
Катя фыркнула: ну, прямо бездна профессионального цинизма. А вообще-то все это очень печально. Такие вот ернические сомнения. А может, гражданин и вправду честный, решил помочь милиции бескорыстно и…
— Насколько мне известно, Могила этому антиквару перезвонить должен был по «сотке». Так они договаривались. Тот в розыске сидел с Колосовым, вместе ждали звонка. Назначил Могила ему встречу на девять вечера на площади трех вокзалов. Требовал, чтобы антиквар, раз надумал брать иконы, приехал уже с деньгами. Помощник наш добровольный явился туда. Ну, естественно, наши его прикрывали, Ждали-ждали, потом Могила снизошел. Осторожный он, да и оружие было при нем.
— Оружие? — Катя старательно записывала.
— Пистолет «вальтер» ППК номер 112280 образца 1989 года. Надо перед экспертизой по учетам прогнать… Мда-а, запасная обойма к нему… Словом, отошли они к машине — вроде бы сделку заключить из полы в полу. Могила иконы достал, ну, тут наши соколы налетели и.., финита. Красивое задержание.
— Константин Станиславович, арестованный в коридоре ждет, — заглянул в дверь конвойный.
Катя наблюдала, как в кабинет ввели гражданина Могильного: метр с кепкой, ножки — колесом, а с гонором, и с немалым. На Могильном был дорогой спортивный костюм и бездна золотых побрякушек, что, как известно, в сочетании с вытянувшимися на коленках пузырем «адидасами» отчего-то до сих пор считается у провинциальной братвы последним криком моды. Хотя столичный криминал, несколько приобщившийся к веяниям «от кутюр», давно уже поставил крест и на этих «адидасах», и на алых колониальных пиджаках, и даже на кашемировых пальто «от Кардена» до пят.
Иннокентий Могильный — Кеша Могила, Володимир Чалый (это уж как кому нравится) — без приглашения плюхнулся на стул, так чтобы лицезреть в первую очередь существо женского пола, от которых, явно отвык в своей архангельской «ссылке» и только-только начал привыкать на пляжах Большого Фонтана, да вот.., враги помешали. А следователя Ластикова он словно в упор не видел.
— День добрый. Надо же, какой приятный сюрприз. А вы, девушка, в милиции служите? Давно? — наигранно галантно обратился он к Кате, сверкнув фиксой самоварного золота. — И в каком же вы звании, фея моя?
— Гражданин Могильный, еще раз напоминаю вам, что вы задержаны по подозрению в совершении кражи церковного антиквариата, — словно иерихонская труба зычно возвестил Ластиков, — и с момента задержания по закону вы можете располагать услугами защитника для…
— Майор, айн момент, — Могильный поморщился. — Не дергайся так, Счас мы с тобой наши делишки обсудим — адвокат, протокол… Ну дай хоть отдышусь — лестницы у вас тут больно крутые. Да и на девушку красивую полюбуюсь. Девушка, а вы, если не секрет, замужем?
Ластиков снова хотел было направить беседу в официальное русло. Но Катя незаметно кивнула ему: пять минут мои, ты обещал. Дай же и мне полюбоваться на это чудо природы. Она видела: Могила, отлично понимая, что для него означает задержание с по личным, все же отчаянно старается сохранить лицо. Все это его развязное балагурство было лишь маской. И хотя вел он себя нагло, Кате отчего-то было его жаль. Чисто по-человечески.
— Замужем, — ответила она кротко.
— А муж — мальчишку небось, сопляк какой-нибудь, лейтенантишка нищий. Эх, девочка моя… Хочешь, секрет тебе один открою? Не там выбираешь, ласточка. Нет, не здесь они, настоящие-то мужики, которые толк в этом самом деле понимают. Не писульками этими вот кляузными они заняты, а…
— Храмы Божьи обворовывают, настоящие-то, да? — еще более кротко ответила Катя, обворожительно улыбнувшись.
— — Да это мелочи. Бог простит. — Черные глазки Могилы сверкнули. — Так и не услышал я, в каком же вы звании?
— Капитан милиции.
— И тоже следователь?
— Корреспондент, криминальный обозреватель.
— О, пресса! Читал я вашу ментовскую — «Щит», что ли, как-то в поезде ради любопытства купил. Хвалите вы там себя сами аж до заикания: того взяли, этого взяли. Скромности маловато профессиональной. И я, что ли, теперь для статейки вам сгожусь?
— Я хочу написать о вашем деле правду. — Катя так и мучилась добротой и сочувствием. — А можно и вам, Иннокентий Ильич, вопрос задать?
Могила поднял брови, похожие на две черные запятые.
— Вот когда вы в церковь проникали, не боялись, что Бог вас накажет?
— А кто сказал, что я туда проникал, ласточка? Что я там что-то украл… Это пусть докажут. Посмотрю, что у ваших из этого выйдет. Иконы я на рынке купил у пьяного незнакомца. И потом, я ж тебе уже сказал… Бог простит.
— А ваше задержание стало для вас неожиданностью?
Могила лишь горько усмехнулся и сделал небрежный жест — а, пропадай моя голова!
— Но вы о чем-нибудь сожалеете? Вы так недолго были на свободе, и вот снова за решетку. Не обидно? — Катя чувствовала: это ее последний вопрос к нему.
— В Одессе сейчас штиль на море… Волны о гальку шуршат… Красотуха — глаз не отвести. Думал, лето прокантуюсь. Сожалею ли я, тебе интересно… Знаешь, о чем я сожалею? Что руки сейчас у меня скованы. — Он поднес к лицу руки в наручниках, которые отчего-то перед допросом не отстегнул конвой. — И что там, на вокзале, дурака я свалял с этой продажной гнидой, с этой падалью вашей, — лицо Могилы перекосило от злобы, — с этой сукой вашей подзаборной, с этим выблядком-чистюлей, что сделал меня как последнего.., как… Что этот ваш ссученный пулей у меня прямо там не подавился, не издох у вас на глазах!!
Ластиков кивнул Кате: все, твое время истекло. Иначе подозреваемый начнет сейчас в бессильной злобе на «подлое предательство» грызть подоконник или же (что тоже бывало) с размаха бухнется головой в металлический сейф.
Катя поднялась. Вот так каждый раз с этими «настоящими» — сначала вроде человек, потом шакал, а потом… Интересно, правду он ответил на вопрос о Боге? Они ведь, урки, такие на удивление богомольные сейчас. Чуть «отъедут на тюрьму», сразу и Библией, взятой из тюремной библиотеки, зашуршат, и в грехах шефствующему над тюрьмой батюшке чуть не через каждый час исповедуются.
— До свидания, — вежливо попрощалась она. — Константин Станиславович, — обратилась она к Ластикову, — можно вас на пару слов?
В кабинет зашел конвой, а они вышли в коридор.
— Ну? И на кой черт ты мне его разъярила? Хотя… — Ластиков хмыкнул. — Если сейчас мне с ним в доброго следователя на этом негативном фоне сыграть, то можно и… — Ты мне не назовешь имя этого свидетеля? Ну, того покупателя-помощника, нашего честного малого? — попросила Катя. — Я бы и с ним хотела побеседовать. Все же такой благородный гражданский поступок: рисковал, вернул иконы церкви. Я, конечно, в статье его фамилию изменю, но..; А что ты на меня так смотришь? Тебе не по вкусу слово «благородный поступок», Костик?
Ластиков снова лишь хмыкнул.
— Он у меня на среду на допрос вызван повесткой, не на эту среду, а на следующую. Наш главный свидетель обвинения. Звонил уже, сказал — непременно явится. Фамилия его Белогуров Иван Григорьевич. У него фирма по продаже антиквариата. Вот телефон туда. Адрес: Гранатовый переулок, дом шесть — это в районе метро «Третьяковская», И вот что, Катериночка.., если побеседуешь с ним — загляни на досуге ко мне, а? Поделишься впечатлением о честняге. Лады?
Катя кивнула. Белогуров Иван.., что-то знакомое? Нет, вряд ли. Или же… Она поднялась к себе, вертя бумажку с данными «честняги» в руках. Едва она открыла дверь в кабинет, раздался телефонный звонок: Мещерский приветствовал ее «от лица позабытых-позаброшенных друзей», осведомился мимоходом — привез ли Кравченко ему из Питера обещанное «Бархатное невское» пиво. Привез? Ну, значит, можно будет вечерком заглянуть к старому дружку («Креветки за мной»).
— И кстати, Катюша, помнишь, ты мне давала распечатки заключения судебно-медицинской экспертизы обезглавленных? Ну вот, я по твоей просьбе, значит, и…
— По моей просьбе? — Катя так искренне удивилась, что Мещерский испугался. — Ах да, Сережа! Мы же с тобой это дело обсуждали! Прости, пожалуйста, Вадька приехал и…
— И все мы и вообще все на свете испарилось у тебя из головы, — печально закончил Мещерский. — Ну, я всегда знал, что моему другу очень повезло с…
Он не сказал с «женой» или «подругой». Катя же, выдержав крохотную паузу, радушненько пригласила его вечером на ужин: «Все и расскажешь нам с Вадькой, идет?» Мещерский буркнул что-то. А Катя дала себе тут же зарок: в следующий раз, когда «драгоценный В. А.» уедет, заведу памятку-календарь. Буду все-все записывать. Иначе — труба.
Вечером они сидели на диване за накрытым пивом и креветками низеньким столиком на колесиках. Сумерничали, не зажигая света. Дверь В Лоджию была открыта настежь. За окном чертили небо неугомонные стрижи. С Москвы-реки тянуло долгожданной прохладой. Кравченко курил. Обычно Катя выгоняла его — на лоджию или на лестничную площадку. Но сейчас ей не хотелось цепляться по таким пустякам. Мещерский шелестел страницами какой-то книги. Не читал — в сумерках это было невозможно. Просто он любил в такие вот минуты послезастольного затишья в тесном дружеском кругу внезапно огорошить приятелей каким-нибудь редким афоризмом (не всегда уместным, надо сказать), но понравившимся ему некогда изысканностью формулировки или заключенным в нем парадоксом. При этом он делал вид, что только что нечаянно наткнулся на него в книге. Так было и сейчас.
— «Я посадил к себе на колени Уродство и тотчас же ощутил усталость и…» Катя, ты не находишь, что ставить рядом два этих слова: «уродство» и «усталость» — аномально?
— Кому принадлежит это высказывание, Сереж?
— Сальвадору Дали.
— О, он мог «ставить рядом» что угодно, — усмехнулась Катя, — уж такой был человек. Ходячий парадокс. Это он изобрел критически-параноидальный взгляд на жизнь и на искусство? А к нему ты это, Сереж?
Но Мещерский не ответил, лишь рассеянно улыбнулся и повернулся к Кравченко:
— Ты так и не рассказал нам толком, как съездил в Питер, Вадя.
— А что рассказывать? — Кравченко выпустил дым, как ленивый дракон. — Наш вояж был не таким увлекательным, как твой. Чучело мое, — он хмыкнул, — оно и есть Чучело.
— Ему же, ты говорил, врачи строго-настрого пить запретили?
— Ну, мало ли… Ежели душа горит, алчет… — Кравченко стряхнул пепел. — Мы с ребятами из охраны скоро, наверное, до того дойдем, что личный винзавод откроем с собственным производством. И так уж у моего напарника полный набор всяких приспособлений: иногда водку ему в бутылке на две трети водой кипяченой разбавляем, а потом снова закатываем. Напарник все инструменты в «дипломате» с собой возит. Даже в Австрию он его брал в прошлом году, когда Чугун там в клинике лежал. В этот раз его так скрутило, думали — хана. Нет, отдышался. А в поезде уже Витьку Ракитина раза три за коньяком в вагон-ресторан гонял.
— И что ты, Вадь, столько лет с ним возишься, с этим пьянчугой? Давно бы сменил патрона…
— Да вроде привычка, что ли… Он мужик безвредный, Чугун-то наш, только самодур и хам. Деньги ему иногда в башку ка-ак вдарят — ну и пошел куролесить, а потом… Платит нам с ребятами нормально и… Ублюдок, конечно, все они ублюдки, Серег, на.. — Кравченко дотянулся до стола и раздавил окурок в пепельнице. — Иногда думаю: глаза б мои всю эту кодлу не видели, а потом…
— Что?
— Да ничего. Бросим его если с ребятами — пропадет он. И вроде жаль становится. Человек все же. Да и зла мы от него не видели… Ну да ладно… Чего притихли, а? — Кравченко наклонился к Кате. — А не испить ли нам, душа моя, кофею?
Катя направилась на кухню «заряжать» кофеварку.
— Катя, я все хочу перед тобой отчитаться. Я посмотрел те бумага, которые ты мне дала, — возвестил вдруг Мещерский ей вслед вроде бы без всякой связи с их предыдущим разговором.
— Какие бумаги? — поинтересовался Кравченко. Пока Катя варила и разливала по чашкам кофе, Мещерский просвещал приятеля.
— Боже, и чем вы тут в мое отсутствие занимались, — Кравченко передернул плечами, когда Катя внесла поднос с кофе. — Что, новую сенсацию с этими всадниками без головы лепите?
— Мы ничего не лепим, — рассердилась Катя. — Это очень серьезное дело. Ищут опасных убийц и… Сереж, да не обращай на него внимания! Что ты мне хотел сказать о результатах экспертизы?
— Да ничего особенного. Я же не патологоанатом, — пожал плечами Мещерский. — Только вот… Странно, что во всех случаях голову отчленили от туловища — и эксперт это подчеркивает особо — не путем разрубления или распила, а путем разрезывания по суставам. Орудие, которым это делали, эксперт затрудняется описать. Но механизм он все же пытался реконструировать. Видимо, какой-то предмет с очень широким, тяжелым и острым лезвием прикладывали к шеям жертв, надавливали и.., просто осторожно тянули. Ножом режут как? Фактически орудуя им как мини-пилой. А тут требовалось лишь одно умелое, профессиональное движение. Лезвие своей тяжестью делало все само. И еще одна общая закономерность: во всех случаях головы были подрезаны очень низко.
Кравченко брезгливо сморщился, а Катя слушала внимательно.
— То есть? — спросила она.
— То есть вместе с головой был удален и весь шейный отдел позвоночника. А при ритуальном обезглавливании, наоборот, подрезают очень-очень высоко, почти под челюстные кости черепа. Или как там правильно это у анатомов называется.
— При ритуальном обезглавливании? — Катя широко раскрыла глаза. — Это как же?
Мещерский лишь сделал неопределенный жест.
— Секира свистнула — и голова долой… — Кравченко страдальчески вздохнул. — По-моему, я попал в логово кровожадных людоедов. Ребята, сегодня выходной день, лето на дворе красное, ласточки вон летают, на мошек охотятся, жизни радуются, а у вас, братцы мои, такие разговоры…
— Я на досуге пролистал энциклопедию холодного оружия, — невозмутимо продолжал Мещерский. — Если твои коллеги, Катенька, найдут предмет, кото рым эти типы расправлялись со своими жертвами, — было бы любопытно кое с чем сравнить.
Катя знала: если не поставить вопрос ребром, Сережка долго будет напускать такого вот тумана, а поэтому спросила:
— Ну и что же это все, по-твоему, значит? То, о чем ты мне пытаешься рассказать?
— Одно из двух, — Мещерский был сама простота, — либо это не значит ровным счетом ничего — и это просто цепь совпадений, либо… Либо нашим охотникам за головами важно не просто обезглавить жертву, а обезглавить ее крайне аккуратно и осторожно, любой ценой сохранив лицевой и шейный отделы и… — Он наткнулся на Катин взгляд и твердо закончил:
— И ни в коем случае не повредить кожу и скальп.
Катя уже открыла рот, но он опередил ее:
— Я пока не знаю, Катюша, для чего им ВСЕ ВОТ ЭТО нужно. — Он перелистал несколько страничек книги, что все еще лежала на подоконнике, и вдруг закончил свой «отчет о проделанной работе» совершенно странным афоризмом:
— «Демоны сходят на землю, неся тоску, ужас и безысходность, чаще всего на рубеже столетий»… А у нас не за горами, ребята, рубеж третьего тысячелетия.
— И это как-то находится в прямой связи с тем, о чем ты нам только что вещал? — спросил Кравченко. — Или это следует воспринимать просто как эстетический прикол?
— Как прикол. А в общем-то все взаимосвязано. Мы только не в состоянии проследить эту связь. Что-то меня повело не в ту степь, кажется — с пива, что ли, а? Уродство, усталость души, демоны, тоска… Демоны — это олицетворение жестокости, отчаяния, скотства; Исчадия зла, ублюдки, в общем, как ты, Вадя, скажешь. В конце века все обостряется, ребята. Становится похожим на бритву. Каждая наша точечная болячка превращается в нарыв. Каждая рана кровоточит. Слишком долго все болело, гноилось — пора прорываться… И что этот прорыв должен произойти — это, видимо, уже закономерность. Но вот какие чудовищные, противоестественные формы он при этом может принять…
— По-твоему, время, что ли, наше во всем виновато? — спросила Катя. — Конец тысячелетия виноват в том, что люди становятся похожими на зверей, отрывают друг другу головы, играют ими в футбол, взрывают друг друга, калечат, расстреливают, вешают?
— Демоны сходят на землю. — Мещерский просвистел это «страшным голосом». — Обезглавливают несчастных и уносят головы в качестве сувениров в ад… Знаете, мне ад в детстве, когда нянька украдкой от моих партийных папы с мамой водила меня на даче в Красково в церковь, представлялся неким подобием подвала. Или бойлерной: адская жара, вода клокочет в чугунном котле и нечем дышать. Совершенно нечем дышать.
— Ты хочешь сказать, что в наше апокалипсическое время уже и не стоит надеяться на что-то хорошее? «Оставь надежду всяк сюда…» — Кравченко деланно зевнул. — Ты становишься нытиком-пессимистом, Серега. Да плюнь ты на всю эту мерихлюндию! На-ка пивка. Да какая разница, что на пороге у нас конец тысячелетия? Да хрен с ним! То же лето, та же зима будет, та же осень с дождями. — И ты верь, что хорошее еще будет в нашей молодой и светлой жизни, — хмыкнула Катя. — Рубль так упал — дальше ему и падать уж некуда, зарплату вон, может, дадут — на рельсы выходить не придется, лбом о шпалы стучаться и.., и даже еще люди положительные, честные не перевелись — ну, лопни мои глаза! Вон про одного мне рассказали такого честного малого… Ой, ребята, да это же…
— Ой, что с тобой? Я влюблена. — Кравченко томно поднял брови. — Ты что так на меня смотришь, Катька? Я до такой степени изменился в разлуке?
— Ребят, да я вспомнила! — От волнения Катя чуть чашку с кофе не опрокинула себе на платье. — Весь день ломала голову — где я эту фамилию слышала! Ну, того честняги, который… Погодите, сейчас все расскажу. Сережа, помнишь, мы с тобой в тот восточный магазинчик ездили? Ну, так вот…
18
«ГАЛЕРЕЯ ЧЕТЫРЕХ»
На следующее же утро Катя Проснулась с твердым намерением посетить галерею в Гранатовом переулке — благо, как оказалось, ее владелец Иван Белогуров некогда сам пригласил ее к себе и даже вручил свою визитку. Катя не без труда отыскала ее в сумочке, сравнила адрес с данными Ластикова: точно, он! Этот парадоксальный «честняга» и есть тот тип из восточного магазина. Катя напрочь забыла, как он выглядел. Помнила лишь, что на нем были белые джинсы и что еще там за ним хвостом ходила какая-то толстая девочка с роскошной косой.
Вчера, когда она рассказала о «церковной эпопее» и той роли, которую сыграл этот Белогуров в задержании вора, ее пылкий рассказ не вызвал у приятелей абсолютно никакого интереса.
— Я не понимаю, что тебя так изумляет, Катюша, — заметил Мещерский. — По-твоему, то, что гражданин хочет помочь милиции, — это уже какой-то небывалый случай. А как же вы все время трубите про вашу связь с общественностью?
— Да он на награду рассчитывает! Наверняка, — буркнул Кравченко.. — Прикинул, сколько эти вещи могут стоить реально, — он же спец в этом вопросе. Прикинул и то, что сбыть такие заметные иконы трудно, можно и погореть на них. А за бугор отправлять — это надо сначала сыскать там покупателя, с таможней морока… Ну и посчитал, что выгоднее сдать ворюгу, авось и…
— О какой награде ты говоришь? — удивилась Катя.
— А что? Иконы кому принадлежат? Церкви. И что, Московская епархия такая бедная и не сыщет энной суммы, чтобы вознаградить своего благодетеля?
— Чушь все это. Награда — тоже скажешь! Церковь в этом Стаханове на деньги прихожан восстанавливалась, у них ни копейки лишней нет, — возразила Катя. — И меня не то чтобы удивляет поступок этого человека, а…
Но она так и не смогла объяснить им, что скрывалось за этим неопределенным словечком "а". Она чувствовала, что испытывает к человеку из Гранатового переулка сильное профессиональное любопытство. И любопытство это все возрастало.
Наутро за завтраком она осторожненько намекнула Кравченко, что «неплохо бы сегодня на досуге посетить один магазинчик в Замоскворечье. Все равно делать нечего».
— И туда нам удобнее ехать вместе, как настоящей супружеской паре. Так что собирайся, золотце мое.
— Удобнее? А что за магазин? — Кравченко ленился, как всегда.
— По продаже антиквариата. — А, тот, что вчера… На какие это шиши; Катька, — нам антиквариат?
— На такие шиши! — рассердилась она. — Я не покупать там тебя что-то заставляю — и правда, «на какие это шиши», — а.., мне просто хочется посмотреть, поговорить. Может, я из этого посещения извлеку для себя что-то полезное и интересное.
— Для статьи, что ли? Ты всегда все усложняешь. И потом, ты меня просто нещадно эксплуатируешь. Но моя маленькая слабость делать людям приятное… — Кравченко обошел стол, крепко обнял Катю, шепнул:
— Ну зачем нам сегодня вообще куда-то екать? Вон и погода, кажется, портится, — (за окном сияло ослепительное солнце), — и вообще… Хлынет дождь, потом ударит град, потом пойдет лавина, сель…
Катя не успела даже подумать о том, что поцелуи, используемые в качестве «кляпа», дабы пресечь всевозможные возражения, это же форменное, пиратство!
Однако на своем она все же настояла. Правда, собрались они в Замоскворечье не с утра, а гораздо позже. Кравченко напустил на себя дурацки кроткий вид: видимо, счел за лучшее не перечить Кате. Впрочем, едва лишь она заводила речь о своих служебных делах — краже икон и «благородном» поступке владельца галереи, он демонстративно сладко зевал.
В Гранатовом переулке (Катя всю дорогу повторяла про себя это удивительное название по слогам — Гра-на-то-вый, надо же…) нужный дом они отыскали моментально. Кравченко это делал профессионально, даже на номера мог не глядеть. Впоследствии, вспоминая малейшие подробности самого первого визита в этот дом, к этому человеку, Катя пыталась в одном слове выразить свое то, первое, впечатление. И этим словом стало «хорошо». Белогуров жил, как ей тогда показалось, именно ХОРОШО — комфортно, стильно, богато. Как говаривал незабвенный Абдулла: «Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?»
Когда они остановились у желтого особняка, старомодного, купечески-замоскворецкого на вид (впечатление старины искажали лишь массивные ажурные решетки на окнах да бронированная дверь, оснащенная видеомагнитофоном и переговорным устройством, словно это был банк или, обменный пункт валюты), от дома отъехала вишневая «Хонда» с тонированными темными стеклами. Катя не разглядела того, кто сидел за рулем.
Кравченко нажал кнопку домофона. Они ожидали услышать настороженный голос какого-нибудь верзилы-охранника, но голосок в домофоне был тонкий, почти детский:
— Кто?
— Галерея открыта? — осведомился Кравченко, чуть подталкивая Катю к камере: пусть поглядят — убедятся, что это всего лишь навсего благонамеренная супружеская пара, а не какой-то головорез. — Господин Белогуров пригласил нас, хм.., осмотреть коллекцию.
— Покупатели… — Голос в домофоне сообщил это кому-то, кто, видимо, находился рядом. — Открываю. Только будьте добры, заходите по одному.
Кравченко пропустил Катю вперед. А сам ради прикола поднял руки — «хенде хох».
Кате снова пришла в голову ассоциация с пунктом обмена валюты, но когда она переступила через порог, то оказалась в просторном уютном холле — шкаф-купе для одежды, зеркала во всю стену, кожаные кресла и диванчик, и огромное количество роскошных фотоплакатов, вставленных под стекло, изображающих самые знаменитые статуи античности и эпохи Возрождения. Кто-то в этом доме либо изучал, либо всерьез увлекался ваянием. Катя была просто поражена колоссальным фотопортретом микеланджеловского Давида, который словно выступал навстречу пришедшим из простенка между двух зеркал.
— Добрый день. Рады вас приветствовать в нашей галерее. Прошу в демонстрационный зал. А вы.., опустите, пожалуйста, руки, я…Перед ними стояла та самая круглая, словно кубышечка, спелая, как малинка, девочка (Катя моментально ее вспомнила) с косой. Сейчас для солидности она закрутила ее в тяжелый роскошный узел на затылке. Кравченко (как был с поднятыми руками) сострил самую серьезную мину.
— Будете обыскивать? — деловито осведомился он. — Тогда — в правом кармане. И будьте осторожны — он, как всегда, заряжен.
— Ой, я.., простите, — девочка пунцово зарделась.
— Не обращайте внимания. Это он так шутит. — Катя была сама любезность. — А вы…
— А кто-нибудь взрослый дома? — нетактично перебил ее Кравченко. — Нам, например, нужен хозяин… — Он достал визитку, отобранную у Кати. — Некий И. Г. Белогуров.
— Он уехал по делам, скоро будет. Сейчас приедет наш менеджер. С минуты на минуту — он на заправку отъехал… Подождете его? А пока давайте пройдем в демонстрационный зал.
Катю поразило странное несоответствие «взрослого», делового смысла заученных слов у этой девчушки (ибо было видно: она из кожи вон лезет, чтобы вести себя как «взрослая хозяйка дома») и ее совершенно детского растерянного выражения лица и голоса — тоже детского, хотя порой в нем и звучали низкие, грудные, мягкие, уже не подростковые, а чисто женские обертоны.
Девочка провела их через холл мимо ведущей на второй этаж лестницы к массивной двустворчатой двери из фальшивого дуба. Они очутились в демонстрационном зале. Первое Катино впечатление было: море солнечного света, льющегося через зарешеченные окна, и море красок. Стены зала были увешаны картинами. В углу работал огромный «кинотеатр на дому» — телевизор «Грюндиг». По видео шли «Сирены» с Хью Грантом в главной роли.
Катя сразу почувствовала себя как на выставке в музее. Было только странно сознавать, что все это принадлежит одному человеку. И более того — продаются. При наличии денег (очень больших) любое из этих полотен можно купить…
Катя медленно пошла вдоль стен, читая таблички: «Натюрморт с желтым графином» Альтмана, «Крымский пейзаж» Кончаловского, «Романс» Борисова-Мусатова, «Весна» Юона, «Дама в красном» Бориса Григорьева…
Посреди зала на подставке под стеклом стоял фарфор — чайные и обеденные сервизы с революционной символикой, раритеты 20-х годов. Катя читала надписи на тарелках, блюдцах, чайниках и чашках: «Да здравствует V съезд Советов!», «Слава пролетариату!», «Наш ответ — гидре контрреволюции!».
— Классно, — Кравченко тем временем расточал улыбки «взрослой хозяйке дома». — А есть у вас это.., ну как это называется.., полный перечень…
— Каталог? Сейчас принесу. — Девочка положила на «кинотеатр на дому» какую-то книгу (она все время держала ее под мышкой, и теперь книга, свесившись с края, с шелестом раскрылась) и направилась к боковой двери. За ней можно было разглядеть некое Подобие рабочего кабинета.
— Растрепа какой-то тут обитает, Катька, — шепнул Кравченко. — Тут упаковано все под завязку: каркай" — тьма-тьмущая, а охраны нет, вообще никого. Дождется — налетят какие-нибудь.
Катя взяла в руки книгу, взглянула на название: «Дневник Марии Башкирцевой». Листы были заляпаны жирными пятнами. Их перелистывали пальцы, то и дело снующие в пакетик с чипсами. На одной странице черным фломастером была подчеркнута фраза: «Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать. И.., ни одной души, с которой можно было бы обменяться словом…»
Катя быстро вернула книгу на место. Ей не хотелось, чтобы эта девочка уличила ее в подглядывании. Мария Башкирцева писала свой дневник с пятнадцати лет. А век спустя ее ровесница ищет в нем что-то, созвучное своему настроению. Катя вздохнула: странно, эти дети кока-колы еще не разучились читать… Кто эта девочка? И кем доводится этому Белогурову, лица которого, как она ни старается, так и не может припомнить?
— Вот каталог. Пожалуйста. — Девочка вернулась и протянула каталог Кравченко (он явно произвел на нее впечатление. Что-что, а это «драгоценный В. А.» умел!).
— Данке шен. А вы… Вас как зовут? — спросил он.
— Александрина. Лекс.
— Чудненько, Александрина. А вы что, одна в доме?
— Я не одна. — Девочка забрала свою книгу с телевизора. — Если вас заинтересуют цены на какую-то вещь, вам придется дождаться нашего менеджера.
— Мы подождем, — Катя взяла каталог,. — непременно. Вадя, взгляни, я хотела тебе показать…
И тут в зад неслышно вошел парень лет двадцати (во всяком случае, выглядел он довольно молодо) — среднего роста, плотный, даже несколько полноватый, с мощной сильной шеей (такую отчего-то некрасиво именуют «бычьей»), широкими плечами. Кате этот сытый, кудрявый (у него была аккуратнейшая модная стрижка, однако кудри с трудом покорились замыслу парикмахера), одетый в заношенные джинсы и футболку юнец, несмотря на правильные и даже красивые черты лица, отчего-то сразу не приглянулся. В нем было нечто странное. Она затруднялась описать это впечатление. Вроде все нормально, но… На дне его серых глаз, опушенных густейшими ресницами, была разлита какая-то тяжелая истома: когда он смотрел на вас в упор, создавалось впечатление, будто что-то невидимое ползет по вашему лицу. И от этого было очень трудно до конца выдержать этот настойчивый и вместе с тем отрешенный, откровенно-чувственный и диковато-робкий взгляд. (Хотя надо честно признаться, что в ту их самую первую встречу с ЧУЧЕЛЬНИКОМ ни Кате, ни Кравченко даже в голову не пришло, что с мозгами у этого парня что-то не в порядке.)
— Здравствуйте. — Парень держал в одной руке синее пластиковое ведро с водой, а в другой — швабру, из тех, что без устали рекламируют в «телешопе».
Когда девочка увидела его, то… Катя (а она всегда остро чувствовала чужое настроение) поняла: эти двое.., что-то между ними происходит. Хотя девочка всем своим видом пытается доказать сейчас обратное — что ничего, мол, такого. Словом — третий (они с Кравченко в одном лице) тут явно лишний. «Любовь уменьшается, если не может возрастать…» Ромео со шваброй и Джульетта с чипсами, дети кока-колы… Катя украдкой вздохнула: ах, Боже мой, где мои пятнадцать лет?
— Женька, ты разве все уже закончил? — строго произнесла «взрослая хозяйка дома», а щеки ее снова порозовели.
— Все. Чисто, чисто, чисто… «Миф-универсал» сохраняет капитал, — передразнил парень рекламу.
— Ну тогда.., иди. Иди, чего встал? — Я тебе мешаю?
— Это покупатели.
— Я вижу. Вы купите что-нибудь? — вдруг напрямую спросил он у Кравченко.
— Не решили еще… — С высоты своего роста он покосился на собеседника. — А ты что-то собирался нам посоветовать, мальчик?
За этого «мальчика», брошенного таким пренебрежительным тоном, Катя готова была задушить Вадьку, но…
Парень молча повернулся и скрылся за дверью. Двигался он на удивление бесшумно и легко для своих габаритов. И тут они услышали, как под окнами дома остановилась машина.
— Слава Богу, явился. Интервьюируй своего ментовского благодетеля и мотаем отсюда. Надоело, — шепнул Кравченко. Не это приехал не Белогуров. Новоприбывший, наверное, был самым красивым мужчиной, какого Кате довелось видеть в жизни, а не на телеэкране. Она даже смутилась в первую секунду. А Кравченко выпятил грудь, став сразу похожим на драчливого забияку-петуха.
— О, да у нас покупатели! — Красавец радушно заулыбался. Кате стало ясно — этот тип отлично знает, какое сногсшибательное впечатление он производит на женщин. — Что-нибудь вас уже конкретно заинтересовало у нас?
Катя ответила не сразу. В первую минуту она хотела было уже представиться, объявить, по какому вопросу приехала к владельцу галереи, но.., что-то вдруг ее остановило. Во-первых, самого Белогурова не было, а просвещать его сотрудников насчет всего происшедшего она не могла, да и не хотела. А во-вторых, в ней снова взыграло прежнее любопытство: кто эти дети, этот ослепительный «король-солнце» во плоти? Она решила не торопиться открывать свои карты, а разыгрывать роль и дальше. Хотя ее посетило дурное предчувствие: вряд ли они с Вадькой производят впечатление людей, кому по карману прицениваться к полотнам Григорьева и Кончаловского. Тем временем Кравченко (он порой сек сложившуюся ситуацию с лету) бесцеремонно ткнул пальцем в «Даму в красном» (небольшое полотно в скромной черной раме).
— Это нас заинтересовало. Но мы с женой хотели бы сначала просмотреть весь каталог. Полностью.
— Тогда прошу садиться. — Красавец указал на кресла у окна. — Лекс, детка, организуй нашим гостям кофейку. А… Женька уже закончил уборку?
— Пылесос наверху вроде не гудит. Впрочем, я не надзираю за твоим Женькой, — ответила она и спросила у Кравченко:
— Вам черный кофе или со сливками?
Катя долго потом вспоминала это плачевное валяние дурака, когда они (хочешь не хочешь, а Кравченко ткнул пальцем в одну из самых дорогих картин) «приценивались» к Борису Григорьеву. Ей приходилось напрягать всю свою память, чтобы выудить из нее скудные сведения об этом художнике. Ее спасло то, что ее собеседник — в конце концов они познакомились, его звали Егор Дивиторский — и сам, как говорится, не очень-то был «в курсах».
О Борисе Григорьеве Катя знала лишь самое общее: некогда, в начале века, принадлежал к объединению «Мир искусства», подолгу жил за границей, после революции эмигрировал и считался в Европе и Америке одним из самых дорогих и известных русских портретистов.
Кравченко, прищурившись, разглядывал картину:
— Егор, я хотел вас спросить.., что-нибудь в этом духе, этого же художника, но… — Он щелкнул пальцами.
Дивиторский снова заученно радушно улыбнулся. Катя отметила: перед ними представитель отлично вышколенного персонала. Видимо, за его плечами большой опыт работы с клиентами, которых «ни в коем случае нельзя упускать». Она поежилась: ой, что будет, если он в конце концов догадается, что они не только не в состоянии заплатить за картину, но, наверное, даже и за раму к ней!
Наблюдая за Дивиторским, Катя отметила и еще одну любопытную, на ее взгляд, деталь: несмотря на приветливость и радушие, он, однако, ни разу не взглянул в глаза клиентам — взор его блуждал где-то… На стене висело несколько гравюр под стеклом. Дивиторский смотрел на них — в стекле отражались смутные контуры его силуэта. Позже, когда он уже провожал их, Катя отметила, что и в холле он не пропустил ни единого зеркала. «Впервые вижу, чтобы мужчина так себя жадно рассматривал, словно престарелая кокетка», — подумала она. — В этом же духе… Понимаю, кажется, — Дивиторский кивнул. — Не подходит под интерьер дома — так нам обычно говорят клиенты. Ну что ж… Правда, живописных работ Григорьева у нас в галерее больше нет, но.., вот каталог, прошу. Есть рисунки, его графика. Вот, например, серий карикатур для журнала «Сатирикон», наброски к иллюстрации книг — это для Саши Черного, Салтыкова-Щедрина. Вот, обратите внимание, — он указал на одну из страниц каталога, — это эскиз декораций к опере «Снегурочка». Мне мой шеф говорил: чрезвычайно редкая вещь. Григорьеву заказали оформление декораций в Большом, но по какой-то причине премьера оперы не состоялась. А вот это эскизы для оформления Григорьевым артистического кабаре «Привал комедиантов».
Катя с интересом листала каталог. Ничего не скажешь, богатое собрание. Этот Белогуров (ей снова, как назло, вспомнились из его лика лишь белые джинсы) — знаток русского искусства первой половины XX века и весьма удачливый коллекционер. Интересно, откуда у него все это?
— Рисунки и эскизы мы тут не демонстрируем, — Дивиторский кивнул на стену. — Но если что-то вам приглянулось — нет проблем.
Кравченко со скучающим видом вздохнул.
— Чудненько, чудненько. — Он отхлебнул кофе, поданное девочкой. — Знаете ли, Егор.., какое имя у вас звучное, славянское. Пора, пора нам вспомнить свои национальные корни: Егорий Храбрый, Егорий Победоносец… Ты не находишь, Катюша? Но видите ли… Нам с женой хотелось чего-нибудь… — Он снова щелкнул пальцами, словно подыскивая слово для некоего «рожна» (как назвала это про себя Катя). Она быстренько уткнулась в каталог, чувствуя, что вот-вот не выдержит, и тогда весь этот смехотворный балаган лопнет, и они просто опозорятся на веки вечные.
— Кажется, я понимаю, — Дивиторский наконец впервые за беседу посмотрел на Катю и усмехнулся краешком губ. — Одну минуту… — Он прошел в боковую дверь, в кабинет, быстро вернулся. — Вот, взгляните на это, — уже протягивал он раскрытый фотоальбом. На фото была изображена некая книга. — Это иллюстрированный альбом Григорьева «ntmte». Библиографическая редкость. Вышел в Париже в 1918-м. — Дивиторский не говорил, а читал все это по какому-то отксерокопированному списку, который держал в руках. — Тираж всего тысяча экземпляров. Рисунки Григорьева: «Парижские кафе», «Женщины» — сплошной эрос во плоти. — Он снова усмехнулся, скользнув жестким взглядом по Кате. — Этой книги в настоящее время у нас нет. Но по вашему специальному заказу мы могли бы ее поискать и попытаться достать. Естественно, это будет стоить очень и очень…
— Ну, о деньгах, я думаю, есть смысл говорить только с Белогуровым, — премило промурлыкал Кравченко. — Катюш, что ты скажешь?
— Это, видимо, нечто в духе Тулуз-Лотрека. — Катя напыжилась так же, как и «драгоценный В. А.» (валять дурака, так уж валять!). — Это стильно. Престижно… Но думаю, раз владелец галереи отсутствует, есть время хорошенько все обдумать — брать или отказываться. И в следующий раз…
— У вас есть наши координаты? — перебил ее Дивиторский. — Чудненько. Можете звонить в любое время. Я передам Белогурову, что именно вас интересует. И если наши условия вам подойдут, то… Будем рады видеть вас снова.
Когда за ними захлопнулась дверь, бронированная, словно ворота бункера, Катя (она, как примерная супруга, все еще цепко держала Кравченко под руку) ехидно прошипела:
— Богатенький наш Буратино, господин Кравченко, а слабо вам купить эрос во плоти?
— Господа — в Париже. А ради вас, — в тон ответил «драгоценный В. А.» — — я готов пустить на ветер фамильное состояние. Да за такое виртуозное вранье ты, Катька, пива мне должна поставить ящик! Два ящика!
— Десять ящиков, — Катя выдернула руку, — ты за рулем. Ох, Вадя, что мы наделали? Так завраться…Я же с ним, с этим Белогуровым, поговорить хотела только о его помощи нам, об участии в обезвреживании преступника. А теперь что же? С какими глазами я теперь к нему снова отправлюсь?
— Очарованными. Я заметил, что этот хлыщ на тебя ба-альшое впечатление произвел. Так и млела там перед ним.
— Очень красивый парень. Скажешь, нет? А ты тоже — это дитя с косичкой… — Катя внезапно умолкла.
Они подошли к своей машине, А неподалеку от нее, у самых дверей дома, стояли бежевые потрепанные «Жигули». И тот самый кудрявый паренек старательно протирал их лобовое стекло тряпкой. Катя медленно прошла мимо машины. Вот и здесь тоже старые бежевые (то есть светлые) «Жигули». Сколько их в Москве, в области — тысячи. А Колосов еще не потерял надежду найти среди них и те самые… Странно, у владельца этой богатой галереи — человека явно очень состоятельного (вон какой роскошный особняк, какая мебель) — и такая ветхая (лысая резина, пятна ржавчины на багажнике; вмятина на правом крыле), старая машина… Может, она принадлежит не Белогурову, а этому вот кудрявому? Ишь как старательно стекло полирует… Наверное, подружку свою с косичкой покатать замыслил…
И вдруг ей вспомнилось: эта девочка Александрина сказала, что «менеджер с минуты на минуту вернется — отъехал на заправку». На машине отъехал? Но у дома номер шесть, кроме машины Кравченко и этой развалюшки, других никаких нет. Значит, он на «Жигулях» заправляться ездил? На таких вот — такой сноб?
— Вадь, это какая модель «Жигулей»? — спросила Катя, когда они сели в машину.
— Первая. «Копейка». Что, понравилась? Прямо глаз от нее не оторвешь.
— Да-а… «копейка»… Подожди секунду.. — Она зашелестела блокнотом в сумочке, украдкой записав номер. Она сделала это без всякой задней мысли. Чисто машинально. Раз ищут в столичном регионе старые бежевые «Жигули» и проверяют абсолютно всех их владельцев, то…
— Ох, чувствую, отольется еще нам наше беспардонное вранье, Вадичка, — вздохнула она тяжело.
— Ящик пива! — хищно напомнил Кравченко. — Сейчас рванем куда-нибудь, о, знаю куда — мне Серега про одну забегаловку говорил.
Он олицетворял собой само легкомыслие. А обычно это было Катино амплуа. Но сейчас она охотно уступила «драгоценному В. А.». Оглянулась напоследок: Гранатовый переулок, бежевые «Жигули»… Видно, придется возвращаться в эту галерею. Ее владелец и точно — весьма и весьма занятная личность.
19
FIN DE SINCLE
Занятная личность.., именно так думал кое о ком и Белогуров. О том человеке, к кому ехал. Ему предстояла занятная встреча с занятной личностью. И от всей этой занятности впору было рехнуться.
С утра (они договорились по телефону встретиться в половине первого: раньше клиенту просто не доставили бы деньги — оплату заказа) Белогурова тянуло к бутылке. Но он гнал от себя свою жажду. Во-первых, клиент, с которым предстояла встреча, Феликс Михайленко, не выносил и запаха спиртного. А во-вторых, управлять машиной под градусом, когда на заднем ее сиденье в специальном деревянном футляре покоилась эта вещь, было… Если бы что-то случилось — самая пустячная авария., — и Белогуров бы попал в цепкие лапы ГИБДД, то заветный футлярчик и его причудливое, если так можно выразиться, содержимое, стало бы… Белогуров хмыкнул: а вот как раз и страж дорога у светофора на перекрестке. Салют тебе, хозяин трассы, салют, товарищ, друг мой, брат мой, салют тебе! О, если бы ты только знал, мент-братишка, чью машину провожаешь сейчас равнодушным взглядом. Не к чему придраться, комендаторе? С иномарочкой моей все вроде в полном порядке. Если бы ты только знал, что увозит от тебя моя иномарочка все дальше и дальше…
Белогуров (светофор впереди зажег красный свет) оглядел стоявшие рядом авто. И вы, братцы мои, если бы только узнали, что я везу бедному богатому Феликсу… Интересно, что бы вы, дорогие сограждане, подумали? И что бы сказали вслух? Что отразилось бы на ваших усталых, скучающих лицах, землячки, «дорогие мои москвичи»? Ужас? Отвращение? Ярость? Страх? И что бы вы сотворили со мной за это — упекли в психушку, растоптали, размазав мои мозги по асфальту, расплющили бы меня — выродка, ядовитую гадину, сумасшедшего извращенца, кровавого садиста, манья…
Но дело-то все в том, дорогие мои, что я, Я — Иван Белогуров — ваш земляк, ваш друг и брат во Христе, в которого, страдающего и распятого, ни я, ни вы уже, наверное, и не в состоянии поверить, я.., нормальней вас всех. Я — не сумасшедший. Вот в чем вся загвоздочка-то… А эта безделушка в футляре, что у меня за спиной, — не сувенир для полоумного психопата, а… Вещь, за которую мне платят деньги. Очень большие деньги. Но хотя это и так, это — последняя вещь, последний предмет антиквариата особого сорта, который я продал в своей жизни. В этом я поклялся там, на берегу, когда мог умереть и не умер: эта вещь — последняя.
Белогуров включил магнитолу. Радио «Петербург» передавало вальс «Голубой Дунай». Музыка, музыка, музыка…
Этот же самый вальс звучал и на Ленинградском вокзале. Его играл в тот вечер у летнего кафе бродяга-гармонист — грязный, пьяный, опустившийся бомж, гармошка которого пыталась веселиться, но вместо этого хрипела, словно в последнем градусе чахотки. За липким пластмассовым столиком Белогуров ожидал Володимира — тот позвонил ему и назначил «стрелку» на девять вечера.
Белогуров вспоминал настороженное выражение лица того самого оперативника — Колосов его фамилия. Они ожидали этого важного звонка в его кабинете на бывшей улице Белинского. Белогуров понимал, что этот Колосов и его сотрудники решили воспользоваться им как подсадной уткой в этой своей операции по захвату. (Господи, знали бы они…) Володимир, услышав в трубку, что Белогуров согласен купить иконы, как и в прошлый раз, назначил встречу на Ленинградском вокзале. Они (Белогуров знал, что его прикрывают, но засечь, кто именно его «крыша» из угрозыска в волнующейся и галдящей толпе пассажиров, естественно, не мог) прождали более сорока минут. Белогуров уже думал, что церковный вор кинул их, заподозрив что-то. А гармошка все наяривала… За соседним столиком какой-то пропойца в тельняшке с ожесточением обгладывал копченую «ножку Буша», Обсосал со смаком куриные кости; плеснул себе пивка в пластмассовый стакашек, осушил единым духом, подавился от жадности, откашлялся, отдышался, а потом с тем же смаком харкнул прямо в картонную тарелку, из которой только что ел. Жирный плевок — шлеп… Белогуров ощутил, что его вот-вот вырвет…
— Приветик. Ждешь меня — ну и лады. Деньжата привез? — Володимир — он вынырнул откуда-то из здания билетных касс — покачивался с каблука на осок. — Как договорились, значит? Ну, пойдем. Да не дрейфь. У меня точно, как в аптеке.
Дальнейшее было как в тумане: стоянка, машина. — Володимир достал из багажника сумку, расстегнул «молнию», показав — вот иконы, те самые: Без обмана. —Я с тобой, приятель, честен, а ты… В следующую секунду ему уже крутили руки два качка, а тот мент Колосов, появившийся откуда-то, сказал… Но Белогуров не помнил его слов — торжествовал он, что же еще? Взяли они этого придурка теплым, с крадеными вещами в руках, да еще и всю сцену задержания на видео засняли, как потом сами хвалились в машине. Белогуров запомнил фразу, брошенную ему Володимиром, на запястьях которого уже защелкнулись наручники:
— Продажная шкура… На моем горбу в рай хочешь, гнида, въехать? Не получится!
У Белогурова в тот миг появилось странное ощущение: все вниз и вниз, словно камень, сорвавшийся с горы, все быстрее и быстрее… И визжала, наяривала, веселя вокзальную публику, та полудохлая гармошка. Мысль мелькнула: «А ведь Егор-то был прав. Для чего я все это затеял? Ведь это и точно — все равно как самому в пасть ко льву… Неужели тянет?!»
* * *
И, сегодня, когда он спустился в подвал, где Чучельник (его так и распирало от гордости) торжественно продемонстрировал ему готовую ВЕЩЬ, у Белогурова появилось то же самое ощущение. Все утомительные трудоемкие операции по «доводке исходного материала до кондиции» — с просушиванием в установке для искусственного загара — были закончены. Последний раскаленный шар-болванка (один из самых маленьких по размеру) извлечен наружу. Смазка из дубильных квасцов и фруктового джема смыта красным вином. Шов на коже в затылочной части под волосами «изделия», значительно уменьшившегося в размерах, аккуратно зашит. Волосы (к счастью, они не потеряли своего блеска) осторожно вымыты мягким шампунем и просушены феном. Шелковая нить, некогда намертво стянувшая губы это была одна из первых ступеней работы Чучельника — вспорота: в ротовую полость «изделия» Чучельник «согласно предписания» положил кусочек камфары и кожуру граната (вещества, богатые танином). И снова шелковой ниткой при помощи специальной скорняжной иглы зашил губы, некогда принадлежавшие китайцу Пекину, губы, осыпавшие кого-то поцелуями, а кого-то угрозами и ругательствами, а потом однажды до крови прикушенные от нестерпимой боли…
Вещь была уже водружена на специальную деревянную подставку. Такие подставки, как и футляры-шкатулки — изделия резчиков по дереву с островов Ява и Бали, а также отрезы синего и пурпурного шелка, в которые завертывалась ВЕЩЬ, Белогуров закупал оптом в антикварных лавках Сингапура и Гонконга. Искал самые старые изделия — 10 — 20-х годов. Ибо хорошо отполированное старое дерево «аксессуаров» создавало для ВЕЩИ особую неповторимую атмосферу.
Когда Чучельник под неусыпным надзором Егора продемонстрировал изделие во всей его противоестественной и чудовищной красе, Белогуров долго разглядывал эту, пожалуй, ни с чём более в мире не сравнимую вещь. Он вглядывался в черты, когда-то бывшие чертами Пекина и.., не узнавал его. И дело было даже не в малых, парадоксально малых по сравнению с «исходным материалом» размерах. Нет, ЭТА ВЕЩЬ, пройдя через руки Чучельника, теперь вообще мало была похожа на нечто, принадлежавшее некогда человеку, живому существу. Это была причудливая, пугающая, отвратительная и одновременно.., неимоверно изящная (Белогуров и сам сознавал чудовищность такого сравнения) игрушка. Воплощение, быть может, бредовой, а может, и не такой уж и бредовой игры чьей-то фантазии — вывихнутой, изощренной, больной. Да, так и казалось на первый взгляд, однако… Белогуров протянул руку и погладил мягкие черные волосы. Он все хотел себе представить Феликса рядом с этой вещью. Ведь теперь у него их две, под пару… Вот тогда-то это ощущение — все вниз и вниз, словно камень, катящийся под гору, все быстрее и быстрее — снова вернулось. А с ним пришла и знакомая сосущая душу жажда: сейчас бы напиться так, чтобы ни о чем уже не думать…
— Я старался, Иван. — Чучельник за его спиной (он не сводил очарованного взгляда с вещи) впервые за много месяцев назвал его по имени. Прежде он вообще никак к Белогурову не обращался. — Я очень, очень старался. Какая красивая… Тсантса. Я так хотел, чтобы на этот раз все получилось. Так старался… Я — молодец?
— Ты… — Белогуров почувствовал, что горло у него перехватило. — Егор, упакуй ее осторожно. Отнеси в машину. Пора ехать.
Чучельнику он в глаза не смотрел. Лишь улыбнулся ему бледно. Точнее, попытался. Но не получилось. — Деньги привезешь и… Слушай, Ванька, что я тебе сейчас скажу, — Егор стоял выпрямившись, расставив длинные ноги, — насчет Салтычихи… Те пятьдесят кусков мы ему отдали. Ладно, надавил — мы поплыли. Но насчет остального… Да пошел он знаешь куда? Баста! С этих денег — ни копейки он у меня не увидит. Мне это надоело, понял? Это самое. Он мне надоел, этот старый педераст! Не можешь сам жестко с ним поговорить, расставить раз и навсегда все точки, трусишь — давай я с ним сам встречусь. За те его чертовы инвестиции мы с ним с лихвой расплатились. За квартиру твою — ты у него деньги брал, не мы с Женькой, — расплатишься из своей доли. А остальное — те двадцать пять процентов от прибыли, что он из нас выбивает.., да пошел он!.. Ограбиловка чертова. Так и заяви ему: мы эти двадцать пять платить отказываемся! А будет настаивать… — Егор жестом каратиста рубанул воздух.
Белогуров слушал молча. С тех пор как они в этом подвале прикончили телохранителя «дяди Васи» и сделали из него то, что теперь лежало в изящной резной шкатулке мастеров с далекого острова Бали, и это так безнаказанно сошло им с рук (за все долгие недели, прошедшие со дня смерти Чжу Дэ, Салтычиха ни разу не позвонил, не напомнил о себе, а Белогуров, естественно, не желал нарываться и тоже выжидал), Егор не раз уже позволял себе высказывания в адрес их «благодетеля» в таком вот крайне мятежном тоне. Со смертью китайца в Дивиторском словно плотина прорвалась. В его взгляде, когда он говорил о деньгах, о Салтычихе, о том, что эта вещь наконец-то последняя — они наконец-то развязались со веем этим чертовым кошмаром, читались самые противоречивые чувства: злоба и надежда, алчность и отчаянная удаль, страх и ярость, облегчение, что «все позади» и вместе с тем некое тайное сожаление по этому же самому поводу: все позади.., уже?
— Сначала надо получить деньги, Егор. Привезти их сюда, подержать в руках, — ответил Белогуров так, как некогда ему отвечал Салтычиха. — А потом.., там решим, как нам поступить. Может, ты и прав. Смелость, говорят, города берет. А нахальство…
Егор его тогда не понял. Он проводил Белогурова до машины. Сам же сел за руль стареньких «Жигулей»: утром они обсуждали с Белогуровым, как им быть с ними. «От этой рухляди пора избавляться. Все равно больше они нам не понадобятся, — сказал Белогуров. — Да и видели вас на них в Солнцеве… Сразу надо было с ними покончить, да руки не доходили. Но медлить больше нельзя». Егор согласился: он съездит на заправку, специально зальет полный бак, а вечером отгонит «Жигули» на пустырь куда-нибудь в район Бутова и «запалит тачку с четырех концов», а сам вернется на такси либо частника поймает. Он отчалил на заправку первый. Белогуров медлил. Наконец собрался с духом и тоже тронул машину. Когда он уже отъезжал от дома, в Гранатовый переулок завернула с Ордынки синяя «девяностодевятка». В ней сидела какая-то парочка…
И вот теперь, вспоминая все это, он ехал, ехал. Умерил громкость магнитолы. Вальс «Голубой Дунай»… И снова в который раз удивился относительности времени и памяти: он успел вспомнить так много за несколько секунд, пока не зажегся зеленый свет на светофоре, за несколько тактов головокружительного вальса… Он прибавил скорость. Феликс назначил ему встречу в своем загородном доме на Киевском шоссе. Том самом доме, откуда четыре года назад он вместе с отцом; матерью и одиннадцатилетней сестренкой на машине (за ними «Вольво» с охраной) возвращался после Нового года в Москву. Они не успели проехать и километра, как прогремел взрыв. Сработало мощное взрывное устройство, укрепленное на днище их автомашины.
Да, это произошло четыре года назад, а познакомились они с Феликсом, постойте-ка.., в Риме, когда Белогуров с Лекс и Егором (Женьку они оставили дома на попечении домработницы — тогда еще могли себе позволить присутствие в доме постороннего человека) решили устроить себе, несмотря ни на что, двухнедельные итальянские каникулы. Венеция, Флоренция, Рим — они наняли машину, агентство заказало им во всех городах приличные отели. Именно там, в Риме, Егор буквально заболел античной скульптурой — шлялся один по всем музеям, отснял километры видеопленки. Белогурова всегда поражала эта внезапно вдруг вспыхнувшая «страсть к прекрасному» в этом акробате-неудачнике, который, по его мнению, и особым интеллектом-то не отличался. Сам Белогуров в Риме проводил все дни в барах на виа Венето — они с Лекс даже в Ватикан не пошли, испугавшись грандиозной очереди, вившейся у его старых стен. А Егора влекли обнаженные античные торсы. Что-то в этом было странное, нездоровое. Целые дни он проводил в музеях, а когда возвращался в отель, то надолго запирался в номере и даже не отвечал на телефонные звонки Белогурова.
В Риме они жили в очень приличном отеле на виа Венето в двух шагах от посольства США. Там в одном из ресторанов (как и во всех отелях высшего класса, для своих клиентов было несколько «столов») Белогуров за ужином и обратил внимание на Феликса. Сначала он не признал в нем соотечественника — тот безукоризненно изъяснялся по-английски. А, как известно, за границей на всех "московских есть особый «отпечаток».
Но Феликс вообще мало на кого был похож. Белогуров тогда заметил, что даже вышколенный официант украдкой отводил взор в разговоре с ним — чтобы этот молодой клиент не прочел в нем невольно… Белогуров ясно помнил, каким он впервые увидел этого УРОДА, этого калеку в инвалидном кресле. Феликсу тогда исполнилось всего-то двадцать пять лет. И у него была уже пятая по счету пластическая операция в косметическом центре под Флоренцией. На этого человека было вообще очень трудно смотреть, не отводя глаз. Косметологи, несмотря на все свои попытки, ничего не смогли сделать: потому что нельзя вернуть человеку лицо, если он его утратил безвозвратно.
Как они тогда познакомились? Да почти случайно В шумном, переполненном клиентами холле гостиницы Феликса на несколько минут оставили одного (он задержался в Риме на неделю после выписки из клиники и жил в отеле вместе с личным врачом Анатолием Ильичом и санитаром Петром, который и ухаживал за ним, как заботливая нянька). Феликс сидел в своем кресле, а гости и постояльцы отеля обходили инвалида. Белогуров ожидал лифта. У Феликса с Шопен упала книга, Белогуров ее поднял из вежливости. Услышал родное русское «спасибо», рассеянно глянул и…
Давным-давно, в школе еще, он читал рассказ Алексея Толстого «Русский характер» про сгоревшего в танке бойца. Он никогда не задумывался, что такое для человека — гореть заживо, а тут… Он тогда быстро отвел глаза, пробормотав что-то нечленораздельное. Но еще долго перед его глазами стояло это видение — лишенная волос шишковатая, покрытая розовыми рубцами голова, одутловато-багровое, изрытое жестокой оспой лицо — словно слепленное из осколков чужих лиц, опаленные брови, а глаза — небесно-голубые, лихорадочно блестящие, зоркие, умные, все замечающие, все понимающие глаза калеки. В довершение к душераздирающему зрелищу сидящий в инвалидном кресле не имел обеих ног. Они были ампутированы до коленного сустава. И вид двух жалких обрубков, облаченных в зашитые, точно мешочки, обрезки брюк из хорошей дорогой черной материи… У Белогурова, хотя он никогда не отличался сентиментальностью, невольно сжалось сердце.
А калека заговорил с ним приветливо. Голое у него был глуховатый, но манера держаться располагала. Сказал, что уже видел Белогурова с друзьями, рад узнать, что они соотечественники — «в Риме наших мало», похвалил гостиницу, спросил, были ли они на Вилле Боргезе — «советую очень, только что открылась после десяти лет реставрации» и.., представился: Феликс Михайленко.
Белогуров не сразу вспомнил, но потом, когда до него дошло, кто перед ним… Феликс был сыном Бориса Михайленко — одного из крупнейших отечественных бизнесменов. В течение ряда лет он возглавлял «Союзэнерго», а затем… Белогуров вспомнил: дело об убийстве Михайленко некогда не сходило с первых полос газет наряду с самыми громкими делами 90-х. Его взорвали вместе с семьей в машине. Ни, исполнителей, ни тем более заказчиков теракта так и не нашли.
Позже, когда они сошлись с Феликсом ближе, калека однажды рассказал про тот день, когда в одночасье потерял мать, отца и младшую сестренку. "Помню белую вспышку, потом грохот, звон стекла. Потом боль, потом жар — ужасный жар… Следом ехала наша машина охраны, но они сначала ничего сделать не могли — так у нас все разом заполыхало, загорелось… Отец и мать умерли сразу. Ленка, сестренка, кричала сильно, я слышал, когда меня вытаскивали. Я тоже кричал, рассказывали… Потом провалился как в яму.
Когда уже в реанимации очнулся, мне долго не говорили, что и Ленка умерла тоже — прямо там, на дороге. Отмучилась… А у меня все ноги ныли, ныли. А потом я понял, что их у меня уже нет…"
Белогуров тогда сразу смекнул: парень, переживший такое, просто не может остаться нормальным человеком. Позже, когда у них с Феликсом состоялся тот разговор, с которого и начались их совершенно особые отношения, он решил про себя: Феликс сошел с ума. Потому что нормальный человек даже представить себе не может, о чем они беседовали. Но.., все дело было в том, что этот искалеченный парень в чем-то мог дать фору даже Белогурову. Во-первых, Феликс был неплохо (для нынешнего поколения молодежи, по мнению Белогурова) образован. Отец постарался, чтобы его сын и наследник (благо деньги позволяли) стал «стопроцентным европейцем». Феликс учился в Англии. Он много и жадно читал (а что ему оставалось-то в инвалидном кресле?). Был горячим поклонником Джойса и Данливи, Байрона и Шелли. Он интересовался искусством. У него была превосходная память (трагедия, с ним случившаяся, словно и не коснулась его умственных способностей, так казалось на первый взгляд…). И наконец, Феликс Михайленко был очень и очень богатый мальчик, что сразу и бесповоротно расположило Белогурова в его пользу, заставив даже позабыть об удручающе отталкивающей внешности.
Со смертью Михайленко-старшего семейный бизнес закончился. Но за годы, пока этот профессор физики находился у руля отечественной энергоимперии, он успел сколотить солидный капитал, вовремя переведя его, и…
«На жизнь мне, Иван, хватит. Думаю, она не будет слишком длинной, — говаривал Феликс. — А потом.., мне теперь не так уж и много нужно. Кажется, я становлюсь стоиком. Хотя нет, они вообще не признавали никакой материальной зависимости. А я же… Порой так хочется кого-то любить, Иван. Это, наверное один из инстинктов, что ли… А кого, точнее, что я могу любить? Кроме вещей — что остается?»
Да, Феликс любил исключительно вещи (а что, и вправду, ему такому оставалось?). В Риме Белогуров по его просьбе сопровождал его в галерею Туканово, а затем в галерею «Торлони» на виа Маргутта. И вот там-то он заметил, что Феликса (наверное, в силу того; что из-за своего уродства он чувствовал себя особенным, не похожим на остальных людей; и просто не мог не ощущать себя изгоем) привлекали дорогие, редкие, но не красивые, а скорее странные вещи. У «Торлони» (это была известнейшая ювелирная фирма), хотя на стендах было выставлено множество великолепных изделий, Феликса заинтересовал лишь маленький темный рубин в довольно безвкусной платиновой оправе: весьма пошлая, на взгляд Белогурова, и не такая уж старинная (всего-то эпохи короля Виктора-Эммануила) брошь. Феликс сразу же попросил убрать оправу. На вежливые слова менеджера о том, что «ценность рубина невелика — это всего лишь кабошон, да к тому же еще и непрозрачный», Феликс только улыбнулся, положил камень на тыльную сторону худой руки и показал Белогурову:
— Правда, он похож на каплю запекшейся крови? Словно я оцарапался случайно и из раны выступила кровь… Я закажу для этого камня особую оправу.
(Белогуров потом видел ее в московской семикомнатной, оставшейся от родителей квартире Феликса на Пречистенке. Камень был вкраплен в гипсовый слепок руки. Складывалось впечатление, что рука отрублена и до сих кровоточит.)
Кстати, там же, в московской квартире, Феликс держал и своих любимцев. Это были два здоровых тигровых питона, жившие в специально оборудованном стеклянном серпентарии. Каждый месяц им покупали на Птичьем рынке живых кроликов и кур. И Феликс никогда не пропускал момента, когда Петр, живший с ним, кормил змей. Однажды при этой процедуре довелось поприсутствовать и Белогурову. Он почувствовал дурноту.
Что-то не так, не в порядке с этим бедным парнем — да, это Белогуров понял еще тогда, в Риме, но… Но Феликс изъявил самое горячее желание посетить по возвращении «Галерею Четырех». И это был клиент, словно посланный Богом: умный, образованный, понимающий толк в вещах, плативший зато, что ему приглянулось, не торгуясь. Он приобрел у Белогурова два полотна Бакста и несколько набросков Врубеля к «Принцессе Грезе». Затем пришла осень, 7 ноября у Феликса был день рождения, и он пригласил Белогурова к себе, но не на московскую квартиру, а в этот вот загородный дом на Киевском шоссе. «Я там еще не был ни разу со дня смерти родителей. Не хочу, не могу быть там один. Так что приезжай, пожалуйста», — сказал он по телефону.
День рождения был грустным. Присутствовали лишь самые теперь близкие Феликсу люди — врач и санитар. Белогуров явился с роскошным букетом роз, словно траурной лентой перевитых: «Дорогому Феликсу».
— Феликс означает «счастливый», — сказал Михайленко, подняв бокал с шампанским; Петр подкатил кресло парня прямо к накрытому столу. — Римляне о своих павших в бою легионерах говорили: «Он уже счастлив». Редкий случай, когда смерть ассоциировалась со счастьем, да? Мне сегодня исполнилось двадцать шесть. Я не умер, хотя мог… Но я не умер, — он обвел глазами стол, — Бог, или кто там есть на этом голубеньком небе, для чего-то оставил меня.., вот таким, каков я есть, — он снова запнулся, но продолжил, — жить дальше. Что ж, наверное, мне, Феликсу, счастливчику, надо его за это только поблагодарить.
— За твои двадцать шесть, мой мальчик, — врач Анатолий Ильич, седоусый, грузный, сентиментальный, полез к нему чокаться.. — И.., и ты еще покажешь им всем, этим сукиным сынам. Или я ничего не смыслю в людях.
— За тебя, Феликс, — присоединился к тосту и Белогуров.
После застолья они сидели в холле у камина. Он был огромен и неуклюж, как и все в этом ужасном, на взгляд Белогурова, доме, — не только потому, что почти рядом с ним такой жуткой смертью погибла целая семья, но в основном по причине удручающе-безвкусной «новорусской», зараженной гигантоманией архитектуры и планировки. Сложенный из красного кирпича, увенчанный какой-то идиотской, сияющей, словно начищенный пятак, медной крышей, дом возвышался один-одинешенек в голом поле, отведенном под застройку «коттеджей». За домом, у чахлого леска, примостилась подмосковная деревенька — косые избушки, ржавые гаражи, яблоневые палисады, уборные-развалюшки. А дом под медной крышей со слепыми узкими бойницами окон (их несимметрично пробили в толстых стенах, выгадывая метраж грандиозных апартаментов, да к тому же залепили чугунными решетками) был словно роскошное бельмо на глазу. Этот дом строил Михайленко-старший: щедро вкладывал деньги в недвижимость. А сейчас его сын и наследник, вернувшийся из-за границы, где лечился более полутора лет, заколотил половину дома наглухо. А в другой половине — жилой — соорудил специальный лифт, потому что ему, калеке, иначе было просто не подняться на второй этаж и не спуститься в подземный гараж.
И от этой новой перепланировки особняк вообще стал похож черт знает на что — на богатый, современно, модно и дорого обставленный, отгроханный на века Бедлам — лечебницу для недужных и убогих.
В тот памятный день 7 ноября они сидели у камина (за окном хлестал дождь со снегом, а по телевизору диктор со змеиным ехидством комментировал прошедшую в Москве, демонстрацию оппозиции). Доктор Анатолий Ильич включил музыку, поставив компакт Даны-Интернэшнл, а сам ушел в гостиную к столу «доедать». Они с Феликсом попивали выдержанный портвейн и беседовали. В основном говорил Белогуров: клял жизнь, жаловался на то, что дела в галерее идут из рук вон плохо — покупателей нужных нет, налоги задушили. Он жаловался с дальним прицелом: Михайленко вдруг да проявит благотворительность — подкинет «на искусство»? Ведь дает же он на детский дом в Мытищах — сам говорил, точнее, хвалился печально.
Михайленко слушая, задумчиво смотр" в огонь. На коленях он держал раскрытый альбом, привезенный еще из Рима. Он, подобно Лекс, не расставался с книжкой. Перелистал несколько страниц с репродукциями картин.
— Почему в эпоху Возрождения художники обожали изображать странные вещи? Вот, например, эта картина из галереи Спада — «Давид, созерцающий мертвую голову великана Голиафа». Смотри, Иван, а она уже позеленела, голова-то.., разлагается. Какие, однако" суровые, скорбные черты… Или вот это… — Он снова перелистал альбом, остановившись на ужасающей «Юдифи, обезглавливающей Олоферна» кисти Караваджо. — Художника можно совершенно справедливо заподозрить в маниакальном садизме. Ты взгляни только: меч в руках молодой девицы взмах и… Голова уже наполовину отделена от туловища, кровь хлещет потоком. А голова кричит в ужасе — распяленный рот, вылезшие из орбит глаза… — Феликс взглянул в лицо Белогурова, освещенное пламенем. (Тот, прервав на полуслове свои жалобы «за жизнь», терпеливо слушал этот бред. Феликс, наверное, набрался порядком, но… Он такой богатый мальчик, что можно ради пользы дела перетерпеть и эти разглагольствования.) — Я всегда удивлялся заказчикам, Иван, — продолжил Михайленко, — тем, кто заказывал, ну тому же Караваджо, картины такого жуткого, устрашающего сорта. Они не брезговали на это смотреть. Вешали такие картины в парадных залах, выставляли на суд других. Уродство-то, оказывается, притягательной красоты, а?
— Несомненно, — поддакнул Белогуров и хотел снова уже вернуться к обсуждению текущих дел, но Феликс продолжил тихо:
— Я хотел сделать себе на день рождения подарок. Приобрести одну вещицу. Странную и весьма… Мне рассказывал о ней один человек, не у нас, нет, а там, еще в клинике. Потом я кое-что читал. Очень дорогая, редкая вещь. Теперь редкая. Но еще в шестидесятых она в единичных экземплярах попадала на аукционы мира из… Гонконга, Сингапура, Малайзии. — У меня есть мечта: на следующий год, если не подохну под анестезией, махну на Дальний Восток, в эту страну Дракона. Символ счастья, кстати, мой символ…
— Ты говорил о вещи. — Насторожившийся сразу Белогуров перебил его: Феликс любил туманные, отвлеченные, витиеватые фразы. Как и всем инвалидам, выключенным из активной жизни, ему не хватало собеседников. Он пользовался малейшей возможностью «выговориться всласть». — Что это — картина, графическая работа, скульптура? Я могу тебе помочь достать, только…
— Можешь помочь, — Феликс произнес это еще тише, — если захочешь. Цена на эти вещи, я узнавал, в Сингапуре колеблется от девяноста до ста пятидесяти тысяч. Ту, что я заказывал, мне оценили в сто. Но антиквар меня подвел.
— Кто-то из наших? — брезгливо спросил Белогуров. — И ты пошел к ним, а не ко мне, своему другу? Наших сейчас только война с Церетели интересует, — добавил он ядовито. — Демонтажа его памятников добиваются, рекламы любыми способами хотят.
— Шон Ли Вонг — антиквар из Сингапура. Я листал каталог их галерей. Они сами переслали мне. Но меня интересовали не вещи из каталога, а…
— Что же?
— Тсантса, — ответил Феликс.
— Тсантса? — Белогуров потом не раз вспоминал, с каким равнодушием впервые произнес это слово. — А что это такое, просвети.
Феликс жестом показал на лежавшую на кресле распечатку. Белогуров взял, ее: это был машинописный перевод научной статьи из журнала или книги. Начал читать. Прочел до конца. Хмыкнул.
— И это ты бы хотел подарить себе на день рождения? — В глазах его читалось брезгливое недоумение. — Это игрушки для дикарей, да и те уже…
— Угу; Это. Оно самое. — Феликс смотрел на него, не мигая.
— Прости, но это скорее экспонат для этнографического музея или кунсткамеры. Как каирская мумия.
— Со временем, если на какой-нибудь аукцион выставят мумию и у меня хватит денег ее купить, — я куплю. А когда из-за нехватки финансирования с молотка пустят питерскую Кунсткамеру, я, опять же если хватит деньжонок, возьму и… В детстве мать, когда мы в Питер на каникулы ездили, не разрешала мне туда ходить. Но я все равно однажды пошел. Там двухголовый теленок в вестибюле был еще, не помнишь, нет? А потом я прочел где-то, что Петр хранил там в колбе и отрубленную голову любовника своей жены. В наше время ее не выставляли, схоронили, наверное, где-нибудь на кладбище втихаря.
— Тот теленок, Феликс, урод, монстр…
— Такой же, как и я, Иван. Наверное, даже более счастливый: у него аж две головы при четырех ногах, тогда как у меня…
— Прости, прости меня. Я нарезался, сболтнул, сам не думая что. Хватит пить. — Белогуров со стуком поставил недопитую рюмку на низкий столик. — Я не понял, Феликс… Так ты это серьезно?
— Угу.
— Но это же… Ну, во-первых, это же пустая трата денег! И каких! Всё равно что выбросить их на ветер!
— Это не пустая трата денег, Иван. Я навел справки и убедился, сколько стоит тсантса — настоящая тсантса, и как ее цена на аукционах поднимается годами. Это же редчайшие вещи, раритеты, единственные в своем роде. Уже в конце прошлого века изготовление их и добыча материала строжайше карались законом в Малайзии и на островах Тихого океана. Но их все равно изготавливали вплоть до начала нашего века. Это был целый бизнес. Ну, вспомни, что ли, Джека Лондона — про охотников за головами не читал разве? Я больше тебе скажу: эти вещи настолько же уникальны и бесценны, как полотна Караваджо… Это предмет культуры, религии и поклонения целого народа и… — Феликсу словно не хватало воздуха. — И самое главное: я очень хочу такую вещь.
— Но почему? Что за извращенный вкус? — не выдержал тогда Белогуров. — Ведь это же, ч-черт.., это же форменная некрофилия!
Феликс сгорбился, молча смотрел в огонь, потом тихо сказал:
— Ты никогда не удивлялся судьбе, распорядившейся нашим с тобой поколением (хоть ты и старше меня — это не так уж важно), назначившей ему время жизни на рубеже тысячелетий? Те, кому это выпало в последний раз, — видели крестовый поход. А жившие перед ними — были свидетелями событий на Голгофе. И все они были нашими родственниками, Ваня. — Тут Феликс улыбнулся, если то, что появилось на его заштопанных пластическими операциями губах, можно было назвать улыбкой.
— Я не понимаю, при чем здесь эта твоя туманная софистика.
— Это не софистика. Я просто делюсь с тобой тем, что с некоторых пор не дает мне покоя. Я.., я мог умереть полтора года назад. Но выжил. Значит, для чего-то это нужно, Ваня, — чтобы я хоть краешком глаза поглядел, что такое — начало третьего тысячелетия. Хотя бы для того, чтобы ощутить на вкус и на ощупь, что это такое — эта наша маленькая жизнь.
— Я не понимаю, при чем тут это все!
— Популярней я просто не в состоянии тебе объяснить. — Феликс скользнул взглядом по Белогурову. — Да к тому же ты врешь, Иван. Все ты понимаешь. Не надо, не отворачивайся. Я привык к тому, как люди на меня смотрят. Я даже не сожалею уже… Чехов, кажется, сказал: «В человеке все должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и мысли». А как быть человеку с таким лицом, такой мордой, как у меня? Какие мысли ты мне посоветуешь хранить в этой маленькой ореховой скорлупке? — Он дотронулся рукой до лба. — От прекрасного до чудовищного…
— Не, воображай о себе, — Белогуров жестко усмехнулся: Феликса горчайший сарказм завел уже невесть куда и лечить его можно было лишь сарказмом. — Тоже мне чудовище-меланхолик. Прекрати. Возьми себя в руки. Ты остался жив. Ты выкарабкался из этой чертовой передряги — и это главное. У тебя прорва денег, Феликс. Весь мир перед тобой. Да хрен с ним, с лицом! Джексону вон кожу всю перекроили — дай срок, исправят косметологи и тебя. А ноги… Феликс, милый мой, да с такими деньгами… Свистни только — на руках носить тебя будут. Девки не к ногам липнут, а знаешь к чему?
— Ты поможешь мне? Или мне искать кого-то другого, чтобы он навел справки? — перебил его Михайленко.
— Феликс, я прошу тебя… Ну.., ну, конечно, я помогу тебе — наведу! Я созвонюсь с агентством Табаяки в Сингапуре, у нас с ним давнее партнерство. Но это.., предупреждаю сразу, чтобы потом ты не слишком был разочарован — шансов мало. Это все равно что доставать с небес луну.
— Нет, — Феликс покачал головой, — мне кто-то говорил, что Дубов (это был известнейший миллиардер-предприниматель, славившийся в Москве самодурством) в прошлом году приобрел на Сотби полотно Тициана. Бесспорный подлинник. Так вот, тсантса гораздо более часто встречается, чем подлинный Тициан.
— Ну наведу я тебе справки. Возьму распечатку с собой. Черт, и как тут все подробно насчет этой мерзости расписано…
— Это Джорж Эллиот — английский этнограф и антрополог. Он давно занимается исследованием этого вопроса и приводит здесь ряд интереснейших рецептов изготовления настоящей тсантсы, собранных им в экспедициях на Борнео. Ими якобы еще в прошлом веке пользовались племена Малайского архипелага. Там, насколько я понял, весь секрет состоит в том, чтобы достаточно равномерный нагрев: изнутри, и снаружи изделия заставил ткани и мышцы сокращаться до невероятно малых размеров. Эллиот видел тсантсы (одну, кстати, в собрании японского коллекционера) размером с апельсин и даже меньше — с утиное яйцо. Но первоначальная трудность состоит в том, чтобы снять лицевой отдел, не повредив его при этом. Для этого нужна твердая, умелая рука. Ну и профессиональные навыки, разумеется.
Это было последнее, что запомнилось Белогурову из того их разговора от 7 ноября, когда за окном хлестал снег с дождем, а по телевизору обсуждались шансы оппозиции на приход к власти.
На следующий день Белогуров отбил факс в агентство Табаяки. Оттуда ответили отказом, присовокупив, что сделки с антиквариатом такого сорта строжайше запрещены законом, но… За определенные немалые комиссионные агентство бралось в свою очередь «навести справки». Феликс, извещенный об этом, вручил Белогурову наличные на оплату этих комиссионных.
— Эта вещь действительно стоит больше ста тысяч долларов, — обескураженно заметил Белогуров. — Табаяки подтвердил. Но.., их нет.
— Если Табаяки достанет, я заплачу сколько нужно. Некоторые сейчас за такие бабки, Ваня, покупают себе часы с бриллиантами-булыжниками. А я булыжники не люблю. Это ведь дурной вкус, а?
Табаяки ответил новым вежливым отказом: очень сожалеем, но ничем не можем помочь клиенту. Белогуров, как только получил факс, сразу же хотел позвонить Феликсу и отказаться от всего, но…
Как же случилось, что он тогда не отказался? Как? Да, правда, дела в галерее тогда шли все хуже и хуже: денег расплатиться с Салтычихой, ремонтировать квартиру, платить налоги, аренду — не было. Точнее, нельзя было сказать, что ему, Белогурову, и Егору с Женькой только и оставалось, что пойти с нищенской сумой. Нет, на скромную жизнь хватило бы с лихвой, даже если бы галерея вконец разорилась. Но Белогуров навсегда запомнил античную байку про некоего Никокла из Афин. Тот жил широко и беспутно, промотался и Однажды на пиру, организованном на последние деньги, в окружении рабов и наложниц за чашей вина принял яд, не желая, как он сказал, влачить бедность после того, как он вкусил, что такое настоящая жизнь. Мысль о том, что снова придется опуститься до того, чтобы жить так, как он жил с матерью в перенаселенной арбатской коммуналке, была нестерпима для Белогурова. Она оскорбляла в нем вое самое сокровенное — гордость, надежды, честолюбие и, самое главное, как ему тогда казалось, — его человеческое достоинство. Он (он!) снова опустится до того, чтобы… Нет, уж лучше пусть его пристрелит где-нибудь в подъезде за невозврат долга мстительный Салтычиха, или же…
Егор Дивиторский, который был в курсе всех переговоров с «наведением справок» насчет покупки тсантсы, с некоторых пор вдруг начал (едва они оставались с Белогуровым наедине) весьма многозначительно поглядывать на своего работодателя. Однажды он спросил прямо:
— А он точно заплатит за, нее сто кусков?
— Да, да, да! Даже сказал — вперед.
— Ну.., и?
— Что? Что тына меня так смотришь? Ну, не могу я ему эту дрянь достать! И потом.., эти сделки противозаконны, нарваться крупно можно, и.., и нам все равно не достанется эта сумма, а лишь жалкие проценты комиссионных. А это для нас все равно что мертвому припарки…
— Это в том случае, Ваня, если вся основная сумма пойдет продавцу.
— Ну? А я чем говорю! А ты что предлагаешь? Мы же только посредники в этой чертовой афере. И.., что ты так на меня смотришь?!
— Ничего, — Егор опустил глаза. — Просто думаю.
Егор жаждал этих денег. Когда это дошло до Белогурова — было уже поздно. Он видел: что-то затевается в его доме. Егор подолгу о чем-то беседовал с братом; Что-то настойчиво внушал ему. Распечатка со статьей английского этнографа была все время у него. Женька (хотя он и умел читать) лучше воспринимал всегда на слух то, о чем говорилось в тексте. Однажды Егор в разговоре с Белогуровым как-то словно бы невзначай обронил о брате: "Мне еще врач-психиатр, когда Женька ВТЭК на инвалидность проходил, сказал: «Главное — разбудить в мальчике творческое начало, заинтересовать чем-то. Кажется, Иван, мой брат.., и вправду заинтересовался. А навыка в ремесле, как я тебе и говорил, ему не занимать. Но сначала стоит потренироваться… Будут кой-какие расходы. Ты не возражаешь? Нам с Женькой лучше перебраться в подвал».
Они начали с того, что приобрели на Птичьем рынке черт знает по какой цене двух обезьян-макак и.., привезли их домой, выбрав момент, когда Лекс отсутствовала. И действительно надолго заперлись в подвале (там еще ничего не было оборудовано). Чучельник вышел оттуда страшно разочарованный. Егор сообщил, что у него ничего не вышло, хотя они действовали строго по «рецепту» этнографа. Егора после всех этих безумных опытов долго и мучительно рвало в ванной, но он все же храбрился. А Белогуров (странно, он тогда словно прислушивался к себе) — он мог бы запретить весь этот кошмар прямо тогда, после этой неудачи, но.., вот отчего-то и не запретил. Он просто сидел боком на стиральной машине в ванной, наблюдая за Егором, и.., молчал. Молчал он и тогда, когда Егор, отдышавшись, вытер лицо полотенцем и сказал хрипло:
— Он заплатит сто тысяч… Ублюдок, ублюдок Феликс. — Сплюнул в раковину и закончил мысль:
— Жаль, что ему не разорвало кишки там, на дороге!
А потом все это, весь этот кошмар нарастал уже как снежный ком. Белогуров мог бы по полочкам, по ступенькам разложить путь, которым он сам шел к этому. Сначала перестал ужасаться, что вообще такое возможно. Потом свыкся с мыслью, что это случится. Затем неотступно думал только о деньгах: сто тысяч долларов решили бы массу проблем, а ни один из экспонатов галереи он бы никогда не смог продать за такую сумму.
А затем в душе его воцарилась пустота и.., странное облегчение: я всё равно уже не могу ничего изменить. И вообще, что так психовать? Ведь всю основную работу (а Егор с пеной у рта клянется в этом) будут выполнять они — братья Дивиторские. Всю кровавую жуткую работу, а ему останется лишь…
Самой страшной, самой черной была та ночь — ранней весной, когда с крыш неумолчно барабанила капель, а лед на разбитых замоскворецких тротуарах таял, съедаемый дождем. Да, в ту ночь шел дождь…
Белогуров помнил, как провел ее без сна и покоя, ожидая возвращения братьев. Но тех первых — эти бедолаги оказались вьетнамцами — Егор после долгих поисков засек голосующими на шоссе возле какой-то вещевой ярмарки уже ранним утром. Они вернулись тогда в восьмом часу. Глаза Чучельника странно туманились. Создание словно бы прислушивалось к чему-то внутри себя. «Главное, разбудить в нем творческое начало…» Боже, что плел тот втэковский психиатр? Знал бы он, какое «творческое начало» разбудил старший брат у своего младшего братца-шизофреника…
С теми первыми вьетнамцами, точнее, с изъятым у них «исходным материалом», у Чучельника тоже ни черта не вышло. Он не сумел даже преодолеть первую ступень «операции», так скрупулезно и старательно описанной в ученой статье английского естествоиспытателя. Кое-что у Женьки начало получаться лишь с «материалом», взятым у третьей жертвы, — какого-то восточного недомерка в наколках, которого, как вскользь и нехотя поведал Егор, они «завалили» где-то в районе Олимпийской деревни.
С самого начала в качестве жертв выбирались исключительно монголоиды. Егор при этом рассуждал так: подлинные тсантсы — «амулетики из Сингапура» — вещи с Востока, изделия малайских мастеров-живоглотов, а значит… «В принципе-то, — говаривал он, — я проштудировал эту статейку внимательно и вот что понял: ничего особенно сложного в методике изготовления нет. Эту дрянь прежде кто делал? Дикари. Люди каменного века. И обходились они самыми примитивными средствами, всем, что природа давала. Так что при определенном профессиональном навыке — а у моего Чучельника ручки золотые, — да еще ежели мозгами пораскинуть, как „модернизировать процесс“… Ну, положим, у братана моего извилин маловато, так мы поможем, а, Вань? За такие-то бабки… Этот твой безногий ублюдок, что, химическую экспертизу будет проводить тому, что мы ему привезем? Возраст, что ли, этой дряни будет определять? Искусствоведам-антропологам ее показывать? Ни хрена подобного! Конечно, мы рискуем, Ванька, я понимаю, сильно рискуем с этой подделкой, но…. А с другой стороны, кто не рисковал? Вон я недавно прочел — у молодого Микеланджело никто сначала статуи не покупал. А за античные, вырытые из земли, кардиналы да герцоги римские баснословные суммы платили. И что же отколол создатель Ватикана? Как-то там подсуетился, что-то отполировал, что-то затер, придал своей скульптуре максимально древний вид и.., толкнул как „вырытый из земли антик“! Кощунственно сравнивать, говоришь? А, брось. Гении мухлевали, так что… Ты только вдумайся: он, Феликс, платит сто кусков за эту дрянь. Нам же без этих денег — сам знаешь — зарезаться можно. А я резаться, Ванечка, не желаю».
«Лучше кого-нибудь другого зарежу», — добавлял Белогуров. А Егор не отвечал. Смотрел в зеркало на свое отражение. Ноздри его раздувались. Ион тогда был — сама воплощенная решимость действовать.
Ту первую вещь Чучельника Белогуров повез Феликсу, отчаянно труся. Если бы только Михайленко заподозрил подделку… Если бы в изуродованную шрамами голову этого «бедного ублюдка» закралась хоть тень подозрения, что они так чудовищно кинули его, то… У Феликса Счастливого, хотя он не мог самостоятельно передвигаться, было достаточно денег, чтобы «обездвижить» на веки вечные тех, кто попытался его обмануть. Выстрел из оптической прогремел бы из чердачного окна дома напротив и… У Белогурова не было иллюзий на этот счет.
— Феликс, ты, конечно, понимаешь.:. Это вещи такого сорта, что… Словом, это опасные вещи. О них никто не должен знать. Это я насчет людей, которые живут в твоем доме… — Белогуров наблюдал за Михайленко, завороженно разглядывавшим тсантсу, извлеченную из кокона китайского шелка и водруженную на специальную подставку. Он впервые тогда подумал: «Это опасный сумасшедший. Даже хуже нашего Чучельника. Гораздо хуже. В том взрыве, в том пламени пожара, расплавилась не кожа его, а его проклятые вывихнутые мозги!»
— Я понимаю. Конечно, конечно, — Феликс послушно кивнул. — Ты не бойся. Но ведь об этой вещи уже кто-то знает. Кто-то в курсе — в агентстве Табаяки, например… Те, кто перевозил эту прелесть через границу… Кстати, как вам удалось переправить ее из…
— Из Сингапура, Феликс, Табаяки перекупил ее у какого-то филиппинца-коллекционера. Сотрудника бывшей администрации диктатора Маркеса… — Белогуров изложил заранее приготовленную «легенду» о том, как «вещь переправляли через границу». — Это очень дорого стоило, — закончил он.
Тогда Феликс вместо ста тысяч по договору уплатил ему, не торгуясь, сто тридцать тысяч долларов (Белогуров не был честен с Салтычихой, называя сумму). А потом, прикрыв глаза, тихо произнес:
— Я понимаю, как вам было трудно достать, но… Ты не мог бы достать мне еще одну — для пары? Я заплачу сто пятьдесят.
Белогуров чуть-чуть не сорвался тогда (к горлу клубком подкатила ярость). «Да на кой.., тебе эта мертвечина?! Да ты знаешь, какой ценой она нам досталась, ублюдок?!»
Но он сдержался, не вспылил. Сто пятьдесят тысяч долларов. Можно будет почти полностью расплатиться за квартиру и за ремонт, подвести «дебет с кредитом» с Салтычихой, можно будет, наконец, махнуть на Багамы с Лекс — к чертовой матери от всего этого кошмара, под шумящие от океанского бриза пальмы на коралловый песок… И потом, опять же, всю черную работу сделают братья Дивиторские — братья-психи, братья-маньяки, братья-убийцы, братья-чудовища. Ведь им с этих денег причитается ровно половина. А Егор за тысячу баксов мать родную зарежет…
И Белогуров путано пробормотал только, пряча от Михайленко глаза: «На это потребуется время, Феликс. Несколько месяцев, быть может, и полгода… Но, в общем, я постараюсь для тебя, заряжу все, какие возможно, каналы, снова свяжусь с агентством в Сингапуре и… Когда вещь будет у меня, я тебе сообщу».
Им с Егором и Женькой потребовалось гораздо меньше времени — на дворе стоял лишь июль. Но Белогуров так подгонял братьев, потому что тогда Феликс сказал ему, что «если ты не успеваешь позвонить мне до конца июля — то все придется отложить ровно на год». В августе Михайленко уезжал в Швейцарию. Ему предстояла очередная пластическая операция. А если сто пятьдесят тысяч долларов не поступят в распоряжение Белогурова в этом году, то.., то не стоило и затевать весь этот новый кошмар. За двенадцать месяцев неоплаченного долга Салтычиха бы просто стер галерею и ее персонал в порошок. Потому-то они так торопились со второй ВЕЩЬЮ, подгоняли Чучельника. Потому-то Пекин, бедняга, и…
Белогуров не успел пожалеть убитого китайца — остановил машину перед железными воротами гигантского глухого забора, — окружавшего дом с медной крышей. От Киевского шоссе к особняку вела новенькая бетонка, проложенная через пустырь, заросший лебедой и чертополохом. Вдали маячил жидкий лесок, к его опушке лепилась хлипкая деревенька. Оттуда пахло жильем, дымом. Лаяли собаки. Трещал по деревенской улице мотоцикл.
Ворота открылись — одна из створок поехала вбок. Белогуров подрулил к массивному кирпичному крыльцу. Голый двор: ряды молодых чахлых саженцев, клумба, за которой никто не ухаживает, заросший газон. Феликсу Счастливому долго придется ждать, когда под окнами его кирпично-медного страшилища разрастется фруктовый сад, в тени которого можно будет коротать знойные деньки…
Белогуров обогнул машину, бережно достал с заднего сиденья деревянный футляр. И тут же, вместе с дрожью в коленях ощутил сильнейший позыв — мочевой пузырь за дальнюю дорогу переполнился так, что сейчас, кажется, из глаз польется. На крыльце его встречал Петр (тот самый санитар). Разговаривал с кем-то по радиотелефону: «Сахара я привезу, достал, по старой цене еще… Смородину обобрали уже? Ну что, хватило на варенье? Да привезу я тебе сахара, сказал! Завтра же… А с огурцами ты…»
Белогуров, крепко сжимая в руках футляр, поднялся по ступенькам. Интересно, неужели у Петра и семья есть? И когда успевает — ведь он при Феликсе круглосуточно, как верная нянька…
— Он вас ждет в кабинете отца, — Петр прикрыл трубку ладонью. — Вам помочь, Иван Григорьевич? — Нет. Я сам. Спасибо. Не стоит беспокоиться. Варенье, значит, дома варите?
— Мать тревожится — цены на сахар, старуха ж… С дачи ягод привезла. У нас садовый участок под Дубной, смородины красной в этом году — гибель…
Гибель… Это словечко Белогуров повторял про себя, когда, облегчившись, мыл руки в туалете, тупо глядя на свое отражение в большом зеркале. Почему гибель? Он же должен был сказать «много».
Словечко сверлило мозг. Хотелось отмахнуться от него, как от назойливой мухи. Белогуров молча наблюдал, как Феликс (с их последней встречи он еще больше похудел и осунулся), вертя руками колеса своей тележки, кружил вокруг стола, в центре которого на резной полированной подставке была тсантса. Белогуров, несмотря ни на что, испытывал облегчение: вот и все. Все кончилось. Сейчас он отдаст мне деньги, я уйду из его дома — и все. И больше мы никогда, никогда…
— Очень красивый. И заметь — черты, хотя они значительно уменьшились, совсем не исказились, не деформировались. — Феликс снизу заглянул в лицо Белогурова. — Это был, наверное, славный воин, вождь какого-нибудь племени с островов?
— Это был китаец. Табаяки сообщает, что это был некогда бедный китайский коммивояжер. Эта вещь не такая уж и старая, Феликс. — Белогуров (это пьянящее чувство, что, мол, ВСЕ, я навеки расстаюсь со всем этим кошмаром, — словно прибавляло ему уверенности) выпрямился. — Примерно двадцать пятый — тридцатый годы, ретро, одним словом.
— Меня не волнует их возраст. Какая разница, сколько лет этим вещам? Они могли быть изготовлены и вчера, — Феликс все заглядывал в лицо Белогурову. Он подъехал к сейфу, укрепленному в тайнике за книжным шкафом, и достал оттуда сверток, упакованный в самую обычную газету — кажется, в «Экстра-М». — Вот, держи. Как мы и договаривались.
Белогуров не унизился до того, чтобы пересчитать. Положил деньги в свой портфель. Наступила пауза. Он уже было хотел сослаться на неотложное дело и откланяться (оставаться в этом доме, где этот «сумасшедший безногий ублюдок» как зачарованный любуется тем, во что превратился любимый Салтычихин телохран, — было выше его сил), но… Феликс вдруг нарушил молчание:
— Я скоро уеду. Ложусь в клинику. Опять будут пытаться прилепить к моим бедным сопелкам греко-римский профиль. Откуда на этот раз кожу будут брать? На ляжках и на заднице у меня уже живого места не осталось… Я вернусь, если все, конечно, пройдет удачно, к Новому году, годовщине смерти родителей и сестры. И знаешь, о чем я подумал? После всего того больничного ада я бы хотел сам себе сделать Маленький подарок. Подсластить существование, так сказать, заиметь стимул…
— Какой подарок? — хрипло спросил Белогуров. Михайленко вернулся к столу.
— Чудесная вещь. В ней чувствуется скрытая сила. Ведь это амулет, да? Против кого его употребляли? Злых духов, демонов? Странные жестокие языческие боги Востока… Знаешь, я тут вычитал у Либания любопытнейшую мысль. Он считал, что «жестокость не присуща людям от рождения. Это вынужденная мера: люди просто страшатся перемен в жизни и стараются избежать их любой ценой».
— Какой подарок, Феликс? — повторил Белогуров. Господи, я же поклялся жизнью своей, счастьем своим — никогда больше…
— Знаешь, я читал — существуют белые тсантсы. Редчайшие из редких. Из головы европейцев: миссионеров, моряков, искателей жемчуга, просто бродяг…
— Но это же…
— За такую, если только она попадет ко мне, я заплачу полмиллиона.
Либаний — греческий писатель и ритор V века н.э. — Но это невозможно… Невозможно это!! Я.., я не знаю даже, как уведомить о таком заказе Табаяки, это же…
— Я повторяю, Иван: меня абсолютно не интересует возраст изделия. Мне все равно, когда ее изготовили. — Феликс тронул Белогурова за руку, и тот едва не отдернул ее. — Это не суть важно.
И Белогуров наткнулся на его взгляд: умные блестящие голубые глаза под воспаленными красными веками без ресниц. Всезнающие глаза старика, а не двадцатишестилетнего мальчишки-извращенца.
— Я не знаю, я не могу, не могу этого, Феликс, я… Михайленко снова молча подъехал к сейфу.
— Я уезжаю надолго. А у тебя будут расходы: намекни Табаяки, что если белой тсантсы нет — ее ведь можно.., изготовить по специальному заказу… — Он извлек из сейфа еще один сверток в газете. — Здесь двести тысяч задатка. Остальное получишь, когда вещь будет у меня. Ну же, бери! Мне трудно и держать, и закрывать!
Это было сказано так просто, так по-детски капризно, что Белогуров.., подскочил и взял сверток с деньгами. В голове его все перемешалось.
— У меня только одно условие, — продолжил Михайленко.
— Какое? — Белогуров больше не узнавал своего голоса.
— Эта белая тсантса должна быть блондином. Так и сообщи своему Табаяки.
Что-то было в этой последней фразе такое… Однако Белогуров гнал от себя эту мысль — догадался не догадался. У него больше не было сил бороться, противостоять (чему, Господи!). Внутри снова росла, пухла, пучилась, заполняя собой все, Вата — и не оставляла уже места ни мыслям, ни страху в сердце, ни воле в душе — ничему.
Белогуров пришел в себя уже за рулем, когда Петр закрывал за ним ворота. Рядом на переднем сиденье лежал щегольской кожаный портфель. А в нем деньги. Белогуров почувствовал, как по его щекам катятся слезы — жалкий пьянчуга, это пьяные слезы, хотя ты и не пил сегодня еще ни капли… Но еще не вечер, как говорится. И бар дома в Гранатовом забит до отказа.
Белогуров нажал на педаль газа. А хорошо бы и вправду попасть в аварию (как он врал некогда Якину). Расплющиться бы в лепешку о тот бензовоз, что дымит выхлопной трубой впереди и… Пошли они все, ублюдки, которых я ненавижу, ненави…
А дома Егор Дивиторский, словно стервятник, уже караулил его. Они заперлись в кабинете. Егор вывалил на стол из портфеля лачки «зеленых», лихорадочно начал пересчитывать и.., недоуменно уставился на компаньона.
Белогуров суетливо шарил по ящикам стола — где-то тут была у него бутылка коньяка. Проклятие, нет. Надо переться в гостиную, в бар… Он встретился взглядом с Дивиторским. У него был еще шанс, он чувствовал: последний дарованный ему шанс — не говорить Егору, за что Феликс уплатил им эти новые двести кусков. Запихнуть их обратно в портфель, вернуться в тот дом под медной крышей и… Господи, я же поклялся — больше никогда!
Клятвы наши… Что они стоят? Егор слушал, а Белогуров говорил, говорил — уже не мог остановиться. Егор слушал. И по лицу его пробегали тени. За окном кабинета, закрытым решетчатыми ставнями, рос тополь — единственный уцелевший в Гранатовом переулке после урагана. Это он сейчас шумел листвой, волнуясь под летним ветром, сея тени, солнечные пятна и снова тени…
Они долго молчали. Потом Белогуров спросил:
— А кого это принесло сюда, когда я отъехал? Ты их застал?
— Клиенты, — Егор думал о чем-то сосредоточенно и напряженно. — Так, парочка молодых идиотов. Из «новых» вроде. Сами не знают, чего хотят. Насчет их платежеспособности я тоже сомневаюсь. Но вроде положили глаз на тот альбом Григорьева с парижскими рисунками, что у нас в «особой картотеке». Обещали, если надумают, позвонить. Пари держу — и след их давно уж простыл. Парень какой-то, по-моему, безмозглый вышибала — просто перед девчонкой или новобрачной своей выпендривался: мол, глянь, дорогуша, какой я богатый и стильный. А уехали — и финита. Это не настоящие клиенты, просто трепачи. Я это сразу усек. Да теперь уж все равно, а?.. Ты куда это?
— Мне надо выпить, — Белогуров (он не слушал «про клиентов») поднялся, — Лекс где?
— Они с Женькой телевизор смотрят. Там фильм старый с Софи Лорен, — Егор тоже поднялся, — Ты когда Салтычихе насчет наших новых условий позвонишь? Сейчас или завтра?
— А я ему должен сам позвонить?
— Ты разве забыл, о чем мы с тобой сегодня утром говорили?
— Мне нужно выпить, — упрямо повторил Белогуров, отстранил Дивиторского и направился в гостиную, где работал телевизор.
Леке уже успела перекочевать на кухню — фильм только что закончился. Женька, позевывая, переключал кнопки пульта. Попал на шестой канал, где как раз передавали сводку криминальных происшествий по Москве. На экране мелькали какие-то люди, милицейские машины. Белогуров открыл бар, достал бутылку, потянулся за бокалом и.., замер.
С экрана диктор рассказывал об убийстве, происшедшем ночью в районе станции метро «Выхино». Неподалеку была обнаружена машина «Форд». А в ней изрещеченный автоматной очередью… Белогуров не отрываясь смотрел на убитого, которого камера сняла крупным планом. Сзади подошел Егор — Белогуров слышал его дыхание.
Одна из пуль попала сидящему в «Форде» в горло. Грудь — белый щегольской свитер — была залита кровью. Человек все еще судорожно цеплялся за грудь одной рукой. Камера наехала ближе и… Эти черные, залакированные гелем волосы, стильные косые височки «под Бандераса», эта бархатная родинка — мушка на щеке… Лицо, хоть и искаженное судорогой боли, было узнаваемо.
— Шурка… Пришелец… — Егор стремительно наклонился к телевизору. Но на экране уже сменился кадр. Снова замелькали милицейские машины, люди в форме. — Это же.., это Марсиянов… — Он произнес это так жалко, так растерянно…
И тут зазвонил телефон. Белогуров секунду колебался, как поступить — хлопнуть залпом коньяк или же сначала взять трубку. Наконец взял. Не слыша голоса, он почему-то сразу догадался, кто это звонил.
Егор, впрочем, догадался тоже. Слушал односложные покорные ответы Белогурова: «Да, да, дядя Вась, конечно», «я понимаю», «жаль», «все помню — исполню», «когда и куда подъехать — подвезти?»
Дивиторский (куда только делась его злость, его решимость, его жадность, наконец, он и сам теперь не знал) смотрел на погасший экран (насторожившийся Чучельник выключил телевизор). Белогуров наконец дал отбой. Швырнул трубку на кресло. Поставил бутылку коньяка обратно в бар. Аккуратно запер дверцу. Он все еще слышал тихое, печальное резюме Салтычихи: «Подлости не терплю я в людях, Вано. И неблагодарности. Черна как ночь душа людская. А на первый-то взгляд,..».
— Зачем он звонил? — Егор наконец справился с собой. — За что он расправился с Шуркой?!
Белогуров кивнул на дверь: еще не хватало, чтобы Лекс услыхала.
— Он мне этого не доложил, Егор. А потом.., ты же сам рассчитывал, что он Пекина Марсиянову не простит..
— Ублюдок! Скотина! А мы.., что он теперь хочет от нас?!
— Он уезжает.., отдыхать. Месяца на три в Грецию вроде. — Белогуров говорил теперь спокойно, даже безучастно. Все улеглось. Все встало на свои места. И все равно уже ничего нельзя изменять. Нужно лишь подчиняться. — Самолет улетает в 23.15 из Шереметьева.
— Что он от нас-то хочет?!
— Он напоминает, что мы.., что я ему дорог, Егор. И предупреждает: подлость, коварство и неблагодарность в близких людях ему одинаковы противны. Он этого не потерпит никогда. Будет карать беспощадно.
— Но ты ему сказал — привезу. Что?
— Деньги. Я привезу ему деньги в счет оплаты нашего долга. Семьдесят пять тысяч. Прямо сейчас и поеду. Он ждет.
Егор остервенело грохнул кулаком в стену. Встревоженный Женька спрыгнул с дивана, подошел. Хотел обнять брата за, плечи. Но тот грубо отпихнул его:
— Ты еще лезешь.., идиот проклятый! Белогуров закрыл глаза. Это было исполнение его единственного желания: глаза бы мои вас всех не видели.
— Я еду с тобой! — Егор рванулся было к двери.
— Ты со мной не поедешь. Ты займешься «Жигулями» — жестко оборвал его Белогуров. И правда: БАСТА. Пора со всем этим кончать. Он клянется, плачет, превращается в форменную бабу-истеричку. Пора ставить жирный крест на всех этих переживаниях и нервах. Пора брать себя в руки. Все равно уже. Все равно ничего изменить невозможно.
— Ты ликвидируешь машину, Егор. Бензина в баке достаточно?
Пауза. Нет ответа.
— Я спрашиваю: бензина достаточно?
— Да!
— Тогда я поехал. Вернусь — обменяемся впечатлениями. И не волнуйся за меня. — Белогуров жалко улыбнулся. — Как-нибудь доберусь. Я же не пил. Не успел…
20
ТУПИК
За окном шумел ливень. Такие случаются лишь в июле, в самом зените лета. Катя бездумно смотрела в окно — родной Никитский переулок почти совсем затопило. От здания телеграфа до Зоологического музея плескалась не лужа даже, а целое море. Проезжающие машины рассекали его, словно лодки. А несчастные пешеходы под зонтами…
Катя наблюдала, как два промокших до нитки «белых воротничка» из соседствующего с главком учреждения пытались пересечь лужу вброд. Одному, видно, до слез было жаль брюк и новых ботинок. Другой же с досадой плюнул, смело плюхнулся в лужу и свирепо зашагал по ней к противоположному тротуару: вода захлестывала ему выше щиколоток.
Катя не любила дождь. Летом он катастрофически портил ей настроение, осенью вызывал тоску и черную меланхолию, а весной будил ненужные воспоминания и мысли о том, что уже было, прошло и больше никогда не будет. Сегодняшнее же унылое Катино настроение овладело ею не только из-за ливня. Апатия возникла больше из-за того, что, несмотря на огромное количество накопившихся на службе дел, все они казались ненужными, во всяком случае, не главными. А самым главным было как раз то дело, результаты которого совершенно не зависели от Катиной инициативы.
Катя не могла лукавить сама с собой: вот уже несколько дней она снова не может думать ни о чем, кроме как о «деле обезглавленных». Точнее, о той вроде бы совершенно безнадежной атмосфере, которая вокруг него складывается. «Дело зашло в тупик. Несмотря на то, что все меры к розыску вроде бы приняты, ничего нового, ничего важного и существенного пока нет. И пройдет еще немало месяцев, прежде чем… Ну, в общем, неизвестно, будет ли вообще во всей этой истории конец. Мы работаем, но…» — так не далее как вчера раздосадованно, однако честно ответили на Катины расспросы в оперативном штабе, созданном для раскрытия этой серии убийств. О, она прекрасно знала, что такое для сыщиков вот так, сквозь зубы, признаваться в своей явной профессиональной неудаче! Горше смерти — вот что это такое. А что поделаешь?
Она прикинула: с момента обнаружения первых обезглавленных жертв прошло более четырех с половиной месяцев. Это она теперь знала точно. А воз и ныне — где? Эх, знать бы только, где он, этот воз, этот груз, этот камень стопудовый, этот жернов нераскрытого висяка! «Что ж, и Головкина-Удава ловили шесть лет, — утешали ее оптимисты. — И не Боги горшки у нас обжигают. Так что…»
Да, не все преступления раскрываются быстро и сразу. Да, не все преступления раскрываются не быстро и не сразу. А есть и преступления, которые не раскрываются вообще по разным причинам. Катя и это знала. Кстати, это был ее один из любимых вопросов в беседах-интервью с сотрудниками розыска: «А как вы считаете, любое ли преступление можно раскрыть?» Профи отвечали честно. А она потом облекала их лаконичный ответ в красивые газетные фразы, приплетая и «адское терпение», и «оперативную интуицию», и «напряженный бессонный труд», и «ежечасный риск», и «профессиональное мастерство».
Но вот — реальное дело. Сложнейшее. Страшное. Унесшее жизни нескольких людей. И все в этом деле вроде есть: и терпение, и напряженный труд, и профессиональное мастерство десятков ее коллег. А результата нет.
На ее любимый вопрос сыщики честно отвечали: если повезет. Да, если повезет, дело будет раскрыто. И Катя, наверное, только сейчас начала понимать, что же подразумевали они в этом своем ответе…
Не далее как вчера она ходила (в который уж раз) в розыск за новостями. Их не было. По старой памяти заглянула к Андрею Воронову. Тот не первую уже неделю сидел на поисковой программе розыска светлых «Жигулей» — сроднился и сросся со своим компьютером. Сколько вариантов из банка данных было перебрано, проверено, отброшено! Катя вручила Воронову и свой листок с номером той светлой развалюхи первой модели из Гранатового переулка. Опять же это был чисто машинальный поступок: раз попалась такая на глаза — надо проверить. Пусть еще одна тачка отпадет как отработанный материал. «Ищи по фамилии предполагаемых владельцев — это либо Белогуров, либо Дивиторский», — сказала она Воронову, принявшему листок с номером без всякого энтузиазма. Ей вспомнилось, что там был еще и этот кудрявый мальчишка Женька, фамилии она его не знает. Может быть, это его машина все-таки? Воронов заверил ее, что будет проверять по номеру — так проще, чем по фамилии предполагаемого владельца.
«У этого типа Белогурова, что так помог вам с иконами, тоже, оказывается светлые старые „Жигули“ — его или его сотрудников», — вяло сообщила Катя Воронову. "Ты лучше покажи мне в Москве такого человека, у которого нет светлых «Жигулей», — буркнул Воронов. От всех проверок у него уже плавились мозги, и шутки его были туповатыми. «У меня нет, — ответила в тон ему Катя, — но ты и меня, Андрюша, проверь на всякий пожарный».
А затем она (опять же чисто машинально, для порядка) наведалась к Колосову. Странное дело — начальник отдела убийств сидел за своим рабочим столом, с головой погрузившись в какие-то бумаги. Катя молча уселась на свой любимый стул в углу кабинета. А что спрашивать? И по лицу Никиты всё ясно. «Дело обезглавленных» он целиком замкнул на себя, возглавил опергруппу и теперь головой, как это ни жутковато звучало в данной ситуации, отвечал за его раскрытие. Сейчас, сидя у себя в пресс-центре, наблюдая за потоками дождя, струящимися по стеклу, Катя уныло вспоминала одну их беседу с начальником отдела убийств. Первым нарушил молчание тогда Никита. Закрыл какую-то папку, швырнул ее в стол, запер ящик на ключ. И вдруг спросил:
— Катя, а ты веришь в… Нет, я не то точу спросить — как ты относишься к утверждению о том, что, мол, всем за все когда-нибудь все равно воздастся, даже если здесь… — Колосов вздохнул. — Нет, опять не то, путаница какая-то у меня, да? Я тут с попом одним на днях встречался. Настоятель церкви в Стаханове — мы туда иконы возвращали. Занятный парень этот поп. Наш ровесник, а вроде верит.
— Во что верит? — спросила Катя.
— Да не знаю. В суд некий высший, что ли… В воздаяние. Что, мол, рано или поздно все свое все равно получат. И мы и они.
— Кто? — снова спросила Катя, хотя знала ответ. Колосов понял, что она знает.
— Тогда по его, по-церковному, получается, — продолжал он, — что даже если мы их не найдем, то все равно рано или поздно… — Он сжал кулак. — Но тогда получается, что.., вроде бы и не нужно искать? Все равно ведь — получат и…
— Твой вывод неверен.
— Да я знаю, что неверен.
— Я ничего не могу ответить тебе про этот высший суд. Если честно, я не задумывалась над этим. И от тебя тем более я такого вопроса не ожидала, потому что… — Катя запнулась на секунду. — Ты, кажется, становишься мистиком, как Мещерский. Тот тоже верит, но не в воздаяние, а в некое предопределение, что ли… Только объясняет он его особенностями времени, в котором мы живем, — конец века и тысячелетия. Он считает, что мы мало задумываемся, мало размышляем над этим важнейшим событием будущего…
— Человек, Катерина Сергеевна, убивал себе подобных не только в конце второго тысячелетия, но и в его начале. И в начале первого, и пятого, и десятого.
— Сережка считает, что сейчас все особенно обострено.
— Что обострено? Катя неопределенно пожала плечами.
— Все. В нас — внутри и вовне. Жизнь. Все ее противоречия, все ее единство. Но я не умею на такие темы говорить. Очень туманно… Никита, так значит.., это дело так и не раскроют? Ты считаешь, что — все? Все напрасно?
— Я тебе так сказал?
— Нет. Но я так тебя поняла.
— Ты всегда понимаешь с полунамека. — Колосов криво усмехнулся.
— Так да или нет?
— Я не знаю, Катя.
Колосов облокотился на стол. Взгляд его скользил по лицу Кати.
— Хочешь кофе с коньяком?
Катя хотела сказать ему нечто вроде, «что так нельзя, надо надеяться, сам же твердил — самое последнее дело опускать руки, когда что-то не ладится, нужно терпеливо проверять все версии и…». Но тут ей вдруг пришло в голову: Никита ни разу еще не обмолвился ей ни об одной из выдвинутых по этому проклятому делу версий. Почему? Не потому ли, что их у него либо еще, либо уже нет?
— Не хочу я твоего кофе, — только и ответила она. И с чисто женской логикой добавила:
— И вообще, мне это твое похоронное настроение не нравится.
Колосов выпрямился.
— Итак, даю официальный комментарий для прессы. Ну-ка, раскрывайте свой блокнотик и включите диктофончик, диктофончик, пожалуйста, поближе. Итак, нами принимаются все меры оперативно-розыскного характера для скорейшего задержания преступников. Проводится целый комплекс мероприятий, о деталях которых я не буду распространяться, дабы не повредить интересам следствия. Но спешу заверить, что убийцы в самое ближайшее время предстанут перед судом.
Катя вздохнула — мужчины! Похожи становятся на ежа, если их гладишь против шерсти. Или у ежей нет шерсти? Одни иглы-колючки?
— Возьми с полки пирожок за свои поисковые мероприятия, — она поднялась и шагнула к двери.
— Обиделась, да? — Никита тоже встал.
— Ты по-дурацки себя ведешь. И для такой грозной фигуры, как начальник отдела убийств, — Катя фыркнула, — это даже несолидно.
— Ты с Сережкой об этом деле говорила? Она удивленно обернулась с порога.
— Да. А что?
— И что он.., что он думает по этому поводу? — Никита указал глазами на стул, словно предлагая продолжить эту странную беседу.
— Он по моей просьбе посмотрел копии заключений судебно-медицинской экспертизы. — Катя коротко рассказала о том, на что Мещерский там обратил внимание. — А сейчас он вообще пропал, не звонит. По вечерам после работы в Ленинке сидит, в своей институтской библиотеке — у него пропуск в родную его Лумумбу сохранился. Что-то читает, выискивает. Но со мной пока ничем не делится. Хочешь, сам с ним об этом поговори.
Никита кивнул рассеянно. В его глазах снова появилось отсутствующее выражение.
Сейчас, вспоминая весь этот их вчерашний разговор, Катя одновременно и опечалилась, и разозлилась. Раз уж в зорком, все видящем и все замечающем взгляде нашего Гениального Сыщика мелькает это самое «ах оставьте вы все меня в покое», — хорошего не жди. Она провела ладонью по холодному влажному стеклу. Господи, но неужели это дело действительно так и не раскроют? Четыре человека погибли такой страшной смертью (а кто сказал, что жертв именно столько; а не больше? Ведь это пока только четыре трупа найдено, а остальные, возможно…), а их убийцы до сих пор на свободе. Господи, как же ты такое допускаешь? Ну что тебе стоит, ты же всемогущий! Помоги Никите, помоги им всем. Сам же говорил: уныние — великий грех, и отчаяние тоже; А у Никиты вон уже руки опускаются. И.., я тоже уже почта не надеюсь наудачу. Господи, ну что тебе стоит? Сделай же что-нибудь!
За окном шумел ливень. Все никак не кончался. Катя нехотя пододвинула к себе телефон — надо работать, дела не ждут. А чудес.., чудес на свете все равно не дождешься.
На исходе рабочего дня она решила позвонить Воронову. Успел ли он проверить ту машину из Гранатового? Раз сама напросилась, озадачила его — надо хотя бы поинтересоваться, как и что. Воронов, как известили его коллеги, разговаривал по другому телефону с районом. Катя потихоньку начала собираться домой, решила, что заглянет к Андрею по пути вниз, в вестибюль. Снова посмотрела на ливень — Как по закону подлости, когда вы забываете дома зонт, на улице — потоп.
Когда она заглянула, в кабинет «по пути», Воронов уже освободился.
— Ну, как наши дела? — спросила она. — Что-нибудь узнал?
— Ты насчет машины? — Воронов зевнул. — Проверил я эту тачку по номеру, так вот. — Он пошарил на столе и извлек измятый листок. — Нет среди ее владельцев людей с такими фамилиями.
— То есть?
— Ну ты мне вот тут фамилии записала: Белогуров И.Г., Егор-Георгий, значит, Дивиторский. А таких владельцев у этой машины — «Жигули» первой модели выпуска тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, госномер, так..; Одним словом, нет таких людей. И не было никогда.
— Значит, имя владельца Евгений, а фамилия… —Катя вопросительно смотрела на Воронова, припоминая кудрявого купидона.
— Да нет же. Владелец Панкратов Андрей — тезка мой — Львович. Туг и адрес его указан в банке данных — житель Мытищ. Я все проверил: машину он приобрел в 1991 году, рухлядь, в общем. А прежним ее владельцем значился некто Савченко Павел Ермолаевич, житель Москвы, пенсионер, проживает по адресу…
— Андрюша, но я.., видела этих владельцев, не этого вашего Белогурова, правда, но второго…
— Ты документы на машину видела? Правда на их имя?
— Нет. Просто «Жигули» эти стояли возле дома.
— Я и по указанным фамилиям проверил, не поленился. Никаких «Жигулей» первой модели у гражданина Белогурова и Дивиторского сроду не водилось. У одного сейчас «Хонда», госномер, так… — Воронов играл на клавиатуре, как на рояле. — А у второго тоже иномарка — «Форд». Обе новые. Новехонькие.
— Но я видела эту старую «копейку» своими глазами!
— Ну, мало ли машин стоит у чьего-то дома, — Воронов пожал плечами. — Я проверю настоящего владельца, этого Панкратова из Мытищ. Сделаю исключение. До буквы "Л" я в своих выборках еще не добрался.
Больше он ничего Кате не сообщил и никак ее не обнадежил, а лишь озадачил. Катя недоумевала: как странно… Тот паренек из галереи так по-хозяйски драил ту развалюшку, что она решила — их это машина, его иди же… А выходит… Правда, и ей тогда показалось невероятным, чтобы у такого барина московского, как этот антиквар, или у такого стиляги, как этот Егор Прекрасный, была такая дохлая непрезентабельная тачка…
Катя спустилась вниз, миновала вестибюль, проходную. Открыла тяжелую дубовую дверь, готовясь уже подставлять свою бедную неразумную голову под хляби небесные, но… Как восклицали классики в романах — ах! Над родным Никитским переулком сияло чистейшее голубое небо. Солнце плавилось в отмытых ливнем стеклах зданий. Дождь прекратился, И лишь мокрые тротуары, гигантская лужа на проезжей части да капель с крыш напоминали о том, что он все-таки был наяву, а не приснился.
К Тверской было просто не добраться из-за разлива, Катя бодренько направилась «в горку» вверх по Никитской. На бульваре можно сесть в автобус, доехать до Парка культуры; а там до родимой Фрунзенской набережной рукой подать. Но вместо заветного «пятачка» пришел троллейбус под номером «пятнадцать». Катя колебалась только секунду, затем запрыгнула в него. На часах всего половина седьмого. Кравченко сегодня работает допоздна при своем Чугунове, который после питерского больничного заточения «поправляет здоровье» (а по правде говоря, отрывается) на даче в Раздорах. Кравченко говорил, что отчаявшаяся жена Чугунова (после трех неудачных женитьб и разводов он снова вернулся к своей прежней подруге жизни) привезет сегодня на дачу эстрасенса-гипнотизера, чтобы попытаться закодировать Чугунова от беспробудного пьянства. Печально все это. И Вадька, хоть порой и клянет на чем свет свое забубённое Чучело, втайне за старика переживает. Ему Чугунова жаль, хотя он и называет его самодуром и конченым человеком.
Дома, куда Кате так не хочется возвращаться в одиночестве, правда, и без «драгоценного В.А.» полно дел. Но после дождя так легко дышится… Троллейбус завернул не на Волхонку, куда, собственно, и нужно было Кате, чтобы приблизиться хоть немного к дому и стерегущим там делам по хозяйству, а в совершенно противоположную сторону. Катя вышла у Музея частных собраний. Что ж, воспользуемся случаем. В вестибюле музея отличный книжный киоск — Катя и прежде частенько сюда заглядывала.
Но на этот раз она не ограничилась покупкой книг, а купила еще и билет на выставку «Живопись XX века — из частных коллекций». Несмотря на то что до закрытия музея оставалось совсем немного времени, посетители не убывали. Катя переходила из зала в зал. Надолго задержалась лишь перед портретом актрисы Алисы Коонен кисти Якулова. Из соседнего зала донеслись приглушенные звуки рояля, кто-то настраивал виолончель. Часть посетителей уже перекочевала туда. Чинно рассаживались на стулья и бархатные скамейки, тихо переговаривались. В этом музее часто устраивались литературно-музыкальные вечера. И Катя как раз и попала на такой.
Исполняли Стравинского, Скрябина, Шуберта. А затем к роялю вышла старая актриса в поношенном, но все еще элегантном вечернем платье. Обвела скудную аудиторию взглядом и остановила его на Кате, колебавшейся в дверях, — уйти или остаться.
Актриса хрипло и печально начала читать стихотворение Зинаиды Гиппиус. Немножко завывала, декламируя, немножко запиналась и держала многозначительные паузы. А в самых патетических моментах ее голос, слабый, старческий, но одновременно звучный и проникновенный, предательски дрожал: «Мы, исполняя волю строгую, как тени тихо, без следа, неумолимою дорогою идем неведомо куда. Без ропота, без удивления мы делаем, что хочет Бог… Он создал нас без вдохновения. И полюбить, создав, не мог…» Катя — ей все казалось, эта старая актриса выбрала ее в качестве «инструмента для настройки», — задумчиво и поощрительно качала в такт стихам головой. Да, да, да. Конечно, конечно — и «полюбить, создав, не мог»… А в это же самое время откуда-то из тайников памяти ей лезла в голову строчка одной дурацкой частушки, услышанная Бог знает когда и где: «За каждым деревом маньяки. Под каждым стулом — людоед. Такое только в Нагасаки. У нас в Москве такого нет!» Катя тряхнула головой. Какие ещё там Нагасаки? Что за какофония в мыслях у тебя, дорогуша? Вообще, о чем ты думаешь? Актриса у рояля возвысила голос:
«Мы падаем, толпа бессильная, бессильно веря в чудеса. А сверху, как плита могильная, слепые давят небеса».
Слепые небеса… Катя закрыла глаза на секунду вот что это, наверное, значит — темнота и тишина. И тут вдруг подумала совершенно неожиданно для себя: какой странный человек. Она не назвала себе его фамилию. Она не помнила его лица. Но сейчас внезапно все увиденное, услышанное ею за последние дни, часы и недели, вдруг словно по мановению волшебной палочки сложилось для нее в единый яркий образ. Словно краски легли одна к одной, как на той картине. Совершенно разные краски, порой не сочетающиеся друг с другом, но вместе с тем в совокупности своей создающие странную, запоминающуюся, интригующую палитру: портрет Алисы Коонен, полотна Бенуа и Григорьева, увиденные в галерее, тот особняк с решетками на окнах в Гранатовом переулке, сломанные бурей тополя, эта вот виолончель, что снова зазвучала в зале, та девочка с косой царевны, одетая слишком дорого и модно для своих лет, старая, с пятнами коррозии, машина и парень, что протирал ветошью ее лобовое стекло… И все это вместе, в целом, вращаясь, меняясь местами, перетекая одно в другое, словно бы создавало портрет… Какой странный человек этот Белогуров… Катя не могла объяснить себе, отчего она внезапно и так остро, так отчетливо начала воспринимать владельца «Галереи Четырех», лица которого так и не могла вспомнить, как ни старалась, через совокупность этих совершенно вроде бы разнородных, мало связанных друг с другом элементов. И все же так и не понятно — отчего он помог нам? Фактически сдал того иконокрада, того невезучего Кешу Могилу. (Катя вспомнила свою встречу с ним.) А ведь мог по дешевке приобрести ценнейшие иконы, потом выгодно сбыть их, нажиться, сделать деньги. А он же предпочел.,. Что заставило его так поступить? И потом, это же их машина. Что бы я себе ни говорила, как бы ни сомневалась — я же видела ее своими глазами. Она стояла у их дома, и этот парень Женька обращался с ней по-хозяйски, как с собственностью. При чем там какой-то другой владелец в вороновском компьютере? Я же видела машину. Я же даже ее номер записала…
Катя не дослушала программу до конца. Спустилась в вестибюль к книжному киоску. Он уже закрывался. Закрывался и музейный бар, откуда пахло хорошим кофе и чем-то еще, гораздо более крепким и терпким. Оттуда, из бара, вышли, покачиваясь (их самую малость штормило), два субъекта с модными бородками клинышком, облаченные с ног до головы в стильное черное, точно два ворона. Один обнял второго за плечи, явно помогая «не качать землю»…
— Старик, ты не прав. Для Дали Гитлер ассоциировался в первую очередь не с идеей сверхчеловека, а просто-напросто с рыхлой обрюзгшей женской спиной, в которую, словно бретелька лифчика, врезался ремень его портупеи. Это же гениально, ты только вдумайся в такую аллюзию! — Один из бородатых был явно в интеллектуальном ударе, и его не волновало, что ни приятель его, ни посетители музея его не слушают. — Дали потом назвал эту работу «Загадка фюрера». Если б не неудачное стечение обстоятельств, его бы озолотила эта картина, по сути своей пародия. Он вообще все свои параноидальные фантазии умел превращать в деньги. Его девиз был знаешь какой? «Жажду долларов»! Ему даже прозвище дали «Деньголюб». Ярчайший пример, когда мыслящий человек, по духу своему бунтарь, становится рабом презренного металла…
Бородачи выкатились на улицу. Катя так и не узнала их окончательного мнения о великом Дали. Она вздохнула — обрывок чужой беседы — словно семь нот случайно подслушанной неведомой мелодии. И ведь есть же люди. Хоть и под мухой, но ведь темы какие обсуждают! А тут о чем приходиться думать? Даже зависть берет. Как классик сказал? «Ведь есть другая жизнь…»
Она ощущала какое-то смутное беспокойство. Без каких-то видимых причин оно все росло, усиливалось, не давало покоя. Что же это? Отчего она не может обозначить для себя ясно суть этой сосущей душу тревоги? Что-то должно произойти? Что-то важное для нас?
Вспомнился разочарованный, униженный неудачей Никита. Ей было его жаль. Она бы очень хотела ему помочь, но как? А тревога в душе все росла и росла. И это несмотря на то, что закат над Москвой-рекой был хорош как никогда. Все предвещало ясные летние дни. А от ливня осталось лишь воспоминание.
21
МОСКОВСКИЕ ДЕЛА
Странная штука — жизнь. Полосатая, как морская тельняшка: полоска светлая, полоска темная. Ночью — ливень, утром — солнце, то удача, то неудача, победа — поражение, печаль — радость, надежда — апатия — и снова надежда, а потом…
Вроде бы ничего не предвещало, что в деле гиблом, бесперспективном, глухом, как говорят в розыске, наступит перелом. Но такова уж оперативная работа. Падаешь, разбиваешься в кровь там, где не успел подложить соломы. А потом попадаешь в яблочко, даже не целясь в мишень.
«Дело обезглавленных», четыре с половиной долгих месяца бывшее «глухим висяком», неожиданно для опергруппы начало набирать обороты. Хотя поначалу «вновь открывшиеся факты» трудно даже было связать с серией ранее совершенных чудовищных убийств и обезглавливаний.
Для Колосова все началось с того, что их запланированный обмен информацией с Николаем Свидерко не состоялся. Коллегу срочно перебросили на раскрытие совершенного в Москве убийства, явно отдававшего разборочным душком.
Колосов читал об этом случае в столичной сводке происшествий, а потом видел сюжет в телепередаче «Криминальные новости дня». На первый взгляд ничего необычного в этом происшествии не было, В иномарке обнаружился труп прошитого автоматной очередью неизвестного молодца, в кармане куртки которого при осмотре места убийства сыщиками с Петровки был обнаружен пистолет «ТТ», безномерной, бывший в употреблении, не проходивший ранее ни по одной спецкартотеке огнестрельного оружия. Колосов просмотрел репортаж с места события и собирался тут же о нем забыть. Мало, что ли, по Москве убийств, в самом деле, как вдруг…
Свидерко явился в девятом часу вечера, когда Колосов уже собирался домой. Ввалился в кабинет — простуженный, хриплый, но до крайности энергичный, шумный и деятельный. Жизнь так и била в нем через край. Такой профессиональной окрыленности и розыскному «зуду» хмурый Колосов аж позавидовал. У Коли Свидерко, несмотря на все его многочисленные недостатки, имелась одна бесценная оперативная черта: как бы хреново ему ни приходилось, он никогда не терял присутствия духа.
— Никита, здорово! Коньяк в заначке есть? — с ходу брякнул Свидерко. — Доставай наливай. Я жрать хочу, как мамонт: сутки без обеда, это каково, а?
Никита усмехнулся: это тоже особенность Колькиной натуры — если он голоден, то вечно хочет пить.
— И что же мы празднуем? — осведомился он, разливая по чайным чашкам остатки извлеченного из сейфа дагестанского коньяка.
— Это еще не праздник, не юбилей, коллега, но кой-какой сюрпризик все же наклевывается. — Свидерко залпом хлопнул свои «сто пятьдесят гостевых», крякнул блаженно. — Хорошо пошел, собака! Сейчас бы еще борща, а? И котлетой зажевать.
— Ужинать пора, — Колосов извлек из шкафа скудный «сухой паек» — пачку соленых крекеров и пакет сушек с маком. — Чем богаты. Похрусти. Ну и, Коля? Что наклевывается? Ты крупно интригуешь.
— Знаешь, откуда я? — Свидерко хищно заграбастал горсть печений и захрустел.
— Догадываюсь. Я тебя через дежурку искал. Они сказали, где ты и с кем ты.
— Значит, вот какой расклад, Никита. Про убитого в «Форде» знаешь? Личность его мы почти сразу же установили — по дактопоиску крутанули, ну и… Пальчики его в нашей картотеке имеются уже. Это некто Александр Марсиянов, кличка среди своих — Пришелец. В 1993 году осужден Краснопресненским судом города Москвы к трем годам лишения свободы за грабеж и хулиганские действия. Я его потом и по ИЦ прокрутил. Хулиганская группа была, кому в дискотеке морду почистили, у кого-то часы с руки рванули, ну и все в этом духе. Марсиянов там не последнюю скрипку играл, ну и, соответственно, сел. Отбывал наказание в Пензенской области, поднабрался там опыта, наглости…
— Ты хочешь сказать, он как-то связан с нашим корейцем? — быстро спросил Колосов. — Тот тоже из Пензы и…
Свидерко загадочно погрозил пальцем.
— Не торопись, не гони вороных, коллега. Связи, связи, мда-а… Марсиянов этот — потомственный столичный житель. И как водится, соскочив с пензенских нар, едва лишь ему урочные склянки пробили, вернулся в родную Москву, где и… А вот сейчас слушай меня, Никита, особенно внимательно. Где судьба прибила его к некоему Салтыкову Василию Леонтьевичу, одна тысяча девятьсот сорок шестого года рождения, ранее четырежды судимому по статье бывшей 144-й УК — кражи со всеми их многочисленными квалифицирующими признаками, так что и перечислять язык устанет. У Салтыкова этого, заметь, имеется примечательная кликуха: Салтычиха.
— Почему примечательная? — Да потому самому, — Свидерко весьма двусмысленно хмыкнул. — О нем, оказывается, в кругах конкурентов и недоброжелателей по Москве давно уже ползет слушок, что, дескать, этак лет тридцать назад, во времена еще своей самой первой ходки «туда», этот самый Вася Салтычиха был не раз опущен в камере за все те мелкие и крупные пакости, что причинил своим сокамерникам. Сейчас он заматерел, в люди выбился, вес приобрел среди своих, деньги, ну и упоминать об этих его позорных пятнах грешной юности стало как-то неприлично, а порой и опасно. Но земля-то, сам понимаешь, слухами полнится. А компетентные органы эти слухи на ус мотают, так что…
— Ясно, — Колосов кивнул. — Короче, Коля.
— Короче. По возвращении из колонии Марсиянову подфартило. — Свидерко снова ухмыльнулся. — Парень он видный, красотуля прямо, ну и… Каким-то макаром пересеклись у них пути-дорожки, и попал Пришелец на щедрые хлеба Салтыкова. Я тут справочки навел кое у кого… Так вот, в течение двух последних лет Марсиянов был ближайшим человеком Салтычихи. Его телохраном-личником, вышибалой и… Ну и все остальное само собой разумеющееся, учитывая пагубные привычки патрона.
— Это убийство и так по всем внешним признакам тянет на внутригрупповую разборку, — согласился Никита. — Так ты Салтыкова в убийстве подозреваешь? Что ж, вполне допустима" версия. А где Салтыков сейчас?
— Не торопись ты! Салтыков — я и о нем справка навел — мотанул в Грецию. Рейс из Шереметьева. Все чин чинарем: виза, ваучер на отель и тому подобное И заметь, улетел он в тот самый день, когда бездыханное тело его любимого телохрана, нашпигованное свинцом под самую завязку, было найдено в его машине. А у Салтыкова виза сроком на три месяца. Будет отдыхать наш Салтычиха как белый человек на пляжах солнечной Эллады.
Колосов наблюдал за Свидерко: и чего тут радоваться-то так? Ведь из твоего же рассказа, коллега, и ежу ясно; что главного своего подозреваемого вы уже упустили. Но оптимист Свидерко этим досадным фактом вроде бы даже и не расстроен…
— Я с этим делом решил не торопиться особо, раз тут такой безнадежный расклад вроде бы сразу же нарисовался. — Свидерко утолил подбородок в кулаке, по-прежнему сверля коллегу загадочным взглядом. — Но.., тут кое-что мои планы изменило. В этом их болоте — а заметь: вроде бы оно сейчас совершенно легальное, — сам Салтычиха давно уже вроде бы завязал. В наркоте, рулетке и прочих безобразиях тоже не замечен. Такой бизнес по Москве раскрутил! Торгует всем, что Бог пошлет. На ВДНХ у него павильоны, в строительство бабки вколачивает, в бензин-керосин, ресторан через племянника держит, ну и много чего еще. Так вот, повторяю: в этом их болоте у нас кой-какие полезные человечки имеются, гонят информацию помаленьку, ну и…
— И, Коля? — в который уж раз подстегнул словоохотливого коллегу Колосов.
— Короче. Я сразу же все кнопки жать начал. Задачу поставил: узнать, что там стряслось. Почему завалили Пришельца? Кто это персонально сделал? В чем тот, наконец, перед Салтыковым провинился?
Колосов усмехнулся: Свидерко уж слишком многого хотел от своих информаторов.
— Поначалу все было глухо, как в танке. Ни ответа, ни привета, но потом… — Свидерко кашлянул. — Я сам, ей-богу, такого не ожидал. Ну, в общем.., пошла информация: дескать, раздрай в близких к Салтычихе кругах начался около месяца назад. Выяснилось: у него, помимо Пришельца, был еще один телохран-личник. Не менее молодой и приятный во всех отношениях паренек по кличке Пекин. И между Марсияновым и им якобы давно шла вражда, соперничество за благосклонность патрона. Раза два даже доходило до открытых столкновений на почве неумеренного потребления алкоголя. Не то чтобы они тамбесились-ревновали, но… — Тут Свидерко снова ухмыльнулся:
— Кстати, пока не забыл. Хочешь новый анекдот, Никита? Гражданская война. К крестьянину двое в хазу стучатся: «Открой, дед!» — «Кто такие?» — «Красные!» — «Ох, хлопцы, наконец-то! А то все холубые да холубые», — он хохотнул хрипло.
А Колосова снова прямо зависть взяла: этакий жизнерадостный коллега! И с чего его так сегодня на анекдоты тянет? Неужели с этих жалких ста пятидесятиграммов?
— Чего ж ты с ним резину тянешь до сих пор? — спросил он. — Если так тебе все уж ясно, надо взять этого Пекина за жабры, ну и…
Тут Свидерко сделал многозначительный жест, призывая; к тишине и спокойствию.
— Да дело-то все в том, Никита, что этого типа взять за что-то интимное мы уже тоже вроде не можем. Весь сыр-бор в кругах, близких к Салтычихе, закончившийся такой печальной смертью Пришельца в расцвете лет, и начался с этого самого.
— Да с чего, черт тебя возьми? Говори нормально! Колька, чтобы с тобой беседовать — это надо прежде…
— Пекин провал около месяца назад. Бесследно. Это китаец, Никита. Имя ему Чжу Дэ. Салтычиха его вроде в роли и личника держал, и домашнего массажиста. Ну и для всего прочего вроде тоже. И вот этот парень — по национальности китаец — словно в воду у них канул, понял? Салтычиха, источник информирует, его чуть ли не с собаками по всей Москве искал, громы-молнии метал, переживал. Но так и не нашел. А тут подсуетились некие люди — надули боссу в уши насчет давней вражды китайца с Пришельцем, ну и…
— Когда, ты говоришь, пропал китаец? — переспросил Колосов.
— Около месяца либо трех недель назад. Естественно, к нам из всей этой салтыковской кодлы никто заявлять не пошел. Сами решили разобраться. Ну, видно, и доразбирались. Ты вот, кажется, с некоторых пор банк данных формируешь о всех пропавших без вести в столичном регионе лицах восточных национальностей. Сдается мне, что Пекин Чжу Дэ прямой кандидат в этот траурный кондуит.
— А почему Салтычиха прикончил Пришельца? Чужими ли руками, сам ли — это мы узнаем, но почему? У него, значит, имелись не только подозрения, но и прямые факты против него? Что источники говорят?
Свидерко пожал плечами.
— С момента обнаружения трупа в «Форде» и суток не прошло. Мы столько всего узнали, а тебе все мало. И-эх, губерния… Тут масса вопросов возникла и еще возникнет — голову дам на отсечение. Но Салтычиха для нас уже недосягаем.
— Вывод отсюда? — Колосов знал: Свидерко — человек дела. Задавал вопросик так, для затравки профессионального самолюбия.
— На все вопросы нужен позарез исчерпывающий ответ. Главного подозреваемого нет, улетучился. Значит, начнем работать пока с его окружением. Всеми теми кто имел с этой нашей троицей — Салтычиха, Пришелец, Пекин — контакты. Таких людей много, но… Салтыков, если все же приписывать это убийство ему, покарал за китайца Марсиянова. А вдруг он ошибся? И потом самое главное: что же произошло с китайцем? Где его тело, если он мёртв?
— Ты хочешь сказать, почему оно до сих пор не обнаружено?
— Да. И не только нами. Сдается мне, что в этом дельце труп прятали больше не от нас, а от глаз Салтыкова. Но почему? Ну, если его вообще, конечно, прятали, а не спустили куда-нибудь к диггерам в канализацию по ошибке. Ну как, Никита, тебе не интересно было бы все это прояснить?
— Мне? — Колосов смотрел в окно. — А ты сам считаешь, что исчезновение китайца как-то связано с нашей серией?
— Ты сам первый подал гениальную мысль проверить досконально каждый случай пропажи без вести лиц восточной национальности. Каждый случай — мамочка моя родная! А я лишь скромненько, но вполне логически продолжил заданную тобой схему. А связаны ли эти дела… Пока что-либо утверждать рановато. Поживем, поглядим, послушаем, обмозгуем фактики собранные — тогда увидим. Ну, у нас же все равно до сих пор нет какой-либо внятной версии по этому чертову делу. В долгий ящик уж сплавлять хотели этих «безголовиков», до нового трупа, а тут…
— А трупа-то, кстати сказать, и нет. И улик сближающих пока тоже.
— Ничего. Разберемся, — Свидерко пристукнул по столу ладонью. — Источник сообщает, что вся эта наша троица, из которой двое уже покойники, посещала частенько один веселый кабак на Киевском шоссе. Его племянник салтычихинский держит. Вот с него и начнем. Узнаем, кто еще посещал это местечко теплое, с кем конкретно у Пекина и этих двух там были контакты..
Колосов хотел сказать Свидерко его любимое: «Бог в помощь», но вдруг осознал, что кабаком на Киевском придется заниматься не кому другому, как ему. Как-никак по этому делу у них с Петровкой — полное взаимопонимание и взаимовыручка. А загородное Киевское шоссе — это, увы, уже не Москва, а область.
22
ТЛЕН
В это утро Белогуров проснулся очень рано. Часы показывали без четверти пять. В щель между неплотно задернутыми шторами спальни сочилась серая утренняя мгла. Последнее, что видел Белогуров во сне перед пробуждением, была горящая машина. Во рту даже чувствовался привкус гари, плавленой резины и раскаленного металла. И было нестерпимо жарко. Белогуров откинул одеяло: это всего лишь духота в спальне. А та машина во сне.., что это? Пережитый в ночном кошмаре рассказ Егора о том, как он на темном безлюдном пустыре у железнодорожного переезда «запалил с четырех концов» облитые бензином «Жигули», выполнившие свое предназначение?
Или ему снилась развороченная взрывом иномарка, где горели, как в подбитом танке, Феликс, его отец, его мать, его сестра…
— Проснулся?
Белогуров приподнялся на локте. Лекс, оказывается, тоже не спит. Смотрит в потолок. Вчера вечером Белогуров принес ей билет на концерт «Роллинг Стоунз». О таком подарке она лишь мечтала, но… «А почему один билет? — спросила она огорченно. — Я думала, мы с тобой пойдем. Или это зверски дорого? Ты много переплатил?»
Белогуров купил билет на «роллингов» у знакомого спекуля с Арбата. Заказал ему только один билет. За те сумасшедшие деньги этот билетный жулик достал бы ему и два, и три, и десять. Но Белогуров хотел, чтобы Лекс шла в этот вечер на «старичка Мика Джаггера» одна. В этот вечер ее ни под каком видом не должно было быть дома.
«Я не смог достать два билета, дружок, — соврал он ей. — И этот-то с трудом у Генки выклянчил. Такой ажиотаж — сама понимаешь. Концерт закончится около полуночи. Мы тебя встретим на машине — не волнуйся. Или я, или Егор».
«Я не волнуюсь. Спасибо за „роллингов“. Только, пожалуйста, не нужно Егора. Я заберу телефон с собой, — сказала Лекс. — Если сам не сможешь за мной подъехать — позвони, я славлю какую-нибудь тачку».
Она так и сказала: «Если не сможешь». Белогурову стало не по себе, хотя он отлично знал, что маленькая Лекс имела в виду. «Не сможешь» сесть за руль, потому что будешь пьян, как всегда по вечерам…
Однако в этот вечер… Ладно, что там говорить! Белогуров уткнулся лицом в подушку. Он не хотел думать о том, что будет вечером, когда лекс уйдет. Еще рано об этом думать. Еще всего лишь пять часов утра.
— Ты почему не спишь? — спросил он.
— Так. Не спится. — Лекс натянула простыню до подбородка, выпростала руки. — А ты?
— Разная чушь снится, — он чувствовал, как фальшивит его голос. — Спи.
— Иван, ты меня любишь?
Он снова поднялся на локте, заглянул ей в лицо.
— Конечно.
— Ты меня еще любишь?
— Любовь не знает убыли и тлена, Лекс.
— Чья?
— Господи, Лекс, не будем начинать выяснять отношения в пять утра.
— Твоя? — Она словно и не слышала его.
— Да. И твоя тоже. Наша с тобой.
— Иван, а для чего я тебе нужна?
— Ты мне нужна, потому что без тебя мне вообще ничего не нужно. Я тебе сто раз это говорил. Ты — моя Джульетта, моя принцесса на горошине, мой цветочек аленький, моя надежда, моя жизнь беспечальная. Господи, Лекс, ну что ты в самом деле? Что тебе еще сказать по твоему любимому, по-книжному? Что говорят герои любовных романов? Скажи — я охотно повторю, если это тебя успокоит.
— Я не читаю любовных романов. И ты не злись, Иван, не нужно так злиться.
— Ты вообще слишком много читаешь разной ерунды.
— И ем тоже. Егор сказал, это у меня какая-то «булимия». Как у Дианы. На нервной почве.
— Егор — кретин. Морду ему набью. Выброси из головы все, что он болтает. Ешь сколько хочешь.
— Ты совсем-совсем не бываешь дома. Почему? — Лекс говорила тихо, безучастно.
— Я занят. Дел невпроворот. Ты же сама хотела,
Чтобы в нашей квартире закончили ремонт. Чтобы мы уже к осени туда перебрались. И потом с галереей… Он сел в кровати.
— Я тебе не нужна, Иван. Абсолютно. Я не слепая. Ты мной тяготишься. Избегаешь.
— Ты мне нужна.
Она скользнула взглядом по стенам спальни. Отрешенное выражение лица ее сменилось печалью.
— Нет, не обманывай, я лишняя тут у вас. Вы всегда вместе — ты, Егор, даже Женька и тот как юла возле вас крутится. Вы такие деловые, такие занятые. А лишь я вхожу — вы умолкаете. Или говорите о какой-то чепухе.
— Мы партнеры с Егором. Это бизнес, Лекс, это дела взрослых мужиков. Тебя это волновать не должно.
— А они уже закончили там, в подвале?
Белогуров вздрогнул.
— Кто? Женька? А что ты имеешь в виду?
— Ну ты говорил, они там состав какой-то лака, что ли, изобретают, чтобы химичить потом…
— Нет, ни черта у них с Егором пока не получается. — Белогуров старался, чтобы его голос звучал спокойно. — Но и это тебя не должно волновать, Лекс.
— А что меня должно волновать?
— Новости журнала… «Вог» он, кажется, называется или «Квелле» — новый каталог.
— Там маленькие размеры. Я же вон какая корова.
Белогурову хотелось плюнуть, чертыхнуться: снова-здорово! Но ему было жаль ее. Он поцеловал ее, точнее, ткнулся губами куда-то в ухо, в теплые волосы. И почувствовал сразу, что она истолковала эту его вынужденную ласку по-своему.
— Убери руку, — попросил он через секунду хрипло. — Не нужно. Пожалуйста, я прошу тебя!
Она, не отвечай, начала исступленно целовать его. Руки ее знали свое сладкое дело.
«Любовь не знает убыли и тлена…» Молодое горячее тело. Жадное, Полное ожидания. У Белогурова появилось ощущение, что его насилуют. Эти мягкие, нежные, неумолимо-настойчивые руки. Эти полудетские, неумелые, но алчные губы сейчас вместе с дыханием высосут в поцелуе и его кровь…
— Оставь меня в покое! Я же прошу тебя по-человечески. — Не владея собой, он отшвырнул ее на подушки. — Не веди себя как проститутка!
Она села в кровати, поджала ноги, вся подобралась, как перед прыжком. Белогуров ждал града слез — уже был готов извиняться, просить прощения. Но на щеках Лекс не появилось ни слезинки. Глаза лишь сухо блестели. И в этот миг Белогуров вдруг отчетливо представил, какая она будет старая. С годами появятся морщинки вокруг глаз, складки у губ, второй подбородок. Кожа огрубеет, утратит матоватость, приобретет жирный блеск, который уже не скроют никакие тональные кремы.
— Ты просто трепло, — Лекс сказала это как отрезала ножом. — А я-то дура… Только трепаться — это все, что ты можешь. У тебя там дохлая сосиска. Поди таблетки купи. Вон в «Лавке жизни» на каждом углу продаются, я видела. Давай, давай, авось помогут!
Белогуров наотмашь ударил ее по лицу. И как водится (женщина есть женщина — и в пятнадцать, и в сорок лет), она визгливо истерически заревела от боли и злости. Когда он вышел из спальни, грохнув дверью, Лекс все еще рыдала — горько и безутешно.
Белогуров, ослепленный яростью, прошел в демонстрационный зал. Он не заметил, что в доме, кроме них, в этот ранний час не спится еще одному живому существу. В темном углу холла в кресле сидел Женька. Он чутко прислушивался к приглушенным рыданиям, доносившимся сверху/
Лекс плакала долго. Потом затихла. Но до самого вечера из спальни не выходила. Белогуров сидел в демонстрационном зале внизу. «Галерея Четырех» была сегодня открыта и ждала клиентов. Им всем сегодня было очень важно, чтобы внешне все выглядело как обычно: нормальный рабочий день. Весь немногочисленный персонал галереи на рабочих местах. И даже, если повезет, сделки заключатся…
И, как ни удивительно, повезло. Принесло двух иностранцев: престарелую супружескую пару из штата Мичиган, путешествующую по России. Старичков привлекли акварели Судейкина и особенно — революционный фарфор. За чашку с символикой «Смерть гидре контрреволюции» американец после недолгого торга выложил шестьсот долларов наличными. Чайник «Реввоенсовет» ушел за семьсот, а пузатая страшненькая вазочка для «морковной пастилы времен военного коммунизма» ушла за триста «зеленых».
В семь вечера, как обычно, Белогуров закрыл галерею и поехал на Ново-Басманную. Перед этим, около половины седьмого, Егор увез Лекс на концерт «Роллинг Стоунз». Белогуров мельком видел ее в холле, но не подошел, не заговорил. Глаза Лекс распухли и покраснели от слез. Она все как-то суетилась: роняла то сумку, то расческу, то заколку. Нагибалась, поднимала, а потом у нее все снова валилось из рук.
Белогуров видел: девчонка сильно переживает их ссору, сожалеет о том, что крикнула со зла. Самое правильное в этой ситуации (и Белогуров это чувствовал) было бы стать выше глупых предрассудков, перешагнуть через свою оскорбленную мужскую гордость — взять Лекс крепко за плечи, развернуть к себе, поцеловать эти скорбные, заплаканные полудетские глаза (ей всего-то, дуре такой, было пятнадцать — что она понимала и в жизни, и в нем, Иване Белогурове!). Повторить, что их любовь все равно, несмотря ни на что, не знает убыли и тлена, потому что любовь (и это хорошо понимают те, кто сначала напрочь был лишен этого чуда, а потом уже на середине прожитой жизни обрел ее как подарок судьбы) — это не только сладкое траханье в смятой постели. Не только вздохи, вскрики, содрогание потных тел, поцелуи, укусы и калейдоскоп, поз, но и близость в высшем смысле этого слова: понимание, сопереживание, нежность, преданность и милосердие друг к другу. Но он к ней в этот вечер так и не подошел. Он чувствовал и то, что примирение и нахлынувшие вслед за ним чувства могут помешать ему сегодня вы, полнить то, что должно произойти этим вечером. И для душевного настроя на ЭТО больше подходило яростное ожесточение и боль, терзавшие его, а не умиротворение и покой.
Лекс и Егор уехали. Белогуров дал Чучельнику последние подробные инструкции — Создание оставалось одно в темном пустом доме ожидать их возвращения, — вышел на залитую огнями Ордынку, поймал частника и поехал на свою квартиру на Ново-Басманную.
Они там условились встретиться с Гришкой Якиным. Фреска была закончена. Краска и штукатурка подсохли. И свободному художнику Якину ничего не оставалось, как получить расчет и собирать манатки. Накануне они разговаривали с Белогуровым по телефону.
— Ну, какие у тебя дальнейшие планы, — как бы между прочим поинтересовался Белогуров, — в Питер возвращаешься все-таки?
— Да нет. Погожу пока. Лето ж! Я говорил: на Валдай хочу махнуть, в деревню к тетке. Она двоюродная, правда, но зовет в письме. По хозяйству помогу, глотну кислорода. В город к осени подамся. — Якин хмыкнул. — Гроши вот с вас, Иван Григорич, получу — уж и мотор новый присмотрел на Южном. «Харлей-Дэвид» подержанный отдают за три куска. Ничего, в общем, железо, сойдет. А гайку подтянуть — это я и сам могу.
— Так на мотоцикле прямо и махнешь? — спросил Белогуров.
— А что? Едешь, газуешь — сам себе хозяин. И за билет платить не надо. Бензин, конечно, собака, кусается. Монополисты, буржуи чертовы, все себе захапали! Но я как-никак на ваши гроши полагаюсь.
— Рассчитаемся, как договорились, — заверил Белогуров и спросил вроде бы ни с того ни с сего:
— Слушай, я давно спросить хотел: ты волосы часом не подкрашиваешь?
— Я что — гомик? Ты че, Григорич?
— Да это я… У самого седые стали появляться. Девчонка моя сердится. Хотел узнать — может…
— У парикмахера своего узнавай. У вас, буржуев, персональные небось, — буркнул Якин.
Они договорились о встрече, и Белогуров дал отбой. Встретился взглядом с Егором, слушавшим беседу с параллельной трубки.
— Он едет с деньгами — нам это как раз и нужно. С крупной суммой — ты ж ему четыре тысячи за его мазню должен, — Егор был снова сама решимость, — с «зелеными» в кармане, на моторе — уехал Якин и.., сгинул. Куда, где… Если даже нас кто и начнет о нем спрашивать — да, скажем, уплатили деньги — он и смылся. Куда? Да на Валдай, в деревню. И все. А доехал он туда или его где-то в пути грохнули… Да и не хватится его никто! Он же бродяга, да и алкаш конченый. Контрактов у него в Москве сейчас нет. Были б — не уезжал бы. Так что… Он то, что нам нужно. Иван. И при этом — минимум риска. Не надо будет снова ездить, искать, сюда тащить. Гришка сам сюда явится. Он хоть и с цитатником Че Гевары не расстается, а до денег жаден, как черт. А до водки еще жаднее. Если ты ему пузырь «Джонни Уокера» поставишь — на карачках приползет. И потом он — натуральный блондин. Самое оно для нас.
— А если Чучельник снова ошибется? — спросил Белогуров.
— Я ему сказал: почки отобью. Не ошибется. Руку натренировал уже. Успел. — Егор попытался усмехнуться, но получилась гримаса. — Ну, слово за тобой. Согласен?
Белогуров промолчал. Егор истолковал его глухое молчание так, как ему хотелось.
Около половины восьмого вечера Белогуров приехал на Ново-Басманную. Якин уже поджидал его: навеселе, красный как рак, оживленный, разговорчивый. Зажег свет по всей огромной квартире. Белогуров мельком глянул на фреску, которую видел уже не раз. Сухов и Верещагин с гранеными стаканами в руках, Мэрилин — сплошная фарфоровая улыбка, ее благородие госпожа Удача и этот микеланджеловский «Ошарашенный» из «Страшного суда».
Белогуров смотрел на фреску со всевозрастающим раздражением: что тут намешано-намалевано! Сплошной дешевый кич. «Ошарашенный», что произвел на него в прошлый раз такое сильное впечатление, когда нервы были на пределе, теперь казался чуть ли не уродливым, пошлым, вульгарным. Мазила Якин просто дурно скопировал великого итальянца. И вообще, Якин — обычный алкаш, хам, бродяга и конъюнктурщик. И его никто не будет искать всерьез.
— Принимай работу, хозяин, — Якин дохнул на Белогурова вчерашним перегаром. — Как в казино на Горбушке теперь тут. У них там тоже все стенки расписаны — сплошной садомазохизм в натуре. Когда будете в этой своей хатке тусовки-приемы собирать — не позволяйте гостям сигаретами тыкать. А то некоторые любят, опять же в казино. Потом платят, но… И кресло близко не подвигайте. А то штукатурка начнет осыпаться.
— Ты вроде и не рад, что так украсил мне квартирку. — Белогуров сел на рулон коврового покрытия.
— А что радоваться-то? С жиру вы беситесь, господа. Такая хата, мать честная. Такие бабки!
— Ты ж говорил, что от такой не смог бы отказаться.
— А, да что там! — Якин тяжело плюхнулся рядом. — Раскулачивать вас давно пора, акул, вот что. К осени поглядим. Учтите, Иван Григорич, большие дела грядут, большие перемены. С вас первого тогда и начну, когда у вас тут, в вашей Москве задрипанной, все по швам треснет.
Белогуров смотрел на него: «К осени поглядим…» Он еще планы, ублюдок, строит… Он испытал странное ощущение: разговор с жертвой начинал забавлять его. Так кот играет с мышью в последнюю игру.
— А что же на сей счет сказал великий барбудос генерал Че?
— Он не носил бороды. Точнее, носил, когда был в партизанах. Не путайте с Фиделем. Тот уже успел — продался. Папе Римскому, что ли… А Че был как алмаз — блистательный" твердый, несгибаемый, — Якин рубанул рукой воздух. — Если б не та цэрэушная гнида Родригес, он бы всем показал, что такое Пятый, и последний, интернационал!
— Я читая мемуары Родригеса. Шпион он был. Обычный шпион, Гриша, продажная шкура. Но там у него в конце место есть обалденное: когда они везли труп Че Гевары на вертолете, Родригес все не мог поверить, что операция кончена и перед ним — труп. Он взял на память его трубку. Че Гевара вроде сам подарил ее ему на память.
— Суки они, суки американские, — Якин мотнул головой. Хвост золотисто-русы: волос, стянутых на затылке резинкой, хлестнул по плечам. — Че хотел, чтобы не было голодных, — только и всего. А они убили его, суки.
— Они всегда были и будут, голодные. И недовольные тоже. :
— Да с такими, как вы, зажравшимися буржуями, конечно. Еще и не того дождемся. — Якин хмыкнул, а потом спросил деловито:
— Вы деньги привезли?
— Не-а. Я к тебе с Крымского еду. Там сегодня аукцион. Гниды, как ты метко выразился, по кредиткам расчеты не принимают в связи с кризисом. Деньги меня дома. Сейчас Егор позвонит — и поедем. Посидим как люди, поспорим-подискутируем. Егор ящик виски еще по старой цене в одной круглосуточной лавчонке отхватил, так что.., живем сегодня.
Якин заметно смягчился. Но все же не удержался, чтобы не поддеть:
— Что, и выпить не с кем стало? Дожили, Иван Григорич. Тошнит вас от этих морд? — Мне с тобой выпить охота. Компания теплая, — Белогуров улыбнулся. — Ты человек занятный — острый как бритва, А режешь не больно.
— Это я к вам хорошо отношусь! Жаль мне вас, губите вы себя, Иван Григория. Такую жизнь ведете — разве она для такого человека, как вы? У вас же совесть есть. Бросьте, не по вас это все.
— Что? — спросил Белогуров.
— Да эта вот хренотень. И холуя этого вашего, Егора, — гоните вы его в шею! Тоже мне роза-мимоза…
Тут у Белогурова сработала «сотка» — Егор отвез Лекс и уже ждал их на машине внизу.
— Ну, пошли, Гриша, — Белогуров положил руку на плечо Якина. И испытал при этом почти такое же острое слалострастно-мучительное ощущение, как и утром, когда Лекс ласкала его грубо и исступленно. И снова пришло предчувствие катастрофы. Но страха уже не было. Все вниз и вниз, все быстрее и быстрее, как камень, летящий с горы… Вдребезги бы, в пыль, в прах! Все равно уже ничего изменить нельзя.
Он смотрел на затылок Якина: густые светлые волосы, сильная шея, чистая крепкая кожа. Красный только он, как рак, с перепоя. Станет бледным. Женька постарается. А не станет — скажем, пигмент такой специфический от загара в тропиках. Феликс — счастливый ублюдок — останется доволен и этой игрушкой.., если только не подохнет на операционном столе.
До Гранатового переулка добрались быстро. Егор включил в машине магнитолу. Крутой Гарик давал жизни со своим «я милого узнаю па па-паходке!». Якин в такт музыке пристукивал по колену ладонью. Когда дошли до "ба-атиночки он носит «Нариман», даже подпел сипло. Белогуров смотрел на вечернюю Москву — и не видел ее.
В доме были погашены все огни. Егор открыл дверь, зажег свет в холле.
— Сначала дело, — Белогуров пригласил Якина в кабинет, достал из ящика стола пачку денег, перетянутую резинкой. Якин удовлетворенно хмыкнул, сунул пачку в карман потрескавшейся от старости кожаной куртки-пилотки.
Потом они сидели втроем в гостиной. Пили виски. Белогуров (он предпочел бы в этой ситуации коньяк и водку) даже не ощущал его вкуса. Разговора, а тем более спора «за политику и жизнь» как-то не получалось, Якин, нагрузившийся сверх меры, размяк.
Егор глянул на Белогурова: пора. Чучельник внизу уже заждался…
— Вы тут посидите, а я еще кое-что сделать должен. — Он поднялся.
— Да брось, Егор, завтра закончишь. Не нарушай компании, — вроде бы удержал его Белогуров.
Но Егор лишь извиняющеся улыбнулся, Якину. Когда было нужно, он мог очаровывать даже недоброжелателей.
— К-куда это он, Григорич? — с запинкой поинтересовался Якин.
— Да в подвал, там у нас мастера сегодня сработали. — Белогуров подлил ему еще в рюмку. — Этот дом я Егору пока оставляю — ну сдаю, что ли. А он комфорт любит. Оборудовал себе спортзал небольшой в подвале, сауну купил с душевой кабиной. Сегодня там все устанавливали. Ну и не терпится полюбоваться — мальчишка ж сущий, ей-богу!
— Сауну? На дому прямо? Буржуи вы, — в голосе Якина послышалась горькая зависть. — Народ как пес бездомный, а вы.., такой парадиз хренов… Сауна-то — евролюкс?
— Угу, — Белогуров равнодушнейшим образом кивнул (а внутри его все дрожало как в лихорадке). — Вроде. Кабина с компьютером, выбор массажа.
— Глянуть-то можно на это чудо?
— Да ради Бога.
Якин поднялся. Белогуров все еще сидел с рюмкой в руке. Только не торопиться. Не торопить его. В подвале — темно. Он скажет, как и Пекину: «Осторожно, лестница крутая. Сейчас выключатель найду…» Но все произошло иначе, чем в прошлый раз. В подвале действительно свет не горел…
— А где Егор? — Якин заглянул в темноту. — Эй, роза-мимоза-а! Где твоя джаку-узи-и?
Тишина.
Якин удивленно оглянулся на Белогурова, стоявшего на верхней ступеньке лестницы.
— А где же… Ты чего, Иван Григорич? Григорич, да ты че?
Белогуров неожиданно со всего размаха ударил его сцепленными руками под дых. Якин переломился пополам от боли, потерял равновесие и…
— Осторожно, а то он морду поранит! — крикнул Егор, карауливший внизу.
Якин падал шумно, как летят пьяные с эскалатора в метро. Может, и сломал себе что-то, но не успел уже почувствовать боль от перелома. Не успел почувствовать ничего, кроме…
Егор подскочил к нему, обмякшему, оглушенному падением, сгреб за куртку, приподнял и профессионально («Как мясник», — подумал Белогуров, включивший в подвале свет и теперь смотревший сверху на все происходящее) вонзил в грудь поклонника Че Гевары охотничий нож-финку по самую рукоятку. Агония длилась.., сколько? Белогурову показалось — вечность. Когда Якин наконец затих, перестал бить каблуками в цементный пол и царапать себе грудь, от стены, словно тень, неслышно отделился Чучельник В руках он держал некое подобие тесака с широким, тяжелым; острым как бритва лезвием.
Но это был не обычный тесак-рубидо, каким на мясокомбинатах разделывают убоину. Вещь была явно не заводской, а кустарной — щербатая деревянная рукоятка, царапины на ней. Самодельной. Эту «штуку», как звал ее любовно Чучельник, давным-давно сделал для его дядьки Федора Маркеловича старый его корешок — токарь с «Серпа и молота», проживавший на Заставе Ильича.
Дядька Федор тогда получил крупный заказ, как он говаривал, «с самих верхов»: дачу одного высокопоставленного лица в подмосковных Жаворонках оборудовали «под ключ». Лицо пожелало украсить свои дачный кабинет в охотничьем стиле. Для этого набитые опилками головы чучел лосей, кабанов, косуль и волков в качестве «охотничьих трофеев» крепились на специальные дубовые медальоны и развешивались по стенам. Эти «трофеи» и должен был изготовить в своей мастерской опытный в таких делах мастер Федор Маркелович.
В чучельной мастерской основная морока тогда и возня шла с «кабанами». Их не брали обычные скорняжные инструменты. Тогда-то по просьбе Маркелыча его кореш-токарь и изготовил для него кустарным способом ту «штуковину» — полусекиру, полутесак, полуятаган. При работе с ней не требовалось особых усилий. «Охотничьи трофеи» — головы чучел животных тогда получились на славу. И ни одна (даже самые трудные для обработки — кабаньи) не была повреждена. А Маркелыча наградили за «ударный труд» именными часами.
Когда же он почил, Женька забрал из мастерской «штуку» себе. Его завораживала ее такая грозная сталь.
Секунду он стоял над телом Якина, словно взвешивая эту сталь в руке, словно пробуя ее мощь, а затем….
Егор, бледный как полотно, буркнув: "Сейчас, сейчас вернусь, только… — отпихнув Белогурова к перилам, устремился вверх по лестнице. Слабый желудок снова подвел его. А Белогуров остался в подвале. И когда Чучельник вопросительно глянул — кивнул: приступай, мол. Он даже нашел еще в себе силы посмотреть на часы: до полуночи, до окончания шоу, до возвращения Лекс оставалась куча времени — а затем потерял сознание. Провалился, как в ад, в черную яму, где с треском лопались от нестерпимого жараогненные; раскаленные шары-сферы, где снова горела чья-то машина, и где-то лаковые ботиночки с подковками под визг хриплой вокзальной гармошки все отбивали и отбивали нескончаемую чечетку. Я милого узнаю по походке…
23
«ЖИГУЛИ» — ПРИЗРАК И…
Дав Воронову срок на розыски настоящего владельца светлых «Жигулей» — некоего гражданина Панкратова из Мытищ, Катя и сама решила не сидеть сложа руки. Но увы, как это часто бывает у женщин, она четко знала: надо что-то делать, но вот что конкретно и как — увы, увы…
В один из таких неопределенных вечеров после работы она (вроде и не собиралась ведь) неожиданно для себя очутилась на «Третьяковской». Напротив метро шумел-гулял новенький «Макдоналдс». Толпа рекой текла в его вертящиеся стеклянные двери. Катя обогнула закусочную и двинулась вверх по Ордынке. Но ее вечное наказание — никудышное умение ориентироваться на местности — снова сыграло с ней злую шутку. Гранатовый переулок оказался в совершенно противоположной стороне, как и сообщил Кате попавшийся навстречу шустрый пацан да роликах.
Переулок, когда она наконец нашла его в паутине замоскворецких улочек, снова встретил ее безмятежной сонной тишиной. По вечерам деловой центр вымирает. Бывшие доходные купеческие дома, нашпигованные разными СП и ТОО, становятся похожими на пустые пчелиные соты.
Катя перешла на противоположную сторону улицы, медленно профланировала мимо дома № 6. В зарешеченных окнах первого этажа горел свет — тусклый в лучах заходящего солнца. «Галерея Четырех» явно готовилась к закрытию после трудового дня. Катя вздохнула: и никаких старых светлых «Жигулей» у крыльца. Припаркована лишь вишневая иномарка с тонированными стеклами. Кажется, они с Кравченко видели ее здесь и в прошлый раз. Ну конечно же! Эта машина и отъезжала от дома. А значит, этот тип Дивиторский именно на ней ездил на бензозаправку и… Но нет, опять не сходится. Он же вернулся. А когда они с Кравченко выходили из дома, никаких вишневых иномарок не было в переулке, а были лишь ржавые светлые…
«Господи, ну не приснились же мне здесь эти чертовы „Жигули“! — подумала Катя. — Прямо наваждение какое-то…»
Топтаться дальше у дома № 6 было бессмысленно и глупо. Катя несолоно хлебавши поплелись назад к метро. Из нас такие аховые детективы, что…
В крохотном особнячке, мимо которого пролегал ее путь, помещался продуктовый магазинчик. Катя от нечего делать зашла поглазеть, какие здесь цены. Два прилавка, морозилка, стеллажи со спиртным и полусонная от скуки девчонка-продавщица у кассы.
— Добрый день, банку «Спрайта», пожалуйста, — Катя полезла в сумочку за кошельком. — Как у вас хорошо — прохладно, тихо.
Продавщица Полезла в холодильник за водой:
— Еще чего-нибудь? Вот мороженое. Берите… Фарш свежий куриный, котлеты, окорочка — подмосковные, нежирные.
— Нет, спасибо, больше ничего не нужно.
— Сто раз в день это слышу, — продавщица вздохнула. — Ничего и никому. В центре никто ничего не берет. Все домой в свое Митино сломя голову летят иди на ярмарку к метро. — Ей, видимо, хотелось просто с кем-то перекинуться живым словом.
— Да, с покупателями сейчас туго, — поддакнула Катя, — Однако цены…
— А на оптовой, думаете, дешевле? Дудки! Там тоже люди ушлые. Цены! Что мы можем сделать, когда курс так скачет. И так экономим на чем можем. — И все равно нет покупателей?
— Как видите. Вы — вторая за весь день.
— Досадно. Но у вас тут тихая заводь. Никто не живет постоянно — одни офисные клерки. Хотя… — Катя вскрыла «Спрайт» и глотнула с наслаждением холодненького, — вон через дом от вас антикварный магазин. И они, кажется, в доме постоянно живут.
— А, эти! Эти к нам не заходят. Девчонка иногда заглянет — чипсов с сыром наберет полную сумку.
— Не заходят? Странно. Чего проще: чем куда-то к метро тащиться — у вас бы всем и отоваривались сразу.
— Такие — такое, — продавщица кивнула на прилавок с лоточками фарша, — не едят. Брезгуют: пища плебеев. Это для вас с вами, а они…
— Ну, — Катя пила шипучку маленькими глотками, — такие и по оптовым рынкам не ездят, уверяю вас. И то, что магазин рядом, — тоже, наверное, роли не играет. Машина есть — загрузил полный багажник, привез… Хотя опять же — в «Жигуль» старый много не загрузишь.
— «Жигуль»? Как же! Это тоже для плебеев. У них тачки дай Боже. Одна бордовая, другая синяя такая приземистая.
— Странно, а мне показалось, там «Жигули» старые побитые стояли.
— Ни разу я «Жигулей» там не видела. — Продавщица зевнула, прикрыв рот наманикюренной ручкой. — Если кто к ним приезжает — тоже все на таких тачках — закачаешься. Один раз даже длиннющий такой, как корыто, лимузин прикатил. Ну как в фильмах! Весь переулок занял, а зима была, гололёд…
Катя вышла из магазина хмурая. Ошиблась она с этими «Жигулями» — как пить дать ошиблась! Принадлежат они совсем не Белогурову и К°, а действительно какому-то типу из Мытищ, так что… И хватит разыгрывать из себя дурацкого детектива. Не для вас, дорогуша, это дело — она вздохнула так же тяжко, как и разочарованная в бизнесе и жизни продавщица.
Однако на следующее утро Катя все же снова отправилась к Воронову за новостями: узнал — не узнал?
— Узнал. С местным управлением связался. Они участкового мне дали. Хозяин «Жигулей» действительно Андрей Панкратов, местный, мытищинский. Только с самим участковому поговорить не довелось, — сообщил Воронов.
— Почему?
— Сел.
— Сел? По какой статье? За что? — Катя снова чувствовала себя заинтригованной.
— Тяжкие телесные, хулиганство. У них с соседями давняя позиционная война была: те дверь хотели ставить общую железную, а Панкратов возражал. Однажды подпили, ну и на этой почве отношения начали выяснять. Наш соседу и припечатал между глаз, ребра сломал, челюсть, и вдобавок еще ушиб головного мозга.
— Из-за такой ерунды, как дверь, покалечили человека?
— Угу, — Воронов не отрывался от своего вечного компьютера. — Падение нравов в быту — просто жуть.
Катя снова отметила, что шутки ее коллеги плоски как блин.
— А машина?
— Да в гараже, должно быть. Участковый сказал: у них гараж кооперативный, по наследству достался от тестя.
— У них? А кто еще живет с этим Панкратовым?
— Жена, сын взрослый. Только с ними тоже не беседовали.
— Почему?
— Катя, мне и эту-то информацию с барабанным боем выдали. У них дел сейчас — зашьешься. Надо вам — приезжайте, не велик крюк от Москвы, сами и выясняйте: так они говорят.
— Той машины в гараже нет. — Катя протянула руку. — Дай мне адрес этого дебошира.
Воронов протянул ей распечатку.
— А с чего тебя так именно эти «Жигули» интересуют? — спросил он.
Катя промолчала.
— Это совсем не то, что нам нужно, Катя, — Воронов снова начал колдовать над программой «Поиск». — Уж поверь моему опыту. Я тут вот список составил возможных проработок, а это — туфта.
Катя рассеянно кивнула. Ей не хотелось признаться, что опыту двадцатитрехлетнего лейтенанта милиции; Воронова она пока безоглядно доверять поостереглась бы.
В Мытищи она решила наведаться, не откладывая дела в долгий ящик. Придирчиво изучала текущие сводки происшествий. Ее интересовали конкретные раскрытые дела в этом районе. Катя не любила зря бить баклуши: раз едешь «на землю» — сделай все, чтобы запастись там материалом для будущих публикаций.
В Мытищах во время профилактического рейда как раз накрыли подпольный водочный цех. Так что материал был.
Освободилась Катя лишь к трем часам дня. Теперь можно было отправиться и по адресу, указанному вороновским компьютером, разыгрывать дальше детектива-любителя. И опять же, трясясь на стареньком рейсовом автобусе, шагая через городской парк к улице Молодежной, где проживал до суда дебошир Панкратов, Катя не могла ответить себе: для чего ей, собственно, нужна вся эта добровольная морока со своим личным сыском?
Но так уж она была устроена. Когда что-то задевало ее любопытство, она не успокаивалась до тех пор, пока не узнавала все-все-все.
Семья Панкратовых проживала в старой пятиэтажке, судя по номеру квартиры, на четвертом этаже. В подъезде едко пахло кошками и картошкой: кто-то из жильцов уже начал делать запасы. Катя постояла в раздумье. Было два пути: либо постучаться прямо в квартиру Панкратовых, либо.., наведаться сначала к их заклятым врагам — соседям. Второй путь сулил больше информации. Люди, при умелом к ним подходе, весьма охотно делятся известными им секретами своих недругов, особенно если уверены, что могут этим им крупно насолить.
Катя решительно нажала кнопку звонка квартиры напротив.
— Кто? — спросили за дверью. — Налоговая инспекция.
— Ой, — за дверью настороженно замерли. — А мы-та…
— Будьте добры, откройте, вот мое удостоверение, — Катя поднесла к дверному глазку раскрытую «корочку». В сумраке лестничной площадки вряд ли можно было разобрать надписи, но фотографию в форме было видно. Правда, особо Катя не рассчитывала на то, что дверь перед ней тут же гостеприимно распахнется — не те нынче времена, но… Но дверь все же хоть и со скрипом, но открыли. Сначала робко, на цепочку, затем, разглядев Катю, сняли с грохотом и ее. На пороге, загораживая дверной проем мощным бюстом, стояла женщина лет пятидесяти, а из-за ее плеча любопытно высовывалась сухонькая старушка в вязаной кофте.
— Это квартира Панкратовых?
— Нет. Напротив их квартира. А мы Карповы.
— Так вы у меня следующие в списке. Можно войти? — Катя двинулась вперед.
— Проходите, но…
— Так, что тут у нас? Квартира трехкомнатная, — Катя мельком окинула взглядом узкие хрущовские «пеналы», которые и комнатами-то с трудом можно было назвать. — Ну что ж.., комнаты, значит, сдаем? Жильцов без прописки пускаем? Напор и натиск. Как говаривал Бонапарт: «Главное — ввязаться в бой, там разберемся».
— Мы сдаем? — Женщина тревожно переглянулась со старухой. — Кто вам такое сказал? Да откуда? Сами чуть ли не на головах друг у дружки сидим.
— Значит, тут какая-то ошибка, — Катя извлекла из сумки блокнот, зашелестела им, — в ЖЭКе вот сказали, что у вас жильцы живут.
— Это Анфиска, што ль, вам, уборщица, наплела? — , вскинулась по-боевому старушка, — Вот лахудра! Лишь бы напраслину возвести! Девушка, голубка моя, да какие у нас жильцы? Сама суди — нас тут что опят в лукошке. Мы с дочкой вон, двое внуков — большенький женился только в мае, жену в положении уж привел, да зять, да кошка, да…
— Тут какая-то ошибка, — Катя была сама нерешительная строгость. — Но у вас тут в подъезде кто-то сдает квартиры, не так ли? — Она спрашивала наугад, хотя знала: попадет в точку.
— Сдают, сдают! — Старуха подвинула Кате стул. — Маша, обожди, не тормоши меня, вишь, человек интересуется. Татаринцевы со второго этажа сдают. Точно это. Сами-то с сыном съехались, а квартеру — двухкомнатная у них — каким-то грузинам не то армянам сдали. Бога-атые! Сам-то директор какой-то — склада, что ли, или базы, а брат его…
— Мама, пошли б чайник на кухне глянули, — женщина пыталась вмешаться.
— Да что ты меня все тормошишь? Дай досказать.
— Подождите, подождите, — Катя «не понимала». — Татаринцевы, значит, так… А вы Карповы. Это у вас — инвалид в семье льготник?
— У нас, у нас! Зять мой — третья группа, нащот льгот вот не скажу, — старушка оживилась еще больше. — Вишь, Маша, а ты мне рот затыкаешь. Раз инвалид наш — значит, скидка нам выйдет.
— Да за что? — Женщина уперла руки в бока. — Каки-таки с нас налоги? С чего?
— Налоги сейчас со всего плотют, — старушка была сама осведомленность, — чихнул — и уже тоже, пожалуйста.
— Да, конечно, — Катя кивнула. — Налоги платятся физическими лицами с каждой заключенной сделки, будь то продажа или сдача в наем квартиры, продажа дачи, машины…
— Та мы ж ничего не продавали! Какие деньги были на сберкнижке — сын свадьбу справил" — женщина махнула рукой. — Все мотанул. Шесть мильёнов коту под хвост, радуется еще, что до кризиса окрутиться успел, а то б еще вздорожало.
— Насчет продаж вы к Панкратовым загляните, — ядовито встряла старушка. — Андрюшка ихний, стервец, как у него с нашим скандал с мордобитьем вышел, в суд загремел. Следователь к нам все приходил: вам-де деньга-компенсация за увечье полагаются по суду. А где те деньги? Андрюшка уж второй год как сидит. Клавка ему посылки все шлет. С каких таких капиталов, а? Машину они продали — вот с каких! Ихний Борька Славке Сергунову из второго подъезда хвалился, а тот нашему сказал: на рынке, мол, где-то продали за доллары, вот как! — Старуха знала все-все-все.
— Машину продали? — Катя придвинула блокнот. — Новую?
— Старую-старинную. Дед у них еще покупал, а потом зятю-то, ну Андрюшке, и продал. Во порядки-то в семье, а? Стервецы они, Панкратовы, стервец на стервеце! Когда Егоровна ихняя, ну Кланькина-то мать, еще жива была, все мне хвалилась: купил-де мой старик машину на заводе по льготной, а потом зятю-то и загнал. А деньги — на сберкнижку. Жадный был, все копил. А как Хайдар-то пришел — ёкнулись все ихние тыщи. Дед помер потом, а Андрюшка-зять все на той машине ездил. В аварию даже раз попал.
— Светлая машина, «Жигули»? — Катя невольно начала, выходить из роли «налогового инспектора».
— Светлая, светлая. А потом, значит, как загребли его за нашего-то, Борька ихний — ну сын — эту машину-то и продал. Так что налог — это вы с них подите стребуйте. — Старушка пристукнула сморщенной ладошкой по столу и прислушалась. — Вон ключом у них кто-то в двери зазвонил. Борька небось и явился. Он не работает щас, так цельный день по улицам шлындает. Погодите-ка, касатка, я вам сейчас дверь открою. С них стребуйте налоги-то да пугните: они и нам по суду должны. Пусть отдают, а не то — штрафом их, сквалыжников!
Катя оказалась в щекотливом положении: дверь соседней квартиры действительно открывал испитой парень в джинсовой куртке. От него несло за версту пивным перегаром. С таким играть прежнюю роль было уже труднее, но… Карповы зорко наблюдали за ней в щель через дверную цепочку. Отступать было уже поздно.
— Борис Панкратов? Очень приятно. Я из налоговой инспекции.
Парень обернулся.
* * *
На следующее утро Катя, едва лишь пришла на работу, направилась к Колосову. Но до кабинета не добралась: начальник отдела убийств столкнулся с ней в коридоре. Вид Никиты сильно озадачил Катю — более решительного и деятельного существа она давненько уже не встречала в стенах УР, Рядом с начальником отдела убийств вышагивало и еще одно весьма энергичное и деловитое существо. Катя знала лишь, что это — «какой-то коллега из Москвы», муровец, что ли… Похож он был на разбойного кота. Стрельнул в Катю острым зеленым глазком, хмыкнул глубокомысленно, заявил Колосову, что, мол, ждет того в машине, и тут же ретировался к лестнице.
— Никита, я хочу сказать тебе одну вещь. Мне, кажется, это важно!
— Катя, позже. Мне некогда. — Он даже не замедлил шаг. Ей приходилось чуть ли не бежать за ним!
— Никита, это про того парня — ну, Ивана Белогурова, что помог вам. Там машина была — Воронов ее проверял, сказал… А я…
— Катерина Сергеевна, извини — после. Вернусь — сам тебе позвоню.
И Катя осталась одна в коридоре. Ее душили обида и злость. Он ее даже не выслушал, просто отмахнулся… Она прождала звонка до половины восьмого вечера. Специально не уходила с работы. Но Никита так и не объявился.
А Колосов был действительно занят по горло. Честно признаться, Катин лепет он едва расслышал: думал совершенно о другом. А тут еще Колька Свидерко со своими «идеями», а тут еще среда наступила…
С Колей в спарринге работать все же было чрезвычайно хлопотно. Едва лишь в деле, по его мнению, начинал появляться просвет, как он порол самую дикую горячку, пламенно желая скорее приблизить долгожданный положительный результат.. И часто из всей этой горячки не выходило ничего хорошего.
Работа по выявлению лиц, входивших в окружение Василия Салтыкова, шла всю последнюю неделю. У Салтычихи оказался весьма обширный круг знакомых: коммерсанты и торговцы, строительные подрядчики, директора отелей, владельцы автозаправочных станций и ремонтных мастерских, экспедиторы, парикмахеры, массажисты, дантисты, рекламные агенты и прочая, прочая, прочая. Все эти люда, каждый по-разному, зависели от Салтыкова.
Не чурался он общения с теми, кто долгие годы составлял ему компанию там. По таким криминальным связям Салтыкова очень помог РУОП.
Всю неделю за некоторыми фигурантами велось и скрытнее наблюдение. Под такой колпак в первую очередь попал его двоюродный племянник Константин Крайнев — вполне респектабельный на первый взгляд молодец, владелец загородного ресторана «Колорадо», что неподалеку от Внукова.
Крайнева вели на нескольких машинах. Но ничего существенного в его поведении обнаружено не было. Несмотря на то что ресторан его был ночным и для широкой публики открывался только с восьми вечера, Крайнев каждое утро в девять аккуратно являлся на работу. Отъезд (а точнее, бегство) дяди-босса никак не повлиял ни на распорядок его дня, ни на дела заведения.
Каждую ночь «Колорадо» сияло огнями неоновой рекламы, оглашая окрестности музыкой и шумом.
— Так мы с ним ничего не добьемся, Никита. Ну еще неделю потопаем за ним, а толку… — Свидерко кипел жаждой немедленных активных розыскных действий. — Ну что мы с ним тянем?
— Ты сам говорил: подождем, поглядим, послушаем…
— Я так говорил? Да не может быть! Хоть теперь у нас и целый список фигурантов для проверки, а начинать надо с племянничка! Брать за жабры и…
— И что ты у него спросишь?
— Где дядя Салтыков.
— А мы и так это с тобой знаем.
— Вытряхнем: кто бывал в ресторане с китайцем и Марсияновым.
— Опять же у нас таких фигурантов — целый список. Они оба ребята общительные были, — Колосов хмурился, — в «Колорадо» этом теплый междусобойчик всегда собирался, чужие сюда не ходили. Правда, племянничек мог знать более подробно о многих из этих завсегдатаев.
— Ну а ты сам, Никита, что предлагаешь? Что мы будем делать?
— Ждать.
— Чего?
— Среды. На среду как раз операция запланирована в регионе — совместный крупномасштабный рейд: РУОП, наши, налоговая полиция и торговая инспекция — проверка предприятий торговли и быта.
— Ну и что? Мы-то при чём?
— Включи «Колорадо» в их список. Инспекция как крот землю роет — накопают компру и на Крайнева. И когда он убедится, что речь всерьез о его лицензии вдет, — нам с ним и по нашему профилю разговаривать станет легче.
И вот настала среда. Когда Катя столкнулась с Колосовым, тот вместе со Свидерко как раз спешил в «Колорадо». Туда, как и было оговорено, проверяющие структуры нагрянули в половине восьмого утра — когда ресторан только закрылся после шумной ночи. Все произошло культурно и тихо. Никого не клали на пол, не заламывали строптивым руки, не грозили резиновыми дубинками. Представители торговой инспекции и строгие «фискалы» вместе с сотрудниками УЭП начали разборку в деловом, документальном духе: накладные, расходные книги, чеки, кассовые аппараты, буфет, бар. Вызвали из дома главбуха. Шеф-повар (он еще не ушел домой) имел приватную беседу с сотрудниками УЭП. Когда Крайнев, вызванный телефонным звонком из дома, тоже приехал в ресторан, там его уже ждала буднично-деловая атмосфера крупномасштабной ревизии, которая (как он сразу понял) не сулила ему ничего хорошего.
Колосов и Свидерко приехали беседовать с Крайневым «по своему профилю», когда рейд уже был в самом разгаре. Крайнев — щуплый, мышиного вида блондинчик, не расстающийся с радиотелефоном, все пытался доказать уэповцам, что… В общем, ему смертельно не хотелось признаться, что он лишь подставное лицо всесильного Салтыкова. Но, как человек сообразительный, он смекнул, что пришла минута выбирать.
Уэповцы сдали его Свидерко с рук на руки; побеседуете — вернете, у нас тоже к нему вопросики найдутся. Они сидели в кабинете на втором этаже — том самом, в котором проходила некогда встреча Белогурова с Салтычихой, Пекином и Марсияновым. Крайнев волновался сверх всякой меры.
— Они угрожают, что закроют ресторан «до выяснения»… Послушайте, но это же насилие среди бела дня! Почему пришли с инспекцией именно ко мне? Я что, больше всех правила нарушаю? Почему вы не пришли в «Разгуляй», в «Елки Березовые»? — Крайнев назвал еще парочку известных подмосковных ресторанов. — Телятина у меня в цене завышена… Да вы поинтересуйтесь, по какой цене мне ее фермеры продают!
— «Почему явились именно ко мне». Никита, ты слышал? — Свидерко хмыкнул. — Гражданин Крайнев, а вы и не догадываетесь?
— И я еще должен гадать?!
— А где ваш родственник Салтыков? Крайнев стиснул руки — аж пальцы побелели.
— Вот оно что… Вот оно, значит, как у нас… Ну хорошо, у вас претензии к нему. Но я-то тут при чем?
— Вы? Вы — подставное лицо. Ресторан номинально ваш, а фактически… И это ни для кого не секрет, — вежливенько осадил его Колосов. Они со Свидерко сейчас разыгрывали классический дуэт: добрый — злой. Точнее, «крикливый и непримиримый» Свидерко и «вежливый тихоня» Колосов — человек, с которым вроде бы на известных условиях можно договориться по-хорошему.
— Мой дядя отдыхает за границей. Вернется осенью. Вопросы какие к нему — пожалуйста! Тогда и спрашивайте.
— А у нас вопросы персонально к вам, Константин Михайлович.
— Коммерческий директор ты, да? — Свидерко прищурился недобро. — Никита, помнишь, как у Ильфа? «Фукс всегда сидел». Он тоже был комдиректор. Твой дядя закон попрал, а тебя — тебя, не его — лишат лицензии. А ежели чего и похуже накопают, чем твоя телятина, посадят.
— Да за что?! Почему вы мне угрожаете? Почему я должен выслушивать ваши оскорбления?!
— Кто убил Марсиянова? Ну? — в лоб неожиданно бухнул Свидерко. — Шевели мозгами — сразу усечешь, почему мы пришли с инспекцией именно к тебе.
— Я.., я не знаю! Да вы что? При чем тут я? Я сам из новостей только узнал, увидел его… — Крайнев (и это сразу заметили сыщики) поплыл. Чего-чего, а такого оборота дела он явно не ждал.
— Но то, что Пришелец — покойник, для тебя не новость. И то прогресс. И ты, значит, ничего про него не знаешь?
— Клянусь, я ничего не знаю.
— Дядька твой — эта коронованная Салтычиха — гнида первостатейная. — Свидерко вздохнул. — Утек, а вас бросил кашу расхлебывать. Ты сам-то где был двадцать третьего числа вечером, а?
— Дома… Точнее, на даче, я…
— Так. Алиби нет. Родственники — не свидетели, учти. И.., тихо, тихо, не прыгай так. Упадешь со стула — лоб расшибешь. Придется зеленкой мазать.
— Когда вы в последний раз видели здесь Марсиянова? — спросил Колосов.
— Н-не помню. Он часто сюда заходил. И один тоже. Неделю, кажется, был назад или полторы…
— Он когда-нибудь приходил вместе с Чжу Дэ? Колосов заметил, как Крайнев вздрогнул.
— Нет. Никогда. Только если они приходили вместе с дядей Васей. А по-дружески — никогда.
— У них были натянутые отношения?
— Это еще слабо сказано. Они друг друга ненавидели. Но… Этот китаец, он же.., я не знаю, что случилось. Он перестал приходить. Говорили — не помню кто, — он вроде уехал.
— Ваш китаец пропал, Костя. — Свидерко снова вздохнул. — Сгинул. И тебе это отлично известно. А сейчас ты назовешь нам имя того, кто его прикончил.
— Но я не знаю!
— Марсиянов? За это его и убили?
— Я не знаю, клянусь! Шурка, он… — Мог так поступить, да? Вполне? Учитывая характер своих с китайцем отношений, — Колосов кивнул. — Но, может быть, и еще кто-то, с кем Пекин ваш не ладил?
— Да, кроме Пришельца, он вроде не собачился ни с кем. Он вообще тихий был парень, малоразговорчивый. Я в их дела никогда не вникал. — Крайнев вдруг густо покраснел. — Он баб не любил — вот и все, что я про него знаю.
— А среди клиентов были его близкие приятели? — Колосов спрашивал тихо, вежливо.
— Ну, он со многими общался… Но я не в курсе, как и что там у них было.
— Ясно, ясно. Да вы не волнуйтесь так, Константин Михайлович. Это же не вы но приказу вашего дражайшего дяди расстреляли Марсиянова из автомата?
— Да вы что?!!
— Не ори ты! — огрызнулся Свидерко. — Что за манера такая — чуть что, глоткой брать? Думаешь, так тебе, что ли, веры больше?
— Среди ваших клиентов в последнее время не появлялись новые люди? Новое лицо, два новых лица — молодые, со средствами, без особых предрассудков, ну вы понимаете, — Колосов мягко гнул свое.
— Нет.
— Старые корешки, значит, только заглядывали, — Свидерко хмыкнул, — шобла вся ваша. Что ж, давай тогда пофамильно о каждом завсегдатае.
— Да я и фамилий-то не знаю!
— Имена, клички — давай пошустрей. — Свидерко вынул из кармана пиджака диктофон, который уже не хотел скрывать. — Пленки-то на все хватит?
Пленки действительно едва хватило на весь «список» Крайнева. Лиц, когда-либо общавшихся в ресторане с Салтыковым, Марсияновым и Чжу Дэ, было много. Колосов прикидывал в уме: проверять всю эту разношерстную компанию — месяц уйдет, а то и два. Среди названных Крайневым был и некий Иван. «Фамилии я его не знаю, живет где-то в центре, — говорил Крайнев, — Приезжал несколько раз на „Хонде“ — такая бордовая или вишневая, темно-красная в общем. У них с дядей Васей дела были какие-то, но я не в курсе. У дядьки со всей Москвой — дела».
Этот "Иван с «Хондой» был в списке восемнадцатым фигурантом. А перед ним шли два лидера Борисово-Успенской ОПГ — их клички у Колосова на слуху давным-давно: известный эстрадный певец — владелец казино на Кутузовском проспекте и.., некто с колоритнейшей кличкой Годзилла. Он второй уже год находился в федеральном розыске по подозрению в совершении трех убийств (по всем признакам, заказных) в Ростове, в Нижнем и в подмосковном Сергиевом Посаде. Все жертвы этих преступлений, как и Марсиянов, были расстреляны в упор из автомата «АК».
24
У «КАМЕЛЬКА»
— И что ты так прицепилась к этой машине? Что за новые бредовые идеи, Катька?
— Может, это и не беспочвенные фантазии, но, Катюша, посуди сама…
Катя сердито смотрела на Кравченко и Мещерского. Разговор проходил на кухне. Приятели (как то было издавна заведено по субботам) ездили в сауну на «Динамо», а затем отдыхали, как говаривал Мещерский, «у камелька». Его роль обычно играл кухонный электрочайник. Кравченко сам заваривал крепкий «таежный», как он выражался, чай, куда клал смородиновый лист, сушеную малину или вишню. Спиртного в такие чайные, посиделки не полагалось. Кравченко считал, что тот, кто глушит после бани ледяное пиво пополам с водкой, а не малиновый чай, — лимита-периферийник, а не потомственный житель Белокаменной. На столе, кроме чашек и вазочки с вареньем, был и огромный спелый сахарный арбуз. Мещерский углядел его у торговки фруктами, когда возвращались из бани по Ленинградскому проспекту. Кате выдали самое вкусное — сладкую серединку. Кравченко заботливо вылущил ножом черные семечки: «Блаженствуй, маленькие любят сладкое».
Однако даже этот арбуз-вкуснятина не улучшил Катиного похоронного настроения. Кравченко и Мещерский, как и Никита, слушают ее вполуха. Им тоже не до нее. У Никиты дела, у них — баня…
Мещерский — румяный, разомлевший, пахнущий свежей туалетной водой и душистым мылом — заметив, что губы Кати обидчиво дрогнули, повторил осторожно:
— Может, это и не беспочвенные фантазии, Катюша, но…
— Сережа, ну какие фантазии! Я же вам объясняю, с этими «Жигулями» что-то нечисто. Я же собственными глазами видела их в Гранатовом переулке у галереи и даже номер записала. И Вадька тоже видел.
— Да не помню я. — Кравченко, подобно Винни-Пуху, хищно нацеливался на блюдце с медом (его, как и варенье, он самолично придирчиво выбирал на Ленинградском рынке у бабок).
— Я специально ездила в Мытищи к бывшему владельцу машины — Панкратов его фамилия. — Катя уже устала повторять им, балбесам ленивым, одно и то же! — Сам он сидит за хулиганство в тюрьме. А сын его… Понимаете — он работу потерял, ему деньги нужны были позарез. Он и продал машину на авторынке в Свиблове. Задешево. Она же старая — сколько бы ни дали! И продал, что называется, по-тихому, из рук в руки. Они не делали перерегистрацию, понимаете? Покупатель просто уплатил деньги, а Панкратов отдал ему машину и ключи. И все — разбежались. Машина по всем нашим учетам по-прежнему числится за Панкратовым. А прежний ее владелец был его тесть — ныне покойник. Но у этих «Жигулей» вот уж год как совершенно другой хозяин!
— Кто? — спросил Кравченко.
— Белогуров или кто-то из его… Ты же сам видел: там в галерее еще два парня были и девчонка.
— Ну да, та кукла несовершеннолетняя, скажешь тоже. Тебе Панкратов так и сказал: «Я продал машину им»? Или прямо по фотороботу опознал, подсуетился?
— Вадя, я серьезно!
— Я тоже серьезно. Не топайте на меня каблучком. Так прямо и заявил?
— Нет. Фамилии покупателя, естественно, он не знает — они же никаких документов не оформляли. Покупатель сказал — зачем, мол, эта морока. А Панкратов его запомнил — говорит, мужик крепкий, средних лет, деловой. Он его наверняка узнать сможет!
— За сколько он отдал тачку?
Катя прикусила язык. За сколько! Эх, хорошо еще, никто не слышал ее беседы в качестве «налоговой инспекции» с этим Борькой Панкратовым! Ей помогло только присутствие за дверью любопытных Карповых, да то, что сам Борька был пьян в стельку: плохо соображал, что к чему. Сначала и понять-то не мог, о чем речь, потом говорить не хотел, упирался. А затем ему вдруг стукнула в голову идея проявить свое «мужское обаяние» и поладить с «инспекторшей» полюбовно. И на что только не приходится идти ради собственного безрассудного любопытства! Катя вспомнила, как он сначала клянчил, а затем открыто вымогал у нее «телефончик — законтачить-пересечься как-нибудь вечерком, когда делать нечего» (она всучила ему телефон дежурной части ГАИ города). Панкратову тогда померещилось, что он в конец обаял молодую «инспекторшу». Однако точной суммы он так и не назвал — отшутился, что «скинул тачку за гроши». Катя прикинула — тысячи, наверное, за полторы «зеленых» — больше эта рухлядь не стоила.
— Катька, послушай теперь меня. — Кравченко включил чайник. — Первое: в том, что этот твой Панкратов продал «Жигули» из полы в полу без бумаг и формализма, нет абсолютно ничего необычного. Сейчас многие так поступают. И второе: нет никаких оснований утверждать, что продал он ее именно галерейщикам. Я понимаю, откуда проистекает твой острый интерес к этим типам. Что, Егория Храброго забыть все не можем, а?
— Прекрати, — Катя начинала злиться. — Я советуюсь с вами о важных вещах. В столичном регионе ищут старые-светлые «Жигули» первой модели. Как раз такие, как эти. Поймите вы, дело очень серьезное. Речь идет о серийных убийствах. А тут.., тут что-то совершенно для меня непонятное. Эта машина принадлежит Белогурову или кому-то из его людей, не спорьте со мной, я уверена, что видела ее. Но для чего таким снобам покупать этакую рухлядь? Да еще тайно, без регистрации, без переоформления? Он, этот покупатель, и: не собирался ездить на этой машине постоянно. Понимаете или нет? Без документов на машину — это, как говорится, до первого же гаишника. «Жигули» были им нужны для чего-то другого.
— Чтоб курочить вечерком. — Кравченко хмыкнул. — Хобби такое навроде детского конструктора. Картины-статуи обрыдли, стели рогожу и лезь под «копейку» гайки подкручивать.
Катя выдернула шнур из розетки — чайник закипел. Она испытывала острое желание придушить «драгоценного В. А.».
Мещерский болтал ложкой в стакане чая с лимоном.
— Катюша, послушай теперь меня, — он произнес ту же самую фразу, что и Кравченко, но на полтона ниже. — В том, что ты нам сейчас рассказала, есть.., ну скажем, любопытные мысли, догадки, может быть, но… Зыбко все это, Катюша. Чрезвычайно зыбко и неубедительно. Более того, с точки зрения логики, все твои подозрения не выдерживают никакой критики.
— Я, кажется, ни о каких подозрениях пока не заикалась!
— Но это так ясно читается по твоему лицу, — Мещерский улыбнулся, — самое главное, ведь наверняка ты не уверена, что свою машину именно Панкратов продал именно Белогурову. Ты ее видела всего один раз, мельком… С точки зрения сыскной логики, конечно, можно было бы кое-что проверить — поспрашивать окрестных жителей в Гранатовом насчет…
— Я с продавщицей говорила в магазине — он рядом там. — Катя чувствовала: ох, не надо ей признаваться в этом!
— И что сказала продавщица? Видела она кого-нибудь из галереи на этих «Жигулях»?
— Нет, Сережа. Ни разу. Но это же и доказывает… Понимаешь, доказывает то, что они по какой-то причине пользуются этой машиной редко и тайно. Может быть, по ночам, когда переулок безлюден и…
Кравченко и Мещерский переглянулись: женщина! Что поделаешь? Все равно все перевернет по-своему.
— Ну хорошо, если даже это и так — пользуются тайно по ночам, как тебе кажется. А для чего им тогда средь бела дня на виду у клиентов ставить эти «Жигули» — призрак у своего дома? — Мещерский был само кроткое терпение. — Для чего, как ты считаешь?
— Я.., просто не знаю. Но это-то и странно! Зачем им?
Тут Мещерский задал сакраментальный вопрос:
— Что думает обо всем этом Никита? Ты с ним говорила?
Гробовое молчание. Катя низко склонилась над сахарным арбузом, поковыряла его мякоть, буркнула:
— Он такой же Фома Неверующий, как и вы.
— Что он тебе конкретно сказал, Катюша?
— Ничего. Даже слушать не стал, дурак несчастный!
Мещерский развел руками: что и требовалось доказать. Раз уж Колосов не реагирует на такие «сигналы», чего ж ты от нас, дорогуша, хочешь?
— Серега, айда хлебнем кипяточку. — Кравченко шумно начал орудовать за столом. — У меня от всей этой доморощенной криминалистики башка трещит.
Катя попыталась закинуть последний крючок.
— Сереженька, Колосов про тебя тут спрашивал. Я сказала — тебя что-то в материалах экспертизы заинтересовало. Он хотел вроде тебе позвонить.
— Он мне не звонил, Катя.
ВСЕ. Больше с ними обсуждать эту тему бессмысленно. Они, как и Колосов, просто не желают ее слушать. Отмахиваются, словно от назойливой мухи. Ее сомнения, ее тревога, ее любопытство — для них просто глупые женские фантазии. Катя откусила кусочек арбуза — какой сочный… Эх, мужчины! Думают — одни они умные, остальные все лопух на лопухе…
Она слушала их беседу «у камелька»: политика, прогнозы на будущее (весьма пессимистические у Мещерского), чей-то телефонный звонок, новая машина общего приятеля… Вот что их сейчас интересует, а она со своими «идефикс»… Даже Сережка ей в этом деле не помощник. А она-то на него надеялась! Сначала вроде бы «вник в суть проблемы», что-то и его заинтересовало в происходящем. Не зря же столько по библиотекам мотался! А потом.., враз остыл. Не нашел, наверное, ответа. Или нашел, но такой, что…
— Сереж, а помнишь, мы говорили об орудии, используемом во всех убийствах, точнее, обезглавливаниях, — она словно за соломинку цеплялась за последнюю «идефикс». — Ты еще сказал: если его найдут — было бы любопытно кое с чем сравнить. С чем, а?
Кравченко, буркнув: «Каннибалы, ей-богу!», демонстративно отодвинул стул, встал из-за стола и вышел в лоджию. Оттуда потянуло сигаретным дымом. Он явно продемонстрировал ей свое равнодушие. Что ж — еще одно разочарование жизни. И «драгоценный В. А.» ей в этом деле — не помощник. Правда, на него, в отличие от Мещерского, она не особо надеялась.
— Не с чем сравнивать, да? — Катя начала собирать со стола чашки.
— Катя, тот предмет, та машина и те люди, о которых ты говоришь, вряд ли связаны между собой. Извини, что так коряво выражаюсь, но ведь ты именно это сейчас имела в виду. Про это хотела услышать. — Мещерский удержал ее за руку, когда она хотела отнести чашки в мойку. — С точки зрения формальной логики, нет ни малейшей связи, понимаешь?
— А с точки зрения неформальной?
Он снова помолчал, потом сказал:
— Не лучше ли тебе переключиться на что-то другое? А это оставить Никите. В конце концов, это его работа.
— Расхлебывать? Он, Сережа.., он с некоторых пор считает, что их вроде бы и не надо искать. Вообще.
— Почему он так считает?
— Потому что они и так свое когда-нибудь получат. Когда свистнет рак. Что-то вроде кары за все грехи. Сразу и оптом.
— С каких пор Никита стал таким фаталистом?
— С тех, же самых пор, что и ты — мистиком, со дня на день ожидающим конца света. Зачем суетиться, когда все равно хана всем. Да, Сереженька?
— Нет, конец нашего тысячелетия и конец света — разные вещи. В последнее можно верить или не верить, как кому нравится. Первое же придет независимо от нашей веры и желаний. Очень скоро, если брать в масштабах Космоса. Только вот доживут не все.
— Я не умею говорить на такие темы. Ни красиво, ни мистически, ни философски — никак.
— Никита просто устал, Катя, — Мещерский смотрел в окно. — И я знаю корни этой усталости: он очень одинок. Мы однажды с ним встречались, давно еще — ну ты помнишь после чего… Посидели у меня дома…Он мне сказал тогда: чувствую порой, что живу в пустыне. А ведь у него много друзей, Катя.
Она поняла, что Мещерский имеет в виду.
— А мне иногда кажется, — ей очень не хотелось в этом признаваться, но не признаться уже она не могла, — что из всех вас в этой пустыне живу именно я.
Тихо скрипнула балконная дверь — Кравченко вернулся. Катя начала молча убирать со стола.
Мещерский уехал домой. Катя перемыла посуду, забралась с ногами в любимое кресло. Взяла книгу. «Дневник одного гения» — странно, что в этот грустный вечер ей попались в руки именно эти откровения Дали. Раз никто не хочет ее слушать, она будет молчать как рыба и только читать, шелестеть страницами. А Вадька…
Он сел на пол у кресла. Она все еще делала вид, что поглощена книжкой.
— Ты сейчас похожа на воробья, — сказал Кравченко. — Я с балкона видел: стайка на крыше копошилась. Потом подрались. Одному наподдали — только пух летел. Остальные улетели — веселые, довольные — мошек ловить. А этот гаврик обиделся на весь мир, надулся, как шарик… — Внезапно он обнял ее колени, уткнулся в них лицом. — Катька моя, какая же ты еще девчонка…
Его затылок… Катины пальцы запутались в его густых волосах. Перебирали их, гладили… А ведь она собиралась весь вечер читать — в упор не видеть «драгоценного В. А.», платя ему равноценной монетой за…
— Я тебе никогда прежде не говорил, — он заглянул снизу в ее лицо, улыбнулся. — Когда я в первый раз тебя увидел, подумал.., ну, кроме разных прочих приятных вещей — мне с этой девчонкой никогда не будет скучно. — Он дотронулся до ее лица. — Сколько мы вместе, столько я и… Словом, я не в пустыне, Катька. Я с тобой. Всегда.
Книжка свалилась на ковер — листы веером… Когда за окном начало светать, Катя заснула.
Кравченко тихо, чтобы не разбудить ее, встал с дивана. Вышел в лоджию. Закурил.
Она плакала этой ночью… Он все еще чувствовал вкус ее слез на губах. И хотя им было очень хорошо вместе — знал: это не были слезы счастья.
Кравченко раздавил недокуренную сигарету о перила, вернулся в постель. Катя спала. Слезы ее давно высохли, волосы разметались по подушке. И вроде все возвращалось на круги своя. Почти все…
Катя проспала до половины двенадцатого — благо выходной. Ей снились смешные и глупые сны. Она не слышала, как Кравченко, напевая что-то себе под нос, возился на кухне с завтраком. Около одиннадцати он позвонил в офис своего работодателя Чугунова, где дежурила охрана. Затем связался и с личной секретаршей Чугунова Анной. Павловной — пожилой «домоправительницей»; имевшей, как и все близкие люди, на Чугунова огромное влияние. Если бы Катя слышала их разговор, он бы ее чрезвычайно заинтересовал. Затем, оставив записку, что «скоро будет», Кравченко куда-то уехал. Вернулся через два часа. Катя в фартуке суетилась на кухне; резала лук для рагу и снова ревела в три ручья.
— Ты чего рюмишь? — Кравченко налил в чашку крепкой заварки. — Иди ко мне.
— Ф-фитонциды.., ед-кие, — Катя всхлипнула. — Лук, мер-зость… Щиплет!
Кравченко нагнул ее голову над мойкой и, как ребенку, начал промывать ей глаза чаем.
— Открой, открой, сейчас все пройдет. Терпи, Катька! Щиплет у нее!
— Ты где был? — Она наконец протерла глаза, захлопали ресницами — еще жжет…
— Где был — там меня уже нет. А ты вот что, душа моя, чтобы завтра никуда с работы не смела срываться. Чтоб как штык у меня была готова.
— К чему?
— Нужно будет нам подъехать в одно место. Куда и когда — придется еще уточнить. — Прекрати говорить загадками.
— Сегодня из офиса Чугунова в «Галерею Четырех» был сделан один звонок, — Кравченко царским жестом подал ей полотенце, — насчет альбома Бориса Григорьева. Да, да, того самого. Звонил мой напарник. Разговаривал с тем самым красавцем, что тебе так приглянулся. Потом с ним беседовала и секретарша Чугунова. Сказала, что для переговоров о покупке вещи в галерею приедут «наши люди».
— Вадя, так ты что же… А твое Чучело в курсе?
— Он на даче. С ним жена и какой-то новый прохиндей экстрасенс. Лечат все еще его, беднягу. А у меня завтра — законный выходной день. А Чугунов, Катька, мало что сейчас соображает.
— А как же секретарша…
— Главное — понимание и взаимовыручка. Я попросил — наша старушка Анна Павловна пошла мне навстречу. Зря, что ль, я ее внука-наркомана из отделения милиции в прошлом году вызволял! И коллега тоже понял меня с полуслова. Я сказал: мне до зарезу нужен такой адресный звонок. Завтра мы побеседуем с этими галерейщиками предметно. Ну, что смотришь так удивленно? Ты же хотела узнать эту теплую компашку поближе. Они ребятки деловые, ушлые. Сойтись с такими накоротке можно лишь на одной почве — деловой. Когда они прибыль почуют реальную. Поняла? В прошлый раз мы там дурака валяли — и этот Егорка нас раскусил, кажется. А вот теперь он поймет, что пришли настоящие клиенты. Чугунова в Москве знают все. Это имя пока что. И никому не покажется странным, что это мое запойное чудо в перьях в наши неспокойные кризисные дни решило вложить кой-какие бабки в нетленку. В то, что всегда в цене, — предметы искусства и антиквариата. И этот альбом «Интим», или как там эта парижская порнушка зовется, как раз вещь такого сорта, что придется моему Чучелу по вкусу.
— Вадик, ну ты и авантюрист. — Катя все еще не верила, что дело принимает такой оборот, лишь цеплялась за руку Кравченко, как клещ. — Ты хочешь завтра взять меня туда с собой? Серьезно?
— Да. Ты разве не этого от меня давно добиваешься? Участия, вернее, соучастия в этом балагане?
— Я.., а что я должна буду им говорить? Опять то же, что и прошлый раз, ту же чушь?
— Говорить буду я. — Кравченко (таким его уж Бог создал) снова распускал павлиний хвост. — Твоя задача слушать, поддакивать мне — твоему мужу и господину, и строить умные обаятельные глаза. Словом, накапливай впечатления от общения с этими галерейщиками. Потом нафантазируете вместе с Серегой Бог знает что — знаю я вас.
— А его мы разве завтра с собой не возьмем?
— Он завтра работает. А потом, чем меньше народу — тем интимней посиделки. Егор этот, Дивиторский, что ли, его фамилия, сказал: чтобы ему завтра перезвонили. Он скажет, где Белогуров будет нас ждать.
— Значит, мы поедем не в Гранатовый переулок?
— Он сказал, мол, у Белогурова какие-то дела завтра в городе. И Бога ради, не вздумай завтра задавать ему вопросы про эти чертовы «Жигули»!
Катя поднялась на цыпочки, обвила его шею руками. «Муж и господин…» — это же надо, а?
— Так-то лучше, — заворчал Кравченко. — Все лучше, чем поливать горючими слезами мое доброе сердечко.
25
ВСТРЕЧА
Катя представляла себе эту встречу совсем не так. Почему-то ей казалось, что все должно произойти вечером, в сумерках, при неярком свете настольной лампы под зеленым абажуром. Такую она видела в демонстрационном зале дома в Гранатовом переулке. Лампа стояла на низком столике из прозрачного стекла.
Но все произошло не так. Кравченко позвонил ей на работу не вечером, а в половине двенадцатого дня.
— Собирайся мигом, через десять минут жду тебя на Никитской. У вашего парадного подъезда.
— Уже едем? Ты им звонил? — Катя сдернула сумку со стула. — С кем говорил? С Дивиторским? Что он сказал?
— Катя, отсчет времени пошел. А мне еще нужно до тебя добраться.
Этот звонок Кравченко сделал из офиса Чугунова. Несколько минут назад отсюда же он связался и с «Галереей Четырех». Трубку взял Егор.
— Галерея. Добрый день, я вас слушаю.
— Добрый, добрый. Вам звонили вчера насчет одной вещички — некоего альбома…
— Да, да, помню. Так вы от Василия Васильевича Чугунова? А с кем именно я говорю?
— Начальник его личной охраны. Кравченко моя фамилия. Зовут Вадимом Андреевичем.
— Очень приятно, а я…
— А мы уже знакомы с вами, Егор.
— Неужели?
— Угу. Я к вам с женой как-то заезжал. Кстати, именно этим альбомчиком тогда и заинтересовался.
Дивиторский на том конце провода выдержал маленькую многозначительную паузу.
— Ах это вы… Что же вы сразу-то не сказали, от кого вы, мы бы тогда…
— Мой шеф не любитель афишировать подобные дела. Вы меня понимаете, Егор? Что, у кого и за сколько — эта информация, по его мнению, должна оставаться строго конфиденциальной.
— Конечно. Мы всегда самым тщательным образом следим, чтобы интересы наших уважаемых клиентов не пострадали. Кстати.., а Василий Василич, когда ему нужна информация насчет вещей такого сорта, всегда сначала посылает вас на них взглянуть? — Дивиторский не мог удержаться от ядовитого сарказма.
— Угу. Почти что. Я, может, и не очень секу в этих антиквариатных штуках, Егор, однако.., в людях я разбираюсь неплохо. Должность у меня такая. — Кравченко хмыкнул. — Меня посылают смотреть не вещь, а продавца. Не проходимец ли, не кидала, не жулик ли подзаборный. А вещь… Когда решат купить ее у вас, полк специалистов найдется, чтобы проверить ее подлинность и ценность со всех сторон.
— Я понимаю. Конечно, так и должно быть. — Егор, испугавшись, что своей дерзостью может оттолкнуть выгодного клиента, заспешил:
— Иван Григорьевич в курсе, я ему все передал. Рад помочь такому уважаемому человеку, как господин Чугунов. Белогуров будет ждать вас сегодня в двенадцать часов на Крымском валу — выставочный зал знаете? К сожалению, раньше никак нельзя — там аукционные торги. А позже он занят и.., вам удобно в двенадцать?
— Сойдет. Где точно он нас будет ждать?
— Он вас встретит в вестибюле.
— Ясно. Мы приедем.
На том и расстались. Кравченко коротко передал суть беседы Кате уже в машине, когда они ехали по Садовому кольцу. Отметил про себя: Катя сильно волнуется. С чего бы?
А она… Она действительно волновалась и отчего-то ощущала себя не в своей тарелке. Утром сегодня едва на работу не опоздала — все не могла оторваться от зеркала. Самая главная мысль, терзавшая ее, была: что надеть на встречу с этим человеком? Какую сумку, какие туфли выбрать? Заколоть ли волосы? Или пусть они падают на плечи «тяжелой шелковой волной», как Мещерский говаривает. Какие выбрать духи? И надо ли вообще ими сегодня пользоваться? Она и сама удивлялась суетности своих помыслов в этот важный момент, но…
— А если они сразу потребуют деньги вперед? — спросила она, когда Кравченко закончил. — Это же огромная сумма! Что ты будешь делать — откажешься от переговоров?
— Прежде чем заломить цену, он должен показать вещь, убедить, что она — не подделка, а подлинник. Альбома, а это Дивиторский еще прошлый раз говорил, у них в галерее нет. Его надо еще где-то доставать. Так что… Такие сделки, Катя, не совершаются в один день с бухты-барахты. Потребуется несколько встреч, ну и… Пользуйся. Изучай обстановочку. Собственно, ради кого я всю эту бодягу затеял?
В вестибюле выставочного зала было пусто и безлюдно. Катя помнила времена, когда сюда, на Крымский вал, в былые дни модных нашумевших вернисажей выстраивались хвостом длиннющие очереди. Но дни эти, видно, канули в Лету. Сейчас здесь торговали книгами, видеокассетами, слайдами и открытками. А у дверей бара помещалась «Лавка художника», где на стендах красовались рамы для картин, багет, коробки масляных красок и пастели, кисти и многое другое.
Белогуров заметил их первый. Странно, но он сразу понял, что они те, кого он ожидает. Катя взглянула на него и… Лицо этого человека она так мучительно припоминала все последние дни. Но даже сейчас, когда он находился рядом — знакомился, здоровался с Кравченко за руку, — она еле-еле его вспомнила. Совершенно непримечательный тип: усталый, погасший какой-то, серый как пепел. И эти отечные мешки под глазами… Почки, что ли, больные? Самое яркое в его внешности — одежда, дорогая и модная. Серый в полоску костюм, изящная рубашка, галстук — такие, кажется, в новой коллекции бутика «Хьюго Босс» в Пассаже, портфель-папка из сафьяна с серебряным вензелем, аромат первоклассной мужской парфюмерии…
— Здравствуйте. — Белогуров вежливо кивнул Кате. Ничего не отразилось в его глазах. Он ее просто не узнал. — Пойдемте. Здесь сносный бар. Полупустой в будние дни. Там нам никто не помещает.
В Тесном баре, где из невидимого динамика хрипло и проникновенно пел Рей Чарлз, они оказались почти единственными посетителями. Белогурова тут, видимо, хорошо знали: бармен приветливо кивнул ему, как старому знакомому.
— Что вам заказать? Клиенты — всегда мои гости. — Белогуров достал из кармана пиджака пачку сигарет и предложил Кравченко.
— Мне нарзан, я за рулем, — тот угостился сигаретой, глянув на этикетку — дорогие «Давидофф».
— А что хочет ваша жена?
Катя поняла: раз Вадька избрал себе роль трезвенника-телохрана, то ей она уже не к лицу.
— А мне.., мне джин с тоником или шерри — ну что есть, без разницы. — «Пусть думает, что я люблю, в отличие от своего муженька, выпить!»
— Паша, значит, джин с тоником, минералку, а мне как обычно. — Белогуров благосклонно кивнул бармену.
Когда принесли заказ (бармен сделал это лично), Катя отметила, что у Белогурова в бокале что-то крепкое: коньяк или бренди. Причем весьма солидная порция. «Как обычно, привычка, значит…»
— У вас тут какой-то аукцион, что ли, был с утра? — спросил Кравченко.
— Должен был быть. Люди съехались, а торги отменили. Кризис. — Белогуров пригубил коньяк. — Жизнь замирает. Ну-с, я так понял, вас, точнее, господина Чугунова интересует творчество Бориса Григорьева. Это радует. Такие большие люди проявляют интерес к искусству. Значит, мне и моим коллегам еще будет где Заработать на кусок хлеба. — Он обернулся к Кате:
— Извините, ча вы, как и ваш муж, тоже работаете у Василия Васильевича, неужели и вы — телохранитель?
— Я юрист, — ответила Катя, — Василий Василич решил, что на встречу с вами моему мужу будет удобнее ехать вместе со мной.
— Все должно выглядеть так, — Кравченко кашлянул, — что это мы — ваши клиенты. Имя моего шефа нигде в документах на вещь не должно упоминаться.
— Этот альбом нельзя вывозить за рубеж, — Белогуров усмехнулся краешком губ. — Если под всем этим вы это имеете в виду — то должен предупредить вас сразу. Альбом внесен в специальный запретительный перечень. Возникнут серьезные проблемы. И не только на таможне.
Кравченко хмыкнул — вроде он такого поворота «не ожидал».
— Значит, вещь запрещена к вывозу?
— Я честно предупредил вас, — Белогуров отпил глоток коньяка.
— Ну ладно… С этим пока ладно, там решат… — Кравченко «колебался». — А на каких же условиях вы беретесь достать эту вещь?
Белогуров облокотился на столик.
— К сожалению, у меня лично этого альбома нет. Возможны два пути сотрудничества: либо за определенный процент комиссионных я навожу для вас справки, ищу продавца и владельца и участвую в сделке в качестве посредника и вашего доверенного лица. Либо вы делаете мне предоплату, а я выкупаю вещь у ее нынешнего держателя или приобретаю ее на аукционе, если узнаю, что она выставляется на торги. В случае аукциона, опять же должен сразу предупредить вас, ваши расходы возрастут. Сами понимаете, что такое аукцион.
Катя смотрела на Белогурова. Он говорил все это тихо, внятно, по-деловому и вместе с тем.., с каким-то полнейшим равнодушием к происходящему. Словно ему было наплевать — согласится ли клиент на его условия — нет ли… «Он же профессионал, делец, коммерсант, — подумала она. — А тут реальная сделка и барыш крупный, а он ведет себя словно настоящий „пофигист“. Или он раскусил, что мы снова валяем дурака? Да нет, он же встретился с нами. Имя Чугунова тут явно сыграло нам на руку. Он встретился с нами, а ведет себя так, словно и мы, и сделка его абсолютно не интересуют. Это факт. И потом, почему он столько пьет? Коньяк „наперстками“ пьют, а у него вон какой фужер! Разве такие сделки обсуждают нетрезвым? А впрочем, — тут Катя про себя вздохнула, — это у тебя, дорогуша, чисто женская логика. У них, мужчин, логика иная. И для них ведро коньяка в таких делах — не помеха, а подспорье. Наоборот, мысль „на сухую“ не идет».
— Я передам Чугунову ваши условия, Иван Григорьевич. — Кравченко кивнул. — Сегодня же. А из какого же процента вы согласитесь выступить в роли нашего посредника?
— Обычно я работаю из десяти-пятнадцати процентов комиссионных от стоимости вещи.
— Дерете три шкуры, — Кравченко усмехнулся.
— Кризис. Все хотят жить, я тоже, — Белогуров вертел рюмку, словно разглядывая остатки коньяка на свет, — тяжелые времена. — И вдруг обернулся к Кате:
— А что вы на меня так смотрите?
— Я? А мы ведь с вами встречались. Не помните? Вот, вы даже визитку мне свою дали. — Катя достала из сумочки белый кусочек картона с виньеткой.
— Встречались? Где же?
— А магазин такой восточный на Варшавке — сувениры, благовония, пряности.
— А-а, — он смотрел на Катю и.., она видела — не мог (или не хотел) ее вспомнить. «Странные какие глаза у него, — подумалось ей. — Уплывающие, словно дым…» — Извините. Память коварные шутки шутит в последнее время. Старею, что ли?
Она чувствовала: между Белогуровым и ею — словно непроницаемая стеклянная стена. Он отгорожен этой стеной от них ото всех — и от клиентов, и от бармена, и от Рея Чарлза, и от той вон парочки каких-то полубогемных прикольщиков, что гнездились за угловым столиком и посасывают пиво… Он смотрит на них, слушает их, отвечает на их вопросы разумно и по-деловому, но при всем этом — он словно никого из них не видит в упор. Смотрит сквозь них, сквозь эту призрачную стену, различая за ней лишь… Что? Этого Катя не знала. Возможно — свой собственный смутный силуэт, свое отражение в стекле, свое второе "я", как тот его блистательный компаньон Егор Дивиторский, которого словно Нарцисса из мифа завораживают гладкие полированные поверхности и зеркала. «Почему же он пришел тогда в милицию? Зачем сдал нам этого иконокрада? Что заставило его так поступить? — снова подумала Катя. — Что же?»
— Сегодня вечером вам позвонят. — Кравченко был сама деловитость. — Личный секретарь господина Чугунова — она сообщит окончательный ответ. Думаю, он согласится на ваши условия. Они, мне кажется, вполне приемлемы. Конечно, не хотелось бы связываться ни с какими аукционами, Иван Григорьевич. Сыскали бы вы нам по своим каналам какого-нибудь тихого старичка-коллекционера с этим альбомчиком, потолковали бы с ним по душам, уговорили… Вот скажите, этот альбом Григорьева — ваш компаньон, кажется, в прошлый раз уточнил: у этой книги был ограниченный тираж… Но это реально найти эту вещь тут, у наших коллекционеров, а не за бугром?
— Думаю, что да. Я наведу справки, как только получу от вашего шефа конкретный ответ — согласен ли он.
— Но это не совсем пристойная вещь, не так ли? — кротко спросила Катя.
Белогуров покосился на нее.
— Ну, я бы так не сказал.
— Мне в тот раз показалось — нечто в духе Тулуз-Лотрека.
— У Тулуз-Лотрека было много работ. Какие конкретно вы имеете в виду?
— Те картины, например, что находятся в частных собраниях и никогда не выставлялись.
— Откровенная порнография? Таких вещей у этого карлика с герцогским титулом было немного. Даже полотна, написанные им в парижских публичных домах с натуры, в большинстве своем вполне невинны. Григорьева же вообще не интересовала такая постановка вопроса. Он не ставил себе задачу эпатировать зрителя непристойностью. Его просто интересовал интимный мир женщин.
— А вас не удивляет, что шеф моего мужа остановил свой выбор именно на этом альбоме? — спросила Катя.
— Нет.
Она видела: это его действительно не удивляет. Он привык. Или опять-таки — ему наплевать?
— Ну, значит, так, — Кравченко широко улыбнулся Белогурову. — Я информирую Василь Василича, а вы ждете нашего звонка. И уж исходя из его содержания… И самое последнее, пока не забыл: если договоримся, и вещь окажется у кого-то из известных вам коллекционеров, и вы ее отыщете для нас — прежде чем с ее приобретением что-то решить окончательно, вы позволите нам с женой взглянуть на нее, прежде чем ввязывать в дело эксперта-оценщика?
— Конечно. Я не продаю кота в мешке. Я привезу вас к продавцу. Или вы и он приедете ко мне в галерею, — Белогуров кивнул равнодушно. — Рад был познакомиться. Рад буду помочь. И рад буду впредь сотрудничать. Поклон от меня Василию Васильевичу. Кстати, как его здоровье? Слышал тут как-то в одном месте, что с ним что-то…
Кравченко развел руками: мол, без комментариев. Пойми меня правильно, уважаемый. Белогуров понял; Они вышли из бара вместе (расплачивался Белогуров) и расстались в вестибюле.
— Я хочу посмотреть, куда он отсюда тронется, — сказала Катя, когда они сели в машину. — Давай-ка встань во-он там. Подождем его.
— Ну, и каковы впечатления? — Кравченко прикурил. — Довольна? Или тебе все мало? — Ничего необычного в поведений вроде бы нет. Только вот какая-то странная апатия ко всему, и пьет… Первый раз видит клиентов, сделка вроде бы крупная замаячила, а он… В таком фужере — он ведь, кажется, для шампанского — сколько грамм?
— Двести пятьдесят.
— Двести пятьдесят граммов коньяка?! Целый стакан?!
— А что, много, что ли? — Кравченко хмыкнул. — Этот Белогуров — парень здоровый. Только рыхлый. Мускулы как кисель. Интеллигентик!
Они ждали минут двадцать. Потом увидели его. Белогуров спустился по ступенькам, подошел к припаркованной на углу вишневой иномарке с тонированными стеклами. «Та самая, — отметила Катя, — „Хонда“ вроде — Воронов говорил». Белогуров сел за руль.
— Поехали за ним! — Катя так и загорелась. — Надо же какой, напился и едет. Еще задавит кого-нибудь. Поехали скорее!
— Нет, — Кравченко не тронул машину с места. — За ним мы не поедем.
— Почему? Я хочу узнать, куда он такой пьяный! собрался? Ну, пожалуйста, давай за ним!
— За ним не поедем. Почему — подумай сама. Этом был бы неверный ход.
— Он нас, точнее, тебя заметит?
— Не думаю. Но рисковать не стоит. Можем только все испортить. А потом такая слежка,. Катька, это игрушки для дефективных.
Катя сначала надулась, но потом решила: а может, Вадька и прав. Нечего пороть горячку, действительно можно навредить.
Она была бы чрезвычайно удивлена, узнав, куда именно направился Белогуров после беседы с ними. Через четверть часа он уже парковал «Хонду» на углу Никитской улицы.., возле здания ГУВД. Дело в том, что на руках у него была повестка с вызовом на 14.00 к следователю со смешной фамилией Ластиков.
Вчера вечером он звонил Белогурову в галерею, просил приехать для «оформления процессуальных документов». Ведь в деле иконокрада Могильного Белогуров по-прежнему оставался главным свидетелем обвинения.
Ластиков заказал ему пропуск и ждал на вахте у патрульного милиционера у бюро пропусков.
— Иван Григорьевич, и вы здесь, день добрый! Белогуров медленно обернулся: кто-то тронул его за плечо. А, это тот майор из розыска — Колосов его фамилия. Он только что вошел с улицы. Улыбается дружески, руку жмет… Рядом с ним какой-то тип в джинсах и черной щегольской рубашке с золотой цепочкой на шее (то был Свидерко), и с ними же…
Белогуров неожиданно для себя узнал в человеке, который пришел вместе с Колосовым… Константина Крайнева. Последний раз, помнится, они встречались в «Колорадо». И Шурка Марсиянов, и Пекин еще тогда были живы…
— Иван Григорьевич, нам с вами на второй этаж. Следственное управление там, — следователь Ластиков вежливо пропустил его вперед, — я вас не задержу, не беспокойтесь. Формальность!
Белогуров видел: Крайнева эти двое уводят куда-то по коридору. Племянник Салтычихи вдруг оглянулся. Потом оглянулся и во второй раз. Они встретились с Белогуровым взглядами.
26
В ПУСТЫНЕ
Кравченко довез Катю до Охотного ряда и умчался. Она заторопилась: столько дел брошено на самотек — пожалуй, до вечера теперь не управиться. Однако мыслями она все время возвращалась к Белогурову и…Вот увидела она этого человека, задала пару вопросов, и он своими безучастными ответами и апатичным поведением словно разочаровал ее. Усталый, равнодушный, холодный. Запах алкоголя и дорогой парфюмерии, яркий фирменный галстук. Это все, что ей запомнилось в нем. А лицо его, которое она всего час назад так внимательно изучала, снова ускользало из памяти.
Катя поднялась в кабинет, занялась текущими делами, но думала по-прежнему о своем. Ее уже начинали терзать сомнения: а не напрасно ли они с Вадькой затеяли всю эту глупую «инсценировку»? Она злилась на себя за подобное непостоянство: надо же, легкость мысли необыкновенная! Однако… Разочарование завладевало ее душой все сильнее и сильнее. Этот человек ее разочаровал. Он совершенно не был похож на…
Неожиданно Катя вспомнила свой последний разговор с Мещерским. Ее в тот вечер обескуражила и тоже разочаровала странная Сережкина апатия: поначалу вроде бы заинтересовавшись необычным делом, он вдруг разом охладел к нему. Когда же произошла в нем эта разительная перемена? В момент, когда она, Катя, с упорством одержимого начала внушать ему, что с «Жигулями» Белогурова и компании что-то не так. Сережка же, едва она заводила речь об этих своих подозрениях, начинал явно скучать. А ведь перед этим он немало вечеров просидел в Ленинке, что-то искал там в книгах (каких, интересно?). Искал ответ на какой-то вопрос, который, возможно, возник у него в процессе ознакомления с результатами судебно-медицинской экспертизы обезглавленных трупов. Мещерский искал ответ, быть может, не точный, а примерный, пытался провести некие параллели (между чем и чем, интересно?) и… Катя тогда сделала вывод: не нашел ничего, поэтому и отступился. Но, быть может, она ошиблась? Ведь Сережка — уж такой он человек, — раз за что-то взялся, обязательно доведет до конца… Ответ он, возможно, все же нашел, но… Но, видимо, этот ответ совершенно не вписывался в некую новую логическую схему, предложенную…
Катя вздохнула: а ведь она в тот вечер не желала ни слушать, ни говорить ни о чем, кроме тех «Жигулей», Белогурова и его галереи. А Мещерский слушал ее идеи неохотно. Почему? Не потому ли, что просто не мог соотнести свои собственные идеи и версии по этому делу с версией о личности подозреваемого, столь необоснованно и бездоказательно, на почве лишь каких-то смутных домыслов и фантазий, предложенных Катей. Мещерский — и это было Кате отлично известно — не любит спорить и противоречить ей и предпочтет всегда лучше отмолчаться, чем…
Катя полезла в стол, порылась среди бумаг. Достала распечатку заключения комплексной судебно-медицинской экспертизы, возвращенную Мещерским. В который раз, внимательно прочла от начала до конца выводы патологоанатома: ужас, прямо мороз по коже. Сережку, помнится, поразило, «как низко подрезаны» эти несчастные: вместе с головами у всех жертв удален и почти весь шейный отдел…
Она оторвалась от заключения. Садизм, дикость, варварская жестокость, лужа крови на траве, полуголые изуродованные тела и… Этот человек? Ну что между ними общего? Ничего. На чем же строились ее смутные, чисто «интуитивные», как пишут в дешевых детективах, подозрения? Неужели только на одной старой машине, которых в Москве тысячи? А машина эта до сих пор — призрак…
Мещерский осознал это сразу: крайняя неубедительность и шаткость ее доводов. Если он уже отыскал для себя какие-то «параллели», которыми отчего-то так упорно не желает поделиться с ней, они, видимо, близко не стоят с личностью хозяина «Галереи Четырех» и той средой, той аурой, которая окружает этих столичных торговцев антиквариатом, привыкших считать товаром все то, чем обычные люди любуются лишь в музеях. Но если все это на самом деле так, то выходит, что все их с Вадькой сегодняшние усилия потрачены впустую? И эта инсценировка под «солидных клиентов от Чугунова», которую ради нее затеял Вадька, — блеф? А кстати, что будет, если Белогуров, так и не дождавшись от них звонка, сам по своим каналам (человек-то он богатый и со связями) выйдет на Чугунова и поинтересуется, «как обстоят дела с нашим альбомчиком»? Что тогда случится с Кравченко? Ради чего, собственно, стойло городить весь этот авантюрный огород? Не ради того ли, чтобы наконец понять то, что еще прежде своим деликатным умолчанием и отговорками ей пытался внушить Мещерский: нет" никаких оснований полагать, что эти люди, эта машина и эти обезглавленные каким-то образом связаны между собой. Нет оснований подозревать их в этом кромешном ужасе…
«Глаза у него как дым костра, — подумалось вдруг Кате. — И ОН помог нам. Бескорыстно — выходит, так. И это все, что я о нем знаю. И лучше верить человеку просто оттого, что верится, хочется верить, чем с ходу без всяких на то причин записывать его в садисты и, чудовища. И правда — „под каждым деревом — маньяки…“. А сомнения в отличие от уныния — не смертный грех, а…»
Зазвонил телефон. Катя машинально сняла трубку.
— Катерина Сергевна, привет, это я. Надо же, Колосов. Сам объявился…
— Ты занята сейчас?
— Вообще-то да.
— Тогда… Слушай, не срывайся сразу домой. Задержись, пожалуйста. Мне очень нужно с тобой потолковать. Я зайду.
Катя все так же машинально повесила трубку. Он зайдет, надо же — осчастливил! Ему «надо потолковать». Когда было надо ей, он отмахнулся: «потом, после». А вот она возьмет и так же с ним поступит!
Смоется, не дождавшись. А потом заявит: извини, брат Никита, дела-делишки.
Но она не ушла. Когда около половины седьмого Колосов заглянул в ее кабинет, Катя деловито и сердито набирала что-то на компьютере: А Колосова встретила равнодушно-любезной улыбкой.
А он пришел к ней после долгого разговора с Андреем Вороновым. Вместе они тщательно изучали выборки программы «Поиск». Малыш Воронов недоумевал: что это шеф вдруг так заинтересовался, как он неуклюже пошутил — «чем вы тут с Катериной все это время занимались». Колосов забрал для себя данные по иномаркам, числившимся по учетам ГАИ за Белогуровым и Дивиторским, а также по «Жигулям», принадлежавшим некоему Панкратову из Мытищ. Записал все это в особый блокнот — в розыске знали: туда попадают лишь те данные, по которым Колосов собирается работать лично и безотлагательно. Воронов был крайне заинтригован: что происходит? Ведь Колосов вместе с коллегой из МУРа Свидерко и почти всем личным составом отдела убийств всю последнюю неделю занимался отработкой какого-то крутого кабака на Киевском шоссе. Коммерческого директора этого заведения сегодня даже в управление привозили для беседы.
Однако никаких объяснений Воронов не получил. Колосов лишь пообещал шутливо: «Старайся, Андрюшка. Скоро новую технику на отдел получим. А поскольку ты у нас молодой компьютерный гений, тебе и карты в руки».
Колосов присел на уголок письменного стола. Катя, как и малютка Воронов, явно ждет пояснений. А он вроде бы не знал, с чего начать…
Всего каких-то четыре часа назад случилось одно происшествие, которое… Колосов слушал себя: ну что же ты? Продолжай: которое… Но выводов никаких не рождалось. Просто, когда сегодня днем они со Свидерко завели Константина Крайнева в кабинет (предполагалось всего-навсего ознакомить его там с некоторыми фрагментами видеокартотеки розыска «Исполнитель заказа», на пленках которой были засняты многие преступные авторитеты, а также лица ранее судимые, проходившие по делам о заказных убийствах, — словом, тот «спецконтингент», среди которого Крайнев вполне мог опознать некоего Годзиллу, встречавшегося в ресторане с Салтыковым и, возможно, причастного к расстрелу Марсиянова-Пришельца), — когда они завели его в кабинет, Крайнев обернулся к Свидерко и вдруг выпалил:
— Это противозаконно, я буду жаловаться! Такие вещи должны проводиться только в присутствии моего адвоката! Я знаю закон — это мое конституционное право! Без адвоката, я категорически отказываюсь участвовать в подобной очной ставке!
— То есть? — Свидерко опешил. — В какой еще очной ставке?
— Как в какой? Да с этим типом, с которым вы нас намеренно столкнули в вестибюле! Вы же спрашивали у меня про.., тех, кто бывал в моем ресторане. Я назвал его, и вы… Не прикидывайтесь дурачками! Я все понял! Такие вещи должны происходить в присутствии адвоката! Я знаю свои конституционные права!
Колосов вдруг наклонился (Катя с удивлением наблюдала за ним) и.., выключил телефон из розетки.
— Так нам и совсем никто не помешает. — Он смотрел на нее. — Ну, и что ты, Катерина Сергеевна, в прошлый раз хотела мне рассказать о Белогурове и каких-то белых «Жигулях»?
— Тебя Андрюшка проинформировал?
— Почти что. — Колосов отвечал мягко, но уклончиво. — Так в чем там дело?
Она пожала плечами: надо же, у нашего гениального сыщика пробудился профессиональный интерес! Однако поздновато спохватились, Никита Михайлович. Но он все смотрел на нее и… Катя изложила эпопею о поездке в Мытищи неохотно и кратко.
И Никита, кажется, остался недоволен ее лаконизмом.
— А откуда ты вообще про Белогурова узнала? — спросил он.
Катя опять же сухо «проинформировала» Колосова, как они заинтересовалась делом о краже икон из стахановского храма, о беседе со следователем Ластиковым. Но умолчала, однако, о том, что фамилия Белогурова была ей уже знакома. Намеренно умолчала о встрече в магазине восточных сувениров.
— А для чего ты отправилась в галерею? — не унимался Колосов.
— Хотела сделать интервью с очевидцем, точнее, с добровольным помощником, оказавшим содействие правоохранительным органам в обезвреживании опасного рецидивиста и возвращении ценностей, — она отбарабанила это без запинки.
— И ты там говорила с Белогуровым?
— Нет. Он отсутствовал. Когда мы.., когда я, — Катя твердо посмотрела в глаза Никиты, — уже уходила из галереи, увидела возле дома старые «Жигули» первой модели. Машинальна записала номер. Рефлекс милиционера — это же так просто!
— А кто был в галерее? С кем ты там беседовала?
— С компаньоном Белогурова — его фамилия Дивиторский, зовут Егором. Неужели Воронов тебе не сказал — он в курсе.
— А кроме него, там еще кто-то был? Катя помолчала секунду, а потом ответила:
— Там больше никого не было, Никита.
Она не могла объяснить себе, почему она ему солгала. Почему не упомянула ни о той девочке, ни о том кудрявом парне, похожем на раскормленного купидона… Почему? Не потому ли, что сама не могла отделаться от ощущения, что Никита не вполне откровенен с ней? Чтобы проверить, спросила:
— А с какой стати ты вдруг всем этим заинтересовался?
— Это длинная история, Катя. Снова мягкий уклончивый ответ. В ней начинало нарастать раздражение. Секунду назад она уже была готова рассказать ему о сегодняшней встрече с этим человеком, но…
— Катя, ты больше ничего мне не хочешь сказать?
— Нет, мне нечего больше тебе сказать, Никита. С машиной — это какое-то недоразумение, наверное.
— Ты в галерею с Мещерским ездила? — тихо спросил Колосов.
— Нет. Я ездила туда не с Мещерским.
— А с кем?
— Одна, — она снова солгала ему. И на этот раз уже могла себе ответить — почему.
— Тебе правда больше нечего добавить насчет этого всего, Катя?
— Правда. А тебе?
Колосов отвернулся. Он совсем не так представлял себе этот разговор. Ну, видно, сам виноват… Внизу, в кабинете управления розыска, его уже ожидал Свидерко. С ним еще предстояло обсудить множество вопросов. Когда за Никитой закрылась дверь, Катя начала собираться домой. Она чувствовала раздражение, досаду и снова — то сосущее душу разочарование. И он, этот умник, еще посмел заявить Сережке, что «порой чувствует себя как в пустыне»! А чьими руками эта пустыня, этот вакуум непробиваемый создан? Не его ли собственными? Она швырнула сумку на стул. Ну и пусть все идет как идет. И ничего не нужно менять: он будет в своей пустыне — она в своей. И точка. И каждый сам за себя.
* * *
Каждый сам за себя. И точка. Все равно ничего уже изменить невозможно! Белогуров крепко стиснул бокал с коньяком, ощутил прохладу и хрупкость стекла. Он сидел в баре «Покровский дворик». Приехал сюда сразу же, как его отпустил тот следователь со смешной фамилией Ластиков. И коротал за стойкой бара вот уже четвертый час. Сколько рюмок он выпил? Одна, вторая, пятая, шестая… Все плывет перед глазами — дым, дым, дым… И машину теперь придется оставить здесь, за руль таким вот не сядешь, ну да ничего… Сейчас ему было абсолютно наплевать, угонят ли его тачку, оставленную на ночь у бара без присмотра, — нет ли… Странная какая апатия, а? Белогуров и сам себе удивлялся, но ничего уже нельзя было изменить. С тех пор как это снова произошло в его доме, апатия — точнее, Вата, как он называл это про себя, прочно воцарялась в душе. С тех пор, как сдох Гришка Якин…
Белогуров помнил все. Он, как последний кретин, грохнулся в обморок там, в подвале. Егор и Женька вытащили его в холл. Он пришел в себя уже на кожаном диване. А рядом сидел Чучельник. И футболка его была вся в крови…
— Не забудь переодеться, — прошептал Белогуров. Язык был как свинцовая гиря.
Чучельник лишь слабо улыбнулся в ответ. И не спускал глаз с Белогурова.
— Иди, иди от меня, пойди умойся! Ты на свинью похож… Оставь меня в покое! — Белогуров пытался подняться.
Чучельник и ухом не повел. И с места не тронулся. Лишь вытер рукой лицо, словно ему было нестерпимо жарко.
Этот же самый жест повторил в кабинете следователя Ластикова и сам Белогуров, хотя ему не было жарко. Впрочем, и нервный озноб его тоже не бил. Сердце не екало в груди, душа не дрожала, нет — и внешне, и внутренне вроде бы ничего в нем не изменилось. Да, он увидел Костьку Крайнева. Здесь, в этих негостеприимных стенах. И они переглянулись, как заговорщики. Ну и что с того? А разве не было ему, Ивану Белогурову, ясно с самого начала, что убийство Пришельца — столь демонстративное и устрашающее — не может пройти незамеченным для этих «суклегавых», так, кажется, называют их в кругах, «близких к дяде Васе», еще по старинке? Что ж, если они, эти суки, спросят его, Ивана Белогурова, о Крайневе, о Салтычихе, о Пришельце и… Он ответит… Итак, что же он им ответит?
Белогуров залпом допил коньяк: седьмая рюмка. И он пьян, как.., сапожник? Нет. Как водопроводчик? Тоже неудачное сравнение… Как свинья? Свиньей был Чучельник в своей окровавленной футболке… А ему, Ивану Белогурову, интеллигенту, мальчику из хорошей московской семьи, знающему наизусть Пруста и Джойса, умеющему со вкусом потолковать о фрейдизме, экзистенциализме, буддизме, постмодернизме, ташизме, дадаизме, примитивизме, конструктивизме и.., еще сотнях разных «измов», просто не пристало…
Зазвонил «мобильный». Феликс Михайленко — собственной персоной — надо же… Улетает, прощается. Когда? Уже сегодня, сейчас — звонит из Шереметьева? Какой рейс?
— Иван, да ты пьян, что ли? — Феликс хмыкнул. — Ты еле говоришь!
— Все нормально. Я пьян. И я счастлив, как.., как тот твой римский легионер…
— Ты ничего мне не хочешь сказать, Иван? Я могу на тебя рассчитывать?
— Можешь. Какие сомнения? Подарочек будет, будет тебя ждать… Я узнал. Я все уже узнал у нашего сведущего господина Табаяки. И Сингапур есть Сингапур, Феликс. Там все есть. Абсолютно все, как в Греции..
— И больше ты ничего не скажешь мне на прощание? Уже объявили посадку.
— Только не умирай. Пожалуйста.
— Что? — Голос Михайленко вдруг сел.
— Не умирай, живи, я тебе сказал! Оп-перация — дрянь, пустяки, п-перекроят морду — а ты терпи… Живи, понимаешь? Живи хоть ты. Живи, слышишь?!
Он чересчур повысил голос — и заметки недоуменный брезгливый взгляд бармена. Такой же, как у того ублюдка Чучельника тогда… Брезгливость — вот что он, Белогуров, столь явно прочел во взгляде Создания там, в холле, на кожаном диване…
— П-понял… Извини, друг, погорячился, п-приятель такой бестолковый, — Белогуров развел руками, улыбнулся бармену. — Еще одну, а? И все, финита. А от-тсюда можно вызвать т-такси?
Снова сработал «мобильный».
Белогуров сначала не понял — а это кто? Вежливый голос. Что за ведьма еще? Чугунов? Кто такой Чугунов? Ах, этот спившийся ублюдок… Говорит его личный секретарь? Берут вещь? Согласны? Ах да, понял, понял… Он тоже с-согласен… Рад, чрезвычайно рад с-сотрудничеству… П-польщен…
После секретарши Чугунова трубку взял какой-то мужик: хрипловатый ленивый баритон. Ах, этот хлыщ, с которым они виделись сегодня на Крымке.., телохран Чугунова. Телохран, как и Пришелец, как и Пекин… Этакое странное везение на телохранов!
Белогурову было плевать, что этот тип там болтает. Коньяк уже плескался в нем, как жгучее озеро. И хотелось утонуть там навеки. Утонуть — и никогда не всплывать.
27
ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
Этот день от рассвета до заката они все провели по-разному. Кате, например, день этот не принес ни новостей, ни радостей жизни — одни волнения и хлопоты. В Подмосковье случилось новое громкое убийство: на пороге собственной квартиры был расстрелян директор межрегиональной нефтеналивной базы. И телефоны в пресс-центре не умолкали. Из района Катя вернулась уже под вечер. Впечатления последних часов, дней, недель наслаивались одно на другое: ни конца — ни начала. И ясности никакой. И только кровь, смерть и снова кровь…
Кравченко заехал за ней на работу. Он тоже был разочарован. На это имелись собственные причины; никакие экстрасенсы не помогли. В который уж раз его работодателя Чугунова скрутил жесточайший приступ печени. Личный врач настаивал на немедленной госпитализации, а Чугунов отказывался. Его близкие — жена, старая верная секретарша, охрана — пытались уговорить упрямого, но…
Кравченко собирался отвезти Катю домой, а затем вернуться на дачу работодателя: Чугунову могло стать ночью хуже. «Надо уломать старика насчёт клиники, — сказал Кравченко после того, как поведал свою грустную сагу Кате, — загибается он вовсю. Жалко все же. Он, когда упрется, одного меня и слушает, да и то — вполуха».
На Катин вопрос, звонил ли Кравченко Белогурову, он равнодушно ответил: «Угу. И я звонил, и секретарша с ним говорила по моей просьбе. Там все нормально. Подождем. Не до этого мне сейчас, Кать, ей-богу! Если этот Иванушка Интернэшнл отыщет вещь, сам с нами свяжется».
— Вадя, а все-таки как мы выкрутимся, если Белогуров действительно отыщет альбом? Ведь он деньги потребует, комиссионные свои! Откуда же мы возьмем? — встревожилась Катя.
— Поздновато спохватилась — раньше такие детали надо было обдумывать, — Кравченко махнул рукой. — Не забивай голову разными пустяками. Выкрутимся. Что, мы ему расписку давали, что обязательно купим вещь? В крайнем случае этот твой Иванушка решит, что мы его просто банальнейшим образом кинули: жулики, мол, караул!
— А если он сам где-нибудь встретится с Чугуновым и спросит?
— В ближайший месяц-полтора — больничная фешенебельная койка, вот что Чучелу моему светит. У нас ли, за границей ли… А кто, как не начальник его личной охраны, должен позаботиться о том, чтобы всякие лишние контакты с посторонними у больного были ограничены? — Кравченко недобро усмехнулся. — Белогурове Чугуновым не пересекутся. В этом, Катька, можешь положиться на меня. Но я что-то не понял, — он заглянул в расстроенное лицо Кати, — ты же сама этого хотела! Заварила кашу, а теперь что же?
Катя отвернулась. А теперь ничего. Ни хорошего — ни плохого. Пустота и разочарование.
А эта их авантюра с Белогуровым… Ей снова стало не по себе оттого, что она познакомилась с этим человеком обманом. С ним можно было бы это сделать и, как Кравченко говорит, по-людски. Он интеллигентный человек — вежливый, с хорошими манерами, спокойный и… Ей снова вспомнился взгляд Белогурова: отрешенный, уплывающий, как дым, в никуда. Он смотрел на них с Кравченко и не видел. Не узнавал.
«Не стоило нам с ним так поступать. Не стоило его обманывать, — подумалось ей, — Зря мы все это затеяли. Ни к чему хорошему это не приведет».
А беседа с Никитой… От нее тоже остался неприятный осадок. Они оба были неискренни. Отчего? Наверное, впервые в жизни ей было тяжело откровенно поделиться с Никитой своими соображениями, сомнениями, своей тревогой. Неужели (она не желала себе в этом признаваться) ее настолько сильно задело то его словечко «пустыня», которое он обронил в беседе с Мещерским за бутылкой водки?
Никита заинтересовался Белогуровым. Это факт. Надо же, наш одинокий пустынник снизошел до личной беседы! Катя усмехнулась про себя. И как всегда, ничего объяснять не стал. Чем же он занимался в последние недели, когда они не виделись? Сплавил, что ли, «дело обезглавленных» в долгий ящик? Сам же говорил: «Может, и искать не нужно». А сейчас на очередной оперативке скорей всего получил по шее от начальства и сразу же «активизировал розыск». Так это и бывает. Когда нет собственных версий и идей по делу, берут за основу чужие. Воронов доложил ему про эпопею с «Жигулями», упомянув все фамилии, названные Катей для проверки, вот Колосов за них и ухватился, как за соломинку…
Катя вздохнула: как и при мысли об «обманутом» Белогурове, ей сейчас стало отчего-то стыдно и горько. Ведь ты не права, душа моя. Не права. Никита, он же… Нельзя и думать о нем вот так. От этого хуже только тебе самой.
— Что мы такие унылые? — Кравченко остановил машину у их дома. — Зуб, что ли, болит?
Катя молча полезла из машины. «Драгоценный В.А.» все же слишком прямолинеен. Мыслит лишь конкретными понятиями. У нее душа ноет, а он — зуб!
Когда Кравченко уехал — только пыль столбом, она медленно побрела по набережной, но не к дому, а в противоположную сторону. Там дома снова пустая квартира, стиральная машина, полная грязного белья, пылесос, это все там, а здесь…
Рассекая серые волны Москвы-реки, пронеслась моторная лодка. Следом за ней, словно проржавевший кит, ползла баржа, груженная гравием, держала курс к Воробьевым горам. Катя проводила ее взглядом. В липы парка Горького на противоположной стороне набережной садилось солнце. Закат был подобен тому прекрасному закату перед ураганом, наделавшим в Москве столько бед. Только среди его красок вместо прежних грозных багряных преобладали пурпурные и золотые.
* * *
Для Никиты Колосова ни рассвет, ни закат этого дня не стали какими-либо значимыми событиями. Подумаешь, солнце взошло и село! Колосов просто не заметил ни того, ни другого. Этот день он полностью посвятил работе в отделении милиции, обслуживающем Гранатовый переулок в Замоскворечье. В отделение, к вящему недоумению местных стражей порядка, внезапно Выл высажен целый десант с Петровки и с Никитского. Колосов и Свидерко в качестве «вышестоящего руководства» долго при закрытых дверях совещались с местными сыщиками и участковым. Их интересовало два вопроса: обитатели дома номер шесть по Гранатовому переулку, их образ жизни и принадлежащие им средства передвижения.
Никаких революционных, далеко идущих выводов из показаний Крайнева и рассказа Кати Колосов по-прежнему не делал. Запрещал себе это. Белогуров был всего лишь восемнадцатым фигурантом в списке посетителей «Колорадо». То, что их пути снова и так неожиданно пересеклись, еще ничего не означало. Колосов отлично помнил, как этот парень помог им с задержанием Могильного. Это был настоящий мужской поступок, как считал в душе Никита, и поэтому… Поэтому он просто не мог вот так с ходу перечеркнуть в себе эти воспоминания.
Годы работы в уголовном розыске научили его железному Правилу: совпадения, какими бы удивительными они ни казались на первый взгляд, — вещь коварная. Горе тому сыщику, который слепо идет у совпадений на поводу. И лучше изначально верить человеку, просто потому что хочешь ему верить, чем…
— Ничего еще с ним не ясно. Ничего, понял? Тебе — может быть, а мне — нет, нет и нет, — жестко оборвал Колосов некие «отвлеченные» рассуждения Свидерко, подчиненные, однако, вполне определенной логике: надо брать этого хмыря Белогурова за задницу и трясти как следует. — Мы ничего толком об этом человеке не знаем. А плести домыслы на пустом месте…
— На пустом ли? — Свидерко щурился.
— Да, он бывал в «Колорадо» — вместе с десятком других клиентов, да, он был знаком с Салтычихой, Марсияновым и…
— И китайцем. А китаец пропал, Никита.
— Да, китаец пропал! И трупа его нет! А Марсиянова убили. Да, в деле вырисовываются какие-то «Жигули», вроде похожие по приметам на наши…
— Завтра же рвану в ваши Мытищи и потолкую с этим Панкратовым по-свойски.
— Но, Колька, пойми же ты, все это еще не дает оснований… Это все ведь… Он же помог нам. По-крупному однажды помог. Пришел сам, когда мы нуждались до зарезу в такой вот чисто человеческой помощи. И только за одно это я… — Колосов запнулся. — Я не допущу, чтобы он пострадал без вины. Понял? Если он не тот, кто нам нужен, а он скорей всего — не тот, то… Да, мы будем его проверять, но… Я хочу сделать это так, чтобы он никогда об этом не знал. Иначе… Иначе в другой раз он к нам не придет. Ни за чем. Ни за защитой, ни с помощью. А я этого не хочу. Я не приучен так работать с людьми. Так бросаться их доверием!
— Не читай мне мораль! — Свидерко нахмурился. — Я отлично понимаю, что такой подозреваемый тебя не устраивает. Потому что у вас был отличный контакт. Он помог вам. Но у нас четыре трупа без голов, Никита, плюс пропавший парень двадцати пяти лет, плюс расстрелянный в машине, плюс… И дела — нераскрытые висяки. И ты пойми меня: я не против веры в человека. Но она должна не слепой быть, как у тебя, а в разумных границах!
— У веры нет границ, Коля. Она либо есть, либо ее нет.
— Давай тогда договоримся так: ты верь в человека, а я пущу за ним наружку. — Свидерко зло сплюнул. — И совесть твоя будет чиста. Но поначалу мы вместе, если ты все еще не против такого нашего спарринга, займемся той тачкой.
А о тех «жигулях» как раз никто ничего не знал. Местный участковый ни о жильцах дома номер 6, ни о принадлежащих им машинах был, как он выразился, «не совсем в курсах». Сотрудники отдела убийств начали осторожный опрос обитателей Гранатового переулка. В офисы, в магазин, к жильцам коммуналок заходили под видом работников ЖЭКа, электриков, связистов, сотрудников санэпиднадзора, налоговой инспекции. Этот негласный опрос местного населения, однако, никаких результатов не принес. Светлых «Жигулей» первой модели никто в переулке не помнил. Некоторые говорили: «Может, и были какие — да разве точно скажешь? Прорва машин вокруг — Ордынку перейти невозможно! А ведь была такая тихая замоскворецкая улочка».
Итак, основного связующего звена — машины не было. Колосов не мог знать, что обгорелый остов «копейки» следует искать на тихом подмосковном пустыре у заброшенного железнодорожного переезда. Он испытывал какое-то странное облегчение. Почему — и сам не мог объяснить. Только понимал: ему было бы хуже, найди они эту машину.
День клонился к закату. И ясности, как и у Кати, у Колосова не было никакой. Свидерко кипел жаждой деятельности. Предлагал выбирать: либо — либо. Либо проверять Белогурова гласно — то есть вызывать его в управление розыска и начинать детально, жестко и настойчиво прояснять все скользкие вопросы и темы. Либо — негласно: то есть устанавливать за галереей и ее персоналом наблюдение. Свидерко прямо из себя выводила та странная нерешительность, в которой, как ему казалось, пребывал и бездействовал его коллега из области. Он с ходу приписал ее слабости начальника отдела убийств: «Выдохся, что ли, Никита? Если выдохся — так и скажи. А то развел тут гамлетизм какой-то прямо — быть или не быть!»
А Никита… Он сам никогда бы себе не признался, но это была чистая правда. Прежде чем решиться на какие-то конкретные действия в сложившейся ситуации, ему просто необходимо было еще раз поговорить с Катей. Он тоже не мог забыть их последнего разговора. И у него остался от него муторный осадок: Катя не сказала ему всей правды. Почему? Что она знала о Белогурове такого, чего не хотела доверить ему, Никите? И почему таким странным камнем преткновения в их и до этого непростых отношениях стал именно этот человек, с которым каждый из них — и Катя, и он — пусть и по разным поводам, но однажды уже соприкоснулся?
Со Свидерко в этот день они так ни до чего и не договорились: коса нашла на камень. И расстались крайне недовольные друг другом.
* * *
А человек, о котором они так много говорили и так много спорили… Этот день Иван Белогуров провел.., как? Если бы кто-то спросил: он бы ответил — «да как обычно». Его не терзали дурные предчувствия. И страха никакого не было. И вообще не было ничего.
Галерея открылась утром, как обычно. И закрылась тоже. Но работать «за прилавком» в этот день выпало одному Егору Дивиторскому. А он был зол и простужен. Простудился когда.., в одиночку вывозил труп Якина в лес на Минское шоссе. Еще в прошлый раз, в ночь урагана, — он понял, что в таких делах «чистоплюй Ванька» ему не помощник. А когда он самым постыдным образом грохнулся еще и в обморок на глазах опешившего Чучельника и им пришлось тащить его наверх из подвала, как мешок с дерьмом…
Егору Стало ясно: и на этот раз рассчитывать придется только на себя. Женька занят — у него дела в подвале с новоприобретенной белой тсантсой.
Егор метался в ту ночь как угорелый. Все происходило словно в черной комедии: запаковали с Чучельником трупешник в пластиковый мешок, запихали в багажник «Хонды», и он помчался на Минку. Где-то на сорок девятом километре, не доезжая поста ГАИ, свернул на знакомый проселок, загнал машину в лес. И там, взвалив труп на плечи, потащил его в чащу, от дороги подальше. Там он провалился по пояс в то чертово болото, поросшее брусникой и черникой. Промок, как пес, простудился, но зато… Зато труп Гришки Якина лежал на самом дне чавкающей трясины. И для того, чтобы до него добраться, следовало сначала осушить топь.
За Лекс в «Олимпийский» Егор тогда так и не успел. Слава Богу, она захватила телефон — он позвонил ей прямо с Минского шоссе. Сказал, что Ванька, как всегда, «в дупель» а он, Егор, занят, так что, девочка… «Я доберусь сама, — коротко ответила Лекс, — шоу продолжается».
Егор хмыкнул в ответ: девчонка взрослеет прямо на глазах. Странно, что она до сих пор не в курсе их дел. И как это они все еще ухитряются блюсти конспирацию — живут-то в одном доме. Правда, девчонку, кроме постели, кажется, ничего не интересует. Страстная натура, видно, эта толстушка. Развратил Ванька малолетку, развратил, а сам… А было бы забавно однажды позволить ей заглянуть в подвал. Как бы она отреагировала? У женщин душа — потемки, а уж у таких недотраханных сучонок… Как же им следовало поступить в случае, если бы она узнала? Прикончить и ее? Егор вспомнил, какими собачьими глазами провожает с некоторых пер Женька эту шлюшку. Чучельнику захотелось клубнички — на лице у мальчишки написано. Правда, у него никогда еще не было, женщины. Он скорее всего, бедняжка, наверное, даже и не знает, что к чему и для чего в этих делах…
В этот день, когда Егор исполнял свои обязанности менеджера и продавца наверху в демонстрационном зале, когда Женька от рассвета до заката надрывался в душном горячем подвале, где проходила доводку в установке для искусственного загара белая тсантса, Александрина-Лекс провела вне дома: сама с собой, и не только.
Утром Белогуров положил на столик у кровати деньги: «Вот, купи себе что-нибудь». А она протянула руку и смахнула их себе на одеяло. С той памятной ссоры он уже второй раз давал ей деньги — крупную сумму. Причем даже не интересовался, куда и на что она собирается их потратить.
Лекс весь этот день бродила по магазинам. Была в ГУМе, и в «подземке» на Манежной, и в Пассаже. В обед наведалась в «Патио-Пиццу». Ела там как одержимая, хотя да гавайская пицца, и крабовый салат, и манго в сиропе, и кофе — все казалось на один вкус: горьким. Потому что горечь царила во рту. Потом она снова блуждала по магазинам. А под вечер ноги принесли ее в «Макдоналдс» на Пушкинской. И там за столиком она познакомилась с каким-то приезжим грузином, который говорил с диким акцентом. Он показался ей стариком. Он посадил ее в машину — вроде бы подвезти домой.. Завез, в какой-то темный двор у Белорусского вокзала и сразу, не говоря ни слова, начал расстегивать брюки…
Сначала Лекс хотела выпрыгнуть из машины, но потом.., осталась сидеть на месте. Достала из сумочки пудреницу и помаду. Жирно подкрасила губы. Грузин смотрел на нее жадными, затуманенными страстью глазами. Ждал. Она разглядывала себя в зеркальце: вроде что-то новое появилось в знакомых чертах. Когда она начала его ласкать, грубо и исступленно, он по крайней мере не отталкивал ее от себя. А ей в тот миг больше ничего и не было нужно. Больше всего ее занимал вопрос; как долго на его коже сохранятся следы ее новенькой помады «Берроуз».
А Белогуров…
День уже клонился к вечеру, когда он решил наконец, что пора возвращаться домой в Гранатовый переулок. Он был трезв как стеклышко. Ситуация обязывала: весь этот день он провел в гостях у старого знакомого — друга еще своего деда, известного московского коллекционера, владельца единственного в столице экземпляра альбома Бориса Григорьева.
Когда вчера новоявленные клиенты спрашивали его об этой вещи, он уже точно знал, у кого ее искать. Старичок-коллекционер переживал тяжелые времена: единственный сын его десять лет назад погиб в автокатастрофе, жена умерла, пенсия составляла «прожиточный минимум». Белогуров рассчитывал, что уговорить его продать альбом за хорошую цену не составит особого труда. Однако старик неожиданно заупрямился. Вбил себе в голову, что ДОЛЖЕН завещать свою коллекцию народу — точнее, Музею частных собраний, как покойный Зильберштейн, которого хорошо знал я всегда уважал.
Они неспешно толковали на тесной кухоньке за чашкой чая, где на старом холодильнике «Минск» красовалась клетка, а в ней без умолку трещала пара волнистых попугайчиков. Старик стоял на своем. А Белогуров не очень и настаивал. Странно, но ему Чрезвычайно не хотелось покидать эту пыльную, старчески захламленную квартирку, где на стенах, на древних выцветших обоях висели полотна Рериха, Кончаловского, Серебряковой, старые афиши театров Мейерхольда и Таирова, плакаты «Окон РОСТА» и ранних Кукрыниксов.
Они так и не пришли к соглашению. Старичок, как истинный коллекционер, «желал оставить свой след», но… Судя по полупустому холодильнику и жидкому чаю, в деньгах он отчаянно нуждался. Белогуров понял: со временем он дозреет, и тогда… Он предложил ему самому пообщаться с покупателями и, быть может, договориться о цене лично. Коллекционер не хотел, чтобы «эти люди» приходили к нему на квартиру. Как и все старики, он больше всего боялся смерти, пожара и воров. Белогуров предложил организовать встречу на нейтральной почве у себя в галерее: «Буду рад, Максим Платонович, показать вам свои новые приобретения».
Когда Белогуров «откланялся», было уже около семи вечера. Рядом с домом коллекционера (он жил на Солянке) располагалась церковь — недавно отреставрированная, похожая на пряник.
Неожиданно для себя Белогуров зашел в нее. Служба уже кончалась: молодой священник слабым голосом Читал горстке прихожан невнятную проповедь.
Белогуров остановился посреди церкви и… Запах воска и ладана, потрескивание свечек, бормотание старух… Зачем он сюда пришел? Для чего? И здесь, в этих стенах, как и там, в милиции, он ровным счетом ничего не ощущал. Пустота и апатия — и все. А в церкви только душно и скучно. И язык пастыря беден и косноязычен.
Белогуров подошел к монашке, продававшей иконки, свечки и книги. Купил толстую желтую свечу. Когда ставил ее перед какой-то темной иконой в углу, специально вызвал в себе те, запретные воспоминания: белое, перекошенное болью лицо Пекина, Якин, кувырком летящий вниз по лестнице… Страха в душе по-прежнему не было. Белогуров старательно зажег свечку от соседней. Икона была доморощенного примитивного письма: девятнадцатый век, один из немногих, породил на Руси бесталанных иконописцев. И опять та же тема: «Страшный суд». Грешники, праведники — и все с одинаковыми лицами, тупыми, равнодушными, покорными — бедное, бедное Божье стадо. Вокруг одного центрального персонажа витали в воздухе некие двое: один с белыми мохнатыми крылами и сусальным нимбом, другой с черными крылами и темным, искаженным гримасой ликом. Ангел и Демон. Персонаж на иконе смотрел на обоих со стоическим равнодушием и.., брезгливостью! Эта черно-белая парочка ему, видно, успела порядком надоесть.
Белогуров повернулся к иконе спиной. И здесь свой кич. Ему, как всегда по вечерам, захотелось (мучительно, непреодолимо) выпить. Где-то тут поблизости был бар…
Уже выходя из церкви, оглянулся с порога. Его свечка послушно горела, не освещая, однако, темной иконы. Итак, мораль этого церковного кича стара как мир: у каждого грешника есть свой ангел и свой демон и… Тут Белогуров подумал о Лекс: это именно ее папаша — тот запойный гатчинский реставратор Огуреев — называл «ангел мой»…
Над церковной колокольней занимался тихий закат. Лето было в самом зените. Белогуров быстрым шагом направился к машине. В голове царили легкость и пустота. И еще было ощущение покоя. И конечно, хотелось выпить… И никаких там угрызений совести, никакого тоскливого страха, щемящего сердца, никакого гнета воспоминаний, никакой боли — словом, ничего, абсолютная пустота.
Таким Белогуров себе нравился больше. Он вспомнил то выражение брезгливости в глазах Чучельника. Ничего, ничего, еще поглядим! Придет время, и Создание поймет раз и навсегда, кто его настоящий хозяин и господин.
28
ДЖУЛЬЕТТА И ЧУЧЕЛЬНИК
Коллекционер Максим Платонович раздумывал недолго. Однако Белогурову такая парадоксальная переменчивость намерений не показалась странной. Люди есть люди: сказав категоричнейшее «нет, никогда», сто раз поклявшись в этом своем гордом отказе, они тем не менее через минуту говорят: «Да, да, да, я согласен».
Коллекционер позвонил в галерею в девять утра. Белогуров терпеливо слушал его старческий кашель. Суть последующей беседы сводилась к тому, что «я, Ванечка, вчера вечером после вашего ухода долго думал, заново смотрел эту вещь. Григорьев великолепен и оригинален во всем, конечно, но… Даже если я завещаю альбом вместе со всем моим собранием музею, в силу целого ряда объективных причин — из-за своего содержания вещь эта вряд ли будет выставлена в основной экспозиции, а скорей всего попадет в запасники. А я бы не хотел, чтобы вещь, столь для меня дорогая, пылилась вдали от глаз поклонников творчества Григорьева. Ну, вы понимаете меня, Ванечка, в моем возрасте трудно решиться с чем-то расстаться, однако… Вы сказали, возможно… Одним словом… Я, конечно, еще окончательно ничего не решил, новы предложили сами.., предложили мне встретиться с покупателями у вас и обсудить не спеша…»
«Покупатель очень богатый человек, — сказал Белогуров, — с ним можно договориться о вполне приемлемой цене. И зачем откладывать в таком случае? Максим Платонович, вы можете встретиться с представителями покупателя прямо сегодня. У них, правда, есть одно условие. Они желали бы сначала убедиться, что это действительно то, что им нужно. Подлинник, а не кот, извините, в мешке».
«Я должен буду захватить альбом с собой? Это совершенно исключено!» — всполошился собиратель. И Белогуров понял: нажимать на старика нельзя, иначе… Он тут же постарался убедить его, что, возможно, «только из уважения к вам, конечно», сумеет договориться, чтобы первая встреча с клиентами произошла «по вашему, а не по их сценарию». Самого его, однако, такой оборот дела не устраивал: нет альбома Григорьева, нет и комиссионных. Пустыми разговорами сыт не будешь, но… Профессиональный опыт подсказывал: начнешь ломать ситуацию через колено, торопиться — вообще сорвешь сделку. А это будет прескверно. Честно говоря, в глубине души ему было наплевать, купят ли этот альбом, нет ли… Но царившую в душе пустоту надо было хоть чем-то заполнить. Хотя бы видимостью какой-то деятельности. Если бы эта единственная за последний месяц легальная сделка сорвалась, что ж, ему бы осталось одно: сидеть у себя в кабинете или гостиной, глушить коньяк стакан за стаканом, избегать взгляда Лекс, бесцельно слонявшейся по дому, да прислушиваться каждую секунду — не поднялся ли Чучельник из своей преисподней.
Находиться в доме, когда в подвале шла «самая работа», Белогуров уже просто не мог физически. А поэтому… Эта сделка с альбомом при всей ее призрачности, ненадежности и невыгодности казалась якорем, на который можно встать, пока не стихнет над твоими мачтами порыв нового урагана. Сразу же после разговора с коллекционером Белогуров набрал номер телефона, оставленного ему телохранителем Чугунова — тем нагловатым, самоуверенным типом по фамилии Кравченко. Трубку взяли — и снова тот хрипловато-ленивый баритон, на этот раз и усталый, и какой-то раздраженный.
А спустя четверть часа телефон зазвонил и у Кати. Она была на работе: в следственном управлении ей обещали интересный материал по делу о незаконной продаже квартир. Следователь сказал, что, как только немного освободится, позвонит в пресс-центр и они смогут обсудить подробности этого уже направленного в суд уголовного дела.
Звонил, однако, не следователь, а Кравченко. Звонил из Центральной клинической больницы: ночью его работодателю Чугунову стало настолько худо, что его-таки вынуждены были срочно госпитализировать. Кравченко был краток: «Объявился твой антиквар, Катька. Только что. Говорит, нашел продавца, он согласен встретиться с нами — ну как с представителями покупателя. Вроде говорит, какой-то божий старикан. Деньги, наверное, нужны, вот он антиквариат фамильный и сбывает помаленьку. Ты не перебивай меня, а слушай! Тут вот какое дело… Встречаться он нам предлагает сегодня в три часа дня. Предварительно мы должны ему перезвонить. Записывай номер, а то я забуду. Да, да, другой телефон! Но дело-то все в том, что я из больницы отлучиться никак не смогу. Ты вот что, ты ему, этому антикварному хмырю, позвони где-нибудь в половине третьего сама. Скажи, что, мол, обстоятельства изменились. Пусть перенесет встречу назавтра на любой час. Ну кто же знал, что с Чучелом так будет? Что я могу? Допился наш старый дурак — в реанимации вон теперь. Я с женой, со старухой его сижу; она в истерике! Врача ждем лечащего — что скажет:.. И.., и знаешь что, Катька? Хрен с ним пока, с этим. Иваном Белогуровым. Не звони никуда. Слышишь меня? Объявится сам во второй раз — я с ним лично все улажу. Отложим всю эту лабуду, а? А сейчас, ей-богу, Катя, мне не до этих твоих детективных игрушек!»
Кравченко (что с ним бывало очень редко) сильно волновался. Катя, как могла, постаралась его успокоить: я все сама улажу. Встречу с Белогуровым и продавцом альбома лучше действительно отложить. Сейчас не время для такой лживой инсценировки. Она чувствовала: Кравченко сам не Свой из-за Чугунова. Вот ведь парадокс! Если его послушать — он своего работодателя в, грош не ставит: и Чучёло-то он, и пьяница запойный, и тупой, и серый, и хамский, и лимитчик-то несчастный… Но вот стряслась беда и… Где все эти презрительные обличения? Правда, Вадька, при всей своей дерзости, зла от старика не видел — одно лишь добро. У Чугунова своих детей нет. И это, как он не раз признавался Вадьке, горе всей его жизни. А когда столько лет рядом с тобой твой личный персональный телохранитель, твой личник — молодой парень, годный тебе в сыновья, то…
Люди постоянно меняют свои мнения и намерения. И это непостоянство можно объяснить множеством причин. Потому что таковы люди и такова наша жизнь. Такая умная мысль посетила в момент беседы с «драгоценным В. А.» и Катю.
Она смотрела на номер телефона, продиктованный Вадькой. Не тот номер, что на визитке галереи. Скорее всего личный номер Белогурова на «сотку». Значит, он и правда поверил, что сам Василий Чугунов (!) захотел стать клиентом «Галереи Четырех». Впервые она подумала: а какое странное название для антикварного магазина. Белогуров представлял в качестве своего компаньона одного лишь Дивиторского — того брутального красавца мужчину. А кто же остальные двое из этих «четырёх»? Неужели та девчонка и тот парень? «Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать». Так было написано в той небрежно брошенной на телевизор книге. Мальчишка в тот раз смотрел на эту смешную толстушку Александрину как.., как звереныш — право слово! Как голодный звереныш на яркую бабочку, залетевшую в его сумрачную нору…
Кате не понравилось сравнение: и что ты все выдумываешь? Как звереныш! Просто он еще очень молод, этот Ромео со шваброй и пластиковым ведром. Вполне под стать этой своей пухленькой Джульетте с картофельными чипсами.
Она вздохнула: итак, Вадька приказал ей не звонить. А телефончик все же дал. А Белогуров, видимо, уже договорился с продавцом на три часа на сегодня…
Катя подвинула телефон. Зачем ты это делаешь? Ведь этот человек совершенно не тот, кто тебе нужен по этому проклятому делу. Зачем же осложнять ему и себе жизнь новым идиотским обманом?
Она медленно набрала номер. Гудок…
— Алло, я вас слушаю.
— Иван Григорьевич, добрый день, с вами говорят из офиса Василия Васильевича Чугунова. Муж мне передал — вы нашли то, что нам нужно? Поздравляю — так быстро! Вы хотите встретиться?
— Добрый день. Извините, опять память моя шутит со мной скверные шутки — хорошо помню фамилию вашего мужа, но вот ваше имя…
А в прошлую встречу ты даже и не поинтересовался, как меня зовут.
— Мое имя Екатерина.
— Очень приятно, Екатерина. Я действительно нашел владельца альбома. В принципе, он не против увидеться с вами и переговорить о том, что вас интересует".
— Когда мне приехать? Куда?
Белогуров смущенно кашлянул.
— Извините, но тут такое дело. Владелец альбома — пожилой человек: Сами знаете, как эти старики недоверчивы. Словом, он пока отказывается показать вам вещь. Речь, но его мнению, может идти лишь о…
— Вы хотите сказать — встреча не имеет пока смысла? — Катя решила обострить беседу: пусть выскажется яснее.
— Ну нет, отчего ж… Просто продавец, как и уважаемый господин Чугунов, пытается сначала составить себе мнение о порядочности и надежности своих будущих деловых партнеров.
— К сожалению, мой муж сегодня очень занят. Если речь идет о пустых разговорах, а не о конкретном предмете, то он.., Но все дело в том, что Василий Васильевич, насколько мне известно, чрезвычайно заинтересован в положительном результате, так что… — Катя, как некогда и Кравченко, «колебалась». — Итак спрашиваю, Иван Григорьевич, вас прямо: как наш посредник, вы советуете встречаться с продавцом на таких условиях?
— Советую. Если не хотите упустить вещь.
— Тогда… В три часа — муж мне правильно передал, да? Куда же мне подъехать? Не знаю, освободится ли к трем муж, но я буду точно.
— У меня дела в городе. Потом я заеду за нашим Максимом Платоновичем — так его зовут, он пожилой человек и… Могу и вас, Екатерина, захватить по пути. Куда подъехать? Где офис Василия Васильевича?
— Кутузовский проспект. Но там сложно искать. Я лучше выйду к метро: на Большой Дорогомиловской. Итак, в три часа.
Катя тихонько положила трубку. Ой, что же теперь будет… Куда ты снова суешься? И главное — зачем? Тут уже пахнет крупным обманом не только этого вежливого антиквара, но и владельца альбома, старого человека, который, быть может, искренне надеется…
Кто-то вошел в кабинет, прервав цепь ее мрачных раздумий. Никита — надо же, снова он. Опять наш гениальный сыщик пожаловал к нам в гости. Зачем же на этот раз?
Колосов выдвинул стул на середину кабинета. Сел на него верхом; как казак на коня. Облокотился на спинку, утопив подбородок в кулаках. Он явно желал ей сказать что-то.., важное? Катя глянула на наручные часики: до встречи с антикваром Белогуровым оставалось еще три с половиной часа.
Белогуров положил телефонную трубку рядом с собой на диван. Откинулся на его велюровые подушки — мягко, уютно, тепло. Даже жарко. Солнце — расплавленное золото льется и льется в отмытые до зеркального блеска окна демонстрационного зала.
Итак, пора собираться и ехать. Коллекционер ждет дома в тревожном нетерпении: и денег хочется, и жаль… И хотя от этой сегодняшней встречи сторон толка не будет, но..: Что-то все же, быть может, сдвинется с мертвой точки. Эта решительная юрист-девица из чугуновского офиса (спит, что ли, с ней этот старый пьяница) убедится, что владелец альбома Григорьева действительно реально существует. Он услышал за спиной чьи-то шаги. Лекс показалась на пороге кабинета. Все утро она старательно сортировала там накопившуюся почту галереи: счета, факсы, рекламные буклеты, присланные из типографии. Дела давно брошены на самотек, она делала свою работу чисто машинально. Конкретно Белогуров ее об этом не просил. Он вообще последнее время ее не просил ни о чем.
— Кому ты звонил?
Это были ее первые слова, которые он слышал за эту неделю.
— Горскому.
— А кто это такой?
— Человек, который мне нужен.
— А после.., после него.., с кем ты разговаривал? Белогуров покосился в ее сторону: Лекс подслушивала. Взяла в кабинете параллельную трубку и… — С еще одним человеком, которому нужен я.
— С женщиной? Ты с женщиной говорил? Условливался о встрече?
— Это деловая встреча, Лекс. Чисто деловая. Возможно, мы приобретем выгодного клиента.
— Да? — Она уселась на диван, поджала ноги калачиком.
Белогуров ждал: сейчас достанет из кармана махрового халата свой традиционный пакетик с чипсами и начнет…
Он едва не сказал «жрать». Но тут же устыдился: нет, не стоит все настолько опошлять. Даже наедине с собой.
Лекс не достала чипсы. Она сидела, неотрывно глядя в сияющее солнцем окно с решеткой, за которым шумел листвой на ветру единственный оставшийся в живых после урагана тополь. Белогуров уже уехал, а она все сидела на диване.
Егор заглянул в зал. Они с Женькой поздно встали, завтракали на кухне, потом спустились в подвал и, как обычно, заперлись там. Однако Егор что-то быстро оттуда слинял.
— Я ненадолго отъеду, — Егор был какой-то чудной, на взгляд Лекс. Нервничал, что ли? Или заболел? — Если позвонит Ванька, скажи, я уехал в банк, оттуда загляну к Фоме (это был фотограф, поставлявший Дивиторскому его любимые античные фотоплакаты). Заберу у него заказ. Часам к трем, к половине четвертого вернусь. Ты сама-то уйдешь?
Лекс кивнула: угу. Все эти дни она с утра до вечера бродила по магазинам.
И Егор уехал. А она… Вытащила подушку, легла на диван. Мягко, уютно, тепло. Даже жарко. А у Ивана сегодня в три встреча с женщиной… Вот оно что, оказывается… Все казалось таким сложным, а на самом-то деле все проще пареной репы. Все ясно. Слеза скатилась по щеке, капнула на велюр диванной обивки. Как там у Цветаевой в «Поэме Конца»? «Ну как их загнать назад — в глаза?» Слезы эти… «В наших бродячих братствах рыбачьих мрут, а не плачут…» Он уехал, он бросил ее… Солнце, как расплавленное золото, льется и льется в окна. Слепит до слез. Этакий золотой дождь. Подобный когда-то видела Даная. Бог с Олимпа принял его образ, добиваясь ее. Хотел трахнуть девчонку, а она… Как там у них было? Солнце, дождь… Надо лишь чуточку раздвинуть бедра, ноги, принимая его в себя. Вот так.., дождь… Халат распахнулся, открывая голое тело. Ноги — стройные и нежные — как он там, в поезде, в их самую первую ночь целовал их… Струи солнечного света, бьющего прямо в глаза, слепые от слез, — их лучше закрыть вот так, только не плакать, только… Вот так было и у Данаи — сладкая дрожь во всем теле, желание, мука самоудовлетворения. Истома, Слабость. Слезы и…
Она вздрогнула, быстро сжала колени, запахнула халат. Села, тревожно оглянулась. Что это? Ей показалось… Что она услышала? Чьи-то шаги? Нет, вроде все тихо в доме. А потом… Лекс поняла, что ее испугало: кто-то действительно шел по коридору. А потом в ванной с силой загудела вода. Кто-то мылся там в душе.
Егору Дивиторскому некуда было ехать. Никакой банк, ни тем более Фома-фотограф его не ждали сегодня, однако… С некоторых пор он, как и Белогуров, чувствовал себя в доме в Гранатовом переулке из рук вон плохо!
Это утро началось вроде как обычно: пробуждение, завтрак. Потом они с Чучельником спустились в подвал и тут-то…
Егор (он только раз делал это раньше) помог брату отключить установку (ночью Чучельник дважды проверял ее) и извлечь тсантсу. Он наблюдал за братом. Все движения Чучельника были точны и плавны. Он не суетился, как это водилось за ним прежде, а…Работа явно теперь доставляла ему наслаждение. Он не просто перемещался по подвалу, он священнодействовал, точно выполняя некий, ему лишь одному ведомый ритуал. Достал из маленького холодильника пару свежих гранатов (купленных Егором на рынке), медленно очистил их багровую кожуру. Стиснул один плод в кулаке — сок потек в подставленную миску. Гранаты Гранатового переулка… Егор не мог оторвать глаз от рук брата, смотрел как загипнотизированный. Священнодействие. Дикий и вместе с тем грозный, торжественный обряд — теперь все это начинает выглядеть именно так. Амулет из Сингапура. Белая тсантса. Белогуров говорил как-то, что Феликс на полном серьезе видит в этих ужасных штуках воплощение некоего могущества и…
— Как сладко, а? — Чучельник слизнул гранатовый сок, темно-красный, как венозная кровь, с запястья. — Не хочешь попробовать?
Егор почувствовал знакомый спазм в желудке. Мотнул головой: нет, не приставай ко мне, придурок! Чучельник опустился на колени на цементный пол. Он делал это и прежде: так ему было удобнее работать с «исходным материалом», укрепленным на очередной гранитной болванке, водруженной на стол. Но это преклонение, этот жест показался Егору словно бы преисполненным некоего смысла.
Чучельник извлек из кармана джинсов нож и точным рассчитанным движением.., полоснул белую тсантсу по губам. И это тоже была обычная процедура. Нужно было рассечь шелковую нитку, которой зашивались ротовая полость изделия, набитая камфарой, кожурой граната и другими веществами, богатыми танином, препятствующим гниению, извлечь прежнюю дубильную начинку, заложить новую, а затем снова аккуратно заштопать мертвые губы шелковой нитью при помощи специальной скорняжной иглы… Но сейчас этот молниеносный жест показался Дивиторскому…
— Ты что, идиот, делаешь! — Егор не узнал собственного хриплого крика, похожего на карканье ворона.
Чучельник с недоумением оглянулся.
— То есть как это что? Я стараюсь, братец…
Егор смотрел на изделие, точно видел его впервые. Белая, точнее, серая как пепел, сморщенная кожа. Мертвые глаза. Губы. Русые, слипшиеся, висящие сосульками волосы (их еще не мыли мягким шампунем). Пройдет еще немало времени, прежде чем эта мертвечина, эта часть трупа превратится в…
— Только попробуй испортить, только попробуй мне, — забормотал он глухо. Надо же было хоть что-то сказать ему, этому идиоту, этому… А со дна желудка уже поднималась знакомая тошная волна, от которой темнело в глазах и слабели колени. — Только попробуй — убью! Убью, слышишь?
Он наткнулся на взгляд брата. Чучельник смотрел на него снизу вверх, с колен, с этого своего цементного пола. И во взгляде его была брезгливость и… Обида? Насмешка? Гнев? Нет. Всего лишь — сожаление. Вот только о чем сожалело Создание в тот миг?
Егор повернулся и снова, как это было с ним в ночь гибели Якина, спотыкаясь почти на каждой ступеньке лестницы, ринулся из подвала. И едва вырвался из этого ада, как тошнота и боль в желудке разом отпустили. Он перевел дух. Все, так больше нельзя. Надо брать себя в руки. Надо кончать с этим! Но… Как бы он себя ни уговаривал — чувствовал, что находится сейчас в одном доме с тем, что происходит там, внизу, в подвале, — выше его человеческих сил.
Когда он захлопнул за, собой входную дверь и сел за руль машины, то… Ему некуда было ехать. Никто не ждал его. Но он завел мотор и поехал. Он твердо решил, что не вернется в этот дом до тех пор, пока не вернется Белогуров. Вдвоем все же легче справиться с этим, чем одному. Тот, кто мылся в ванной, выключил воду. Лекс снова прислушалась. Женька это, кто же еще. Она и забыла, что только он один остался с ней в доме. Неужели он за ней подглядывал? Убить его, придурка, мало…
В коридоре снова послышались шаги. Уверенные, неторопливые. И вдруг дверь в зал распахнулась с треском и грохотом — кто-то ударил по ней ногой.
Это был действительно Женька. И он — и одновременно не он. Так Лекс показалось в тот миг. Таким она его не видела никогда! Она быстра спустила ноги с дивана, плотнее запахнула халат. В лицо ударила горячая волна стыда: он подглядывал за ней. Вот гаденыш…
Он приблизился, взял ее за руку, поднял с дивана, притянул к себе. Легко — словно она была невесомое перышко. Обнял, его руки сомкнулись за ее спиной, как стальное кольцо. Лекс хотела было оттолкнуть его, но… Так и не оттолкнула. Не смогла, не захотела даже попытаться. Его губы коснулись ее губ, волос, лба, висков, щек, полузакрытых глаз. Легкие касания — точно бабочка крылом задела… Его мокрые волосы пахли водой и почему-то железом и дымом… Пальцы Лекс запутались в этих мокрых кудрях словно, сами собой, а затем сплелись на его шее.
Лекс, сама не зная как (это было словно то самое первое и незабываемое наваждение — в лифте с Белогуровым), жадно приникла губами к его губам. Он не отталкивал ее, обнимал все крепче и крепче. И это было самое главное для Лекс — ее не отталкивали. От этого кружилась голова и сердце тревожно и сладко замирало в груди.
— Женька, что ты со мной делаешь? Зачем, пусти.., пусти же… Не так, это совсем не так делается… Дурачок, какой же ты еще дурачок… Дай мне руку, я покажу… Вот так, так хорошо…
Роль наставницы — новая и столь необычная — начинала ей уже нравиться. Он слушался ее во всем.
И в нем было столько силы, столько страсти, столько желания… Лекс начала его ласкать так, как некогда учил ее Белогуров: чтобы стало «в полный кайф». А он прижимался к ней все плотнее, уже сдирал с её плеч халат, развязывал его пояс, рвал его и потом, задыхаясь, точно ему воздуха не хватало, целовал ее шею, грудь.
О, это Создание не нужно было подстегивать и возбуждать, как Белогурова! Лекс чувствовала: тот, кто с ней был, — сам пламень, яркий и обжигающий. И от этого сладкая радость разгоралась в ее душе. Господи, как же хорошо, как же хорошо с ним, с этим, пусть немного чудным, странным, но таким сильным, таким нежным, таким жадным к ее телу, ее губам, ее коже, таким неистовым Созданием! Он не отталкивал ее — он хотел ее, жаждал и ждал словно милости или великого подарка. И это сейчас действительно было самое главное, самое необходимое для Лекс. Ведь любовь — это не только бесплодная и пустая болтовня, не только рассуждения о том, что якобы не знает убыли и тлена, не только красивые литературные цитаты, не только церемонная вежливость, скучные холодные нотации о верности, Долге, милосердии и взаимопонимании, не только деньги, подарки, фирменные тряпки, купленные в дорогих магазинах, не букеты роз и не билеты на вожделенные «Роллинг Стоунз», а этот вот огонь, обжигающий; сладкий и властный. Притягивающий к себе магнитом — не оторваться от губ в поцелуе, не разомкнуть сплетенных в объятии рук, не отлепить жадную плоть от плоти, которая уже сама по себе без всяких там нудных объяснений и слов есть высшее счастье.
— Женечка.., милый мой.., мальчик мой.., что же это с нами происходит? Что теперь с нами будет, а?
Он целовал ее в губы. Так целовал ее только Белогуров в ту самую первую их ночь в поезде Питер — Москва, Его глаза были у самых ее глаз — близко-близко. Внимательные, блестящие. — Больше не смей из-за него рыдать. Никогда. Не смей! Он — слизняк. Они все здесь слизняки. — Он сказал это таким тоном, какого Лекс ни разу от него не слышала. — И это я его, слизняка, кастрирую, если он еще хоть раз коснется тебя.
— Ты.., ты о чем? — Она плохо понимала его. Зачем он вообще что-то говорит? К чему сейчас слова, когда она чувствует его всем телом, каждой клеточкой наслаждается его огнем,
— Здесь нет мужчин. Кроме меня — нет. В этом доме одни слизняки. — Он легко приподнял ее, чтобы ей было удобнее на его бедрах. — И ты моя женщина.
Лекс вскрикнула — он причинил ей боль. Но это была блаженная боль. Она готова была терпеть. Она уже все готова была терпеть от него, лишь бы эта пытка наслаждением длилась бесконечно.
— Ты куда меня тащишь, Женька? Женечка, пусти, пусти, дурачок… Я сама пойду. В спальню? Ты хочешь заняться этим в спальне? А ты его не боишься? А если он вернется, а мы с тобой…
Он молча повалил ее на кровать. Заткнул поцелуями смеющийся рот. И она уже ничего не говорила, не возражала, уже не могла смеяться от счастья, не могла называть его «мальчик мой», «дурачок». Все эти «не так», «не надо», «отпусти» умерли одно за другим на ее губах, смятых и искусанных его поцелуями. Лекс не могла уже играть роль той «опытной наставницы», которая пришлась ей так по вкусу в начале.
Она вообще уже ничего не могла диктовать ему, этому Созданию, ни ритма движений, ни чередования поз, ни своих желаний. Остались лишь его желания — неистовые и жадные. Его бьющая через край сила молодого животного, сорвавшегося наконец с цепи, к которой он так долго был прикован. Осталась лишь его власть над ней, абсолютная и безграничная. А ей оставалось лишь покориться его воле, его желаниям, замирая и вскрикивая от наслаждения. Но..
Он приподнялся, замер на мгновение. Лекс смутно видела над собой его лицо, покрытое мелкими бисеринками пота. Оно словно плыло над ней в радужном тумане. Мираж, туман, марево… Это всего лишь сумрак спальни. Сумрак задернутых от полуденного зноя штор.
Он прислушался. Но не к чему-то извне, а слушал что-то внутри себя. Слушал чутко и настороженно. Склонил голову набок, дернул плечом. Лекс хотелось поцеловать это плечо — какие у него мускулы, какие божественные мускулы…
— Ты что, Женечка? Что произошло? — Она попыталась пошевелиться, потянулась к нему, но он не позволил ей, прижимая ее к кровати. Туман мало-помалу рассеивался. Лекс начала видеть его яснее. Да что с ним такое? Что за гримаса на его лице? И почему он так смотрит на нее? Так.., так странно…
— Ты чего, а? Женька, погоди-ка… Давай лучше… Отпусти меня… Отпусти же, мне так неловко, больно. — Лекс попыталась вырваться, но…
Внезапно он накрыл своей ладонью ее лицо, с силой вдавливая ее голову в подушку. Лекс вскрикнула, забилась, но рука его давила все сильнее и сильнее, причиняя ей уже нешуточную боль. Она вырывалась, пыталась закричать, но из ее рта вырывались лишь обрывки просьб, криков, ругательств, жалоб. А потом была вспышка сильной боли — он удалял ее кулаком в живот. Надавил на лицо еще сильнее и… Что-то хрустнуло. Лекс уже визжала от боли, потом кричала в голос, потом скулила, давясь слезами. Она не поняла, что нее сломан нос. Она вообще уже ничего не понимала, Только судорожно билась среди смятых простыней, разбросанных подушек, скомканных одеял, ощущая лишь его власть над собой да муку боли, что становилась все страшнее и страшнее.
* * *
Точность — вежливость королей. Катя убедилась, что Белогуров строго придерживается этого правила. Едва она ровно без трех минут, три появилась в назначенном; месте на Большой Дорогомиловской, возле нее тут же затормозила вишневая иномарка с тонированными стеклами. Та самая.
За рулем сидел Белогуров, а на заднем сиденье — какой-то старик, одетый, несмотря на жару, в старый, но еще весьма добротный костюм. К лацкану его пиджака была приколота орденская планка. Прежде чем сесть к ним в машину, Кате очень хотелось оглянуться на угол соседнего дома. Там на выезде из двора под аркой притулилась черная «девятка». Но оглядываться Катя не стала — это лишнее. Никита на своей машине последует за ними. Он сам предложил ей сопровождать ее на эту встречу, после того как закончился их тот, наверное, самый трудный разговор, в котором, однако, уже не было ни слова лжи, недоверия или упрека.
— Очень, очень приятно, — старик в костюме с орденской планкой, представившийся Кате Горским Максимом Платоновичем; был явно озадачен тем, что в качестве «представителя солидного клиента» к ним в машину подсаживается какая-то девица.
Катя чувствовала себя скованно и неспокойно, Снова нахлынула волна страха и прежних сомнений: к чему этот глупый обман? Чего она добивается? Ведь теперь в авантюру втягивается посторонний человек — этот вот старик коллекционер. А он пожилой, порядочный, воевал, наверное, вон сколько медалей-то…
Как ни странно, выручил ее Белогуров. Его вежливо-холодноватое: «Ну, о нашем деле, думаю, поговорим в галерее, когда приедем, обсудим все не торопясь. Екатерина, вещи пока нет. Может быть, вы сначала захотите еще раз взглянуть на те фотографии, по которым…» Катя тут же пылко заверила, что «хочет». Начала врать осторожно, словно ощупью в тумане пробиралась, нащупывая верную дорогу: муж, мол, занят, но если сегодня наметится какая-то определенность, то… Набравшись наглости, выпалила фразу, услышанную некогда от Вадьки: «Вы и сами понимаете, что такие сделки не заключаются в один день без всестороннего обсуждения».
При этом ее замечании старичок заметно оживился и повеселел. Еще не решившись до конца расстаться с дорогим ему экспонатом, он был рад, что его не собираются прямо с первой встречи ставить перед выбором. Познакомиться с возможным покупателем, убедиться, что перед ним «не жулики, не воры, не кидалы», и он был сначала не прочь. Катя отметила, что Вадька в их прошлую встречу с Белогуровым нашел весьма находчивое объяснение этой некоторой обоюдной волокиты и осторожничанью в этой их липовой «сделке века».
Дорогой Белогуров и Горский говорили (мужчины же!) исключительно о политике. Белогуров вяло, апатично, старичок пылко и задушевно. Потом беседа перекинулась на открывающуюся в Пушкинском выставку к столетию музея. Потом речь зашла о лотах какого-то зарубежного аукциона, о котором старичок прочел в последнем номере «Аукцион-дайджест».
Катя начала слушать внимательнее, когда старик упомянул имя Сальватора Дали (тоже, кажется, в связи с каким-то аукционом). Как оказалось, он был рьяным поклонником творчества испанца. Заметил (вроде бы ни к чему совсем), что знаменитые усы Дали — отнюдь не параноидальная причуда, а лишь «отголосок средневековой моды времен Веласкеса, перед которым Дали преклонялся, что вообще-то очень странно…».
— Странно? Почему же? — Катя пыталась вставить и свое словечко в этот туманный треп об искусстве, который поддерживался всеми из одной простой вежливости, потому что молчать незнакомым людям как-то неудобно и невежливо.
— Творчество Веласкеса — упорядоченная гармония. Дали же по своей сути был… Он абсолютно иной! Его собственная гармония основана на дисгармонии. Жесточайшей, яркой, оригинальной.
Катя вопросительно улыбнулась старику, словно изумляясь глубокомысленности сказанного.
— Дали первый почувствовал вселенскую дисгармонию. — Старик, видимо, оседлывал своего любимейшего философского конька. — Его ум — больной ли, гениальный ли, но он первый попытался осмыслить этот наш новообретенный хаос. В мире воцарилась дисгармония. Нарушен мировой порядок вещей. Мое поколение с некоторых пор убеждено, что это действительно так. Но они ошибаются. Мир испортился, но это произошло не десять лет назад, а гораздо-гораздо раньше. Дали ощущал смутные отголоски общей катастрофы. Конец века… Он не дожил до него, но он знал, насколько глубоко он затронет всех нас. Как непоправимо может все измениться, если мы не одумаемся, не опомнимся хотя бы на рубеже тысячелетий, когда до главного остается уже не так много времени… Впрочем, для того, чтобы бороться, Дали слишком алчно любил деньги.
— С чем бороться?
— А разве деньги — это так уж плохо?
Первый вопрос задала Катя — просто так, из вежливости, надо же было как-то реагировать на говорливого старичка. Второй задал Белогуров, тоже вроде бы из вежливости…
— Деньги — это хорошо. Очень хорошо. Я вот работал всю свою жизнь, войну пережил, голод видел. А теперь мне дали нищенскую пенсию. И этого, возможно, скоро не дадут — потому что в доме нашем, как они нам говорят, видите ли, «общий финансовый кризис», однако, — старик кашлянул, — однако в моем возрасте, друзья мои, начинаешь умнеть, понимая, что деньги, даже если их очень-очень много, все равно не всемогущи. Они так, увы, и не смогут возвратить тебе…
— Чего же? — Белогуров обернулся. Вежливо улыбался. Но улыбка была какая-то.., замерзшая, что ли? Катя не находила более точного слова для этой жалкой гримасы, сломавшей линию его губ.
— Юности. Юности, Ваня, не вернут. Самого драгоценного нашего сокровища. — Старик вздохнул:
— Хотя вон Кикабидзе — люблю этого певца, хоть и тоже старик седой стал — поет: «Мои года — мое богатство».
— А-а, конечно, Максим Платонович. Юность — это славная вещь. — Белогуров отвернулся. Снова смотрел только на дорогу. Кате показалось, что он вроде хотел что-то услышать для себя лично, но так и не услышал. Чего же?
Когда они въехали в Гранатовый переулок — тихий и, как всегда, безлюдный, Катя мельком глянула в боковое зеркало, но черной «девятки» не увидела. Они вышли из машины. Белогуров вежливо подал Кате руку, затем заботливо высадил старика.
А черной колосовской «бандитки» все не было. Катя подумала: может, пробки Никиту задержали? Белогуров несколько раз позвонил в дверь галереи, однако никто не открывал. Тогда он полез за ключами.
— Одну минуту, извините, видимо, мой сотрудник куда-то отлучился.
Он наконец справился с замком, распахнул дверь, пропуская их в просторный сумрачный холл. Катя храбро перешагнула порог. Все как в тот раз: кожаная мебель, искусственная декоративная зелень, шкаф-купе, зеркала и эти роскошные фотоплакаты: грозный беломраморный Давид, этот юный убийца, обезглавивший великого Голиафа…
Дверь тихо захлопнулась — точно несокрушимые бронированные ворота. Дом снова стал похож своей неприступностью на банк или пункт обмена валюты. И в ту минуту, когда Катя уже не могла ее видеть, в переулке показалась черная «девятка». Проехала мимо продуктового магазина, мимо галереи — дальше, дальше и остановилась на углу.
Колосов приготовился к терпеливому и долгому ожиданию. Что он хотел узнать? В чем убедиться лично и окончательно? На эти вопросы он не мог ответить. Пока, После того их разговора с Катей он действительно сам предложил ей свою помощь — свое сопровождение на эту встречу, цель которой была для него по-прежнему смутна и неясна.
Он решил сопровождать Катю негласно, потому что… Да потому, что подобный способ проверки, предложенный Катей, в глубине души устраивал его гораздо больше, чем все «отработанные, специфические методы» Николая Свидерко. И хотя его не покидало чувство важности этой встречи, Колосов не чувствовал какой-либо опасности или угрозы.
Он был настолько уверен, что все будет у них с этим антикваром нормально, все разъяснится и все подозрения отпадут, что даже.., не взял с собой табельного оружия. Иван Белогуров, по его глубокому убеждению, был не тот человек, с которым нужно опускаться до того, чтобы разговаривать на языке пуль.
Время ожидания тянулось.., как? Медленно или быстро? Колосов тряхнул рукой с часами на запястье, щелкнул по циферблату. Проклятье, встали! Этого еще только не хватало! Сколько же времени прошло? Четверть часа? Двадцать минут? Что сейчас происходит в доме за наглухо запертой дверью?. Что делает Катя? О чем она сейчас разговаривает с этими людьми?
В конце переулка показалась синяя иномарка. «Форд». Он остановился у галереи. Из машины медленно вышел высокий темноволосый мужчина в джинсах и ослепительно белом модном свитере. Колосов насторожился — а это кто еще такой? Новоприбывший запер машину и рассеянно нажал на кнопку звонка. Вел он себя по-хозяйски. Нет ответа. Мужчина нажал на звонок снова, подождал. Отчего они не открывают ему так долго? Так и не дождавшись, мужчина полез в карман за ключами.
Почему они ему не открывают? Что там происходит в доме за этой бронированной дверью?
Колосов тоже вышел из машины. Не пора ли вмешаться? Вот сейчас этот тип откроет дверь своим ключом, и тогда под уместным предлогом, не вызывая подозрений, быть может, попробовать…
Но того, что произошло в следующую секунду, не ожидал никто. Первое слева окно второго этажа (все окна на втором в отличие от первого не были укреплены решетками) вдруг словно лопнуло изнутри. Стекла со звоном вылетели на мостовую. А вместе с этим стеклянным дождем на улицу вылетело и то, что высадило это «евроокно», — брошенная кем-то с чудовищной силой бронзово-фарфоровая настольная лампа. Из разбитого окна послышались истошные женские крики.
Колосов ринулся к двери. На бегу по привычке, отработанной годами, полез под куртку, где была кобура, но…
Перед тем как вместе с Катей покинуть управление, он сам снял кобуру с пистолетом, спрятал в сейф и запер. Ведь это были не те люди, с которыми нужно говорить языком пуль!
Тишина в доме. Катя не ожидала, что тут будет так тихо. Как в могиле. По ее представлениям, «Галерея Четырех» должна была работать, как и во все прежние дня. Однако ни продавцов, ни покупателей не было.
Белогуров (казалось, он и сам был удивлен и озадачен) на мгновение замешкался в холле.
— Прошу, проходите в гостиную, располагайтесь. Максим Платонович, вам чай или кофе?
— От кофейка, Ванечка, не откажусь. Помнишь, в прошлый раз ты меня баловал тем самым, что привез из.., ах, память проклятая, забыл откуда…
— А вам, Екатерина?
— Не беспокоитесь, Иван Григорьевич, что-нибудь…
Катя видела: Белогуров спрашивает все это машинально. А сам напряженно прислушивается… К чему? Тут такая мертвая тишина.
— Иван, а твоя основная коллекция по-прежнему здесь? — Старик указал на двери демонстрационного зала. Чувствовалось, что у Белогурова он ориентируется отлично.
— Да, почти. Кое-что я уже начал перевозить на свою новую квартиру.
— Вот как? Ты переезжаешь? А здесь кто же остается?
— Здесь…
Белогуров не договорил. Катя вздрогнула. Ей показалось? Что за странный звук такой — откуда-то сверху, что ли, со второго этажа, чердака, крыши? Словно глухой сдавленный вскрик. Или это кошки беснуются?
Она мельком глянула в окно. Благо штора одернута и через чугунные решетки виден кусок переулка у дома. Нет колосовской машины! Где же Никита? Может, остановился поодаль? Господи, есть ведь, наверное, какие-то правила негласного сопровождения — знать бы их только!
— Здесь останется мой компаньон. Да вы с ним знакомы, Максим Платонович, не раз по телефону общались. Ну-с, — Белогуров оглянулся по сторонам, — раз моих никого нет — самому придется кашеварить. Вы тут располагайтесь поудобнее. Екатерина, я сейчас принесу вам фоторепродукции альбома. Еще раз все внимательно посмотрите, если хотите. В принципе, фотографии дают почти полное впечатление, об этой вещи. А Максим Платонович сделает необходимые пояснения. А я пойду тем временем сварю нам всем кофе.
Он вынес из кабинета тот самый фотоальбом, который они с Кравченко разглядывали в прошлый раз, отдал его Кате, подвинул к столику два кресла и покинул гостиную.
— Странно, что они сегодня закрыты, — Максим Платонович с трудом опустился в кресло, — обычно по будним дням, да и по выходным тоже, они всегда работают. Ну, наверное… Катенька, пока мы тут с вами остались, так сказать, тет-а-тет… По вашему мнению, инкогнито, которое вы здесь представляете… Сколько этот человек может предложить мне за альбом?
Катя открыла рот, судорожно соображая, что бы такое половчее соврать. Вот. Вот оно, начинается. Преступная лживая авантюра. Как ты теперь будешь одна, без Вадьки, выкручиваться? Но соврать ничего она так и не успела, потому что…
Дикий животный вопль. Они — и Катя, и даже страдающий старческой глухотой Максим Платонович — ясно услышали его и поняли: кричит женщина. Истерически. Ужасно.
Потом за дверью гостиной раздался какой-то грохот и…
Катя побежала в холл. Впервые в жизни она пожалела, что так слепо и доверчиво относится к моде: в туфлях с девятисантиметровыми каблуками, которыми она всегда так гордилась, бегать было просто невозможно. На лестнице она увидела Белогурова. Он бежал наверх, на второй этаж. Катя еще секунду была в оцепенении, он скрылся за дверью. Что же это так грохотало? Столик сервировочный на колесиках — Белогуров, видимо, налетел на него на бегу и опрокинул. И коричневая лужа горячего кофе уже ползет, ползет по голубому ковру… И кто так страшно, так дико кричит там наверху? Катя ринулась было к лестнице вслед за Белогуровым. Но у входной двери замешкалась: надо отпереть дверь, позвать Никиту на помощь! Немедленно позвать. Тут происходит что-то такое… Дверь не открывалась! Чертовы эти запорные устройства — эти сенсорные замки, видеодомофоны, фотоэлементы, засовы, задвижки, вся эта проклятая дверная броня! Секунды были потеряны — Кате они показались целой вечностью. А наверху кричала и рыдала женщина. — И слышались еще какие-то глухие страшные звуки — удары, грохот. Катя, спотыкаясь, наконец-то вскарабкалась по лестнице (ей казалось, что она карабкается на Монблан). Старик Горский, выбежавший в холл следом, тоже пытался подняться, но вдруг замер на середине лестницы, схватившись за сердце. Катя бежала по коридору — двери; двери. Сколько же комнат в этом доме, богатом и стильном?
Дверь в спальню была распахнута настежь. Посреди комнаты — кровать. Постельное белье смято, истерзано, замарано кровью. В углу кровати кто-то скорчился в три погибели, голый, скулящий от боли, страшный в своей животной наготе. Катя с трудом узнала в этом существе ту девчушку, что встречала их с Кравченко здесь, в галерее, в то их самое первое посещение. Дикие, полные ужаса глаза, растрепанные космы русых волос, руки в крови — одна как-то безжизненно вывернута, висит как плеть, а лицо… Господи Боже мой, распухшее, окровавленное, изуродованное побоями.
Порыв ветра ворвался в спальню. Шторы вздулись парусами. Катя увидела разбитое вдребезги окно, и тут… Сильный удар отшвырнул её от двери к кровати. Тот парень, тот самый, что мыл ту призрачную машину, промчался к двери словно вихрь. Катя и его сейчас узнала с трудом — тоже полуголый, тоже весь какой-то истерзанный, страшный. Его шаги звучали уже на лестнице. А с пола с противоположной стороны кровати с трудом поднимался Белогуров.
Его, видимо, жестоко, ударили, сбили с ног. Кровь текла ручьем из его разбитого рта. Но он словно и не чувствовал боли. И словно не видел уже ничего — ни остолбеневшей от испуга и неожиданности Кати, ни той девчонки в кровати — ничего…
Девчонка, захлебываясь криком, тянула к Кате руку (другая висела плетью), пытаясь что-то сказать. Катя разобрала с трудом — речь была дикой и невнятной, как у паралитика — видимо, была повреждена челюсть:
— Да помогите же, пожалуйста.., спасите ради Бога.., он и его убьет… Он ненормальный, ненормальный псих… Он хотел мне глаза выколоть… Он меня изнасиловал, подонок. Я не хотела, не давала, он сам, са-ам!
Она вцепилась в Катю как клещ, тряслась от истерических рыданий, скулила от боли. А Белогуров.., его уже не было в комнате. Грохот опрокидываемой мебели, звон стекла, дикие крики, ругательства, звуки жестоких ударов, проклятия и угрозы — отголоски битвы, в которой мужчины, входя в боевой раж, превращаются из богоподобных существ сначала в животных, а затем в зверей и скотов, слышались уже где-то внизу, на первом этаже дома. Катя прижала к себе девчонку. Пыталась успокоить, правда, язык ей не повиновался. А та прижималась к ней, словно раненый зверек, и все пыталась спрятать в Катины колени распухшее, изуродованное, окровавленное лицо и плакала, плакала, плакала… Что он сделал с ней тот парень? За что так избил? Что тут происходит, в этом доме? И снова были потеряны секунды. И Кате, снова показались они часами, днями, годами. Где же Колосов?
Старик коллекционер наконец-то одолел лестницу.
— Бог мой, что тут стряслось?
— Побудьте с ней, — Катя сорвалась с кровати к двери. — Ради Бога, побудьте, вызовите «Скорую» — телефон найдите, он тут где-то… Милицию я сама позову!
В холле входная дверь уже была распахнута настежь. Но Катя в горячке даже не заметила этого. В гостиной тоже грохотала мебель, казалось, стены рушились. Если бы Катя хоть на мгновение туда заглянула, то увидела бы наконец того, кого так ждала. В гостиной был Колосов, и ему там приходилось ой как несладко.
Когда на втором этаже дома вылетело стекло и пора было, выражаясь языком служебной инструкции, «принимать экстренные меры реагирования», Никита понял, что сделать это не так-то просто. Мужчина у двери — то был Егор Дивиторский — внезапно оказал Колосову яростное сопротивление. Ситуация, конечно, не располагала к церемонным предъявлением служебного удостоверения, а пушки, увы, под рукой не было, но и одной только негромкой фразы, сказанной незнакомцу, — «уголовный розыск», оказалось достаточно, чтобы привести этого типа, выражаясь опять же языком инструкции, в «состояние повышенной агрессивности». Дивиторский, ни слова не говоря, звезданул «уголовный розыск» локтем в лицо, а затем…
Затем много чего еще между ними было, Колосов плохо помнил в горячке этот обмен ударами. Дверь открылась — ключ все еще был в замке. И драка переместилась сначала в холл, а затем дальше в гостиную. Колосов все еще не мог понять, что тут происходит, отчего этот тип, которого он и видит-то первый раз в жизни, так старается его прикончить. Это был очень серьезный и беспощадный противник. И он отчего-то готов был лечь костьми на пороге этого дома, словно сторожевой пес, но не допустить «человека из уголовного розыска» в здание. Только в фильмах-боевиках герои-супермены не чувствуют боли. У Колосова же от ударов железных кулаков и ног — в грудь, живот, в бок, под дых — темнело в глазах и дыхание прерывалось. Мощный удар ногой в живот сбил его на пол, но и противник (Колосов рванул его за щиколотки) грохнулся следом. У Колосова еще хватило сил прижать его спиной к ковру, оказавшись в более выгодном положении.
И последнее, что помнил Егор Дивиторский, прежде чем погрузиться в беспамятство нокаута, — было искаженное гневом и болью лицо чужого, совершенно незнакомого человека, крикнувшего ему там, у открытой двери, — «уголовный розыск» (крик этот показался Егору отголоском трубы — последней, траурной, возвещавшей конец, конец всему). Чужое лицо над собой — все, что увидел в сумраке задернутых по случаю жары штор. А потом его с силой ударили затылком об пол. И долбили до тех пор, пока он не затих.
То, что в этом доме имеется подвал, Катя поняла по звукам битвы, доносившейся уже с лестницы, ведущей из холла куда-то вниз. Темной, крутой лестницы. Потом там внизу вспыхнуло электричество. И она увидела и подвал, и тех, кто там был, — Белогурова и того парня, некогда напомнившего ей кудрявого купидона, а ныне неузнаваемого, схожего видом и с животным и, как ей в тот миг показалось, с демоном одновременно.
Ненормальный. Сумасшедший. Безумный. Одержимый. Эти слова, которые кричала там, в спальне, эта девчонка и которые впоследствии повторялись на разные лады разными людьми — следователями, сыщиками, врачами, экспертами, — все эти слова не говорили об этом создании ровным счетом ничего. Его надо было видеть там, в подвале. А увидев, попытаться не испугаться.
Катя же сильно испугалась. Трусость такой же смертный грех, как уныние. Она это знала, однако… Колени ее подгибались. А сердце замерло. Она была одна в подвале с ними, каждый из которых пытался прикончить другого, бросаясь на противника, как взбесившееся животное.
Дикий и молниеносный переход от вполне благопристойной картины «посещения антикварного магазина» к этому вот бешеному побоищу в спальне и подвале казался страшным, нелепым и не правдоподобным… Что же произошло? Отчего Белогуров, этот холодный, апатичный ко всему на свете (так казалось Кате еще четверть часа назад по дороге в галерею) человек, в мгновение ока превратился в яростного, обезумевшего, крушащего все на своем пути Одержимого? Этот парень, которого он пытался убить и уже, уже убивает — душит, бьет, рвет на части, — этот парень изуродовал, избил и изнасиловал ту девчонку, в этом, что ли, одном вся причина такой ужасной метаморфозы? Выходит, она так дорога Белогурову, что за нее он готов либо убить, либо умереть?
Белогуров… Он не мог ни слушать, ни рассуждать в тот миг. Он убивал его. Убивал Чучельника, эту тварь, это Создание, которое…
Когда, бросившись на крики (он отчего-то сразу понял, что это такое может быть), распахнул дверь спальни и увидел их там…. Что он сотворил с Лекс, это животное, это чудовище?! Он хотел выколоть ей глаза, как тому цирковому пуделю из своего шизанутого детства! Белогуров оттащил его за волосы от визжащей Лекс. Отшвырнул к шкафу. А Чучельник… О, прежде от него никто из них никогда не слыхал таких слов! С ужасающим ругательством, с диким животным воплем, в котором не было уже ничего человеческого, он запустил в Белогурова лампой. Если бы попал — раскроил бы череп. Промахнулся, высадив лишь окно. Там, в спальне, он был сильным.
А сейчас здесь в подвале, загнанный сюда, как животное в свою нору, сбитый с ног на цементный пол, извивавшийся как червь в руках Белогурова, он снова казался другим, незнакомым. Хрипел, отрывал руки Белогурова от своего горла, рвался, словно пытался порвать ту невидимую цепь, что опутывала его все крепче. И все кругом рушилось. Все. Белогуров не думал об этом, но знал. вся жизнь дома и подвала Гранатового переулка шла прахом из-за… Из-за чего же?!
Но Белогурова это не только не останавливало, не отрезвляло, но и… Все, что он видел сейчас перёд собой, были глаза Лекс — полные слез, отчаяния, страха и мольбы. И глаза этого вот Создания, затуманенные удушьем и болью, но все равно полные ярости и ненависти.
Однако прикончить Сознание — задушить его, забить ногами до смерти, видно, было не так-то просто. Чучельник вдруг неимоверным усилием отбросил руки Белогурова от своего горла, вывернулся и сам вцепился в плечо противника зубами. А затем… Белогуров отлетел к стене, теряя сознание. В подвале раздался адский грохот, что-то полыхнуло страшно и ярко, запахло раскаленным металлом и горелой пластмассой.
Катя увидела, как парень, вырвавшись из рук Белогурова и нанеся ему ответный жесточайший удар по голове, подскочил к некоему подобию стеклянного саркофага у стены. (Ей и в голову не пришло, что это не что иное, как обычное украшение тренажерных залов и саун — установка для загара.) Парень со всего размаху саданул, ногой по его стеклянно-пластиковому корпусу. Видимо, он повредил проводку. Там вдруг все разом вспыхнуло, словно включили северное сияние. А парень заорал визгливо и хрипло:
— Она моя! Я ее делал, я старался — не ты! Ты ее не получишь! Никогда больше!
В багровых языках разгорающегося пламени, пожиравшего пластик… Катя видела это одно короткое мгновение. И потом ей казалось — а было ли это с ней наяву?! В пламени, в клубах черного едкого дыма словно плыла голова человека. Катя видела сморщенную серую кожу, закрытые мертвые глаза, длинные светлые пряди волос… Дым — это было последнее, что она помнила. обморок. Как она стыдилась впоследствии этой своей слабости. Грохнулась там, в подвале, в обморок от ужаса, как… Да как последняя идиотка! Катя так никогда и не узнала, что в этом месте она была не первой, кто подобным же образом лишился чувств.
От едкого дыма саднило в горле и потом, когда она уже пришла в себя и увидела, что полулежит на заднем сиденье какой-то машины. А Никита тут, рядом с нею. Вид у него был такой, что… Рыцарь печального образа с фингалом под глазом и расквашенным носом…
Из окон дома № 6 по Гранатовому переужу валили черные столбы дыма. Переулок перегородили пожарными машинами. «Скорая» тоже была — сияя мигалкой, воя сиреной, она отчаливала куда-то, словно белая яхта с красным крестом от охваченной пожаром гавани.
— Девчонку в Склиф повезли. Врач сказал — переломы у нее, травмы. — Колосов помог Кате приподняться. — А ты дыма наглоталась. Лучше уже? Тошнит? Скоро перестанет. Пожар в подвале начался. Там пожарные, как видишь… Все горело уже, когда я… Ну, словом, они закончат, будем осматривать. Если, конечно, останется, на что смотреть. Ну, что глядишь на меня так? Где они — это хочешь спросить? Одного из них я.., мы, мы задержали. Девчонку и старика в больницу увезли. Ты со мной вот, живая и невредимая.
— А Белогуров? — Катя заглянула в избитое Никитино лицо.
— За ним тоже уже поехали. Наши.
— Он сбежал?! Ты дал ему уйти?
— Я тебя из подвала вытаскивал. А ему теперь некуда бежать, Катя.
— А второй, тот парень, сумасшедший, который покалечил девчонку?
Колосов молчал. Что он мог ответить ей? Белогурова он видел, когда тот пробежал по задымленному холлу к двери — хотел было ринуться наверх по лестнице, но, услышав в переулке тревожный вой пожарной сирены, выскочил на улицу. Колосов в это самое время вытаскивал из подвала Катю. А еще его помощи ждали девчонка (он тащил ее из спальни на руках, завернув кое-как в одеяло), какой-то старик, едва живой от сердечного приступа, да еще оглушенный, схожий с бревном бесчувственным компаньон Белогурова Егор Дивиторский, которого тоже надо было вытащить из горящего здания. Одним словом — инвалидная команда.
Того же, кто изуродовал девчонку, Колосов так и не увидел. Как и «Жигули», это тоже был призрак. Человек-невидимка. Куда он делся из охваченной пожаром галереи,. Колосов ни сейчас, ни впоследствии ответить не мог. Быть может, он задохнулся в дыму и сгорел в подвале, ставшем похожим на топку крематория, на ад кромешный?
— Будешь рапорт писать по этому делу… Напишешь, что это я провалил всю операцию. А я ее действительно провалил к чертям собачьим. Слышишь меня? Так и напишешь… — Колосов потрогал разбитую губу.
Катя вся как-то засуетилась, начала шарить в кармане летнего пиджачка — измазанного сажей. Бог знает на что уже похожего, увидела свое лицо в боковом зеркальце — тоже все в саже, а выражение-то такое беспомощное, полное отчаяния… — Ты что ищешь? — спросил он. — Платок.., платок носовой… — На, — Колосов достал из кармана свой.
Она взяла, пододвинулась к нему, обняла его за шею и начала осторожно уголком платка промокать ему разбитые губы. Это была полнейшая идиллия на фоне пожара. Но Колосов все это терпел. Терпел даже эту идиотскую идиллию. Смотрел сквозь автомобильное стекло на работу пожарных. На хлопья пены. Ее рваные клочья, точно снег, запорошили крону единственного тополя, уцелевшего в этом замоскворецком переулке после урагана. А от остальных деревьев остались лишь искореженные обломки.
29
ВСЕ ПОЗАДИ
И вот наконец было все позади. Катя вернулась домой в одиннадцатом часу вечера. А дома был полный сбор: Кравченко, Мещерский. Они обращались с ней так, словно она была больна или ранена. Она знала, что они хотят ей только добра, но….
Но закончился и этот скорбный день (каким был его закат, Катя даже не заметила). А за ним пролетели и другие дни.
Странно было то, что Никита упорно не желал говорил, с ней об этом деле. Об этой, как он выражался, «проваленной операций, если, конечно, таковая была». А Катя впервые в жизни не настаивала, не лезла к нему со своим настырным любопытством. Что толку? Дело, как она поняла, было не из тех, о котором напишешь в газете. Да к тому же она и сама сделала все, как ей тогда казалось, чтобы многое в этом деле испортить. Ее самолюбие задело лишь то, что Никита в эти дни ее словно бы избегал. При встрече лишь коротко кивал, и тут же у него находилось что-то неотложное. Однако в эти нелегкие дни был человек, кого Никита все же одаривал своей откровенностью — и Кате было это отлично известно. Этим человеком был Мещерский. Именно с ним отчего-то Колосов не стыдился говорить об этом деле.
Именно от Сережи Катя узнала, что, хотя один из главных подозреваемых в убийствах и обезглавливаниях был задержан, несмотря на то, что в доме были обнаружены многочисленные вещественные доказательства (пожар в галерее, к счастью, быстро удалось потушить, однако из всех помещений все же наиболее пострадал от огня подвал, и группе экспертов пришлось приложить титанические усилия, чтобы найти там важные улики), для правоохранительных органов все равно не было в этом деле полной ясности.
— Вот в такую лужу, Катька, будешь садиться всякий раз, когда не послушаешь моего совета и сделаешь все мне наперекор, — заявил Кравченко после того, как они выслушали скупой рассказ Мещерского о том, чем поделился с ним Колосов. — А этот твой дражайший (это словечко было преисполнено яда) гениальный сыщик — просто самонадеянный мальчишка и пижон! Почему он, должностное лицо, мент, допустил, чтобы эти сволочи скрылись? Отчего же он на этот раз не действовал так, как ты вечно в своих хвалебных статейках о нем пишешь, — «решительно и профессионально»? Струсил, что ли?
Катя подумала, что «мальчишка» на добрые три года старше своего обличителя. Но отвечать «драгоценному В. А.» было нечего. А оправдываться не хотелось. Слишком свежи были воспоминания о пережитом.
На защиту начальника отдела убийств горой встал Мещерский.
— Никита не струсил. Зачем же ты так? И не растерялся он там, хотя и был один… Он просто… Да мы, Катя, вчера сидели допоздна с ним на Никитском. На не" же лица просто нет. Переживает сильно. Переживает этот «чертов провал операции», который, как он вбил себе в голову, произошел якобы по его вине.
— И не только по его вине. — Катя вздохнула. — Это я одна во всем, идиотка, виновата.
— Не совершают ошибок, не сомневаются ни в чем и никогда, не разбивают себе лоб только дубы, — Мещерский стукнул кулаком по подлокотнику кресла. — О, дубы, Катя, в погонах ли они — без погон, — всегда знают, как нужно поступать, что делать, что говорить! Они уверены, что все на свете знают лучше других. И они никогда никому не верят. Из принципа. Поэтому, наверное, никогда не разочаровываются и не ошибаются в людях. Но прости мне, Катюша, дурной каламбур, в жизни случаются такие моменты — кстати, довольно часто, — когда лучше верить и разбить себе за эту веру лоб, чем не верить принципиально. И лучше ошибиться, чем не ошибиться.
— Ну да, ошибиться! Напортачить так, что с места происшествия среди бела дня беспрепятственно скрываются две сволочи, на совести которых четыре безголовых трупа. — Кравченко хмыкнул. — Или пять уже? Что твой дружок ситный — сыщик тебе, Сережка, поведал? Сколько там всего жертв этих антикваров? Раскололся у этих твоих «доверчивых не дубов» этот Дивиторский Егор — нет еще?
— Он начал давать показания. — Мещерский поморщился: его покоробил разухабистый тон Кравченко. «Раскололся»… Эх, Вадя… Вспомнилось, как Колосов рассказывал вчера о первом допросе Егора Дивиторского. Как тот, привезенный из СИЗО, раздавленный, сломленный кошмаром тюремной атмосферы, с которой прежде никогда не сталкивался, сначала лишь яростно ругался, проклинал всех и все, а потом с ним сделалась форменная истерика. Он орал, давясь слезами, что «все, все — ублюдки» и что эти «ублюдки сломали ему жизнь, разрушив все, все, все…».
— Чудно, что он так скоро язык развязал, — Кравченко, казалось, и таким оборотом дела был ужасно недоволен?
— «Нежного слабей жестокий», Вадя. Ему предъявили улики. Довольно серьезные. Там найдены их инструменты, приспособления, а также обнаружены обильные следы крови на лестнице подвала — их огонь пощадил. Аналогичные следы найдены в багажнике его «Форда». А потом там в подвале нашли еще и… Ну, в общем, останки человеческие.., череп. — Мещерский потер лицо ладонью. — А то, что там видела Катя, — это… В общем, этот ужас сгорел. Остался лишь пепел да угли. Но заговорил этот человек не только под давлением улик. Ему просто сейчас выгодно не молчать, а давать показания. Пока два его сообщника не пойманы, можно валить все самое страшное на них, выгораживая себя. Колосов бьется сейчас, чтобы этот Дивиторский показал им место захоронения пятой жертвы — это какой-то китаец, которого они убили и обезглавили там, в подвале.
Кравченко потянулся за сигаретой, закурил. Подумал: как странно — они не задают сейчас друг другу обычного риторического вопроса: «Зачем они все это делали?» Даже Катя не спрашивает. Видно, многому уже научилась за эти годы…
— А ты рассказал ему, ну, оперу своему, о… Ну, в общем, Колосов знает о твоих собственных догадках по этому делу? — спросил Кравченко после паузы.
Мещерский нехотя кивнул. Догадки… Сильно сказано.
— Но почему же ты мне не захотел про это рассказать еще тогда? — с обидой вмешалась Катя.
— А о чем я тебе мог рассказать тогда, Катюша? О том, что сидел, читал эти ваши заключения экспертиз. И в сотый раз спрашивал себя: для чего этим людям потребны головы себе подобных? Ведь должен же быть какой-то смысл во всем, что они творили! Позвал затем на помощь логику — божественная, уникальная наука, в сотый раз убеждаюсь. Обобщил вопрос, раздвинул его рамки: а зачем во всех других, известных науке случаях обезглавливаний, кроме смертной казни, естественно, людям требовались такие страшные трофеи? Что с ними делали? Набрал в библиотеке книг по этнографии, археологии, медицине, первобытной культуре. Те манипуляции, которые эти люди проводили с трупами, сама техника обезглавливания, с логической точки зрения, наводили меня на мысль…
— Глупая твоя логика, Серега. Дилетантщина сплошная. — Кравченко пустил дым кольцами. — Однажды ты черт знает куда с ней забредешь!
— Ну отчего же ты со мной сразу же всем этим не поделился? — снова жалобно спросила Катя.
— Чем я должен был с тобой поделиться? Тем, что случайно набрел в каталоге на работу одного английского этнографа, изучавшего историю, культуру и обычаи племен, населяющих Малайский архипелаг? Там почерпнул некоторые прелюбопытнейшие сведения. Сам потом вспомнил рассказы ребят из консульства нашего в Джакарте — что есть, мол, там, как и в Сингапуре, как и в старом Гонконге, местечко одно — Пассар Улар — улица торговцев контрабандой у морского порта. Что, дескать, там в лавках до сих пор можно купить все, что угодно, — были б деньги. Все, что строжайше запрещено законом для торговли и вывоза из страны. Наркотики, изделия из слоновой кости, мечи средневековых самураев, антикварную яванскую бронзу, редких животных и птиц. И также редчайшее из редкого — тсантсы. Их продают с великой осторожностью и конспирацией, потому что закон это жестоко карает. Пожизненно можно за решетку угодить. Но продают до сих пор! Потому что эти вещи чрезвычайно дорого ценятся у коллекционеров определенного сорта. Правда, все эти вещи раритеты. Торговля тсантсами процветала в Ост-Индии в конце прошлого века, когда племена на Борнео, в лесных районах Калимантана вели кровопролитные междуусобные войны. Тогда коллекционеры из Европы, Японии и Америки доходили порой до того, что специально «заказывали» такие трофеи вождям и торговцам. И в начале нашего века были еще случаи, когда новоизготовленная тсантса — «заказная», а не старинный раритет, — попадала на этот специфический рынок редкостей. Сейчас вроде бы о таких случаях не слышно, но… Да если бы я, Катя, с такими своими бредовыми догадками явился к вам с Никитой тогда, неделю назад, что бы вы мне сказали? Поди, Серега, полечись в Кащенко — свихнулся ты от своей логики!
Катя ничего не ответила Мещерскому. А Кравченко снова хмыкнул:
— Ну, Катька бы тебе так не сказала — пари держу. Она любые фантазии за чистую монету принимает. Но менты, они, конечно, все сплошь прагматики и суровые реалисты… Серега, а объясни нам популярно, что все-таки такое эта самая тсантса?
— Это культовый предмет. Амулет, если так можно выразиться. Предмет поклонения, талисман и оберег. Малайцы верили, что, обезглавливая врага и делая из его головы тсантсу, получаешь его жизненную силу, его таланты, его удачу и счастье. Кстати, это общее воззрение людей каменного века на подобные трофеи. Так было и у скифов, и у древних кельтов. Но для того чтобы превратить человеческую голову в настоящую тсантсу, нужно быть мастером своего дела. Английский этнограф, работу которого я читал, даже приводит некоторые рецепты изготовления, мда-а… Там нужны определенные профессиональные навыки, определенный набор приспособлений и инструментов, химические вещества для консервирования, точнее, для выслушивания. Специальными манипуляциями добиваются эффекта быстрого обезвоживания и сокращения тканей. «Вещь» начинает постепенно и весьма значительно уменьшаться. Самые известные в мире тсантсы, находящиеся в частных коллекциях, размерами чрезвычайно малы — с апельсин, яблоко. Есть и меньше. Этот процесс, насколько я понял из работы англичанина, подобен мумифицированию. Только мумии египетские, которые мы в музеях видим, приобрели свой нынешний вид в течение веков, тысячелетий. А на изготовление тсантсы человеческими руками уходит гораздо меньше времени: месяцы, недели… — Но то, что я видела в подвале… То, что сгорело… — Кате было трудно продолжать, — Сережа, это не было похоже на то, о чем ты говоришь. Это.., это было ужасно, Сережа, просто ужасно…
Мещерский погладил ее по руке.
— Выброси это из головы, Катя. Это был просто ночной кошмар. И только. И это была не тсантса, насколько я понял из твоего рассказа. Это было.., ты видела часть тела человека, убитого и изуродованного. Да, действительно, эту часть трупа готовили к превращению в тсантсу. Процесс только начинался. Слава Богу, он так и не закончился. Часть же человеческого тела, даже если она, как говорят у вас в милиции, «отчлененная», надобно хоронить: предать земле или кремировать. Кремирование и произошло в огне того пожара.
— У них, выходит, был заказчик на эту… — Кравченко запнулся. Он бы хотел сказать «дрянь», но вовремя спохватился. Негоже так говорить о мертвых, чьи расчлененные тела так пока еще и не нашли покоя.
— Был. Колосов и на эту тему активно беседует с Дивиторским.
— И кто же он? Маньяк шизанутый? Псих, людоед, кто? Что за человек, скажи мне, Серега, Бога ради, который в наше время не где-нибудь там на краю света, в твоей занюханной Джакарте, а у нас заказывает и платит деньги, и наверняка немалые, вот за это?
— Проще всего назвать этого человека маньяком и людоедом, Вадя.
Проще всего, но…
— Так Колосов знает, кто этот подонок?
— Пока не знает. Если Дивиторский захочет — он назовет имя заказчика тсантсы. Я думаю, он его назовет. И скоро.
— Но ты мне сам ответь: это все как — нормально?! Или мы все уже вконец свихнулись? Все в дурдоме сидим?
— Ты излишне эмоционален, — Мещерский потянулся к пачке сигарет, лежащей на столике. Закурил. Катя не помнила, чтобы когда-либо видела Сережку с сигаретой. — Мы сидим не в дурдоме, Вадя. Это я знаю наверняка. А вот где… Я вчера в газете прочел: один мужик решил выращивать в подвале шампиньоны. Деньга решил заработать. Но сам землю лопатить не хотел. Был он умелец — прямо Кулибин-изобретатель. Кое-что в этом своем подвале оборудовал. Однажды познакомился с женщиной. Выпили они крепко. И очнулась она уже в подвале.., в ошейнике, как собака на цепи. Попыталась выбраться — бах, а лестница-то оказалась под током. А тот, кто ее туда, в этот подвал, на цепь посадил, этот мужичок-то, наш умелец, заявил ей: теперь я твой полный хозяин, а ты моя раба. Работай, расти шампиньоны. А попробуешь бежать… Однажды, не выдержав, она попробовала все же. Он покалечил ее, снова посадил на цепь, а в наказание на лбу ей вытатуировал слово «раб». И вот так она «работала» у него там целый год, пока ее не нашли. Чисто случайно, кстати сказать. А все это время мужик продавал свои грибочки на рынке. Машину хотел себе купить, иномарку. Так где мы живем, Вадя? Кравченко, отвернувшись, смотрел в окно.
— никто не мог предположить, что эти люди занимаются подобными делами. Никто, — продолжил Мещерский твердо. — Ни я, ни Катя, ни Колосов. Да будь тут на нашем месте самый великий гениальнейший криминалист, психолог, всевед — и он бы никогда не поверил, что такое вообще возможно. И что они, эти люди, к этому причастны. Поэтому некого винить: не догадались, не предупредили… Никита сейчас казнит себя нещадно, а… За что, собственно? За то, что хотел верить и в глубине души искренне верил человеку — этому вашему антиквару? Помнил, что тот добро им сделал, помог в трудный час, и был за это ему благодарен? Не желал оскорбить человека подозрением?
— Этот ваш порядочный хуже Чикатило, — мрачно заметил Кравченко.
— Может быть. Это мы сейчас с тобой говорим. А там, в том подвале — аду кромешном… Я вам вот что скажу, ребята, — можете со мной не соглашаться, но сказать я должен: было бы стократ хуже — не для дела уголовного, нет, а для самого Кравченко, для Никиты, если бы он выстрелил в него, этого человека там, в доме. Было бы только хуже. И это все равно ничего бы не решило, не исправило, потому что… Да он и сам это знает, Никита, я уверен. А так Бог, как говорится, отвел. Пока.
— У тебя вечно какие-то чудные идеи, Серега.
— У некоторых никаких идей нет, — огрызнулся Мещерский. Чувствовалось, что Колосова он никому в обиду не даст. — Я и больше вам, ребята, скажу: это дело такого сорта, что… Ну, словом, не милиции играть в этом странном деле главную роль. Здесь просто невозможен банальный конец: преступников задержали, и они в наручниках предстали перед судом, который, как известно, у нас «самый гуманный суд в мире». Если над ними и свершится когда-либо суд, то… — Мещерский вдруг запнулся, словно не зная, как закончить свою и без того туманную фразу.
В комнате повисла тишина. И нарушил её снова Кравченко. Он — это было видно по лицу — не совсем еще удовлетворил свое недовольство и любопытство.
— А что с девчонкой ихней? — спросил он у Кати. — Она в больнице по-прежнему?
— Да. — Катя вспомнила, как вместе с телегруппой ездила в Институт Склифосовского. С девчонкой с таким романтическим именем Александрина и такой простецкой фамилией Огуреева ей удалось по разрешению врача побеседовать всего десять минут. —Ей лучше, Вадя. Но повязки с лица пока не снимают. Возможно, нужна будет пластическая операция. А рука… Рука срастется и ребра тоже.
— Что же он ей так лицо изуродовал, этот щенок?
— Щенок? — Катя с содроганием вспомнила то создание, которое видела там, в подвале, в багровых отсветах пламени, в клубах дыма. Создание, которое пытался уничтожить, стереть с лица земли ослепленный яростью Белогуров и которое, в свою очередь, столь же яростно и беспощадно пыталось уничтожить его. Создание, в котором, казалось, не было ничего человеческого. — Я с экспертом-психиатром областной больницы говорила. Он, этот парень, единокровный брат Дивиторского, психически ненормален. Инвалид детства. Эксперт предполагает, что, видимо, человеческое лицо, голова человека всегда являлись для него своеобразным фетишем. Если учесть его профессию и то, чем он занимался у них в этом подвале, как раб на цепи…
Психиатр говорит: видимо, такое количество жертв потребовалось им для того, чтобы этот парень мог как-то совершенствоваться. Набить руку, потренироваться в изготовлении этих страшных вещей. И с ним крайне жестоко обращались. Когда он ошибался, портил — а ведь то была человеческая плоть: лица, скальпы жертв, — его, видимо, избивали, тот же Белогуров или родной старший брат Егор… Вот у парня, существа психически больного, и сложился со временем определенный стереотип поведения. Лицо стало для него могущественным фетишем. Или даже не лицо, а этот вот предмет — тсантса… Он одновременно любил и ненавидел эту вещь. Старался обращаться с нею бережно и при этом мечтал ее уничтожить. Что, кстати, и сделал напоследок. Уничтожить эти ужасные вещи значило для него освободиться от их власти. Освободиться от порабощения, которому он подвергался. Когда он был с той девушкой — он просто потерял над собой контроль. Может быть, сначала он и не собирался причинять ей зло, но накопившаяся в нем агрессия требовала выхода. Фетиш, то есть лицо, заставил его действовать так, как он привык…
— Чушь все то, сказки парапсихологам, — перебил ее Кравченко, хотя слушал все пространные Катины догадки с интересом. — Они, менты-то твои, хоть догадываются, где теперь этого шизанутого садиста искать? Куда он вообще исчез из дома?
— Видимо, он покинул дом во время пожара, как и Белогуров. Но в отличие от антиквара, этого Женьку Дивиторского никто не видел. У Колосова есть данные на него, его фоторобот. И потом они его брата допрашивали насчет родственников, адресов, семьи — ну и всего остального, где этот Женька может сейчас скрываться. Я вот только одного, ребята, не пойму, — Катя тревожно и растерянно взглянула на Кравченко, а потом на Мещерского, — нет, Сережа, это не то, о чем ты подумал. Я не стану снова тебя мучить извечным вопросом: «Почему они это совершали?», я поняла тот твой пример с цепью и подвалом. Я вот о чем хочу спросить: почему там у них вдруг все разом рухнуло? Ведь ничто не предвещало… Эти наши подозрения, даже они… Ведь их очень трудно было поймать и разоблачить. И даже эта наша опрометчивая авантюра… Она ведь не стала катализатором событий! Совсем нет. Мы с Никитой явились туда, как говорится, под занавес на последний акт пьесы к самой развязке в качестве не очень-то искушенных зрителей. И я все никак не могу понять: что же у них там произошло? В чем была главная причина? Почему они на наших глазах, уже не заботясь о последствиях, едва не убили друг друга?
— Там у них все давным-давно сгнило, Катя. Та обстановка, в которой они жили, и то, что они творили, не располагала к нормальным человеческим отношениям эти отношения давно уже не были человеческими. Это лишь видимость была, призрак. И даже когда появился намек на какие-то чувства — влечение, желание, страсть, ты сама видела, во что они вылились у этих людей. Там все давно сгнило. И все, все рухнуло. Вроде бы само собой, но само ли? А что конкретно там у них было, о чем они говорили, как, жили, как смотрели в глаза друг другу, зная, что происходит в подвале, расскажет Колосову сам Иван Белогуров, когда его наконец-то поймают.
Катя смотрела в темное окно. Вечер над Москвой-рекой. Август. Тонкий тусклый серп в небесах. И не видно звезд. Ни одной.
— Они его не поймают, ребята, — сказала она тихо. — Я не знаю почему, только уверена. Это дело, и ты, Сереженька, кажется, абсолютно прав, не из тех, которые заканчиваются для нас профессиональным успехом.
Снова была пауза, а затем Кравченко спросил:
— А о чем же, если не секрет, вы говорили с Белогуровым? Ну, перед тем как… Когда ехали в галерею?
— О мировой дисгармонии. О том, что мир испортился. В нем что-то нарушилось… Что? Но это старик говорил. А этот человек… Считай, что он молчал почти всю дорогу.
Кравченко развел руками: надо же, какая глубокомысленная тема…
Эпилог
СОЗДАНИЕ
Прежде было так много мест, куда он мог пойти и где мог остаться, и вот — не осталось ни одного.
Три дня, прошедшие после катастрофы, Белогуров воспринимал как один. Только вот солнце заходило в эти нескончаемые сутки не один, а три раза, и три раза на землю опускалась ночь. Он покинул свой дом, бежал из него, когда ВСЕ закончилось и ничего нельзя было изменить и исправить. Дом заволокло дымом и гарью, от которой лопались легкие. И смердило там точно в аду — горелой человеческой плотью; Белогуров не знал, кто горит в его доме — Чучельник ли, Егор ли, Лекс, или это исчезает в языках пламени та часть изуродованного человеческого тела, которую они все вслед за Феликсом Счастливым, ублюдком, послушно именовали белой тсантсой.
Осознание того, что все это наконец закончилось навсегда, было как удар грома. Когда же он понял это? Когда увидел Лекс и Чучельника? Лекс кричала, билась, извивалась, как полураздавленное насекомое, звала на помощь. Звала именно его — Ивана Белогурова…
А создание он так и не прикончил… Не смог. А ведь так, так старался! Чучельник должен был умереть. И не потому, что он был причиной всей этой непоправимой катастрофы (Бог мой, в нем ли все дело?!), а потому, что…
Белогуров, смотрел на свои руки. Повернул их ладонями вверх, поднес к лицу. Пальцы дрожали. Они еще помнили ту мертвую хватку, которой сомкнулись на его горле. Чучельник уже хрипел в агонии, но потом… Что же произошло потом? Куда ушла ярость, сила, ослепление гнева? Пальцы дрожали. Он судорожно стиснул руки в кулак, пытаясь унять дрожь. Разбитые, исцарапанные, бессильные, безвольные, они плохо слушались. Бедные, бедные руки… Белогуров огляделся, словно впервые видел место, где коротал эту ночь. Вагон электрички. Вот какое оно, оказывается, — его последнее убежище. Эти дни, сложившиеся для него в один бесконечный день и одну бесконечную ночь, он провел в пригородных поездах. А прежде ведь было так много мест, куда он мог прийти и где мог остаться — галерея Гранатового переулка, квартира на Ново-Басманной, московские бары, ночные клубы и рестораны, офисы и выставочные залы Дома художника на Крымском, номера гостиниц, салоны самолетов, улетавших в Рим, в Париж, Вену, Сингапур и Гонконг, машины, отдельные купе поездов, — а теперь вот не осталось ни одного места, кроме…
Он выскочил из горящего дома как был — в разорванном в драке костюме, в кармане пиджака которого даже не оказалось бумажника. Он швырнул бумажник и ключи от машины на зеркало в холле, когда приехал, как делал это всегда. В кармане звенела лишь жалкая мелочь — сдача за сигареты…
И вот вагон электрички — это все, что ему осталось. Как он добрался до станции Москва-Товарная у Павелецкого вокзала, как оказался в той своей первой электричке — Белогуров не помнил. Поезда все же двигались, перемещались в пространстве, — перемещая с собой и его, увозя все дальше и дальше от дома, от Гранатового переулка, от горец", где все для него уже навсегда закончилось.
Ночь он провел тоже в вагоне — на этот раз неподвижном, старом, захламленном, загнанном в тупик на какой-то дальней подмосковной станции. А наутро Белогуров снова уже ехал куда-то: выходил на незнакомых станциях, пересаживался с поезда на поезд, и так продолжалось до сегодняшней ночи, когда очередной его вагон был загнан в очередной тупик, а за окнами все сгущалась и сгущалась ночь — непроглядная, как ад,
Белогуров закрыл ладонями лицо. Во что он превратился за эти дни? Колкая щетина, копоть, грязь и.., слезы? Они текли, текли по щекам. Им не было конца. Он не мог уже их сдерживать — они жгли его изнутри. Господи, откуда же во мне столько слез?
И ничего уже нельзя изменить. Ничего нельзя исправить. Господи, Владыка и Господин мой, ты, который однажды мог убить, но пощадил меня, а затем пощадил снова, дав возможность выбора — бежать или остаться, ну почему, почему уже ничего невозможно исправить?! Наши клятвы, брошенные нами на ветер в пароксизме страха смерти, когда над тобой все — смерч и ураган, и так неохота умирать по глупейшей случайности из-за удара молнии либо под рухнувшим деревом, все эти наши поспешные истерически жалкие клятвы Тебе, Всемогущий, все эта «никогда, никогда больше, жизнью своей клянусь, счастьем своим!!» — как же дорого эти клятвы стоят?! И какую цену ты, мой Бог, который покинул меня, заставляешь за них платить?
«Счастье мое миндальное» — Белогуров вспомнил Лекс. А что Ты сделал с ней, Господи? За что? Или скажешь, что это я сам сделал?
За окном чернела беззвездная августовская ночь — теплая и душная. И не было ответов на вопросы — только тишина. Белогуров лег на скамейку. От слез было трудно дышать. А в кармане пиджака что-то мешало. Какой-то твердый продолговатый предмет. Белогуров сунул руку в карман, почувствовал боль. В кармане был нож — он порезался о его лезвие. Он вытащил его. Именно этим ножом там, в подвале, убивали Пекина, а потом… Откуда у него этот нож? Как он попал в карман пиджака? Ведь он, Белогуров, никогда не брал его в руки. Это была вещь Чучельника. Но даже там, в драке, когда он хотел прикончить Создание, он дрался без ножа, голыми руками. Откуда же взялся у него этот нож? Ведь он не брал его… Или все же брал? Белогуров сунул нож обратно в карман.
Спал ли он в эту ночь? Наверное, да. Потому что, когда открыл глаза, за окном вагона брезжила серая утренняя мгла. Обшарпанный потолок над головой был как могильная плита. Давил, сводя с ума. И забытья, беспамятства не было. Белогуров опять помнил все. Все до малейшей детали. И ту ночь на берегу моря в Сочи, когда ВСЕ ЭТО только начиналось в его жизни и когда все еще вполне можно было изменить, и ту первую встречу с Феликсом в холле римского отеля, и полные печального презрения к роду человеческому глаза Салтычихи, итог вечер на Ленинградском вокзале, когда он сдал провинциального дурака-иконокрада, и искаженное болью лицо Пекина, и Чучельника, ощупывающего голову трупа.
Память была кристально ясной. Она хранила все подробности. А потолок все давил, давил своей тяжестью. Плита склепа…
Белогуров резко поднялся. Вышел в тамбур. Двери открыты. Спрыгнул на насыпь. Ночь кончалась. Рассветало. Он шагнул в траву, мокрую от росы.
Утро было теплое и пасмурное, а его бил озноб, словно на дворе стоял лютый мороз. Надо куда-то идти, раз есть ноги, они должны нести его куда-то… Можно было вернуться в город. Сдаться этим, как их.., сукам.., сукам в погонах, рассказать обо всем, вывернуться перед ними наизнанку, и потом уж…
Но что бы они поняли? Ничего. Они никогда ничего не понимают. Они просто судят, сажают в тюрьму. Или казнят.
Белогуров шел быстро, словно торопился куда-то по мокрой от росы траве, через сумрачный лес.
Нет, судить и казнить он может и сам. И себя, и других. Точнее, других уже не может…
Деревья неожиданно расступились. И туман вдруг поредел. Перед Белогуровым была большая вода. Озеро лесное. И в этот рассветный час берега его были пустынны. Белогуров рухнул в траву. Вот, кажется, он и пришел туда, где можно остаться очень надолго. Отдохнуть?
И если ничего уже нельзя изменить и исправить, а суда и казни от других он не может, не хочет снести, то… Он услышал (или ему показалось?) чьи-то легкие шаги. Хрустнула ветка. Потревоженная птица спросонья захлопала крыльями. Кто-то приближался в тумане. Кто-то пришел за ним?
И Белогуров увидел… Тень, темная и легкая, прижалась к нему из мглистой пелены. Он не мог различить лица, даже силуэта, но он знал, кто это. Умом понять появление этого существа, этого странного Создания здесь, на берегу затерянного в лесу озера, было невозможно. Но умом такие вещи Белогуров с некоторых пор постичь уже и не пытался.
Создание было так близко, что он чувствовал его дыхание на своем лице. Облик юного кудрявого купидона… Создание мало изменилось с тех пор, как они виделись в последний раз там, в пылающем подвале. Темный, словно сожженный пожаром лик. Темный, как грозовая туча, как боль нашего раненого сердца, как наша смерть…
И этот дым… Или это туман снова сгущается? Или от боли темнеет в глазах?! От страшной, раздирающей боли в груди, от которой останавливается сердце? Белогуров судорожно глотал воздух, пальцы его царапали грудь; ощущая что-то липкое, горячее, тяжелыми быстрыми толчками бившее, уходившее из его тела неумолимо и быстро, как вода в песок. Что это? Что с ним?! Пальцы, дрожащие, словно чужие уже, наткнулись на это — холодное, острое, ранящее плоть, — острие, клинок, нож. Как, как он снова оказался в его руке, а затем здесь, в груди, вонзенный по самую рукоятку?! Ведь он же не хотел… Не хотел этого… Не хотел делать это с собой вот так. Еще не был готов сделать это! Он еще и уже, никогда, ни за что не хотел умирать!!
А тень была рядом. Возле него. И над ним. Создание с темным, словно обожженным пламенем ликом. Прекрасным, как смерть. И кровь толчками все била и била из раны. И Белогуров уже не понимал — сам ли ударил себя этим так странно оказавшимся у него под рукой ножом, или это сделало за него это вот существо — не человек, не Чучельник, не ангел, не демон, в которых он никогда не верил, а эта смутная тень, что окутывала его, обнимала, вбирая в себя.
Пелена тумана словно занавес на сцене закрывала от него и лес, и озеро, и траву, и его собственные окровавленные руки… И создание было так близко, что он последним усилием воли попытался различить его смутные черты. Ему показалось, что он почти угадал, все же узнал его: нежный, бесстрастный, отрешенный лик кудрявого купидона, когда-то носившего лишь затрапезную футболку и старые джинсы… Но то, что он вроде бы узнал, вдруг словно смыла невидимая волна. И все изменилось. Возник новый образ, столь же призрачный и смутный. И черты его напоминали уже Лекс, а потом Белогурову показалось, что это был Пекин, и ещё кто-то уже совершенно незнакомый, но, несмотря на это, узнаваемый — почти, почти узнаваемый, словно уже виденный однажды во сне и…
Последнее, что Белогуров еще помнил и видел, была смутная, загадочная и ускользающая улыбка на чьих-то устах, замкнутых молчанием. Она сияла, как утренняя зарница. А затем погасла во мгле.