
Библия Гуттенберга — первая в мире книга, изготовленная на типографском станке, об этом известно всем. Но вряд ли кто-нибудь знает, что там же, в Гуттенберговой мастерской, напечатана и другая книга, сам факт существования которой церковь предпочитает замалчивать, а уцелевшие ее экземпляры изымает и предает огню…
Все началось с того, что Нику Эшу, сотруднику ФБР, пришло странное послание из горной деревушки в Германии — изображение средневековой игральной карты и две строки с непонятным текстом. Одновременно он узнает, что неизвестные похитили Джиллиан, женщину, в которую Ник влюблен. Эш бросает свои дела и отправляется на поиски Джиллиан. И вскоре из охотника за преступниками превращается в изгоя и беглеца, ведь загадка, ответ на которую отыскала Джиллиан, из разряда тех, что простому смертному лучше не знать вообще.
Том Харпер
«Книга тайн»
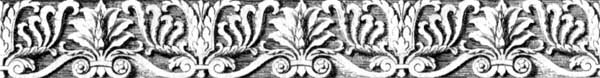
I
Посвящается Оуэну
Риск и мастерство
Обервинтер, Германия
В то утро деревню укрывал толстый слой снега. Ледяная тишина сковала улицы. Машины, припаркованные у гостиницы, были скованы коркой изморози — все, кроме одной, в которой рука в перчатке расчистила просвет на лобовом стекле. За тонированным стеклом светился неровным светом красноватый глазок сигареты.
По ступенькам в гостиницу торопливо взбежала молодая женщина. Она была одета словно для пробежки: свитер с капюшоном, спортивные брюки, кроссовки, шерстяная шапочка и небольшой рюкзак на спине. Вот только утро было для пробежек неподходящее, и никто еще не выходил из гостиницы после ночного снегопада — не оставил следов на снегу. Она подошла к двери и исчезла за ней. Сигарета в машине засветилась ярче, а потом погасла.
Джиллиан поднялась по лестнице на верхний этаж гостиницы, на цыпочках прошла по площадке и проскользнула в свой номер. Сквозь занавеси внутрь просачивался грязноватый сумеречный свет, отчего убогая комната выглядела еще более удручающе. Все провоняло никотином: тонкий матрас и нетронутое постельное белье, мебель, густо покрытая лаком, протертые дорожки на полу. Черный ноутбук на туалетном столике являл собой единственный знак перемен, произошедших здесь за последние тридцать лет.
Джиллиан стащила с головы шапочку и тряхнула черными как смоль волосами. Посмотрела на себя в зеркало и почувствовала слабый укол удивления: ей все никак не удавалось привыкнуть к новому цвету волос. Если она не может себя узнать, то, вероятно, и другим это будет не по силам. Она расстегнула молнию свитера и сняла его. Ее бледные руки были испачканы, пальцы растрескались и кровоточили после лазания по скалам в темноте, но она этого не замечала. Она нашла то, за чем приехала. Подойдя к компьютеру, Джиллиан раскрыла его и включила. На улице хлопнула дверь машины.
Компьютер стал загружаться, и тут что-то словно сломалось в Джиллиан. Адреналин ушел из крови. Она устала до изнеможения и дрожала от холода. Слишком устала, чтобы ждать, когда загрузится компьютер. А потому отправилась в ванную, разделась, отлепляя влажную одежду от тела. Оставив все снятое лежать грудой на полу, она шагнула под душ. В этой старой гостинице не было особых удобств, но, по крайней мере, сантехника работала. В лицо Джиллиан ударила горячая струя воды. Колючие капли возвращали тепло в ее тело, мышцы начали расслабляться. Она закрыла глаза. В открывшемся ей темном пространстве она увидела замок на утесе, обледенелую скалу и крохотную щель и вновь ощутила ужас, схвативший ее за горло, когда она толкнула древнюю дверь.
Она резко открыла глаза. За монотонным шумом душа ей послышался какой-то звук в комнате. Может быть, на это не стоило обращать внимания — в старой гостинице нередко что-то потрескивало и поскрипывало, — но последние три недели приучили Джиллиан к страху. Она, не выключая воду, вышла из-под душа, завернулась в маленькое гостиничное полотенце, на цыпочках прокралась в комнату, оставляя на полу мокрые следы.
В комнате никого не было. Компьютер стоял на туалетном столике между двух окон и тихонько урчал.
Потом снова раздался этот звук — стук в дверь. Она не шелохнулась.
— Фройляйн, телефон.
Мужской голос, но не хозяина гостиницы. Она забыла набросить предохранительную цепочку. Хватит ли ей смелости сделать это теперь, или она только насторожит человека за дверью? Она схватила свитер с капюшоном, быстро натянула на себя, застегнула молнию на груди, потом вытащила из-под подушки пижамные штаны. Так она чувствовала себя менее уязвимой.
— Фройляйн?
Голос звучал резко, нетерпеливо… или это было только игрой ее воображения? Нет. Она в ужасе увидела, как начала поворачиваться дверная ручка.
— Я здесь, — отозвалась она, пытаясь не показать, что испугана. — Кто там?
— Телефон. Это важно для вас, фройляйн.
Но она не услышала важности в голосе, услышала фальшь — заученную ложь, ничуть не отвечающую моменту, съехавшую звуковую дорожку фильма. Ручка все еще была в нижнем положении, язычок замка шевелился в гнезде — человек за дверью пытался его открыть.
— Я сейчас не могу ответить, — сказала Джиллиан. Она схватила ноутбук с туалетного столика и сунула его в рюкзак. — Спущусь через пять минут.
— Это важно.
Плохо подогнанный ключ скребся в замочной скважине. Джиллиан пробежала по комнате и накинула цепочку, потом ухватилась за ручку в попытке удержать ее, но ей было не по силам противостоять давлению с другой стороны. Пальцы ее побелели, запястье вывернулось.
Замок со щелчком подался. Дверь резко приоткрылась, отбросив Джиллиан на пол. Цепочка натянулась, но удержалась, так что дверь, завибрировав, не пошла дальше. Джиллиан услышала приглушенную ругань с другой стороны. Невидимая рука отвела створку двери немного назад, а потом резким толчком подала вперед. И снова цепочка выдержала.
Джиллиан в испуге и отчаянии поднялась. По щеке, там, где ее царапнула дверь, струилась кровь, но она этого не замечала. Она знала, что должна делать. Накинула рюкзак на плечо, распахнула окно и выбралась на крохотный балкон. По стене здания проходила ржавая пожарная лестница. Джиллиан специально сняла номер рядом с лестницей, хотя надеялась, что не придется воспользоваться этим способом. Ей казалось, она оторвалась от них в Майнце. Теперь, натянув рукава на пальцы, она потянулась к ближайшей ступеньке.
За секунду до того, как она прикоснулась к металлическому стержню, вся лестница вздрогнула. Посыпался снег со ступеней. Джиллиан, так и оставаясь с вытянутыми руками, посмотрела вниз.
Морозный воздух в ее легких, казалось, превратился в лед. Сквозь снег и клубящийся туман она увидела темную фигуру, поднимающуюся к ней. Из комнаты до нее донесся еще один удар, который, вероятно, почти вырвал цепочку из гнезда. Возможно, кто-нибудь и услышал шум, но она в этом сомневалась. Она не видела в гостинице ни одного постояльца с того самого дня, как поселилась в ней сама.
Она оказалась в ловушке. Теперь имело значение только одно. Джиллиан нырнула сквозь балконное окно назад в комнату, забежала в ванную и заперла дверь. Это задержит их еще минуты на две, но, возможно, этого будет достаточно. Дрожа, она примостилась на краешке ванны и открыла компьютер, потом услышала, что цепочка все-таки сорвалась. Раздались быстрые шаги, замерли, а потом направились в сторону окна. Это даст ей еще несколько секунд.
Но времени, чтобы написать, объяснить, ей не хватит. Она протянула руку и включила веб-камеру, встроенную в компьютер. Засветился диод на мобильном модеме, подтверждая: она в Сети. Открылось новое окошко со списком имен. Она выругалась. Все были в сером цвете — недоступны в онлайне. Вероятно, еще спали.
В комнате голоса посовещались несколько секунд, потом шаги приблизились к ванной. Тяжелый ботинок ударил в дверь с такой силой, что та чуть не слетела с петель. Джиллиан бешено прокручивала имена в списке контактов. Ну хоть кто-то из них должен бодрствовать! Диод на модеме оранжево моргнул, и сердце ее чуть не остановилось, но секунду спустя связь вернулась и снова загорелся зеленый. Еще один удар — на этот раз дверь прогнулась.
Вот оно! В самом конце списка она нашла то, что искала: одно-единственное имя, выделенное жирным шрифтом. Ник — конечно, он не спит. Дурное предчувствие охватило ее, но еще один удар в дверь мгновенно рассеял сомнения. Ему придется действовать. Она кликнула по иконке с его именем, чтобы установить связь. Не дожидаясь ответа, нашла нужный файл и нажала «отправить». Диод модема бешено замигал, когда из компьютера пошла информация.
— Да быстрее ты, — одними губами проговорила Джиллиан. Она ждала, когда лицо Ника появится на экране, чтобы предупредить его, сказать, что делать с этим, но квадрат, в котором должно было появиться его лицо, оставался черным, пустым. — Отвечай же, черт тебя дери!
«До завершения загрузки остается около минуты» — появилось сообщение на мониторе. Но минуты у нее не осталось. За ванной было маленькое окошко, и она сунула компьютер на подоконник. Ее пальцы наспех пробежали по клавиатуре — она набрала две короткие строчки, молясь о том, чтобы послание дошло до кого-нибудь. Еще один удар. Она задернула занавеску над ванной, чтобы скрыть компьютер от глаз.
Дверная рама треснула, и дверь распахнулась. В ванную вошел человек в длиннополом черном пальто и черных перчатках. Сигарета, словно иголка, торчала в уголке его рта. Джиллиан автоматически подтянула доверху молнию на своем свитере.
Слабый крик разнесся по улице и замер в морозном воздухе. Рыхлый снег засыпал следы ботинок перед дверью гостиницы. Машина отъехала, как призрак, цепи на покрышках позвякивали. А на другом конце света порция байтов закачалась в компьютер и заявила о себе иконкой на экране.
II
ПРИЗНАНИЯ ИОГАННА ГЕНСФЛЕЙША
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать.
Господь, будь милостив к моим прегрешениям. Как и народ Вавилона, я построил башню, чтобы приблизиться к небесам, а теперь я повергнут в прах. Но не грозным Богом, а собственной слепой гордыней. Я должен был уничтожить этот богохульный предмет, утопить его в реке или жечь огнем, пока золотой лист не расплавится и не сойдет со страниц, пока не выкипят чернила, пока бумага не превратится в пепел. Но — очарованный его красотой и создателем — я не смог сделать это. Я похоронил его в камне; я напишу мои признания, всего одну копию, и они будут вместе лежать в вечности. И пусть Господь судит меня.
Все это начинается в Майнце, городе пристаней и шпилей на берегах реки Рейн. У человека в жизни может быть много имен; в это время меня звали Хенхен Генсфлейш. Хенхен было уменьшительным от Иоганна, а Генсфлейш — это фамилия отца. Означает она «гусиное мясо», и его такая фамилия вполне устраивала. Богатство нашей семьи росло, а вместе с ним рос и отцовский живот, пока не стал перевешиваться через ремень, а щеки у отца обвисли ниже подбородка. Он, как и гусь, умел больно щипаться.
Вполне естественно, что финансовые интересы отца в конечном счете привели его в самое доходное место. Он вступил в товарищество монетного двора — синекура, которая идеально тешила его тщеславие. Это дало ему годовую ренту и право в День святого Мартина шествовать в почетных рядах, от него же за это почти ничего не требовалось, кроме редких инспекций монетного двора. Как-то раз, когда мне было десять или одиннадцать, он взял меня с собой.
Стоял пасмурный ноябрьский день. На шпилях соборов висели тучи, а пока мы перебирались через площадь, дождь исхлестал нас с ног до головы. Рынок в тот день не работал — из-за дождя на улицах не осталось ни единой живой души, но на монетном дворе было тепло и полно людей. Нас встретил сам главный мастер, угостил горячим яблочным вином, которое обожгло мне горло, но зато разлилось внутри приятной теплотой. Мастер неизменно соглашался с моим отцом, и я от этого был счастлив и горд (позднее я понял, что он возглавлял монетный двор по контракту и надеялся на продление договора с ним). Я стоял позади отца, цепляясь за мокрую полу его одеяния, а потом мы вместе последовали в мастерские.
Это было все равно что войти в сказку, лабораторию волшебника или пещеру гномов. Одни только запахи совершенно опьянили меня: соль, сера, древесный уголь, пот и гарь. В одном из помещений литейщики выливали дымящееся золото из тиглей в канавки в столах; за дверью длинная галерея звенела от ударов звонких молотков — мастера на скамьях расплющивали заготовки. Еще дальше человек с гигантскими ножницами легко, словно материю, резал металл на кусочки размером не более ногтя. Женщины обрабатывали эти кусочки на точилах, спиливая углы и придавая им округлую форму.
Я был очарован. Я и представить себе не мог, что такая гармония, такое единство цели могут существовать за пределами небес. Я автоматически потянулся к одному из золотых кусочков, но тяжелая ладонь отца остановила мою руку.
— Не трогай, — остерег он меня.
Маленький мальчик, еще младше меня, собрал кусочки в деревянную чашу и отнес клерку, сидевшему во главе комнаты, и тот взвесил каждый на маленьких весах.
— Все они должны быть совершенно одинаковы, — сказал мастер, — иначе все, что мы тут делаем, будет совершенно бессмысленно. Чеканка монет имеет смысл только в том случае, если все монеты идентичны.
Клерк сгреб горку золотых дисков со стола в фетровый мешочек, взвесил его и сделал запись в гроссбухе на столе. Потом передал мешочек ученику, который торжественно понес его к двери в дальней стене. Мы двинулись следом.
Я сразу же увидел, что это помещение отличается от предыдущего. Окна здесь были забраны железными решетками, на дверях висели тяжелые замки. Чеканщики, четыре громадных человека с обнаженными руками и в кожаных передниках, стояли за рабочим столом и лупили по металлическим плашкам, как по миниатюрным наковальням. Ученик подал мешочек одному из них. Чеканщик рассыпал заготовки на столе перед собой, потом вложил один из дисков в формочку, замахнулся молотком и ударил. Один удар — взрыв искр, щечки формочки раскрылись, и к горке готовых добавилась новая монетка.
Я смотрел, распахнув глаза. В свете тяжелой лампы монетки сверкали и подмигивали своим идеальным блеском. Отец и мастер стояли спиной ко мне, разглядывая в лупу одну из формочек. Чеканщик за столом сосредоточенно укладывал золотую заготовку в формочку.
Я знал, что делать это нельзя, но разве можно считать воровством, если ты берешь какую-то вещь, которая тут же стократно будет заменена на новые? Это все равно что зачерпнуть горсть воды из реки, чтобы напиться, или сорвать ягодку с куста ежевики. Я протянул руку. Монетка еще была горячей от формы. На мгновение передо мной мелькнуло отштампованное лицо святого Иоанна, укоризненно смотрящее на меня. Потом оно исчезло в моем сомкнувшемся кулаке. Я не испытывал ни малейшего чувства вины.
Это не имело никакого отношения к корысти — я не нуждался в золоте. Это было какое-то желание, которого еще не изведал мой детский ум, жажда чего-то совершенного. Я смутно понимал: эти монеты отправятся в мир и будут видоизменяться и видоизменяться снова — в собственность, власть, войну и спасение, и все это будет происходить потому, что каждая представляет собой одну из множества составляющих единой системы, столь же непреходящей, как в природе вода.
Они закончили. Отец пожал руку мастера, произнес несколько одобрительных слов, мастер хищно улыбнулся и предложил выпить шнапсу в его покоях. Он отвлекся, чтобы сказать несколько слов чеканщикам, а я потащил отца за рукав, показывая на дверь и елозя ногами, мол, невтерпеж. Он с удивлением посмотрел на меня, словно забыл о моем присутствии, потом взъерошил мне волосы — максимум проявления нежности, на какое был способен.
Я понял, что попался, в тот момент, когда мы перешагнули порог. Клерк стоял у стола, напротив него ученик, оба недоуменно смотрели на весы, одна чаша которых, с бархатным мешочком, ушла высоко вверх, а другая неподвижно покоилась на столе, придавленная медной гирькой. Я почувствовал, как в животе у меня словно образовалась пустота, но одновременно не переставал удивляться системе, столь четко отлаженной, что она способна обнаружить отсутствие одной-единственной монетки.
Мастер подбежал к столу. Последовали сердитые слова. Клерк поднял гирьку, поставил другую — чаши прошлись туда-сюда, но результат остался тем же. Вызвали чеканщика, который яростно принялся отстаивать свою невиновность. Клерк вытряхнул из мешочка его содержимое и принялся пересчитывать монетки, выкладывая каждую в квадратик клетчатой скатерти. Я безмолвно вел счет вместе с ним, чуть ли не веря, что отсутствующая монетка может каким-то чудесным образом появиться. На столе выстроился один ряд из десяти монет, потом второй, третий, и начал выстраиваться четвертый.
— Тридцать семь. Тридцать восемь. Тридцать девять. — Клерк запустил руку в мешочек, вывернул его наизнанку. Ничего. Он сверился со своим гроссбухом. — Прежде тут было сорок.
Клерк гневным взглядом посмотрел на чеканщика. Чеканщик уставился на мастера, тот взволнованно смотрел на моего отца. Никто не подумал посмотреть в мою сторону, но это не имело значения. Я знал, что на меня устремлено всевидящее око Господа, чувствовал его гневный взгляд. Ладошка у меня вспотела. Гульден в моей руке налился свинцовой тяжестью, усугубляя мою вину.
Моя рука разжалась. Может быть, монетка выскользнула сама, может быть, я хотел, чтобы она вывалилась, но так или иначе гульден выпал, стукнулся о пол у моей ноги и покатился в сторону. Пять голов повернулись на звук и проводили катящуюся монетку взглядами, потом глаза всех остановились на мне. Один из пяти оказался проворнее других. Сильный удар по затылку сбил меня с ног. Сквозь слезы я видел, как клерк нагнулся и поднял беглую монетку, протер и любовно положил к остальным. Последнее, что я помню, прежде чем отец уволок меня: клерк облизывает перышко и заносит итоговую цифру в свой громадный гроссбух.
Тем вечером отец снова поколотил меня, исхлестал своим клепаным ремнем, предавая вечному проклятию мой смертный грех. Я охотно вопил — стоицизм приводил его в еще большее бешенство. Но я, лежа на лавке и глядя в камин, видел только бесконечный водопад золотых гульденов, каждый из которых являл собой сверкающий фрагмент совершенства.
III
Нью-Йорк
«Раньше у каждого был круг друзей, — думал Ник, — а теперь — список».
Маленькие фотографии на веб-странице, словно звездочки на истребителе по числу сбитых самолетов врага или перечень контактов с людьми, с которыми ты выходил на связь в хронологическом порядке. И неважно, как ты себя чувствовал; даже если ты не был расположен к разговору, твои друзья безжалостно заставляли тебя соучаствовать в их словесном поносе. Какая-то часть Ника возражала против такого положения, но тем не менее он продолжал пользоваться онлайн-чатами. Он сейчас смотрел на один из таких списков на своем мониторе, на зеленую кнопочку, мигающую против высветившегося имени. Это имя вот уже несколько месяцев находилось в конце его списка — среди прежних коллег, старых школьных приятелей и всяких друзей друзей. Но это пока еще ничего ему не говорило.
Джиллиан. Ник откинулся к спинке кресла. В его квартире было темно — свет исходил только от сиреневатых экранов: один на его столе, другой в противоположном углу комнаты, где телевизор неизвестно кому показывал ночной фильм. Он несколько месяцев ждал этого момента: проверял сотовый, голосовую почту, «Скайп» и несколько адресов электронной почты, его надежды даже воспаряли ежедневно, когда он видел приближающегося почтальона, — ах, сколько существует способов не обращать на человека внимания. И вот она объявилась.
Курсор завис над продолжающей мигать зеленой кнопкой. Сердце Ника бешено колотилось. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, потянул ворот свитера, распрямляя его. Нужно бы побриться. Он кликнул мышкой.
Крик вспорол тишину, словно нож. Поначалу он подумал, что это из телевизора, но звук там был выключен. Он подождал еще секунду — не повторится ли? Тишина. Может, послышалось? На мониторе компьютера в окошке появилось зернистое изображение. Что-то похожее на рисунок обоев: серобелая стена с небольшими елочками, нарисованными на ней. А может, это была занавеска — елочки словно шевелились и раскачивались перед камерой. Картинка была дерганая, и разобрать ничего не удавалось.
— Джиллиан? — сказал он в микрофон над компьютером. — Ты там? — Он прищурился, глядя в камеру. — Это какая-то шутка?
Он почувствовал горечь разочарования. А ведь знал же, что так оно и будет.
Но кто-то там все же, видимо, был. Он услышал голоса — мужские голоса — и что-то похожее на звуки потасовки. Вдруг елочки резко съехали в сторону. Появилось лицо мужчины — смуглое, средиземноморского типа, сплюснутое, как картофелина (следствие искажения камерой), в губах зажата горящая сигарета. На его щеке вроде бы мелькнуло кровавое пятно — наверное, порезался во время бритья. Ник увидел коричневые плитки стены ванной комнаты и небольшое зеркало за его плечом.
Мужчина злобно прокричал что-то — Ник не разобрал его слов, потом протянул руку, словно собирался затащить Ника через окно на мониторе. Рука заполнила весь экран, расплывчатая и зернистая, но такая реальная, что Ник в панике отшатнулся от стола. Потом изображение почернело.
Ник ошеломленно взирал на экран. В окне зияла чернота, но иконка послания все еще была открыта. Он впервые заметил две строчки внизу.
используй это. ключ — медведь
помоги мне они пришли за мной
А рядом мигающая иконка сообщала, что файл закачан.
Неаполь, Италия
Черный «мерседес» пробирался по мощеным улицам. В предрассветном сумраке мир казался мрачным: мужчины и женщины в бесцветных одеждах спешили на работу под затянутым тучами небом, иногда видя свое отражение в лужах с нефтяными разводами. Чезаре Гемато смотрел на них с заднего сиденья машины через тонированные стекла, которые делали мир почти черным. Он любил это время дня, этот сезон. Он был бы не прочь всю жизнь провести в тени.
Неожиданно оперное бельканто разорвало тишину в лимузине — из динамика сотового телефона раздался дребезжащий голос Паваротти, поющего Пуччини. Внук Гемато воспользовался моментом, когда дед отвернулся, и изменил мелодию звонка, и Гемато, несмотря на всю свою власть, бессилен был вернуть прежнюю.
Сидящий рядом с ним молодой человек достал телефон из кожаного портфеля у него на коленях, произнес несколько слов, передал трубку Гемато.
— Это Уго, — сказал молодой человек.
— Si. — Гемато приложил трубку к уху. — Хорошо. Ты нашел что-нибудь при ней? Книгу?
Он нахмурился.
— А мог он тебя увидеть на этом компьютере?
Он заметил в окне молодую женщину в светлом дождевике, она вовсю крутила педали велосипеда. Ветер играл ее черными волосами, плотно прижимал плащ к ее телу.
— Пошли это нашим друзьям в Таллине. Выясни, кто, где и что этому типу известно.
Он отключился и передал телефон помощнику.
«Вот и оказывай услуги», — подумал он.
Даже если это человек, которому ты многим обязан, как он — своему патрону. Всегда возникает что-нибудь такое, с чем потом приходится разбираться.
— Соедини меня с Невадо.
Нью-Йорк
Ник сидел в ресторанчике. Его ноутбук стоял открытым на столике рядом с листом бумаги и ванильным молочным коктейлем в шейкере из нержавеющей стали. В четыре часа ночи здесь почти никого не было, но он любил сюда приходить, когда его доставала бессонница, ему нравились неоновые огни и хром, искусственная кожа и пластмасса, а еще бездонная чашка кофе за полтора доллара. Ему это представлялось настоящим, хотя он и знал, что только представлялось, ведь сотни голливудских фильмов заштамповали этот обман до совершенства. Ему об этом сказала Джиллиан.
Джиллиан.
Он посмотрел на экран ноутбука. Греки, владевшие ресторанчиком, были не очень консервативными — оборудовали свое заведение беспроводным Интернетом, когда увидели, что клиенты уплывают в кафе неподалеку на той же улице. Ник был в Сети вот уже около часа, вглядывался усталыми глазами в экран — не появится ли на нем Джиллиан. Ее имя перескочило в верхнюю строку списка, но иконка рядом с ним оставалась серой.
Последний контакт: 6 января 07:48:26
Он потянул коктейль через соломинку. 7:48, на шесть часов позднее, чем в Нью-Йорке. Где она была — где-то в Европе? Что она там делала?
«Помоги мне они пришли за мной».
Наверное, это какая-то шутка. С Джиллиан ничто нельзя было исключать. Но если ничто нельзя исключать…
Неужели она отправилась в Европу только для того, чтобы выкинуть эту глупую шутку? Он воспроизвел видеокартинку перед мысленным взором: крик, злое лицо, заполнившее экран, рука, тянущаяся к камере. Нет, на шутку это не было похоже.
С Джиллиан ничто нельзя было исключать.
А потом еще этот присланный файл. Он пододвинул к себе по столу распечатку и принялся ее разглядывать. Он полагал, что найдет в этом файле ответ, какую-нибудь подсказку, с помощью которой можно будет разгадать шараду. Но нет, файл только усилил его недоумение. Там не было текста, лишь черно-белая картинка, на которой изображены восемь нарисованных от руки львов и медведей в разных позах: крадущиеся, присевшие, спящие, рычащие, копающие, карабкающиеся. Один из львов сидел на задних лапах и облизывался. Он глазел с листа на Ника, приковывал его взгляд, побуждал приблизиться.
Приблизиться к чему?
Вероятно, Джиллиан работала с этим. На зачем отправлять это ему? В чем ценность этих рисунков? «Ключ — медведь». Он пытался кликать по медведям мышкой, но безрезультатно.
Он попробовал другой подход. Открыл браузер и вызвал сайты, на которых она бывала, — печальный любовник, посещающий любимые места своей прежней пассии. Блоги, на которых она размещала посты, форумы, которые она могла посещать. Ничего особого это ему не дало. Рецензия на книгу, которую она читала незадолго перед тем, как оставить его. Что-то о ювелирном деле на форуме медиевистов. Он попытался было читать, но эта терминология ни о чем ему не говорила. С июля — времени ее ухода от него — там не появилось почти ни одного поста. Совпадение? Может быть, расставание с ним сильно повлияло на нее, вот только она виду не подавала. Эта мысль странным образом успокоила его.
Тут ему пришла в голову мысль забраться в одну социальную сеть, которую она тоже посещала. Как и многие, она зарегистрировалась, целых две недели без устали писала посты, призывая друзей присоединяться, но потом решила, что в жизни есть занятия поинтереснее. Насколько было известно Нику, она так больше и не заходила на свой блог. Но теперь он обнаружил, что она побывала там совсем недавно: на самом верху страницы, в окошке, где пользователи могли оставлять лаконичные, в пару строк сообщения о том, чем занимаются, он прочел:
Джиллиан Локхарт
грозит смертельная опасность
(последняя запись 2 января, 11:54:56)
Что это было такое — еще одна шутка? Она специализировалась на подобных мелодраматических преувеличениях. Но еще она любила двусмысленность иронии, слова, которые одновременно были правдой и неправдой. Она дразнила вас возможностями, но никогда не давала ответов.
Ник допил остатки коктейля. Воздух в пустой соломинке забулькал, захлюпал.
IV
Франкфурт, 1412 г.
В детстве я видел, как заживо сожгли двух человек. Это было во Франкфурте, в одном дне пути от Майнца. У отца были там какие-то дела на Веттерауской ярмарке, и случилось это три месяца спустя после происшествия на монетном дворе. Он пребывал в веселом настроении, смеялся вместе со своими компаньонами над лавочниками и калеками, тащившимися по дороге. Я тоже смеялся, хотя и не понимал их шуток.
По мере нашего приближения к городской площади толпа становилась все плотнее, но отец всей массой своего тела и с помощью палки протолкался в передний ряд, а потому я видел все, и никто мне не мешал. Глаза у меня от возбуждения были широко распахнуты, потому что я не понимал, какое зрелище может привлечь столько народа. Я надеялся увидеть танцующего медведя.
Виселица стояла в середине площади, как косяк невидимой двери. Но я даже в свои юные годы знал, куда ведут эти двери. Под ними лежали кипы соломы. Мне захотелось заплакать, но я знал, что отец не позволит мне этого.
Два пристава вывели преступников из толпы. На одном был длинный черный балахон и белый колпак, на котором были нарисованы несколько чертей, держащих знамя с надписью «Ересиарх» — глава еретиков. Другой шел с обнаженной бритой головой, его щиколотки и запястья были скованы цепью.
— А что он сделал? — спросил я.
— Этот человек был мастером на монетном дворе, — сказал мне отец. — Он выпускал монеты пониженной ценности, как недобросовестный пивовар, который разбавляет пиво водой. — Он присел рядом со мной и вытащил гульден. Повертел его в пальцах, и золотые зайчики заиграли у меня в глазах. — Что ты видишь?
— Святого Иоанна.
— А на другой стороне?
— Герб принца.
Отец одобрительно улыбнулся. Сердце у меня возрадовалось.
— Святой и принц. Власть Бога и власть человека. Два столпа нашего мира.
Он показал на мастера монетного двора. Приставы пристегнули его руки к железному крюку в левой части перекладины, а теперь пытались пристегнуть его закованные цепью ноги ко второму крюку в правом конце. Один из приставов поднялся, посадив себе на плечи приговоренного, а другой помогал ему, сев на корточки и подталкивая снизу, чтобы облегчить подъем. Толпа засвистела, послышались одобрительные выкрики.
— Против кого он согрешил, Хенхен?
— Против принца, отец.
— И?
— Против Бога.
Он облизнул толстые губы и кивнул.
— Если чеканка монет не поддерживается на идеальном уровне… если в монетке не хватает хотя бы одного грана, то никто не будет ей доверять и божественный порядок разрушится. Хотя бы одного грана, — повторил он.
Наконец два пристава на виселице сумели растянуть мастера монетного двора между крюками, словно тушу на вертеле, чтобы он горел дольше, перед тем как умереть. Еретику повезло больше: его привязали вертикально к столбу, где пламя должно было быстро его поглотить. Поэтому я сделал вывод, что его преступление менее злостное.
Бейлифы принесли дрова из углов площади и положили их на солому. Приставы попрыскали на них маслом из фляги так, чтобы немного попало и на преступников. Магистрат забрался на возвышение и зачитал обвинения, написанные на большом свитке с печатью. Я не слышал его слов, но отец с немалым удовольствием повторял их для меня. Еретик, мол, отрицал, что Христос — Сын Божий, а церковь — путь к спасению. Что он призывал церковь отдать ее собственность. Что он в полночь, прибегая к черной магии, вызывал самого Люцифера, в вино причастия подсыпал прах мертворожденных младенцев, предавался блуду на алтаре и совершил кровосмесительный акт со своей сестрой. Глядя на этого по виду добродушного человека с выпирающим кадыком, трудно было поверить во все это, но, как говорил отец, дьявол надевает маски, чтобы обманывать нас. Наверное, я должен был слушать внимательнее.
Собирались облака, усиливался ветер. Факел в руке пристава разгорался все ярче, а день становился все темнее. Приговоренные истерически читали молитвы. Лицо магистрата побагровело — он пытался перекричать рев животных, звон колоколов и крики толпы. Закончив, он сразу же спрыгнул с возвышения и дал знак приставам поджигать.
Огонь занялся за считаные мгновения, принялся плясать на сваленных горкой дровах, лизать тела несчастных наверху. Еретик умер мгновенно. А может, потерял сознание. Фальшивомонетчик продержался дольше. Я видел, как пламя вгрызлось в его одежду там, где на нее попало масло, и впечатление создалось такое, будто пламя пожирает его изнутри, а не снаружи. Его вопли и треск огня смешались с криками толпы.
Я почувствовал удар по спине и оглянулся. Это был мой отец. Его кривые ноги были широко расставлены, глаза обращены к небесам, лицо горело праведным гневом, а его палка молотила по моим плечам, вбивая в меня память о происходящем.
Мне и после этого доводилось видеть, как сжигали других людей за их непомерные грехи. И каждый раз некая малая часть моей души сжималась от сочувствия к ним.
V
Нью-Йорк
Даже в Нью-Йорке погода может тебя достать. Ника разбудил дождь — ледяные иглы молотили по окну. Он перевернулся, чтобы еще несколько секунд понежиться в тающих объятиях сна. Но вдруг вспомнил.
Глаза его мигом раскрылись. Часы на прикроватном столике показывали без десяти одиннадцать, хотя за окном стояла темнота и определить время было невозможно. Неудивительно, что он проспал. Он резко поднялся с кровати и подошел к открытому ноутбуку на полке у окна. Он оставил его включенным на ночь и даже звука подбавил на тот случай, если она вызовет его еще раз. Никаких вызовов не поступало. Он посмотрел почту, даже не потрудившись выкинуть спам, но и там ничего не было. В висках запульсировала боль. Ему захотелось выпить кофе.
Увидев Брета, он понял, что встал слишком поздно. Приятель, снимавший на пару с ним квартиру, сидел в вальяжной позе на стуле и одной рукой стучал по клавиатуре, а в другой держал подсохший кусок вчерашней пиццы.
— Ты чем там занят?
— Капчи,[1] — проговорил Брет с полным ртом пеперони. — Этот сайт за каждую сотню капчи выдает бесплатную порнуху.
Когда машины завоюют эту планету, подумал Ник, Брет будет их пятой колонной. Он питался всякой падалью — паразит, обитающий на самом дне Интернета. Он находил адреса электронной почты для спамеров, вздергивал цены на онлайновых аукционах, рекламировал преимущества сомнительных лекарств или, как теперь, расшифровывал написанные враскоряку символы, с помощью которых веб-сайты блокировали автоматическую регистрацию; Брет за несколько центов был готов делать что угодно. Если бы существовало влиятельное сообщество, выступающее против Интернета (а Ник полагал, что такие сообщества где-то существовали), то Брет был бы для этих людей идеальным образцом всего недопустимого. Ник толком не понимал, почему стал на пару с Бретом снимать эту квартиру.
— Ты куда это намылился ночью? — пробурчал Брет. — Сутенер вызывал?
Ник направился к кухонному столу и включил чайник.
— Я получил письмо от Джиллиан.
— Мм… — Брет облизнул жирные пальцы и потянулся к мышке. — Она что, вернулась?
— Я думаю, она в Европе.
— Сотенка. — Брет кликнул мышкой. Символы исчезли, и на экране появилась пара сладострастно обнимающихся обнаженных женщин, на их лицах с приоткрытыми ртами застыло выражение наслаждения. — Она хорошенькая.
Ник плеснул кипяток на молотый кофе, но потом решил, что не может ждать. Он выпьет кофе в забегаловке на углу.
— Я ухожу.
Брет помахал ему на прощание. Пицца колыхалась в его руке, как дряблая кожа.
— Я буду здесь.
Ник проехал на метро по линии «А» до Сто девяностой улицы и вылез на Форт-Вашингтон-авеню. Дождь перешел в мелкую морось, которая проникала ему за воротник, доставала до самых костей. В последний раз он был здесь в разгар лета, когда пышные кроны деревьев погружали улицу в тень, а ребятишки гонялись друг за другом с водяными пистолетами. Он тогда купил Джиллиан мороженое в киоске «Гуд хьюмор». Теперь листья облетели, улицы опустели. На сером холме перед ним над лесом возвышалась каменная башня средневекового монастыря — фрагмент далеких стран и времен, возведенный в Верхнем Манхэттене. Музей «Клойстерс». За музеем склон опускается к Гудзону, а другой, обрывистый, берег теряется в тумане. Рев машин на мосту Джорджа Вашингтона висит в воздухе, как рокот отдаленного грома.
В музее не было ни души. Ник купил входной билет и направился к экскурсоводу, светловолосой даме, которая походила на коршуна, готового спикировать на посетителей. Брошка на ее лацкане напоминала бирку на экспонате: Манхэттен, середина XX века, вероятно, еврейские корни. Ее глаза засверкали, когда она увидела приближающегося Ника.
Он вытащил картинку, которую прислала Джиллиан.
— Вы это узнаете?
Глаза экскурсовода скользнули по листочку, с которого на нее глазели четыре медведя и столько же львов.
— Не знаю. — (Ник видел ее разочарование.) — Может, вам лучше поговорить с доктором Сазерленд.
— А где мне его найти?
— Ее. Она, вероятно, в зале единорога. — Она показала помещение за открытой дверью. — Пройдите до самого конца.
Музей являл собой странное место. Джиллиан называла его химерой: он состоял из соединенных в одно целое растерзанных частей других зданий, привезенных из Старого Света. Коридор в романском стиле вел в готический зал, испанская часовня расположилась рядом с домом капитула. Ник прошел по пустой аркаде, затем через дверь двадцатого века и оказался в удлиненной, тускло освещенной комнате. Стены ее были почти не видны за семью громадными гобеленами. Перед одним из них на коленях стояла молодая женщина и, подсвечивая себе чем-то вроде маленького фонарика, разглядывала нити. Над ней стая собак и людей с копьями окружили единорога, который насадил на свой рог одну из собак. Его глаза горели отчаянием.
Под ногой Ника скрипнула половица, и женщина вздрогнула.
— Доктор Сазерленд?
Вид у нее был такой, будто она сошла с черно-белой фотографии. Черные волосы, связанные сзади черной лентой, белая блузка, застегнутая до самой шеи. Единственное, что нарушало это бесцветие, — ее туфли, красной кожи, лаковые.
— Меня зовут Ник Эш. Извините за беспокойство… — Он помедлил. — Я друг Джиллиан Локхарт. — (Недоуменное выражение.) — Она работала здесь.
— Ах да. — Извиняющаяся улыбка. — Я работаю тут всего с октября. Я ее не знаю…
Судя по произношению, она была англичанкой.
— Ну да это неважно, не исключено, что вы все равно сумеете мне помочь.
Ник развернул листок и протянул ей. Он увидел, как засветились ее темные глаза.
— Мне это прислали вчера довольно таинственным образом. Я подумал, здесь кто-нибудь сможет растолковать мне, что это такое.
Она несколько секунд смотрела на картинку, губы ее беззвучно двигались.
— Пятнадцатый век. Гравюра с медной доски немецкого художника, видимо жившего в районе Верхнего Рейна. Датируется приблизительно тысяча четыреста тридцатым годом. — Она увидела недоумение на лице Ника и рассмеялась, смутившись. — Это игральная карта.
— А не должны на ней быть черви или бубны?
— Львы и медведи — это масть. — Она завела за ухо выбившуюся прядь волос. — Вообще-то, я думаю, масть называлась «хищные животные». Ранг карты соответствует числу животных на ней.
— Вы явно неплохо разбираетесь в этих вещах.
Она, снова смущаясь, пожала плечами.
— Да не очень. История искусств — факультативный курс. Я специализировалась на животной символике. А эти карты — они просто знамениты. Это практически один из первых известных нам примеров печати с медной доски.
— И кто их сделал?
— Это нам неизвестно. Большинство поделок средневековых мастеров не подписаны, и отсутствуют документы, по которым можно было бы выяснить их происхождение. Историки называют его Мастером игральных карт.[2] Есть и другие гравюры, которые приписываются ему по стилистическому сходству, но игральные карты — это главное, что сохранилось.
— А есть и другие?
— В Европе уцелело несколько десятков. Главным образом в Париже, кажется. Колода очень необычная, в ней пять мастей вместо привычных нам четырех. Олени, птицы, цветы, люди… — Она постучала ногтем по распечатке. — И хищные звери.
Последовала неловкая пауза. Глядя на распечатку, она отошла к свету, проливающемуся из витражного окна высоко в стене. Окрашенные лучи сквозь стекло выплеснулись на ее белую блузку, оставив на ней подобие раны. Перед мысленным взором Ника возникла свирепая физиономия перед камерой. Его пробрала дрожь.
— Вы можете мне это оставить? — спросила она, с любопытством взглянув на него.
Он помедлил.
— Конечно.
— Посмотрю, может, удастся узнать еще что-нибудь, когда закончу работу. — Она кивнула на гобелен. — А сейчас вы уж извините…
— Да, конечно.
Ник вытащил визитку из бумажника; когда она брала карточку, ее пальцы коснулись его — длинные, белые, с алыми ногтями. Она прочла.
— Цифровые криминалистические реконструкции?
— Я собираю отдельные части в одно целое.
Он давно выдумал эту фразу и пользовался ею, когда хотел произвести на кого-то впечатление. Теперь ему это показалось глупым.
Выходя из музея, он снова увидел экскурсовода. Просвещать ей по-прежнему было некого — посетители так и не появились, и она стояла в комнате, глядя, как струйки дождя стекают в сад по рифленым плиткам кровли. Через ее плечо смотрела на это и каменная статуя какого-то святого.
— Ну, вы нашли доктора Сазерленд?
— Она здорово мне помогла. — Он не был уверен, так ли это на самом деле. — Но я хотел вас спросить кое о чем. Вы здесь давно работаете?
Она чуть подтянулась.
— Семнадцать лет.
— Вы знали Джиллиан Локхарт? Она здесь работала.
Ее веки под густыми тенями за стеклами очков сощурились. Она сделала вид, что изучает статую святого у него за спиной.
— Она что — ваша подружка?
— Да, была. Я… я потерял с нею связь. Просто подумал, может, вы знаете, куда она отправилась отсюда.
Экскурсовод развернулась к Нику, пристально посмотрела ему в глаза. Все семнадцать лет борьбы с невежеством и искоренения заблуждений отразились в ее обжигающем взгляде.
— Мы тоже потеряли с ней связь. Не хочу пересказывать сплетни, но, на мой взгляд, и черт с ней. Вы уж извините мой французский.
Ник попытался выдержать ее взгляд, но у него не получилось. Он не успел придумать ответ — его сотовый телефон пронзительным звоном разорвал монотонную тишину, усиленную стуком дождевых капель. Взгляд женщины вполне мог превратить его в камень. Покраснев как рак и уставившись в пол, он вытащил телефон из кармана и раскрыл его. Он даже толком не успел разглядеть номер звонившего на дисплее — сразу захлопнул его.
— Это музей. — Голос ее прозвучал, пожалуй, громче, чем звонок телефона.
— Я сейчас ухожу, — успокоил ее Ник. — Но если бы вы сказали мне, куда могла направиться Джиллиан… Если вам что-то известно.
Перспектива распрощаться с назойливым типом была слишком соблазнительна.
— Я слышала, что она подала заявление в «Стивенс Матисон». — Она посмотрела на Ника — говорит ли это ему что-нибудь. — Аукционный дом. У них демонстрационный зал на пересечении Пятнадцатой и Десятой. Уверена, мисс Локхарт — именно тот сотрудник, какой им требовался.
Ник не понял, что она имеет в виду, но спросить не отважился.
VI
Майнц, 1420 г.
— Когда Сарра увидела, что ее сын Исаак играет с Измаилом, она сказала Аврааму: «Выгони эту женщину и сына ее; ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком».[3]
Голос лектора был слышен и за пределами трапезной. Я сквозь арочный дверной пролет видел его, читающего громадную Библию, которая лежала на кафедре, и ряды сидящих на скамьях монахов, молча поглощающих этот урок. Я слышал не все его слова, потому что в галерее судья выносил приговор.
— Главный вопрос, стоящий перед судом в данном деле, в деле о разделении наследства Фридриха Генсфлейша, это вопрос старшинства.
Слабое апрельское солнышко едва пробивалось в галерею. В сумрачных аркадах вокруг нас своим чередом шла монастырская жизнь. Спешили по делам послушники. Я слышал, как по коридору с грохотом катят бочку в кладовку. Но в центре двора все внимание было приковано к судье. Он сидел лицом к нам за столом перед грудой книг, в которые ни разу не заглянул. Одна его рука лежала на коленях и играла четками, другая поглаживала мех мантии, словно зверек все еще был жив.
— С одной стороны, у нас есть претензии детей покойного через его вдову Эльзу. — Он сделал движение рукой в сторону скамьи, на которой сидел я с братом Фриле, моей сестрой и ее мужем Клаусом. — Никто не подвергает сомнению тот факт, что покойный любил свою жену, дочь лавочника. И никто не оспаривает того, что, завещая немалое состояние трем своим чадам, он слушал собственное сердце.
Мой отец умер в ноябре, смерть его была неожиданной, но трагедией ни для кого не стала. Он прожил свои семьдесят лет и до конца был полон энергии. Он до последнего дня мог вытащить ремень из брюк и отхлестать горничную, которая плохо вычистила серебро. По слухам, она его так боялась, что выждала целых десять минут после того, как мой отец рухнул на пол, и лишь затем повернулась, желая узнать, почему отсрочивается избиение. Меня в тот момент в доме не было, но те, кто был, говорили мне потом, будто никогда не видели такого умиротворенного выражения на его лице.
— Но сердцем должна управлять голова, как муж управляет женой и заветы Христовы управляют церковью. — Судья перевел взгляд на другую скамью, где сидела моя единокровная сестра Патце с ее дядей и двоюродным братом. — И вот почему в данном случае мы должны рассмотреть претензии и другой стороны — дочери покойного от первой жены.
Мой брат смерил Патце взглядом, полным ненависти. Она сидела, наклонив голову, словно молилась.
— Никто не оспаривает того факта, что Эльза, вдова усопшего, — добродетельная женщина, которая горько скорбит о смерти мужа. Но лавка, даже выстроенная из камня, остается всего лишь лавкой — и не более того.
Это был вымученный каламбур, основанный на девичьей фамилии моей матери, означавшей «лавка, построенная из камня».
— И посему было бы ошибкой, если бы настоящий суд не принял во внимание происхождение его первой жены. Кто может забыть, что она была дочерью магистрата и племянницей председателя суда? Воистину старинный род. И настоящему суду известно также, что в духе служения и послушания, характеризирующих эту семью, ее дочь Патце теперь исполнилась намерения принять обет и стать невестой Христовой в монастыре Блаженной Девы Марии.
Как это ни странно, но почти то же самое я почувствовал, узнав о смерти отца. Ощущение, будто у меня отбирают то, чем я на самом деле никогда не владел. Мой брат прореагировал острее: он так сжал руки в кулаки, что ногти до крови впились в ладонь.
— В последнее время много говорилось об изменении порядков в Майнце. О том, что старые семьи, которые всегда властвовали в городе, должны разделить свое бремя с новыми людьми, ремесленниками и лавочниками. — На лице судьи появилось презрительное выражение. — Мы в этом городе всегда признавали и поддерживали порядок, установленный Господом. Но в равной мере мы защищаем малых и сирых, как предписано Христом. По этой причине суд присуждает «Хоф цум Гутенберг» с его мебелью и всем необходимым для безбедной жизни вдове Эльзе до конца ее дней. Трем ее детям от Фридриха, уважая их любовь к родителям, мы присуждаем по двадцать гульденов каждому. Остальную часть наследства по праву старшинства мы присуждаем его первенцу, самой любимой и самой добродетельной дочери Патце.
Он ударил судейским молотком по столу в подтверждение своего приговора.
Я не чувствовал злости — пока еще не чувствовал. Мне было двадцать лет, и у меня отобрали будущее. У меня впереди была целая жизнь, чтобы растить и холить мое негодование.
Мой брат Фриле был старше меня на тринадцать лет, и половина его будущего уже прошла, а потому он принял приговор ближе к сердцу.
— Чертовы воры. Эти жадные до золота евреи, которые наживаются на шлюхах и пьют кровь христианских младенцев.
В алькове галереи ярко раскрашенный святой Мартин склонялся с деревянного коня, предлагая нищему свой плащ. Я ничего не сказал. Фриле уехал из дома через год после моего рождения. В нашем случае братские узы были преградой, которая определяла расстояние между нами и не позволяла сойтись ближе.
— Они ждали тридцать лет, чтобы отомстить отцу за его женитьбу на дочери лавочника. Теперь они получили все.
Я уже был достаточно взрослым человеком и понимал, почему наша матушка столько дней проводила в доме, почему наши соседи находили повод перейти на другую сторону улицы, если сталкивались с ней. И я спрашивал себя, почему отец женился на ней. Все его поступки в жизни определялись соображениями личной выгоды, а этот, единственный, не принес ему никакой пользы.
Лицо Фриле горело от бессильной ярости. Я боялся, как бы он не стащил святого Мартина с лошади и не раскурочил его на части ударом об пол.
— Мать будет вполне обеспечена. А об Эльзе позаботится ее муж. Я худо-бедно заработал себе имя в коммерческих кругах, где способности человека ценятся больше, нежели его наследство. А ты… — Он посмотрел на меня с притворным сочувствием, прикидывая, наверное, не найдет ли во мне союзника в той войне, которую уже начал планировать. — У тебя нет ни состояния, ни ремесла, ни положения. Что ты собираешься делать?
Я был сыном своего отца — по крайней мере, уж это-то я от него унаследовал. Я знал, что мне нравится больше всего.
— Я стану ювелиром.
VII
Нью-Йорк
Поезд линии «А» грохотал по туннелю где-то под Гарлемом. Свет из вагона выхватывал пыльные кабели и ржавые трубы на стенах. Ник прижал голову к исцарапанному стеклу и закрыл глаза.
Джиллиан была единственным человеком, с которым он познакомился в вагоне, возможно, единственным, с кем мог бы познакомиться. В середине дня в электричке Метро-Норт из Нью-Хейвена не было никого, кроме нескольких детишек из частной школы и семьи, направляющейся в город — в театр. Она села в Гринвиче и, хотя вагон был практически пуст, уселась прямо напротив него. Он избегал ее взгляда (истинный ньюйоркец), сосредоточенно вглядывался в экран ноутбука у него на коленях. Но Джиллиан была не из тех, кто легко сдается.
— Вы знали, что «коммьютер»[4] происходит от латинского слова commutare? Которое означает «полностью измениться»?
Пристальный взгляд. Ник отрицательно покачал головой и уставился на экран.
— Есть в этом некоторая ирония.
Ник уклончиво хмыкнул. Но это ее не остановило.
— На самом деле если вы коммьютер, то никогда ничего не меняется. Вы в одно и то же время садитесь в один и тот же поезд, сидите против одних и тех же людей, которые ездят на одну и ту же работу. Потом возвращаетесь домой в тот же дом, к той же жене и тем же детям, к той же ипотеке и тому же пенсионному плану. — Она выглянула в окно — там мелькала чересполосица пригородного ландшафта. — Я вот говорю, эти места — Рай, Нью-Рошель, Гаррисон… Они разве существуют? Вы встречали когда-нибудь местных жителей?
Ник смутно помнил, как мальчишкой был в парке аттракционов в Райе.
— Людей я там видел, но были ли они местные…
Она, словно ребенок, заелозила на сиденье.
— А вы знаете, что по-настоящему коммьютирует?
— Смертный приговор?
Она засияла.
— Точно. Да, кстати, меня зовут Джиллиан. — Она с преувеличенной официальностью протянула руку.
Как он узнал позднее, все в Джиллиан было преувеличенным — этакий небрежный способ сообщить о ее иронической отстраненности. А еще позднее он понял, что это был ее способ самозащиты.
— Вы, наверное…
— Ник. — Он неловко протянул пятерню над крышкой ноутбука, и они обменялись рукопожатием.
Она не была красива на манер «Мэйбелин»:[5] на подбородке чересчур глубокая ямочка, руки слишком длинные, каштановые волосы тусклые. Похоже, она была из тех женщин, которые пренебрегают косметикой. Но таилось в ней нечто, приковывающее взгляд, — энергия или аура, то, что притягивает к себе.
— Я не коммьютер, — добавил он, чувствуя необходимость оправдаться.
Она развернулась и пересела на место рядом с ним.
— Где вы работаете?
Ник закрыл крышку ноутбука, потом неловко рассмеялся. Оглянулся, не зная, куда бы ему посмотреть, потом его взгляд встретился с ее взглядом. Зеленые озорные глаза без всякого смущения смотрели на него.
— Вы мне поверите, если я скажу, что у меня секретная работа?
Она закатила глаза, на лице у нее появилось выражение типа «не морочь мне голову», которое перешло в восторженный писк, когда она поняла, что он говорит серьезно.
— Правда? Вы шпион?
— Не то чтобы шпион. — Он откашлялся. — Так, собираю отдельные части в одно целое…
Колеса заскрежетали, когда поезд метро начал тормозить на станции «Четырнадцатая улица».
Ник двинулся по улице за толпой коммьютеров. Снова шел дождь, струйки стекали по ступеням, а потому он чувствовал себя как лосось, идущий на нерест. Когда он добрался до аукционного демонстрационного зала в двух кварталах, то уже промок до нитки. Хорошо хоть надел плотное пальто. Похоже, он был единственным человеком в здании, пострадавшим от дождя. Он видел вокруг идеально отглаженные, безукоризненные рубашки, словно эти люди обитали в мире, где всегда светило солнце и температура не опускалась ниже двадцати одного градуса по Цельсию. Отполированный мир стекла, стали и мрамора, если судить по холлу. Жесткий мир. Он казался таким не похожим на мир Джиллиан.
— Чем могу вам помочь, сэр?
Администратор был молодым человеком с растрепанными волосами и в очках без оправы. Его английский сдабривался сильным европейским акцентом. Улыбка молодого человека, казалось, говорила, что у него есть дела и поважнее, чем общение с Ником.
— Я пытаюсь найти моего друга — Джиллиан Локхарт. Мне сказали, что она, возможно, работает здесь.
— Подождите, пожалуйста, я проверю.
Он принялся стучать по клавиатуре компьютера у него на столе.
— Мисс Джиллиан Локхарт. В нашем отделе манускриптов и печатных материалов позднего Средневековья. — Еще несколько ударов по клавиатуре. — Она работает в нашем Парижском отделении.
— А номер телефона у нее там есть?
— Я могу вам дать номер телефона демонстрационного зала. — Он взял ручку и, постукивая запонками по столу, принялся писать номер телефона на задней стороне визитки. — Вы, конечно, знаете, что для международного звонка вам нужно набрать ноль одиннадцать.
Ник бросил взгляд на ряд часов, которые, словно трофеи, висели за спиной администратора. Четыре часа в Нью-Йорке, десять в Париже.
— Наверное, они сейчас уже закрылись.
Еще несколько ударов по клавиатуре.
— Возможно, вам повезло. У них сегодня вечерняя продажа. Манускрипт герцога де Бери — на него очень большой спрос. Я думаю, мисс Локхарт должна быть там.
Ник направился в кофейню на другой стороне улицы. Его сотовый был выключен — еще в музее. Он включил его и набрал номер, написанный на карточке.
— Стивенс Матисон, bonsoir. — Голос женский, но не Джиллиан.
— Bonjour. — Нет, не так. — Прошу прощения, могу я поговорить с Джиллиан Локхарт?
— Moment, s’il vous plait.
Вместо женского голоса зазвучал концерт Вивальди. Ник старался не думать, сколько ему стоит каждая нота. Что он скажет Джиллиан? С чего начать?
Гудок в трубке сообщил ему о входящем вызове. Он посмотрел на экран — высветившийся номер был ему знаком, хотя он и не сразу понял откуда. Звонили из его квартиры. Брет?
Вивальди смолк. Ник перевел второй звонок в голосовую почту и снова прижал трубку к уху. И как раз вовремя — он услышал мужской голос:
— Кто говорит?
Он попытался скрыть разочарование.
— Меня зовут Ник Эш. Я хочу поговорить с Джиллиан Локхарт. В вашем нью-йоркском офисе сказали, что она, возможно, работает сегодня вечером.
— А у вас есть от нее известия? — Акцент был британский, аристократический. На заднем плане Ник слышал голоса и звон бокалов.
— Я получил письмо по электронной почте. Она не сообщила, где находится. — Он помолчал. — Откровенно говоря, я немного беспокоюсь за нее.
— И мы тоже. Мы вот уже почти месяц как не видели Джиллиан.
— Вы хотите сказать, что она уволилась?
— Я хочу сказать, что она исчезла.
И снова перед мысленным взором Ника появилось лицо человека, бросающегося на камеру. «Помоги мне они пришли за мной». Но то было всего лишь вчера.
— Вы сказали, она уже месяц как отсутствует?
Несколько мгновений он слышал только шипение, воды Атлантики бились о кабель.
— Прошу прощения… кто вы такой, вы сказали?
— Ник Эш. Я друг Джиллиан. Из Нью-Йорка.
— И вы вчера получили от нее письмо по электронной почте?
— Да.
— Ну, это означает, что она хотя бы жива. — Из-за британского акцента разобрать, шутка это или нет, было невозможно. — Она не написала, где находится?
Ник не знал, насколько может быть откровенным.
— Письмо было очень коротким. Судя по нему, она попала в какую-то переделку.
— О боже. — И опять акцент не позволил Нику почувствовать интонацию. То ли его собеседник говорил с отчаянием, то ли его одолевала скука. — Вы в полицию звонили?
— Да мне им и сказать-то нечего.
— Я звонил. Совершенно бесполезное занятие. Они мне сказали, что молодые женщины постоянно исчезают. Сказали, что это, возможно, дела сердечные… в особенности когда я показал им фотографию. Ну, вы же знаете французов. Да, если уж зашла речь о наших галльских друзьях, герцог де Бери сейчас пойдет с молотка, и боюсь, я должен…
— Еще одно. — Ник внезапно скороговоркой произнес: — Вы слышали о Мастере игральных карт?
Кажется, в голосе собеседника послышалась нотка удивления.
— Конечно. Немецкий гравер пятнадцатого века. Такие замечательные карты.
— Джиллиан упомянула его в своем письме.
— Правда?
Ник ждал, рассчитывая услышать еще какой-нибудь вопрос. Но никаких вопросов не последовало.
— Она работала над чем-то, связанным с игральными картами? — подсказал Ник. — Например, для аукционной продажи?
— Мне неизвестно, чтобы за последние сто лет появлялись какие-либо новые работы Meister der Spielkarten. И уж у нас они точно не появлялись.
Еще одна пауза. На линии слышался шум набегающих и отступающих волн.
— Извините, но мне нужно идти — клиенты. Благодарю вас за звонок. Позвоните, если узнаете что-нибудь еще. Мы все очень беспокоимся за Джиллиан.
Только повесив трубку, Ник понял, что даже не спросил имя собеседника. Он выругался и решил было перезвонить, но у него было такое ощущение, что ответа он не получит. На улице темнота уже положила предел короткому январскому дню. Сейчас он допьет кофе и отправится домой.
Сотовый на столе вдруг засветился и издал несколько разъяренных «бипов» подряд. Он посмотрел номера — все звонки из его квартиры.
Он не стал справляться с голосовой почтой и позвонил Брету. Тот по первому звонку схватил трубку.
— Ник, это ты? — У Брета вроде бы перехватывало дыхание, чуть ли не слезы слышались в голосе. — Ты должен немедленно приехать. Это Джиллиан.
Ник заставил себя успокоиться.
— Она что — звонила? С ней все в порядке?
— Да, Джиллиан звонила. Слушай, ты должен сейчас же приехать.
— Ты с ней говорил? Что она сказала? Она попала в переделку?
— В переделку? Да я бы сказал, черт знает в какую переделку. Это… слушай, ты даже представить себе…
Он замолчал, словно его душили рыдания, но секунду спустя проговорил:
— Извини. Давай возвращайся, понял? И позвони мне, когда придешь.
Дорога заняла у Ника двадцать пять минут. В дождливый пятничный вечер в городе такси не найти, и он чуть не всю дорогу бежал. Когда он оказался перед своим домом, его шерстяное пальто можно было выжимать. Он поднялся в вестибюль, прошел мимо почтовых ящиков и плохо освещенного пульта домофона.
«Позвони мне, когда придешь».
Зачем звонить, когда у него есть ключ?
После прибытия послания от Джиллиан стали происходить какие-то необъяснимые вещи. Может быть, если бы он остановился и подумал… Но он не мог остановиться, не хотел думать. Он хотел получить ответы. Все остальное могло подождать. Он нажал кнопку вызова лифта, потом решил, что по лестнице будет быстрее. Он перепрыгивал через две ступеньки, проносясь мимо испуганных соседей, имен которых не знал. Добежав до третьего этажа, он толкнул пожарную дверь.
В коридоре было темно. Он щелкнул выключателем. Застрекотав, включилась энергосберегающая лампа.
«Позвони мне, когда придешь».
Почему Брет был так испуган? Что такого сказала ему Джиллиан? И какое дело ему до этого? Насколько было известно Нику, до сего дня Джиллиан для Брета была всего лишь рыжеволосой девчонкой с хорошими сиськами.
«Помоги мне они пришли за мной».
В двадцать первом веке существовал не один-единственный способ позвонить человеку.
В конечном счете он сам не знал, почему сделал это… может быть, только потому, что его мир стал настолько необычным и даже самые странные вещи казались вполне нормальными. Ник вытащил из сумки ноутбук и, раскрыв его, поставил на пол. Он был совсем рядом со своей квартирой, а потому без труда поймал сигнал с маршрутизатора. Он кликнул по иконке на панели задач. На мониторе появилась заставка новой программы.
Добро пожаловать в «Базз»
Звонки Послания Видео Передача файлов
Его контакты были приведены ниже, Джиллиан продолжала оставаться в верхней строчке.
Последняя связь: 06 января 07:48:26
Никаких изменений. Ник прокрутил контакты до Брета.
Последняя связь: в настоящее время в онлайне
Ник чувствовал себя довольно нелепо, сидя на коленях на покрытом линолеумом полу перед дверью собственной квартиры. Он нажал кнопку «видео».
На экране появилось нечеткое изображение его квартиры. На переднем плане он увидел лицо Брета, ссутулившегося на стуле. Глаза его были широко раскрыты, словно он пытался закричать, хотя изо рта, заклеенного скотчем, не доносилось ни звука. Из ранки на виске сочилась кровь. За его плечом в середине комнаты Ник увидел человека в кожаной куртке и черном вязаном шлеме-маске — тот ждал против двери. Человек повел руками, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. В руке человека был длинноствольный пистолет.
«Помоги мне они пришли за мной».
Кто бы они ни были — они пришли.
VIII
Кельн, 1420 г.
— Ну, все устраивает?
Я сидел за рабочим столом и пытался сосредоточиться на лежащем передо мной листе бумаги. Я хотел произвести впечатление на нового хозяина моим усердием, но все, что окружало меня здесь, отвлекало внимание. Впечатление было такое, будто все мечты, порожденные моим воображением, воплотились в этой комнате. На гвоздях в стене висели бесчисленные инструменты: резцы и шлифовальные устройства, скребки и чеканы. И еще много всякого — я даже названий всех этих штук не знал, но с удовольствием выучил бы. Целая доска была отдана всевозможным молоткам, размерами от здоровенной киянки до миниатюрных ювелирных молоточков. Стеллаж на противоположной стене был заполнен целым набором сокровищ: стеклянные и серебряные бусины на длинных тесемках, кристаллы хрусталя и кусочки свинца, склянки с сурьмой и ртутью для добавления к золоту, розовый коралл, разветвляющийся, как рога оленя, длинные железные пальцы со множеством колец. В зарешеченном шкафу у окна — золотые кубки и блюда в ожидании покупателей. Даже щербины на столе у моего локтя, казалось, говорили о чудесах. На улице, по другую сторону площади, вокруг незаконченного собора поднимались леса и крепи.
Конрад Шмидт, ювелирный мастер, а теперь еще и мой хозяин, вздохнул, возвращая меня с небес на землю.
— Я беру на себя обязательство в течение семи лет обучать тебя искусству, мастерству и тайнам ювелирного дела. Ты будешь жить под моей крышей, есть с моей семьей и делать любую работу, какую я тебе поручу в соответствии с законами нашей гильдии. Я не буду требовать ничего такого, что ущемляло бы твое достоинство ученика. Ты будешь носить воду для закалки металла, но не для питья, ты будешь доставать дерево для кузни, но не для печки моей жены. За это ты заплатишь мне десять гульденов сейчас и еще по десять гульденов каждые три месяца за стол и крышу над головой. Ты будешь себя вести, как подобает члену этой благородной гильдии. Ты не станешь раскрывать секреты нашего искусства кому бы то ни было. Ты не будешь красть ни из моей лавки, ни у моей семьи. Ты умеришь свои аппетиты и не обесчестишь своим поведением мою семью. Ты не совершишь никакого безнравственного или гнусного поступка под моей крышей. Ты не оскорбишь мою семью. Тебя это устраивает?
Я схватил тростниковое перышко из чернильницы и крупно нацарапал подпись в конце листа. Горя желанием произвести на хозяина впечатление ученостью, я подписался по-латински. Johannes de Maguntia — Иоганн из Майнца. Хенхен Генсфлейш, мальчик, которым я был, исчез, оставленный на пристани Майнца шестью днями ранее.
Конрад Шмидт был не из восторженных людей. Он взял бумагу, посыпал впитывающим влагу песком и оставил сохнуть.
Я воспользовался этим мгновением, чтобы получше разглядеть человека, от которого теперь зависело мое будущее. Ему было лет пятьдесят. Глаза темные и глубокие, щеки впали от возраста. На нем была бордовая рубаха, а поверх нее длиннополый жилет, отороченный мехом; на пальце левой руки здоровенное кольцо — дорогое, но не безвкусное. Из-под бархатной шапочки выбивались седые кудри, в каждой его черте, казалось, сквозила умеренность и рассудительность. Когда он улыбался, что случалось редко, то казался лишь печальнее.
А что же он получит взамен? Я посмотрел на свое отражение в серебряном зеркале на стене за его плечом. Безусловно, я был идеальным молодым учеником. На мне была свежая белая рубашка, которую я купил в Майнце и не надевал целую неделю, пока баржа шла вниз по реке. Мои волосы под матерчатой шапочкой были причесаны и подстрижены, кожу я отскреб от грязи в бане, щеки были свежевыбриты. Все мои вещи уместились в мешке, лежащем у ног. С того момента, как я сошел на пристань в Кельне и увидел на холме собор, напоминающий стеклянный клинок, я чувствовал себя свободным — вне пределов досягаемости отца и вырвавшимся из удушающей атмосферы собственной семьи. Я знал, что здесь найду свое место под солнцем.
Шмидт подметил мой взгляд, но ничего не сказал.
— Идем, я покажу тебе остальной дом.
Я взял мешок и последовал за ним. Дверь в задней части помещения вела в небольшой двор, где находились туалет, кладовка, дровник и большой горн у задней стены. У горна стоял человек в кожаном переднике, раздувавший мехи. Услышав наше приближение, он повернулся.
— Это Герхард, — сказал Шмидт. — Он закончил ученичество прошлым летом. Теперь работает здесь подмастерьем.
Герхард мне сразу не понравился. Его руки казались слишком большими, чтобы создать какие-либо изысканные вещицы в ювелирной мастерской. Лицо у него было красное и лоснящееся, потное от жара, под узкими глазами набрякли мешки. Он напомнил мне отца, хотя и был старше меня не больше чем лет на пять. Он кивнул мне, прокряхтев что-то, потом отвернулся и продолжил свои занятия.
— Пока я занят в лавке, руководить тобой будет Герхард.
Мое настроение несколько упало. Конрад Шмидт обладал всеми качествами, какие я хотел видеть в хозяине и учителе: серьезный, властный человек, которому легко подчиняться. А вот Герхард, это сразу стало мне понятно, — неотесанный мужлан, который ничему не сможет меня научить. Я с мрачным выражением на лице последовал за Шмидтом вверх по деревянной лестнице, ведущей снаружи дома на второй этаж.
— Здесь живем мы с женой.
Этаж делился на две комнаты — гостиная и спальня. Каменные стены были задрапированы зелеными портьерами, а по углам комнаты стояли три темных сундука. На одном из них — на том, что рядом с люлькой, — в расшнурованном платье сидела светловолосая женщина, кормившая ребенка.
— Моя жена, — мрачно проговорил Шмидт.
Перед тем как он вытащил меня назад на лестницу, я успел увидеть на ее лице предназначавшуюся мне дружескую улыбку. Она, видимо, возрастом была ближе ко мне, чем к мужу, и время пощадило ее фигуру. Теперь я понял, почему Шмидт напирал на мою нравственность.
— А другие дети у вас есть? — спросил я, когда мы поднимались в чердачное помещение.
Мы уже находились довольно высоко: крыши, трубы и шпили окружали нас со всех сторон. А Герхард во дворе отсюда даже казался маленьким.
— У меня есть дочь, которая сейчас в ученичестве у ткача, и сын. С ним ты скоро познакомишься. Гильдия только-только одобрила его регистрацию в качестве моего ученика. Вы с ним будете жить в одной комнате.
Мы добрались до площадки на самом верху и вошли в чердачное помещение. Слуховое окошко пропускало внутрь холодный осенний свет. В комнате почти ничего не было — только лампа, сундук и кровать.
— Здесь вы с Петером будете спать.
Я подошел к окну и выглянул. Напротив поднимался недостроенный собор; доведена до конца была лишь часовня с иглообразным шпилем. От собора широким полумесяцем расходился город, повторяя излучину реки, которая, извиваясь, уходила на юг — назад в Майнц. Этот вид приободрил меня. Может быть, учение у Герхарда не будет таким уж тяжелым испытанием.
Дверь распахнулась, и я повернулся, думая, что ее открыл порыв ветра. На площадке снаружи стоял парнишка, совсем еще мальчик, он с любопытством заглядывал внутрь. У него была нежная белая кожа, абсолютно гладкая, и шапка золотистых кудрей. На мгновение мне показалось: я вижу ангела. Потом я заметил сходство с Конрадом. Они были похожи, как два глиняных сосуда, сделанные рукой одного гончара, только один обожженный и потрескавшийся, а другой влажный и ровный, еще не побывавший в печи для обжига. Мальчик улыбнулся мне.
Шмидт повел рукой от одного к другому.
— Это мой сын Петер.
И в эту минуту я почувствовал, как демон вошел в мою душу.
IX
Нью-Йорк
Глаза Брета расширились — по крайней мере, он был жив. Он посмотрел на Ника из окошка программы на мониторе, потом дернул головой к плечу. Человек с пистолетом стоял лицом к двери, и лица Ника в ноутбуке Брета не заметил.
Мысли Ника метались. Тошнота подступила к горлу. Что происходит?
За ним с грохотом распахнулась дверь.
— Ник? Ты что делаешь?
Ник повернулся. Это был Макс — сосед. Восьмилетний парнишка, который всюду совал свой нос. Мать его работала чуть ли не круглосуточно в какой-то крупной фирме. Ник два-три раза помогал ему готовить домашние задания. Макс высунул голову из дверей своей квартиры, посасывая лимонад и с любопытством глядя на Ника.
— Тебя опять Брет не впускает?
— Я…
Ник услышал звук выстрела за стеной. Секунду спустя этот звук отдался в наушниках цифровым эхом, которое было чуть ли не громче, чем первичный звук выстрела. К этому мгновению Брет был уже мертв. Его тело дернулось под пулями, конвульсивно и неестественно, словно чудовищность случившегося невозможно было передать веб-камерой. Человек в комнате уставился в монитор, глядя на Ника. На мгновение их глаза встретились, искусственно разделенные виртуальным пространством. После этого киллер двинулся к двери.
Макс вскрикнул и захлопнул дверь. Ник подхватил компьютер и побежал. Плохо владея собой от потрясения и притока адреналина, он бросился к лестнице. Вверх или вниз? Внизу была улица, люди, безопасность — предусмотрел ли это киллер? Может быть, внизу Ника поджидал кто-то еще? А если он побежит наверх, то не окажется ли в ловушке?
Дверь его квартиры открылась, и он принял решение: вниз. Он понесся как сумасшедший, держась рукой за перила, чтобы не грохнуться на поворотах. Пробегая мимо двери второго этажа, он пнул ее ногой и распахнул, надеясь сбить с толку преследователя. Но кроме него, на лестнице больше никого не было, а стук его ботинок был слышен, наверное, и на самой крыше. Нет, этим отвлекающим маневром ему не обмануть киллера.
Ник остановился внизу. Холл был пуст, но за стеклянной дверью, ведущей на улицу, он уловил движение. Какой-то человек ошивался снаружи, держась подальше от лампы над дверью. На нем было черное пальто, накинутое на правую руку и закрывавшее предмет, который он сжимал в пальцах.
Это мог быть кто угодно — молодой человек, поджидающий свою девушку, курильщик, получающий кайф от сигареты, водитель, ждущий пассажира. У Ника не возникало желания выяснять это. Верх в нем, казалось, начали брать животные инстинкты. Все остальное — ужас, недоумение, страх — отошло на задний план. Он слышал грохот подошв на лестнице.
Ник бросился в кабину лифта, принялся исступленно давить пальцем на кнопку; стук подошв был уже совсем рядом.
Двери, ворчливо проскрипев, закрылись. В сужающейся щели Ник увидел киллера, вбежавшего в холл. Он стащил с себя шлем-маску, обнажив бритую наголо голову и несколько золотых сережек-гвоздиков, сверкнувших в одном ухе. Человек повернул лицо, и их взгляды встретились. Потом лифт начал подниматься.
Ник нажал кнопку последнего этажа, опять же повинуясь инстинкту, непреодолимому желанию убраться от опасности как можно дальше. Только вот насколько далеко? Все коридоры кончались тупиками. Была еще одна дверь, на крышу, — летом он водил туда Джиллиан посмотреть на звездное небо, правда, им не удалось увидеть ничего, кроме навигационных огней самолетов, заходящих на посадку в Ла Гуардиа. Но куда потом?
Лифт остановился. Снизу до Ника донесся грохот ботинок по ступенькам. Он свернул в короткий коридор, который заканчивался дверью с зеленой табличкой «ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД». Ударил по металлическому запору, распахнул дверь и выбежал на крышу.
У него за спиной раздался высокий вой, само здание защищалось от его несанкционированного входа на крышу. Пожарная сирена. Когда он поднимался сюда с Джиллиан, они отключили сигнализацию с помощью кредитной карточки и скотча. Теперь сигнализация завыла в полный голос, заполняя своим звучанием вечерний воздух. Хорошо. Это означало, что он может рассчитывать на помощь — пожарных или полиции.
Но до их прибытия…
Капли дождя падали ему на лицо. По телу прошла дрожь отчаяния. Он добрался до небольшой площадки искусственной травы, выложенной каким-то оптимистом, — пусть, мол, думают, будто это лужайка. Его окружали емкости с водой, блоки вентиляционных систем и спутниковые тарелки, словно наросты на крыше. Укрыться есть где, но долго прятаться невозможно.
Сирена пожарной тревоги била по ушам. Он даже шаги убийцы не мог услышать. Стоял неподвижно на влажной искусственной траве, не в силах принять какое-либо решение. Вся его основанная на здравом смысле жизнь была упорядоченной, скучной, безопасной. Теперь же у него не было ничего. Никакой идеи. И никакого времени для размышлений. Инстинкт, приведший его сюда, теперь помалкивал. Идти было некуда.
Странно, но в этот момент пустоты он не подумал о Джиллиан, или о родителях, или о своей сестре. Он подумал о Брете, который лежал мертвый на стуле четырьмя этажами ниже. Тот самый Брет, который тысячам людей объяснил, как трахаться всю ночь напропалую, но ни разу, насколько было известно Нику, не привел в квартиру ни одной девицы. Брет, который без конца торговался на аукционах, не имея ни малейших намерений покупать что-либо. Брет, который видел направленное на него дуло пистолета, но все же сумел предупредить Ника. «Позвони мне».
Ник пробежал по влажной крыше и спрятался за блоком кондиционера. Он угодил в лужу, подняв брызги, — и его рубашка сразу же намокла. Хорошо хоть пальто на нем было черное. Он выглянул из-за угла между двумя опорами, на которых была установлена емкость с водой.
На мгновение ему показалось, что преследователь отказался от погони. В розовых сумерках вечера он увидел раскачивающуюся на ветру дверь, через которую вошел сюда. Сирена продолжала выть. Влажная рубашка прилипла к его груди, словно свеженаложенный гипс.
Потом Ник увидел его — он стоял ссутулившись в дверном проеме и оглядывал крышу. Пистолет прошелся по месту, где укрывался Ник, и двинулся дальше. Киллер был невысокий и коренастый. Судя по всему, он запыхался, поднимаясь наверх. И только теперь, впервые, Ник понял, что имеет дело вовсе не с каким-то сверхчеловеком.
Он знал, что именно этого от него и ждут, а потому испытал сильную самоубийственную потребность броситься наутек. Но поборол в себе это желание. Не будут же они вдвоем оставаться в этих позах вечно. Даже в Нью-Йорке кто-то наверняка должен был слышать выстрелы и вызвать полицию.
Киллер тоже знал это. Под вой сирены он беззвучно двинулся от двери, делая резкие движения пистолетом, словно стараясь держать под прицелом всю крышу.
Потом сирена смолкла так же неожиданно, как и включилась. Даже киллера это застало врасплох. Он замер и неуверенно оглянулся.
Ник засунул руку в карман, нащупал там ключи, холодные и влажные. Он сжал их в кулаке и вытащил. Фоновый шум вечернего города снова достиг его ушей, но он не мог рисковать — боялся, что его услышит киллер. А тот тем временем двигался по крыше как раз в его в сторону.
Ник вытянул руку — она замерзла и отяжелела от напитанного влагой пальто. Он вытащил ключи, чтобы сделать это. Швырнуть их, отвлечь преследователя, броситься на него, выбить пистолет из его руки. Если киллер сделает еще шаг в его сторону…
Ника трясло. Он ничего подобного за всю свою жизнь не совершал.
Киллер приблизился еще на шаг и повернулся. Ник напряг мышцы, готовясь бросить ключи, но теперь киллер смотрел прямо в его сторону — если Ник шелохнется, то будет убит еще прежде, чем ключи вылетят из его руки. Даже если он не будет шевелиться… Он затаил дыхание, чувствуя, как нарастает давление в легких, распирает грудь и горло. Единственным его желанием теперь было закричать.
Но тут киллер развернулся и пошел к двери. Ник ждал, все еще не осмеливаясь дышать. Он сжал ключи в кулаке и закрыл глаза. Может быть, сейчас? Он и не представлял себе, что его может охватить такой страх.
Когда он снова открыл глаза, киллер стоял на коленях рядом с блоком кондиционера, оглядываясь через плечо. Он повернулся спиной к Нику — и более подходящего момента для атаки и представить себе было нельзя.
Ник набрал полную грудь воздуха и изготовился к прыжку. Мышцы у него занемели от холода. А если ему не хватит скорости? Если этот тип услышит, как Ник бежит по траве?
Киллер встал. Он в последний раз оглядел крышу, снова прошелся взглядом над самой головой Ника, потом шагнул в дверной проем и исчез из виду. Ник услышав его шаги по лестнице.
Ник подождал немного и, когда сомнений в том, что киллер ушел, у него не осталось, поднялся на ноги. Тут же все его тело охватила неконтролируемая дрожь. Он едва мог стоять. Слава богу, он не предпринял никаких идиотских попыток напасть на убийцу. Он снял с себя мокрое пальто и побрел по влажной траве к двери, нервно поглядывая на лестницу — не вернется ли тот человек. Он почти свалился на колени у блока кондиционера, пытаясь понять, что же делал тут киллер.
Темная трещина свидетельствовала о том, что сервисный кожух не захлопнут до конца. Ник открыл его. Внутри среди приборных щитков и трубок он увидел черный пистолет.
Ник протянул руку и взял оружие. Оно оказалось тяжелее, чем можно было ожидать, и пистолет чуть не выпал из его онемевших пальцев. Где тут был предохранитель? Он не прикасался к оружию со времен скаутского лагеря, а эта штука имела мало общего с малокалиберным ружьем для стрельбы по бумажным мишеням. Пистолет поражал своей мощью — стоило только просто взять его в руку. Из этого пистолета убили Брета.
Ник положил оружие на траву и отошел в сторону. Между стен уличного каньона мигали синие и красные огни, отражаясь от рядов черных окон типовых апартаментов. Только теперь Ник услышал вой сирен.
X
Кельн, 1420–1421 гг.
Осенью того года я сделал целый ряд открытий, касающихся Конрада Шмидта.
Он был справедливым хозяином, но произвести на него впечатление мне никак не удавалось. Учеником я оказался более чем способным. Когда он показал нам, как вытягивать золотые заготовки в проволоку, у меня с первой же попытки получился гибкий и ровный кусок. Петер потратил полдня — и немалую часть отцовского золота, — но у него раз за разом получалась проволока, которая растягивалась, распухала и рвалась, словно влажное тесто. Когда мы плющили золото между пергаментными прокладками, чтобы формировать листы, то у меня получались воздушные, как паутинка, а у Петера — комковатые, как овсяная каша. Когда Конрад учил нас обжигать сернистым серебром гравировку, чтобы линии получались резкими, то моя поделка оказывалась словно хрустальной, а у Петера такой, словно он передержал ее на печной решетке.
И тем не менее Конрад не замечал моих успехов. Каждый раз, когда я показывал ему мое изделие, он всего лишь кряхтел и давал мне новое задание, а потом возвращался к тяжелому труду по исправлению ошибок сына. Когда я — после долгих часов наблюдений — предложил способ улучшения волочильного устройства, он молча меня выслушал и отмахнулся от моей идеи, покачав головой. Поначалу я объяснял это отцовской любовью к сыну, но чем больше я наблюдал за ними двумя, тем менее вероятной представлялась мне такая причина. Конрад редко критиковал работу Петера, но колотил его за самые малые промахи: за бидон с молоком, оставленный на солнце, за не снятую перед клиентом шапку, за молоток, положенный не на место в стеллаже. В конечном счете я решил, что одно подменяет собой другое и Конрад находит столько других промахов, так как не в силах признать перед самим собой, что сын не сможет стать достойным преемником его дела. Очевидно, именно поэтому ему и пришлось взять в ученики собственного сына, хотя такая практика и не поощрялась гильдией. И возможно, по этой же причине он не хотел признавать мое мастерство.
Герхард тоже не пылал ко мне любовью, но я приписывал это очевидному соперничеству между нами. Его толстые руки оказались на удивление ловкими при работе с металлом — гораздо ловчее, чем я предполагал, — но вот моего чутья к золоту у него не было. Поначалу он пытался держать меня на заднем плане, давая всякие пустячные задания и льстя Петеру ответственными поручениями, но вскоре это Герхарду вышло боком, ведь именно ему приходилось отвечать за ошибки Петера. Впоследствии он решил, что лучше все же получать благодарности за мою работу, чем нахлобучки за Петера, и удовлетворялся устраиваемыми мне по малейшему поводу головомойками.
В тот год я узнал и еще кое-что о Конраде Шмидте и его семействе.
Оказывается, его жена была третьей фрау Шмидт. Она часто и непомерно хвалила меня — мое усердие, мою честность, мое мастерство. И это льстило мне до тех пор, пока я не догадался, что делает она это только ради того, чтобы унизить Петера, который не был ее сыном.
Как я узнал, Герхарду не по карману было приобрести золото, необходимое для изготовления задуманного им шедевра, а потому он не мог стать полноправным мастером гильдии. И он, вместо того чтобы экономить, топил свое разочарование в алкоголе, пропивая заработанное в тавернах на набережной.
И еще я выведал, что Конрад держит ключи от своего шкафа на шнурке, который носит на шее и снимает только раз в месяц, в бане. Проведав об этом, я направился следом за ним в баню и, пока он мылся, снял отпечаток ключа с помощью двух восковых пластинок, размягченных над паром. Тем вечером я изготовил дубликат ключа, а потом ночами, когда Петер спал, спускался вниз, открывал шкаф Конрада и любовался его поделками.
Эта семья не была счастливой, впрочем, как и моя семья в Майнце, и меня это особо не волновало. Я был счастлив за рабочим столом. Когда я понял, что мое мастерство вызывает у других только зависть и злобу, то максимально замкнулся в себе и находил удовольствие в одиночестве.
Единственный, кто восхищался моими способностями, был бедный бесталанный Петер. Будучи на четыре года младше меня, он относился ко мне с искренним братским почтением. Для меня это было новое чувство, так как в семье я всегда был последним и самым младшим. Иногда эта братская любовь угнетала меня, но чаще мою грудь распирало от ревнивой гордости. Я стал защищать Петера. Подсовывал ему мои поделки, позволяя выдавать их за свои, пренебрегал собственной работой, снова и снова показывая ему простейшие приемы ювелирного мастерства. И хотя за это мне иногда доставались затрещины, я гнул свое. Каждый раз, когда его колено под столом касалось моего, каждый раз, когда я накрывал его ладони своими, направляя гравировальный резец, демон, поселившийся во мне, заходился от удовольствия. Конечно же, я страдал от терзаний и стыда, но это были жаркие терзания и сладчайший стыд, которые, словно пожар, бушевали в моем теле. По воскресеньям в соборе я взирал на крест Спасителя и молил об освобождении, но в глубине души знал, что не хочу этого. По ночам мы лежали в общей кровати, и я, противясь захлестывавшим меня искушениям, так сжимал кулаки, что ладони, как у Христа, начинали кровоточить от вонзившихся в них ногтей. Иногда, в особенности в холодные зимние ночи, Петер, полусонный, притулялся ко мне для тепла, и мне приходилось отворачиваться, чтобы моя восставшая плоть не выдала меня. Я уговаривал себя, что демон в конце концов увидит: ему меня не одолеть, и оставит мое тело в поисках более слабого сосуда. А до тех пор я, дрожа от возвышенных чувств, наслаждался своими похотливыми желаниями и величием страданий.
Весной, год спустя после вынесенного в Майнце вердикта, я сделал еще одно открытие. Стоял теплый апрельский день, и работы почти не было, а потому Конрад решил преподать нам урок. Пока Герхард ошивался в лавке в ожидании клиентов, Конрад усадил меня с Петером за рабочий стол и поставил на столешницу бутылку, блюдце, положил лист бумаги и стержень с нанизанными на него перстнями с печатками.
— Все наше искусство и мастерство — откуда они берутся? — спросил он.
— От Бога, отец, — сказал Петер.
Я видел ухмыляющуюся физиономию Герхарда в лавке. Вероятно, он, как и я, считал, что в поделках Петера трудно разглядеть величие Господа.
— Все искусство — от Бога, и мы обучаемся ему в меру сил. — Его лицо перекосило, когда он посмотрел на Петера. — Максимальная дань, которую мы можем отдать совершенству, состоит в совершенном подражании Ему.
Он снял перстень со стержня и натянул на свой указательный палец до сустава. Затем он сделал нечто такое, чего я не видел прежде: взял бутылку, налил немного чернил в блюдечко и окунул перстень в лужицу. Потом извлек его — почерневший и липкий. Он провел пальцем по печатке, а после этого со всей силой придавил ее к листу бумаги на столе. Когда он поднял руку, на бумаге осталось идеальное изображение бегущего оленя. Потом он окунул перстень в чернила еще раз, еще раз протер печатку пальцем, вдавил в бумагу, и точно такой же олень появился рядом с первым. Конрад разорвал бумагу пополам и подал половинки мне и Петеру вместе с болванками перстней со стержня.
— Вот вам образец. Пфенниг тому, кто создаст более точную копию.
Пфенниг меня не волновал — я знал, что получу его. Конрад в чем-то ошибался, казалось мне. Работая с перстнем, я размышлял над этим. Сначала я взял тоненький кусочек пергамента, напитанный водой до прозрачности, и, используя освинцованное стило, перевел на него изображение. Далее нанес на болванку перстня тонкий слой воска и натер заднюю часть моего пергамента свинцом. Потом я зажал болванку в тиски, положил сверху пергамент и, нажимая на него, перевел на воск изображение. Когда я снял пергамент, на воске появилось светло-серое изображение оленя.
Взяв исходный перстень, я сравнил два изображения и сразу же понял, в чем загвоздка.
— Герр Шмидт, — сказал я. — Какое изображение вы приказали нам скопировать?
Он оставил свой разговор с Герхардом и скосился на меня, как на идиота.
— Изображение на печатке.
— Но дело в том… — Я запнулся, но набрался сил, чтобы продолжить. — Олень на вашей печатке смотрит вправо, а олень на бумаге — влево. Идеально точная копия… — Мой голос замер.
— Изображения на печатке, — повторил он и отвернулся.
Теперь мой мозг занялся отысканием способа разрешить эту задачу. Я соскреб воск с перстня, стер оленя, смотрящего не в ту сторону, и начал все заново. Взял шарик воска побольше, размял его на столешнице, сделал плоским и ровным. Петер молча смотрел, широко раскрыв глаза; его собственные усилия пока что привели к созданию чего-то похожего на хромую собаку, но никак не оленя.
Я перенес изображение на вощаную плашку, прочистил его резцом, потом обмакнул воск в блюдечко с чернилами и придавил его к листу бумаги, как это делал Конрад. В конечном счете у меня получилась вторая копия оленя — на бумаге она расположилась задней частью к первой, и голова этого оленя смотрела вправо. Воодушевленный успехом, я перевел изображение на болванку перстня.
Но чем больше я вглядывался в то, что у меня получилось, тем меньше оно мне нравилось. Этот олень смотрел в нужном направлении, но во всех других отношениях был куда как хуже первого. Рога его представляли собой нечеткий клубок. Одна нога была тонкой, другая напоминала окорок, а хвост словно торчал из мягкого места. Нос оленя исчез полностью.
Я принялся изучать его очертания — сначала на бумаге, потом на пергаменте, воске и золоте. Каждый переход выявлял удручающие изменения. С каждой копией олень удалялся от совершенства, которого я искал, пока не превратился в неузнаваемое чудище, годящееся только для страниц бестиария.
Колокол в соборе на другой стороне площади отметил еще один час. В лавке начали собираться клиенты, и я знал, что вскоре Конрад даст нам новое задание. У меня не было времени на еще одну попытку. Я прочертил животное таким, каким оно получилось, исправив в меру сил огрехи с помощью резца. Так он стал чуть больше похож на оленя, но все еще был далек от оригинала.
Закончив, я показал перстень хозяину. Он мельком взглянул на него, крякнул и бросил пфенниг Петеру, лицо которого засветилось от редкого счастья. Мое же лицо пылало от стыда. Я с трудом сдерживал слезы. Конрад, видимо, заметил это, так как мягко сказал:
— Истинное совершенство существует только у Бога.
Но я знал, что в моих силах сделать большее.
XI
Нью-Йорк
После смерти Брет стал необычайно популярным, чего ему никогда не удавалось при жизни. Ник стоял в коридоре, накинув одеяло на плечи, и смотрел, как целая армия специалистов и экспертов входит в квартиру и выходит из нее, словно армия муравьев, отрывающая кусочки от тела Брета. Зачем для всего этого нужно столько людей, когда он своими глазами видел, как умер Брет? Они даже не впускали его в квартиру — держали в коридоре, дали только чашку кофе и одеяло. Дверной проем был перекрыт черно-желтой полицейской лентой.
Он был на грани изнеможения: еще немного — и свалится с ног. Он уже рассказал все, что знает, двум полицейским. Они отнеслись к нему вовсе без того сочувствия, которого он ожидал. Теперь с ним должен был поговорить детектив, но это было обещано уже полчаса назад.
В дверях появились два человека, один в форме, другой в сером костюме, судя по виду дорогущем, — у Ника никогда ничего подобного не было. Человек в форме показал на Ника и пробормотал что-то — Ник не расслышал что. Тип в костюме кивнул, поднырнул под ленту и подошел к Нику.
— Мистер Эш? Я — детектив Ройс.
Детектив Ройс был худощавым и слишком загорелым для января; глядя на него, можно было принять его за марафонца. Его волосы, вроде бы начавшие седеть, были подстрижены ежиком, а баки, словно шпоры, рассекали щеки.
— Я слышал, у вас есть на этот счет целая история.
Ник прислонился к стене и плотнее закутался в одеяло.
Он был на грани обморока.
— Еще чашечку кофе как-нибудь можно устроить?
— Я не отниму у вас много времени. Если бы вы просто могли рассказать мне своими словами…
А чьими еще словами это можно рассказать?
— Брет…
— Вы имеете в виду убитого? Мистера Диэнджело?
— Он позвонил мне на мобильник.
— Приблизительно в какое время?
— Кажется, около пяти. Я могу проверить по телефону.
— Мы так или иначе запросим сведения у телефонной компании. Вас в это время не было в квартире?
Ройс что — вообще не слышал его?
— Я же вам сказал: он позвонил мне на сотовый. Меня не было дома.
— А вы помните, где вы были?
Ник мысленно вернулся на два часа назад. Ему показалось, что с того времени прошла целая вечность.
— В кофейне на углу пятнадцатой и десятой. У меня телефон был выключен. А когда я…
Он замолчал. Ройс повернулся и смотрел в конец коридора, где появился человек в комбинезоне, белом капюшоне и маске — он шел к ним. Вид у человека был такой, будто он только что вышел из зала ядерного реактора. Рукой в перчатке он держал пистолет киллера, уложенный в пластиковый мешок.
— Мы нашли это на крыше. Направим на баллистическую экспертизу и снимем отпечатки пальцев.
Ник вздрогнул.
— Постойте. На нем будут мои отпечатки.
Ройс с большим любопытством посмотрел на него.
— Я вытащил его оттуда, где он был спрятан — за кондиционером. Я вам говорил.
Эксперт кивнул в сторону детектива.
— Занесите это в протокол.
Он направился в квартиру, а детектив повернулся к Нику, на лице у него было написано: это не моя компетенция.
— Извините. Я знаю, вы думаете, что сейчас для этого не лучшее время. Поверьте мне, время всегда не лучшее. Вы слышали сентенцию: девяносто процентов убийств раскрываются за двадцать четыре часа или вообще никогда?
Ник устало кивнул.
— Вроде бы.
— Это вранье. Но чем больше мы выясним сейчас, тем скорее разберемся с этим позднее. — Ройса переполняли какая-то неуемная энергия, беспокойство и нетерпение. — Остальную часть вашей истории я выслушаю завтра в участке. А пока мне просто необходимо знать: известно ли вам, не был ли мистер Диэнджело втянут в какую-нибудь криминальную или противозаконную деятельность?
Ник помедлил. Что он мог сказать такого, что не свидетельствовало бы против Брета? Ничтожный, бесчестный, может, даже отвратительный… но никак не уголовник.
Ройс увидел его неуверенность и сделал собственные выводы.
— Нам это необходимо знать, Ник. — Он стоял слишком близко к Нику, смотрел на него сверху вниз, голос его звучал чересчур громко в тесном коридоре. — Это сделала не ревнивая любовница и не какой-то чокнутый ворюга, который ошибся адресом. У убийцы был мотив. Брет не был связан с торговлей наркотиками?
Ник чувствовал себя как уж на сковородке. Он прекрасно понимал: эти ребята так тщательно шуруют в квартире, что все равно очень скоро найдут травку.
— Он курил коноплю. Многие теперь курят. — Он хотел сказать это небрежным тоном, подумаешь, мол, дела, но получилось у него так, будто он оправдывается.
— А вы курите?
— Нет. — Ник плотнее завернулся в одеяло. — Ну, баловался. — Насколько это прозвучало убедительно? — Я думаю, дело здесь не в Брете. Думаю, на самом деле им был нужен я.
— Им? — Ройс вытащил тоненький блокнот и пролистал его. — Сержант, с ваших слов, сказал, что в комнате был только один преступник.
— Да, один. — Ник с трудом преодолевал усталость. — Я имел в виду, им… — Он неопределенно развел руками. — Ну, вы понимаете… тем, кто это сделал.
— Хорошо.
— Послушайте. — Ник схватил Ройса за рукав. Одеяло соскользнуло на пол. — Вчера вечером я получил по Интернету послание от моей бывшей подружки. Такое отчаянное… будто кто-то ее преследовал. Когда я включил веб-камеру, то услышал только крик, а потом какой-то тип выключил ее компьютер. — Он увидел выражение лица Ройса и понял, что стороннему человеку его слова могут показаться бредом сумасшедшего.
Ройс высвободил рукав, разгладил складку, оставленную Ником.
— Мы с этим разберемся. У нее имя есть — у вашей подружки?
— Бывшей. Джиллиан Локхарт. Она теперь работает в Париже у Стивенса Матисона. Это аукционный дом.
Ройс убрал блокнот, ничего не записав.
— Мы снимем с вас полные показания завтра. А теперь, я думаю, вам нужно отдохнуть.
Ник отошел в сторону, пропуская еще двух человек в комбинезонах, выходящих из его квартиры. Они несли большую серебряную коробку, завернутую в пленку. Он не сразу понял, что там внутри.
— Это же мой компьютер.
— Улика, — сказал один из экспертов. Из-за маски на лице голос его звучал приглушенно. Он сунул в руки Нику планшет с прикрепленным листом бумаги. — Распишитесь здесь.
— Брет никогда не прикасался к этому компьютеру. — «Я бы его убил, если бы он прикоснулся», — чуть не добавил Ник. — Он пользовался собственным компьютером, когда… когда это случилось.
— Его компьютер мы тоже взяли, — сказал Ройс. — Но если киллер на самом деле пришел за вами, как вы сказали, то, может, это как-то связано с чем-то еще. И потом, ноутбук был в той же комнате, где находился Брет, когда его убили. Если камера была включена или что-нибудь… — Краем глаза он увидел, как один из полицейских делает ему знаки из квартиры. — Посмотрим, что там обнаружится.
Он кивнул человеку у дверей, потом снова повернулся к Нику и уставился на него безжалостным взглядом.
— Мы поймаем того, кто это сделал. Это я вам обещаю.
Ник и понятия не имел, сколько бюрократических процедур сопровождает уход человека в мир иной. Отпустили его только к полуночи. Он говорил с полицейским художником, который должен составлять фоторобот киллера. Он общался с лаборантом, который кисточкой снял пробы с его ладоней — не обнаружится ли остаточного пороха, и сунул влажный тампон ему в рот, чтобы взять образец ДНК. «Чтобы уж все разом», — успокоил он. Ник отказался от услуг серьезной женщины из бюро помощи жертвам преступлений, но она всучила ему визитку и заверила — он может звонить в любое время. Когда все закончилось, он еле держался на ногах. У него даже не осталось сил пройти два квартала до кровати — там были друзья, которые приютили бы его, но одна только мысль о том, что ему придется что-то объяснять, отвратила его от этой идеи. Он снял номер в отеле у Вашингтон-сквер и сразу же рухнул в постель.
Как только голова его коснулась подушки, из глаз потекли слезы.
XII
Кельн, 1421–1422 гг.
Конрад Шмидт был щедрым учителем, но об одной из сторон своего ремесла он никогда не рассказывал. Он никогда не говорил, сколько денег зарабатывает. А я никогда не спрашивал — не было нужды. Состояние моего отца всегда казалось чем-то неопределенным (рассредоточено по складам и баржам вдоль Рейна), в отличие от вполне осязаемого богатства ювелира, выставленного напоказ в окне лавки и размещенного в шкафу с металлической оплеткой. Месяц за месяцем в ходе моих ночных экспедиций я обнаруживал, что сокровищ становится все меньше и меньше. Изделия исчезали, а новые не появлялись; оставшиеся передвигались вперед, чтобы клиентам не были видны пустые полки за ними. Как-то раз я застал Конрада — он стоял на карачках перед плавильной печью. Руки его были черны от сажи — он просеивал холодный пепел. Когда он посмотрел на меня, я поразился, увидев безумное выражение в его глазах.
— Золото, которое вытекает из формы, когда мы делаем отливки, — куда оно девается? — спросил он. — Тут должно быть целое состояние в поде, но я не нахожу ни грана. Тебе что-нибудь об этом известно, Иоганн?
Я ничего не ответил. Решетки должен был очищать Петер, но вместо него это делал я. Я ему сказал, что так будет лучше — у него останется больше времени закончить работу в мастерской — и что если его отец узнает, то лишь добавит ему еще какую-нибудь работу. Я подбирал крошки перелившегося золота и держал их в мешочке под половой доской на чердаке. Это было, конечно, не состояние, но вполне достаточно для того, чтобы я мог изготовить мой шедевр, когда придет время.
Настроение Конрада отвечало уменьшению его достатка. Он колотил меня и Петера за малейшие огрехи и злобно ругал Герхарда за воображаемое отсутствие усердия. Герхард вымещал свое раздражение на мне и Петере, еще больше колотя нас. В ту зиму мы не засиживались допоздна. По ночам мы лежали голые на кровати и сравнивали наши синяки, а я при этом пытался скрыть свою похоть.
В доме стали происходить странные вещи. На полках в мастерской появились новые склянки и кувшины с загадочными символами, которые ничего мне не говорили. Конрад запретил нам даже открывать их. Раз в месяц, нередко в канун полнолуния, он отправлял нас в постель пораньше, и до поздней ночи из мастерской доносились звуки серьезного разговора. Мы никогда не видели, кто приходит к нему. Как-то раз вечером, выйдя на лестницу облегчиться, я увидел раскаленную кузню. Перед ней сидел Конрад с обнаженной грудью. Щипцами он держал что-то вроде большого яйцеобразного сосуда, засовывая его в огонь и бормоча слова, которые я не мог разобрать. Он не видел, что я наблюдаю за ним.
Однажды майской ночью я раскрыл тайну Конрада. Он отправился на встречу с приятелем в таверну. Я дождался, когда Петер, уснув на подушке рядом со мной, принялся привычно похрапывать, выбрался из комнаты и спустился по лестнице в мастерскую. Я взял с собой кошелек и ключ. Конрад теперь постоянно наблюдал, как Петер вычищает под, но ему приходилось ждать до утра, когда угли остынут. Я обнаружил, что если буду спускаться ночью, то смогу извлекать для себя самые большие зерна и при этом оставлять достаточно, чтобы Конрад не замечал обмана. Иногда я обжигал руки, в особенности если мы делали отливки ближе к концу работы, но ожоги и мозоли были ценой, которую я охотно платил.
Я лежал на животе перед жаровней и держал руку над углями, чтобы она привыкла к жару. Я уже готовился запустить руку внутрь, когда вдруг услышал какие-то звуки с улицы перед мастерской. Шаги нескольких пар ног приблизились к нашей двери, до меня донесся сухой кашель, я сотни раз слышал его в мастерской.
Я вскочил на ноги, обжег тыльную сторону ладони о решетку и побежал к двери, которую оставил открытой. Но любопытство остановило меня. В углу комнаты стояли две бочки с водой, и я спрятался за ними как раз в тот момент, когда передняя дверь распахнулась.
Кто-то зажег лампу. Дешевое масло зашипело, забрызгалось, по лавке разлился дьявольский свет, который, к счастью, не достигал угла, где я спрятался. Я смотрел в просвет между двумя бочками.
Вокруг стола стояли четверо. Мой хозяин, спиной ко мне, горбоносый человек, в котором я узнал аптекаря с соседней улицы, дьякон из собора, чье имя мне было неизвестно, и четвертый, которого я видел в первый раз. Он был карликом или, по крайней мере, таким коротышкой, что вполне мог сойти за карлика, у него была щетинистая борода и надетая набекрень шапка. Он на моих глазах подтянул табуретку от жаровни и запрыгнул на нее, чтобы быть вровень с остальными, потом отстегнул небольшой мешочек от ремня и положил его на стол.
— Аптекарь сказал мне, что вы потерпели немало неудач. Возможно, я могу предоставить то, чего вам не хватает.
Голос у него был резкий, хриплый, как у совы. Он вытащил что-то из мешочка. За его руками я почти ничего не видел, но сумел-таки разглядеть маленькую коробочку.
— Я купил это в Париже под сенью церкви Невинных. — Злобный смешок. — Человек, который продал мне это, не знал подлинной стоимости товара. Но я знаю — и вы узнаете, если сумеете убедить меня расстаться с ним.
— Покажи. — Дьякон протянул руку над столом.
Когда его рука прошла над лампой, на стене появилась жуткая тень, задрожавшая как-то так, что я подумал: нет, причина этой дрожи не свет.
— Все, кто хочет, могут посмотреть, — пренебрежительно сказал карлик и протянул коробочку дьякону.
И только когда церковник открыл ее, я увидел, что это не коробочка, а книга. В свете лампы поблескивали бронзовые ремешки на обложке.
Дьякон перевернул несколько страниц и без слов передал книгу аптекарю, который уже исследовал ее внимательнее.
— И Фламель[6] пользовался только этим? — задал он загадочный вопрос.
— Все его секреты из Книги Авраама,[7] — последовал не менее загадочный ответ карлика.
Аптекарь передал книгу Шмидту.
— Что ты думаешь?
Конрад долго молчал. Лица его я не видел, но заметил, как он сутулится над книгой, разглядел узлы на его руках, упирающихся в стол. Колени у меня начали болеть, бедра затекли от долгого сидения в неудобной позе.
Наконец Конрад заговорил.
— Если все, что ты сказал, правда, то почему ты предлагаешь книгу нам?
Карлик рассмеялся — резкий, неприятный звук.
— Почему люди продают тебе слитки золота, когда могут сделать из него кубок и продать за более высокую цену? Да потому что я не владею ни мастерством, ни знаниями, ни инструментами. Да и исходных материалов у меня нет. У меня есть лишь эта книга. А вам только ее и не хватает для доведения вашего искусства до совершенства.
Он, злобно ухмыляясь, уставился на Конрада и потянулся, чтобы забрать книгу. Конрад тяжело шлепнул рукой по книге, останавливая карлика.
— Мы ее берем.
Он снял с шеи шнурок с ключом и отпер шкаф. Карлик спрыгнул с табуретки и последовал за Конрадом — принялся разглядывать кубки, чаши, тарелки и блюда на полках. Потом облизнул губы. Взял одну из вещиц, осмотрел ее, потом — другую. Иногда ему приходилось показывать на вещи, стоящие на верхних полках, куда ему было не дотянуться. В том, как он прикасался к этим драгоценным вещам, я почувствовал трепет, родственную душу.
— Вот это. Вот это за книгу.
Он поднял повыше богато разукрашенный кубок. Основание было расписано сценами из жизни Иоанна Крестителя, чаша покоилась на опорах из замысловато сплетенной проволоки. Кубок этот заказал настоятель, который вскоре после этого умер; его преемник, монах более аскетический, отказался выполнить контракт. Конрад пришел тогда в бешенство, но, я думаю, отчасти испытал облегчение, когда вещица осталась у него, потому что это была великолепная работа. Такую и я бы выбрал.
Конрад сглотнул слюну, потом кивнул. Пламя лампы замигало, облизывая чашу, словно змеиное жало. Карлик сунул вещицу себе в мешок.
— Поздравляю с хорошим приобретением.
После ухода карлика другие долго не задержались. Дьякон и аптекарь вскоре откланялись. Конрад посидел несколько минут за столом, глядя в книгу, потом неохотно закрыл ее и запер в шкафу. Я ждал. Наконец он ушел, а я дождался, когда стихнет звук его шагов по наружной лестнице, затем наверху надо мной, по скрипучей доске у порога к спальне, потом кровати под его грузом. Я досчитал до ста, наконец выбрался из-за бочек, зажег лампу и отпер шкаф.
Книга была маленькая и видавшая виды, кромки переплета пообтрепались, страницы были захватаны. На книге была медная застежка, но в остальном ничто не подтверждало той цены, которую заплатил за нее Конрад. Я расстегнул застежку.
Книга была написана на латыни маленькими, наскоро начирканными буквами с множеством исправлений и примечаний, сделанных на полях коричневыми чернилами. Семь страниц были отданы под рисунки: змея, обвившая крест, сад, в котором росло разветвляющееся надвое дерево, король с гигантским мечом, наблюдающий, как его солдаты расчленяют детей. Меня пробрала дрожь при мысли о том, какие истории могут быть рассказаны в этой книге.
Я переворачивал страницы, и мне бросались в глаза отдельные фразы. «Я открыл „Книгу философов“ и из нее узнал хранимые ими тайны». Потом: «Когда я сделал проекцию в первый раз, я использовал меркурий,[8] которого взял полфунта или около того, и превратил его в чистое серебро, качеством лучше, чем добытое на руднике». И наконец: «В год спасения человечества 1382, в двадцать пятый день апреля, в присутствии моей жены я сделал проекцию красного камня на такое же количество меркурия, которое истинно преобразовалось в почти полфунта чудесного, мягкого, идеального золота».
Следующий день я провел как во сне, голова у меня кружилась от открывающихся возможностей. Я был девственником, обретающим любовницу, я не мог дождаться наступления ночи. Герхард поколотил меня за то, что я расплескал слишком много золота, выливая его из реторт, потом поколотил меня еще раз, когда неосторожным движением резца я оставил уродливую царапину на броши, над которой работал. Конрад был ничем не лучше. Его лицо за ночь постарело на десять лет. Он бродил по мастерской, как призрак, трогая ключ у себя на шее и проверяя шкаф по три раза в час.
В ту ночь Конрад лег спать поздно. Кафедральный колокол отбивал часы, и я вел им счет. Наконец я услышал скрип ступеней, приглушенные шаги по доскам пола в спальне, сонное бормотание его жены. Но я все ждал и ждал, пока самым громким звуком в доме не стало дыхание Петера на подушке рядом со мной.
Наконец я прокрался вниз по лестнице. К тому времени я уже мог пройти этот путь с закрытыми глазами. Я знал, что пятая и восьмая ступеньки скрипят слишком громко, умел без скрежета открывать засов, точно знал, какое усилие нужно приложить, чтобы без щелчка открыть замок шкафа. Я на ощупь забрался внутрь. Мои пальцы шарили на полке, ощущая знакомые очертания блюда, наконец они наткнулись на кожаный переплет.
За спиной у меня раздался какой-то звук, и я замер. Я прислушался к ночи, и тишина меня ничуть не успокоила. Возможно, это всего лишь угли остывали в жаровне или Конрад повернулся в своей кровати… но мне нужно было сосредоточиться. И еще мне требовался свет, а я не хотел, чтобы какой-нибудь усердный дозорный заглянул этой ночью в окно.
Я вернулся к себе на чердак. И, только дойдя до верхней ступени, понял, что оставил шкаф открытым. Я выругался. Впрочем, это не имело значения. Мне так или иначе до рассвета нужно было вернуть книгу на место. Я зажег лампу у кровати и прикрутил фитилек на минимум. Петер повернулся и пробормотал что-то во сне, он выпростал руку, словно при падении. Она упокоилась на моем бедре, и я не стал ее снимать. Моя эйфория от этого только усиливалась.
Не знаю, сколько я так пролежал, пытаясь разгадать таинственную книгу. Для меня все это не имело никакого смысла. Там рассказывалась удивительная история о том, как автор, француз, десятилетиями размышлял над секретом камня, который вроде был и не камень вовсе, а элемент, и с его помощью ртуть превращалась в золото или серебро. Но несмотря на все заверения карлика, этот секрет так и остался нераскрытым. Он говорил о змеях и травах, луне, солнце и меркурии, красном и желтом порошках и даже о крови младенцев. Но что он имел в виду, говоря об этом, оставалось выше моего понимания.
«Еврей, который нарисовал эту книгу, украсил ее с огромными изобретательностью и мастерством, и хотя она была хорошо и умно расписана, все же ни один человек не мог понять ее, если не был искушен в их каббале». Я вглядывался в рисунки, пока не начинали болеть глаза, но я понятия не имел о еврейской каббале. Тайны, скрытые в очевидном, оставались недоступными.
В какой-то момент я, видимо, заснул. Все мои сны были золотыми. Я стоял на вершине горы, купаясь в жарких солнечных лучах, которые обращали траву, камни, холмы и долины в золото. У меня за спиной стоял золотой крест. Потом я опустил взгляд и увидел двух змей, ползущих по траве ко мне. Я закричал, но змеи не стали атаковать меня — они набросились друг на дружку. Одна проглотила другую, потом напустилась на себя, с безумной скоростью завращалась кольцом в траве, ухватила себя за хвост и принялась заглатывать.
Я посмотрел еще раз — змея превратилась в золотое кольцо. Я подобрал его и надел себе на голову, как корону, и в этот самый момент почувствовал, как столб золотистого света хлынул вверх сквозь меня, словно фонтан, соединив гору у меня под ногами с небесами наверху в совершенную гармонию. Появился ангел с трубой, и ангел этот был похож на моего отца. Он прикоснулся к моему лбу, и на нем появилась золотая печать пророков. Я упал на колени и обнял золотую землю, которая была мягкой, теплой и бесконечно великодушной.
Я проснулся. К моему ужасу и наслаждению, я обнаружил, что вытянутая рука Петера спустилась к моему паху и накрыла то, что между ног. Я во сне терся о него. Золотое наслаждение затопило мое тело.
Увы, демоны, которыми мы одержимы, знают наши слабости и лишь выжидают своего времени. Мои сны отравили меня: я знал, что должен остановиться, но не мог. Я не знаю, то ли Петер был одержим тем же демоном, то ли он так глубоко погрузился в сон и не отдавал себе отчета в том, что делает, но он отвечал мне с охотой, даже со рвением. Я принялся целовать все его тело, я запустил пальцы в его золотые волосы и прижал его лицо к моей груди, я мял его мягкую кожу, пока он не застонал. Он перекатил меня на бок и прижался ко мне, принялся целовать меня в затылок. Мы пришлись друг к другу, как ложки в столовом ящике. Все мое тело дрожало от желания, а горячая кровь текла по жилам, словно расплавленное золото.
С грохотом распахнулась дверь на чердак. Золото в моих жилах превратилось в свинец. На лестнице снаружи стоял Конрад Шмидт с фонарем в руке, на его лице застыло выражение изумления. Не знаю уж, что он предполагал увидеть, но уж точно не своего голого сына, сплетшегося с его учеником в самом омерзительном из всех воображаемых грехов.
Недоумение обратилось в ярость. Он вошел в комнату, прикоснулся к тому месту на поясе, где обычно был нож. Пробежать мимо него к двери по узкому и тесному чердаку было невозможно.
Я бросил последний тоскующий взгляд на Петера, который скорчился голышом на кровати и кричал, что это не он, он не виноват. Потом я выпрыгнул из окна.
XIII
Нью-Йорк
Пять или десять секунд Ник не помнил случившегося. Он лежал между жестких гостиничных простыней, чувствуя тепло и не понимая, где он. Дождь кончился, сквозь белые занавеси в комнату проникал солнечный свет.
А потом он вспомнил, и одновременно к нему пришло осознание того, что мир уже никогда не будет прежним. Ник перевернулся на живот и зарылся лицом в подушку, словно так мог смирить мысли, переполнявшие его. Потом зарыдал и принялся биться под простыней, как тонущий в море. Перед его мысленным взором мелькали картинки пережитого: Джиллиан, Брет, киллер, преследующий его по бесконечной лестнице. Он чувствовал себя сломленным.
В его скорбь ворвался звонок сотового. Он застонал и решил не отвечать. Ему хотелось, чтобы звонок смолк. Но тот продолжался.
Он протянул руку и пошарил по прикроватной тумбочке.
— Ник?
Женский голос. Британский акцент. Узнал он его или нет?
— Это Эмили Сазерленд. — Она подождала. — Из музея «Клойстерс».
— Да-да. — Какая-то часть Ника все еще могла функционировать. — Слушайте, на самом деле…
— Я тут провела небольшое расследование — я говорю о карте, что вы принесли. Это… довольно любопытно.
— Хорошо.
— Могли бы мы встретиться и поговорить об этом?
— А сейчас вы не можете сказать?
Она помедлила.
— Я… лучше будет сделать это лично. Тут возникают кое-какие интересные вопросы. Мне нужно сегодня в Метрополитен-музей. Не могли бы вы встретиться со мной там на одном из балконов на крыше?
— Конечно.
Что угодно — лишь бы закончить поскорее этот разговор.
— Я буду там в четыре.
Он пробормотал «до свидания» и отключился. Но еще не успел положить трубку, когда та зазвонила снова. Он поднес телефон к уху.
— Да?
— Ну как вы утром? — Это был Ройс. Голос из его ночного кошмара. Он продолжил, не дожидаясь ответа: — Нам нужно, чтобы вы явились в участок и объяснили нам события вчерашнего вечера.
На Ника накатила еще одна волна усталости.
— А который теперь час?
— Двадцать минут десятого. Приходите как можно скорее.
Полицейский участок на Десятой улице представлял собой приземистое сооружение, которое когда-то, видимо, было модерновым. По бокам от него расположились две башни. Ника ждали. Полицейский в форме провел его через вестибюль, потом по лабиринту выкрашенных бежевой краской коридоров куда-то в глубины здания. Окна в комнате, где он оказался, отсутствовали, только на одной из стен — широкое зеркало в обитой линолеумом раме. Ник посмотрел в зеркало на свое отражение и сморщился. На нем была вчерашняя одежда. Брызги той лужи, в которую он угодил на крыше, оставили масляные пятна на рубашке. На щеках чернела щетина. Под глазами — мешки, волосы растрепаны, несмотря на все его старания и гостиничный шампунь. Сердце у него упало, когда он увидел направленную на него видеокамеру на треноге.
Ройс заставил его прождать четверть часа. В тот момент, когда он вошел в комнату, Ник совсем упал духом. Ройс был вампиром, питавшимся энергией других людей. Он рухнул в кресло по другую сторону стола от Ника и подался вперед, опершись на свои острые локти.
— Спасибо, что пришли. Я знаю, вам сейчас нелегко.
Он отодвинулся вместе с креслом и, откинувшись к спинке, закинул ногу на ногу. Постучал пальцами по ребру подошвы, пока техник возился с камерой.
— Порядок. — Под объективом замигал красный огонек. — Начали. Назовите ваше имя и занятия под запись.
— Ник Эш. Я занимаюсь цифровыми криминалистическими реконструкциями.
Ройс, как и большинство других в таких ситуациях, с недоумением посмотрел на Ника.
— И что же это такое?
— Это попытка восстановить документы, которые были разорваны или измельчены до неузнаваемости. Я разрабатываю системы, которые сканируют отдельные части, а потом на основе алгоритмов восстанавливают их цифровым способом. Идея состоит в том, что их можно использовать как улики.
— И вы выполняете эту работу для полиции?
— Для федерального правительства — ФБР и других агентств. — Это всегда помогало, когда он хотел произвести на кого-то впечатление. Что касается Ройса, то для него это было всего лишь информацией.
— У вас есть допуск к секретным документам?
Ник покачал головой.
— Это исследовательская программа. Технология еще не получила одобрения.
Ройс потерял интерес к этой теме.
— Давайте перейдем к событиям вчерашнего вечера. Прежде всего, пожалуйста, расскажите о ваших отношениях с убитым.
Ник рассказал все, что знал, начиная со времени их переезда в эту квартиру. Потом сообщил о послании от Джиллиан, о паническом звонке от Брета, о его, Ника, решении проверить по веб-камере, что происходит в квартире, и об увиденном там. Сердцебиение у него усилилось, когда он рассказывал про преследование на лестнице, о жутких минутах на крыше, когда он уже прощался с жизнью.
Ройс слушал все это, сложившись в своем кресле, как летучая мышь. В отличие от предыдущего вечера никто рассказа Ника не прерывал. Но Ника это молчание беспокоило больше, чем вчерашняя суета. В комнату не проникало посторонних шумов, он слышал только собственный голос и жужжание видеокамеры.
Он закончил и поднял взгляд на Ройса, который, казалось, разглядывал какое-то пятнышко на углу стола.
— Ну и история.
Это что еще значит?
— Как бы вы сказали, вы с убитым были близки?
— Мы с ним… были… очень разными. Но мы ладили.
— Лаборатория посмотрела компьютер, который мы изъяли из вашей квартиры. Ничего особо не смогли найти, потому что половина вашего жесткого диска явно зашифрована.
— Я же вам сказал — я работаю по контракту с ФБР.
— А вот компьютер вашего друга, — продолжил Ройс, — тот воистину открыл нам глаза. Вас удивит, если я скажу, что у него там, на компьютере, много непристойных изображений — очень много.
Ник чувствовал себя слишком усталым, чтобы притворяться.
— Брет любил смотреть порнуху. Он не первый, кто этим занимался, и в этом нет ничего противозаконного.
— Он вам показывал свои сокровища?
С Ройсом трудно было иметь дело. То он становился надменным — самодовольный идиот с полицейским значком, то корчил из себя прямо отца родного.
— У меня была подружка.
На Ройса это не произвело впечатления.
— Вы видели, что он смотрит?
— Старался не обращать внимания.
Ройс подался ближе к Нику.
— А почему? Такая там была дрянь?
— Нет. Просто…
— Брет когда-нибудь говорил об этом?
Да он рта не закрывал.
— Иногда.
— Вы никогда не слышали, чтобы он говорил о несовершеннолетних девочках?
Этот вопрос застал Ника врасплох. Он приложил все усилия, чтобы потрясение отразилось на его лице, а мысли его тем временем метались. Простых черных или белых ответов на вопросы, касающиеся Брета, не было, только с грязноватыми оттенками серого. Но даже у него были рамки, за которые он не выходил.
— Брет никогда бы не стал делать ничего противозаконного.
— Вы сами признали, что он баловался наркотиками. Если бы он был жив, мы могли бы привлечь его за хранение с намерением продажи — столько травки было найдено в вашей квартире.
— Что вы…
Ройс отъехал назад вместе со своим креслом, чуть не сбив при этом камеру. Он, широко раздвинув руки, оперся о стол. Полы его пиджака разошлись сзади, как крылья.
— Смерть Брета не была несчастным случаем. Кто-то привязал его к этому стулу и убил, потому что его хотели убить. На данном этапе расследования нам и не нужно что-то искать — этого вполне достаточно для определения мотива.
Ник ничего не сказал. Ройс пытался прищучить его, запугать, заставить признаться.
— Я думаю, вы не правы, — проговорил он наконец. — Я вам сказал, что случилось. Убийца, вероятно, проник в квартиру и связал Брета. Потом они заставили его позвонить мне и вызвать меня домой. А убил он Брета, только когда понял, что я видел его по веб-камере.
— И часто вы этим занимались? Часто шпионили за Бретом?
Это было похоже на разговор с десятилетним ребенком. Они слышали, что ты говоришь, но вкладывали в это совершенно противоположный смысл.
— Я никогда не шпионил за Бретом. Он просил позвонить ему, и я связался с ним через «Базз».
— Что-что? — В голосе Ройса послышалась недоуменная нотка, хотя, судя по его выражению, он точно знал, что собирается сказать Ник.
— «Базз» — это такая компьютерная программа. Голосовая и видеосвязь по Интернету.
— Замечательно. — Ройс снова переменил тему разговора. — Нам бы хотелось получить доступ к содержимому вашего компьютера.
— Я не могу это сделать. Мой контракт с ФБР…
— Забудьте об этом. Мы можем получить разрешение, но будет лучше, если вы станете сотрудничать.
Ник уставился на него.
— Будет лучше для кого? Я пришел сюда ответить на ваши вопросы. Я что — арестован?
— Нет. — Ройс встал. — Вы просто даете объяснения. Все в порядке. — Он бросил взгляд на видеокамеру.
«Неужели я допустил оплошность?» — подумал Ник, начиная жалеть, что не взял с собой адвоката.
— Вы посмотрите на это дело с моей колокольни, — сказал Ройс, переходя на более спокойный тон. — У нас есть пистолет, из которого убили Брета, и на нем повсюду ваши отпечатки. Мы все еще ждем результатов анализа из лаборатории — есть ли следы пороха на ваших руках.
Следы пороха? Неужели они думают, что это он стрелял? Мог ли порох попасть ему на руки, когда он трогал пистолет?
— У нас есть свидетельство того, что вы находились на месте преступления…
— Конечно, я находился на месте преступления. — Ник чуть ли не кричал. — Да я живу там, черт побери!
— И вы рассказываете мне эту невероятную — если уж говорить откровенно — историю о каком-то человеке в маске, который гнался за вами по крыше с пистолетом, а потом передумал и исчез в ночи. Оставив вам пистолет. — Ройс ухватился руками за спинку кресла и подался вперед. — Я хочу вам верить, Ник. Правда хочу. Но вы не помогаете мне в этом.
Мысли Ника метались, он старался вспомнить что-нибудь такое, что сняло бы с него подозрения.
— Макс.
— Что?
— Макс. Мальчишка из соседней квартиры. Он разговаривал со мной, когда Брета застрелили. Он вам скажет, что я не имею к этому никакого отношения.
Впервые за это утро на лице Ройса появилось неуверенное выражение. Он попросил Ника подождать и вышел из комнаты. Вернувшись, он уселся в кресло.
— Мы еще не разговаривали с мальчиком. Мать говорит, что он в шоке, и не разрешает нам увидеть его.
Это было похоже на правду. Мать Макса была настоящий пятибалльный шторм, она почти никогда не видела сына, но компенсировала это тем, что с неистовством оберегала его от всяких случайностей. Если бы он поскользнулся на шнурках, то она, вероятно, подала бы в суд на изготовителя кроссовок.
— А парнишка видел убийцу?
— Не знаю. Все произошло так быстро. — Ник откашлялся. Во рту у него была Сахара. — А теперь я бы хотел уйти. Можно?
XIV
Верхний Рейн, 1432 г.
Путешественник подвел коня к краю утеса и посмотрел на долину. Что он там увидел? Конечно, реку внизу, которая ускоряла течение в узком русле вокруг мыса, а потом снова замедлялась, текла ровной лентой между лесистых холмов. Около берегов на мелководье плескалась рыба, протискиваясь между тростников, вилась, как дым в воде. Над поверхностью воды жужжали стрекозы, золотые лучи солнца разогревали донный песок.
Сразу за мысом река образовывала неглубокий залив, где в нее вливался приток, узкий и резвый в сравнении с величественным Рейном. Путник, посмотрев вниз, увидел бы полянку в том месте, откуда вытекал приток, и — если бы солнце не светило ему в глаза — примитивную хижину, сооруженную из ветвей и глины. Перед ней, где берег резко уходил вниз, склоняясь под угрожающим углом к реке, стоял стол с двумя отпиленными ножками. К столу были приколочены доски, словно ступеньки. Все это сооружение поблескивало влажной глиной. Рядом с ним лежал выдолбленный ствол дерева, похожий на примитивный лоток.
Путник дернул уздечку, развернул коня и направил его назад в лес. Тропинка была довольно крутой, но не опасной.
Солнечные лучи пятнами падали на землю, пробиваясь между кронами деревьев, лес полнился гудением пчел и других насекомых, которое по мере спуска заглушалось журчанием воды. Скоро путник был уже на берегу притока, он оказался глубже, чем ему думалось поначалу. Он спрыгнул с седла, набросил поводья на ветку и вошел в воду проверить — можно ли здесь перейти реку вброд.
Сильное течение влекло его ноги, а он пытался не потерять равновесие на скользких камнях. Немного ниже по реке виднелся одинокий ряд камней — все, что осталось от попытки перегородить реку, которая прорвалась через преграду, и камни, призванные перенаправить водный поток, теперь лишь подхлестывали его, когда он прорывался в узостях между ними. Но путник тем не менее решил, что его коню по силам перейти на другой берег.
Когда он повернулся, собираясь возвращаться, солнечный луч мелькнул в листве и ударил ему в глаза. Путник поднял ладонь, защищаясь от света, но при этом потерял равновесие. Он подался в сторону, чтобы не упасть, но камень под его ногой подвернулся. И человек, подняв фонтан брызг, свалился в реку.
Течение немедленно подхватило его, повлекло к пролому в разрушенной дамбе. Он сопротивлялся, но река была слишком сильна. Она крутила его, как соломинку. Он почувствовал, что идет на дно, хлебнул воды и вынырнул на поверхность, открыв рот, чтобы глотнуть воздуха. Потом он ударился головой о камень, и мир вокруг него потемнел.
В бухте, где соединялись две реки, темная точка пятнала серебряную гладь воды. Какой-нибудь наблюдатель с берега мог бы и не обратить на нее внимания — рябь или тень от парящего ястреба. Но, приблизившись, наблюдатель разглядел бы, что эта тень похожа на человека. Зрелище он являл собой жутковатое. Волосы достигали плеч, борода отросла почти до груди, и то и другое было в колтунах и впитало столько грязи, что разобрать их истинный цвет было невозможно.
Странный мужчина стоял по пояс в воде, слегка раскачиваясь в потоке, ноги его ушли в ил, и вокруг них вились угри и водоросли. Он зачерпнул донный ил в потрескавшуюся деревянную кадку.
Он был голый. На груди его образовалась корка грязи, лицом и руками он напоминал статую гончара, потрескавшуюся на солнце. Но ниже пояса кожа была чистая, вымытая рекой. Он подтащил кадку к стоящему наклонно столу и опрокинул ее. Грязь полилась по лестнице, обтекая ступеньки, на досках оставался лишь осадок белой глины. Человек соскреб ее и выложил в лоток, который затем заполнил водой из ведра и расшевелил все это пятерней. Белые облака собирались и кружились в воде, но там, где солнце касалось дна, сквозь вихри и потоки он безошибочно уловил блеск золота.
Его внимание привлек какой-то предмет в устье реки. Поначалу он принял его за бревно, потом решил, что это, может быть, дохлая лиса или даже овца, принесенная с дальнего пастбища. И только когда этот предмет чуть не проплыл мимо него, он понял, что же это такое.
Он помедлил мгновение, но только потому, что не привык к чрезвычайным ситуациям. Он бросился в бухту, оторвал ноги от дна и нырнул головой вперед. Он был сильным пловцом: десять гребков — и он уже добрался до тела. Ухватил человека за намокшую рубашку и потянул к себе. Течение здесь было сильнее, подталкивало его к открытой реке. Он опустил ноги, но дна не достал. Тонущий человек дернулся, почувствовав его прикосновение, взмахнул руками, закашлялся. В своем неистовом желании выжить тонущий вполне мог убить их обоих. Золотодобытчик яростно забил ногами, чтобы не погрузиться под воду, и скрутил тонущего. Одной рукой подхватил его под руку, другой за поясницу и повлек к берегу. Вытащив добычу на сухое место, он посадил спасенного, взял за руки и согнул пополам, выкачивая из него воду.
Несостоявшийся утопленник испустил изо рта струю воды, застонал, рыгнул, потом перекатился на живот и, тяжело дыша, замер на покрытой опавшими листьями земле. Золотодобытчик оставил его сохнуть на солнце. Он принес хлеб с медом и положил их на некотором расстоянии от гостя. Раздул пламя в чуть теплящихся углях у своей хижины и подогрел в миске немного молока. Когда он вернулся к гостю, еда уже исчезла, а человек сидел, прислонившись к бревну. Он, прищурившись, посмотрел на своего спасителя.
— Спасибо. — Он сделал благодарственное движение руками. — Если бы не ты… — Голос его замер.
— Как тебя зовут? — спросил золотодобытчик. Говорил он медленно — отвык, его язык с трудом ворочался во рту.
Гость улыбнулся.
— Эней.
Это имя было как палка, взбаламутившая прошлое. В иле заклубились воспоминания: солнечный свет, проникающий сквозь окно класса, монах в сером капюшоне, древняя книга рассказов.
— Multum ille et terris iactatus et alto. Долго его по морям и далеким землям бросала воля богов.[9]
На лице Энея появилось удивленное выражение. Он посмотрел на золотодобытчика, потом рассмеялся странным смехом.
— Какой же ты необычный человек. Ты ходишь по лесу, как фавн или дикарь. Ты плаваешь, словно русалка, и спасаешь путников от их судьбы, а потом цитируешь Вергилия. Скажи мне, как тебя зовут.
Золотодобытчик посмотрел на него смущенно, чуть ли не испуганно. За прошедшие годы было столько имен — имен, которыми его называли в гневе, с насмешкой, в неведении и страхе. Имена, которые давались, но которыми он никогда не владел. Но прежде всех было одно.
— Иоганн, — сказал я.
Эней на ту ночь оставался в моей хижине. Для человека, едва спасшегося от гибели, он выглядел на удивление бодрым. К вечеру он был уже в состоянии ходить, опираясь на палку, которую я вырезал из ивы. С наступлением сумерек он сопроводил меня к тому месту, где оставил свою лошадь, а когда пришла ночь, развел костер, и мы с ним выпили бутылку вина, что была в его седельном мешке. Еще он дал мне паломническое зеркало — посеребренный кусок стекла, вставленный в литую металлическую раму.
— Оно из Ахена, — сказал он. — Оно впитало священное сияние святынь, что хранятся там в соборе. Возьми его. Может быть, придет час и оно выручит тебя — ведь ты спас меня.
Эней любил поговорить и радовался компании. Слова лились из него, как вода из источника, энергия в нем кипела. Он очень заинтересовался мной, хотя я и избегал его вопросов. Когда он спросил, откуда я родом, я просто показал на реку; когда он попытался узнать, почему я стал добывать свои жалкие средства к существованию из рейнского ила, я бросил еще одно полено в костер и ничего не ответил. Много чего произошло за последние десять лет, но только в том смысле, в каком происходит с человеком, который падает в колодец и многократно ударяется о стены. И хотя каждый из этих ударов мучителен, впоследствии бедняга помнит лишь падение на дно.
А вот Эней рассказал мне о себе. Он был на пять лет моложе меня, хотя кто-нибудь, посмотрев на мое лицо, сказал бы, что эта разница составляет лет двадцать. Он родился в Италии, в деревне неподалеку от Сиены. Его отец был крестьянином с небольшим достатком, и Эней отказался от труда на земле в пользу университетского образования.
Он подался вперед, лицо его светилось в отблесках пламени.
— Ты никогда не думал, что Господь создал тебя с какой-то целью? А я вот думал. Я знал, что предназначен для чего-то более возвышенного, чем пастбища моего отца. Я изучал все, что мог. Когда чума выгнала из Сиены ученых, они не смогли унести с собой все книги. Я купил их за гроши и научился всему, чему эти книги могли научить, а потом, когда чума ушла, продал, выручив в пять раз больше, чем заплатил. Воистину, нет ничего прибыльнее, чем знание. — Он усмехнулся собственной шутке. Потом задумался на секунду. — Или, может быть, «ничто не дает такой прибыли, как ученость»? Как лучше?
Я пожал плечами. Я мог только лишь поморщиться, сравнивая нас: наследник патриция копается в реке, как свинья, и крестьянский сын, который сумел выбиться в люди. Но он не дошел до этой части истории.
— Поначалу я хотел стать доктором. Или, может быть, юристом. Я всегда умел неплохо излагать свои мысли. — Он был начисто лишен скромности, но при этом говорил с такой откровенностью, что его речи не казались хвастовством. — Я много чего пробовал, но ничто меня не устраивало. И вот год назад через нашу деревню проходил один человек. Кардинал на пути в Базель.
Он прищурился, глядя на меня и явно ожидая какой-то реакции, узнавания.
— Тебе известно, что сейчас в Базеле проходит большой собор,[10] на котором обсуждаются неправедные деяния церкви?
Если я даже и знал об этом, то начисто забыл.
— Я поступил на службу к кардиналу и поехал с ним.
— Но ты не священник? — спросил я.
Он не был похож на священника. Найдя своего коня, он первым делом залез в седельный мешок и надел чистую рубаху и штаны. Даже чуть не утонув в реке, он сумел каким-то образом сохранить свои мягкие кожаные сапоги, верхушка которых была на модный манер загнута, что позволяло видеть не только зеленую шелковую подкладку, но и его икры.
Он рассмеялся.
— Для каких бы дел ни предназначал меня Господь, я не думаю, что это священничество. Я слишком люблю мирское. Нет… я отвлекся. Я поступил на службу к кардиналу в качестве секретаря, и он привез меня в Базель. Скоро я узнал, что его богатство хранится на небесах, — денег, чтобы заплатить мне, у него не было. Я ушел от него, но нашел другого. — Он подмигнул мне. — Это оказалось нетрудно. Во время собора дел невпроворот, и любой, умеющий написать свое имя, мог наверняка найти там работу.
Он подпер подбородок рукой и уставился в огонь — карикатура на размышление.
— Тебе нужно ехать со мной.
Я, конечно, отказался. Но Эней был прав — он умел находить убедительные слова. Он проспорил со мной всю ночь, пока костер не догорел и не начали петь птицы. Отказать ему было невозможно.
На следующее утро я оставил мою хижину и направился в Базель.
XV
Нью-Йорк
Колючий ветер ударил в лицо Нику, когда он вышел из лифта на балкон. Воспоминания вчерашнего вечера нахлынули на него: бак с водой, искусственная трава и ужас перед неминуемой смертью. Здесь все было иначе: белая плитка на полу и стеклянный бокс кафе, сейчас закрытого на зиму; огромный паук из крученого металла, размером больше Ника. За перилами виднелись безжизненные деревья Центрального парка — настоящий мертвый лес. За ветвями просматривался пруд. Это напомнило ему стихотворение из школьной программы.
Поник тростник, не слышно птиц,
И поздний лист поблек.[11]
Эмили Сазерленд ждала его, сидя на металлической скамье. Было что-то старомодное в этой его новой знакомой. Нет, она не походила на специализирующихся в медиевистике студенток, которых он знал в годы учебы в колледже, с их прерафаэлитскими кудряшками и платьями в цветочек, но при этом поражала истинным изяществом, свойственным женщинам середины двадцатого века. На ней была облегающая черная юбка чуть выше колена и красная куртка с высоким воротником. Ее блестящие черные волосы были связаны на затылке красной ленточкой, а руки целомудренно лежали на коленях. Она казалась потерянной.
Он сел рядом с ней. Почувствовал под собой холод стальной скамейки.
— Извините, опоздал.
— Я не была уверена, придете ли вы.
«А я почти и не пришел». После того как Ройс отпустил его, он почти два часа бесцельно бродил по городу. Одна только мысль о необходимости говорить с кем-то вызывала у него тошноту. Что можно сказать, если твой мир развалился на части? Люди, мимо которых он проходил на улице (продавцы хотдогов, регулировщики движения, туристы, вываливавшиеся из универмага «Мейси»), не имели к нему никакого отношения. Он среди них был призраком. Но в конечном счете потрясение и жалость к самому себе понемногу прошли. Если он замкнется в своей раковине, то сойдет с ума: нужно что-то делать, действовать. И поэтому он пошел на встречу с Эмили.
— Значит, вы нашли что-то?
Эмили вытащила из сумочки книгу и раскрыла ее у себя на коленях. Внутри была сложенная распечатка, которую дал ей Ник. Книга вроде бы была на немецком.
— «Старейшие сохранившиеся немецкие игральные карты», — прочел Ник заглавие наверху страницы.
Эмили удивленно посмотрела на него.
— Вы знаете немецкий?
— Я два года проработал в Берлине.
— Тогда вам стоит посмотреть эту книгу. В ней перечислены все сохранившиеся работы, приписываемые Мастеру игральных карт.
— И?
— Вашей карты в ней нет.
Она заложила пальцем открытую страницу и перелистнула книгу назад. Перед ним появился целый зверинец изящно вырисованных львов и медведей — две карты, одна подле другой. Животные были изображены в разных позах.
— Это две сохранившиеся копии из восьми животных. Одна из Дрездена, другая — в парижской Национальной библиотеке. Вы замечаете что-нибудь?
Ник несколько секунд разглядывал их.
— Они разные.
Он показал на верхние правые уголки. На дрезденской карте был изображен стоящий лев, в угрожающем рыке закинувший назад голову. Парижский лев сидел на задних лапах, величественно глядя в сторону со страницы.
Он протянул руку и взял свою распечатку. Расположение было таким же — четыре медведя и четыре льва в три ряда, — но в правом верхнем углу там был чешущийся медведь.
— Вы сказали, что карты были напечатаны. Если с одной гравировальной доски, то разве они не должны быть одинаковыми?
— В какой-то момент их истории первоначальные доски были разрезаны. Иногда это можно заметить на картах. — Она провела ногтем по одному из львов на парижской карте.
Ник присмотрелся и увидел едва заметные, неправильной формы очертания вокруг животного, словно его вырезали из журнала ножницами и наклеили на страницу.
— И зачем это кому-то понадобилось?
— Вот вам наиболее логичное объяснение: первоначальные карты пользовались необычайным успехом и он надумал сделать еще. Медные доски изнашиваются довольно быстро, если делать с них слишком много отпечатков. Может быть, гравер вырезал хорошо сохранившиеся части, чтобы соединить их с другими и использовать для изготовления новой колоды. — Она положила ладонь на страницу, закрыв двух львов в центре. — Уберите их — и у вас вместо восьмерки получится шестерка. Прибавьте одного — и получится девятка, что мы, кстати, и имеем.
Она перешла к следующей гравюре в книге, девятке этой же масти. Здесь животные были размещены в три ряда по три — добавился еще один медведь.
— В некотором роде это послужило прообразом печатного текста, набранного шрифтом из подвижных литер, — добавила Эмили. — Разбор страницы до более мелких элементов, что дает вам большую гибкость.
Ник присмотрелся еще внимательнее.
— На этой карте нет очертаний вырезки, как на предыдущей.
— Нет, — согласилась Эмили. — Хотя тут перед нами распечатка цифрового изображения… кто это знает. Слабые линии вполне могут потеряться. Где, вы говорите, нашли это?
Ник оглядел балкон. Небо снова затянулось тучами, большинство других посетителей вошли в помещение. Двое студентов разглядывали скульптуру и пытались обсуждать ее достоинства с видом знатоков, а ортодоксальный еврей в черном костюме и фетровой шляпе решал кроссворд у перил. Привратник смел несколько опавших листьев с плиток. Больше наверху никого не было.
И птицы смолкли.
Он вдруг увидел, с каким ожиданием смотрит на него Эмили. Ее бледные щеки порозовели на холодном воздухе. Что он может сказать ей такого, чтобы она не сочла его сумасшедшим?
— Джиллиан Локхарт… моя… гм… подружка, прислала мне этот файл два дня назад.
— Вы можете у нее спросить, где она его взяла?
Ник проигнорировал этот вопрос.
— Вы думаете, она обнаружила одну из оригинальных карт? О которой никто не знал?
— Может быть. А может, это была подделка. Либо физическая подделка, которую она нашла, либо цифровая, которую она создала ради шутки. — И, словно читая выражение на его лице, Эмили добавила: — Вы сказали, что вас интересует Джиллиан Локхарт, и я поспрашивала про нее в музее. Судя по всему, у нее была репутация человека непредсказуемого.
Порыв ветра унес ее слова. Ник чувствовал, как холод пробирает его до костей. Шутка? Когда он получил эту карту по Интернету, ему тоже показалось, что это шутка. Какая-то его часть продолжала так думать. Но он видел смерть Брета, прятался на крыше от киллера с пистолетом, сидел в полицейском участке, где его допрашивали, — все это вовсе не было похоже на шутку. И начались эти ужасы с той самой карты.
— Если эта карта настоящая, то сколько она может стоить?
Эмили нахмурилась.
— Не знаю. Я не работаю в закупочном отделе. Думаю, собственники карт на протяжении многих десятилетий не менялись, так что даже и сравнивать не с чем.
— Ну хотя бы приблизительно. О чем идет речь — о миллионах долларов? — Он видел, что этот вопрос пришелся Эмили не по душе, и смутился, словно предлагал ей переспать с ним за деньги.
— Я видела гравюры Дюрера — их частным образом предлагали менее чем за десять тысяч долларов. Он жил позднее, но он гораздо известнее. Что же касается Мастера игральных карт… — Она задумалась на несколько секунд. — Ну, может, не больше сотни тысяч.
— Из-за этого станут убивать?
— Что-что?
Ник глубоко вздохнул. Ему отчаянно хотелось сказать ей все, озвучить мучившее его. С каждой секундой умолчания он все больше чувствовал себя мошенником. Он приходил в ужас при мысли о том, что она сочтет его сумасшедшим.
— Когда Джиллиан отправляла файл с картой, мне показалось, что она попала в какую-то переделку. После этого она пропала. А вчера убили моего приятеля — мы с ним на пару снимали квартиру.
Эмили охнула.
— Господи, какой ужас. Примите мои соболезнования. — Она, плотно прижимая руки к бокам, уставилась в книгу, лежащую у нее на коленях.
— Я думаю, им… тем, кто сделал это… на самом деле был нужен я.
Присваивать себе трагедию, случившуюся с Бретом, было глупо… и самонадеянно. Он скосил глаза на Эмили. Она не смотрела на него.
— А в полиции вы были?
— Конечно. Они считают это выдумкой. И вообще думают, что это сделал я.
— Это не выдумка. — Она произнесла эти слова тихо, но отчетливо. — Не знаю, что случилось с Джиллиан Локхарт, но… Это становится ясно, стоит произнести ее имя в музее. Люди реагируют так, будто вы открыли им дверь в комнату, куда нельзя входить. Они не очень распространяются на ее счет, но…
Стая птиц сорвалась с деревьев у пруда. Они принялись кружить у башен на дальней стороне парка. Эмили подняла повыше ворот своей куртки.
— И потом, эти карты… они такие необычные. У всех животных несчастный вид. Что же касается людей…
Она открыла страницу с еще одной гравюрой. На странице танцевали или важно расхаживали крохотные человечки, хотя чем внимательнее присматривался к ним Ник, тем меньше они вроде бы походили на людей. Некоторые были волосатыми, как животные, у других кожа, казалось, висела лохмотьями. Они дули в рога, целились из лука, размахивали дубинками. Один бренчал на лютне — дурачок, не замечающий суматохи вокруг него.
— Это пятая масть, дикари. Глядя на них, испытываешь какое-то беспокойство. — Она грустно рассмеялась. — Ну вот, теперь вы будете думать, что я сумасшедшая.
— Нет-нет. — Ник прикоснулся к ее локтю успокаивающим жестом и тут же пожалел о своем порыве.
Она отпрянула, как испуганная птица, обхватила себя руками.
— Извините. — И этого говорить тоже не следовало. Он словно чувствовал себя в чем-то виноватым.
Она поднялась на ноги, расправила юбку сзади. Ее лица почти не было видно за высоким воротником.
— Мне пора.
Ник встал, держась от нее на почтительном расстоянии.
— Будьте осторожны. Я вам очень признателен за консультацию, но я, видимо, сейчас такой человек, которому не следует помогать.
XVI
Базель, 1432–1433 гг.
Мой отец как-то сказал, что нет таких перемен, к которым человек не смог бы приспособиться за полмесяца. Может быть, не в душе, но в своих поступках и ежедневном поведении, выборах и ожиданиях. В первую ночь моего путешествия с Энеем я спал на полу в гостинице и ел только хлеб. В середине второй ночи я забрался на общую кровать и завернулся в одеяло, устроившись в уголке. Третьим вечером я ел и пил столько же, сколько и остальные в таверне, и не возражал против того, чтобы спать на соломе, а не на земле. Эней заплатил цирюльнику, который постриг и побрил меня, благодаря чему я помолодел лет на десять. Целый час я отскребал с себя грязь в бане, после чего помолодел еще лет на пять.
— Но тебе все же непременно нужно посетить священные бани в Базеле. Там ничуть не возражают, если мужчины моются вместе с женщинами и занимаются непристойностями. Можно такое увидеть…
Он сделал неприличный жест рукой; я постарался показать ему, будто меня это не волнует. Чтобы излечиться от некоторых воспоминаний, нужно куда как больше, чем полмесяца.
Когда мы добрались до Базеля, я был уже другим человеком. У меня была новая пара сапог, новая шапка и сюртук — все это Эней купил мне за три пенни у французского купца. И все равно, несмотря на мое хорошее настроение, вид города привел меня в ужас. Он напомнил мне Майнц — богатый город на берегу Рейна, высокие дома, еще более высокие башни, флюгеры и кресты на которых посверкивали, как роса на утреннем солнце. Все это было окружено кольцом мощных стен, за ними во всех направлениях тянулись прилегающие деревни.
Город по самые крыши был набит людьми, приехавшими на собор, но красноречивый Эней вскоре нашел мне место в монастыре. Он отвел меня туда, потом извинился — он отсутствовал два месяца, и теперь ему многое нужно было узнать и о многом рассказать своим нанимателям. Я, дрожа, улегся на тюфяк, чувствуя себя брошенным в незнакомом городе. Мне хотелось убежать к реке и забраться на первую барку, которая увезет меня назад к моей хижине. Но потом страх прошел, я заснул, а на следующее утро заявился Эней; он весь светился от возбуждения.
— Великолепная возможность, — восторженно проговорил он. — Твой земляк, весьма заметная персона. Его секретарь недавно сбежал с девицей из бани. — Он подмигнул мне. — Я ведь говорил, что они занимаются непристойностями. Но он плодовитый мыслитель: если он в скором времени не найдет человека, который записывал бы за ним слова, то эти слова переполнят его мозг до такой степени, что он взорвется. Я видел его сегодня утром и лишь назвал твое имя, как он тут же потребовал, чтобы я привел тебя к нему.
Одной из самых привлекательных черт Энея было полное пренебрежение всякими запретами. При всей его дипломатичности он мог хвалить других с легкомысленной щедростью. Наверняка в его рассказе я стал лучшим из писцов со времен святого Павла. Я только опасался, вдруг не смогу удовлетворить моего потенциального нанимателя, если он поверил хотя бы половине того, что ему наговорил Эней.
Человек, о котором шла речь, обитал в небольшой комнатке в верхнем этаже беленого дворика в доме монахов-августинцев. Эней вошел внутрь, не дожидаясь, когда ответят на его стук. Я же последовал за ним довольно неуверенно.
В комнате не было почти ничего, кроме кровати и стола размерами больше кровати. Два канделябра придавали ему сходство со священным алтарем. Вся его поверхность была покрыта пачками бумаг, придавленных всем, что подвернулось под руку, — перочинным ножом, огарком свечи, Библией, даже побуревшим огрызком яблока. Тут стояли три чернильницы — с красными, черными и синими чернилами, набор тростниковых и гусиных перьев, увеличительное стекло и полупустой кубок с вином, в котором плавала дохлая муха. Стол словно крепостной стеной окружали стопки книг — я такого количества книг в одной комнате никогда не видел. А за столом восседал властелин этого бумажного царства, человек, к которому я пришел.
Он, казалось, и не заметил нас, уставившись на икону с изображением Христа, которая висела на вбитом в стену гвозде. Глаза у него были светло-голубые и прозрачные, как вода. Определить его возраст было невозможно, хотя, работая на него, я узнал, что он на несколько месяцев моложе меня. Голова у него была гладко выбрита, и кости черепа, казалось, вот-вот прорвутся сквозь кожу. Я вспомнил шутку Энея про мозг, разрывающийся от переполнивших его слов, и подумал, что в этой шутке есть доля правды. Белые рукава его сутаны были покрыты чернильными пятнами, хотя руки оставались на удивление чистыми.
Эней не стал ждать.
— Это Иоганн — я говорил вам о нем. Иоганн, имею честь представить тебе Николая Кузанского.[12]
Я склонил голову в полупоклоне, готовясь к неприятным вопросам о моем прошлом.
— Вы умеете писать?
— Он знает латынь лучше Цицерона, — не замолкал Эней. — Знаете, какие были его первые слова, когда он выудил меня из реки? Он сказал…
— Возьмите перо и напишите, что я продиктую. — Николай отодвинул стул от стола и встал.
Почти не глядя, он взял кубок и отхлебнул его содержимое. Я не видел, проглотил ли он при этом муху. Сев за его стол, я заточил одно из перьев ножом, потом сделал тонкий надрез на кончике. Руки у меня так дрожали, что я чуть не разрезал его пополам.
Николай обошел стол и встал спиной ко мне, по-прежнему не отрывая глаз от иконы.
— Поскольку Бог есть совершенная форма, в которой объединены все различия и примирены все противоречия, разнообразие форм не может существовать в нем.
Он ждал, когда я напишу. В его молчании была такая глубина, что даже Эней не раскрывал рта. Кроме скрежета моего пера, в комнате не было слышно других звуков. На щеках у меня выступили капельки пота от напряжения — я пытался вспомнить, как образовывать слова. Я, считай, десять лет не держал пера в руках. Да и вспоминая сказанное им, я чувствовал себя слепцом на незнакомой дороге. Абсолютно. Слова окружали меня, как туман.
Не успел я положить перо, как Николай обошел меня и, взяв лист бумаги, прочитал:
— Поскольку Бог есть совершенная форма, в которой все различия различны и противоречия объединены, он не может существовать. — Он отбросил бумагу в сторону. — Вы знаете, в чем смысл моих слов?
Я отрицательно покачал головой. Я весь пылал. Мне хотелось одного — оказаться снова на своей реке, почувствовать, как холодные потоки омывают меня.
— Смысл их в том, что Бог есть гармония всех вещей. А потому в Боге не может быть разнообразия… и конечно, никакого разнообразия не должно быть, когда мы пишем о Боге. Разнообразие ведет к ошибке, а ошибка — к греху. — Он повернулся к Энею. — Мне нужен человек, который записывал бы мои слова так, словно я своим языком пишу на бумаге.
Эней посмотрел на него с удрученным видом. Но он был не из тех людей, кто легко сдается.
— На небесах есть святые, которые будут ловить ваши слова. А Иоганн просто давно не держал пера в руках. И потом, ваш интеллект подавляет его. Позвольте ему попробовать еще раз.
Николай снова повернулся к иконе. Даже не посмотрев, готов ли я, он начал:
— Господи, увидеть Тебя означает любовь; и Твой взгляд следит за мной с большого расстояния и никогда не отклоняется, как и Твоя любовь. А поскольку Твоя любовь всегда со мной — Ты, чья любовь есть не что иное, как Ты сам, который любит меня, — то и Ты всегда со мной. Ты никогда не оставляешь меня, Господи, но охраняешь на каждом повороте с самой нежной заботой.
Он мог бы и продолжать, но мое перо остановилось. Оно замерло, забывшись, над незаконченным предложением, а по моему лицу хлынули слезы. Я чувствовал себя дураком — хуже чем дураком, но ничего не мог с собой поделать. Слова Николая были как удар молота, сотрясшего стены, которые я воздвиг вокруг моей души. Отзвуки этого удара отдались во всем теле, поколебали камни в фундаменте моего «я». Я чувствовал себя обнаженным перед Господом.
Стоявший в углу комнаты Эней поглядывал на меня удивленно, но не рассерженно. Эмоции Николая понять было труднее. Да, он был страстен в своей вере, но боролся с низменными чувствами. Я видел потрясение в его глазах, его попытку найти адекватный ответ. В конечном счете он предпочел скрыть свои чувства за действием — взял листок со стола и быстро прочел написанное. Читать там особо было нечего. Я ждал, что он сейчас снова выкинет его, а вместе с листком — и меня.
Он нахмурился.
— Уже лучше. Далеко от идеала — в третьей строке вы сделали ошибку в слове amandus, — но явно лучше. Из вас может выйти толк.
Я поднял на него взгляд. В моих увлаженных глазах засветилась надежда.
— Я возьму вас на неделю. Если ваша работа меня устроит, то оставлю на все время, пока будет длиться собор.
Эней хлопнул в ладоши.
— Я вам говорил — он вас не разочарует.
И вот таким образом я — вор, лжец и смутьян — стал работать у одного из святейших людей, какие жили на земле.
Я думаю, это было не лучшее время для церковников, участвующих в работе собора. Амбиций у них хватало, и многие из них, включая Энея, хотели ни больше ни меньше как полного подчинения папства решениям собора. Но эта цель оставалась недостижимой. Они встречались в комитетах и обсуждали резолюции; они передавали эти резолюции на утверждение общего собрания, которое, в свою очередь, отправляло бумаги Папе. В ту осень там курсировало столько курьеров в одну и другую сторону, что они, вероятно, проложили новый проход в Альпах. Но я не видел ничего, могущего изменить мои первые впечатления от Базеля, а были они такими: в этом городе слишком много нищих и недостаточно богатых людей, которые могли бы разбавить эту нищету.
Но мне было все равно. Николай предложил мне работу на время проведения собора, и я был бы счастлив, продлись он хоть до Судного дня. Я был доволен своей судьбой, пусть и не очень завидной. Ежедневно приходил я в кабинет Николая и прилежно записывал все, что он диктовал. Каждый вечер я возвращался в мою комнату, читал и молился. Время от времени, но не часто встречался с Энеем в таверне. Он был человек очень занятой и, служа своим амбициям, постоянно торопился по делам. Я с удовольствием выслушивал его рассказы и не завидовал его успехам. Мною овладело ощущение безмятежности, словно тот великий прилив, который швырнул меня в мир, схлынул.
Ни шатко ни валко собор продлился всю зиму. В реке появились каменно твердые льдины; однажды морозным утром я увидел, как одна из глыб ударила в барку с углем и расколола ее на две части. В кабинете Николая мне приходилось заворачивать руки в тряпье, чтобы из холодных пальцев не выпадало перо. Мой наниматель, казалось, никогда не замечал холода. День за днем он стоял, глядя на икону, и единственной его уступкой зиме стал меховой палантин на сутане.
— В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ты знаешь, с чего нарушился порядок вещей, Иоганн?
По мере того как он привыкал ко мне, его лекции приобретали характер разговора — он использовал меня в качестве оселка, на котором оттачивал свои мысли. И я в качестве оселка не мог понять всю замысловатую работу, которая делалась на мне, но я служил моей цели.
— С грехопадения? Со змия в Эдеме?
— Несомненно, что для человечества так оно и есть. Но грех Адама состоял в непослушании, а не в невежестве. — Он подошел к окну, холодный зимний свет резко очертил его силуэт. — Мир, когда он был еще молод, претерпел сильнейшее потрясение в Вавилоне. А когда люди перестали понимать друг друга, как они могли понимать Слово?
— Я думал, что Вавилонская башня была оскорблением Господу.
— Она приблизила ее строителей к Господу. Тот грех, за который Господь наказал, есть не амбиции, а чрезмерные амбиции. А теперь посмотри, как распространяется это наследство. Каков первый плод той ереси, что проповедуют гуситы и виклифиты?
Я молчал. Молчание тоже было частью моей работы.
— Они проповедуют, что и саму Библию нужно разделить — перевести ее на английский, или чешский, или немецкий, или любой другой язык, который им нравится. Представь себе ошибки, горькую путаницу и споры, которые возникнут в результате. — Он выглянул из окна, посмотрел на шпиль церкви, где проводились общие заседания собора. — Господь знает, нам и без того хватает споров.
Он снова повернулся к иконе.
— Бог — это совершенство. Я уже тебе говорил, что в нем не может быть разнообразия. Так почему же мы терпимо относимся к разнообразию в церкви? Мы даже литургию не можем общую согласовать. В каждой епархии свои правила, каждая епархия пыжится, чтобы превзойти в пышности соседнюю. Они думают, будто таким образом завоюют большую благосклонность Господа, тогда как на самом деле только раскалывают церковь.
Мое перо по-прежнему витало над листом бумаги, роняло чернильные кляксы.
— Записать это?
Он вздохнул.
— Нет. Запиши вот что: «Мы должны делать скидку на слабости человеческие до тех пор, пока это не будет мешать вечному спасению».
В полдень он отпустил меня пообедать. В тот день я договорился о встрече с Энеем — мы с ним не виделись две недели — и потому поспешил по улицам к таверне под вывеской танцующего медведя. Это было многолюдное, веселое заведение в подвале под складом материи неподалеку от реки. От сводчатых потолков эхом отдавались звуки смеха и песен, в очаге на вертеле жарили поросенка. Жир капал в огонь, превращаясь в дым.
Я прошел по всем комнатам в поисках Энея, но его нигде не было. Он часто опаздывал, хотя никто на него за это не обижался. Я купил кружку пива и уселся на край скамейки. Большая часть стола была занята группой купцов из Штрасбурга:[13] они кивнули мне, а потом просто не обращали на меня внимания. Один взгляд на мою одежду сказал им, что у меня нет ничего выгодного на продажу.
В ожидании Энея я разглядывал публику. Несколько человек были мне знакомы — священник из Лиона, два брата-итальянца, которые продавали бумагу, в несметных количествах потребляемую моим нанимателем, — но ни с кем из них говорить мне не хотелось. В подвале было тепло, а в пиво были подмешаны мед и травы.
Потом я увидел его. Он сидел на скамье в двух столах от меня, без энтузиазма участвуя в разговоре с компанией ювелиров. В одной руке он держал кружку пива, в другой — здоровенную свиную котлету. Его губы в свете свечей лоснились от жира, отечные глаза обшаривали помещение с подозрительным недовольством, которое ничуть не уменьшилось за десять лет, прошедших с тех пор, как он колотил меня в мастерской. Герхард.
Мне нужно было сразу же отвернуться и надеяться, что он меня не заметит, но потрясение оказалось слишком сильным, и я не мог оторвать от него взгляд. Я мог только глазеть на него, как кролик на удава. Жидкие его волосы еще больше поредели, а на голове появился лоскут красной кожи, похожий на нарыв. На спине у него образовался горб, наверное из-за многих лет, которые он провел, склоняясь перед топкой. Но это явно был он. И если я мог его узнать, то и он меня наверняка тоже.
Наши глаза встретились. Я проклял себя за то, что сбрил бороду, за которой вполне мог бы оставаться неузнаваемым. Я прикоснулся к зеркальцу у себя в сумке, уповая на то, что десятилетия страданий, возможно, сильно состарили мое лицо и он меня не узнает. Но Эней постарался вернуть меня к жизни. Я с глупым видом смотрел, как удивление на лице Герхарда сменяется недоумением, которое постепенно переходит в уверенность. И торжество.
Он оттолкнул скамейку и поднялся. Я посмотрел в камин, на истекающего жиром поросенка на вертеле. Я знал, что сделают со мной, если Герхард сообщит о моем преступлении.
Перед Герхардом прошла девица с подносом, уставленным кружками, ему пришлось податься назад, и в этот момент я принял решение. Я вскочил со своего места и бросился к лестнице, не думая о том, что этим привлекаю к себе внимание. Мне на руку стрельнула капля жира, когда я пробегал мимо вертела, но больше всего я сейчас боялся столкнуться с Энеем. Мне невыносима была одна мысль о том, что он узнает, какому человеку помог.
Я выбежал на улицу и припустил по узкому проулку в направлении к собору. Добежав до рыночной площади, нырнул за будку кожевника и, запутывая следы, побежал в обратном направлении вдоль узкого ряда лавок к реке. Здесь почти никого не было. Если Герхард бежал за мной, то увидеть меня здесь ему не составило бы труда.
Я выбежал на пристань ниже моста. Лишь немногие отваживались в это время года пускаться в плавание по реке, но, к моему несказанному облегчению, у пристани я увидел небольшую барку, капитан которой как раз в этот момент отчаливал. Я остановился на краю пристани.
— Вы куда направляетесь? — крикнул я ему.
— В Ахен, а оттуда в Париж.
Ответил мне не капитан, а один из пассажиров. На нем был короткий походный плащ с капюшоном, в руках — длинный посох, хотя если он на этой барке отправлялся в Ахен, то ему несколько недель не пришлось бы сделать ни шага. Вокруг него на носу стояла небольшая группа мужчин и женщин, все одеты по-походному.
Я нервно бросил взгляд через плечо. Может быть, Герхард в этот самый момент уже сообщает стражникам, какого рода преступник обосновался в их городе.
— Могу я присоединиться к вам?
Путешественник после нескольких секунд совещания со своими спутниками посмотрел на капитана, который в ответ пожал плечами.
— Если у тебя есть два серебряных пенни, чтобы вложить в стоимость путешествия.
Я сбежал по ступенькам и прыгнул на борт. Потом вытащил из кошелька две монетки — большую часть моего богатства. У меня с собой даже шляпы не было.
Хозяин барки с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он отшвартовался и багром оттолкнул барку от пристани. Наконец течение подхватило суденышко, и мы поплыли. Я уселся на носу спиной к городу и ни разу не оглянулся.
XVII
Королевство Искьярд
Гостиница стояла на обдуваемом всеми ветрами холме над большой рекой, высокая и перекошенная, как кривые деревья вокруг нее. Вывеска, свисавшая с конька, раскачивалась на ветру, словно веревка на виселице. Издали на фоне заходящего солнца хорошо были видны очертания четырех замков Хранителей, стороживших царство с наступлением темноты. Одинокий Странник ускорил шаг, помогая себе посохом. Он не хотел оставаться под открытым небом с наступлением темноты, когда выходили на охоту варги.
Он поднялся по ступенькам и вошел в гостиницу, предварительно оглядев помещение из-под капюшона плаща. Свечи горели слабо, а огонь в камине не мог рассеять мрак. Три мечника, так и не снявшие доспехов, сидели за столом, пили медовуху из рогов и хвастались своими подвигами. В углу перешептывались и пересчитывали монетки два купца, один из них — карлик. Больше здесь никого не было, если не считать барменши в блузе с глубоким вырезом. Девушка вышла из-за стойки и приблизилась к нему.
— Приветствую тебя, незнакомец, чего ты желаешь?
— Я ищу Урзреда Некроманта.
Выражение ее лица не изменилось, но голос зазвучал почтительно.
— Урзред в своих покоях наверху. Но имей в виду, незнакомец, у него свирепая стража.
Странник кивнул. Он направился к винтовой лестнице в конце зала и стал подниматься, минуя узкие зарешеченные окна, покрытые паутиной, потом прошел через перекошенную дверь в темный коридор. Из окон на пол струился лунный свет, а в дальнем конце коридора перед еще одной дверью висела переливающаяся и потрескивающая синяя ткань.
Странник шагнул к ней, потом остановился. Не звук ли какой донесся до него?
— Ни-йарг!
Из тени на него бросилась какая-то фигура. Странник успел увидеть нос крючком и громадные клыки, меч, сверкнувший в лунном свете. Но Странник был героем тысячи битв в этой земле. Он шагнул в сторону и выставил свой посох, как копье, направив его прямо в нападающего. Гоблин оказался отброшен назад, потерял равновесие, а Странник шагнул вперед, размахнулся посохом и двумя быстрыми ударами добил его.
— Кто смеет вторгаться в покои Некроманта? — раздался голос из ниоткуда, отдаваясь в ушах Странника.
Нити света в конце коридора подрагивали, как струны арфы.
— Николас Странник. — Он задрал рукав своего плаща, показывая знак братства, выжженный у него на запястье. — Именем Фаранга, пропусти меня.
Мерцающие щупальца убрались. Дверь бесшумно распахнулась. Странник вошел внутрь.
Он оказался в сумеречном каменном помещении, освещенном только лунными лучами и двумя вделанными в стену керосиновыми светильниками. Потолок был так высок, что балки, на которых висели летучие мыши, были почти не видны. По углам стояли всевозможные магические и алхимические устройства — сифоны, емкости, кувшины с драконьим ядом и гривой единорога. А за каменным столом, глядя на незваного гостя, сидел старик с пронзительным взглядом, в серой накидке. Его длинные белые волосы были схвачены серебряным обручем. Урзред Некромант.
— Николас Странник. Много лун ты не пересекал пределов этих земель.
— Извини, — сказал Ник. — Я был немного занят.
Лицо Урзреда оставалось непроницаемым, но Ник знал, что тот не терпит панибратства.
— Слушай, прости, но у меня нет времени на формальности. Мне нужно с тобой поговорить.
— Так почему тогда просто не позвонил? Тут ведь тебе не онлайн-чат.
— Не хотел, чтобы меня отследили.
Урзред вздохнул.
— Ты на почве своей работы становишься параноиком.
— Вчера убили парня, с которым мы на пару снимали квартиру.
Сказать это аватару было не так-то просто — искать признаки потрясения или сочувствия в лице, созданном цифровым способом, и не увидеть ничего. Глаза старика смотрели без всякого выражения.
— Черт возьми, старина, мне очень жаль. — Напыщенно англизированный голос Урзреда исчез, его заменил средиземноморский говор, который где-то в Чикаго принадлежал компьютерному фанату по имени Рэндал. — И как это случилось?
Ник рассказал, начав с послания от Джиллиан. Добавил то, что ему удалось узнать про карту.
— Если она настоящая, то чего-то стоит. Но возможно, это просто подделка.
— Хочешь, чтобы я проверил?
— Будь добр.
Странник, забредший в дом Некроманта, засунул руку в карман и выудил что-то похожее на гигантскую жемчужину — стеклянный шар, наполненный клубящимся цветным туманом. Он протянул его Урзреду, который поставил его на стеллаж у стены рядом с другими похожими сферами. Где-то на пуле серверов в Орегоне или Китае файл скопировался с аккаунта Ника на аккаунт Рэндала.
— Ну, я просмотрю.
Аватар Рэндала замер, когда Ник ушел в офлайн. Несколько секунд спустя Некромант начал что-то вроде бега на месте с верчением рук — этакая разновидность скринсейвера в человеческом обличье. Странно, подумал Ник, ведь хотя на экране ничего не изменилось, одно только знание того, что Рэндал больше не смотрит с этого искусственно воссозданного лица, порождает ощущение одиночества в этой воображаемой комнате. Даже еще более странно, потому что он никогда не видел Рэндала во плоти.
Они познакомились на онлайновой конференции два года назад, оба тогда участвовали в веб-симпозиуме. Рэндал в то время стал известным, убедив судью, что помещенная в таблоиде фотография супермодели, входящей в реабилитационную клинику, на самом деле является подделкой. Супермодель получила неназванную сумму компенсации от газет, а Рэндал заработал репутацию одного из самых толковых исследователей в данной области. Информированный источник сообщал, будто Рэндалу достался жирный кусок от суммы ущерба. Лживый источник добавил к тому же, что признательный клиент отблагодарил Рэндала лично.
«Надежность цифрового свидетельства — это один из самых серьезных вызовов для правоохранительных органов в двадцать первом веке, — сообщил Рэндал участникам конференции. — С цифровой камерой за пятьдесят долларов и компьютером можно подделать что угодно. Но надежда есть. В тот момент, когда вы меняете цифровой образ, вы оставляете на нем отпечатки пальцев. Почти невозможно реалистично соединить две картинки, не развернув или не изменив каких-либо размеров. Это называется математическими манипуляциями, и они оставляют отметины в данных, словно круги на воде, когда вы кидаете камень в пруд. Если вы сможете измерить все эти круги, их высоту, длину волны, скорость, то сможете рассчитать, куда упал камень и каковы его размеры. Тут используется та же идея».
Эта идея требовала серьезного математического подхода, который оказался полезным как для восстановления реальных документов, так и для обнаружения подделок. Ник после этого переписывался с Рэндалом по электронке, хотел сравнить записи, и с тех пор они время от времени сотрудничали. Вдобавок Рэндал привел его в «Готическую берлогу». В течение нескольких месяцев они чуть ли не каждую ночь бродили по этому фантастическому онлайновому королевству — убивали драконов, спасали принцесс, брали штурмом замки, наполненные невообразимыми сокровищами. А потом Ник поменял компанию принцесс на Джиллиан.
Нимб белого света замигал вокруг Урзреда Некроманта — он снова ожил.
— Есть что-нибудь?
— Один мусор.
Ник испытал немало разочарований, часами ожидая компьютерных вердиктов, и был готов к тому, что и в данном случае многого ждать не приходится. Но теперь речь шла не об очередном эксперименте. Он раздосадованно сжал мышку и случайно отправил Странника в дальний угол обиталища Урзреда.
— Дело не в алгоритме. Вся эта картинка поддельная.
— Что ты имеешь в виду? — Ник привел Странника назад в центр помещения. — Файл испорчен?
— Это не файл.
Ник с опозданием понял: Рэндал пытается что-то ему сообщить.
— Ты знаешь мою аналогию с рябью на воде? Так вот представь, ты берешь пример, а тут выясняется, что в этом пруду даже нет воды. Вот о чем я говорю.
— Я не…
— Кто-то что-то сделал с этим файлом. Картинка явно остается — я ее прекрасно вижу. Но под поверхностью происходит нечто, совершенно меняющее файловую кодировку.
Наконец Ник понял.
— Шифровка.
— Именно. Кто-то что-то спрятал внутри этого файла, и когда смотришь на картинку, то ничего такого не видишь. На этом изображении имеется более пяти миллионов отдельных пикселей, и каждый хранится в виде цепочки из шести знаков. Нужно только изменить некоторое их количество, чтобы эти цифры и буквы образовали послание, и ты тут можешь скрыть большой кусок текста, и никто даже догадываться об этом не будет. Невооруженному взгляду он не виден.
Ник знал, как действуют такие штуки — он сталкивался с ними прежде.
«Почему мне самому это в голову не пришло?»
— А Джиллиан могла знать, как это делается?
— Конечно. Есть масса программ, с помощью которых это можно сделать. Узнай, какой она пользовалась, обработай файл с ее помощью и получишь то, что там сейчас скрыто. Но возможно, файл еще и защищен паролем.
«Ключ — медведь».
— Сейчас этим и займусь.
В первый раз с тех пор, как имя Джиллиан засветилось на его мониторе, Ник снова исполнился надежды.
— Можешь еще попробовать ее IP-адрес, — предложил Рэндал. — Ты видишь, где она оказалась?
— Она выходила на меня через «Базз». По одноуровневой сети. Я думал, проследить тут что-нибудь невозможно.
— Но кому-то это удалось сделать. — Урзред повернулся и посмотрел на Ника. — Иначе как бы они смогли тебя найти?
На экране Николас Странник оперся на свой посох и через освещенное лунным светом обиталище посмотрел на Некроманта. Ник в многолюдном интернет-кафе в Нижнем Бродвее откинулся к спинке стула из нержавеющей стали. Кафе было битком набито, карликов и магов не наблюдалось, но почти все остальные тут присутствовали. Филиппинцы и индейцы связывались со своими семействами, туристы из Европы — из тех, что ездят автостопом, — хвастались в блогах, мексиканские детишки играли в «Контрудар». Крохотная, почти невидимая часть всего этого кавардака обшаривала мир по проводам и радиоволнам. И тем не менее, несмотря на весь этот тарарам, кто-то смог отследить послание от перепуганной девушки из Европы в нью-йоркскую квартиру. Ник бросил взгляд через плечо. Коротко стриженный кореец с прыщавым лицом, казалось, ждал, когда освободится какой-нибудь компьютер.
— Ты сейчас дома? — раздался голос Рэндала в наушниках.
Ник отрицательно покачал головой, потом вспомнил, что Рэндал не видит его.
— Дом — это место преступления. Мне не разрешают туда возвращаться.
— Может, это и к лучшему. — Урзред обошел стол и остановился прямо перед Странником. — Ты должен быть осторожным. Мы с тобой — чем мы занимаемся? Мы привыкли видеть всякие фальшивки типа бумаг, картинок, чисел, с которыми работаем. Но это настоящее. Реальные люди, реальные пули. Ты там дурака не валяй.
— Я буду осторожен.
Ник нажал «выход» и покинул «Готическую берлогу». Вернулся в мир, в котором обитали звери куда опаснее виртуальных монстров.
XVIII
Париж, 1433 г.
Эней как-то сказал, что жизнь человека — это чистая страница, на которой Господь пишет то, что пожелает. Но бумага, прежде чем ее коснутся чернила, должна быть создана. Я думал об этом, ожидая в мастерской изготовителя бумаги. В помещении пахло сыростью и гнилью, как в хранилище яблок в конце зимы. За столом сидела женщина с ножом и кипой влажных листков, которые она нарезала на крохотные кусочки. Последние отправлялись в деревянную кадку, а там два ученика с длинными лопатками сбивали их в жидкую кашицу. Когда эта кашица будет готова, ее поставят в углу помещения, где она будет бродить неделю, потом ее собьют снова, пока от первоначальных обрезков ничего не останется. Только после этого мастер-бумажник перечерпает содержимое кадки в проволочную форму, спрессует там, выжав влагу, укрепит клеем и перетрет пемзой, чтобы она была ровной под пером. Так вот и человеческая жизнь должна быть растворена и переделана, прежде чем хоть капля Господнего желания будет записана на ней.
Бумагоделатель принес мне связку бумаги, перевязанную бечевкой. За его спиной один из учеников закручивал винт пресса. Послышался хлюпающий звук воды, выдавливаемой из влажной бумаги на фетровую подложку. Игра воображения родила такую фантазию: я представил себе, что вода — это чернила, словно из бумаги можно выжать и сами слова, переписать судьбу.
— Видать, твой хозяин загружает тебя работой. — Бумагоделатель взял у меня монетки.
Я пожал плечами.
— Мы продаем спасение грешникам и знание невеждам. Клиентов у нас всегда хватает.
Я отнес бумагу в нашу мастерскую по другую сторону моста, так плотно застроенного домами, что река за ними была не видна. На близость воды указывало лишь урчание мельничных колес под арочными пролетами внизу. Я прошел под пристальными взглядами двадцати четырех царей Израилевых, высеченных на фасаде собора Парижской Богоматери, и еще раз пересек реку, а потом углубился в лабиринт улиц вокруг церкви Святого Северина под сенью университета. Здесь был мой дом. В воздухе, словно снег, летали гусиный пух и обрезки пергамента; делая вдох, ты рисковал набрать полные легкие этой дряни. Писцы сидели у открытых дверей и окон, на подставках перед ними стояли раскрытые книги; иллюминаторы[14] вызывали к жизни чудных, легендарных животных, превращая их в буквицы или изображая на полях рукописей, а студенты в поношенных нарядах торговались с книготорговцами, чтобы сэкономить на шлюх, обитающих за рю Сен-Жак.
Мастерская располагалась приблизительно в полпути по улочке, на окнах здесь были матерчатые маркизы, а на столике перед входом лежали несколько потрепанных книжек. Рядом с дверью было приколочено большое объявление, рекламирующее множество специализаций книготорговца: жирное готическое письмо с замысловатыми буквицами, изящные рукописные шрифты с буквами, переплетенными, как плющ в саду, теснящиеся миниатюрные шрифты, прочесть которые удалось бы только с помощью лупы. На углу дома на груде книг расположилась фигура Минервы, оглядывающей улицу.
— А, вот и ты.
Оливье де Нарбонн (книготорговец, переплетчик и мой наниматель) оторвал взгляд от Библии, которую внимательно изучал вместе с клиентом. Я собирался бочком проскользнуть наверх и начать работу, которую обещал ему на этот день, но он поманил меня, развернув клиента так, чтобы я мог видеть его лицо.
— Твой земляк. Позволь представить Иоганна Фуста. Из Майнца.
Я знал, откуда он. Я знал, где он жил, в какую церковь ходил, в какой школе учился. Я знал, что разница между нами всего в два года, хотя он и казался старше из-за седины, пробивавшийся в его темных волосах. Я, убегая от своего прошлого, исходил весь христианский мир, и каждая новая катастрофа наваливалась на следующую, как костяшки домино. И вот в Париже я видел лицо из моего детства — Фуст стоял и с любопытством улыбался мне.
И он тоже знал меня.
— Хенхен Генсфлейш. — Он пересек комнату и неловко обнял меня.
Я отстранился, стал вглядываться в его лицо в поисках каких-либо свидетельств того, насколько он осведомлен, пытаясь скрыть мой страх от Оливье, который вытаращил глаза от удивления. После моего бегства из Кельна я не знал, что стало известно обо мне, насколько широко распространились слухи о моем преступлении. Возможно, Конрад сохранил его в тайне, желая защитить своего сына. На лице Фуста определенно не было видно никаких признаков того, что он знает о моем проступке, одно искреннее изумление от встречи старого знакомого так далеко от дома.
Я тоже обнял его.
— Рад тебя видеть.
Мы никогда не были друзьями. Фуст, честолюбивый и умный, водился с отпрысками из безупречных аристократических семейств, среди предков которых по материнской линии не было лавочников. Он, должно быть, многого добился в жизни: его синий плащ был сшит из дорогой ткани, оторочен медвежьим мехом и золотой бахромой. Не то чтобы это было криком моды, но такие плащи носили люди старшего поколения — одеяние человека, чуждающегося ровесников.
— Какими судьбами ты в Париже?
Он приподнял маленькую Библию.
— Хочу вот купить книги и увезти в Майнц.
— Никогда не думал, что ты станешь книготорговцем.
Он улыбнулся, чуть скривив губы.
— Зарабатываю на жизнь разными способами. У меня несколько дел. Ну а ты? Ты поехал в Кельн учиться на ювелира — это последнее, что я о тебе слышал.
— Оказалось, я не создан для этого ремесла. — Я беспомощно улыбнулся. — Я приехал в Париж работать писцом.
— Лучше Парижа в этом смысле места нет. — Фуст, казалось, был исполнен искреннего энтузиазма. — Столько книг. И такого качества. Я покупаю все, что могу. — Он показал на легкий экипаж, стоявший на улице. — К вечеру наполню его книгами, а вскоре вернусь за новой порцией.
— Вы обязательно должны приобрести Библию, — вставил Оливье. — С любого другого я бы потребовал семь золотых экю, но поскольку эта была написана вашим другом, то я дам вам скидку в четыре су.
— Поскольку она была написана моим другом, я заплачу вам семь экю, при условии, что эти четыре су получит переписчик.
— Конечно. Вообще-то говоря, он немало и других книг переписал для меня. Давайте покажу…
— Не сегодня. — Фуст закрыл книгу. — Мне нужно поторопиться. До темноты я должен встретиться еще с несколькими людьми. А завтра отправляюсь в Майнц. — Он повернулся ко мне. — Я снова приеду весной.
— Возможно, тогда и увидимся.
— Надеюсь. Всегда приятно увидеть знакомое лицо. — Он двинулся к двери, потом остановился, вспомнив что-то. — Извини, забыл сказать об этом сразу. Я расстроился, узнав про твою мать.
Мне так хотелось, чтобы он поскорее ушел, что я слышал его слова, не понимая их значения.
— Мою мать?
— Она была доброй христианкой. На ее похоронах многие плакали. Да возьмет ее Господь на небеса.
Я сидел за своим столом и призывал слезы. Душа у меня болела, но тело онемело и стало бесчувственным. Я не видел мать с того дня, когда отправился в Кельн, — застывшая фигура в сером плаще на берегу реки. Я вспоминал ее в течение этих десяти лет, но не слишком часто. Если бы не встреча с Фустом, я бы счастливо жил и дальше, думая, что она жива. Я даже не мог сказать, о ней ли я скорбел или о той жизни, которую утратил много лет назад. Я чувствовал, как какая-то огромная пустота образуется во мне.
Слишком много мыслей теснилось в моей голове. Я посмотрел на стол, на пергамент, чернила и книгу, ждущую меня. Работа не залечила бы мои раны, но утешила бы, отвлекая от тяжелых мыслей. Я натер пергамент мелом, выбелив его, потом расчертил, нанося жирные линии графитом, чтобы показать, что все было сделано тщательно. Я выделил место для буквицы и оставил две строки для рубрики.[15]
Я поставил книгу на подставку. Томик был небольшой — переписка не должна была занять много времени. Я заточил перо, обратился к первой странице, и тут меня ждало третье великое потрясение этого дня: агрессивный карлик и книга чудес, которую он продал Конраду Шмидту.
«Я открыл „Книгу философов“ и из нее узнал хранимые ими тайны».
XIX
Нью-Йорк
Загрузка завершена
Ник бросил взгляд на экран, одновременно елозя последним куском вафли по тарелке, чтобы впитать побольше сиропа. Он вернулся в неоновый кокон ресторанчика и впервые в этот день, хотя на улице уже было темно, ел по-человечески. Он расположился в крайней кабинке в задней части зала, с опаской оглядывая входящих и уходящих посетителей. Публика была обычная для вечернего времени: банковские служащие в костюмах, секретарши, несколько студентов. Никто не задерживался надолго. У стойки из динамиков музыкального автомата доносилась музыка — Чарли Дэниелс со своими ребятами исполнял «Дьявол спустился в Джорджию».
Ник слизнул сироп с пальцев и нажал клавишу на ноутбуке.
Вы уверены, что хотите установить «Криптик»?
Да.
Он испытывал уже третью программу, еще одну из бесплатных. Пожевывая соломинку, он смотрел на индикатор, показывающий процент установки.
Какие мотивы руководили Джиллиан? Когда они были вместе, она проявила себя… не то чтобы луддиткой, но человеком, лицо которого перекашивалось, когда разговор становился слишком уж техническим. Она была из тех, кто хотел пользоваться компьютером, но не желал знать никаких подробностей о том, как это делается. Как это она нашла способ зашифровать файл, если даже Ник о таких вещах знал только понаслышке?
Хотите запустить «Криптик» сейчас?
Да.
На экране открылось новое окно, простой интерфейс из трех белых плашек в ряд. Ник кликнул по средней.
Пожалуйста, выберите файл для дешифровки.
Еще два клика — и в центре плашки появилась карта с восемью животными. Эта часть не вызывала затруднений.
Ник глубоко вздохнул и кликнул еще раз. Экран мигнул.
Введите пароль:
Получилось. Ник от радости ударил по столу. Пустая тарелка загремела на пластиковой столешнице. Маленькая девочка за соседним столиком подняла на него удивленный взгляд, а потом снова принялась за свое мороженое. Ник попытался смирить надежду, которая проснулась в нем.
Ключ — медведь.
Ну вот, сейчас ничего и не будет. Он отодвинул тарелку, подтянул к себе компьютер, чтобы не ошибиться при вводе. МЕДВЕДЬ.
Неверный пароль
Введите пароль:
Он попробовал еще раз. Теперь уже строчными буквами. Его дрожащие от волнения пальцы скребли клавиатуру; ему пришлось набирать три раза, прежде чем он уверился, что ввел правильно. Каждый раз один и тот же отказ.
Крушение надежд было невыносимо. Запрос пароля дразнил — пустая иконка, скважина, ждущая правильного ключа. Если бы ему только удалось открыть этот замок… Он пробовал снова и снова, менял заглавные буквы, добавлял цифры — день рождения Джиллиан, даже (хотя он и чувствовал, что это глупо) их годовщину. Ему хотелось пробить дыру в экране, проникнуть сквозь эту стену пикселей и ухватить находящуюся внутри тайну. Узнать ответы на все вопросы, которые за последние тридцать шесть часов вывернули наизнанку его жизнь.
Он включил наушники и снова связался с «Готической берлогой». Видимо, Рэндал искал его. Он появился из ниоткуда в облаке искр через секунду после прибытия Ника.
— Это «Криптик», — сразу сказал Ник. — Программа, — пояснил он на тот случай, если Рэндал не понял, о чем речь.
— Я знаю. Я посмотрел.
— Ее как-нибудь можно взломать?
Пауза.
— Это довольно надежная программа. Тебе не удастся так просто заставить ее работать без пароля. Джиллиан тебе разве ничего не прислала?
— Она написала «ключ — медведь».
Ник набрал этот текст. В «Готической берлоге», залитой лунным светом, Странник вытащил из плаща клочок пергамента и вручил его Некроманту.
— Тут на картинке четыре животных. Может быть это и есть наводка?
Ник переключил программы. Четыре медведя кувыркались со львами в своей цифровой плашке. Один словно копал невидимую нору. Ник кликнул и получил желанный запрос.
Набрал: четыре.
Неверный пароль
Введите пароль:
— А если… — Рэндал задумался. — Ты сказал, что это средневековые карты. Они тогда, кажется, говорили на латинском?
Урзред подошел к пыльной полке и открыл большой том в металлическом переплете, покоящийся на пюпитре. Ник знал, что это действие открыло окно в Сети.
— Ursus, — по буквам прочел Рэндал. — Получается?
Ник попытался — прописными, строчными.
— Нет.
— А как насчет…
Приглушенный звонок мобильника проник в уши Ника и сквозь наушники.
— Подожди. — Он вытащил наушники, принял вызов. — Слушаю.
— Ник, дружище. — Ройс, как всегда, неприятно энергичный. — У нас к вам еще несколько вопросов. Вы бы не зашли?
Ник посмотрел на часы. А Ройс, словно увидев это, добавил:
— Не сейчас. Я сейчас ухожу. Завтра утром. Приводите друга.
Когда Ник вернулся к игре, Урзреда уже не было, а Странник держал в руках пергаментный свиток.
Нужно уходить. Удачной охоты на медведей.
Ник не улыбнулся. Он заказал еще содовой и снова открыл «Криптик». Он пробовал все возможные варианты «медведей» и цифр, какие приходили ему в голову, все комбинации дат. В уголке экрана шел отсчет времени, под стук клавиш утекали секунды. Может быть, Джиллиан в панике ошибочно набрала «медведь»? Мед ведь? Мед ведьм?
— И близко не лежало.
Ник захлопнул крышку ноутбука и знаком попросил у официантки счет. Бросив кредитку на подносик, он взирал в освещенное неоном пространство, пока официантка заправляла карточку в терминал. Запрос пароля впечатался ему в мозг; он знал, что уляжется спать и эта иконка во сне будет плясать перед его глазами.
— Сэр? Извините, сэр?
Официантка вернулась с его кредиткой. Он вытащил ручку, собираясь подписать чек, но чека не было.
— Извините сэр, но ваша карточка не авторизуется. — Говорила она усталым тоном, словно перечисляла фирменные блюда.
Для Ника это было полной неожиданностью.
— Вы можете еще раз попробовать?
— Я пробовала уже три раза. Вам нужно позвонить в банк. У вас есть что-нибудь еще?
— Сколько с меня?
— Двадцать семь долларов семьдесят пять центов.
Он залез в бумажник. Двадцатка и десятка. Вытащил две купюры, положил их на стол. Официантка увидела чаевые и презрительно скривилась.
— Всего доброго.
Оказавшись в номере отеля, он набрал номер телефона на обратной стороне кредитки. Компьютер запросил номер карточки, и Ник набрал его, а потом улегся на кровать слушать долгую музыкальную тошниловку. К его удивлению, оператор ответил почти сразу.
— Чем могу вам помочь, мистер Эш? — спросила она после обычной проверки.
— Я сейчас пытался оплатить счет в ресторане, и официантка сказала, что моя карта не авторизуется.
— Карта аннулирована, сэр.
— Аннулирована?
— Три часа назад поступило сообщение, что она украдена.
— Украдена? — Мысли Ника заметались. — Кто это вам сказал?
На другом конце послышался стук клавиш.
— Вы и сказали, сэр.
Ник распростерся на кровати. Его обуяла слабость, он чувствовал себя тенью, пытающейся постичь то, что ей не по силам.
— Гм… карточки не было в моем бумажнике, и я решил, что ее, вероятно, похитили. Я, видимо, запаниковал. — Удалось ли ему изобразить виноватый тон? — Но я ее нашел. Можно ее теперь снова активировать?
— Извините, но аннулированную карту невозможно активировать снова. Вам следует получить новую в течение семи — десяти рабочих дней.
Ник отключил связь. Его трясло. Как они смогли это сделать — кто уж там эти они, — просто взять, позвонить и аннулировать часть его жизни.
А может, никто этого и не делал. Компании, работающие с кредитными карточками, часто ошибаются, ошибочные карты аннулируются…
А как насчет отеля? Когда он зарегистрировался, они завели его карту в считывающее устройство. Можно ли по этому определить его местонахождение? Если можно, то они узнают, где он. А его сотовый. Безопасно ли пользоваться сотовым? В Нью-Йорке чертова прорва базовых станций — они его вмиг вычислят, если у них есть доступ такого рода.
У них.
Он спрыгнул с кровати. Нужно убираться отсюда. Собирать было нечего, кроме компьютера и одежды, которая влажным комом еще лежала внизу. Он сунул все это в пакет для стирки, найденный им в стенном шкафу, и выключил свет, но потом включил — а вдруг кто-то видит.
Он вышел в коридор. В дальнем конце у лифта перед дверями другого номера стоял в ожидании посыльный с тележкой. Он услышал Ника и поднял на него глаза; смотрел он в его сторону на секунду дольше, чем это было необходимо.
«Может, он один из них? Он что — узнал меня?»
Испытав внезапный приступ смятения, Ник вдруг осознал, как выглядит со стороны: небритый, растрепанный, на одном плече сумка с ноутбуком, на другом — пакет с бельем. Неудивительно, что парень смотрел на него с подозрением.
Невидимый Нику постоялец открыл дверь. Посыльный толкнул тележку в комнату, бросив на Ника еще один подозрительный взгляд. Когда он скрылся, Ник бросился назад в свой номер. Он прижался к стене, дрожа и чувствуя, как капли пота стекают по его лбу.
Он не мог уйти из отеля, не заплатив. Тогда уж Ройс точно упрячет его за решетку. Но без карточки расплатиться не мог, а если они ведут наблюдение за ним по карточке, то сразу же узнают, что он съехал. И куда ему идти? У него есть друзья, но каждый раз, думая о них, он представлял себе Брета, осевшего на стуле. Он не имел права так их подставлять.
Он два раза повернул защелку дверного замка, набросил цепочку и подставил стул под ручку. Убедился, что окна не открываются, потом разделся и забрался в кровать.
Сон долго не приходил к нему, а когда пришел — не принес успокоения. Ему снилось, что он бежит по лесу, густой чаще, словно из «Готической берлоги», он преследовал какое-то существо, а оно, невидимое для него, проламывалось сквозь заросли. Как бы быстро он ни бежал, расстояние между ними не сокращалось. Лес был наполнен звуками, другие звери преследовали то же существо — или они охотились за Ником? Он знал, что среди этих охотников есть и Ройс. Он ускорял бег, поскальзывался на камнях, ветвями раздирал лицо.
Он выбежал на поляну — на длинный луг, заканчивающийся отвесным утесом. И теперь увидел свою добычу — в высокой траве мелькала черная спина медведя, делавшего длинные плавные прыжки.
— Пристрели его, — сказала стоявшая рядом с ним Джиллиан. Он и не видел, как она подошла. — Ключ — медведь.
Он опустил взгляд и увидел ружье у себя в руке. Оно было на удивление тяжелым. У него возникло жуткое ощущение, будто он делает что-то не так, но он даже не понимал, что именно. Он поднял ружье и прицелился в медведя, который свернулся и почесывался, словно и не замечая опасности.
— Бедненький мишка, — сказала появившаяся из ниоткуда Эмили.
Но было слишком поздно: Ник уже нажал на спусковой крючок. Вот только медведь был уже не медведь — это был Брет. Он ударился о стену утеса и упал, истекая кровью.
Когда за окном занялся рассвет, Ник уже несколько часов как не спал. И по-прежнему понятия не имел, что это может быть за пароль.
XX
Париж, 1433 г.
На церковном кладбище стоял человек в плаще и переводил взгляд с арки у него над головой на книгу, которую держал в руке. Любому, кто увидел бы его, — любому, кроме меня, — могло бы показаться, что на его глазах происходит что-то благочестивое, а книга в руках человека, вероятно, Библия или часослов. Но я-то знал: это не так.
Полночи я провел, переписывая книгу при свете свечи, с восторгом вчитываясь во фразы, которые выходили из-под моего пера. Мне нужно было бы передать книгу другому писцу, сказать Оливье, что у меня нет времени, наплевать на жалованье и бежать. Но я не мог. Эти слова вползли в меня, ухватили меня, как и той ночью в Кельне. От Оливье я узнал имя клиента: Тристан д’Анбуаз. Когда он пришел за своей рукописью, я задержался на лестнице в дальнем конце мастерской и, как только он вышел, последовал за ним — до самого кладбища при церкви.
Я наблюдал, стоя за надгробием. Солнце, садившееся за шпилем Святого Иннокентия, отбрасывало длинную тень на его плечи. Семь разрисованных панелей над ним украшали большую арку кладбищенских ворот, установленных Николя Фламелем, магом, который соединил ртуть с красным камнем и получил полфунта чистого золота. Эти картинки возвращались ко мне, как давно забытый сон: король с мечом, крест и змий, одинокий цветок на высокой горе, охраняемый грифонами. На стене сбоку от арки были нарисованы два ряда женщин в цветных платьях, торжественно направляющихся к воротам.
Я оглянулся. Тристан д’Анбуаз исчез. Я и глазом моргнуть не успел, как кто-то грубо обхватил меня за плечи, обездвижил руки. Я почувствовал, что к моей шее приставлен нож. Кожу на щеке оцарапала щетина — он зашептал мне в ухо:
— Кто ты такой? Что ты тут делаешь?
— Я м… молюсь, — прошептал я в ужасе, боясь, что стоит мне запнуться, как он перережет мне горло.
— Ты шел за мной от самой мастерской книготорговца. Зачем?
— Книга, — выдохнул я.
Глаза у меня вращались в орбитах в отчаянной надежде увидеть какого-нибудь дьячка или кюре, которые спасут меня. Но кладбище было пустынным.
— При чем тут книга?
— Я знаю, что ты ищешь. Я… я хочу помочь.
Он убрал нож и развернул меня, держа на расстоянии вытянутой руки, кроме которой нас разделял и его нож.
— Как помочь?
Я впервые увидел его не со спины. Он был красив, с вьющимися волосами и гладкой матовой кожей. В его глазах горел огонь юности. Несмотря на ситуацию, я почувствовал, что в моих чреслах зашевелился давно спящий демон.
— Я учился на ювелира. Я умею делать металлические сплавы и очищать их с помощью ртути. Я умею закалять их порошками, выковывать так, что они становятся прозрачными, умею гравировать на них мистические символы. И я знаю особенности золота.
Нож замер в его руке. Тристан понизил голос, хотя, кроме мертвецов, нас здесь никто не мог услышать.
— И ты знаешь секрет камня?
— Нет, — откровенно сказал я.
Я посмотрел ему в глаза и шагнул к нему — побуждая либо бросить нож, либо пронзить меня. Он опустил клинок.
— Позволь мне помочь тебе.
«После многочисленных ошибок на протяжении трех или около того лет — когда я не делал ничего иного, кроме как учился и работал — я наконец нашел то, что мне было нужно».
Так писал в своей книге Фламель. Я не бился три года, но за шесть месяцев мне удалось обнаружить лишь одни его ошибки. Чем глубже погружался я в тайны искусства, тем больше, казалось, удалялся от него. Но все же не мог оставить мои поиски. Поначалу я помогал Тристану один или два вечера в неделю, но в те первые хмельные дни наш прогресс казался быстрым, а успех неминуемым. Потом вечера уступили место долгим ночам, когда мы потели у плавильной печи, оба обнаженные по пояс. Наконец наступал рассвет — и я тащился назад в дом Оливье. От недосыпа глаза у меня сделались ненадежными. Рукописи из-под моего пера выходили корявые, неровные, слабые подражания замечательным образцам, выставленным у двери. Оливье, вычитывая мои работы, расходовал на них столько чернил, что я краснел от стыда.
В конечном счете он дознался, что я почти не сплю. Поймав меня в первый раз, когда я на рассвете незаметно пытался прокрасться на свое место, он меня предупредил, чтобы это больше не повторялось. Во второй раз пригрозил выгнать меня из дома. В третий раз воззвал к моему разуму, сказал, что я гублю свою жизнь. Его доброта была для меня хуже, чем если бы он гневался. В глубине души я понимал: он прав.
На следующий день я ушел от него. Тристан предоставил мне комнату в своем доме, и там я все свое время посвящал разгадке тайны Фламеля. Спал я, только когда начинал валиться с ног от усталости, ел мало, а дом покидал крайне редко; соседи, вероятно, считали меня призраком. По прошествии шести недель я понял, что, по существу, я пленник.
XXI
Нью-Йорк
Они снова были в той же комнате полицейского управления со складными металлическими стульями и пластиковым столом. На этот раз дверь была открыта и за ней виден коридор, в котором все время мельтешили люди. Может быть, поэтому комната казалась более безопасной. Возможно, это было сделано специально для Сета Голдберга, которого Ник привел с собой. И почему раньше он приходил без адвоката? Но ведь он и не думал, что ему придется в чем-то оправдываться.
Сет сидел за столом и просматривал бумаги в своем портфеле. Нику адвокаты всегда представлялись своего рода волшебниками, мудрыми, седобородыми, ворчливо-добродушными, — но Сету было лишь немногим за тридцать, и он вполне мог учиться одновременно с Ником. Правда, если судить по характеру, то разница в возрасте между ними могла составлять лет десять. Если Ник ощущал себя вечным мальчишкой, опасающимся быть выгнанным из бара, то Сет распространял вокруг себя ауру уверенности, которая, казалось, производит впечатление на всех, с кем он имеет дело. Они познакомились в Нью-Йоркском университете, знакомство было шапочное — какие-то общие приятели и интерес к софтболу. Ник и представить себе не мог, что в один прекрасный день они окажутся в полицейском участке в качестве клиента и адвоката.
Ник выглянул в дверь и потрогал свежий порез у себя на подбородке. Первым делом Сет тем утром купил Нику завтрак. После этого отправил его в магазин на другой стороне дороги купить бритву и гель для бритья, после чего настоял, чтобы Ник воспользовался этим в многолюдном туалете кафе.
— Правило номер один: ты невиновен лишь в той мере, в какой выглядишь невиновным. Если запись твоего допроса принесут в суд и двенадцать присяжных увидят, что ты похож на Унабомбера,[16] то они и слушать тебя не станут.
— А как насчет того, что нельзя судить о книге по обложке?
— А ты когда-нибудь покупаешь книгу с паршивой обложкой?
Дверь хлопнула о стену, и в комнату влетел Ройс. Сегодня на нем снова был серый костюм, но в тонкую белую полоску, отчего он стал похож на биржевого брокера.
— Спасибо, что пришли. Мы вас долго не задержим.
Ройс сел и дождался, когда техник установит камеру.
— Мы говорили с парнишкой ваших соседей. Он подтвердил, что видел вас в коридоре приблизительно во время выстрела.
— В то время, когда раздался выстрел, — поправил его Ник.
— Он не смог подтвердить присутствие человека в маске, о котором вы говорили, потому что, услышав выстрел, убежал в свою квартиру. Но он слышал шаги.
Впервые после звонка Брета Ник ощутил, как узлы, завязавшиеся в его нутре, начинают распутываться. Он откинулся к спинке, испытывая такое облегчение, что почти не слышал разглагольствований Ройса о других направлениях расследования, потенциальных связях, различных гипотезах. И только услышав имя…
— Не могли бы вы описать ваши отношения с мисс Джиллиан Локхарт?
Ник моргнул. Имя Джиллиан даже теперь вызывало у него физическую реакцию. Какая-то его часть всегда была готова говорить о ней, даже отчаянно жаждала этого, как жаждет разговора грустный пьяница в баре. Сет стрельнул в Ника взглядом, говорившим: «Будь осторожен».
— Я познакомился с Джиллиан около года назад в поезде. Мы разговорились. Я дал ей свой телефон, мы созвонились, в конечном счете мы начали…
Что начали? У Ника и прежде были девушки, и для характеристики отношений с ними имелись точные слова, каждую фазу можно описать и проанализировать в серьезном разговоре. «Свидания. Постоянные партнеры. Живем вместе. Женаты. Разведены». Полная систематизация. С Джиллиан все происходило как-то сумбурно.
— Мы сошлись.
Ройса это не устроило.
— Между вами были сексуальные отношения?
Ник покраснел. Он словно опять вернулся в летний лагерь, где зеленые юнцы по ночам отчаянно хвастались в спальнях, рассказывая, кто и кого. Он бросил взгляд на Сета, тот в ответ пожал плечами.
— Да.
— Вы жили вместе?
— Джиллиан жила у себя. Где-то в Ист-Сайде. Она снимала комнату с какой-то ужасной особой… в общем, мы туда никогда не ездили.
Это была еще одна рана. Он эмоционально всегда опережал ее на шаг, всегда был готов брать на себя обязательства. Но она оставалась непреклонной. «Ник, мне нужно собственное пространство. У меня уже есть печальный опыт. Я должна проходить все этапы медленно». И он поклялся себе, что докажет ей: он не такой, как другие, она может ему доверять.
— И чем она занималась в то время?
— Она работала хранителем в музее «Клойстерс». — Ник готов был спорить, что Ройс никогда там не бывал. — Это в Форт-Вашингтон-парке. Там, где Метрополитен-музей хранит свои средневековую коллекцию.
— А мисс Локхарт была знакома с вашим приятелем Бретом Диэнджело?
Ник посмотрел на Сета, который кивнул и сделал пометку в желтом блокноте.
— Конечно. Мы с Бретом уже снимали эту квартиру, когда я начал встречаться с Джиллиан.
— Они ладили?
— По-моему, да.
Хотя квартира была маленькой и Брет редко ее покидал, Ник мог припомнить лишь два-три случая, когда они оказывались там вместе. Он помнил всю неловкость подобных моментов: Брет старался, чтобы никто не увидел, как он разглядывает грудь Джиллиан, Джиллиан, словно деревянная, сидела на койке, а Ник суетился, пытаясь сломать лед дурацкими шутками. В остальных же случаях, когда появлялась Джиллиан, Брет каким-то образом умудрялся становиться невидимым. На протяжении большей части этих шести месяцев. Нику только теперь пришло в голову, что Брет оказывал ему услугу.
— Когда вы в последний раз видели мисс Локхарт?
— В прошлом июле.
Двадцать третьего июля около половины одиннадцатого.
— Она вас кинула? — И опять неожиданная подростковая грубость.
Ник дернулся, но Сет прореагировал моментально.
— Не могли бы вы перефразировать этот вопрос, детектив?
Ройс поправил галстук.
— Ваш разрыв был болезненным?
— Нет.
Он часто ругался с Джиллиан. Иногда ему казалось, что она намеренно его провоцирует, ведь тяга к театральности была у нее в крови. Она грозила уйти от него, и он до четырех ночи упрашивал ее передумать. В других случаях казалось, будто просто происходит извержение при столкновении или расхождении двух тектонических плит, это могло продолжаться целыми днями. В такие дни он был сам не свой.
Но когда она ушла от него, никаких ссор не было. Она приготовила ему обед, стала дразнить его по поводу новой прически, улеглась с ним в постель. Весь вечер она была какая-то подавленная — необычно, но ничего из ряда вон выходящего. На следующее утро он проснулся один и нашел записку на подушке.
«Прощай. Дж.»
Никаких извинений, никаких объяснений, ни слез, ни возможности все переиграть. Продолжавшаяся шесть месяцев связь была оборвана в одну ночь.
— Вы пытались после этого найти ее? — спросил Ройс.
Ник неловко заерзал на стуле.
— Несколько раз.
Он не хотел возвращаться к этим воспоминаниям: темные дни безответных телефонных звонков, имей лов, написанных, переделанных и неотправленных, обедов, которые он забывал съесть, работы, которой он не мог заставить себя заниматься так долго, что даже Брет начал волноваться.
— Внесем окончательную ясность — когда вы в последний раз общались с мисс Локхарт?
— В прошлом июле. А потом — никаких контактов, пока я не получил от нее этого видеовызова три дня назад.
— Так вы не знали, что она уехала в Париж и устроилась в аукционный дом?
— Я узнал об этом, когда получил от нее это послание.
— Но при этом на протяжении предыдущих шести месяцев вы не предприняли ни одной попытки выяснить это?
— Я забеспокоился. Я же вам говорил, что увидел на компьютере.
Ройс подался к Нику.
— И тогда вы с вашего сотового позвонили мисс Локхарт? Приблизительно за час до убийства Брета Диэнджело?
Комната стала более тесной, свет слишком ярким.
— Я узнал номер телефона ее офиса в Париже и позвонил туда.
— Разница во времени у нас с Парижем шесть часов. Вы и в самом деле предполагали найти ее там?
— В аукционном доме мне сказали, что у них в Париже вечерние торги. И я решил попробовать. Можете проверить это у Стивенса Матисона, если хотите, — добавил он.
Судя по взгляду, который бросил на него Сет, сделал он это не очень удачно, словно оправдываясь.
Ройс продолжал гнуть свою линию.
— И что же — стоило?
— Что стоило?
— Попробовать.
— Ее там не было, если вы об этом спрашиваете.
— Но с кем-то вы говорили? С кем-то, кто может подтвердить ваш рассказ?
— Не запомнил его имени. Да кажется, он и не назвался. Похоже, это был англичанин.
— Мы это выясним, — бросил Ройс и продолжил: — Так вот, когда мисс Локхарт связалась с вами по электронке…
— Через «Базз», — поправил его Ник.
— Да. Та самая штука, с помощью которой вы шпионили за вашим приятелем.
Сет поднял авторучку в безмолвном протесте.
— Ладно, она, значит, связалась с вами через «Базз». Правильно я понял?
Ник кивнул.
— Она прикрепила что-нибудь к своему посланию?
Ройс пытался говорить небрежно, но нейтральный тон ему плохо давался.
«Он знает, — подумал Ник. — Я ему говорил или нет?»
Кажется, нет. Видимо, они просматривали содержимое его ноутбука.
Смысла скрывать не было.
— Она прислала файл — изображение средневековой игральной карты. — Он предвидел следующий вопрос и предупредил его. — Я понятия не имею, что это значит. Хотелось бы мне знать.
Безнадежность в его голосе, казалось, притормозила Ройса. Сет воспользовался этим.
— Мой клиент откровенно отвечал на все ваши вопросы. Не могли бы и вы сообщить ему, чем вызван ваш интерес к его прежней знакомой.
Ройс встал.
— Я думаю, мистер Голдберг, нам с вами следует поговорить минутку с глазу на глаз. — Он открыл дверь и жестом попросил Ника выйти. — Всего на минутку.
На самом деле это продолжалось целых десять минут. Ник наблюдал за ними сквозь стекло в двери, проводки в армированном стекле показались ему решетками тюремной камеры. Он увидел, что Сет и Ройс поднялись, о чем-то напряженно споря через стол. Когда они закончили, за ним вышел не Сет, а Ройс.
— Ваш адвокат хочет поговорить с вами. — Он ухмыльнулся. — Я буду у кофейной машины.
Ник вернулся в комнату. Видеокамера была выключена. Сет устало вздохнул.
— Они хотят, чтобы ты сдал им паспорт. Опасаются, что ты улетишь за границу. Они, кажется, заморочились этим твоим телефонным звонком в Париж за час до убийства Брета.
— Неужели они считают, что я нанял какого-то француза и хотел убить беднягу Брета?
— Не так громко. — Сет посмотрел на окна. — Правило номер один: никаких саркастических замечаний в полиции. Это же распространяется и на иронические замечания. Сарказм и ирония — лакомые кусочки для обвинения, они их нарезают и подают присяжным в лучшем виде. Все это дело сущий кошмар. Нужно было тебе поговорить со мной, прежде чем что-то им рассказывать. В особенности эту историю про киллера на крыше. И ты думал, они тебе поверят?
— Так все и было, — возразил Ник.
— Я же тебе не об этом говорю. Ройс убежден, что ты либо чокнутый, либо закоренелый преступник. Единственное, почему они тебя не арестовывают, из-за показаний восьмилетнего мальчишки. Брет для защиты не лучший субъект. И на Джиллиан они тоже что-то накопали.
— Что? — У Ника закружилась голова. Неужели полиция взломала картинку? Что еще у них есть?
— Я сделал для тебя максимум возможного, — говорил Сет. — Ройс был готов немедленно тебя арестовать. Я убедил его пока не горячиться. Эта договоренность с паспортом — компромисс.
— Паспорт у меня в квартире. Они меня туда впустят?
— Я пойду с тобой.
XXII
Париж, 1433 г.
Жилище Тристана представляло собой целый дворец: огромный каменный дом неподалеку от церкви Сен-Жермен. Впрочем, он мог бы находиться где угодно — стоило вам войти в ворота, как город низводился до отдаленного дымного облака и шпилей за стенами. Отец Тристана играл заметную роль при дворе короля Карла, который отправил его с каким-то дипломатическим поручением в Константинополь. Он отсутствовал уже несколько месяцев, и его возвращения в ближайшем будущем не предвиделось. Он взял с собой жену, двух дочерей и большую часть домочадцев, оставив Тристана в почти пустом доме и со строгим наставлением вести себя подобающим образом.
Отец Тристана опасался, как бы его сын не связался с проститутками, бездельниками и игроками, и для таких опасений у него были все основания. Если бы тайну камня можно было раскрыть с помощью блуда или выиграть в карты, то Тристан получил бы желаемый результат в течение месяца. Но шлюхи, пьянство и азартные игры лишь отвлекали его от истинной цели. Он понимал, что при трех старших братьях и двух сестрах, которым в скором времени понадобится приданое, дни его шикарного житья в доме-дворце были сочтены. Это знание, казалось, разрывало его пополам, приводя две части души в состоянии войны друг с другом. Он проматывал свое наследство с еще большим неистовством, предавался блуду и азартным играм с одной-единственной целью — бросить вызов отцу. Но еще он искал философский камень, пребывая в безумной убежденности, что тогда ему не нужно будет думать об отцовском наследстве.
Тристан оборудовал лабораторию в башне, которая несколькими годами ранее была пристроена к восточному крылу. Когда он привел меня туда в первый раз, у меня перехватило дыхание. При той архитектурной рассеянности, которую может себе позволить только аристократия, внутри башня так и не была завершена: стоя на земле, ты видел крышу так высоко, что она, казалось, уходила в бесконечность. Широкие окна для комнат, так и не построенных, врубались в каменные стены наверху, а на нашем уровне стены были расписаны идеальными копиями с панелей Фламеля в Святом Иннокентии. Лишь кирпичная печь вдали и дверь напротив нарушали ровную поверхность стены.
Тристан указал в головокружительную темноту.
— Подходящее место для разгадки божественных тайн.
Я вспомнил о Николае и Вавилонской башне. «Тот грех, за который Господь наказал, есть не амбиции, а чрезмерные амбиции».
Тристан был напарником, лишенным чувства юмора и раздражительным — не хозяин и не друг. Но мне было все равно. Я снова вернулся в свою стихию. Я был одержим одним — разгадкой тайн Фламеля. Та лихорадка, что обуяла меня в Кельне, возвращалась, а с ней и другие чувства, противиться которым оказывалось труднее. Тристан не нравился мне. Иногда я его ненавидел. Но в те жаркие ночи, когда мы, полуобнаженные, работали у плавильной печи или когда его рука касалась моей, протягивающей ему ступку для перетирания порошков, червь во мне загорался порочной похотью. Эта башня стала моей тюрьмой. Картины Фламеля были моими горизонтами, темная крыша наверху — небесами, летучие мыши и ласточки, гнездившиеся на стропилах, — ангелами.
Как-то раз Тристан, пребывавший в сильном возбуждении, привел в нашу мастерскую сгорбленного старика. У того были седые волосы до плеч и седая борода, ниспадавшая на грудь. Он опирался на палку и двигался словно лодка по воде — отталкивался своим багром от дна. Слепота заволокла его глаза, но в манере держать себя чувствовалась сила и какая-то настороженность.
Тристан посадил его на скамью посреди всех наших приспособлений и подал ему вина.
— Это мастер Ансельм, — сказал он. — Сколько тебе лет?
— Семьдесят восемь. — Голос старика был тонкий, но, заговорив, он улыбнулся.
— Скажи моему другу то, что ты говорил мне в Святом Иннокентии.
— Много лет назад — когда еще был жив мой отец, упокой Господь его душу, — я, будучи молодым и полным энергии, погрузился в изучение тайн искусства. Как вы теперь. И это так понравилось Господу, что я встретился с величайшим знатоком того времени — любого времени, — с человеком, который затмевал всех нас так, как солнце затмевает луну. С Николя Фламелем.
Я весь напрягся. Даже фигуры на росписях, казалось, выпрямились.
— Ты знал Фламеля?
— Я сидел в его мастерской, как теперь сижу в этой.
— И долго?
— Много лет. Он умер, упокой Господь его душу, вот уже пятнадцать лет как.
— И вы присутствовали, когда он получал золото?
Старик покачал головой. Вино попало ему на бороду, отчего его рот стал похож на окровавленную рану.
— Перенелла, его возлюбленная жена. Только она видела это.
— Но потом, — подсказал ему Тристан, — она сообщила тебе тайну?
Мастер Ансельм пригубил еще вина. Тристан ждал.
— Искусство — не магия. Ты знаешь, что такое на самом деле философский камень? Это эликсир, средство против всего больного.
Он поднял левую руку, и я увидел, что она маленькая и засохшая, совершенно беспомощная.
— Эта конечность все еще остается частью меня, какой бы увечной она ни казалась. Душа, которая объединяет мое существо, протекает по всему моему телу и сквозь эту руку. Так же и с металлом. То, что вы называете свинцом или оловом, по сути то же золото и серебро, только менее совершенные.
В этой вселенной имеется одна совершенная субстанция — эфир, квинтэссенция, первоматерия — называйте ее как хотите. Она обретает форму, только соединяясь с материей этого мира. Это принцип, идея, которая все оживляет. Сильнее всего она проявляется в благородных металлах и слабее всего в цветных металлах. Невозможно превратить свинец в золото, как уличный маг превращает яйцо в котенка. Его нужно очистить. Его нужно соединить с философским камнем, чтобы проросло семя, заключенное в металле, чтобы в гармонии законченности металл мог принять любую форму по твоему желанию. Не ради богатства или сокровищ, а ради совершенства вселенной.
Тристан, который мог воспламеняться и гаснуть, как угли в жаровне, подозрительно посмотрел на высохшую руку Ансельма.
— Я слышал, что камень излечивает от всех болезней. Если ты так хорошо знал Фламеля, то почему не излечил свою руку?
Старик закашлялся.
— Я — всего лишь слабое существо. А камень имеет безмерную ценность. Я не стал бы расходовать его на столь скромные цели. Сам Фламель считал, что при правильном использовании камень воздействует на человеческие формы необычайно сильно, и человек в результате даже может обрести бессмертие. Но он так и не раскрыл тайны этого искусства.
— Судя по всему, — сказал Тристан.
— Но как он обнаружил камень? — Я потер пузыри на руках — нередко я слишком спешил выхватывать горячие сосуды из огня. — Я читал, что его можно получать из золота.
— Да. Да. Абсолютно верно, — сказал он, брызгая слюной. Часть слюны он собрал, облизав губы. Язык у него был воистину громаден. — В золоте его больше всего. Но даже золото — лишь грязь под ногами в сравнении с камнем. Оно должно быть очищено в трех плавильнях. Из него необходимо извлечь крупицы серы и меркурия, а потом соединить их в герметическом сосуде. И Фламель сделал это.
— Но как…
— Нужно следить за цветом. В огне он будет меняться семь раз, пока в момент совершенства не обретет сияния радуги. Это и есть знак.
Тристан вскочил на ноги. Мастер Ансельм испуганно дернул головой.
— Ты лжец. Убирайся. — Тристан ударил ногой по столу — кувшины, бутыли и реторты, стоявшие на нем, закачались и задребезжали. — Ты думал, что можешь прийти сюда и пересказывать полузабытую ложь из Фламелевой помойки… если только ты на самом деле знал его? Убирайся из моего дома.
Он схватил Ансельма за плечи и толкнул к двери. Если бы я не стоял там и не подхватил его, то старик вполне мог бы сломать себе шею.
После происшествия с мастером Ансельмом Тристан две недели пребывал в странном настроении. Однажды, придя в башню, я увидел его над осколками разбитой бутыли. Из запястья у него сочилась кровь, а когда я попытался перевязать ему руку, он сердито оттолкнул меня. Он все чаще проводил ночи со шлюхами. Иногда приглашал и меня присоединиться, поначалу полушутя, пока считал, что я могу принять приглашение, а потом со злобным удовольствием — когда понял, что никуда я не пойду. Он называл меня монахом, когда был в настроении, и евнухом, когда настроение у него портилось, хотя так никогда и не дознался до истинной причины моего воздержания.
Может быть, мастер Ансельм и был мошенником, который наведывался к Святому Иннокентию и кормился мечтами тех, кто приходил узнать о личности Фламеля, но была в его россказнях какая-то убедительность, нить, ведущая по лабиринту. Я шел по ней день за днем, иногда натягивая ее чуть не до разрыва, иногда мысленно запутываясь в узлах. Понемногу я начал прозревать.
Всю жизнь я был одержим золотом. Даже упав на самое дно, я выуживал драгоценные песчинки из речного ила, хотя в Базеле я и пытался отрешиться от этого наваждения. Но вот теперь я понял, что меня, в отличие от других людей, зачаровывал не блеск золота. Даже в своем невежестве я заглядывал под его поверхность и чувствовал, что в нем содержится некая божественная вселенная. Я ощущал это в совершенстве гульдена, в золотых пластинках, которые ковались в мастерской Конрада Шмидта и в мудрости Николая Кузанского.
Я знал, почему одержим всем этим. Потому что я мог представить себе совершенство не только во сне, но и в реальности и понимал: мир не станет цельным, пока я этого совершенства не достигну.
Я удвоил усилия. Пока Тристан предавался своим сомнительным удовольствиям, я отправился к Святому Иннокентию с книгой Фламеля.
«На церковном кладбище, где я расположил сии иероглифические фигуры, — писал Фламель, — я также изобразил на стене процессию, в которой по порядку представлены все цвета камня так, как они появляются и исчезают».
Стенная роспись в башне Тристана представляла собой те же семь картин, что были изображены в книге. Но были и другие, которые он потрудился скопировать, — женщины по обе стороны арки, идущие процессией к центру.
Я разглядывал их в том свете, о котором говорил мастер Ансельм.
«Из него необходимо извлечь крупицы серы и меркурия».
К тому времени я уже знал, что сера и меркурий — не вещества, обычно так называемые, а хитроумные названия мистических элементов, двух противоположных принципов тепла и холода.
«Нужно следить за цветом. В огне он будет меняться семь раз».
Я пересчитал женщин в процессии — по семь с каждой стороны. Разглядывая их, я начал понимать, что все они одинаковы. Они были изображены с большим искусством, и ни одна не была точной копией другой: некоторые были обращены лицами к кладбищу, другие смотрели в сторону или прямо перед собой, улыбались, хмурились, смеялись, пребывали в безутешном горе, но при этом все они были воплощениями одной и той же женщины, отличаясь только по цвету и длине волос. Иногда волосы были белы, как луна, иногда — черны, как ночь. Иногда они были каштановые, золотистые, янтарные, медово-желтые или серые, как сталь. И каждую процессию возглавляли одинаковые женщины, улыбающиеся всезнающей улыбкой, они взирали друг на друга сквозь пространство арки, рыжие, подобно коре кедра. Цвет камня.
И тогда я принялся рыскать по аптекам и осваивать премудрости аптечного дела. Я искал ученых мужчин и женщин. Я размышлял над книгой Фламеля, пока не вызубрил ее назубок и мог хоть во сне нарисовать все эти фигуры. Я отыскивал смысл загадок, разглядывал картинки, пока не обнаруживал новые пласты понимания. Я плавил, соединял, закаливал и кипятил. Я узнал о свойствах металла больше, чем смог бы узнать за семь лет обучения у Конрада Шмидта. Совершая множество ошибок и отклоняясь в сторону, я все же продвигался следом за Фламелем.
На этом пути я сделал несколько любопытных открытий. Я обжег окись свинца, раскислил ее окисью цинка и получил жидкость черную, как смертный грех, но очень быстро высыхавшую. В другой раз я сплавил свинец, сурьму и олово и получил великолепный новый металл, который легко плавился над огнем, но, остынув, становился твердым, как сталь. Когда я показал его Тристану, тот только хмыкнул и спросил, приблизило ли это нас к камню.
То было нелегкое для меня время. Когда усталость или мелочная жестокость Тристана доводили меня чуть не до слез, я проклинал свою судьбу и впадал в отчаяние. Какой злой демон гнал меня? Десять лет я пытался излечиться от непомерных желаний, это были годы мучений и усмирения плоти, которые привели меня наконец в речной ил. В Базеле я был счастлив, живя в келье и зарабатывая себе пропитание пером, ведь я считал себя преданным слугой честолюбивых устремлений людей более достойных. Случайная встреча и одно предложение в книге положили конец всему этому. Я чувствовал себя так, будто пробираюсь по темному туннелю с непомерным грузом на спине и цепями на щиколотках.
Но я продвигался вперед. По мере того как я находил способы окрашивать золото по схеме Фламеля, оно становилось черным, потом бронзовым, потом мутно-серым, потом винно-красным. Серебро дольше противилось моим усилиям, но после недели разочарований сдалось и оно. Наконец однажды ночью в конце ноября я поднял мой пестик и, дрожа, увидел рыжеватый порошок цвета кедровой коры.
Я взял несколько крупиц на кончик пальца и, поднеся к лампе, увидел, что они очень мелкие, как пыль, почувствовал их сладковатый запах, но они были сухими, словно соль. И их было до отчаяния мало. Все эти недели труда свелись не более чем к щепотке порошка.
Я накрыл ступку перевернутым кувшином, взял лампу и отправился за Тристаном. В доме стояла темнота, скрывавшая всю его запущенность. По мере того как росла стоимость наших экспериментов, Тристан распускал слуг, и в конечном счете мы остались одни в нашем убожестве. Похожий на пещеру дом стал еще более устрашающим. В паутине, куда не достигал свет моей лампы, резвились крысы; жуткие существа следили за мной с настенных гобеленов. Раз я споткнулся о деревянную табуретку и чуть не умер от ужаса. Мрачное изнеможение сковывало мои члены, но в то же время душа ликовала, упиваясь величием момента.
Тристана я нашел в постели. На нем распростерлась костлявая проститутка. Оба были голые и полусонные. Я видел чешуйки от блошиных укусов на ее ногах, в волосах у нее шевелилось что-то похожее на вшей. Слуги явно были не единственным пунктом экономии Тристана.
Он приподнялся на локте. Проститутка скатилась с него, демонстрируя пару тощих грудей и густые волосяные заросли.
— Все-таки надумал к нам присоединиться? — усмехнулся Тристан.
— Я получил искомое.
Он оттолкнул шлюху, вскочил с кровати, сбил ногой стакан с вином, стоявший на полу. Схватив отцовский меч, покоившийся в ножнах на полке, он сказал:
— Ты уверен?
— Есть только один способ подтвердить это.
Мы вернулись в башню под загадочные взгляды фламелевских фигур. Над нами распростерлась черная бездна. Я молча высыпал порошок на сложенный лист бумаги. Я заранее решил сохранить какую-то часть на тот случай, если первая проекция окажется неудачной, но порошка было так мало, что я боялся потерять хоть гран. Я скрутил бумагу и запечатал воском. На скамье лежало серебряное зеркало еще с тех времен, когда я пытался поймать солнечные лучи; я посмотрел в него и ужаснулся. Кожа у меня посерела, волосы поредели, а глаза запали так, что их почти не было видно. Кожа на руках стала розовая и блестящая, гладкая, как у младенца, после всех ожогов, полученных мною в спешке. От брызг купоросного масла на щеке появился крестообразный шрам.
Тристан принес яйцеобразный сосуд дутого стекла — тигель, наполнил его порошкообразным свинцом, отмерив нужное количество на весах, потом опрыскал несколькими каплями ртути. После этого он закрыл тигель хрустальной пробкой, обжег края свечой. Пока он делал это, я набросал угли в топку и принялся работать мехами. Я смотрел, как изменяется цвет пламени от красного к оранжевому, потом к ярко-белому, на который и смотреть-то было больно. Увидев этот цвет, я понял, что мы готовы.
Я взял стеклянное яйцо железными щипцами и поместил его в самое пламя. Тристан положил руку мне на плечо и подался вперед. Хотя ночь была холодной, с нас лил пот.
— Сколько на это уйдет времени?
— Мы увидим, когда наступит этот момент, — сказал я.
Он стоял и смотрел, наши тела так плотно прижимались одно к другому, что наш пот смешивался. Я почти не замечал этого. Из металла в стекле начал выделяться пар. Свинец размягчился и стал пузыриться, впитывая в себя ртуть.
Я отодвинулся от Тристана и принялся работать мехами, раздувая пламя до нового неистовства. Жар обжигал мне лицо, в башне клубился дым. Тристан отошел в сторону, закрыв глаза руками, но я, как прикованный, стоял у печи.
Что-то мелькнуло в стекле, и я понял, что время пришло. С помощью кочерги я выбил хрустальную пробку, потом поднял щипцами свернутую бумажку с порошком и швырнул ее в печь. Она прошла сквозь дверцу, упала на кипящий металл в тигеле и загорелась. Возникло чистейшее, белейшее пламя, словно солнечный луч на снегу. Когда пламя погасло, я увидел ауру, светящийся венец, наполнивший тигель разноцветьем. Радуга.
Я вскрикнул, повернувшись к Тристану. Он, видимо, тоже видел это и потому подбежал ко мне. Общими усилиями мы вытащили тигель из огня и ровно поставили его на пол. Тристан обнажил меч, поднял его и ударил. Стеклянное яйцо треснуло пополам и распалось. Сквозь дым и пот, которые жгли нам глаза, мы смотрели на то, что создали.
XXIII
Нью-Йорк
Возвращение в квартиру оказалось еще неприятнее, чем он предполагал. Полицейский, дежуривший у дверей, был уже предупрежден и выдал им резиновые перчатки и бахилы, потом поднял ленту, натянутую поперек двери. Ник и Сет поднырнули под нее и вошли в гостиную.
Ник понял, что в последний раз видел эту комнату через окно «Базз». Он посмотрел на стол Брета, потом туда, куда была направлена веб-камера, пытаясь понять, где стоял киллер. Компьютер Брета исчез, как и стул, к которому был привязан бедняга. Исчезло, к счастью, и тело, хотя на полу остались пятна, возможно, кровь Брета. Как долго сохраняют в неприкосновенности улики на месте преступления?
Он прошел в свою спальню. Полиция, видимо, побывала и здесь, кавардака не было, но привычный порядок нарушился — кое-что явно вынимали из упаковок, а потом засовывали обратно. Он хотел сесть на кровать, но передумал. Все его тело сжималось от боязни оставить след на том, к чему он прикоснется. Он присел перед прикроватной тумбочкой, вытащил ящик. Кожаный дорожный бумажник — подарок родителей к окончанию университета — лежал у задней стенки под обычным хламом: лосьоны после бритья, дешевые книжки и презервативы. Он вытащил паспорт, потом сунул бумажник в карман пиджака. Никогда не знаешь, что может понадобиться. С обложки паспорта на него взирал золотой орел со связкой стрел в когтях.
— Ник?
Он задвинул ящик, повернулся, пытаясь не выглядеть виноватым. Сет стоял в дверях, за ним полицейский, глядя через его плечо. Видели они, что он сделал? Выпячивается ли бумажник в его кармане?
— Нашел. — Голос его прозвучал безжизненно в погруженной в тишину квартире. Он кинул паспорт Сету. — Идем.
Он в последний раз окинул взглядом комнату. Свернутый носок лежал на полу в том месте, где он оставил его три дня назад. Журнал был открыт на той статье, которую он читал за обедом в тот вечер. Две помятые рубашки, которые собирался погладить, висели на дверце стенного шкафа. Его прежняя жизнь. Он вспомнил статью, которую когда-то читал в «Нэшнл джиографик», о пещерном человеке, замерзшем в Альпах. Он идеально сохранился, вплоть до горстей ягод, зажатых у него в руках. Ученые пришли к выводу, что он заснул рядом с ледником и надвигающийся лед поглотил его. Ник часто вспоминал о нем. Понимал ли он, что с ним происходит? Был ли момент, когда он пробудился и понял, что находится в ловушке? Был ли лед достаточно прозрачен, видел ли он залитый солнцем мир за пределами ледяного панциря? Кричал ли он, или же лед заморозил его легкие?
Ник кинул взгляд на будильник у кровати, чтобы сориентироваться во времени, но даже часы стали жертвой чар, околдовавших комнату. 00:00.00:00.00:00. Синие цифры подмигивали ему, дразня своим безвременьем. Вероятно, полицейские вытаскивали шнур из сети, обыскивая комнату.
— Идем. — Сет ждал его.
Ник медленно двинулся к двери, пытаясь впитать в себя как можно больше воспоминаний. В этот момент он и увидел фотографию Джиллиан. Она стояла на туалетном столике, почти невидимая за склянками и аэрозолями. Он так и не собрался убрать ее. Он протянул руку, чтобы взять и рассмотреть получше.
— Не делай этого, — сказал Сет, размахивая паспортом. — Ты и так уже достаточно помог полиции.
Ник не пользовался паспортом со времени своего возвращения из Берлина полтора года назад. Он даже не знал, действителен ли еще этот документ. Но теперь, отдав его, почувствовал себя словно в ловушке, как если бы отдал тюремщикам ключи от своей камеры. Запертый в городе, он не имел возможности попасть к себе домой. Почти.
Пойти ему было некуда, а потому он просто бродил по улицам. За день температура упала, по радио прогнозировали снег. Из-под крышек люков вырывались клубы пара. Продавцы на гаитянской улице пытались всучить ему лопатку и кожаные перчатки. Бетонное небо отражалось в зданиях.
Он знал, что ему нужно в банк, но откладывал это, одна только мысль об отказе, о новых подозрениях вызывала у него страх. Он придумывал, чем бы еще заняться — разглядывал витрины универмагов, заходил в книжные магазины и листал там журналы со стеллажей. При одном из них была кофейня — он порылся у себя в сумке и наскреб на эспрессо.
В кофейне было жарко и многолюдно. Пустого столика Ник не нашел, и ему пришлось сесть рядом с молодой женщиной, которая просматривала трехдюймовую стопку модных журналов. Когда он сел за столик, она смерила его уничижительным взглядом, после чего вообще не обращала на него внимания.
Он водрузил ноутбук на уголок стола и включил его. У него были какие-то смутные соображения о том, что нужно бы поработать, но большая часть его файлов находилась на сервере ФБР, а остальная — в полицейском участке на Десятой улице. Он неизбежным образом вернулся к карте — принялся расковыривать рану, которая и без того саднила. Ключ — медведь. Вот только медведь не был никаким ключом. Как и гризли, панда, коала, белый медведь, бурый медведь и все остальные…
Ник вышел из программы. Голова начинала болеть. Он порылся в сумке — нашел там десять центов, но таблеток не было. В квартире у него оставались таблетки, но он сомневался, что Ройс пустит его еще раз на место преступления. Он даже представлял себе этот разговор. «У вас привычка к таблеткам? Вы продавали наркотики мисс Локхарт? Почему вы держите ее фотографию у себя на столе, если — по вашему собственному признанию — вы с ней расстались полгода назад?»
Фотография. Он открыл новую папку на экране. В реальном мире она была бы покрыта пылью и пожелтела по краям, возможно, на ней было бы несколько слезных подтеков. Но в цифровом царстве это была одна из дюжины идентичных иконок, такая же свежая и безупречная, как и в тот день, когда он ее создал. Внутри лежало десятка два фотографий, выстроенных в идеально ровные ряды, словно бабочки, приколотые иголками, — все, что у него осталось от Джиллиан. Для женщины, которая может познакомиться с мужчиной в пустом вагоне поезда, она была на удивление застенчивой, оказываясь перед объективом фотоаппарата. Он нажал кнопку «слайд-шоу», и фотографии стали сменять одна другую. Шесть месяцев его жизни пробежали на экране менее чем за минуту.
Фотография, сделанная в его комнате, была из последних. Он точно помнил, когда сделал ее. Он вышел запереть дверь на задвижку, а когда вернулся в спальню, Джиллиан лежала, свернувшись калачиком на кровати, в одной старой университетской футболке, которой она пользовалась как ночнушкой. Это было не то чтобы совсем необычно, но что-то в этом зрелище захватило его — низкий свет от прикроватной лампы и тень между ее ног там, где футболка задралась, холмики ее грудей под порванным клинообразным вырезом на шее, каштановые волосы, спутавшиеся на подушке. Все было просто идеально: красивая, притягательная, принадлежащая ему. Он схватил камеру с полки и сфотографировал ее, прежде чем она успела возразить. Потом он напечатал фотографию и вставил в рамочку. Джиллиан, конечно, протестовала, но он не послушался. Он впервые чувствовал себя настолько уверенно, что выставил напоказ доказательство их отношений. И еще он испытывал гордость собственника.
Вскоре после этого их отношения закончились.
Но теперь, впервые за несколько месяцев ему было все равно. Он смотрел на фотографию и почти не видел Джиллиан. Он увеличил картинку, поместив в центр футболку. Темно-синий щит заполнил экран, футболку на груди Джиллиан пересекало одно-единственное слово: БРАУН.[17] За буквами виднелся громадный бурый медведь, обхвативший щит огромными лапами.
В книжном магазине имелось соединение с Интернетом, но оно было отключено. Ник подбежал к лестнице и прочитал указатель: «ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА: ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ». Он спустился лифтом. Внизу почти никого не было: люди, возвращавшиеся с рождественских каникул, еще не успели вспомнить, что не выносят своей работы.
Он нашел искомое в тупиковом проходе в самой задней части магазина в книге Дж. Б. Морфорда «Лига плюща[18] изнутри». Он листал страницы с фотографиями готических галерей и блондинок со слишком идеальными зубами, сжимающих томики Шекспира. Долго искать ему не пришлось.
Брауновский университет
Число студентов — 7740 (приблизительно)
Талисман: медведь Бруно
Он присел на серую скамеечку с прорезиненным верхом, пристроил у себя на коленях ноутбук, посмотрел — нет ли кого поблизости. Программа «Криптик» открылась мгновенно. Ник кликнул по картинке.
Введите пароль:
бруно
Пароль неверный
Введите пароль:
Бруно
Пароль принят
XXIV
Париж, 1433 г.
Я проснулся на голых камнях. Кожа у меня была влажная и холодная, все тело одеревенело. Я был голый, если не считать короткой повязки на поясе. Голова болела, а когда я открыл глаза, то тут же скривился от резкого зимнего света.
Я с трудом поднялся. Не увидев нигде своей одежды, стащил со стены занавеску и накинул себе на плечи. Я босой шел по пустому дому, и занавеска тащилась за мной по полу, оставляя широкий след в пыли. Дойдя до двери в башню, я остановился. Боль в голове еще усилилась. Я знал, что увижу за дверью.
И все же я не подозревал, насколько ухудшилось состояние башни за эти последние безумные недели. Все было в грязи. Черный осадок кристаллизовался в кувшинах, которые я не мыл; то, что оставалось после неудачных экспериментов, превратилось в сгустки. Стол местами был покрыт затвердевшим птичьим пометом. На полу перед остывшей печью лежал разбитый яйцеобразный тигель. Осколки стекла посверкивали, как части разбитой короны, рядом валялся меч.
Я услышал звук у двери и повернулся в ту сторону. Там стоял Тристан в коричневом плаще с полным бокалом вина в руке. Синие круги очерчивали его глаза. Я ждал, что сейчас он возьмет меч и снесет мне голову, как Ирод на картине. И отчасти я был бы рад этому.
Он посмотрел на кусок застывшего металла среди разбитого стекла. Тускло-серый, почти ничем не отличающийся от свинца, которым мы первоначально наполнили сосуд. От порошка, над получением которого я трудился столько времени, не осталось и следа.
Мы потерпели неудачу.
С утра и до вечера я приводил в порядок лабораторию. Очистил колосник в печи. Наполнил бочку водой и отскреб от грязи все чаши и сосуды, к которым прикасался. От холодной воды голова у меня разболелась еще сильнее, но я заставлял себя работать, пока не вычистил все. Потом вышел во двор и облил себя водой из ведра. Разложил по местам инструменты, поместил остатки материалов в кувшины и короба. Других дел здесь для меня не находилось. Этот день был ужасен — пустое пространство между нестыкующимися фрагментами моей жизни. Остаться у Тристана я не мог. Но и пойти мне было некуда.
Тем вечером в дом пришли играть в карты трое друзей Тристана. Он затопил камин в холле и принес бочонок вина. В обычной ситуации я бы избегал их, заперся бы у себя в башне, но в ту ночь не мог укрыться там. И в другой части дома прятаться мне не хотелось. Окружающий мир, который я снова начал воспринимать, ужасал меня.
Мне нечего было сказать друзьям Тристана. Насколько я понимал, все они были отпрысками из более или менее аристократических семей, юные бездельники, не имеющие другой цели в жизни, кроме проматывания наследства, пока их братья не вступят в права собственности. Я помалкивал, сосредоточиваясь на картах. Не на игре — я старался поменьше рисковать, хотя и на это средств у меня не было, и каждый раз, когда я делал ставку, мне приходилось выносить издевательские крики: «Подайте! Подайте!» Но меня очаровали сами карты. Они были прекрасны: невообразимая коллекция птиц, животных, цветов и людей, проходивших через мои руки в свете горящих дров. Я почувствовал, как в пепле моей души начинают теплиться новые угли. Два раза я проигрывал, хотя мог бы выиграть, и происходило это потому, что я задерживал у себя на руках карты, которые хотел разглядеть получше. Существа на картах были изображены с немалым искусством, я вглядывался в изящные линии, такие четкие, словно силуэты были вырезаны из бумаги. Они напомнили мне фигуры, которые я гравировал на золоте в мастерской Конрада Шмидта.
Эта мысль пробудила во мне воспоминание, хотя оно оставалось смутным. Я пытался рассеять этот туман и тем временем проиграл две сдачи. Тогда я решил сосредоточиться на игре.
Она была несложной. Цель состояла в том, чтобы набрать пять последовательных карт одной масти или четыре карты одного ранга из пяти различных мастей. С каждым ходом игрок сбрасывал одну карту и брал другую — либо ту, которую сбросил предыдущий игрок (и берущий знал, что это за карта), либо карту из колоды (а эту приходилось брать вслепую). Взяв карту, игрок мог повысить ставку, при этом следующий игрок должен был либо тоже повысить свою ставку, либо выйти из игры.
Всю ночь я играл самым безалаберным образом, делая самые мелкие ставки, а потом сдаваясь при первом повышении. Остальные быстро поняли мою тактику и составили отдельную от меня игру; делая разорительные ставки, они хлопали в ладоши, подзуживали меня повысить ставку, а когда я отказывался, бранились. Но вот после очередной сдачи я увидел, что у меня на руках оказался заманчивый набор. Три восьмерки — звери, птицы и олени — и десятка с валетом оленей.
Я сделал свою обычную жалкую ставку и посмотрел на других игроков, спрашивая себя, что мне лучше делать — искать ли четыре восьмерки или же последовательность оленей. Тристан взял двойку птиц и выбросил пятерку оленей — хороший знак. Его приятель вытащил вслепую карту из колоды, скорчил гримасу и сбросил девятку оленей.
— Пас.
Я пытался успокоиться. Притворялся, будто разглядываю свои карты, колеблюсь между колодой и сброшенными картами. Я взял девятку. Теперь у меня на руках были восьмерка, девятка, десятка, валет оленей, а к ним еще три восьмерки. Мысль о том, что всего одна карта может принести победу, была как хмель у меня в крови: я жаждал не денег — мне хотелось выиграть у Тристана и его друзей. Одного раза мне хватило бы.
Но я не мог выбрать один вариант, не пожертвовав другим. Читались карты плохо: я снова и снова проверял их, чтобы быть уверенным — да, у меня на руках именно те карты. Где-то на столе были две восьмерки, любая из которых могла дать мне выигрышную комбинацию. В равной мере давали мне выигрыш семерка или дама оленей. Необходимость принять решение парализовала меня.
— Сколько ему нужно времени, чтобы решиться спасовать? — спросил игрок слева от меня. Звали его Жак, и колода принадлежала ему.
Мне хотелось узнать о ней побольше, но я не мог заставить себя спросить его.
Я снова посмотрел на карты у себя в руке и обнаружил, что одна чуть торчит над другими. Восьмерка птиц. Я вытащил ее и бросил на стол, а следом поставил мелкую монетку. Чтобы склонить чашу судьбы в ту или иную сторону, требуется совсем немного.
Остальные игроки прореагировали о предсказуемым веселым шумом. Они демонстративно полезли в свои кошельки, принялись чесать затылки и креститься в притворном отчаянии. Все, кроме сидевшего рядом со мной Жака, который напрягся в тот самый момент, когда я сбросил карту. Я бы этого и не заметил, если бы не был так сосредоточен на возможности выигрыша. Пока остальные валяли дурака, он аккуратно взял восьмерку и повысил ставку.
Игра прошла один круг. Когда очередь опять дошла до меня, я вслепую вытащил карту из колоды, рассчитывая на семерку или даму. Закрыв карту ладонью я наклонил ее к огню из камина. Восемь дикарей кидались на меня с карты, размахивая дубинками, жестоко издеваясь над моими надеждами. Если бы я на предыдущем круге не сбросил восьмерку птиц, то теперь выиграл бы.
Я сбросил карту на стол, даже не делая вида, будто рассматриваю какой-то вариант с ней. Меня обуяло отчаяние; от чистой безысходности я поставил еще монетку. За этим последовал откровенный взгляд Жака, который схватил сброшенную мной карту. Теперь из-за моей ошибки у него на руках к тому, что он получил при сдаче, были еще две восьмерки.
Я сидел, наблюдая за другими игроками, задаваясь вопросом: нет ли у них на руках того, что нужно мне. У двух друзей Тристана карта явно была плохая, и они скоро спасовали. Их карты перетасовали и вернули в колоду. Что касается Тристана, то я никак не мог понять, при каком раскладе карт он решает продолжать игру, а при каком пасует. Сам ставок он никогда не поднимал, но холодным взглядом отвечал на каждое их повышение другими игроками. Я же каждый раз продолжал тащить вслепую и молча молился. Вытаскивал я только птиц и цветы. Утешало меня то, что и Жак, похоже, действовал таким же образом. Он ни разу не взял открытую карту, а, как и я, наудачу брал из колоды. Конечно, пока я держал две свои восьмерки, он не мог получить четыре, на которые рассчитывал.
Моя маленькая стопка монет катастрофически уменьшалась, а нужная мне карта так и не находилась. Жак вытащил карту из колоды, сделал вид, что пристроил ее к другим, а потом сбросил на стол. За этим последовала ставка в серебряную монетку.
— Кто еще будет поднимать?
Тристан выругался и сбросил свои карты. Я посмотрел на свои: четыре последовательных оленя, включая восьмерку, и еще восьмерка зверей. Я не сомневался, что Жак хочет выбить меня из игры. Я еще ни разу за весь вечер не был так близок к выигрышу. Но денег у меня не осталось.
— Держи.
Вторая серебряная монетка упала на стол, покатилась по полированной поверхности и легла у горки ставок. Я поймал взгляд Тристана.
— Это за тебя. Теперь больше ставок не будет. Доиграйте, чтобы узнать, кто выиграл.
В этот момент я любил его сильнее, чем когда-либо раньше, хотя потом уже пришел к выводу, что сделал он это, желая досадить своему приятелю. Они были как стая диких собак, готовых вцепиться друг в друга при малейших признаках слабости.
Но пока в игре оставались двое. Жак пересел на другую сторону от огня, чтобы быть лицом ко мне. Половина его лица освещалась языками пламени, другая половина терялась в тени. Выбывшие затеяли игру между собой — делая ставки на то, карта какой масти будет сброшена следующей, через сколько кругов игра закончится, будет ли карта, которую сброшу я, старше сброшенной Жаком. Поскольку ставок мы больше не делали, игра наша пошла быстро. Наши руки мелькали над столом, словно мухи над куском мяса. Мы брали и сбрасывали карты почти мгновенно.
Жак вытащил пятерку оленей и сбросил ее. Несколько мгновений я колебался — не взять ли ее в расчете на шестерку, но тогда мне бы пришлось отдать ему одну из моих восьмерок. Я вытащил еще одну карту из колоды, перевернул и уже собирался сбросить, как вдруг рука моя замерла.
Это была восьмерка цветов. Я почувствовал резь в желудке. Господь где-то там, на небесах, явно смеялся надо мной. В третий раз за этот вечер на руках у меня были три восьмерки, и я ничего не мог с ними сделать. Я сбросил эту карту, и Жак, как я и предполагал, тут же взял ее. Он пристроил ее к своим картам и демонстративно сбросил ненужную. Я проводил ее взглядом. На лугу сидела дама, восхищаясь своим отражением в зеркале, а маленький олень вперился взглядом в кайму ее раскинутой юбки. Дама оленей.
Моя рука метнулась к этой карте, но ее перехватил в воздухе Жак, сжав так, что костяшки у меня хрустнули. Он держал меня, раскладывая свободной рукой свои карты на столе. Четыре восьмерки. Цветы, дикари, птицы и звери.
Тристан со злостью пнул ножку стола. Два его приятеля радостно заулюлюкали. Продолжая держать меня за руку, Жак сгреб горку монет в свою сторону.
— Постой.
Пальцы у меня готовы были вот-вот переломаться, но я не обращал внимания на боль. Я сжал зубы и положил свои карты на стол лицевой стороной вверх. Четыре оленя и восьмерка зверей. Еще одна восьмерка зверей.
Я высвободил руку и соединил две карты. Они были идентичны. Несходны, неподобны — совершенно одинаковы. Идеальные копии, две монеты, отлитые в одной форме.
Тристан первым понял, в чем дело. Двое других были медлительнее, но, когда они поняли, что их обманули, среагировали быстрее. Они набросились на Жака и сшибли его со стула. Они хотели скрутить его, но он оказался сильнее. Одного он отбросил ударом в пах, другого огрел кочергой и бросился к двери. Тристан побежал за ним, другие в меру сил похромали следом.
Я взял карту и тоже побежал за Жаком. Увидел я его в слякотном дворе перед домом. Его скрутили-таки друзья, которые с криками «мошенник» и «еврей» пинали и колотили его. Тристан в особенности был одержим безумием безжалостности, и я боялся, что он убьет Жака.
Я не мог это допустить. Подбежал к этому сплетению тел и протолкался вперед, избегая случайных ударов. Остальные думали, будто я хочу присоединиться к избиению, и жаждали позабавиться — они оттащили Тристана в сторону, крича, что и слуга должен иметь возможность мщения. Один из них сел на ноги Жака, хотя в этом не было нужды. Рубаха его пропиталась кровью, губы были разбиты, один глаз почти целиком заплыл. Пальцы на левой руке были раздавлены каблуком.
Я сел, оседлав Жака, и поднял карту. Дыхание мое клубилось в холодном свете луны.
— Где ты взял это?
Жак повернул голову и выплюнул сгусток крови на землю. Звякнул о камень выбитый зуб.
— У одного человека из Штрасбурга.
— Как его зовут?
Он покачал головой.
— Как он это сделал?
Жак не понял моего вопроса.
— Он продал их мне.
Остальным это уже стало надоедать.
— Убей его, — прокричал кто-то из них.
Я сделал вид, что не услышал его.
— Где мне найти этого человека?
— Под знаком медведя.
Он харкнул кровью. Несколько капель попали на карту, и я поспешно отдернул руку, потом поднялся и пошел прочь, стараясь не слушать ликующие крики за спиной. От крови и вина у меня кружилась голова. Я смотрел на карту в моей руке — только она и имела какое-то значение в этом проклятом месте.
Сколько еще таких карт существовало в мире? И каким образом их создатель сумел сделать их такими совершенными?
XXV
Нью-Йорк
Карта разделилась на две части, которые отошли к левой и правой границам окна. Одна часть представляла собой копию карты, неотличимую от закодированной картинки в центре. В другой части появились три строки текста.
177 ru de Rivoli
Boite[19]628
300–481
— Прошу прощения.
Ник так быстро поднял голову, что ноутбук чуть не упал на пол. Продавщица смотрела на него сверху вниз, держа в руках кипу учебных пособий. Он наклонился над монитором ноутбука, закрывая его.
— Вы что-то ищете? Вам помочь?
Ник хлопнул крышкой ноутбука.
— Спасибо.
— В кафе есть Интернет, — услужливо сказала девушка.
— Спасибо.
Он поднялся по лестнице на первый этаж, прижимая компьютер к груди. Тот душевный подъем, что он испытал, обнаружив пароль, сменился смятением. Когда телефон завибрировал у него в кармане, он не сразу обратил на это внимание.
На экране высветились два пропущенных звонка, оба за последние десять минут. Вероятно, сигнал в подвале не принимался. Он проверил номера. Один звонок был от Сета, другой — неизвестный ему местный номер. Он набрал Сета.
— Ник? — почти сразу же ответил тот. — Слава богу.
— Что случилось?
Сет, вероятно, был в машине. Нику приходилось кричать, чтобы адвокат услышал его за дорожным шумом.
— Плохие новости. Парнишка поменял историю.
Мимо телефона Сета промчалось что-то, похожее на ракету.
— Теперь он говорит, что, может, и не видел тебя в коридоре, когда раздался выстрел. Может, это было до того. Или после.
— Что ты этим хочешь сказать? Он услышал выстрел, испугался и убежал к себе. Он… Алло?
Тишина в трубке заставила его замолчать. Когда Сет вернулся на линию, голос его прерывался помехами, был почти неразборчивым.
— Тебе нужно… Ройс… Джиллиан… арестовать тебя…
— Я тебя не слышу, — прокричал Ник.
— Я въезжаю в туннель Холланда. Движение довольно напряженное. Я перезвоню…
Сигнал перешел в низкий гул. Ник уставился на трубку. Он, словно заледенев, на всякий случай нажал «повторный набор», и сразу же ему ответила голосовая почта Сета.
У него снова заболела голова, все тело дрожало от усталости. Почему это Макс поменял историю? Может быть, по настоянию матери, которая пытается его защитить? Мстит за все те ночи, когда она жаловалась на просачивающийся из-под двери дымок косяков, которые курил Брет. Это было так несправедливо — Нику хотелось сокрушить что-нибудь.
Телефон зазвонил снова. Покупатели, рывшиеся среди предлагаемых со скидкой книг, бросали на него неодобрительные взгляды. Он посмотрел на высветившийся номер — местный телефон. А если это Ройс?
Звонок вынудил его принять решение. Он ответил.
— Ник? Это Эмили.
— Как поживаете? — Ничего не значащие слова, бездумное словесное рукопожатие. И только произнеся эти слова, он понял: что-то тут не так.
— Мне страшно. — Это было слышно по ее голосу. — Ник, кто-то следит за мной.
Ее голос был едва слышен — почти шепот, слова спотыкались одно о другое. Ему показалось, будто он слышит какое-то шипение на заднем фоне, словно журчание воды.
— Где вы?
— В женском туалете Публичной библиотеки.
— Это та, что со львами у входа?
— Да. Пятая авеню и Сорок вторая улица.
— Понял. — Ник напряженно размышлял. — Человек, который следил за вами, — как он выглядел?
— Я не видела его лица. На нем был капюшон. Он… — Тихий вскрик. — Тут кто-то есть. Я…
Он услышал удар в дверь, потом грохот, а за ним — тишина.
— Я иду, — сказал Ник.
Но эти слова он говорил уже в пустоту.
Если у вас нет денег, в Нью-Йорке вам будет нелегко. Денег на такси у Ника не было, и он побежал к станции метро на Вашингтон-Сквер-парк и опустил последний жетон в щель автомата. Или быстрее было бы идти пешком? Он стоял на платформе и смотрел в туннель, усилием воли торопя поезд. На грязноватых часах станции стрелка отсчитывала секунды.
Когда он вышел на Сорок второй улице, никаких новых звонков на его телефоне не оказалось. Он рысцой пробежал квартал от станции до библиотеки, борясь с ветром и резью в боку. Два каменных льва, «Терпение» и «Стойкость», смотрели, как он взбегает по ступенькам. На первом этаже он нашел справочное.
— Где туалеты? — тяжело дыша, проговорил он.
Женщина за столом, наверное, решила, что он спятил или накурился травки. Она кинула взгляд через плечо на охранника, потом подняла глаза к потолку.
— Третий этаж.
Он побежал по лестнице с такой скоростью, на какую только мог отважиться, не привлекая к себе внимания. При этом на ходу оглядывал лица. «На нем был капюшон». Но день стоял холодный, и половина людей на лестнице были в куртках с капюшонами. Он увидел наверху перед собой человека в белой рубашке и джинсах, сворачивающего с площадки второго этажа; мысли его вернулись на крышу к пистолету. Он чуть не рухнул на лестницу. Но этот человек, в отличие от того, на крыше, был нордического типа, светловолосый и светлокожий.
Ник добежал до третьего этажа. Пронесся по обитому деревянными панелями круглому холлу, на который почти и не обратил внимания, потом по сверкающему белизной коридору, следуя указателю «туалеты». Он остановился перед дверью.
Ну и что теперь? Не мог же он ворваться в женский туалет. Ройсу это понравилось бы.
Дверь открылась. Ворчание сушилки для рук нарушило тишину библиотеки. Он напрягся, но из двери вышли две девицы студенческого возраста.
— Извините.
Они замедлили шаг, но не остановились.
— Не могли бы вы мне помочь. Я потерял подружку — нигде не могу ее найти. Не могли бы вы посмотреть?..
— Конечно.
Одна из девушек жизнерадостно улыбнулась, мол, рада помочь, и снова заглянула за дверь туалета.
— Там никого нет, — сообщила она.
Его сердце упало.
— Спасибо в любом случае.
Как только они исчезли из виду, он проскользнул внутрь. Туалет был пуст. Никаких следов Эмили — одни белые плитки, белые раковины, белые лампы, отражающиеся в безупречно белом полу.
Одна из дверей кабинок была закрыта, но не заперта. Его не покидало ощущение, что он совершает нечто порочное, но все же он раскрыл дверь. Кабинка была пуста, однако в унитазе что-то лежало. Он пригляделся. На краю того места, где сливное отверстие воронкой уходило в темноту, он увидел кончик серебристого сотового телефона, выглядывавшего из сточной трубы, как утонувшее сокровище. Неужели это телефон Эмили?
Резкий электронный звук разорвал тишину. Мгновение он тупо смотрел на сверкающий телефон в воде, потом понял, что звонит его телефон.
— Слушаю.
— Ник?
Напряжение отпустило его, когда он услышал голос Эмили. Ослабев от облегчения, он прислонился к стене кабинки.
— Где вы?
— В телефоне-автомате на лестнице. — Смущенная пауза. — Я уронила трубку в унитаз.
— Я ее нашел. С вами все в порядке?
— Да. Я думаю, этот тип меня потерял. А где вы?
— Иду к вам. Не вешайте трубку. — Он плечом открыл дверь, радуясь возвращению в легитимное пространство. Хорошо одетая женщина, шедшая по коридору, смерила его подозрительным взглядом. Он ухмыльнулся и повертел телефоном у виска, изображая слабоумного.
— Постойте. — В голосе Эмили послышалась паника. — Кажется, он возвращается. Встретимся в зале Соломона на третьем этаже.
Ник побежал. Выскочив из-за угла, он увидел что-то красное — оно мелькнуло в переходе из круглого холла в одну из галерей. Эмили? Он на секунду замедлил шаг. Пять туристок из Японии последовали за ней. А из галереи вышла пожилая пара. Невысокий, крепкого сложения человек в черной куртке быстрым шагом прошел мимо них, чуть не выбив палку из рук старика. Капюшон у него был откинут, и Ник увидел бритую голову и золотой блеск в левом ухе. Лицо, уже виденное прежде.
Он побежал.
Галерея Соломона представляла собой сумеречную комнату, уставленную книжными стеллажами и витринами. В середине комнаты располагался единственный стеклянный стенд, похожий на алтарь или табернакль, внутри которого почтительный свет проливался на громадную раскрытую книгу. Желтоватые страницы отражались в стекле, а черные буквы создавали дыры в отражении, позволяя видеть в них помещение сзади. Вот в стекле замелькала небольшая фигурка в красном, то появляясь, то исчезая из виду. Ник подумал, что сейчас увидит человека в куртке, который широкими шагами направится к ней.
В углу сидел охранник, лениво поглядывая на посетителей. Ник подошел к нему.
— Простите, но вон там человек — я, кажется, видел у него пистолет.
Панические интонации придавали достоверность сказанным словам. Охранник поднялся со стула, отстегнул кнопку на кобуре и двинулся по комнате, бормоча что-то в микрофон рации. Ник направился за ним, огибая стенд с другой стороны. Там он увидел Эмили, которая делала вид, будто разглядывает открытую книгу, при этом нервно стреляя глазами по залу. Она была так испугана, что увидела его, лишь когда он подошел чуть не вплотную.
— Ник! — Она бросилась к нему, обняла. Ее тонкие руки на удивление сильно обхватили его. — Я так испугалась.
— Опасность еще не миновала.
Ник положил руку ей на плечо и направил ее к выходу, следуя по краю помещения. В центре появился второй охранник, теперь они вдвоем разговаривали с человеком в куртке. Ник показал на него.
— Это он?
Эмили кивнула.
Они выскользнули из двери и поспешили к лифту. Никто из трех, казалось, не заметил их ухода, а Ник даже не оглянулся. Только выйдя из дверей на холодный ветер, гулявший по Сорок второй улице, он позволил себе расслабиться.
— Я провожу вас домой.
Они поймали такси. Ник не возражал, когда Эмили захотела расплатиться сама. Жила она недалеко от центра, на тихой улочке, где тесно посаженные деревья и незамысловатые фасады не могли скрыть скромного достатка за окнами. Эмили увидела оценивающий взгляд Ника.
— Это принадлежит музею. — Она смущенно улыбнулась. — Квартира дается на полгода, потом мне придется переехать в реальный мир. Мое время почти истекло.
Ник оглядел улицу — нет ли какой опасности, Эмили тем временем возилась с входной дверью. Они вошли и оказались в темноватом холле со множеством лестниц и дверей. Он прошел за ней на второй этаж. Ник не был уверен, что его пригласили, но она не возражала. Их шаги по ступеньками заглушала ковровая дорожка. Весь дом, казалось, был погружен в сон.
Тишину нарушил крик Эмили. Ник, отстававший от нее на две ступеньки, поднял голову. Она стояла перед дверью, ведущей, видимо, в ее квартиру, и смотрела на что-то, потом отошла в сторону, чтобы увидел и он.
Дверь была приоткрыта. Немного приоткрыта. Но гораздо шире, чем следует оставлять в Нью-Йорке. Расщепленная доска вокруг замка свидетельствовала о взломе.
Затянувшееся мгновение они стояли молча, замерев, как пылинки в луче солнца. Потом развернулись и бросились прочь. Вниз по лестнице, на улицу, мимо длинного ряда серых деревьев. И только добежав до угла, остановились и оглянулись. Улица была пуста.
— Вызывайте полицию. — Ник восстанавливал дыхание, наклонившись вперед и уперев руки в колени. — Не входите внутрь, пока они не появятся. Кто-нибудь еще там живет?
Эмили отрицательно покачала головой. Она была готова расплакаться.
— И еще одно. Не говорите полиции, что я был здесь. Они и без того считают меня закоренелым преступником.
Эмили была сильно напугана.
— И вы не останетесь со мной?
— Вам будет только хуже, если они увидят меня здесь.
— Пожалуйста. — Эмили неуверенно протянула руку в его сторону, словно птица со сломанным крылом. — Я им не скажу, что вы были со мной.
Ник оглянулся. Из закусочной посреди квартала доносился запах поджариваемых гамбургеров.
— Давайте найдем местечко потеплее.
Эмили уселась на краешек пластмассового стула среди орущих детей, возвращающихся из школы, и отпила воды из бутылки. Она не сняла куртку. Ник играл пустым бумажным стаканчиком, оставленным на столе.
— Вы знаете, кто это был в библиотеке? — спросила она.
— Нет.
— Когда мы с вами виделись в прошлый раз, вы меня предупредили, что вы не тот человек, которому стоит помогать.
— Нет, я не сказал «не стоит». Такой человек, которому не следует помогать.
— Я пыталась понять, что вы имели в виду.
Ник задумался на несколько секунд.
— Эта карта — она как вирус. Все, кто к ней прикасается… Сначала Джиллиан, потом Брет. Теперь вы.
— А вы?
Она обратила к нему этот вопрос, вскинув голову, глаза у нее были темные, как летнее небо в грозу.
— Дверь в мою квартиру взломали. Меня самого чуть не убили, а моего приятеля пристрелили. Кто-то сумел аннулировать мою кредитку. Полиция конфисковала мой паспорт, мой компьютер, и, возможно, они собираются арестовать меня по подозрению в убийстве. И ограблении. Если узнают, что я был здесь.
Слова потоком вырывались из него, он жаловался на превратности и несправедливости, в порочном кругу которых оказался. Он разволновался, но ему стало легче оттого, что он выговорился.
— И все это из-за карты.
— Из-за карты, — повторила Эмили. Его вспышка, казалось, потрясла ее, но в меньшей мере, чем он ожидал. — Я вчера еще немного порассматривала ее. Из восьми животных три не появляются ни на каких других картах.
— Может быть, это подделка.
— А может быть, Джиллиан Локхарт сделала одно из самых ценных открытий за последние двадцать лет. — Она сказала это торжественно, без малейшей иронии.
— Мне помнится, вы говорили, эта карта может стоить всего тысяч десять.
Эмили так посмотрела на него, что Ник устыдился своих слов.
— Эта карта может оказаться одним из первых отпечатков с медной доски. А кроме того, это само по себе весьма впечатляющее произведение искусства. Деньги, которые вы платите за такие вещи, ни в коей мере не говорят об их истинной стоимости.
— И они стоят того, чтобы ради них идти на убийство?
Эмили немного помолчала.
— Может быть, дело не в карте. Может, карта — часть чего-то еще. — Она наклонила голову, разглядывая его, словно перед ней был средневековый гобелен. — Ведь в этом есть что-то еще.
Лгать у Ника всегда получалось плохо.
— Этого я не могу вам сказать.
— Потому что не знаете или потому что не хотите?
— Поверьте мне, вам ни к чему это знать.
Она подалась к нему над столиком.
— Мне нужно это знать. — И опять ее открытый взгляд. — Что еще вы нашли?
Ник сглотнул. Ламинированная кромка бумажного стаканчика смялась под его пальцами. Он выглянул в окно, прислушиваясь к вою сирен.
— Джиллиан прислала мне еще одно сообщение. Одновременно с этой картой, но я только сейчас разобрался в нем. — Он не стал уточнять, каким образом. — Там приводится адрес.
— И вы думаете, что Джиллиан может находиться по этому адресу? Или она оставила там что-то? — Лицо Эмили, раскрасневшееся от возбуждения, было таким незащищенным. — Вы собираетесь выяснить это.
Ник не стал отрицать.
— Пожалуйста, не говорите об этом полиции. По крайней мере, до завтра.
— Не скажу.
Эмили в задумчивости крутанула бутылку с водой на столе. Ник обратил внимание на ее привычку — в моменты напряженных размышлений она всегда сутулилась и прижимала руки к бокам. Когда она подняла на него глаза, взгляд ее был ясен и тверд.
— Я поеду с вами.
Было бы неправдой сказать, что он не думал об этом. В глубине души он отчаянно хотел, чтобы она была с ним — напарница, доверенное лицо, подруга, которую он едва знал. Но с ее стороны это же безумие!
— Нет. — Он постарался придать своему тону твердость.
Эмили только смотрела на него; ее молчание возымело действие. Ник пустился в объяснения.
— Это было бы слишком опасно для нас обоих. Мы не знаем друг друга. А если вам и известно что-то обо мне, так это то, что я вор и убийца.
Искорки в глазах Эмили отмели это соображение.
— И это не то что съездить в Нью-Джерси. Это… долгое путешествие.
— Ведь это в Париже? — Эмили прикусила губу. — Вы вроде бы сказали, что полиция конфисковала ваш паспорт.
Ник понять не мог, как такое нежное существо может быть столь настойчивым.
— Меня не интересует карта. Я хочу найти Джиллиан.
— Конечно. Я хочу вам помочь.
— Почему?
— Потому что я не желаю оставаться в Нью-Йорке, возвращаться каждый вечер домой, думая, не придут ли за мной сегодня. И еще потому, что вам никакая помощь не будет лишней.
Она поставила бутылку. Та издала гулкий звук, соприкоснувшись с пластмассовой столешницей.
— И как мы туда попадем?
— Есть континентальный рейс — вылет сегодня в шесть тридцать из аэропорта Кеннеди в Брюссель. — Агент постучал по клавишам компьютера. — Места еще имеются.
Ник не мог вспомнить, когда в последний раз был в транспортном агентстве. Наверное, во время учебы в университете, когда Интернет еще только изобрели. Он забыл, как медленно тут все делается. Он старался не оглядываться слишком часто через плечо на поток машин, медленно ползущих по Сорок второй улице.
— Будьте добры ваши паспорта.
Эмили расстегнула сумочку и пустила свой паспорт по столу. Ник засунул руку в карман за бумажником, ощущая жесткую книжицу внутри. Он вытащил ее и веером, словно это были две карты, положил поверх паспорта Эмили, ожидая вердикта агента.
Тот пролистал книжицу, сличил фотографию с оригиналом.
— Вы британец? — спросил он Ника.
— По материнской линии.
Он подал заявку на паспорт перед отъездом в Германию, чтобы избавить себя от лишних хлопот при получении разрешения на работу. У него и в мыслях не было, что ему придется тайком ускользать из своей страны. Он пока еще не был уверен, получится ли это.
Кажется, агента все устроило. Он вернул оба паспорта.
— Счастливого пути.
XXVI
Штрасбург, 1434 г.
Штрасбург — это перекрестье дорог. Дорог с севера, с богатых рынков тканей в Брюгге и еще дальше — Лондона. Дорог с юга, из Милана, Пизы и далеких берегов Африки на другой стороне Средиземного моря. Дорог с запада, из Парижа и Шампани, продолжающихся на восток в столицы империй — Вену, Константинополь, Дамаск и славящиеся пряностями города Востока. А в нескольких милях от Штрасбурга — великая текучая дорога Рейна, излом моей жизни.
Дороги были артериями христианского мира, а Штрасбург — его сердцем. Я стоял на острове среди реки Иль, притока Рейна. Необходимость и человеческая изобретательность превратили Иль в целую сеть каналов, закольцевавших город водой и камнем. Войдя в город, ты совершал удивительное путешествие по мостам, перекинутым через рвы, огибал ворота, башни и углублялся в узкие проулки, которые вели, казалось, к очередному мосту, но ты оказывался вдруг на громадной площади. Там, где сходились все дороги, стоял собор Богоматери. Здесь я и нашел то, что искал.
Я прибыл по западной дороге. Стояло изумительное весеннее утро, после дождя, вымывшего ночью улицы, с синего неба ласково светило солнышко. В воздухе висела росистая свежесть, вернувшая цвет моим щекам. Во мне было не узнать того несчастного, который убивал себя перед печью в башне Тристана. Ожоги и пузыри у меня на руках сошли, осталась только красноречивая проплешина в бороде в том месте, где я обжег себе щеку купоросным маслом. У меня был новый плащ из неброской синей ткани и новая пара сапог, купленных мною на деньги, которые я заработал, копируя индульгенции на Рождество. Я чувствовал себя новым человеком. Незнакомые люди больше не отскакивали в сторону и не переходили на другую сторону улицы, когда я останавливался, чтобы спросить у них дорогу. И я таки нашел дом под вывеской медведя.
Я бы так или иначе нашел его. Он стоял напротив собора, на другой стороне площади, ставшей складом для камней, из которых строилась новая башня по южному фасаду собора. Я, словно по лабиринту, шел мимо громадных каменных блоков. В дальнем конце я увидел позолоченного медведя, который карабкался по металлической лозе над дверью ювелирной лавки.
Я вытащил из сумки, висевшей у меня на шее, карту и посмотрел на нее. Впрочем, этого почти и не требовалось. По прошествии четырех месяцев все мельчайшие подробности запечатлелись у меня в голове, став такой же идеальной копией, как и сама карта. Медведь в левом верхнем углу был тот же, что и на карте, хотя на карте виноградная лоза не была видна.
Я в возбуждении приблизился к лавке. Все тут было знакомо: колечки на стержнях, коробки с бусинами и кораллами, золотые пластины и чаши, сверкающие из теней за решетками шкафа. Даже человек за прилавком напомнил мне Конрада Шмидта. Чем-то он был похож и на моего отца. Он настороженно приветствовал меня, когда я подошел.
Я показал ему карту и сразу же увидел, что он ее узнал.
— Это ты сделал?
Париж
Над Гар-дю-Нор[20] в восемь утра висел мелкий туман, словно еще оседал пар столетней давности. В конце платформы у кафе прохаживался полицейский, поглядывая на пассажиров, прибывших ранним поездом из Брюсселя. Пассажиров в субботнее утро было не много: гуляки, еще не протрезвевшие, болельщики, еще не напившиеся, несколько одиноких бизнесменов, стайки туристов в шортах и сандалиях, с рюкзаками за плечами — для них вечно стояло лето.
Последними с поезда сошла любопытная пара: мужчина лет тридцати в джинсах и длиннополом черном плаще и молодая женщина в красной куртке с высоким воротником и в ярко-красных сапожках. Они явно путешествовали вместе, но в отношениях между ними чувствовалась какая-то неловкость, наводившая на мысль, что они мало знакомы. Разговаривали они, не глядя друг на друга; когда мужчине, обходя колонну, пришлось податься в сторону и он задел руку женщины, оба извинились. Парочка на одну ночь, решил полицейский, — двое коллег, выпившие лишнее в поездке, слишком молодые, привычки у них еще не выработалось. Мужчина, вероятно, считал себе более везучим из них двоих. Девушка была красива строгой красотой. Полицейский раздел ее глазами, прошелся взглядом по осиной, стянутой поясом талии и полной груди, потом взглянул в темные глаза, оценил растрепанные волосы и вызывающе алые губы. Мужчина же выглядел неопрятным и каким-то растерянным. Возможно, ему предстояла встреча с женой.
У Ника свело живот, когда он увидел наблюдающего за ними полицейского. Неужели его опознали? Может быть, он объявлен в розыск? Может быть, нью-йоркская полиция разослала его фотографию через Интерпол? По мере приближения к полицейскому движения его становились все более неестественными, он словно впал в ступор от психологической нагрузки. Полуповернувшись к Эмили, он сказал ей что-то невнятное, она с неловким видом кивнула.
Но разница во времени выручила его — трудно было выглядеть слишком напряженным, когда у тебя слипались глаза. Ник провел ночь, словно одеревенев в кресле, а Эмили рядом с ним прикорнула, накрывшись одеялом. Страх не давал ему уснуть над Атлантикой. Он был напуган тем, что осталось позади, и боялся того, что ждет впереди. Когда он начал задремывать, в салоне включился свет — самолет пошел на посадку в Брюсселе. Потом была сутолока в аэропорту, поездка на такси в город и первый поезд на Париж. Эта идея принадлежала Эмили. Из Брюсселя они могли попасть в любое место Европы, нигде больше не показывая своих паспортов. Хотя имелись и другие способы найти их.
Ник оглянулся и понял, что полицейский остался позади. Он слишком устал, чтобы почувствовать облегчение. Выйдя из вокзала, они десять минут стояли в очереди на такси.
— Cent soixante dix-sept rue de Rivoli, — сказала Эмили водителю.
Ник в удивлении посмотрел на нее сонными глазами.
— Я прожила здесь шесть месяцев, готовясь к защите диссертации, — объяснила она. — Трудно работать с документами, если не знаешь языка.
Это напомнило им обоим о том, как мало они знают друг друга. Эмили стискивала сумочку у себя на коленях, прижимаясь к двери. Ник смотрел из окна машины.
Дом 177 на рю де Риволи был ничем не примечательным зданием, банком, втиснутым между американским сетевым супермаркетом и обувным магазином. Когда они подъехали, охранник как раз отодвигал металлическую решетку на дверях. Они взяли кофе с круассаном в кафе на другой стороне улицы в ожидании, когда появятся другие клиенты. Погруженные в свои усталые мысли, они почти не говорили друг с другом. Ник чувствовал себя так, будто с трудом бредет к финишу кошмарного ночного марафона. Он хотел одного: забыть обо всем и заснуть.
В половине десятого они вошли в банк. Их приветствовала девушка-администратор за серым столом, она внимательно слушала объяснения Эмили, которая говорила, что у нее есть ценное бабушкино ожерелье и она хочет хранить его в безопасном месте, пока будет заниматься научными изысканиями в Париже, куда приехала на полгода.
Девушка кивнула. У них есть ячейки как раз для таких целей.
— И это безопасно?
Девушка чуть пожала плечами — наверняка их так учат делать во французских школах.
— Oui, je pense. — Она увидела, что Ник смотрит непонимающим взглядом и перешла на безупречный английский. — Вам дается карточка, открывающая дверь хранилища, и ПИН-код, который открывает ячейку.
— Et ca coute combien? — настойчиво продолжала на французском Эмили.
— Вы должны будете заплатить пятьсот евро сейчас, а потом по сто евро каждый месяц.
Эмили изображала нерешительность.
— А можно увидеть хранилище?
Администраторша указала на стеклянную дверь в задней стене.
— C’est la.
Они подошли к двери и заглянули внутрь. За дверью была небольшая, устланная ковром комната с рядами одинаковых стальных шкафчиков от стены до стены. На торцах ящиков светились красные цифры дисплеев. Ник попытался найти ячейку с номером 628, но не смог разобрать цифры сквозь толстое пуленепробиваемое стекло. Хотя дверь с виду была деревянной, но при касании оказалась холодной — трехдюймовая сталь.
— Да, пожалуй, взломать не получится, — пробормотал Ник.
Они вернулись к администраторше. Эмили вытащила из сумочки пять банкнот по сто евро и паспорт.
На лице администраторши появилась извиняющаяся улыбка.
— Вам придется заплатить вперед за шесть месяцев. Еще шестьсот евро.
Ник поморщился. Эмили дала еще шестьсот евро, администраторша ввела ее данные в компьютер. Машина под столом выплюнула пластиковую карту, и администраторша протянула ее Эмили вместе с паспортом и листом бумаги.
— Это ваш ПИН-код. Номер вашей ячейки семьсот семнадцать. Merci beaucoup.
Эмили провела карточкой по считывающему устройству. Стальная дверь открылась, зашипела пневматическая система, но стоило им войти внутрь, как дверь тут же закрылась с тяжелым щелчком. Они молча прошли по устланному ковром полу. Красные цифры подмигивали им с ящиков, каждый в своем ритме, слегка рассинхронизированном с другими. К этому миганию добавлялось свечение ламп дневного света наверху, отчего у Ника возникло впечатление, будто они вошли в царство головной боли.
Эмили остановилась перед одной из ячеек.
— Вот шестьсот двадцать восьмая.
Ник встал между Эмили и дверью, борясь с желанием проверить, не смотрит ли за ними кто-нибудь. Эмили вытащила пару черных кожаных перчаток. Резкими птичьими движениями она набрала 300481.
Дверца распахнулась. Эмили сунула внутрь руку.
Ганс Дюнне, ювелир, взял у меня карту и взглянул на нее.
— Откуда это у тебя?
— От одного аристократа в Париже. — Передо мной мелькнуло разбитое лицо Жака. — Он сказал, что купил это здесь.
Дюнне положил карту на прилавок.
— Не у меня.
Фундамент надежды, которую я лелеял четыре месяца, пошатнулся. Но треснуть не успел — Дюнне продолжил:
— Эту делал Каспар Драх. Художник. — Странное выражение появилось на его лице. — И не только.
— Он здесь?
Он увидел, что я смотрю ему за спину — на учеников в мастерской.
— Сейчас нет. Приходи завтра, если все еще будет желание его увидеть.
— А где он сегодня?
— На перекрестке в Сент-Арбогасте. — Он посмотрел на солнце. — Если хочешь найти его там и вернуться до наступления темноты, то нужно поторопиться.
— Как я его узнаю? — не отставал я.
— Ищи человека на лестнице.
Часто, возможно чуть ли не всегда, судьба отворачивается от нас, не дается в руки, пока мы тычемся туда-сюда, словно слепые. Но случаются дни, редкие, немногие дни, когда она бежит нам навстречу, как мать, собирающая своих детей. А еще бывают дни, когда она насмехается и дразнится, но оставляет надежду на победу настойчивым. В этот день судьба не должна была обмануть меня. Я всей душой чувствовал это — дрожь предвкушения только возрастала, пока я шел, минуя те же мосты и каналы, мельницы и фермы по берегам Иля. Полотняные паруса улавливали и отражали солнечные лучи. В прибрежной тине вперевалочку бродили пушистые желтые утята.
Я добрался до перекрестка за час до захода. Работники уже ушли с полей, и дорога была пуста. В воздухе висела дымка. В кустах чирикали редкие птицы, но в остальном стояла тишина. Чуть вдалеке я увидел каркасные деревянные дома, которые и составляли деревушку Сент-Арбогаст.
Рябины в рощице у самого перекрестья дорог начинали расцветать. На высоком столбе перед рощей был закреплен щит с изображением Девы Марии — придорожная святыня для путников. Человек с палитрой в одной руке и кисточкой в другой стоял на лестнице, прислоненной к столбу. Человек явно не испытывал страха перед высотой. И, даже не видя его лица, я сразу же понял, что именно он мне и нужен. Мне хватило одного взгляда на Мадонну, которую он рисовал. Корона была смазана и превратилась в нимб, а вместо оленя он изобразил кроткую девочку, сидевшую на своих юбках. Но в остальном она была копией дамы с карт. Те же роскошные волосы, одна рука поднята и небрежно поправляет их, те же пухлые губы и кокетливые глаза, восторгающиеся собственным отражением в ручном зеркальце, которое в этой инкарнации стало лицом ее ребенка. Это была самая бесстыдная Дева Мария, каких мне доводилось видеть, — толстые ляжки, пышные груди, ноги под складками платья широко раздвинуты.
Я подошел к лестнице.
— Тебя зовут Драх?
Он посмотрел вниз. Солнце висело за его головой, словно нимб, и в этих ярких лучах я не мог разглядеть его лицо.
— Ты сделал эти карты? Колоду птиц, зверей, цветов и дикарей, которые чудесным образом могут удваиваться?
Я показал ему восьмерку. В лучах заходящего солнца бумага в моей руке отливала янтарным цветом. Причудливые очертания зверей просвечивали на рубашку карты.
Раздался мягкий смешок, который впоследствии я слышал так часто.
— Ну, я.
XXVII
Париж
Такси проехало мимо туристов, уже скопившихся у собора Парижской Богоматери. Потом пересекло реку по Пон-Нёф и свернуло в квартал узеньких проулков, петлявших вокруг собора Святого Северина неподалеку от Сорбонны. Машина остановилась, проехав приблизительно половину улочки, перед отелем, старинным зданием с маркизой над входом, рекламирующей какую-то марку пива. Когда Ник и Эмили вошли в здание, полосатый кот спрыгнул со столика портье и затрусил в сторону. Мгновение спустя из двери поблизости вышел пожилой человек. На вопрос Эмили он ответил кивком и ухмылкой, достал из ящика два ключа. Никакой регистрации не потребовалось.
Они поднялись на нужный этаж лифтом. Войдя в номер, Ник посмотрел на двойную кровать и попытался скрыть посетившие его мысли.
— Я просила с двумя кроватями, — извиняющимся тоном сказала Эмили. — Сейчас спущусь и попрошу поменять.
— Я могу спать и на полу.
В этот момент он готов был уснуть где угодно. Но только не сразу.
Он положил на пол сумку, подошел к столику у окна и вытащил жесткий конверт из кармана плаща. По молчаливому соглашению они не стали открывать конверт сразу — ждали, когда окажутся в номере отеля.
Словно пара неумелых любовников, они одновременно потянулись к конверту. И, соприкоснувшись руками, тут же отдернули их. Потом Ник взял конверт, засунул палец под клапан и вскрыл. Внутри его ждало что-то твердое и ровное. Он выдавил этот предмет из конверта на стол — вытянутая пластинка размером с почтовую открытку, в оберточной бумаге.
— Позвольте мне.
Теперь он уступил. Эмили подсунула ноготок под отрезок клейкой ленты и оторвала его. Они оба уставились на представший перед ними предмет.
После всего, что Нику довелось вынести, ничего, кроме чувства разочарования, он не испытал. Находка отнюдь не поразила его новизной. Четыре медведя и четыре льва, но только теперь не на мониторе, а напечатанные на жесткой, плотной бумаге. От возраста карта посерела, но отпечаток по-прежнему оставался четким.
Эмили натянула перчатки и взяла вещицу за края.
— На ней нет ни печати, ни эмблемы.
— А должны быть?
— Если она из библиотеки или крупной коллекции.
Она включила настольную лампу и поднесла карту к колпаку, так что та засветилась.
— Вокруг животных нет контуров. Это было напечатано с цельной медной доски, а не с более поздней, составной. И вот еще. — Она показала на середину карты. — Водяной знак. Корона. Такой же, как и на других ранних картах.
— А это? — Ник притронулся к скоплению темных пятен в правом нижнем углу. Часть из них была черная, часть красновато-коричневая. — Похоже на засохшую кровь.
— Может быть, плеснули вина во время игры? — Эмили положила карту назад в оберточную бумагу и почтительно укрыла ее, словно мертвое тело. Губы ее повлажнели от возбуждения. — Она подлинная, Ник. Первая из таких карт, найденная за последние сто лет.
Ник не ответил. Если ее волнение и вызвало у него какую-то реакцию, то главным образом раздражение. Ему вдруг захотелось разорвать эту карту на куски.
— Предполагается, что мы приехали, чтобы найти Джиллиан.
— Которая хотела, чтобы вы получили эту карту.
— И что я должен делать теперь? Поместить ее в музей с подписью: «Дар Джиллиан Локхарт. Жаль, что она исчезла»?
Ник понимал, что раздражен из-за усталости, но ничего не мог с собой поделать.
— Больше она ничего не оставила?
Вопрос Эмили остановил его, как пощечина. Ник взял конверт и встряхнул его. Внутри что-то звякнуло.
Он перевернул конверт. На стол вывалились пластмассовая пластинка размером с кредитку и маленький золотой микрочип.
Сначала он принялся рассматривать пластиковую карту. Она была красной, рядом с изображением раскрытой книги стояла аббревиатура BnF. Ник перевернул карточку. В углу была дюймовая фотография Джиллиан. Она смотрела в камеру, словно в дуло ружья. Он не сразу узнал ее. Лучи расположенной наверху лампы отсвечивали от ее лба, погружая лицо в уничижительную казенную тень. Она постригла волосы и перекрасилась в блондинку. Он вспомнил строку из стихотворения, которую она любила ему повторять: «Изменчивость одна лишь неизменна».[21]
— BnF — это Bibliotheque nationale de France, — сказала Эмили. — Национальная библиотека Франции. Там хранится сорок оригинальных игральных карт. Вероятно, это читательский билет. — Она показала на золотой микрочип. — А это что?
Ник взял микрочип большим и указательным пальцами.
— Это сим-карта. Для телефона.
— Зачем ей нужно было оставлять это?
— Может быть, чтобы мы посмотрели, кому она звонила.
Ник вытащил свой сотовый, снял с него заднюю крышку, вытащил сим-карту, заменил ее на карту Джиллиан. Он уже собирался включить телефон, но остановился. Его палец замер над кнопкой включения.
— Или…
— Или что?
— Или затем, чтобы они не могли по сигналу определить, где она находится.
Он сунул телефон в карман, схватил куртку и направился к двери. Эмили встревоженно вскочила на ноги.
— Вы куда?
— В метро.
Как только он вышел из двери отеля, холод пробрал его до костей. Тучи низко висели над Парижем, и ледяной воздух предвещал приближение снегопада. Ник поспешил за угол, к станции «Сен-Мишель». По другую сторону Сены над собором Парижской Богоматери вилась стая птиц. Он купил билет, протиснулся через узкий турникет и спустился на заполненную людьми платформу.
Теперь он включил телефон. «Поиск» — высветилось на экране. Убедившись, что связи нет, он приступил к работе. Принялся просматривать контакты Джиллиан. Некоторые имена казались ему смутно знакомыми, другие были французскими, третьи — вроде бы американскими. Список ничего не прояснял. «Музей, Натали Селл, Пол домашний…»
И никакого тебе «Ника». Желудок его свело. «Она стерла меня». После всего остального это разочарование можно было считать ничтожным, но для него оно стало мучительным, словно пуля в животе. А может, и еще мучительнее, потому что это действие казалось таким обыденным — не какой-нибудь жест или послание, а так, словно воду спустить.
«Может быть, она хотела защитить меня», — попытался он найти хоть какое-то утешение.
Но это было неубедительно.
«Так почему она отправила мне эту карту?»
На станции показался красный поезд с двухэтажными вагонами. На полминуты все погрузилось в хаос — одна группа экскурсантов и покупателей поменялась местами с другой. Поезд тронулся и исчез.
Ник принялся обшаривать папки в поисках посланий. Все папки были пусты, все послания стерты, кроме одного.
Я не знаю, что сделал, но прошу тебя, позвони мне. Даже если ты не хочешь говорить, позвони хотя бы раз. Я все еще люблю тебя. Ник.
Время получения — полгода назад. Она так и не ответила. Почему она сохранила эту эсэмэску, оставила ее собирать цифровую пыль в забытом углу?
Ник закрыл послание. Платформа снова начала заполняться людьми. В дальнем ее конце гитарист в дредах пел на французском что-то из «Pink Floyd». Без особой надежды Ник перешел в журнал звонков.
Там обнаружились три записи. Два звонка на номера, показавшиеся ему французскими, — их не было в ее телефонной книге. Третий — и самый последний по времени — кому-то по имени Саймон. Ник нажал клавишу, чтобы высветить номер. Тоже вроде бы местный.
Он записал три эти номера вместе со временем и продолжительностью разговоров, потом выключил телефон.
Пятнадцать минут он провел в интернет-кафе, после чего вернулся в номер отеля. Эмили снова разглядывала карту — сидела на кровати, поджав под себя ноги, как школьница.
— Нашли что-нибудь? — спросил Ник.
Она отрицательно покачала головой.
— А вы?
— Три телефона. — Он вытащил из кармана клочок бумаги. — Три последних звонка, что сделала Джиллиан со своего сотового.
— Если только это ее симка, — сказала Эмили. — Вы же этого не знаете.
— Ее. — Ник рухнул в кресло. Руки у него все еще были как чужие от холода. — Один звонок — вызов такси. Я записал время и дату звонка, так что можно проверить, осталась ли у них какая информация. И еще один звонок какому-то типу по имени Саймон.
— А фамилии его нет?
— Даже инициала нет. — Что это значило? Джиллиан никогда не говорила ему о приятеле по имени Саймон. — Но вот с третьим звонком повезло больше. Адресата зовут профессор Жан Батист Вандевельд. Он специалист по физике элементарных частиц в Институте Жоржа Саньяка под Парижем. Специализируется на рентгеновской флуороскопии. Бог уж его знает, что это такое.
Эмили подняла брови.
— Это вы узнали из ее телефона?
— У него есть веб-сайт. — Ник протянул ей распечатку, сделанную в интернет-кафе. — Здесь указано, как с ним связаться. Я стал искать по номеру телефона и наткнулся на это.
Эмили прищурилась, глядя на распечатку.
— Зачем Джиллиан могло понадобиться говорить со специалистом по физике элементарных частиц?
— Давайте спросим у него.
XXVIII
Штрасбург, 1434 г.
Что могу я сказать о Каспаре Драхе? Я не встречал другого человека, который имел бы такой выдающийся талант; даже Николай Кузанский, думаю, уступал ему. Если Кузанский лелеял свои мысли в огороженных кущах, то Драх свободно бродил по земле; если Кузанский был склонен упрощать, искал ясную форму и лаконичность, то Драх бездумно сеял зерна своего искусства, где получалось. Там, где он проходил, расцветали сочные луга ярких и фантастических цветов. Правда, между их переплетшихся стеблей водились змеи.
Но ни о чем этом я не знал в тот весенний вечер. Я помню, как его босые ноги шлепали по ступеням лестницы, когда он спускался. Помню кривую ухмылку, когда он заметил мое удивление. Я ожидал увидеть кого-то вроде ювелира, мудрого и почтенного старца, который посвятил жизнь достижению высот в своем новом искусстве. Вместо этого я увидел худенького человека с копной непослушных черных кудрей, совсем молодого, на несколько лет моложе меня. Кожа у него была цвета дикого меда, а глаза, наподобие нефтяных разводов, меняли свой оттенок — голубые, зеленые, серые или черные по прихоти изменяющегося света. Лоб его пересекал мазок синей краски.
Он выхватил карту из моей руки и посмотрел на нее. Я искал на его лице признаки узнавания, возможно, выражения родительской гордости при виде того, что блудное дитя вернулось к нему. Ничего такого я не заметил. Он вернул мне карту.
— Ты проиграл?
— Что?
Я слушал его невнимательно. Его пальцы коснулись моих, когда он передал мне карту. В этот момент я почувствовал, что демон, таившийся во мне, шевельнулся — порыв ветра, который приносит ощущение грозы.
— Игру. Ты ее проиграл?
Я вспомнил избитое лицо Жака, его кровь на камнях.
— Нет.
Драх ухмыльнулся своей кривой улыбкой.
— Плохой мастер винит инструменты. Плохой игрок винит того, кто изготовил карты.
Он внезапно повернулся ко мне спиной и пошел к реке. Я не понял, то ли он таким образом отказывался говорить со мной, то ли нет. Я двинулся следом. Он присел у кромки воды и плеснул водой на палитру. По реке потекли цветные ниточки.
Я смотрел на него с высокого берега.
— Как ты их сделал? — прокричал я. Мой голос в вечерней тишине прозвучал неестественно громко. — Как тебе удалось сделать их такими совершенными?
Он не повернулся.
— Ты чем занимаешься?
Я помедлил с ответом.
— Был прежде ювелиром. — Лучше я ничего не мог придумать.
— А если бы я пришел в твою мастерскую и попросил поделиться секретом эмалировки или методом прижигания золота медью, чтобы заиграла гравировка, каков был бы твой ответ?
— Я…
— Я открыл такое, чего еще не открывал никто. Неужели ты думаешь, я буду делиться этим с первым попавшимся на перекрестке дорог незнакомцем?
Он вытащил деревянную палитру из реки, стряхнул с нее воду и сунул себе под мышку. Потом поднялся по склону на берег и прошел мимо меня.
— Я хочу сделать что-нибудь совершенное, — сказал я, и, наверное, какое-то чувство в моем голосе (отчаяние или безутешность) показалось ему искренним.
Драх повернулся.
— Совершенен только Бог.
Написанные на бумаге, эти слова выглядят напыщенной отповедью. Но на бумаге невозможно передать интонацию Драха: претенциозная торжественность, приниженная дернувшимся уголком рта, озорной косинкой в глазах, когда они заговорщицки встретились с моими.
— Бог — и твои игральные карты, — поправил его я.
Этот ответ очень понравился ему. Он раскинул руки и поклонился. Театральность была у него в крови.
— Даже Бог не мог создать двух совершенно одинаковых людей, в отличие от моих карт. — Он обдумывал эту мысль, а я старался скрыть потрясение от услышанного. — Исключая близнецов. А они неестественны.
Он посмотрел на небо. Солнце уже скрылось, небеса начали чернеть.
— Ты хочешь есть?
Мы пересекли поле в направлении деревни. Тропинка была узкая и перепаханная плугом. Часто на ходу мы сталкивались. Мне хотелось взять его ладонь в свою и идти с ним рука об руку, потому что я уже потерял голову. Но я, конечно, не осмелился и удовлетворялся прикосновениями его рукава да время от времени столкновением его плеча с моим.
Склянки с красками были у него в сумке, и на ходу они звенели, словно колокольчики на сбруе. Такой же была и его речь: непрерывный поток, который ласкал мой слух, не раздражая его. Он спросил, как меня зовут и откуда я. Когда я сказал, что из Парижа, он смерил меня таким взглядом, что я подумал: он знает обо мне все.
— Тут есть какая-то история, — сказал он. — Когда-нибудь ты мне расскажешь ее.
Я не мог себе представить никого, кому рассказал бы о себе с большим удовольствием.
Мы пришли на постоялый двор, называвшийся «L’Homme Sauvage» — «Дикарь». На вывеске человек с облупленной кожей бренчал на лютне, оглядываясь через плечо. Я словно вошел в иной мир; куда бы я ни посмотрел, передо мной возникали ожившие карты. Драх увидел мой взгляд и кивнул.
— Мне здесь всегда рады. Они нам предоставят стол и постель на ночь.
Он сказал «нам» таким обыденным тоном, что я не мог понять, есть ли за этим какой-то скрытый смысл. Для меня это было как если бы с его плаща незаметно отвалилась пуговица, а я бы подобрал ее и с благоговением хранил многие годы спустя.
Мы прошли через конюшенный двор и вошли в дом. После темноты свечи внутри, казалось, горели ярко, а огонь в камине рассеивал весенний холодок. Хотя деревня располагалась слишком близко к Штрасбургу, постояльцев здесь было немало. Посреди комнаты сидели три ратника в добротных плащах и хвастались своими подвигами. В углу шептались и спорили два купца из Вены.
Девушка с соломенными волосами, сплетенными в косички, принесла вино. Драх выпил свое почти сразу же и попросил принести еще. Я с нетерпением ждал, когда она уйдет, и меня трясло от той мысли, которую я вынашивал все эти долгие месяцы пути по Франции.
Наконец мы остались одни.
— У меня есть для тебя предложение, — сказал я.
Вообще-то я планировал выждать, подразнить его намеками и остротами, но не сдержался — слова сами лились из меня.
— Ты научился делать идеальные копии своих рисунков. А ты никогда не думал, что еще можно копировать?
Он поднял бровь, явно заинтересованный моей речью. Я затаил дыхание.
— Слова.
Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять. А поняв, он рассмеялся.
— Слова? И люди будут за них платить? Я иллюстрировал рукописи и видел, сколько зарабатывают писцы за слова.
— Но некоторые слова стоят побольше.
Я мысленно перенесся в монетный двор отца, представил себе поток монет, струящийся на весы. Принцип совершенства не превратил свинец в золото в Париже. Я был убежден, что в Штрасбурге с помощью бумаги мы достигнем большего.
— Например, слова Господа.
Драх так фыркнул, что вино брызнуло у него из носа. Он посмотрел на меня проницательными глазами, словно спрашивая себя, не ошибся ли во мне.
— Библию?
— Индульгенции.
Это удивило его. Он откинулся к спинке стула, взвешивая услышанное. Даже когда он погружался в свои мысли, лицо его было живее, чем лица большинства людей.
— Индульгенции — это чеки, — сказал он наконец. — Расписки, которые церковь продает тебе в подтверждение того, что ты приобрел искупление грехов. В этом нет красоты.
— В одной индульгенции красоты нет, — согласился я. — Но в тысяче совершенно одинаковых…
— В тысяче, — повторил он, оценивая это число.
— С помощью твоего искусства.
— Это будет одна страничка.
— Стандартный текст.
— Мы оставим место для имени и даты.
— И цены. — Лицо у меня горело от возбуждения. Я чувствовал себя так, словно подобрал ключ к замку. Я никогда еще не находил такого быстрого понимания в ком-либо.
— Недостатка в клиентах у нас никогда не будет.
— Если только Господь Своей милостью всех нас когда-нибудь не приведет к совершенству.
Это мое глубокомысленное замечание разрушило очарование и заставило Драха еще раз оценивающе посмотреть на меня.
— Идеальный мир будет непривлекательным местом. И гораздо менее прибыльным.
— Конечно, — запинаясь, проговорил я. Мне хотелось лишь одного — вернуть свет на его лицо. — Я только хотел сказать…
Он остановил меня, показав рукой в дальний угол комнаты, где женщина наклонилась, наливая вино сидящим за столом торговцам и батракам. При этом ее прелести обнажились — грудь, висевшая чуть не до пупа, в вырезе платья почти такой же глубины. Густая красная пудра придавала ее щекам сходство с плохо оштукатуренной стеной.
— Пока есть женщины вроде нее и мужчины вроде этих, мы будем богаты.
Я, сотрясаясь от отвращения, не сводил взгляда с проститутки. Контраст с Драхом — с его гладкой кожей, живостью, иронией — был разительный. Я понял, что он смотрит на меня, как священник на исповеди. Я состроил на лице серьезное выражение и попытался придумать замечание, которое прикрыло бы мои мысли. Драх покачал головой, словно предвидел мои следующие слова и хотел избавить меня от неловкого поступка. Он протянул руку и накрыл мою ладонь своею.
— Твоя тайна в безопасности.
Он рассмеялся, видя смущение в моих глазах.
— Твое предложение. Это план гения.
— Карты… — возразил было я.
— Карты были только началом. Я продал их богатым игрокам. Этот рынок ограничен. А с индульгенциями нашим рынком станет весь мир. И люди будут покупать их снова и снова, пока будут грешить.
Наши колени столкнулись под столом. И тогда я понял, что, пока мы с Каспаром Драхом будем вместе, недостатка греха в мире не предвидится.
XXIX
Париж
Институт Жоржа Саньяка занимал комплекс невысоких бетонных зданий на западной окраине Парижа. Пластиковые жалюзи закрывали почти все окна; те же немногие, за которыми горел свет, светились, словно экраны телевизоров. На одном из подъездных пандусов гоняла на скейтбордах группа подростков, кроме которых тут никого не было видно.
Ник и Эмили остановились перед одним из зданий и нажали кнопку звонка с надписью «ВАНДЕВЕЛЬД». Пластиковый корпус домофона был расколот, динамик заглушен скопищем выцветших стикеров, рекламирующих андерграундные оркестры, радикальных политиков, авангардное искусство или просто прославляющих анархию.
— Oui?
Эмили подалась к стене.
— Профессор Вандевельд? Это доктор Сазерленд.
Громкоговоритель издал звук, похожий на жужжание.
Дверь с щелчком отворилась.
— Venez.
Лифт не работал, и им пришлось подниматься пешком. Кабинет профессора Вандевельда находился на четвертом этаже в конце длинного коридора, устланного линолеумом, который не менялся, вероятно, со времени постройки этого здания. Они постучали. Бодрый голос пригласил их войти.
Они оказались в просторном кабинете. Слева из широкого окна открывался мрачный вид на точечные дома с зарешеченными окнами. В кабинете стоял стол с фанерной столешницей, забросанный бумагами, на стене доска, исписанная полустертыми уравнениями, у стола два низких стула. Из дыр в сиденьях торчал желтый поролон. Единственным украшением был постер на стене — страница из иллюстрированного манускрипта, — рекламирующий давно закончившуюся выставку в Лувре.
Профессор Вандевельд встал и обошел стол, чтобы пожать им руки. Он был высок, крепкого сложения, одет в вельветовые брюки и синий свитер с закатанными рукавами. Если бы не очки в серебряной оправе, то Ник сказал бы, что перед ним рыбак, а не физик.
— Эмили Сазерленд, — представилась Эмили. — А это мой помощник Ник.
Вандевельд включил чайник, примостившийся на сером каталожном шкафу, пригласил их садиться.
Эмили села на стул, закинула ногу на ногу.
— Спасибо, что согласились принять нас без предупреждения, к тому же в субботний день. К сожалению, мой имейл так до вас и не дошел.
Вандевельд вытер ложку о свой свитер и открыл банку «Нескафе».
— Ca ne fait rien. Я так или иначе здесь. А вы приехали из такой дали — из Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
— Я читала много ваших статей. — На самом деле надергала из Интернета в кафе и просмотрела за чашкой эспрессо. — Но мой коллега пытался понять суть процесса.
Ник извиняюще улыбнулся, словно говоря, что ни в чем Вандевельда не обвиняет.
— Я подумала, может, вы могли бы ему объяснить…
— Конечно. — Профессор встал и через боковую дверь провел их простую комнату без окон. — Вот здесь у нас протонный миллианализатор.
Прибор был похож на какую-то штуковину из кабинета дантиста: белые металлические трубки торчали из стены и потолка, сходясь в сопло, направленное на стальной пюпитр. Пучок толстых кабелей змеей уходил от этой штуковины к компьютеру на столе у стены.
— То, что мы делаем, называется РЭСИЧ — методика рентгеноэмиссионной спектроскопии, индуцированной частицами. — Все слова он произносил подчеркнуто медленно, отчего из-за его акцента они стали почти неразборчивы. — Она была разработана в Сан-Диего в восьмидесятых годах двадцатого века. Вы выстреливаете пучком протонов по трубе — вот этой — в исследуемый объект. В моем эксперименте таким объектом является страница из книги. Протоны проходят через страницу, ударяют по атомам, разрушают их, высвобождая рентгеновское излучение, которое мы и измеряем флуороскопической системой.
Он постучал по соплу, свисающему с потолка, потом показал на компьютер.
— Компьютер анализирует излучение и говорит нам, что находится внутри страницы.
— И это не повреждает книгу?
— Non. Мы сканируем лишь миллиметр страницы, а протоны разрушают всего несколько атомов. Так что какие-либо повреждения происходят только на молекулярном уровне.
Ник посмотрел на Эмили. Она, казалось, не возражала против его вопросов.
— И так вы определяете, что находится на бумаге?
— Мы определяем, что находится в чернилах. У каждых чернил есть химический состав, который мы и устанавливаем. Мы анализируем первые печатные тексты и таким образом узнаем, кто их сделал.
Ник набрал в грудь побольше воздуха и залез в карман.
— И что вы нашли, когда анализировали вот это? — Он показал карту, уставившись взглядом в Вандевельда.
— Я работаю только с книгами. Я не анализировал эту карту.
Но Ник прочел на его лице узнавание и что-то еще. Страх?
— Вам это приносила женщина по имени Джиллиан Локхарт.
— Я никогда не видел этой Джиллиан Локхарт. — Он произнес это тем же тоном, каким объяснял смысл аббревиатуры РЭСИЧ, как нечто заученное.
— И что вам удалось узнать?
— Я вам уже сказал — я не видел этого прежде. — Вандевельд встал. — Мне кажется, моя работа вас не интересует. Извините. Ничем не могу вам помочь. — Он положил руку на дверь. — S’il vous plait…
Ник и Эмили не шелохнулись.
— Когда Джиллиан приходила сюда?
— Никогда.
— Она звонила вам месяц назад. Три недели спустя она исчезла.
Вандевельд вздохнул.
— Мне очень жаль. Искренне вам говорю. Но… помочь ничем не могу.
— Вы не помните, что она вам звонила?
— Как, вы говорите, ее зовут?
— Джиллиан Локхарт.
Вандевельд отрицательно мотнул головой — на долю секунду раньше, чем если бы сделал это естественно.
— Non.
— У нас есть запись ее разговора, который продолжался почти пятнадцать минут.
— Может быть, моя секретарша перевела ее в режим ожидания, пока искала меня. Может быть, она не представилась… или назвалась каким-то другим именем. Может быть, она сделала вид, что ее интересует моя работа, хотя ей нужно было что-то другое.
Он отпустил ручку двери и вернулся к своему аппарату.
— Вы думаете, я что-то от вас скрываю? Ничего я не скрываю. Клянусь вам, я никогда не видел вашего друга или эту карту. Но если вы хотите, чтобы я ее проанализировал, — бога ради. Oui?
Он протянул руку и склонил набок голову. Ник посмотрел на Эмили, которая опасливо кивнула.
Француз положил карту на пюпитр перед трубкой, потом направил трубку так, как ему было нужно. Ник наклонил голову и прищурился.
— Но она направлена не на текст.
— Мы делаем два измерения. Чернила поглощаются бумагой. Так что поэтому мы сначала замеряем одну бумагу. А потом — бумагу с чернилами. Потом мы вычитаем вторую величину из первой и получаем только ту составляющую, которая относится к чернилам.
Он повернул рукоятку, фиксируя сопло, и направился к компьютеру. Ника все еще мучили дурные предчувствия.
— И нам не нужно выходить из помещения?
— Это абсолютно безопасно. Вы поглощаете больше протонов, простояв пятнадцать минут на солнце. Если вы мне не доверяете, можете держать карту в течение всего эксперимента.
Ник сделал шаг назад.
— Я буду наблюдать отсюда.
Но наблюдать было не за чем. Вандевельд нажал клавишу на компьютере, за стеной раздался рычащий звук, и над трубкой зажегся красный свет. Несколько секунд спустя свет погас и рычание прекратилось. Вандевельд перенастроил трубку — теперь она была направлена на роскошную львиную гриву, где чернила были самые густые. Свет снова мигнул, потом выключился. На мониторе компьютера появился график с зубчатой кривой.
— И что это значит?
— Это показывает разные элементы, которые мы можем выявить. — Вандевельд провел по одному из зубцов пальцем. — Вот кривая, определяющая содержание натрия. А эта — меди.
— И… что из этого вытекает? Вы можете определить, из чего были сделаны чернила?
— Не полностью. Флуороскопическая система определяет не все параметры. Иногда мы не знаем, откуда берется тот или иной элемент. Скажем, мы обнаружили свинец. Возможно, он появился из массикота — пигмента, который использовался в качестве кроющей, быстро высыхающей краски. Но может быть, его источник — оксид свинца, используемый для цвета. Или — если мы имеем дело с книгой — источником свинца, возможно, являются литеры, изготовленные из свинцового сплава. С помощью нашего прибора мы лишь можем установить, что свинец там присутствует.
— И какой в этом смысл?
— Каждые чернила имеют свой состав. Вы это понимаете? Каждый печатник использует свои чернила или краску. У нас есть банк данных на этот счет.
— И вы можете проверить эти чернила?
— Bien sur. Я вам покажу.
Он нажал клавишу. Над графиком неторопливо возникли песочные часы. Несколько секунд спустя внизу экрана появилась строка текста. Ник догадался, что она означает, прежде чем Вандевельд резюмировал текст одним словом:
— Rien.
Он пожал плечами и отошел от компьютера. Нику показалось, что в его движениях чувствовалась некоторая настороженность, словно у собаки, которую слишком часто пинали. Он грустным взглядом посмотрел на Ника и Эмили.
— Если ваша подруга приходила сюда — а я вам клянусь, что не приходила, — то я бы сказал ей то же самое.
Ник взял карту с пюпитра, завернул ее в ткань и сунул в сумку. Он посмотрел на Вандевельда, уверенный, что тот сказал им не все, но не зная, как добиться откровенности.
Вандевельд открыл дверь и печально улыбнулся.
— Я надеюсь, вы найдете вашу подружку.
Ник неохотно вышел в темный коридор. Эмили последовала за ним, но Ник услышал, как Вандевельд пробормотал ей что-то по-французски, прежде чем закрыть дверь. Они молча вышли на лестницу. На улице солнце уже зашло и парни со скейтбордами исчезли. Единственным источником света были теперь оранжевые пятна под уличными фонарями. Стужа стояла лютая.
— Что он вам сказал в дверях? — спросил Ник.
— Он сказал, что не все следы на карте чернильные.
Ник кинул взгляд назад, соображая, что бы это могло значить, но свет в окне на четвертом этаже уже погас.
XXX
Окрестности Штрасбурга, 1434 г.
— Осторожнее. Если прольешь хоть каплю, мы сгорим, как еретики.
Драх проткнул луковицу заточенной палкой и ухмыльнулся. Это испугало меня. Улыбался он только тогда, когда был серьезен.
Наверное, его предупреждение сыграло свою роль, потому что в тот день все мои чувства были обострены. Сладковатый запах угля и неприятный — масла из льняного семени, яркое августовское солнце, лучи которого образовывали столбы света в дыму, тягучие пузыри, булькающие в котле между нами… Я ощущал даже каждую капельку пота, стекающего по моей обнаженной спине.
Драх присел рядом с котлом со своей нанизанной на палку луковицей. Я надел кожаные перчатки и потянулся к медной крышке на котле. Наши взгляды встретились через маслянистый пар.
— Помни — ни капли.
Я чувствовал свое единство с миром. Никогда в жизни я не был так счастлив.
Хотя теперь это и кажется странным, но Драх снова сделал из меня уважаемого человека. За это я простил ему многое из случившегося впоследствии. Святой Фома Аквинский говорит, что все существа рождаются для своей судьбы в этом мире. Ощущение того, что ты выполнил свою миссию, приходит, когда ты добиваешься этой цели. Я всегда знал свою цель, но на протяжении двадцати лет тыкался туда-сюда, как слепой. Встретив Драха, я наконец начал прозревать свою судьбу. Возможности пробуждают честолюбие, честолюбие порождает надежду, надежда стала возвращать меня к жизни, от которой я бежал со дня смерти отца.
Я решил, будто с моей жизнью давно покончено. А тут обнаружил, что всего лишь спал как медведь, погрузившийся в спячку до весны. Я написал моему брату Фриле на адрес отцовского дома в Майнце и получил сдержанный ответ — осторожное приглашение назад в семью. С помощью Фриле я сделал несколько открытий. Во-первых, он все еще производил отчисления на мое имя, и они каждый квартал составляли некоторую сумму золотом. Будучи честным и аккуратным человеком, Фриле мог отчитаться за каждый пфенниг, накопившийся со времени моего отъезда. Он сказал, что, к сожалению, большая часть этих накоплений ушла в Кельн к Конраду Шмидту, который подал иск на всю стоимость моего несостоявшегося ученичества, но остальное Фриле перевел в Штрасбург.
Мой брат не упоминал о причинах, по которым я оставил Шмидта, и я на основании этого сделал второй вывод: Шмидт предпочел защитить репутацию своего сына, вместо того чтобы очернить мою, и не стал распространяться о причинах моего бегства. Эту тайну он унес в могилу — как сообщил мой брат, Шмидт умер несколько лет назад. Что стало с маленьким Петером, я так никогда и не узнал.
Благодаря Фриле я получил небольшой капитал и доход, на который мог полагаться. По странному свойству кредитной системы, те, кто менее всего нуждается в деньгах, как раз их и получают. Давая в долг, я сумел из этого скромного капитала сделать больший. Вскоре стало ясно, что именно я буду финансировать наше предприятие. Драх, несмотря на всю свою гениальность, был поразительно беспечен в отношении к деньгам. Когда он сказал мне, за какую смехотворную сумму продавал карты, я пришел в ужас; потом он признался, что не может сделать новые копии, так как продал пресс, чтобы расплатиться с долгами, и я в недоумении спрашивал себя, с какого же рода человеком связал свою судьбу.
— Ты возьми святого Франциска — нет ничего прекраснее, чем жизнь в бедности.
Больше я от него ничего не мог добиться, когда попытался поговорить с ним на эту тему.
— И смирении, — напомнил я ему.
Услышав это, он рассмеялся, потому что тщеславие было его вторым «я» и он знал это. Он потрепал меня по волосам и назвал несговорчивой старухой. После того случая я воздерживался от бесед на эту тему.
Я снял дом в Сент-Арбогасте, в деревеньке на перекрестке дорог, где и познакомился с Драхом. Это был неплохой дом: низкое сооружение из трех комнат, вдобавок сарай и каменная постройка в другом конце двора. От дороги дом был защищен тополиной рощицей, а заливной луг отделял меня от реки Иль, несущей свои воды по петляющему руслу к городу в трех милях от деревни. Соседей поблизости не было, и никто не видел, как приходил и уходил в самое неурочное время Драх, никто не чувствовал тех странных запахов, что поднимались над каменным сооружением, и не жаловался на шум, когда Драх однажды вечером случайно поджег курицу. Это был мой первый дом, в котором я мог считать себя хозяином, и мне нравилось обретенное в нем ощущение свободы. Мне исполнилось тридцать пять.
Короче говоря, с помощью Драха за очень короткое время я вылез из ямы, в которой обитал, и нашел свое место в мире.
Я приподнял медную крышку, держа ее так, чтобы кипящая жидкость не попала в огонь. У меня и Драха на лицах были повязки для защиты от зловонных паров, поднимающихся над котлом. Он окунул луковицу в кипящее варево. В тот момент, когда луковица коснулась поверхности, из масла поднялась коричневая накипь, обволокла луковицу, закружилась вдоль стенок котла.
— Не позволяй ей проливаться через край!
Драх вытащил луковицу, и я водрузил крышку на место.
— Слишком горячая, — сообщил он.
Кочергой и щипцами я раскидал угли под треножником, чтобы жар уменьшился. Когда варево вроде бы стало кипеть не так бурно, мы снова попробовали эксперимент с луковицей. На этот раз накипь поднималась медленнее, обжигая кожицу овоща, но не угрожая пролиться через бортик.
— Отлично, — сказал Драх.
Я держал крышку открытой, а он взял чашу с истолченным гарпиусом и с помощью ложки посыпал им поверхность варева. Каждый раз, когда порошок прикасался к жидкости, это вызывало бурление накипи и пены, а чтобы ничто не выплеснулось из котла на огонь, отчего занялся бы пламенем весь котел, жидкость нужно было быстро размешивать. Это была самая рискованная часть эксперимента, но не только из-за опасности (которая была велика), а из-за намеренно избранного Драхом метода. Каждая следующая порция гарпиуса была больше предыдущей, отчего пена все ближе подбиралась к краю, а мне приходилось мешать жидкость все энергичнее. Драху, казалось, это доставляло огромное удовольствие, как ребенку, тыкающему палкой собаку. Я же был вне себя. От зловонных паров, усталости и страха мне стало нехорошо.
Постепенно смесь стала сгущаться. Когда она приобрела консистенцию жидкой грязи и цвет мочи, мы с помощью черпаков перелили ее в стеклянные кувшины. Потом оставили все это остывать, погасили огонь и пошли к реке.
Я снял штаны и нырнул, потом развернулся, чтобы видеть, как Каспар раздевается на берегу. Масло, которое покрывало меня, смылось, и вода унесла эту вонючую пленку. Вместе с ней ушла и моя злость. Я чувствовал себя глупцом — нужно же было так разозлиться из-за его подначек.
Каспар вошел в воду и присел на мелководье. С огнем он был ужасно небрежен, а вот воды странным образом побаивался. В этой области я превосходил его и потому позволил себе несколько минут плескаться на глубине, нырять, надолго задерживая дыхание, чтобы заставить его поволноваться. Когда я открыл глаза под водой, солнечный свет, проникавший сквозь заросли камыша, напомнил мне те дни, когда я промывал золото на Рейне. Я не мог поверить, что то была моя жизнь.
Я вынырнул на поверхность и поплыл к берегу. Каспар зашел в реку лишь до того места, где вода доходила ему до бедер. Вид у него был такой недовольный, что я рассмеялся. Настроение у меня было озорное, и я получал удовольствие, вызывая его зависть.
Я обогнул его и встал в иле, брызгая водой ему на спину, соскребая сажу и масло. Кожа у него была упругая, плечи красивые и мускулистые от долгих часов работы. Когда он развернулся, я нырнул под воду, чтобы он не увидел, как восстала моя плоть.
Мы оделись и пошли к дому, взяли варево в сарай, где теперь посередине высились два деревянных стола. Там мы вычерпали жидкость на каменную плиту. К этому времени смесь остыла и превратилась в вязкую пасту. В устричной раковине рядом с плитой была небольшая горка ламповой сажи, которую мы постепенно вмешали в пасту. Я смотрел, как черные нити расползаются по пасте, а потом растворяются в ней.
Драх окунул в нее кончик пальца, затем вытер его о клочок бумаги рядом с плитой. На бумаге появился черный мазок, но, высыхая, он выцвел и стал сероватым. Мы потратили столько сил на изготовление чернил — я испытывал некоторое разочарование.
— Они должны быть темнее. Резче. Как настоящие чернила. — Я вспомнил недели, проведенные в башне Тристана в Париже, когда ловил каждый оттенок радуги. — Порошок меди чернеет, если его обжигать на достаточно горячем огне. Если бы мы примешали его к ламповой саже, то цвет, возможно, получился бы ярче. А может быть, чтобы добавить глубины, следовало взять еще и красную окись свинца.
У Драха был раздраженный вид. Он прикоснулся пальцем к моим губам, призывая меня к молчанию.
— Сгодится. И потом, у нас еще все равно нет пресса.
XXXI
Париж
— Почему он врал?
Поезд, стуча по рельсам, возвращался в Париж. Ночь опустилась на проносящиеся мимо пригороды: когда Ник выглянул из окна, то увидел лишь собственное расплывчатое отражение и отражение Эмили напротив — призраки в темноте.
Он перефразировал свой вопрос.
— Зачем ему нужно было врать? Зачем делать вид, будто он не видел ни этой карты, ни Джиллиан?
Эмили пробрала дрожь, и она поплотнее запахнула на себе куртку.
— Он так спешил пропустить карту через свою машину — знал, что совпадений не будет.
— Потому что уже анализировал ее, когда приходила Джиллиан.
— Но если он ничего не нашел…
— …то зачем ему нужно было врать?
Поезд затрясло на стрелках, мимо пронеслась станция.
— Интересно, зачем Джиллиан возила сюда эту карту?
Ник недоуменно посмотрел на Эмили.
— Чтобы проанализировать чернила.
— Вандевельд прежде работал только с печатным материалом — с книгами. Но первая книга была напечатана лишь около тысяча четыреста пятьдесят пятого года. Насколько нам известно, эти карты созданы на двадцать лет раньше. Напечатаны они глубокой печатью — краска при этом способе находится в канавках, выгравированных в форме, и вдавливается в бумагу. А текст печатался высокой печатью, когда краска наносится на выступающую поверхность литеры. Точно я не знаю, но мне думается, что они использовали разные типы красок.
— И значит, Джиллиан пошла к человеку, который мог ей помочь, но ничего не выяснила. И все это настолько тайно, что ему приходится врать?
Головная боль из-за смены часовых поясов не отпускала Ника; вот и теперь в висках застучало.
— Наверное, у него побывал кто-то еще, — спокойно сказала Эмили. — Кто-то после Джиллиан… может быть, они нашли Вандевельда. И поэтому он так испуган.
Они сошли на следующей станции. Ник увидел телефон-автомат на пустой платформе и набрал второй номер из списка Джиллиан. Руки у него дрожали, и он с трудом засунул монетки в щель. Себе он сказал, что дрожит от холода.
На другом конце провода после трех звонков ответили:
— Ательдин.
Что это такое — человек? Компания? Отель?
— Могу я поговорить с Саймоном?
Настороженная пауза.
— Это Саймон Ательдин.
Иностранец, говорит с британским акцентом, однако голос неожиданно знакомый. Ник совершил прыжок в темноту.
— Вы работаете у Стивенса Матисона? В аукционном доме?
— Да.
— Меня зовут Ник Эш. Я — друг Джиллиан Локхарт. Кажется, я с вами говорил несколько дней назад.
Еще одна пауза.
— Вы здесь — в Париже?
Номер телефона-автомата, видимо, высветился на трубке Ательдина.
— Да.
— Тогда нам нужно встретиться.
Ник и Эмили прибыли в восемь. Нику, не бывавшему в Париже, «Оберж[22] Николя Фламель» показался воплощением французского ресторана. Каменные колонны подпирали толстенные дубовые балки. Каменная кладка была и вокруг освинцованных окон, а высоко над огромным камином со стены на зал взирала бычья голова. Большинство столиков были заняты, и в помещении стоял ровный гул голосов. Ник вдруг почувствовал волчий голод.
Найти Саймона Ательдина не составило труда: он был здесь единственным человеком в двубортном костюме. Он сидел в одиночестве в дальнем углу зала, перед ним стояла открытая бутылка вина. Увидев Ника и Эмили, он поднялся и пожал им руки.
— Милое местечко, — сказал Ник.
Ательдин налил им вина в бокалы.
— Это старейший ресторан в Париже. Построен в тысяча четыреста седьмом году Николя Фламелем, знаменитым алхимиком.
— Я думал, это вымышленное лицо, — выпалил Ник и сразу пожалел, что сказал это.
Ательдин, к его облегчению, рассмеялся.
— Гарри Поттера давно пора призвать к ответу.[23] — Увидев удивленное выражение на лице Ника, он скромно улыбнулся. — У меня две дочери… когда их мать позволяет мне их видеть. Только благодаря им я не полностью завяз в Средневековье.
Эмили расправила салфетку у себя на коленях.
— Фламель — реальное лицо. Его могила сохраняется здесь в Музее средневекового искусства.
Ательдин кивнул.
— Он был первым алхимиком, который сумел превратить цветной металл в золото. Научился по семи древним аллегорическим рисункам, которые скопировал на арке кладбища Святого Иннокентия. Предположительно.
— Рисунки были настоящие, — сказала Эмили. — Их подлинность подтверждена.
— И их все еще можно увидеть?
— Кладбище Святого Иннокентия было уничтожено в восемнадцатом веке. От этих картин остались только копии.
— Хотя я никогда и не слышал, чтобы кто-то с успехом воспользовался ими для преобразования свинца в золото, — заметил Ательдин.
Ник оглянулся.
— Он определенно мог себе позволить хороший дом.
Подошел официант и спросил что-то по-французски. Ательдин с извиняющейся улыбкой попросил его подойти попозже.
— Заказывайте что хотите. Я плачу… вернее, Стивенс Матисон.
Они молча изучали меню. Вступительные слова были произнесены, и даже Ательдин, казалось, не знал, что делать дальше. Они с облегчением восприняли возвращение официанта, который разрушил возникшую неловкость.
Ник сделал заказ, не будучи уверен, какой еде порадуется его организм, страдающий от перемены часовых поясов. Любое блюдо в меню, казалось, включало рыбу, сливки или макароны, а иногда все вместе. Когда официант унес меню, на лице Ательдина появилось серьезное выражение.
— Я полагаю, вы хотите узнать про Джилл.
Ник никогда не слышал, чтобы кто-то так называл ее. Ему это не понравилось.
Ательдин раскрутил вино в бокале и теперь разглядывал его.
— Джилл появилась у нас месяца четыре назад — прилетела из Нью-Йорка. Вы, вероятно, знаете, что она работала в Метрополитен-музее. Очень острый ум и великолепный глаз. Она знала, какие вещи имеют цену, и еще она знала, какие будут продаваться. Вы удивитесь, узнав, сколько людей в нашем бизнесе не могут связать одно с другим. Мы с ней работали вместе на нескольких распродажах. И она произвела на меня сильное впечатление. Месяц назад, недели за две до Рождества, нам поручили новую работу. Большое имение неподалеку от Рамбуйе. — Он произнес это на английский манер — с ударением на предпоследнем слоге. — Необыкновенное место. Великолепный большущий разрушающийся замок в лесу. Возможно, его не ремонтировали со времен Революции. На стенах гобелены, картина, подозрительно похожая на не самую удачную работу Ван Эйка, мебель такая старая, что ее, может, изготовил Иисус. Даже всамделишные рыцарские доспехи в холле. Но ничто из этого к нам не имело отношения — у нас были эксперты, разбирающиеся во всем этом. Нам с Джилл была поручена библиотека.
— И когда это было? — спросила Эмили.
— Двенадцатого декабря. Это день рождения моей младшей дочери, и мне хотелось пораньше добраться до дому, чтобы успеть ей позвонить.
Ательдин замолчал — официант принес закуски, — потом густо намазал тост паштетом из гусиной печенки, а сверху — луковой приправой.
— Мы отправились туда вместе, ни о чем не догадываясь. Мы имели дело с дочерью покойного хозяина, дочь эта живет на Мартинике. Она просто нам сказала, что там есть библиотека и, как ей думается, некоторые книги могут представлять какую-то ценность. И это дело обычное — вы удивитесь, узнав, сколько детей понятия не имеют, чем владеют их родители. По большей части они думают, будто на полках стоит несколько книг в твердых переплетах или будто там есть несколько бесплатных книжиц в красивых обложках, которые их старик получил, когда вступал в книжный клуб. И обычно те, кто думает, что там ничего нет, сидят на мешке с золотом.
Ну, в общем, мы с Джилл пробрались через руины в библиотеку. Распахнули двери — а они, кстати, были бронзовые, высотой в десять футов, возможно снятые с какой-нибудь церкви эпохи Возрождения. Потом открыли несколько шкафов — и глазам своим не поверили. Манускрипты. Фолианты. Инкунабулы.
— Что такое «инкунабула»? — спросил Ник.
Вопрос он обратил к Эмили, но ответил ему Ательдин.
— В буквальном переводе с латыни «инкунабула» означает «колыбель», «начало». Мы этим термином обозначаем первые печатные книги — все, что вышло в свет до тысяча пятисотого года. Сами понимаете, они на деревьях не растут. В тех редких случаях, когда они поступают в продажу, то уходят за сотни тысяч, а то и за миллионы. При первом знакомстве мы обнаружили тридцать таких изданий. А к ним еще и множество иллюстрированных манускриптов. Мы с Джилл чувствовали себя как Картер и Карнарвон[24] в усыпальнице Тутанхамона.
Он вгрызся в свой тост.
— Мы, конечно, готовились, прежде чем туда поехать, просмотрели списки книг, выставлявшихся на продажу, аукционные архивы и все такое, чтобы легче было идентифицировать издания из библиотеки старика. Ничто из найденного нами на продажу не выставлялось.
Он посмотрел на Ника и Эмили, подчеркивая важность сказанного.
— Ничто. Значит, все это находилось там не менее пятидесяти лет. А может, несколько веков. Потерянное потеряно для мира. Я уж не говорю о финансовой стороне — с точки зрения науки это было золото высшей пробы.
Потом мы подняли головы. Типичный итальянский потолок, голубое небо с херувимами. Только вот с этого безоблачного неба капал дождь. Крыша отсутствовала. Старик умирал несколько месяцев. Не поднимался с кровати. Я уже сказал, что дочь его живет за границей, а горничной входить в библиотеку не разрешалось. Поэтому никто ничего не заметил. Вы помните, какая была жуткая, дождливая осень? Так вот, дождь протекал сквозь крышу прямехонько в библиотеку.
— И что вы сделали?
— Вызвали службу экстренной помощи. Бригада специалистов по консервации и реставрации увезла книги. А два дня спустя Джилл исчезла. Я больше ничего о ней не слышал. Пока она не связалась с вами по электронной почте.
Ательдин положил нож и вилку на тарелку, сплел пальцы и посмотрел в глаза Нику, который несколько последних ложек бульона поглощал в тишине. Как только он положил ложку, появился официант и принялся убирать тарелки со стола. Может быть, он подслушивал? Он долил их бокалы с вином, хотя Ник к своему едва прикоснулся.
— А какие-нибудь книги с нею пропали?
Ательдин издал добродушный вздох.
— Сожалею, но именно такой и была наша первая мысль. Honi soit qui mal у pense,[25] но компании совсем не нравится, если начинает попахивать скандалом. Это плохо для бизнеса. Старик к концу, вероятно, выжил из ума. Но он вовсе не был дураком. У него имелся каталог всей коллекции. Ничего не пропало.
— И тогда вы сообщили в полицию?
— Вы же знаете Джилл. — Ательдин откинулся к спинке стула, чтобы официанту было удобнее подать главное блюдо. Кость ягнячьей ножки торчала, словно башня замка, окруженная рвом подливы и равелинами вареной картошки. — Она из таких… свободных натур. Поначалу мы решили, что она через некоторое время появится с какой-нибудь авантюрной историей — мол, убежала с цыганами или участвовала в двухсуточном кутеже с шайкой анархистов. Но конечно же, я беспокоился. Когда она не появилась и три дня спустя, я пошел в полицию. Там меня стали уверять, что это, скорее всего, какая-нибудь любовная история. Я сказал, что это маловероятно, но они смотрели на меня на этот свой французский всепонимающий манер.
— А вам не удалось обыскать ее кабинет, ее квартиру?
— Там ничего не обнаружилось, — быстро ответил Ательдин. Он отер подбородок, на который попала капелька подливы, потом поднял взгляд. — Джилл остановилась у меня. Пока не найдет какой-нибудь квартиры. Ее прислали сюда, не предупредив заранее, а искать квартиру в Париже — сумасшедшее дело.
Он сказал это, словно оправдываясь. Ник ковырял рыбу в тарелке. Голова у него вспухла, словно ее накачали новокаином.
— После вашего звонка я снова просмотрел каталог. Искал, не найдется ли чего-нибудь, связанного с Мастером игральных карт. Ничего не обнаружилось.
Он положил руки на стол и вперился в Ника выжидательным взглядом. Ник уставился в тарелку, не желая поднимать глаза.
Ательдин вздохнул.
— Слушайте, если вы серьезно настроены искать Джилл, то позвольте мне помочь вам. Вы сказали, что она упомянула в письме карты.
— Она прислала зов о помощи, — сказала Эмили. Это были ее первые слова с того момента, как они вошли в ресторан. — А в приложении сканированное изображение одной из карт. Восьмерки зверей.
— Парижская копия или дрезденская?
— Парижская, — сказал Ник. — Вы явно с ними знакомы.
— Ваш телефонный звонок меня заинтриговал. Я отправился в библиотеку и прочитал про них… даже упросил хранителя показать мне некоторые из них в Национальной библиотеке. Выдающиеся произведения. Но насколько я понимаю, это не имеет никакого отношения к тому, над чем работали мы с Джилл. Больше она ничего не сказала?
Ник отрицательно покачал головой.
Ательдин откинулся к спинке стула.
— Джилл — необыкновенная девушка. Я много бы отдал, чтобы узнать, что она в безопасности… или найти ее, если она, упаси бог, попала в какую-то беду.
XXXII
Штрасбург
— Тут слишком темно.
— Зато нас никто не увидит.
Драх соскреб паутину с одной из балок. Бедолага паук повис на нити в руке Драха, его ножки прямо в воздухе пряли нить.
Я оглядел пыльный подвал. В окне на высоте головы я увидел колеса телег, подковы и ноги проходивших мимо людей. Придется установить здесь матовое стекло, которое пропускало бы свет с улицы и в то же время защищало нас от чужих глаз. Я бы не выбрал это место для тонкой работы, но Драху оно вроде бы понравилось.
Вообще-то говоря, содержание моего дома у реки обходилось мне дороже, чем я рассчитывал, — большую часть моих поступлений от наследства. А пока основная часть процентов уже ушла на покупку составляющих для чернил, инструментов для мастерской, медных листов, угля, бумаги… Нагрузка на мой кошелек была неподъемной. А теперь еще Драх настоял на том, чтобы мы обзавелись второй мастерской для пресса, которого у нас пока не было.
— Где дубильщики дубят кожи? — спросил Драх.
— В дубильном поле за городской стеной.
— Поэтому вонь не проникает в город. Но где кожевники и седельщики изготовляют свой товар?
— Здесь, в Штрасбурге.
— Чтобы быть поближе к своим клиентам. Мы должны сделать то же самое. — Он показал налево и вверх — приблизительно в направлении, где располагался собор. — И нам отсюда до центра рукой подать. А там, где центр, там и наше с тобой богатство.
На лестнице скрипнула ступенька. Это был домовладелец — крупный человек по имени Андреас Дритцен, он вошел, пригнув голову, чтобы не удариться о балки. Его положение в обществе и телосложение были таковы, что при первой встрече люди обычно побаивались его, но позднее обнаруживали, что он превыше всего ценил хорошее мнение о себе и старался никого не обидеть. Хотя, судя по размерам и основательности его дома, он при всей своей покладистости не забывал и о выгоде.
— Вас все устраивает? — У него был нарост на горле, отчего говорил он всегда с хрипотцой.
— Идеально, — ответил Драх, прежде чем я успел сказать хоть слово. — Будто специально для нашего ремесла построено.
«Помещение слишком темное, слишком дорогое и слишком большое по площади для наших потребностей», — вот что было у меня на языке.
Таким образом мы могли добиться хотя бы некоторой скидки за аренду. Но я не мог противоречить Драху, поэтому стоял с неловким видом и помалкивал.
Дритцен уставился на нас.
— А чем, вы сказали, вы занимаетесь?
— Копированием.
Дритцен ждал, думая, что последуют разъяснения. Я взглядом приказал Драху молчать и сам ничего больше не сказал.
— Вы не должны разводить здесь огонь или делать что-то сильно пахнущее. — Дритцен помахал рукой у себя перед носом. — Предыдущие арендаторы у меня были кожевенниками. Они не просушивали толком свои кожи, и отсюда воняло, как от покойника.
На улице проходившая мимо лошадь подняла хвост и испражнилась. Один из шариков попал в сточный желоб, прокатился сквозь открытое окно и плюхнулся к нам на пол.
Мы пересекли площадь, направляясь к ювелирной мастерской Ганса Дюнне. Я посмотрел на собор, поднимающийся из лесов, словно женщина, сбрасывающая платье, и подивился. Мне эти замысловатые леса, их совершенство, при всем их скромном назначении, казались не менее прекрасными, чем сам собор. Когда я сказал об этом Каспару, он усмехнулся.
— Веревки, шесты и лестницы? Красота происходит из жизни — из сладострастия, глупости, смеха, несчастья.
— Как может быть прекрасным несчастье?
Каспар показал на нищего, выпрашивающего милостыню у дверей собора. Ног у него не было, правая рука по локоть отсутствовала. Он сидел в низенькой тележке, которую толкал с помощью раздвоенной деревяшки, прилаженной к обрубку руки. Удар обезобразил половину его лица, которая превратилась в дряблую маску, а другая половина была исцарапана — следствие его попыток побриться.
— Он карикатурен. Вызывает жалость. Но при чем тут красота?
Каспар ухватил меня за плечо.
— Но ты чувствуешь себя живым. Разве его вид не заставляет все члены твоего тела петь в благодарность просто за то, что они существуют? Разве это не прекрасно?
Каспар время от времени высказывал такие странные, вызывающие тревогу мысли, если ему хотелось удивить меня чем-нибудь парадоксальным. Я научился не обращать на это внимания и по мере сил скрывать свое беспокойство.
Когда мы добрались до мастерской, Каспар обошел прилавок и открыл для нас боковую дверь. Замки и щеколды для него мало что значили. У него не было почти ничего, кроме его таланта, но он относился к миру так, будто тот весь принадлежал ему. Пока мы ждали, когда Ганс закончит свой разговор с клиентом, Каспар разглядывал перстень с сапфиром.
— Я нашел человека, который может сделать вам пресс, — сказал Дюнне, разобравшись с клиентом. — Это Саспах — он делает сундуки. Он говорит, это будет стоить шесть гульденов с деревянным винтом или восемь с железным.
— Нам непременно нужен железный, — сказал Каспар.
— Непременно? — спросил я с тяжелым сердцем, думая о еще больше полегчавшем кошельке.
— Ты же сам знаешь. Чем больше давление, тем четче отпечаток. Деревянный винт расхлябается или вообще сломается.
Прежде чем я успел еще что-либо возразить, Дюнне залез в свой шкаф и вытащил оттуда предмет, завернутый в материю. Вещица была размером с небольшую книгу, но, когда я взял ее в руки, оказалось, что она довольно-таки тяжелая.
— Это первая порция.
Я развернул материю. Внутри была дюжина ровнейших медных листов толщиной с лезвие меча.
Дюнне откашлялся — вежливый звук, который становился мне все более знакомым. Я вздохнул.
— Конечно, я должен заплатить тебе за услугу.
XXXIII
Париж
Когда Ник проснулся, вокруг было темно, хотя часы показывали половину десятого. Смена часовых поясов изнурила его. Он полежал на полу десять минут, но уснуть снова ему не удалось, мозг был перегружен. Наконец он поднялся и тут же чуть не упал от слабости.
Из крохотной ванной появилась Эмили, уже одетая и накрашенная. В том, как она в таком тесном пространстве умудрялась скрывать интимные подробности своей жизни, для Ника было что-то кошачье, невообразимое. Он всю ночь провел в одной с ней комнате, но даже не мог сказать, какого цвета у нее пижама. Теперь на ней был плотный, кремового цвета свитер, шоколадно-коричневая юбка и черные чулки.
Ник стащил с себя футболку, бросил ее на стул. Эмили встревоженно посмотрела на него.
— За углом есть кафе. Я буду ждать вас там.
После душа, бритья и в чистой рубашке Ник снова почувствовал себя человеком. Он вышел на холод и направился в кафе. Эмили сидела в теплом пространстве с чашечкой черного кофе и читала «Ле монд». В отличие от Джиллиан, которая вертела бы головой во все стороны, разговаривала с официантами, каждые десять секунд поглядывала на дверь, Эмили, казалось, была погружена только в себя самое.
Ник заказал американский завтрак и мысленно торопил официанта поскорее принести кофе. Эмили отложила газету.
— Вы не объявлены.
Ник не улыбнулся. Он не забыл, что является беглецом. Каждый звук полицейской сирены вдалеке, каждый регулировщик движения, каждый прохожий, задерживавший на нем взгляд, каждая туристическая камера, мимо которой он проходил, были для него как пытка водой.
Эмили попыталась вывести его ступора.
— И что будем делать сегодня?
— Не знаю.
Он чувствовал себя выпотрошенным. Мимо окна промчалась стайка мопедов, их водители, обгоняя друг друга, закладывали виражи и петляли. Ника грызло сожаление. С его стороны было безумием лететь сюда. Лучше уж остался бы в Нью-Йорке, и пусть бы Сет его защищал.
— Джиллиан оставила нам три наводки: игральную карту, симку мобильного телефона и читательский билет.
— Три карты. — Ник нахмурился, размышляя, означает ли это что-нибудь. Даже сейчас его посещали сомнения: может быть, это была какая-то дурацкая шутка со стороны Джиллиан. «Джилл — необыкновенная девушка». — Еще две, и у нас будет фул-хаус.
Эмили прищурилась, вникая в мои слова. Наконец она сказала:
— Мы даже не знаем, хотела ли она, оставляя их там, чтобы они были найдены.
— Но она послала мне код.
— Это уже потом. — Эмили вытащила ручку и провела линию на полях газеты. У вершины поставила горизонтальную палочку. — Джиллиан отправилась в замок под Рамбуйе за две недели до Рождества, двенадцатого декабря. — Еще одна горизонтальная палочка. — Два дня спустя она исчезла. Четырнадцатого декабря. Потом ее следы теряются до шестого января, когда она связалась с вами по Интернету. — Она посмотрела на Ника. — У вас есть список ее телефонных звонков?
Ник вытащил бумажку.
— Вандевельду она звонила во второй половине дня тринадцатого декабря. Накануне исчезновения.
— И через день после ее посещения замка.
— Может быть, в этом и нет никакого скрытого смысла, — осторожно сказал Ник. — С учетом специализации Джиллиан она могла найти эту карту где угодно. Может быть, несколькими месяцами ранее… может даже, она привезла ее из Нью-Йорка.
Эмили закатила глаза.
— Она нашла карту, которая была потеряна на пять столетий, и день перед своим исчезновением провела в библиотеке, полной ранее неизвестными манускриптами пятнадцатого века. Я знаю, где бы начала искать.
— Ательдин говорил о книгах. Он ни слова не сказал о картах.
— Большинство карт сохранилось потому, что они были вложены в книги. И нередко вскоре после того, как их напечатали. Библиотека была затоплена, книги пребывали в сырости. Это могло растворить клей — и карта выпала из книги, возможно, просто упала ей на колени.
Ник видел, как румянец возвращается на щеки Эмили, как она преувеличенно жестикулирует, показывая, каким образом карта выпала из книги. Эта мысль придала ей раскованности, словно она выпила лишнего.
— Ну хорошо, допустим, она нашла карту в библиотеке покойного.
— На следующий день она позвонила Вандевельду. Отправилась к нему, он проанализировал карту и… что-то обнаружил.
— Вот только он говорит, что Джиллиан у него никогда не была, а если и заходила, то в карте ничего такого необычного нет.
— Он лжет, — сказала Эмили с приятной уверенностью. — Кому она позвонила потом?
— Потом она заказывала такси. Шестнадцатого декабря.
— А звонок Ательдину?
— Это было раньше. Вечером перед ее исчезновением.
— Но после того, как она нашла карту. — Эмили взболтала пенку на кофе. — Сказала она об этом Ательдину?
— Не думаю, — ответил Ник. — У него был такой удивленный тон, когда я по телефону спросил его о Мастере игральных карт.
Он повозил вафлей по тарелке, подбирая масло.
— Мы проверили игральную карту и телефонные звонки. Единственное, что еще осталось, — читательский билет. — Эмили отхлебнула кофе. — Национальная библиотека — это исследовательская библиотека. Я там провела некоторое время, готовя диссертацию. Нужные вам книги необходимо заказывать.
— И что?
— Заказы фиксируются по читательскому билету. Мы можем выяснить, что читала Джиллиан.
Ником овладело безысходное, парализующее отчаяние.
— И что нам это даст?
— Больше у нас ничего нет.
Ник допил остатки кофе.
— Я хочу вернуться и проверить ее домашнюю страницу. Может быть, там что-нибудь обнаружится.
На лице Эмили появилось встревоженное выражение.
— Вы считаете, нам безопасно разделяться?
— Для вас это безопаснее, чем быть со мной. Не забывайте, я — беглец. — Он встал. — И в любом случае будем надеяться, что всех злодеев мы оставили в Нью-Йорке.
XXXIV
Штрасбург
Пресс был установлен на крепком столе в передней части помещения. Он состоял из рамы, включавшей сланцевое ложе, двух вертикальных опор, которые удерживали перекладину и деревянную доску, и прижимного устройства между ними на металлическом винте. Он мало чем отличался от прессов, которыми пользовались изготовители бумаги, отжимая полученные листы.
Нас в помещении было четверо. Я бы предпочел, чтобы тут были только мы с Каспаром, но наше предприятие давно уже переросло то, чем являлось вначале. Тут, конечно же, присутствовали Дюнне и плотник Саспах, готовые управлять сделанным им прессом. Я знал, что домохозяин Дритцен наверняка присел у двери в подвал, приложил ухо к замочной скважине, но впустить его я категорически отказался. Чем больше золота я тратил, тем ревнивее относился к сохранению нашей тайны.
Но я так долго ждал этого момента, а теперь странным образом чувствовал себя отстраненным от него. Я не то чтобы увиливал от работы. Варил чернила с Каспаром, измерял доски с Саспахом, изучал медные пластины с Гансом Дюнне, шлифовал острые кромки, оставленные резцом. Я записал текст индульгенции. Потом проводил бесконечные часы, глядя на него перед зеркалом, чтобы можно было перенести его на медь в зеркальном отражении. И самое главное, я платил за все это. И все же не чувствовал, что оно принадлежит мне.
Драх вытащил медную доску из фетровой сумки и протер ее тряпицей. Потом положил на край стола и налил на нее черные чернила из одного из кувшинов, размазал их березовой лопаточкой, пока вся медь не стала черной, потом острой кромкой лопатки снова соскреб чернила. Наконец он протер дощечку жесткой сетчатой тканью. Я с изумлением следил за его действиями. Он мог в отношении некоторых вещей быть очень небрежным, нередко делал что-то нарочито наплевательски, но когда хотел, то мог работать с восхитительной точностью. Тряпица почернела, впитав в себя чернила с отполированной поверхности, но в бороздах — глубиной всего в волосок — чернила остались.
Драх установил дощечку на каменное ложе пресса. Я увлажнил губкой лист бумаги и передал ему. Он положил его на дощечку и отошел в сторону.
Саспах и Дюнне на пару принялись поворачивать рычаг, который приводил в действие винт, раздался скрип резьбы. Деревянная доска прикоснулась к бумаге и прижала ее. Я услышал, как выдавливаются крохи жидкости — возможно, вода, которой я смочил бумагу, но мысленно я воображал, что это льются чернила, которые впитываются из меди в бумагу.
Саспах и Дюнне прижали доску до упора, потом раскрутили стержень в обратную сторону, отпуская доску. Я вперился в листок бумаги, воображая, что вижу слабые отпечатки с другой стороны. Драх снял листок с медной пластины и показал мне. Дыхание у меня перехватило.
То, что я увидел, было ужасно. Буквы, которые казались такими аккуратными и правильными на медной доске, на бумаге получились будто вычерченные неумелой детской рукой. На некоторых словах чернила расплылись, образовав сеточку, на других были густыми и тяжелыми, словно отлитыми смолой. Мне хотелось рыдать, но под взглядами трех других я не осмелился.
— И почему же это произошло?
— Медь — как человеческая плоть. Чем глубже порез, тем сильнее кровотечение.
Драх провел пальцем по особенно уродливой из букв.
— Но на твоих картах каждая линия была идеальной. — Я понимал, что говорю как маленький ребенок, которого снедает зависть. Именно так я себя и чувствовал.
— Да. — Драх почесал подбородок и принялся разглядывать бумагу. — А тут все не так хорошо.
— Всегда проще прорезать длинную линию, чем короткую, — сказал Дюнне. Часть текста он выгравировал собственной рукой и теперь должен был сказать что-то в свое оправдание. — Каждая буква требует столько тонких линий, что некоторые неизбежно получаются глубже или мельче, чем нужно.
— Неизбежно, если руки растут не из того места, — пробормотал Драх.
Я показал на букву «U», которая была так искажена, что походила скорее на «В».
— А это?
— Форма букв не оставляет возможностей для ошибки, — сказал Дюнне. — Картинку может нарисовать любой дурак. Измени немного форму рогов оленя — и он все равно останется оленем. Измени форму буквы «А», и получится бессмыслица. Я думаю, что искусство Драха, вероятно, не годится для этой цели.
— Может быть, ты не годишься для этой цели, — сказал Каспар.
— Может быть, следующая будет лучше.
Саспах пытался восстановить мир. На его лице не было ни следа того отчаяния, которое испытывал я. Для него это была лишь работа, на которую впустую ушли его таланты.
Мы повторили процедуру. Когда все было готово, Драх извлек листок из пресса и положил на скамью рядом с первым. Мы склонились над ним.
— То же самое, — пробормотал Дюнне.
Он в отвращении отвернулся. Но я продолжал вглядываться. Там, где он видел подтверждение нашей неудачи, я разглядел искру надежды. Они были одинаковыми. Тот же разухабистый шрифт, те же корявые буквы и пьяные строки, та же ошибка в третьем предложении, где вместо «помилуй мя, Боже» было написано «понилуй мя, Боже». В своих явных несовершенствах два этих листка были идеальными копиями.
— Процесс правилен, — провозгласил Драх. Упрямство было его главным качеством. — Нам остается только усовершенствовать его.
XXXV
Париж
С Сены задувал колючий ветер. На набережной над рекой четыре L-образные башни устремлялись к серому небу. Архитектор добивался сходства с открытыми книгами, поставленными вертикально, но Эмили они скорее казались похожими на углы громадного стеклянного замка. Вот только самого замка не было. Пространство между башнями — площадь в несколько футбольных полей — оставалось пустым. И только глядя сверху, можно было увидеть вывернутую наизнанку сердцевину комплекса: стеклянную шахту, глубокий прямоугольник, на шестьдесят футов уходящий в землю, а разные этажи библиотеки взирали на этот утопленный двор. И вместо замка в лесу — лес в замке: во дворе росли деревья, посаженные на такой глубине, что верхушки их крон едва достигали уровня земли. Эмили не видела другой такой библиотеки.
Деревья начали подниматься над ней, когда она опускалась эскалатором в эту яму. Она спустилась до половины — на уровень бельэтажа, где скучающий охранник бегло осмотрел содержимое ее сумочки. Внутри было тепло, здесь, словно в фойе театра, царила бархатная атмосфера красных ковров и полированного дерева. Даже компьютеры располагались в деревянных боксах. Эмили подошла к одному из них и положила читательский билет Джиллиан на считывающее устройство. На мониторе появилось сообщение на французском — приветствие Джиллиан Локхарт. Эмили посмотрела на пучок проводов, змеящихся из компьютеров и уходящих в отверстие в полу. Интересно, подумала она, как далеко тянутся эти щупальца, в каких закоулках электронного мира стало известно, что Джиллиан Локхарт снова появилась в Национальной библиотеке.
Эмили поднесла палец к сенсорному экрану. Появился список.
Потерянные книги Библии
Анализ «Физиолога» Средневековья
«Физиолог» (Анонимный, XV век)
Эмили нахмурилась. «Физиологом» назывался бестиарий, собрание притч под личиной зоологии. Она работала с этим памятником, когда исследовала средневековые анималистические изображения. Зачем эта книга понадобилась Джиллиан? Нашла ли она что-то, связанное с животными на игральных картах?
Она снова прикоснулась к экрану, чтобы заказать книги из башен, где они хранились.
Merci, Gillian Lockhart
Эмили поежилась от ощущения неловкости. Ей не нравилось быть Джиллиан Локхарт. Они никогда не встречались, но Джиллиан присутствовала в «Клойстерсе», словно призрак, привезенный вместе со средневековыми камнями; стоило назвать это имя, и тема разговора гарантированно менялась. У всех музеев есть свои тайны, и Эмили (которая только что защитила диссертацию, жаждала понравиться и должна была скрывать собственные тайны) решила не затрагивать эти вопросы. Знал ли Ник, спрашивала она себя. Была какая-то подкупающая наивность в том, как он безоглядно пустился на поиски Джиллиан. Странствующий рыцарь, ринувшийся спасать свою даму. Эмили читала немало средневековых романов и знала, что женщины, на поиски которых по зову сердца отправляются рыцари, не всегда являют собой то, чем кажутся.
Книги должны будут принести в читальный зал на уровне двора. Она сдала сумочку в гардероб и отправилась к ряду турникетов, приложила билет еще к одному считывающему устройству. Турникет повернулся, она прошла через него, стараясь скрыть дрожь, которую ощутила, когда холодная штанга турникета коснулась ее ноги.
Джиллиан Локхарт
грозит смертельная опасность
(последняя запись 2 января, 11:54:56)
Ник, сидевший в интернет-кафе на рю Сен-Жорж, вздохнул. Какие-то стороны характера и жизни Джиллиан всегда оставались для него тайной. То, как она намазывала арахисовое масло на гамбургер. То, как иногда отключала свой телефон и не приходила домой по вечерам. Когда он набрался смелости и спросил, не встречается ли она с кем-то еще, она обвинила его в том, что у него отсутствует воображение, и заперлась в ванной.
Почему она написала «смертельная опасность»? Если ей действительно грозила опасность, то почему она не обратилась в полицию, не убежала, не вошла на сайт, чтобы обновить свой профиль? Разве только это был последний жест, вызов, шутка, попытка приуменьшить серьезность того, что ее ждет. Это было похоже на нее.
Рядом с ее именем маленькая фотография — не такая, как на читательском билете. Эта фотография была сделана раньше — Джиллиан с длинными прямыми волосами, с глазами панды, похожая на студентку художественной школы.
Он принялся исследовать сайт. Тут была доска объявлений, на которой другие пользователи могли обмениваться обычными банальностями, шутками, корявыми оскорблениями, которые в Интернете сходили за остроумие. Доска была пуста. Он перешел на другую часть сайта — фотоальбом. Здесь было несколько фотографий: Джиллиан в огромном сомбреро пьет пиво на вечеринке. Джиллиан в Центральном парке, застенчиво улыбаясь в камеру, прижалась к камню, делает вид, что пытается обхватить его. Джиллиан перед булочной с длинным батоном под мышкой. Она к этому времени уже перекрасилась в блондинку — то же лицо, что на читательском билете. Интересно, подумал он, кто делал эти снимки? Ательдин?
Ни одной фотографии Джиллиан с Ником не было. Он сказал себе, что и не ожидал увидеть таковых, недоумевая: а что же он ищет на самом деле?
Прежде чем уйти, он посмотрел новостные сайты — нет ли информации про него. Он предполагал увидеть заголовки вроде «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ БЕЖАЛ ИЗ СТРАНЫ», но за последние сорок восемь часов ничего нового не было. Знали ли они, что он бежал? Или взялись за ум и поняли, что он невиновен? Он представил себе детектива Ройса и счел это маловероятным.
Это напомнило ему слова Джиллиан. Он как-то застал ее у окна — она разглядывала пустую улицу через щелочки в жалюзи. Он сказал ей, что там никого нет, она ответила, демонстративно понизив голос: «Если ты их не видишь, то это не означает, что они не могут видеть тебя».
Он решил, что это шутка, цитата из фильма, реплика одного из персонажей, которых она все время изображала. Он пошел готовить сэндвич, но, когда посмотрел на нее через кухонную дверь, она по-прежнему стояла у окна — смотрела.
Когда-то источником тревоги был черный бакелитовый телефон, соединенный с коммутационным щитом черными кабелями, свисавшими с него, как цепи в стене узилища. Позднее таким источником стал пейджер. А еще позднее — ряд сотовых телефонов, уменьшающихся в размерах при возрастающих возможностях. Во всех этих проявлениях одно оставалось неизменным: они почти никогда не звонили. Месяцы проходили беззвучно, иногда целые годы.
Теперь телефон звонил во второй раз за три недели. Отец Мишель Рено, последний в длинной череде людей — держателей этого телефона, уставился на экран. Когда раздался предыдущий звонок, он покрылся холодным потом и чуть не выронил трубку. На сей раз он был готов.
— Oui?
— Один из наших флажков засветился. Это Национальная библиотека, садовый уровень, место номер сорок восемь.
— Bien.
Благодаря новым технологиям задача значительно упрощалась. Когда-то им приходилось просматривать заявки, перекрестные ссылки в университетских архивах, даже простейший запрос требовал немалых усилий. Теперь они знали все еще до того, как читатель садился на свое место.
Он набрал номер телефона, который дал ему кардинал.
— В Национальной библиотеке. Та же книга, что и в прошлый раз. И то же имя. Джиллиан Локхарт.
Он услышал сухой смешок на другом конце провода.
— Очень сильно сомневаюсь, что это Джиллиан Локхарт.
Она словно вошла в космический корабль или средневековое подземелье, переоборудованное последующими цивилизациями. Эмили проехала на длинном эскалаторе по гулкому залу, образовавшему наружную оболочку комплекса. Подземный ров, окружающий подземный замок. Наружные стены были из монолитного бетона, а в дополнение к ним имелась внутренняя защита — занавес из металлических колец, напоминающий кольчугу.
Эмили нашла место, предписанное ей компьютером, и стала ждать. Она посмотрела через окно в засаженный деревьями двор и подумала, что оказалась словно в какой-то сказке: зеленые ели щетинились хвоей среди голых дубов и берез, на ветках которых образовалась тонка корка обледеневшего снега. Даже зимой противоположная сторона двора была едва видна за деревьями.
Над столом загорелся красный свет — вызов к стойке. Усталая библиотекарша протянула руку.
— Votre carte?
Эмили улыбнулась, чтобы скрыть тревогу. Она предъявила читательский билет, закрыв большим пальцем верхушку фотографии Джиллиан. Библиотекарша кинула на билет мимолетный взгляд и тут же просунула руку в нишу у нее за спиной, вытащила оттуда две книги и положила их на стойку.
— Но я заказывала три, — по-французски сказала Эмили.
Библиотекарша сощурила густо накрашенные глаза. Эмили даже не успела возразить, как женщина выхватила билет из ее руки и приложила к считывающему устройству компьютера, а затем уставилась на монитор.
— Анонимная. «Физиолог». Эта книга отсутствует. — Она прокрутила изображение. — Вы уже запрашивали эту книгу раньше?
— Гм, да. В декабре.
— И тогда она тоже отсутствовала.
Это был вопрос или утверждение? Эмили предпочла ответить на это мычанием на французский, как ей хотелось думать, манер, сопроводив его неопределенным движением плеч.
— В системе есть запись, что мы не смогли найти эту книгу, когда вы запрашивали ее в прошлый раз.
Эмили оперлась рукой о стойку, чтобы ее не пошатывало.
— Я… я просто подумала, может, она нашлась.
— Non.
— В онлайновом каталоге она присутствует, — не отступала Эмили.
— Значит, в каталоге ошибка. Я внесу еще одну запись. — Она подняла взгляд выше плеча Эмили на следующего в очереди.
Эмили поняла намек.
Она вернулась за свой стол с двумя книгами: «Потерянные книги Библии» и «Анализ „Физиолога“». Все связанное с Джиллиан Локхарт было покрыто туманом. Эмили видела только какие-то тени, мелькавшие вдалеке, но не могла понять — настоящие они или же это игра света. Она чуть ли не испытывала сочувствие к Нику.
Но работать она могла только с тем, что имела. Начала с «Анализа „Физиолога“», подверстывая новые факты к уже известным. Термин «физиолог» вышел из употребления в Средние века, но возродился, когда новоявленные печатники решили придать своим книгам штрих старомодной подлинности. Время издания потерянной книги в каталоге было обозначено пятнадцатым веком. Эмили перешла в приложение. Существовало одиннадцать печатных изданий «Физиолога», выпущенных до 1500 года. Ни одно из них в каталоге не называлось.
Тупик. Она перешла ко второму тому — «Потерянные книги Библии». Тут дело обстояло труднее — она никак не могла вчитываться в текст, не зная, что ищет. Принялась листать страницы — не обнаружится ли подчеркнутых слов, карандашных помет, оставленных Джиллиан на полях. Она обратилась к предметному указателю в поисках животных, бестиариев или карт. Но находила только пророков, древних царей и сердитых богов.
Она услышала покашливание у себя за спиной и оглянулась. Это была библиотекарша.
Сердце Эмили забилось чаще.
— Нашлась?
Библиотекарша отрицательно покачала головой.
— Для вас сообщение. Вас просят подойти к справочному на верхнем уровне. Там вас ждут — некто мсье Эш. Он говорит, это срочно.
Последним звонком со своего сотового Джиллиан вызывала такси. Ник мог бы позвонить туда, но решил немного повременить. Ведь то была последняя наводка. Когда он с ней разберется, у него ничего не останется. Он нашел в Интернете адрес и пошел пешком, пытаясь обманывать себя еще какое-то время, делать вид, будто движется к цели.
Он ужасно не любил ощущение неизвестности. Джиллиан поддразнивала его, говорила, что ему бы, наверное, хотелось вести жизнь по часам, как в школе. «Ты был бы счастлив, если бы Бог вручил тебе расписание на всю оставшуюся жизнь — три учебных часа работы, полчаса на ланч, сорок минут в онлайне, час на внеклассный секс». Он не стал возражать.
У Джиллиан же все было спонтанно. Иногда, если его одолевала усталость, Ник думал, что у нее чуть ли не невроз. Она могла подобрать на тротуаре листовку с анонсом концерта или выставки и тем же вечером отправиться туда. Ее друзья, о которых он никогда не слышал, могли позвонить в полночь, только-только приехав в Нью-Йорк, и она неслась на Пенн-стейшн и тащила их в квартиру. Она могла познакомиться с человеком в поезде и в тот же день до двух ночи играть у него в квартире в канасту.
«Люди — они как часы, — говорила она ему. — Вначале кипят энергией, а дожив до тридцати, превращаются в развалин. Если ты не действуешь, ты обречен. Необходимо иногда вносить хаос в свою жизнь».
После того как она его бросила, он иногда замечал эти рекламные листовки, которые ветер носил по улице, и думал: а не похож ли он на них? Его она тоже нашла, действуя импульсивно, чтобы доказать себе, что еще может. Внести хаос.
Офис таксомоторной компании представлял собой маленький закуток, который каким-то образом втиснулся в щель между двумя большими зданиями. Внутри почти ничего не было: вянущее растение в горшке, три пластмассовых стула, обожженные сигаретами, и две женщины, сидящие за окошечком перед выцветшей картой Парижа. Макияж на их лицах был такой густой, что вполне мог бы сойти за штукатурку. На обеих были куртки, шерстяные шапочки и перчатки без пальцев. При каждом телефонном звонке трубку снимала женщина слева, выкрикивала ряд вопросов, потом передавала ответы сидящей рядом коллеге. Та, в свою очередь, брала микрофон и повторяла все сказанное первой женщиной. Такое разделение труда могли придумать только французы.
Ник подошел к окошку.
— Вы говорите по-английски?
Женщина на рации продолжала выкрикивать приказы в микрофон. Женщина на телефоне метнула в него взгляд, потом кивнула в сторону коллеги. Ник дождался, когда та закончит.
— Anglais, — пролаяла женщина на телефоне.
Женщина на рации насупилась.
— Немного.
— Моя знакомая заказывала такси четырнадцатого декабря. Я хочу знать, куда она ездила. — Он окинул взглядом помещение, теряя уверенность. Тут не было ни компьютера, ни даже каталожного ящика. — Вы как-то регистрируете вызовы?
Женщина уставилась на него из бирюзовых лагун теней вокруг ее глаз.
— Non.
Если по-честному, то ничего иного он и не ждал. Надежда была мучительна, он чуть ли не исполнился благодарности к этой женщине за то, что та убила ее. Он отвернулся.
— Nom, — повторила женщина у него за спиной. — Sa nom. Ее имя.
Ник повернулся, чувствуя неловкость из-за того, что не понял.
— Джиллиан Локхарт.
Телефонный звонок прервал их разговор. Ритуал между двумя женщинами повторился. Когда заказ был передан исполнителю, женщина на рации снова посмотрела на него.
— Джиллиан Локхарт. Четырнадцать тридцать. С рю Сент-Антуан, она приехать сюда.
Ник оглядел пластиковый офис.
— Сюда? Ici?
Диспетчерша указала на другую сторону дороги, где стояло величественное стеклянное здание в неоклассическом стиле.
— Вокзаль. Гар-де-Лест.
Это удлиняло его поиск на несколько минут — Ник пересек улицу и вошел в здание вокзала. Тут пахло дизельным выхлопом и сталью. Он окинул взглядом ряд табло, насаженных на торчащие из стены кронштейны, прочитал пункты назначения. Ему всегда нравились европейские вокзалы — грандиозная архитектура, затуманенная сажей, хищного вида поезда, пункты назначения, раскинувшиеся по всему континенту, а не какие-то пригородные станции. Он принялся читать названия на мигающих табло. Базель, Эперне, Франкфурт, Мюнхен, Зальцбург, Страсбург, Вена.
Куда теперь?
Штанга турникета повернулась и выкинула Эмили в фойе. Справочное было перед ней — в центре зала. Она поискала глазами Ника, но не увидела.
Она посмотрела на стеклянную стену справа, через нее — на балкон, выходивший в лесистый двор. Летом там, наверное, работало кафе, балкон был уставлен столиками и стульями, теперь там не было ни души, если не считать невысокого человека в куртке-пуховке, который, опершись о перила, курил сигарету. Не на нее ли он смотрит?
Он бросил сигарету на пол и загасил ее носком ботинка. Эмили подошла к стойке справочного.
— Мне в читальный зал передали сообщение. Нет ли здесь Ника Эша…
— Вот он.
Ее запястье с такой силой ухватила чья-то рука, что, казалось, хрустнула кость. Рука оттянула ее прочь от кивающей администраторши, развернула, потащила в сторону двери. От страха она потеряла способность к сопротивлению. Может быть, то же самое случилось и с Джиллиан? Она подняла глаза и увидела мужчину плотного сложения с крючковатым носом и щетинистыми бровями. Левой рукой он обхватил ее за талию, правой ткнул ей в поясницу что-то округлое и тупое.
— У меня пистолет. Не кричите. Не пытайтесь бежать.
Да она бы и не смогла. Ноги у нее были как студень. Она и идти-то едва могла. Ее похитителю приходилось чуть ли не тащить ее по ковру. Они уже прошли половину пути до двери. Человек в пуховке спешил им навстречу.
Звук тревожной сигнализации вклинился в ее панические мысли. У входа охранник производил досмотр длинноволосого студента, на котором было столько цепочек и заклепок, что сработал детектор. Эмили уставилась на рамку. Неужели через нее можно пронести пистолет? Или же этот человек блефует?
— Пожалуйста, не уводите меня, — прошептала она похитителю. Они были уже почти у выхода. — Я знаю, что вам нужно. Это у меня в сумке. Можете взять. Пожалуйста, отпустите меня.
Он остановился в нескольких шагах от бархатной веревки, обозначающей границу фойе. По крайней мере, он слушал ее. Посмотрел на ее пустые руки.
— Где твоя сумка?
Она мотнула головой в сторону гардеробной.
— Мне пришлось ее сдать — иначе не пускают в читальный зал.
Так же резко, как ухватил, он ее развернул и зашагал вместе с ней к гардеробной. Подходя к загородке, он отпустил ее, толкнув вперед, отчего она чуть не упала. Она протянула билет растерявшейся гардеробщице, которая через несколько секунд вернулась с ее коричневой наплечной сумкой. Не успела Эмили взять сумочку, как почувствовала железную хватку на своем локте.
— Один евро, — сказала гардеробщица.
Эмили щелкнула замком и принялась шарить в сумке. Рука ухватила ее за локоть еще сильнее, Эмили от боли чуть не теряла сознание. Но она нашла то, что искала, — вытащила монетку, правда, была слишком неловкой и выронила ее на ковер.
На лице ее появилась извиняющаяся улыбка, предназначенная гардеробщице; Эмили стала наклоняться, чтобы поднять монетку. Ее похититель растерялся, не зная, позволить ей это или нет, и ослабил хватку.
Этого было достаточно. Она среагировала быстрее, чем он ожидал, толкнув его так, что он потерял равновесие. Это дало ей возможность развернуться. Она выкинула руку к его лицу и, прежде чем он успел осознать происходящее, нажала на клапан баллончика, зажатого в кулаке.
Струя перечного газа вырвалась из сопла и ударила прямо ему в лицо. Он отпрянул, закрывая руками глаза. Завопила тревожная сигнализация. Эмили подумала, что газ мог воздействовать на детектор запаха. Но сигнализация работала у двери на балкон. Человек в пуховке видел, что происходит, и ринулся внутрь, поэтому металлодетектор и сработал. Второй преследователь запустил руку в карман куртки, но упал — охранник свалил его на пол.
Эмили схватила сумку и побежала.
XXXVI
Штрасбург
Лапа начинала обретать форму. Как мать-медведица, облизывая медвежонка, придает ему окончательную форму, так и кончик долота, вонзаясь в камень, высекает будущую скульптуру. Я уже видел линию задней ноги, проступающую из каменной плиты, наклоненную спину и выпуклость, которая станет ухом или мордой.
Резчик стоял возле скамьи на площади и работал долотом. За его спиной виднелась громада собора, где среди колонных прогалин и под сводчатыми ветвями найдет себе место это животное.
«Именно так создает нас всех Господь, — подумал я, — обрушивает удары, которыми придает форму грубому камню нашего творения».
Удар — трещина, облачко пыли, звон осколков, падающих на мостовую. Вот отсечен еще один ненужный фрагмент на пути к совершенству. Ровнейшая кожа — ткань шрама.
— Изгиб колена слишком крут.
На скамейку упала тень. Появился Драх — тихо подкрался ко мне сзади. Он бросил взгляд на медведя, появляющегося из камня, словно из леса, потом посмотрел на рисунок, пришпиленный к столешнице.
Резчик поднял глаза на Драха. Он давно привык к его вмешательствам.
— Этот медведь должен соответствовать размерам колонны. Я сделал его присед более низким.
Драх рассмеялся и отвернулся. Я двинулся за ним по камнерезному двору, похожему на кладбище. Это было поле, усеянное камнями самой разной степени завершенности, от грубых плит, только-только привезенных с карьера, до каннелированных секций арок, которым не хватало только замкового камня, чтобы запереть их на месте.
— Вот как нужно создавать копии, — сказал Драх. — Я рисую картину, а он копирует ее. Что может быть проще?
— Ты сам сказал, что это плохая копия.
— Довольно близкая к оригиналу.
— Я так не думаю.
Мы уселись на едва обработанный облицовочный камень. Напротив бородатый человек на капители колонны, раздвинув, словно занавес, листву, смотрел на нас. Я прищурился, но эта работа не имела отношения к Каспару.
— Я нашел способ заработать деньги, — без всякого вступления сказал он.
Целый сезон прошел со дня нашего эксперимента в подвале Дритцена. Я не хотел, чтобы так получилось, но время иногда не подчиняется нашим планам и соображениям. В течение трех дней я не мог себя заставить даже мысли обратить в ту сторону. Когда моя меланхолия немного прошла, мне уже было все равно. Я нашел себе иные занятия — сосредоточился на зарабатывании хлеба насущного и средств для поддержания дома. Я все дольше оставался в Сент-Арбогасте, а Драх все реже наведывался ко мне. Страсть, которая горячила мне кровь, ослабла. Но когда Драх прислал мальчика, чтобы позвать меня на эту встречу, прежняя горячка вернулась с еще большей силой.
— Рассказывай.
— Тут в городе есть одна вдова по имени Эллевибель. Она живет у винного рынка.
Он помолчал, подогревая интригу. Я пошутил:
— Уж не предлагаешь ли ты мне жениться на вдове ради ее состояния?
— Нет. Но у нее есть дочь. Эннелин. Ей двадцать пять, и она еще не замужем. Если бы Эллевибель нашла для нее мужа, то дала бы за дочку огромное приданое. Как раз те деньги, что нужны нам для совершенствования нашего искусства.
Я уставился на него. Он улыбнулся и кивнул, приглашая меня следовать за ходом его мысли.
— Это одна из самых абсурдных идей, какие приходили тебе в голову.
— Почему?
— Ты знаешь почему.
Мы никогда не говорили о том демоне, которым я был одержим. Но он наверняка знал об этом с того самого момента, когда мы впервые выпили вместе в «Дикаре». Он позволял мне тереть ему спину и смотреть, как он одевается; если он оставался на ночь в моем доме, мы спали вместе, словно давно женатая пара. Иногда он позволял моей руке опуститься к его бедру, и тогда я мог лежать без сна, муча себя мыслями о возможностях. Дальше этого дело не заходило. Демон так глубоко обосновался в моей душе, что стал моей частью, опухолью, которую я не мог удалить, не уничтожив при этом и себя. Каспар не питал ко мне желания, но поощрял мои аппетиты, потому что любил извращенность, опасность, любил идти по краю на самой грани проклятия. Может быть (молил я Бога в одинокие часы по ночам), потому, что он любил меня.
Но теперь он был безжалостен.
— Ты остаешься холостяком в тридцать с лишком лет. У тебя есть доход, дом, хорошая семья в прошлом. Почему бы тебе не жениться на этой девушке?
«Потому что я люблю тебя», — готов был прокричать я.
Но понимал, что, сказав это, погублю все.
— Если ей двадцать пять и за нее дают хорошее приданое, то почему она до сих пор не замужем?
Он погладил мне щеку пальцем, поддразнивая меня.
— Ах, какой ты жестокий, Иоганн. Возможно, она еще не распустившийся бутон.
— Это в двадцать-то пять?
— Тогда она, возможно, уродлива, как двухголовый мул. — Он пожал плечами. — Ты не должен думать об этом. Когда из-под нашего пресса рекой потекут индульгенции, купишь себе одну, чтобы успокоить свою совесть.
Он соскользнул с камня и принялся расхаживать передо мной.
— Если бы каждая трудная задача решалась с первой попытки, то в чем была бы ее трудность? Ты знаешь, сколько медных досок и бумаги я испортил, прежде чем сделал игральные карты? Сколько у меня получалось трехногих медведей и единорогов, похожих на козлов?
— Твой единорог по-прежнему похож на козла.
Мне хотелось уязвить его, но он с необычной для него сдержанностью отмахнулся от моих слов.
— Ты мне поймай единорога — и я нарисую его лучше.
— Ну, по крайней мере, хоть что-то можно будет выручить за единорога.
— Но мы охотимся за более редким зверем. Если — когда — мы сделаем его правильно, то это будет более ценное животное.
Он вытащил монетку из кармана и швырнул ее мне. Наверное, он специально принес ее для этого жеста, потому что до этого я ни разу не видел у него денег. Я поймал монетку.
— Представь, что это твоя невеста.
На монетке был изображен Иоанн Креститель, его голову окружал нимб в форме сердца. Я прочел надпись по краю. IOHANNIS ARCHIEPISCOPVS MAGVNTINVS. Иоанн, архиепископ Майнцский.
— Я вчера видел ювелира Дюнне, — сказал Драх. — Он делает новую доску и утверждает, что буквы там будут более ровные. Но на это требуется много часов работы. Он не может тратить столько времени без дополнительной платы.
Я не слушал его. Буквы на монете вернули меня к дням моего детства. У нас в доме некоторое время жили коллеги моего отца по монетному двору. Одним из этих жильцов был гравер. Помню, однажды я прокрался в его комнату и смотрел, как он работает. Он взял металлическую болванку, на которой выгравировал рисунок, поднес к ней металлический стержень и сильно ударил по нему молотком. Увидев высеченные ударом искры, я удивленно вскрикнул. Он услышал меня и подозвал к себе. Позволил подержать в руке стержень, сказал, что это называется «пуансон». Он показал мне кончик, на котором была гравировка в виде буквы «А». Когда он ударил молотком и пуансон вдавился в форму, на металле остался идеальный отпечаток. Потом его должны были залить золотом, чтобы отпечаток буквы перешел на монету. Таким был бесконечный цикл творения и воспроизведения: пуансон и форма, мужское и женское начала, удар и отпечаток.
Это происходит, когда отыскивается решение любой идеи: потом дивишься, почему это на открытие столь очевидное ушло так много времени? Почему мы тратили месяцы, пытаясь выгравировать слова, тогда как и я, и Дюнне знали: наилучший отпечаток буквы в металле можно получить с помощью пуансона? Я могу только сказать, что Драх делал свои доски для карт методом гравировки, и мы шли проторенной им тропой, даже не давая себе труда задуматься.
Драх нетерпеливо смотрел на меня. Он не любил, когда его игнорируют. Я встретил его взгляд и улыбнулся. Конечно, я видел, что с ним происходит, но удержаться не мог.
— И какое приданое дают за Эннелин?
XXXVII
Париж
«Может быть, они следили за мной?»
Три часа потратила Эмили, чтобы вернуться в отель. Она пересаживалась с одного поезда метро на другой, прыгала в автобусы и внезапно выходила из них, неожиданно меняла маршрут, застывала у витрин, всматриваясь в отражения, и постоянно оглядывалась через плечо — не идет ли кто следом. Когда она проскользнула в отель, на город уже опустилась темнота. Она разбудила Ника, который так и не адаптировался к смене часовых поясов, и потащила его в кафе в тихом переулке недалеко от Монпарнаса. Она все еще не чувствовала себя в безопасности.
— Если они следили за вами, то знают про отель. — Ник отхлебнул пива и в десятый раз повернул голову, оглядывая кафе. Он не мог сидеть спокойно. — Слава богу, что у вас был баллончик.
— У меня был кое-какой неприятный жизненный опыт. — Эмили почти не шевелилась, не в силах отойти от пережитого потрясения. — Наверное, все дело в книге. Я каким-то образом привела в действие их сигнализацию. Задела своеобразную растяжку.
Еще несколько дней назад Ник воспринял бы это как параноидальный бред, а сегодня он только кивнул.
— Может быть, так они и Джиллиан нашли. Поэтому-то она и спрятала свой читательский билет в банковской ячейке.
Карты, что оставила им Джиллиан, все больше становились похожи на коробку с заточенными ножами, а не на сундучок с сокровищами.
— Если бы только мы могли так же легко найти и ее.
Эмили молча грела ладони о кружку с кофе. Два раза Нику показалось, будто она собирается что-то сказать, но так ничего и не произнесла. Ник мог только догадываться, что у нее на уме.
— Если вы хотите вернуться домой, я вас пойму, — быстро сказал он, зная, что не произнесет этого, если даст себе время задуматься. — Бог знает что бы они сделали с вами, если бы вам не удалось вырваться. У вас нет причин подвергать себя опасности ради Джиллиан.
Эмили словно передернуло.
— Я не… — Она не закончила, замолчала, потом начала снова: — Я не вернусь домой.
Он знал, что должен возразить, но у него не хватило воли. Она бросила на него настороженный взгляд, и он выдержал его, пытаясь подбодрить ее. Это было нелегко — он чувствовал себя совершенно выпотрошенным.
— Ну, по крайней мере, я что-то получила за свои труды. — Краска вернулась на лицо Эмили. — Джиллиан искала сведения по «Физиологу» — книге, описывающей животных. Именно в этой книге она и нашла карту. В библиотеке замка наверняка была одна такая книга.
Ник задумался на секунду.
— Мне известен человек, который должен это знать.
— Ательдин.
Знакомый голос, такой угрожающий в своей заученной отстраненности.
— Это Ник.
Мимо будки телефона проехало такси. Удивленное молчание Ательдина утонуло в шуме покрышек по мокрой мостовой. Когда шум смолк, Ник услышал:
— Есть какие-нибудь новости о нашем общем друге?
— Может быть — мы не уверены. Нам нужно проверить список книг, которые она увезла из замка. Вы можете нам помочь?
— Возможно, если вы это обоснуете.
— Джиллиан пропала. Эмили сегодня ходила в Национальную библиотеку, и ее там тоже чуть не похитили. Это достаточное обоснование?
— Я вам сочувствую.
Ник посмотрел на Эмили через стекло телефонной будки. Она кивнула.
— Джиллиан нашла карту. Старую карту.
— Я так думаю, сделанную Мастером игральных карт. — Ательдин, казалось, был ничуть не удивлен. — И эта карта у вас?
— Мы думаем, она могла найти ее в некоем бестиарии или… — Ник с трудом произнес это слово, — «Физиологе».
— Неужели?
Ник чуть ли не видел перед собой взметнувшиеся брови, внимательный взгляд. Он был рад, что их разделяют телефонные провода. Ник молча ждал.
— Я проверю опись из Рамбуйе. Могу я перезвонить вам на этот номер?
— Это телефон-автомат.
— Я быстро.
Ательдин повесил трубку. Ник ждал в телефонной будке, оглядывая дорогу через треснутое стекло. Чуть поодаль под грязным одеялом на подстилке из сложенных картонных коробок сидел бездомный. Ник удивился, что тот еще не замерз. Он полез в карман, нащупал там несколько евро, но страх удержал его на месте. А вдруг этот старик вовсе не тот, кем кажется? Ник читал книги, где шпионы переодевались в бродяг, чтобы вести наблюдение. Может быть, этот человек следит за ним? Ник внимательно разглядывал сидящего, не вынимая руку из кармана.
В поле его зрения мелькнула какая-то тень. Он вздрогнул, но это была всего лишь Эмили. Она прошла по пустой улице и наклонилась над бездомным. Бросила пару монеток в его пластиковый стаканчик, обменялась с ним несколькими словами, потом поспешила назад. Нику стало стыдно.
— Что он сказал?
— Он сказал, чтобы вы перестали глазеть на него.
Прежде чем Ник успел исполниться еще большим чувством вины, раздался телефонный звонок. Он с радостью схватил трубку.
— Да?
— Хорошие новости. В коллекции старика был бестиарий. Тот самый. Джиллиан включила его в перечень. Датируется серединой пятнадцатого века. Между прочим, по стилю есть сходство с создателем «Бедфордского часослова».
— С кем?
— Расскажу позднее. Вам понравится.
— А когда мы сможем увидеть книгу?
Сухой смешок.
— Боюсь, тут все не так просто.
— Что вы имеете в виду?
— Ну, во-первых, книги в Париже уже нет. Вы ведь помните — она промокла? Реставраторы забрали ее в свое хранилище.
— И где это?
— В Брюсселе.
Ник выругался.
— А мы можем туда попасть?
— Я мог бы вас туда провести. — Это было завуалированное предложение, интонационный нюанс, открывавший дверь к переговорам.
Мысли Ника метались. Он посмотрел на улицу и увидел, что нищий ушел. Решил воспользоваться подаянием Эмили и найти на эти деньги теплую постель… а может, в этот самый момент говорил человеку со сломанным носом, где найти Ника и Эмили?
— И как скоро мы сможем туда поехать?
— Немедленно, если хотите. Это всего три часа на машине. Но тут есть одна загвоздка.
Ник ждал.
— Книга заморожена.
XXXVIII
Штрасбург
Этот дом напомнил мне отцовский. Отчего неприязнь мгновенно усилилась. Он располагался вблизи пристаней, где по улицам гулким эхом разносился грохот бочек, скатываемых с барж. Площадь напротив напоминала кроличий садок: все дома зияли открытыми откидными дверями, через которые бочки загружались в подвалы внизу.
Такая же дверь была и под окном в доме вдовы Эллевибель, только она оставалась закрытой. Как и ставни в окнах на первом этаже. Я постучал в дверь, надеясь, что мне никто не ответит.
Дверь распахнулась. Одетый в черное слуга впустил меня в дом и провел в комнату, выходящую на площадь. Первое впечатление от комнаты сложилось весьма благоприятное. Стены забраны богатыми тканями бордового цвета, в камине горит приятный согревающий огонь. Хотя снаружи не было темно, я увидел зажженные свечи. Четыре больших сундука в разных углах комнаты возвещали о достатке.
Но при более пристальном взгляде картинка теряла свой блеск. Пыль на полу вокруг сундуков была прорезана полосами, будто эти сундуки только недавно туда затащили. Канделябры были очищены от старого воска, но свечи внутри оказывались не более чем огарками. Материя на стенах во многих местах пестрела заплатками, одна из них была похожа на старое платье, которое специально отгладили, чтобы завесить им дыру. Даже я, полжизни проведший в хибарках и на чердаках, видел это притворство. Наверное, это был первый случай в моей жизни, когда кто-то хотел произвести на меня впечатление.
Когда я вошел, мне навстречу поднялась женщина лет пятидесяти. На ней было длинное, подпоясанное чуть ниже грудей платье с белым воротником и шаль, тщательно накинутая таким образом, чтобы скрыть ее седые редкие волосы. Уголки ее рта были опущены, маленькие глаза смотрели холодно. Но как и при украшении комнаты, она старалась изо всех сил и использовала все имеющиеся у нее средства. Она выдавила на лице улыбку и сумела сохранить ее на все то время, что мы шли с ней по комнате. Она посадила меня на почетное место — стул с высокой спинкой, за которым, вероятно, сидел ее муж, — и приказала слуге принести лучшее вино.
— Моя дочь сейчас придет, — сказала она. — Я решила, что сначала лучше будет познакомиться нам с вами.
Слуга принес на подносе вино. Я взял кубок и с жадностью приложился к нему, выходя за рамки приличия. Эллевибель удивленно посмотрела на меня, но сдержалась — ничего не сказала и жеманно пригубила из своего кубка.
— Я слышала, что вы — ювелир, герр Генсфлейш.
— Я прошел обучение.
На этом я остановился — вряд ли вдова Эллевибель хотела бы услышать, чем кончилось мое ученичество.
— Мой покойный муж был виноторговцем.
Я не стал оспаривать это.
— Я слышала, что Майнц тоже знаменит своими винами. — Она с надеждой подняла на меня взгляд. — Ведь вы родом из Майнца?
— Верно.
— И ваш отец — он был…
Грубиян? Свинья?
— Он торговал тканями. А еще он был компаньоном монетного двора.
На вытянутом лице Эллевибель засветилась надежда.
— А семья вашей матушки?
— Лавочники.
Это заметно поубавило ее энтузиазма, как я и предполагал. Мне это доставило удовольствие. Вино и мои дурные предчувствия настроили меня на жестокий юмор.
— Расскажите мне о вашей работе в Штрасбурге.
— Я участвовал в разных предприятиях, — неопределенно ответил я.
— Андреас Дритцен сказал мне, что вы обучали его искусству гранения драгоценных камней.
— Я был ему должен.
Она и бровью не повела.
— Но у вас есть постоянный доход?
— Небольшой.
— И дом?
— Я снимаю дом. В Сент-Арбогасте. Вы, вероятно, не знаете — это в нескольких милях от Штрасбурга.
Она сощурилась.
— Прекрасно знаю. Милая деревенька. И совсем рядом с городом.
Я хотел было рассказать ей скабрезную историю о женщине, на которую по пути в Сент-Арбогаст напали бандиты и похитили ее, но тут раздался стук в дверь. Эллевибель встала.
— Моя дочь. Она будет рада познакомиться с вами.
Я был готов увидеть монстра. На самом же деле меня поразила ее абсолютная заурядность. Да, она была далеко не красавица. Лицо плоское, с выражением жестким, как перепеченный хлеб, белый головной убор подчеркивал овал ее лица. Нос у нее был небольшой, зубы кривые (но не слишком). Кожа уже утратила гладкость. Если к ней в придачу полагалось две сотни гульденов, то не было никаких причин, по которым любой мужчина не желал бы брака с ней. Любой, кроме меня.
Она сделала книксен. Мы оба стояли, не зная, что делать дальше. Я, вздрогнув, понял, что она разглядывает меня, как мгновение назад разглядывал ее я. И кого она видела? Мужчину средних лет, потеющего под шапкой, отороченной мехом, и взятым в долг по такому случаю плащом. Спина у меня сутулилась, на лице были шрамы от многих неудач в кузне. В бороде начала пробиваться седина, хотя и не очень заметная в светлых волосах. У меня было хорошее имя и неплохой доход — какие у нее могли быть возражения против брака со мной?
— Конечно, встает вопрос о приданом, — сказал я.
— Мой покойный муж — да будет земля ему пухом — был честный и экономный человек. Когда он умер, его состояние оценивалось в две сотни гульденов. Я готова все свои надежды возложить на Эннелин.
В ее манерах было что-то уклончивое.
— Это очень щедро.
— Радость матери, которая видит, что ее дочь устроена, стоит любых затрат.
Я не ответил. Мой позаимствованный плащ камнем висел на мне. Воротник душил меня. Я не мог заставить себя взглянуть на Эннелин. Червь глодал меня изнутри.
— Мне нужно будет подумать…
Эннелин была хорошо воспитана. Она скромно смотрела на меня, и на ее лице не было ни тени сомнения. Ее мать оказалась прямолинейнее.
— Герр Генсфлейш, вы хотите жениться на моей дочери?
XXXIX
Париж
«Ягуар» отъехал от тротуара и двинулся по Севастопольскому бульвару в направлении шоссе Е-19 и дальше — к Бельгии. Ательдин развернулся через две полосы, проехал мимо Гар-дю-Нор, а потом, когда перед ними открылась дорога, придавил педаль газа. Ник откинулся к спинке кожаного сиденья, спрашивая себя, сидела ли здесь Джиллиан, впечатлялась ли этим гудением мощного двигателя.
Он бросил взгляд назад — не преследует ли их кто. Дорога была пуста. Он увидел только Эмили, свернувшуюся в уголке заднего сиденья и поглядывающую в окно.
— Что вы имели в виду, когда говорили, что книга заморожена? — Говорила она тихим голосом, едва слышным за ревом двигателя.
— Это последний этап консервации. Худшим врагом книги после огня является вода. Нужно избавиться от нее как можно скорее. Но сушка книги — ценной книги — дело ох какое хлопотное. Если у вас на руках целая библиотека, то вы не можете обрабатывать каждую книгу отдельно. На это нет времени. Поэтому вы их замораживаете и держите в холодном месте, пока у вас не дойдут до них руки, и тогда уже размораживаете и консервируете надлежащим образом.
— И сколько времени нужно, чтобы разморозить книгу?
— Несколько часов. У них там есть все необходимое оборудование. — Ательдин обогнал несколько грузовиков. — И тогда посмотрим, что нам удастся найти. Может быть, вашу таинственную игральную карту. — Он нажал на тормоза, когда перед ними вывернул маленький «пежо», а потом перестроился, чтобы обогнать его. — Если только, конечно, вы уже не нашли ее.
Ник ждал этого момента и долго обсуждал с Эмили варианты ответа. Он засунул руку в сумку у него под ногами и вытащил карту из жесткого конверта. Ательдин стрельнул в нее глазами.
— И где вы ее нашли?
— Джиллиан оставила ее мне. — Ник понимал, что таким ответом он словно оправдывается. Он посмотрел на карту, потом на значок на рулевом колесе — рычащая голова ягуара. Куда бы он ни бросал взгляд, перед ним были открытые челюсти и острые зубы.
— А подсказок, куда она сама направилась, видимо, не оставила?
— Никаких.
— Жаль. — Ательдин снова впился взглядом в дорогу. Стрелка спидометра переместилась чуть выше.
— Ник сказал, что вы по телефону упомянули «Бедфордский часослов», — подала голос Эмили. — Какая тут связь?
— Вы, Эмили, наверняка знаете, что часослов — это молитвенник, предлагающий людям молитвы на разное время суток. Он основан на идее монашеского распорядка дня. «Бедфордский часослов» — одна из таких книг. Он была сделана к свадьбе герцога Бедфордского в тысяча четыреста двадцать третьем году. Необыкновенно замысловатая и богато иллюстрированная книга, изготовлена она в Париже. Мы не знаем имени художника, который рисовал ее, поэтому называем Бедфордским мастером.
— На манер Мастера игральных карт, — сказал Ник. — У этих людей что — имен не было?
— Почти никаких, — ответил Ательдин. — По крайней мере до конца пятнадцатого века. А до этого времени преобладает средневековый дух анонимности. Искусство рассматривалось как способ проявить не свой гений, а гений Господа. Вдохновение — дар Божий, так тогда считалось. А мастер или ремесленник были всего лишь проводниками божественного вдохновения. И только в эпоху Возрождения искусство снова становится эгоцентричным. Можно провести прямую линию от да Винчи до Пикассо, отвратительного мистера Херста[26] и всей остальной шайки.
— Привлекательная теория, — сказала Эмили.
— Вот только от нее мало проку, когда нужно определить происхождение той или иной вещи. Мы можем всего лишь попытаться идентифицировать работу, основываясь на стилистических особенностях. Вот тут-то и может пригодиться Бедфордский мастер. На настоящий момент известно, что у него была мастерская в Париже и он использовал для работы нескольких ремесленников и помощников. Разные люди исследовали книги, приписываемые его мастерской, и они обратили внимание на присутствующие в этих книгах мотивы игральных карт. Очень похожие птицы и звери, а иногда просто идентичные с теми, на картах. Мне кажется, Джиллиан пыталась, пусть и уклончиво, донести мысль, что картинки в бестиарии тесно связаны с изображениями на картах.
Ник переварил услышанное.
— Так вы думаете, что Мастер игральных карт и Бедфордский мастер — это одно лицо?
— Может, и нет.
Ательдин напоминал Нику одного из университетских профессоров — был в годы его учебы такой напыщенный тип, который больше всего любил демонстрировать свою ученость, в особенности распуская на павлиний манер хвост перед хорошенькими аспирантками. Неужели это произвело впечатление на Джиллиан?
— Он мог работать в этой мастерской учеником. Он мог видеть эти картинки и скопировать их. А может быть, существовала некая модельная книга.
— Модельная книга?
Ательдин не позволил вопросу Ника отвлечь его.
— Европа пятнадцатого века погружена в сумерки Средневековья, но уже не за горами рассвет Нового времени. Все меняется, и в первую очередь это относится к распространению всевозможных идей. Люди все яснее начинают понимать, что им нужно более широкое общение. Вот только у них нет средства для этого. Модельные книги — один из ответов на требование времени. Вы изготовляете книгу с примерами самых разных картинок, и тогда любой человек, увидевший такую книгу, может создать более или менее точную копию этой картинки. Некоторые книги сопровождаются пошаговыми инструкциями, объясняющими, как делать рисунки и раскрашивать их. Рисование по числам. Мастер игральных карт доводит это до логического завершения — он изобретает способ печати с медной доски, а это уже массовое производство. — Он шмыгнул носом. — А несколько лет спустя Гутенберг осуществляет прорыв, создав печатный станок.
Машина по-прежнему катила по пустому шоссе.
Элоиза Дювалье была курильщицей. Что облегчало дело. «Не звоните из офиса, — предупредили ее. — Воспользуйтесь телефоном-автоматом на улице». Они даже дали ей платежную карточку, чтобы не искать мелочь.
«Если мсье Ательдин отправится в Брюссель, вы должны немедленно нам позвонить», — сказал ей священник. И два дня спустя Ательдин вышел из своего кабинета, натягивая на ходу плащ, и крикнул своей секретарше, что отправляется в Брюссельское хранилище. Элоиза в это время натирала стеклянную перегородку соседнего кабинета — она на этой неделе много времени отдавала перегородке.
«Откуда священнику было известно, что Ательдин отправится в Брюссель?»
Он был священником, а значит, ему были известны тайны мира. Он обещал ей пятьсот евро, если она ему сообщит. Это было больше, чем она зарабатывала за месяц, убирая офис Стивенса Матисона, где люди могли себе позволить за ланчем бутылку вина, которая стоила не меньше.
Она решила подождать пятнадцать минут — так безопаснее. Прошло десять, и она подумала, что этого достаточно. Задержка может стоить ей денег. У нее в Абиджане было шесть сестер, которые жили на присылаемые ею деньги. А получив пятьсот евро, она, может, выкроит еще немного и для себя. Она показала своему начальнику, что пойдет покурить, тот постучал по своим часам и выставил три пальца. Три минуты. Допросишься у него минут — снега зимой не даст. Охранник выпустил ее из здания.
В телефонной будке была девица в короткой юбке и розовой курточке с оторочкой из искусственного меха. Элоиза ждала, трясясь от холода и слушая жалобы маленькой принцессы собеседнику. Вероятно, бойфренду. Прошла одна минута, потом другая. Элоиза постучала по стеклу будки и получила в ответ гневный взгляд. Ее время истекало — она не могла надолго тут задерживаться. Даже за пять сотен евро.
Девица повесила трубку, и Элоиза, даже не дав ей выйти, тут же втиснулась в будку. Она схватила трубку, набрала номер. Священник ответил по первому звонку.
— Oui?
— Он в пути.
XL
Штрасбург
Что я натворил?
Я вышел из дома, изумляясь сам себе. На другой стороне улицы два грузчика с помощью рычагов заталкивали здоровенную бочку с вином в открытый подвал. Я хотел броситься туда следом и сломать себе шею или утопиться, сунув голову в бочку. Справа от меня в конце проулка неторопливо текла мимо пристаней река. Меня это устроит. Она донесет меня до Рейна, а потом мимо Майнца, где мои брат или сестра смогут, оторвавшись от работы, увидеть какой-то плавучий мусор в потоке. А потом меня вынесет в бескрайний океан.
Золото было моей погибелью. С того момента, как в моем детском кулачке скрылась украденная монетка, я был одержим не меньше, чем демоном, мечтами о золоте и совершенстве. Совершенство стоило дорого. Я со всеми моими несовершенствами продался за две сотни гульденов.
Безумие, словно горячка, не отпускало меня. Я брел по улицам, не понимая, куда иду. Впрочем, мне это было безразлично. Наступил вечер. Постыдная страсть расцветала в моем сердце. Червь, владевший мной, разбух до размеров чудовищного дракона. Он взлетел и опалил огнем мою душу. Долгие годы я сдерживал это желание, теперь же позволил ему завладеть мной. Мне нужна был плоть, чтобы вцепиться в нее, драть, кусать, сжимать. Обладать.
Я знал, что в любом городе есть места, где все это можно получить. С первого дня в Штрасбурге я старался обходить эти места стороной. Теперь я спешил туда. Одно из них располагалось неподалеку от собора, ведь зло завидует добродетели и всегда обитает где-то поблизости. Дальше по улице, где кричаще одетые женщины предлагали удовольствия, которые мне были не нужны, потом по проулку, где предложения становились все более необычными, и в тупичок, который представлял собой сточную канаву между задними стенами домов.
Меня удивило, насколько тут было многолюдно. Я держал взаперти своего демона так долго, потому что думал — он обитает только во мне. А тут я увидел целое сообщество. Мужчины, одетые как женщины, с нарумяненными под щетиной щеками, мускулистые мужчины, руки которых были иссечены шрамами, костлявые остролицые парни, окидывавшие меня жадными взглядами, тощие мальчишки в блузах, едва прикрывавших мягкую кожу их ягодиц.
Наверное, я должен был почувствовать сродство с ними, но ничего такого не ощутил. Они вызывали у меня чувство негодования: одним своим существованием они принижали меня. Ревность подогревала мою злость и убивала мои сомнения. Я углубился в тупичок. Ко мне прикасались руки, дергали за рукава плаща, мужчины свистели и выкрикивали предложения, называли цену. Я не замечал их.
Ближе к концу тупика, где темнота и вонь были сильнее, я нашел то, что мне было надо: худощавого смуглого человека с копной черных кудрей. Красотой он не мог сравниться с Каспаром — у него был небольшой горб, а многие годы греха искривили его лицо, как старую лозу. Но он устраивал меня. Он назвал цену, и я заплатил, не споря. Приданое Эннелин.
Он развернулся и дал мне знак идти за ним. Огонь в моей душе остывал. Я не знал, что мне делать. Я был испуган, но исполнен решимости довести дело до конца хотя бы для того, чтобы досадить Драху, Эннелин и миру, который обрек меня на несчастье и отчаяние.
В стене обнаружилась щель чуть шире плеч. На большее уединение рассчитывать нам не приходилось. Мой спутник затолкал меня туда и развернул. Он присел передо мной и распахнул полы моего плаща. Я попытался расслабиться и получить удовольствие. Закрыл глаза. Я слышал только звук сточных вод в тупичке.
И шаги. Я открыл глаза. Я думал, что темнее этого места на земле нет. Но невероятным образом темнота еще сгустилась. Чья-то тень закрыла проход в узенькую щель. Человек оттащил от меня мужчину-проститутку и отбросил его на землю.
— Иоганн?
Голос Драха.
— Ты сошел с ума? Если стражники поймают тебя здесь, то сожгут заживо.
Я увидел, как проститутка за плечом Драха поднялся с грязной земли. В его руке матово блеснула сталь.
— Каспар! — выдохнул я.
Драх повернулся. Он был так быстр, что я даже не уловил его движения, но в следующее мгновение нападавший покатился по тупику, вопя от боли. Драх подобрал выпавший нож и бросил вслед воющему человеку — к той дыре, где сточные воды уходили в канал. После этого он посмотрел на меня.
— Ты весь дрожишь.
Ноги у меня подкосились. Драх подхватил меня.
О том, чтобы доставить меня домой в Сент-Арбогаст, и речи не было. Я был как стебель травы. Драх меня то нес, то тащил по пустым улицам в свое жилище. Около церкви Святого Петра нас остановили два стражника. Страшные видения костра возникли перед моим взором, но Драх притворился пьяным и сказал, что я свалился в подвал. Они нас отпустили.
Драх обитал на чердаке дома, принадлежавшего Андреасу Дритцену. Я рассердился, узнав об этом. Мне тогда пришло в голову, что настойчивость Драха, с которой он требовал снять подвал под нашу мастерскую, объяснялась его сговором с домохозяином. Теперь же я был благодарен, что мне не нужно тащиться до своего дома.
Драх затащил меня наверх и уложил на собственный соломенный матрас. Другой мебели здесь не было, если не считать его сундука с инструментами. Он сел на пол рядом со мной и погладил меня по лбу.
— Что было у тебя в голове?
— Эннелин, — пробормотал я. — Я согласился жениться на ней.
Он расстегнул плащ и стащил его с меня.
— Мне его дали на время, — простонал я.
— Я знаю. — Он поднял плащ, чтобы разглядеть получше. — Могло быть и хуже. Ты угодил в дерьмо только по щиколотку.
— Благодаря тебе.
Он встал у меня за спиной и стащил с меня через голову рубаху. Она была мокрая от пота.
— Поспи.
Он накинул на меня одеяло. Я закрыл глаза и обмяк на соломенном матрасе.
— Я тебя люблю, — прошептал я.
Я не знал, услышал ли он меня, а открыть глаза не осмеливался.
Я проснулся от ощущения чего-то твердого, упирающегося мне в лоб. Несколько золотых мгновений я воображал, что это лицо Драха прижимается к моему, что наши тела сплелись в одно. Я протянул руку, но ничего, кроме соломы, не нащупал. Неохотно расстался я с этой иллюзией и открыл глаза.
На матрасе рядом со мной лежало что-то, завернутое в старую рубаху. Я приподнялся на локте, оглянулся. Сквозь чердачные окна светило солнце, но Драха нигде не было.
Я без труда развернул рубаху и обнаружил внутри небольшую стопку бумаги, непереплетенную основу книги. Страницы были подобраны и прошиты, но обложка к ним еще не была сделана. Я открыл первую страницу.
«Leo fortissimus bestiarum ad nullius pavebit occursum…» — прочел я.
Лев храбрейший из всех зверей и не боится ничего.
Это был бестиарий — я переписывал один в Париже. Но теперь перед мной оказался экземпляр куда как более замечательный: роскошная книга, написанная прекрасным почерком на пергаменте. В начале первой строки стояла великолепно иллюминированная буква «L», обросшая ветвями и листвой, под этой пышной кроной лев прыгал на беззащитного быка. Лев напоминал одного из животных с игральных карт, быка такого я раньше не видел, но он явно принадлежал к тому же зверинцу.
Я принялся листать страницы, не обращая внимания на текст и разглядывая иллюстрации. До этого я видел только черно-белые рисунки Каспара. Или же нарисованные на щитах и поблекшие от солнца и ветра. На страницах этой книги они обитали в совершенном мире природы. Сочная листва заполняла поля, словно в саду Эдема. Яркоперые птицы чирикали на ветках или перелетали с одной колонки текста на другую. Из-за золоченых буквиц стыдливо выглядывали фавны.
Лакомка медведь лез по стволу буквы «Р» к меду, лежащему в петельке, а другой медведь сидел внизу и выкапывал из земли червяков. Золотой лист сиял, как начало нового дня, цвета были сочные и чистые, как океан. Ничего прекраснее я в жизни не видел.
Я с сожалением перевернул последнюю страницу и прочел выходные сведения: «Написано рукой Либеллуса, иллюминировано мастером Франциском».
Над полом, там, где была лестница, появилась голова Драха. Он улыбнулся, увидев благоговейное выражение на моем лице.
— Я так полагаю, передо мной мастер Франциск.
Балансируя на лестнице, он изобразил поклон.
— Как это у тебя оказалось? — спросил я удивленно. — Такие вещи должны храниться в королевской библиотеке.
Каспар поднялся в комнату и сел на угол матраса.
— Она для герцогской библиотеки. Его забрала чума, прежде чем он успел оплатить заказ. А вдова отказалась исполнять контракт. Поэтому я оставил книгу себе. Теперь она твоя.
— Я не могу…
Он наклонился ко мне.
— Я хочу, чтобы она была у тебя.
Я прижал книгу к груди. В этот момент я был готов ради него на все. Но его следующие слова были мне как ножом по горлу.
— Считай это первым свадебным подарком.
XLI
Окрестности Брюсселя
Когда Ательдин сказал про Брюссель, перед мысленным взором Ника возникли мощеные улицы, островерхие крыши и барочные дома. Но Ательдин привез их в бельгийскую разновидность Нью-Джерси. «Ягуар» съехал с шоссе и принялся петлять в резком свете прожекторов по асфальтовому лабиринту, образованному стенами из ребристого сайдинга и сетчатыми заборами. На пути им попадались одни грузовики.
Наконец они свернули с дороги и остановились у шлагбаума рядом с будкой. Морозный воздух хлынул в машину, когда Ательдин опустил окно, чтобы показать охраннику пропуск. Ник услышал, как зашевелилась на заднем сиденье Эмили. Она спала с самой границы.
Он посмотрел на циферблат: час ночи.
— А они нас впустят?
— У них клиенты со всех концов света, — ответил Ательдин. — Они работают двадцать четыре часа в сутки.
И верно — охранник вернул пропуск, шлагбаум поднялся. Ательдин провел машину по дорожке и, припарковавшись перед безликим серым строением складского типа, заглушил двигатель. После трех часов езды внезапная тишина воспринималась как облегчение.
Они вышли из машины. Ник поморщился, всем телом почувствовав холод, и подумал, не повредит ли мороз игральной карте. Оставить ее в машине Ательдина ему не хватило духа.
— Сейчас, чтобы заморозить книгу, никакой склад не нужен, — сказал Ник.
Никто ему не ответил. Они пошли следом за Ательдином по короткому пролету бетонных ступенек, их дыхание клубилось на морозе. Ательдин открыл дверь, набрав шифр на кнопочной панели. Они оказались в пустой комнате со стенами, выложенными шлакобетоном. За окном в стене сидел охранник в коричневой форме, просматривая зачитанный журнал. Стекло поначалу не казалось надежной защитой, но, приглядевшись, можно было заметить, насколько оно толстое. Когда охранник открыл им следующую дверь, Ник увидел, что она сделана из четырехдюймовой стали.
— Они что — опасаются каких-то волнений? — спросил Ник, когда они вошли в кабину лифта.
— Книги и манускрипты, хранящиеся здесь, стоят миллионы долларов, — уверенно сказал Ательдин. — Некоторый перебор с точки зрения безопасности не помешает.
Кнопок в кабине лифта не было. Синтезированный голос произнес два-три слова по-французски, потом дверь закрылась и кабина пришла в движение — начала спускаться. Ник посмотрел на Эмили, которая все еще куталась в свою красную куртку. Выглядела она испуганной, но выдавила усталую улыбку.
Двери открылись. Ник уставился на то, что предстало его взору. Первой его мыслью было, что они оказались в чреве подводной лодки. Все здесь заливал красный свет, отражавшийся от бесконечных рядов высоких остекленных шкафов. Низкий электрический гул заполнял помещение.
— Добрый вечер, герр Ательдин.
Человек в костюме из ткани в узкую полоску под белым халатом вышел им навстречу из прохода между шкафов. У него было круглое лицо, мягкие волосы и широкие усы, обвислые по концам, что придавало ему выражение серьезности и готовности услужить. Его, казалось, ничуть не удивили посетители, заявившиеся в столь поздний час. Возможно, в неизменных сумерках этого подземелья время не имело значения.
— Доктор Хальтунг. — Человек обменялся дружеским рукопожатием с Ательдином, Ником и Эмили. — Ваш визит очень… гм… неожиданный.
— Срочный запрос клиента, — сказал Ательдин. — Коллекция Мореля.
— Конечно. Никаких проблем. Конечно. — Доктор поклонился, выпрямился, снова поклонился. — Прошу вас входить.
Они последовали за ним по коридору между шкафов. Ощущение было довольно жуткое — с каждым их шагом чувствительные к движению датчики автоматически включали в полу огни, провожавшие их и гаснувшие, когда они удалялись. В шкафах Ник видел книги и кипы бумаг, лежавшие на полках, как мясо в лавке мясника. Цифровые дисплеи показывали температуру — минус 25 градусов по Цельсию.
Доктор Хальтунг остановился у ряда шкафов почти в середине помещения, порылся в кармане халата и вытащил компьютер-наладонник.
— Коллекция Мореля.
— Никто больше не приезжал посмотреть на нее? — спросил Ник.
Хальтунг потыкал пальцем в экран наладонника.
— Никто не имел доступа к этим материалам, кроме нашего персонала. В соответствии с вашими инструкциями, герр Ательдин.
Ник испытал привычный укол разочарования. Джиллиан здесь не было.
— Что именно вы бы хотели посмотреть, будьте добры?
— Каталожный номер двадцать семь «Ди», — сказал Ательдин. — Бестиарий неизвестного автора, пятнадцатый век.
— Конечно.
Хальтунг снова потыкал пальцем в наладонник, затем нажал кнопку на дверях шкафа. Ник услышал чмокающий звук ломающейся печати, потом шипение воздуха. Хальтунг надел пару плотных рукавиц, пересчитал полки, снял с одной том, положил его на деревянную тележку.
Ник попытался разглядеть книгу в сумеречном свете. Она была меньше, чем он предполагал, — размером с обычное издание, в потрепанном кожаном переплете. На корешке образовалась ледяная корочка, как у мороженого, залежавшегося в морозилке. Книга была перехвачена двумя полосками бинта.
Быстрым шагом Хальтунг покатил тележку в остекленную комнату в конце подземелья. В тот миг, когда они пересекли дверь, загорелся ряд огней наверху.
Ник протер глаза, испуганный неожиданным светом. К полу в центре помещения, похожая то ли на реактивный двигатель, то ли на турбину, была прикручена странная машина: огромный цилиндр, прикрепленный к коробу, и все это сверкало нержавеющей сталью. Сбоку горели красные и зеленые огни, а из стен и пола выходили трубки и провода, исчезавшие в коробе.
— Вообще-то процесс довольно прост, — сказал Хальтунг. — Похож на приготовление растворимого кофе.
Он распахнул дверь в передке машины, и они увидели еще один ряд полок, словно в духовке пекаря. Хальтунг сунул туда книгу, потом зашел сбоку и принялся нажимать кнопки. На панели замигали огни.
— Вот в этот самый момент давление в камере близко к норме, тысяча миллибар. Мы уменьшаем его до шести миллибар. Это почти полный вакуум.
Он нажал последнюю кнопку, и машина зашипела и завибрировала, послышался рев, словно на полную мощность включили фен для сушки волос.
— Вакуум мгновенно превращает лед в газ, минуя стадию превращения в воду. Испарение, верно? И вот книга сухая. Чернила не текут, материя удерживает страницы на месте. Идеально!
— И можно посмотреть сейчас?
— К сожалению, нет, — сочувственно сказал Хальтунг. — Книга по-прежнему имеет температуру минус двадцать градусов по Цельсию. Если вы перевернете страницу, она хрустнет в ваших руках. Теперь мы должны вернуть нормальное давление и нормальную температуру в плюс двадцать градусов.
— И сколько на это уйдет времени?
— Может быть, часа два. — Хальтунг отошел от машины. Звук урагана стих, его заменило низкое урчание. — Хотите пока выпить кофе?
— Вы его тоже готовите в этой машине? — спросил Ник.
Хальтунг не понял шутку.
— Мы пьем «Нескафе». — Он снял трубку со стены и набрал номер. Подождал. — Видимо, охранник вышел в туалет.
Хальтунг повесил трубку, на лице у него появилось озадаченное выражение.
— Я схожу наверх. Пожалуйста, ждите здесь.
Он вышел из помещения. Ник проводил его взглядом по освещенному красным светом складу — напольные огни с опережением зажигались перед ним, словно ударная волна, а когда он проходил — гасли.
Ник подошел к машине и заглянул внутрь сквозь окошко. Книга неподвижно лежала на полке. Ледяная корочка исчезла. Два дисплея у дверки показывали, как растут температура и давление.
— Невероятно, если подумать, — сказала за его спиной Эмили. — Пять или шесть столетий назад эта самая книга представляла собой листы пергамента и склянку с чернилами где-то на столе в Париже. Она пережила бог знает сколько королей, войн, владельцев… Она промокла, была заморожена, высушена в замороженном виде с использованием самых современных технологий двадцать первого века… и после всего этого мы сможем снова увидеть те самые слова, что написал автор.
— Если повезет, — добавил Ательдин.
Волна усталости накатила на Ника. Было почти два часа ночи, и смена часовых поясов все еще давала о себе знать. Хальтунг с кофе все не появлялся.
— Я пойду прогуляюсь.
Ательдин хотел было возразить, но ограничился недовольным:
— Только ничего не трогайте.
Дверь автоматически раскрылась и выпустила Ника в красный кокон склада. Он пошел по коридорам замороженных книг, загипнотизированный тем, как напольные огни словно растекались перед ним. Он на ходу заглядывал в двери шкафов, видел связки книг на полках и спрашивал себя: что там — под этими потрепанными обложками. Может быть, никто не читал этих страниц и своего открытия ждут окаменелые ископаемые, пока запертые в вечной мерзлоте. Может быть, что-то в этом роде и обнаружила Джиллиан?
Он завернул за угол и увидел сплошную бетонную стену: конец хранилища.
«Теперь, наверное, нужно возвращаться назад», — подумал он и развернулся.
Почти в то же самое мгновение желтый свет разлился чуть поодаль по передней стене, когда открылись двери лифта. Появился Хальтунг. Кофе он не нес, и это было к лучшему — его трясло так, что он наверняка расплескал бы его.
Из кабины лифта появилась рука в черной перчатке и с пистолетом, сунула оружие в спину Хальтунгу.
XLII
Штрасбург
Винт затянули сильнее. Доска заскрипела, вдавливаясь во влажную бумагу. Мы выдержали ее прижатой немного, потом отпустили винт. Драх поднял листок и повесил на веревку, натянутую между двумя балками.
— Двадцать восемь.
Двадцать восемь. Я отошел от рукояти пресса и пошел посмотреть листок. В некотором смысле видеть там было нечего — он был абсолютно неотличим от двадцати семи предыдущих. Но для меня это значило все. Я разглядывал этот листок, как отец свое чадо. Но это было лучше, чем чадо, потому что сын — всего лишь несовершенная копия отца. Эта копия была идеальной.
Она не была красивой. Однообразный текст, трудночитаемый, потому что на изготовление стальных пуансонов ушло слишком много времени и мы ограничились только прописными буквами. Тут не присутствовало разнообразия размеров или толщины линий, какие применяются писцами, если не считать одной-единственной витиеватой буквицы, которую Каспар собственноручно вырезал на медной доске. Я в двадцать восьмой раз взглянул на листок и вздохнул. Мой скучный ряд букв, единственное достоинство которых состояло в их упорядоченности, против живописных кривых и буйных щупалец его единственной буквы. В этом что-то было.
Каспар установил следующий лист бумаги, и мы заняли наши места по обе стороны рукояти винта. Для меня это были золотые времена: тихие вечера в нашем подвале за запертой дверью, мы вдвоем работаем, имея общую цель. В эти моменты я почти забывал, какую цену мне пришлось заплатить за это.
— Я как-то познакомился с одним итальянским купцом, который добрался аж до самого Катая,[27] — сказал Каспар. — И знаешь, что он там увидел?
— Людей с собачьими головами и ногами как грибы.
Каспар не рассмеялся. Как и многие остроумные люди, он ревниво относился к юмору других.
— Они расплачиваются друг с другом не серебром и золотом, а бумагами.
Я рассмеялся и мотнул головой, показывая в угол комнаты. На скамье там стояла перевязанная бечевкой кипа бумаги, ждущая своей очереди в прессе.
— Нам стоит поехать в Катай. Мы станем богачами. Мы сможем купить серебра на нашу бумагу, перевезти его сюда, продать, купить еще больше бумаги и снова отправиться в Катай за серебром… — Я подозрительно посмотрел на него, спрашивая себя, уж не очередная ли это его изощренная шутка. — Уж если бы все было так просто, то наверняка каждый бумаготорговец в Италии был бы богат, как Папа Римский.
— Может быть. — Он пожал плечами. — Я думаю, что их принцы, видимо, метят свои бумаги какими-то символами, на манер наших королей, которые чеканят монету.
— Ты можешь расплавить монету, чтобы на ней не было головы короля, но золото при этом останется золотом. Соскреби твой знак с бумаги, и она станет простой бумагой. Сожги ее — и у тебя вообще ничего не останется. — Я отпустил винт и вытащил листок бумаги. — Двадцать девять. Я думаю, твой купец просто морочил тебе голову.
— Неужели в это так трудно поверить? Разве мы здесь делаем не то же самое? Берем бумагу, которая обходится нам в грош за дюжину листов, и продаем церкви по три гроша за каждый листик. А они, в свою очередь, продают его за шесть грошей. Разве природа бумаги при этом меняется?
Это было остроумно.
— Люди платят не за бумагу. Они покупают искупление грехов. Бумага — это только чек, выдаваемый церковью.
— Да, но без этой бумаги нет и сделки. Неужели ты думаешь, что в Судный день мы поднимемся, сжимая в руках кипы индульгенций, и вручим их святому Петру, словно выбивая из него ренту?
— Это известно одному Господу.
— Если Господу известно, то зачем Ему для напоминания требуется клочок бумаги? Людям нужна бумага, потому что они доверчивые глупцы.
Меня всегда удивляла эта способность Каспара говорить о людях так, будто сам он принадлежал к какому-то другому виду.
— Эта бумага освящена церковью.
— Церковь знает: люди будут платить больше, если получат что-то взамен. Даже если оно стоит не больше, чем так называемые деньги Катая. — Он улыбнулся мне своей особенной улыбкой — одновременно заговорщицкой и снисходительной. — Ты ведь знаешь. Это то средство, которым ты надеешься обогатиться: берешь что-то бросовое и делаешь его ценным.
— Если только получится.
Я вернулся к прессу. За время нашего разговора мы сделали еще три индульгенции. Я вытащил свежую копию из пресса и проверил ее, не уставая поражаться совершенству. Сколько таких отпечатков нужно получить, прежде чем их вид начнет меня утомлять? Сто? Тысячу? Десять тысяч?
Но даже вкушая эту радость, я чувствовал, как она спадает. Я рассмотрел бумагу внимательнее. Все буквы оставались на месте, каждая там, где и полагается. Но они казались менее четкими, чем раньше, словно камень, изношенный множеством подошв. Я протер глаза, думая, что постоянное сидение в подвале притупило мое зрение.
— Что такое?
Я встал у окна. Матовое стекло отбрасывало дымчатые тени на бумагу, но буквы были видны отчетливо. Я не ошибся.
Кромки потеряли четкость, расплылись, все буквы пожирнели. Некоторые превратились в почти нечитаемые кляксы. Даже буквица Драха распускалась не так ровно.
Я взял первую изготовленную нами индульгенцию и сравнил их. Буквы на ней были четкие, гораздо более читаемые, чем на последней. Я показал листок Каспару.
— Может быть, давление в последний раз было недостаточным.
Мы сделали еще один отпечаток, потом еще. На третьем все сомнения пропали. С каждым отпечатком линии становились менее четкими. В конечном счете это постепенное ухудшение сделало бы текст совершенно нечитаемым.
Я оглядел подвал, скользнул взглядом по тридцати с небольшим индульгенциям, висящим на веревке. Они обманули меня своим иллюзорным совершенством.
Но у меня на уме были более неотложные вопросы.
— Почему это случилось?
Драх наклонился над прессом, провел пальцами по канавкам в медной доске.
— Медь — материал мягкий, а нам для получения отпечатка нужно громадное давление. С каждым новым отпечатком медь сжимается и деформируется.
— И мы ничего не сможем сделать?
— Изготовить новую доску.
— Дюнне целую неделю над ней работал. — Я произвел грубый подсчет в уме. — Я заплатил ему три гульдена за работу. Если с одной доски мы можем делать только сорок или пятьдесят индульгенций по три гроша за штуку, то на каждой партии мы будем терять по гульдену. А это еще без учета стоимости чернил, бумаги, аренды…
— Ты говоришь как купец.
— А как иначе? — напустился я на него. — Почему ты мне не сказал, что так оно будет?
— Я никогда не печатал столько карт и не знал этого.
Я опустился на пол. Обещания приданого Эннелин было достаточно, чтобы убедить ростовщика Штольца дать мне новый кредит, но больше мне уже не дадут. Даже женившись на ней, мне придется большую часть капитала растратить просто на погашение долгов.
Я подобрал одну из индульгенций — она упала на пол рядом со мной. От слез в глазах буквы расплывались, превращались в ничто. Я заложил мою жизнь ради этого дела в искреннем убеждении, будто мне удастся сделать что-то ценное.
Теперь у меня была только бумага.
XLIII
Окрестности Брюсселя
Человек вытолкнул Хальтунга и сам вышел из кабины лифта. За ним появился еще один. На обоих были черные кожаные куртки и черные шлемы-маски, скрывавшие их лица. Оба были вооружены.
Один из них подался вперед и прошептал что-то Хальтунгу. Тот дрожащей рукой указал ему в сторону помещения в конце хранилища. Двое киллеров обменялись несколькими словами, один показал другому, что тот должен обойти помещение по стене. Ник инстинктивно шагнул назад.
Это была ошибка. Пока он стоял спокойно, напольные огни у его ног были выключены, но при его движении они тут же загорелись. Не слишком ярко, но достаточно, чтобы выдать его присутствие. Киллеры развернулись и увидели Ника. Один из них поднял пистолет, но в этот момент Хальтунг вырвался из его хватки и побежал к вакуумной. Киллер промедлил, и этого оказалось достаточно — Ник метнулся в проход слева.
Кошмар на крыше повторялся. Грохнул выстрел, непонятно кому предназначенный. Ник побежал по проходу между шкафами, достиг угла и повернул направо. Перед ним волной вспыхивали огни. Он выругался, но ничего поделать не мог. Повернул еще раз налево, потом еще раз направо и остановился, дожидаясь, когда погаснут огни. До вакуумной оставалось, видимо, еще полпути. Но что, если киллеры доберутся туда первыми?
Напольные огни погасли, и Ник остался в полутьме. Тяжело дыша, он прислонился к холодному стеклу. Попытался повернуться, не двигая ногами, обшарил взглядом пространство над шкафами — не проявится ли движение мерцанием света.
Он погрузился в разглядывание потолка и почти не заметил опасности. Только шестое чувство — возможно, отражение в стекле, а может, что-то, замеченное краем глаза, — спасло его. Он повернулся в ту сторону, откуда прибежал, и замер. Огни подступали к нему, рябью распространялись вперед по мере приближения шагов. Они разлились за угол и устремились к его ногам, как приливная волна, потом остановились.
Киллер, вероятно, находился за углом. Знал ли он, что Ник рядом? Или ждал, не появятся ли снова напольные огни? Все нутро Ника требовало, чтобы он бросился наутек, хотя это означало неминуемую смерть. Но стоять и дальше он не мог.
Огни продолжали гореть. Ник мог двинуться, не обнаружив себя, но только в сторону опасности. Он поборол в себе страх.
Боясь, как бы огни не погасли, он устремился к проходу между шкафами — так ребенок с опаской подходит к краю высокого трамплина для прыжков в воду. Он присел, ощущая лицом тепло от светильников.
Огни замигали снова — киллер вышел из-за угла. Ник не стал ждать: он вскочил на ноги и нырнул головой вперед. Человек выстрелил, но пуля прошла слишком высоко. Ник врезался в него, сбил с ног. Потом откатился в сторону: он знал, что шансов одолеть противника в борьбе у него нет. Он выбил пистолет из рук киллера, вскочил на ноги и побежал.
В панике Ник петлял вокруг шкафов, стараясь пробраться к вакуумной. Он заблудился в лабиринте, потому что видел вперед или назад не дальше чем на расстояние вытянутой руки. Последовали еще три выстрела, три удара грома — ужасающе громкого в помещении с низким потолком. Последний зазвенел у него в ушах, вспышка озарила темноту. Неужели пуля попала в него? Неужели то, что он почувствовал, и есть смерть?
Нет, это всего лишь завыла тревожная сигнализация. Вероятно, одна из пуль воздействовала на какой-то чувствительный датчик. Нику от этого было мало проку. Тревожные огни замелькали в хранилище, а звон убивал малейшую надежду услышать приближение врага. В дальнем конца прохода с потолка спускался железный щит, перекрывая доступ к стеклянным стенам вакуумной. Он был уже ниже уровня головы и продолжал движение вниз со зловещей скоростью. Выбора не оставалось. Ник бросился вперед, понесся по коридору, молясь о том, чтобы у него за спиной не оказалось стрелка. Напольные огни теперь светились в полную силу, а записанный голос выкрикивал инструкции, которые Ник не мог ни слышать, ни понимать. Повсюду вокруг него скрежетали опускающиеся щиты и раздавался пронзительный звон, а где-то на заднем плане возник рев, как будто самолет запустил двигатели перед взлетом. Датчик, почувствовав его приближение, автоматически раскрыл двери. Щит продолжал опускаться, высота просвета теперь составляла немногим больше фута. Ник рухнул на пол и проскользнул внутрь.
Щит коснулся пола и надежно прижался к нему. Ник оглянулся, дрожа от пережитого. Ательдин и Эмили выглядывали из-за машины. Киллеров здесь вроде не было.
Он поднялся на колени. Ногам своим он не очень доверял, а потому пока не встал в полный рост.
— Что произошло? — Ему пришлось кричать, иначе его голос был бы не слышен за ревом, доносящимся из-за щита.
— Дым от выстрела привел в действие пожарную сигнализацию, — сказал Ательдин. — Она тут очень чувствительная, как вы понимаете, — такие ценности.
— А почему не включились спринклеры?
— Здесь их нет. Что намочить эти книги, что сжечь — особой разницы нет. Хранилище закупоривают, а потом выкачивают оттуда весь воздух. — Он постучал кулаком по вакуумной машине. — Примерно как в увеличенном варианте такой штуки.
Ник потер голову.
— Хорошо, что я успел выбраться оттуда.
— Да уж.
— А что случилось с Хальтунгом?
— Они убили его, — сказала Эмили. Лицо ее посерело. — Эти люди, уж не знаю, кто они. Они его убили.
По другую сторону щита рев воздуха смолк. Тревожный звонок прекратился… или, подумал Ник, просто звук в вакууме не распространяется.
— И что мы будем делать теперь?
Ательдин кивнул в сторону металлического щита.
— Ничего. Щит можно поднять только сверху. Но даже если бы мы и могли его поднять, то делать это не стоило бы. Там, за щитом, считайте, настоящий космос.
— И как же мы отсюда выберемся?
Ник оглянулся. Дверей тут не было, кроме той, что вела в хранилище.
— Придется ждать прибытия полиции. Она появится очень скоро.
Ника это мало утешило. Пусть он сейчас и в Бельгии, но, как только полицейские введут его имя в компьютер, сразу все о нем и выяснится. Он принялся оглядывать помещение. Где-то ведь тут должен быть вентиляционный люк, аварийный выход, туннель для сервисных работ. Ничего. Сплошная бетонная тюрьма. Вот разве что отверстие в стене, куда уходит двухфутовая труба вакуумной установки.
Ник осмотрел машину.
«Почти идеальный вакуум», — сказал несколько минут назад Хальтунг. Значит, воздух должен куда-то деваться. В том месте, где труба уходила в стену, была стальная муфта, из которой торчали четыре винтовых штифта с гайками-барашками на них. Ник подбежал и попытался открутить один из них. Барашек не поддался.
Он поискал, чем бы его ударить. Увидел пожарный топор в стенной нише. Схватил его и обухом ударил по лепестку барашка. Барашек дрогнул, повернулся на несколько градусов. Ник продолжал колотить по барашку, пока тот не сделал несколько оборотов. Сам штифт был толщиной в дюйм, и когда барашек отошел достаточно далеко, его можно было крутить рукой.
— Сюда, — подозвал он Эмили. Показал на штифт. — Крутите, если получится.
Она сразу же поняла. А Нику предстояло стронуть еще три барашка. Он посмотрел на щит, спрашивая себя, что происходит там, с другой стороны. Прибыла ли уже полиция? Задохнулись ли парни в шлемах-масках, или же они успели убежать до того, как опустился щит с другой стороны?
Самым упорным оказался четвертый барашек. К тому времени, когда удалось его стронуть, Эмили отвинтила все три. Ник присел рядом с ней, их руки соприкасались, словно у детей, с нетерпением разворачивающих рождественский подарок. Несмотря на холод, с Ника тек пот.
Барашек отвинтился, и Ник отпрыгнул в сторону, ожидая, что труба камнем упадет на пол. Труба не шелохнулась.
По другую сторону что-то ударило в щит. В ярости и разочаровании Ник поднял ногу и ударил по трубе — она с хлопком выскочила из муфты и упала на пол, едва не угодив ему по пальцам. В стене перед ним зияла черная дыра. Сунув в нее руку, он ощутил поток холодного воздуха.
— Лучше, чем ничего, — неуверенно проговорил он и оглянулся на машину. — Книга готова?
Ательдин посмотрел на дисплеи.
— Чтобы довести ее до комнатной температуры, нужно еще не меньше часа.
— У нас нет времени.
— Что вы имеете в виду? — Ательдин схватил его за руку. — Эта книга бесценна. Вы не можете взять ее сейчас, когда процесс не дошел еще и до половины.
Ник отмахнулся от него и подбежал к пульту управления машиной. Он нашел большую красную кнопку, под которой было написано NOTAUSSCHALTUNG. Аварийное отключение. Нажал на кнопку ладонью. Жужжание в машине прекратилось. Раздался щелчок замка. Он открыл дверцу и вытащил книгу. Она была холодна, но не очень.
«Я даже не знаю, зачем ее беру», — подумал он. Но кто-то считал, что за нее можно убить.
— Она не принадлежит вам, — возразил Ательдин. — Давайте дождемся полиции.
— Не могу.
Ник сунул книгу вместе с картой в рюкзачок и протянул его Эмили. После чего нырнул головой вперед в дыру. Он оказался в узком бетонном туннеле, в который едва протискивались плечи. Несколько футов туннель шел горизонтально, потом Ник уперся в вертикальную стену.
«Но ведь воздух все равно должен куда-то выходить».
Он поднял руку над головой и ощутил пустоту. Перевернулся на спину и посмотрел вверх — увидел решетку на фоне подсвеченного городом неба. Потом подтянул колени и оттолкнулся, ввинчиваясь туловищем в вертикальный туннель. Еще немного — и он дотянулся рукой до решетки. Она подалась без всякого сопротивления. Он откинул ее в сторону, протащил себя через отверстие и упал на мерзлую траву.
Он оказался сбоку здания. Пока следом за ним выбиралась Эмили, Ник поднялся и двинулся к входу. Рядом с будкой охранника на асфальте распростерлось мертвое тело. Другое лежало у ступенек, ведущих к двери. Черный полноприводный «лексус» с итальянскими номерами стоял по диагонали на парковке, блокируя «ягуар» Ательдина.
В морозной ночи раздавался вой сирен — далекий, но приближающийся. Как же выбраться отсюда? На парковке ни одной машины, кроме их «лексуса», и никаких признаков жизни ни в одном из соседних зданий. Они находились в самом сердце обширного промышленного района, и идти пешком до центра города было нереально.
И в этот момент Ник услышал музыку.
Поначалу он решил, что это галлюцинация. В ушах у него все еще стоял звон сигнализации в хранилище. Но музыка не кончалась — или она уже начала повторяться в его ушах, как случается с навязчивыми песнями? Он прислушался. Пел Боб Марли — вот уж кого он меньше всего ожидал услышать. Похоже, музыка доносилась из «лексуса».
Закончился один трек, начался другой. Ник присмотрелся и увидел клубящийся в ночи дымок из выхлопной трубы машины. Значит, в машине кто-то сидел? Он подкрался поближе, пытаясь разглядеть за подголовником, есть ли там кто-нибудь на сиденье. Луч прожектора со стены здания пробивал лобовое стекло — если бы внутри кто-то был, то его силуэт наверняка был бы виден. Но Ник не видел никого. А двигатель работал.
Ник подкрался к машине, потянулся к ручке водительской двери. Глубоко вдохнув, он открыл дверь.
Струя теплого воздуха изнутри ударила ему в лицо. Машина была пуста. Ник сел за руль и перевел рычаг в положение «назад». Педаль газа оказалась чувствительнее, чем он ожидал, и машину со скрежетом покрышек отбросило назад. В зеркало заднего вида он увидел Эмили — она бежала по траве от вентиляционного хода в стене, держа в руках его рюкзак. Потом она словно споткнулась. Упала на руки и на колени и исчезла из виду.
Ник снова оглянулся. Дверь в хранилище распахнулась — на ступеньках стоял еще один человек в шлеме-маске с пистолетом в руке. Он крутил головой во все стороны. Вой сирен стал громче.
Эмили распахнула заднюю дверь и запрыгнула на сиденье. Как только она оказалась в машине, Ник нажал на педаль газа. Машина была ему незнакома, к тому же его охватила паника, и он чуть не врезался в фонарный столб. Вывернул руль — и тут же оказался перед будкой охранника. Такая дерганая езда, вероятно, и спасла его. Стекло пассажирского окна взорвалось, когда киллер наконец понял, что происходит. В салон дождем хлынули мелкие осколки, посекли лицо и руку Ника, но пуля прошла мимо. Ник почти и не заметил этого. Он проскочил через ворота, вывернул на подъездную дорожку и утопил педаль газа.
XLIV
Штрасбург
— Честь обязывает меня, мадам, сообщить вам, что я более не представляю собой обеспеченного жениха, каким был прежде. Я сделал определенные вложения, которые, против моих ожиданий, не вернулись. Это, в свою очередь, повлекло за собой долги, которые поглотят большую часть моего дохода, а может, и весь доход. При сложившихся обстоятельствах я не буду в претензии, если вы решите разорвать мою помолвку с вашей дочерью.
Лицо Эллевибель не дрогнуло за все то время, что я произносил эту заученную речь.
— Это очень порядочно с вашей стороны, герр Генсфлейш. Такая честность свидетельствует в вашу пользу. Более того, она лишь подтверждает сложившееся о вас хорошее мнение. Если это единственная причина, я, конечно, не стану препятствовать вашему браку. Мой покойный муж был предпринимателем — я знаю, как прихотливо колесо фортуны. Вера и характер — вот что делает человека таким, какой он есть. И я уверена, в этих ваших качествах моя дочь не будет разочарована.
Я согнулся в поклоне пополам, как человек, которому в живот вонзили нож.
— Благодарю вас.
Я стоял у стола в сарае моего дома в Сент-Арбогасте и смотрел на руины собственного предприятия. Каспар был в Штрасбурге — расписывал стену над алтарем. Я остался один на один с моими неудачами. Медная дощечка, на которой я выстучал пуансоном буквы, и три индульгенции, что удалось с нее изготовить, несколько бутылок чернил, двадцать шесть стальных штырей с буквами на концах, кипа неиспользованной бумаги, придавленная камнем. Мне померещились отзвуки того последнего утра в Париже. Я вложил все мои надежды и труды в этот тигель, семь раз разогревал его на огне, но, когда Тристан разбил его мечом, металлы превратились в шлак. В ничто.
В глубине души у меня уже родилось знакомое ощущение — как у зайца, почуявшего лисицу. Или у путника, услышавшего, как хрустнула ветка в лесу. Этот же инстинкт гнал меня из Майнца, из Кельна, из Базеля, из Парижа — стоило мне только уловить приближение опасности. Но теперь мне было почти сорок. А сорок — это не двадцать. У меня были дом, положение. Я не мог снова пуститься бродяжничать. И представить не мог расставание с Каспаром — единственным моим другом.
Я оказался в ловушке. Не за стеной или решеткой — но в плену безжалостных обстоятельств. Во мне кипел гнев бессилия. Я стукнул кулаком по столу. Зазвенели стекло и металл, одна из склянок с чернилами опрокинулась, чернила разлились по столу. Попали на разбросанные пуансоны, буковки на их концах почернели.
Я взирал на это. Словно во сне, взял я один из пуансонов, перевернул концом вниз и ударил им по столу. Тот сотрясся, словно самое дерево поняло важность этого момента. Я поднял пуансон. На дереве стола осталась единственная отметина. Буква «А». Я снова погрузил пуансон в лужицу чернил и сделал еще один отпечаток, потом еще один. Скоро десяток отпечатков появились на столе. Пуансон и форма, мужское и женское начала. Одно входит в другое и воспроизводится.
Я побежал через двор к каменной постройке. Огонь там не разводился несколько недель. Угля у меня хватало, но вот растопки не было. Я вернулся в сарай, собрал оставшиеся индульгенции, разорвал их на полоски, присел над печью и трутом высек на них искры. Края начали тлеть. Я подул, вызывая огонь к жизни, сжигая следы моего поражения.
На полке у окна я нашел свинцовый стерженек, которым пользовался для чернения чернил. Когда огонь разгорелся, я установил над ним свинец в металлической чаше. Свинец размягчился и выгнулся, стал плавиться, как масло. Я принялся помешивать его ложкой, внимательно наблюдая за процессом: если металл перегреется, то будет слишком сильно прилипать к форме.
Я положил медную дощечку на скамью среди пестиков и сосудов, которые мы использовали для чернил, погрузил ложку в жидкий свинец, зачерпнул и разлил немного по меди. Когда металлы встретились, с шипением стал выделяться пар, расплавленный свинец растекся по канавкам, образующим буквы. Я постучал по дощечке, чтобы выбить воздушные пузыри.
Когда свинец остыл, я подвел под него нож и вытащил из меди. Руки у меня дрожали. Я боялся прикладывать слишком большие усилия из страха погнуть мягкий металл. Наконец я извлек его — плоскую пластинку размером с большой палец. Я отнес ее назад в сарай, обмакнул в чернила и ладонью прижал к чистому листу бумаги. Держал так некоторое время, чуть ли не боясь посмотреть, что получилось.
Наконец я поднял пластинку.
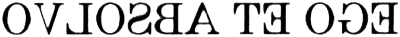
Это было написано задом наперед, потому что такова уж природа подобных отпечатков: дитя суть зеркальное отражение родителя. Но я мог легко прочесть получившееся. Слова криком рвались из моей души.
EGO ТЕ ABSOLVO — ОТПУСКАЮ ГРЕХИ ТВОИ.
XLV
Окрестности Брюсселя
Три полицейские машины пронеслись по дороге, направляясь к хранилищу. Черный «лексус», запаркованный в тупичке в тени газового хранилища, остался незамеченным. Когда полиция скрылась, Ник выждал какое-то время, потом осторожно выехал на дорогу.
— Как они нас нашли? — спросила Эмили. Голос ее звучал тихо, потерянно. — Мы ведь узнали, что поедем туда, всего несколько часов назад.
Ник покрепче вцепился в рулевое колесо. Сквозь разбитое окно в салон проникал ледяной воздух. Приборный щиток показывал, что температура на улице минус десять градусов. Он вывернул обогреватель на максимум и направил дефлекторы на себя.
— Что случилось с Ательдином?
— Он остался. Решил дождаться полиции.
— Отлично, — сказал Ник. — По крайней мере, он сможет сказать, что здесь я ни при чем.
Навстречу им пронеслась «скорая», и он опустил голову, стараясь скрыть лицо.
— И куда мы едем?
— Куда-нибудь, где сможем рассмотреть книгу. Нам понадобится какое-нибудь специальное оборудование или еще что-нибудь?
— Книги — вещи стойкие. Если она перенесла разморозку, то не рассыплется. Конечно, лучше это делать в условиях контролируемой температуры, а не на ходу в машине, где на полную включен обогреватель и куда врывается полярный холод.
Ник увидел впереди бензозаправку. Свет был выключен, колонки в темноте напоминали могильные плиты. Он заехал на площадку перед заправкой и припарковался за киоском, чтобы не было видно с дороги. Эмили пересела вперед.
— Давайте выясним, так ли это.
Он слишком нервничал, чтобы прикасаться к книге самому, и дал ее Эмили. Она положила ее себе на колени и открыла обложку. Ник уставился на кремовый пергамент, кажущийся желтым в свете автомобильной лампы.
Манускрипт начинался с первой страницы.
— «Et si contigerit ut queratur a venatoribus, venit ad eum odor venatorum, et cum cauda sua tetigit posttergum vestigia sua…» — прочла Эмили. — «И если случится так, что охотники будут преследовать льва, то он учует их запах и станет заметать следы хвостом. И тогда охотники не смогут его найти».
Она нахмурилась.
— Бестиарии так не начинаются.
Но Ник едва слушал ее. Посреди страницы в текст была вставлена иллюстрация. Под действием влаги картинка размазалась и словно наехала на текст, но все еще оставалась вполне четкой. Лев сидел на задних лапах, подняв одну переднюю и уставившись величественным взглядом через страницу, клыки его были обнажены.
— Такой же, как на карте, — выдохнул Ник.
Ник смотрел, как Эмили переворачивает страницы, перед ним мелькал сказочный зверинец, обитавший в книге. Иллюстрированы были не все страницы, некоторые оказались повреждены сильнее других — влагой или иными невзгодами, перенесенными за долгую историю. На многих страницах были изображены животные, которых Ник и представить себе не мог: птицы, вылуплявшиеся из деревьев, животное с головой быка, рогами барана и телом лошади. Грифоны, василиски и единороги. Но не все изображения были фантастическими. Два кота — черный и полосатый — гнались за мышкой по полу кухни, а полногрудая кухарка прихлебывала вино у плиты. Бык тащил плуг по осеннему полю. Олень стоял на холмике у леса, а медведь копался в земле.
Ник старался скрыть возбуждение. Рисунок медведя был ему знаком, и изображение оленя тоже — именно такого он видел на картах.
— Что тут сказано о медведе? — спросил он.
— «Медвежата появляются из материнского чрева бесформенными, в виде крохотных белых комков плоти без глаз, и матери придают им форму вылизыванием, — без труда переводила с латыни Эмили. — Они ничто не любят так, как мед. Если они нападают на быка, то знают самые уязвимые места — нос и рога, но обычно предпочитают нос, потому что боль сильнее в наиболее чувствительной части».
Ник откинулся к спинке сиденья. Двигатель он выключил, и в машине воцарился лютый холод.
— Я думаю, ближе всего к истине то, что лев заметает следы, чтобы охотники не могли его найти. Это Джиллиан. У нас на руках ее книга, ее карта, но мы все еще понятия не имеем, что она в них нашла. И кто-то все время пытается нас убить.
Эмили молчала. Ник скосил на нее глаза.
— Что вы думаете?
— Я думаю, кое-кто мог бы нам помочь. Взглянуть на эту книгу и сказать, что нашла в ней Джиллиан. Чем эта книга так ее захватила.
— И кто же это?
Эмили постучала пальцами по ручке двери.
— Его зовут брат Жером. Он иезуит… точнее, был иезуитом. Специалист по средневековым книгам. Он был… Он преподавал в Сорбонне, когда я училась. Теперь на пенсии.
— Он живет где-то поблизости? Это надежный человек?
— Он живет вблизи немецкой границы. Примерно в часе езды отсюда. Что касается надежности… Вы, я думаю, можете ему доверять.
Ник повернул голову и уставился на нее.
— Если вы что-то от меня скрываете, то лучше сказать. Если этот человек вызывает у вас сомнения, то я и близко к нему не подойду.
— Вы можете ему доверять, — повторила Эмили. Она, казалось, была готова расплакаться. — Ну, это просто… неловко. Я была когда-то его студенткой. Он попытался за мной ухаживать — я сообщила об этом. Он потерял работу.
Теперь настала очередь Ника смущенно уставиться в приборный щиток.
— Если вы считаете…
— Нет. Он единственный, кто может нам помочь.
Прежде чем отъехать, Ник нашел под задним сиденьем монтировку и выбил остававшиеся осколки из окна. Так машина хотя бы издалека не выглядела подозрительно. Потом он завел двигатель и отъехал от бензозаправки. Впереди на шоссе грузовики грохотали в ночи по мосту. Синие знаки показывали направо и налево. Ник притормозил.
— Куда?
Италия
Чезаре Гемато сидел за столом, глядя в окно своего кабинета на восьмом этаже. Пуленепробиваемое стекло пятнали дождевые капли, а вдали корабли, пересекающие Неапольский залив, представлялись всего лишь серыми пятнами на фоне серого моря.
— Nessun dorma! Nessun dorma![28]
Его телефон ожил, запев голосом Паваротти. Гемато увидел высветившийся на экране номер и схватил трубку. Минуту слушал молча, хотя костяшки его пальцев побелели.
— Хорошо, — сказал он и отключился.
Пять минут он оттягивал то, что должен был сделать. Мало было таких людей, которым он боялся звонить, и Невадо входил в их число. Возможно, он вообще был единственным.
Он снял трубку настольного телефона — безопасная линия — и по памяти набрал номер.
Голос ответил сразу же.
— Что случилось?
— Мои люди последовали за ними в хранилище, о котором вы сказали. Они… — Он сглотнул. — Они напоролись на какое-то охранное устройство. Двое убиты, одному удалось уйти. Мужчина и женщина бежали.
Он ждал, что последует ругань, но услышал только тихий скрипучий голос:
— И что вы собираетесь делать?
— Они угнали машину, которая принадлежала моим людям. Как и все наши машины, она оборудована навигатором. Мы проследили ее до окраин Льежа у германской границы.
— Американец взял книгу?
— Полиция прибыла слишком быстро — мы не успели это выяснить.
Гемато ждал.
— Я поеду сам, — сказал голос. — Пусть один из ваших людей встретит меня там.
В сотне миль к северо-западу старик положил трубку и уставился на стену кабинета. Некоторые помещения в этом здании были расписаны Рафаэлем и Микеланджело, в других находились жемчужины коллекции, собиравшейся почти две тысячи лет. Невадо мог бы украсить свой кабинет любой из них. Но он предпочел разместиться в небольшой свободной комнате, окна которой выходили на скромный дворик. Единственным украшением на стенах было распятие из слоновой кости. Он несколько мгновений смотрел на распятого Иисуса.
Он мог бы обратиться к архивам — книгам, подшивкам (компьютерам свои секреты он не доверял), но в этом не было необходимости. В обширных архивах Ватикана имелась карточка с именем Эмили Сазерленд. Он только вчера изучал ее, и там была отсылка к делу, хранившемуся в другом подвале. Это дело было куда как толще. Но он и его прочел. Он знал, с кем хочет встретиться Эмили близ Льежа.
Он вызвал по интеркому секретаря.
— Мне нужно немедленно в Льеж. Немедленно и тайно.
Окрестности Льежа, Бельгия
Ник никогда не думал, что монахи могут уходить на пенсию. Если он когда-либо и задумывался над этим, то воображал, будто они монашествуют до смерти, как Папа Римский. Он определенно никогда бы не догадался о том, что произошло. Брат Жером оставил «Общество Иисуса» и поселился в сером и унылом пригороде: тупиковая улочка с кирпичными и оштукатуренными под камень бунгало на окраине маленького городка. Ощущение такое, будто оказался на краю света.
Ник припарковал машину у живой изгороди так, чтобы не было видно разбитое стекло. Низкие тучи задерживали рассвет. Мир утопал в тенях, в тысячах оттенков серого. Женщина в стеганой куртке выгуливала терьера по противоположной стороне улицы. Она на ходу бросила на них подозрительный взгляд. Кроме нее, на улице никого не было.
Эмили повела его по тропинке к белой входной двери и нажала на звонок. Ник потер руки. Если он еще не уснул сегодня, то лишь благодаря холоду.
Эмили еще раз нажала на кнопку звонка. Секунду спустя Ник увидел движение за матовым дверным стеклом. Голос попросил проявить терпение, послышался звон ключей, щелчок замка. Дверь приоткрылась на цепочке, в щели показалось худое лицо.
Глаза открывшего расширились.
— Эмили? Вот кого не ожидал увидеть. — Потом он заметил Ника. — И еще с другом. Кто он, скажи пожалуйста.
Если бы Энди Уорхол принял духовный сан и уехал в Бельгию, то, наверное, выглядел бы именно таким образом. Брат Жером был худым, костлявым, седые волосы спадали ему чуть не на самые глаза. На нем был махровый халат с китайским рисунком, едва подвязанный в талии, отчего ноги его, стоило ему шевельнуться, обнажались до самых бедер. У Ника возникло неприятное подозрение, что под халатом у него ничего нет.
Хозяин дома снял цепочку, поцеловал Эмили в обе щеки. Она напряглась, но не отпрянула. Ник удостоился кивка, и Жером тут же повел их из прихожей в комнату.
Ник ошеломленно оглядывался. В комнате царил кавардак. Книги и бумаги чуть не сваливались с полок, заполнявших каждый дюйм стены. Полупустые кружки обросли плесенью, они стояли созвездием вокруг видавшего виды кресла в середине комнаты, на подлокотниках которого возвышались еще несколько неустойчивых книжных стопок.
Жером направился в кухню.
— Хотите кофе?
Никто, кроме него, не хотел кофе. Ник через дверь видел, как Жером кипятит воду в чайнике.
— Рассказывай, Эмили. Столько времени прошло! Как твои дела?
— Отлично.
— Я уж думал, что никогда тебя не увижу.
— У нас есть одна книга, и мы бы хотели, чтобы вы посмотрели на нее.
Жером вышел из кухни с кружкой, над которой поднимался парок. Вид у нее был такой, словно ее не мыли несколько недель.
— Вы хотите мне ее дать?
— Мы хотим, чтобы вы нам помогли.
Эти слова оказали на Жерома поразительное воздействие. Его склоненная голова резко вскинулась, в глазах появился свирепый огонек, все тело напряглось.
— Ты знаешь, почему я здесь. — Он резким движением руки обвел убогую гостиную. Кофе выплеснулся ему на пальцы, пролился на ковер, но он этого не заметил. — Ты знаешь причину ссылки? Знаешь?
Эмили склонила голову. Слеза скатилась по ее щеке. Ник подошел поближе, чтобы защитить ее, но ни она, ни Жером не заметили этого. Он был чужой в их истории.
— Мне очень жаль, — прошептала Эмили. — Если бы можно было вернуться назад…
— Ты бы сделала то же самое. И я.
Его гнев прошел так же внезапно, как возник. Он шагнул к Эмили и обнял ее. Ее лицо не было видно Нику, но по ее позе возникало впечатление, будто она обнимает мертвое тело.
Жером погладил ее волосы.
— Давай больше не будем обманывать друг друга воспоминаниями о наших прошлых радостях. Мы только портим себе жизнь и отравляем сладость одиночества.
Эмили мягко отстранилась и разгладила волосы.
— Извините, что побеспокоила вас. Но нам нужна ваша помощь. И… я думала, вам это может понравиться.
— Посмотрим.
Ник по кивку Эмили вытащил из своего рюкзака размороженный бестиарий. Жером облизнулся и протянул руки.
— Прошу вас.
Ник протянул ему книгу, и Жером чуть не выхватил ее у него из рук. Он поднял ее, как священник, читающий Священное Писание, и осмотрел.
— Обложка семнадцатого века. — Он перевернул книгу в руках. — Телячья кожа с бескрасочным тиснением, возможно, немецкой работы.
— Я думал, что она пятнадцатого века, — вставил Ник.
Брат Жером смерил его снисходительным взглядом.
— Она была заменена. Обложки изнашиваются быстрее, чем страницы. А тела умирают прежде души.
Он отнес книгу к деревянному столику в соседней комнате и сел. Вытащил из ящика пенопластовую подушечку и пару тонких перчаток, натянул их на свои костлявые пальцы — патологоанатом, готовящийся к вскрытию, — и положил книгу на стол. Затем подвел палец под обложку и тихонько поднял ее, отрывая от страницы под ней и укладывая на подушку.
Со страницы на него смотрел лев. Ник бросил взгляд на Жерома — узнал ли тот иллюстрацию, и поймал взгляд старика, который лукаво посмотрел на него из-под своей седой гривы. Понять, что у него на уме, было невозможно.
Жером пощупал складку на странице.
— Книга плохо сохранилась.
— Библиотеку, где она была, затопило.
— Это очевидно. Тут есть утрата.
Ник смотрел, не понимая, что тот имеет в виду.
— Какого рода утрата?
— Я вижу основание вырванной страницы.
Жером раскрыл книгу, и Ник увидел едва торчащий обрывок пергамента.
— Страница была вырезана.
— Такое случается?
— К несчастью — да. Книгу украсть трудно, а страницу — легко. Одна страница может стоить несколько тысяч долларов. Все эти древние манускрипты стоят гораздо больше, если их продавать по частям.
— И это продолжалось на протяжении веков.
— Эту вырвали не так уж давно. — Жером показал на несколько темных размывов на первой странице. — Видите эти следы — пропечаталось с отсутствующей промокшей страницы. Ее вырезали после затопления.
Эмили и Ник перекинулись взглядами, словно призывая друг друга признать очевидное. Жером наблюдал за ними с озорной улыбкой, наслаждаясь тем, что они испытывают неловкость.
— Джиллиан была профессионалом. Она любила книги, — сказал наконец Ник. — Она бы ни за что не искалечила так книгу. Бога ради, ведь она работала в музеях.
Эмили отвела глаза.
— Интересно бы узнать, что там было на первой странице, — только и сказала она.
— Может, мы найдем и еще что-нибудь.
Жером пошарил в ящике и извлек оттуда тонкую металлическую трубочку, похожую на перо. Он загнул кончик трубочки, и оттуда засиял фиолетовый лучик.
— Ультрафиолет, — сказал он, направляя его на обложку изнутри.
К удивлению Ника, на жесткой крышке переплета стали видны темные буквы — они появлялись в ультрафиолетовом свете, словно скрытые руны. В отличие от бестиария с его насыщенным шрифтом, здесь слова были написаны тонкими, как паутинка, линиями.
— И как это там появилось? — Голос Ника звучал едва ли громче шепота.
— Это было написано владельцем книги. Когда ее приобрел кто-то другой — получил в подарок или купил, а может быть, украл, — он стер знак первого владельца. Но следы все равно остались.
— И что тут написано?
Продолжая освещать текст, Жером взял увеличительное стекло, чтобы прочесть все в точности.
— «Cest livre est a moy, Armand Comte de Lorraine».
— И что это значит?
— Это значит, что книга принадлежала графу Лорану. Когда-то. Граф Лоран владел одной из крупнейших библиотек в самом начале эпохи модернити.[29]
Ник не знал, что такое «модернити», но предположил, что это слово не имеет никакого отношения к модерну.
— И что с ней сталось?
Жером пожал плечами.
— Она была утрачена. Наследники графа продали ее по частям или позволили непорядочным людям ее разграбить. То, что осталось, я думаю, попало в городской архив Страсбурга в девятнадцатом веке.
Пальцами в перчатках Жером перелистывал бестиарий, пока не дошел до последней страницы, на которой было всего несколько строк текста и прямоугольное коричневое пятно на пергаменте размером с почтовую открытку. Ник с трудом сглотнул, подавляя в себе порыв вытащить карту и приложить к прямоугольнику. Ему казалось, что они совпадут идеально.
— Здесь что-то лежало, — сказал Жером. Он снова смерил их подозрительным взглядом.
Эмили подалась поближе, явно стараясь не прикоснуться к Жерому.
— И никакого комментария от писца? Ни кто написал книгу, ни для кого?
— Здесь сказано: «Написано рукой Либеллуса, иллюминировано мастером Франциском. Он сделал и еще одну книгу животных, используя новую форму письма».
— И что это значит?
— Либеллус и Франциск — это псевдонимы, использовавшиеся писцом и иллюминатором, — сказала Эмили. — Libellus в переводе с латыни означает «маленькая книжка». Франциск, вероятно, отсылает к святому Франциску Ассизскому, поскольку он является покровителем животных.
— Но здесь две руки, — сказал Жером. — Первое и второе предложения написаны разными людьми и разными чернилами.
Ник вгляделся в выцветшие буквы. Он тоже увидел то, о чем говорил Жером, и это приятно удивило его. Он даже мог разобрать некоторые слова: Libellus — Franciscus — illuminatus. Первая строка была написана теми же черными чернилами, что и остальная книга. Вторая надпись казалась сделанной более неровным почерком; к тому же чернила были коричневыми. «Может быть, это писал тот, кто приклеил сюда карту», — подумал он.
Жером снова включил свой ультрафиолетовый фонарик и обследовал задник. Ник смотрел внимательно, но ничего не увидел. Однако что-то, кажется, привлекло внимание Эмили.
— А что это?
— Ничего. — Жером выключил фонарик и с вызовом повернулся. — Я думал, найдется еще один экслибрис, но ничего такого нет.
— На странице, — гнула свое Эмили.
Жером и глазом не успел моргнуть, как она схватила фонарик и направила луч почти параллельно странице, едва касаясь поверхности.
— Твердое перо.
Ник прищурился. Второй раз за сегодняшнее утро он смотрел на буквы, которых мгновение назад там не было. Но это были не выцветшие чернила, проявленные на темном фоне, они, казалось, были написаны внутри самого пергамента.
— И что там сказано?
XLVI
Штрасбург
«Написано рукой Либеллуса, иллюминировано мастером Франциском».
Я сел на пол, опершись на деревянный столбик, и в сотый раз перечитал надпись. Я хранил книгу, как чашу причастия, как талисман. Я мог бы продать ее и тут же погасить половину моих долгов, но никогда не пошел бы на это.
Каспар, возившийся с прессом, скользнул по мне взглядом. Я знал: ему нравится, когда я читаю книгу. Я наклонил ее.
— Что там?
Глаза у него, как всегда, были зоркие. Я повернул книгу так, чтобы он мог видеть, что я сделал. Пустое пространство под колофоном было теперь заполнено приклеенной мною картой: восемь зверей, которые привели меня к Каспару.
Он улыбнулся.
— Да ты коллекционер.
— Поклонник.
— Правильно делаешь, что хранишь карту. Других не будет.
Смущенный взгляд.
— Медная дощечка исчезла. Я ее расплавил и продал.
Я пришел в ужас оттого, что столь прекрасное произведение искусства утрачено навсегда.
— Все? Всю колоду?
— Приблизительно половину.
Он рассмеялся, видя выражение моего лица, хотя я не понимал, что в этом смешного.
— Иоганн, ты видел, что случилось с твоей собственной дощечкой. Всего три-четыре десятка отпечатков, и она никуда не годится. То же самое произошло бы и с картами. Ничто не вечно.
— Ты не должен был это делать.
Он хлопнул меня по плечу.
— Сколько-то штук осталось в мастерской Дюнне. Кстати, если уж я о нем заговорил, — мне пора. У него есть работа для меня.
Я завернул бестиарий в материю и вышел вместе с Каспаром. Книга меня уже не радовала. Ничто не вечно.
«Кроме неудачи, — подумал я. — И моего обручения с Эннелин».
Я направился в Штрасбург к аптекарю, который все еще отпускал мне товары в кредит. Оловянная форма, которую я сделал на основе медной дощечки Дюнне, почти не пережила моего эксперимента: металл был слишком мягкий и деформировался, едва прикоснувшись к бумаге. Но как и с первым увиденным мной отпечатком — с перстня Конрада Шмидта в Кельне, — я почерпнул полезное для себя и из этого. Я знал, что буквы можно сделать прочнее. И, сплавив свинец с оловом и сурьмой, обнаружил возможность делать хорошую, четкую отливку. Этой надежды было достаточно для того, чтобы снять с моих плеч хотя бы часть того ужаса, который охватывал меня каждый раз, когда я думал об Эннелин.
Она все еще маячила в моих мыслях, когда я проходил мимо здания ратуши — городского совета. Шло заседание суда, и на улице собралась толпа в ожидании вердикта. Я увидел Эннелин, спускающуюся по ступенькам, и почти отмахнулся от этого видения как от игры воображения. Но этого оказалось достаточно, чтобы я опять повернулся в ту сторону — убедиться, что это действительно она. Следом за ней шла ее мать. Они слились с толпой и исчезли из виду, прежде чем я успел подойти к ним.
Я нашел человека, который знал их — члена гильдии виноторговцев, и спросил, почему они были в суде.
— Слушалось дело касательно недвижимости, принадлежавшей ее покойному мужу. У него был сын от первой жены, который оспорил правомерность наследования.
— И?
— Сын выиграл. Вдова — его мачеха — получила комнатенку да питание.
Я не успел на это прореагировать, как почувствовал чью-то тяжелую руку на плече, развернувшую меня. Передо мной был человек, которого я меньше всего хотел видеть. Штольц, ростовщик, мой знакомец, с которым я встречался регулярно.
— Ты был сегодня утром в суде?
Я отрицательно покачал головой, онемев на какое-то время.
— Вдова Эллевибель лишилась собственности.
— Я только что узнал об этом.
Он ухватил меня за воротник.
— Я дал тебе в долг пятьдесят гульденов под залог этого дома.
— И я тебе их верну.
Он был невысокий человек, сухощавый и деликатного сложения. Но при всем при этом мне показалось, что он может попытаться вытрясти из меня деньги. Потом что-то за моей спиной отвлекло его внимание — наверняка еще один сомнительный должник. Он отпустил меня.
— В самое ближайшее время я приду к тебе обсудить этот вопрос.
Я оставил его и припустил по улице. Две женщины исчезли, но я догадывался, куда они пошли. Я догнал вдову и ее дочь у дверей их дома. Эллевибель сощурилась, увидев меня. На лице ее застыло мрачное выражение. Эннелин не поднимала глаз и молчала.
— Герр Генсфлейш, я прошу прощения… сейчас неподходящее время.
— Я знаю.
Она собралась и уставилась на меня самым строгим своим взглядом.
— Несколько дней назад вы пришли в мой дом и сказали, что ваши перспективы не столь многообещающи, как вы дали мне понять прежде. Я восхитилась вашей честностью и обошлась с вами благородно, хотя на мне не было никаких обязательств такого рода. Я полагаю, сегодня вы ответите мне тем же.
— Никакого брака не будет. — Ах, с каким удовольствием произнес я эти слова.
— Вы дали свое согласие. Вы не можете нарушить договор.
— Это вы его нарушили. Вы обещали мне собственность вашего мужа стоимостью в две сотни гульденов.
— Ничего такого я вам не обещала, — быстро сказала она, как азартный игрок, с нетерпением ждущий момента открыть свой главный козырь. — Я давала вам мои гарантии на это наследство. Я искренне полагала, что оно стоит таких денег. И не могла предвидеть, что суд встанет на сторону моего пасынка.
— Возможно, если бы вы обрисовали мне истинную ситуацию, я бы сам смог сделать вывод о перспективах. — Я расправил плечи, изображая гнев праведный. — Если бы вы дали себе труд обойтись со мной по-честному, то я был бы более склонен простить проблемы с приданым Эннелин.
Это была ложь.
— На самом же деле вы дважды провели меня. Наш договор недействителен.
Наверное, в моем голосе было слышно удовольствие, что только усилило ее бешенство.
— Это еще не конец дела, герр Генсфлейш. Если потребуется, я подам на вас в суд за нарушение договора, и на сей раз суд примет мою сторону.
Я повернулся к Эннелин.
— Прощайте, фройляйн. Мне жаль, что все закончилось таким образом.
Ego absolve te. Отпускаю тебе грехи твои, освобождаю тебя. Мне не требовалось покупать индульгенцию. Я никогда не чувствовал себя свободнее.
XLVII
Бельгия
Ник уставился на буквы, появившиеся на странице.
— Что это?
— Твердое перо, — сказала Эмили. — Вы вдавливаете буквы в пергамент кончиком пера без чернил. Они проявляются, только если вы смотрите под определенным углом и знаете, куда нужно смотреть. Это просто, но довольно эффективно. Вы когда-нибудь читали детективы, в которых сыщик на чистом листе блокнота ищет отпечатки того, что писалось на предыдущем листе?
— Ну да.
— Здесь то же самое. Только это делается намеренно. Средневековые писцы нередко твердым пером разлиновывали страницы. А некоторые из них с помощью этого метода делали скрытые записи.
— И что же здесь написано?
Эмили медленно прочла слова, ведя по ним лучом фонарика. Жером смотрел на нее со смешанным выражением ярости и завистливого уважения.
— «Occultum in sermonibus regnum Israel». — Она подняла взгляд. — Это означает: «То, что скрыто в записях царей Израилевых».
— И что это означает?
— Это продолжение предыдущей строки. Он — мастер Франциск, иллюстратор, — сделал и еще одну книгу животных, используя новую форму письма, и книга эта скрыта в записях царей Израилевых.
В висках у Ника стучало.
— Отлично. Понимаете, меня удивляет, что им понадобилось это скрывать. Бессмыслица какая-то. Джиллиан никак не могла это обнаружить.
— А я думаю, что обнаружила.
Эмили от усталости говорила так тихо, что Нику пришлось напрягаться, чтобы услышать ее. Она сказала еще раз:
— Я думаю, она обнаружила это. «Записи царей Израилевых» — это потерянная книга Библии.
Она посмотрела, как они отреагируют. Ник пребывал в недоумении. Брат Жером не скрывал странного раздражения.
— Я ведь права?
Жером молча теребил кромку своего халата.
— Я видела это в той книге в Национальной библиотеке. «Потерянные книги Библии». — Она показала на открытый бестиарий на столе. — Джиллиан брала эту книгу в тот самый день, когда обнаружила вот это. Я абсолютно уверена, что она видела эту надпись. Но что нам это дает…
— Что вы имеете в виду, говоря о потерянной книге Библии? — спросил Ник. — Просто какую-то потерянную копию или утраченный текст вроде какого-нибудь Евангелия от Марии Магдалины?
— Не знаю. — Эмили прислонилась к стене. — Я не очень внимательно читала. Но думаю, что скорее речь идет о тексте вроде Апокалипсиса или Книги Иова. Хотя как это может помочь нам найти Джиллиан…
— Вероятно, Джиллиан искала что-то, когда уехала из Парижа, — сказал Ник. — Но не карту и не книгу, ведь и то и другое у нее уже было. Наверное, она искала что-то еще.
Эмили снова обратилась к книге на столе, принялась разглядывать иллюстрации.
— Эта книга сама по себе бесценна. Бестиарий, который почти наверняка сделан Мастером игральных карт, практически подписан им самим. Такое открытие могло бы высоко поднять профессиональную репутацию Джиллиан на всю жизнь. Что же побудило ее пренебречь этим и пуститься на поиски чего-то другого?
Они завернули книгу в газету, извинились и откланялись. Несмотря на всю свою враждебность, Жером, казалось, не хотел, чтобы они уходили. Он проводил их до машины и стоял на мостовой в своем халате, пока они не скрылись из виду. Ник пожалел, что они открыто говорили о своих догадках в его присутствии. И только когда они остались вдвоем, задал очевидный вопрос.
— И куда теперь?
— В Страсбург, — уверенно ответила Эмили.
Они все еще ехали по окраинам: серые прямоугольные дома, квадратная планировка кварталов. Обогреватель проигрывал борьбу с холодным воздухом, задувавшим сквозь разбитое стекло, но, даже несмотря на это, глаза у Ника смыкались. Все его тело словно онемело, веки отяжелели.
— Потому что там был изготовлен бестиарий?
— И потому что туда, скорее всего, и направилась Джиллиан.
— Вы этого не знаете. Она, вероятно, намного опередила нас. Если она сообразила, что такое «Записи царей Израилевых», то могла отправиться куда угодно.
— Верно. Но мы знаем только о единственном месте, куда она могла поехать. И это Страсбург. Для начала предлагаю найти какое-нибудь другое средство передвижения. Ехать в машине, которую мы угнали у банды киллеров, — это гарантированный способ закончить поездку раньше, чем нам нужно.
— Мы не можем взять и заявиться в «Авис»,[30] — удрученно сказал Ник. — Полиция уже все обо мне знает. А теперь еще и эта кровавая баня в хранилище… Ательдин, вероятно, все им рассказал. Очень скоро мы станем самыми разыскиваемыми персонами в Европе. Мы…
— Бога ради — осторожно!
Эмили ухватила Ника за руку, и он распахнул глаза. Он даже не почувствовал, как они закрылись. Адреналин бросился ему в кровь, когда он увидел, что наполовину выскочил на встречную полосу и вот-вот столкнется с идущим навстречу «фольксвагеном». Ник вывернул рулевое колесо и попытался ударить по тормозам. Но его нога попала не на тормоз, а на педаль газа. Огромная машина устремилась вперед и направо, едва не задев увернувшийся «фольксваген». Ник выкрутил рулевое колесо назад. Машина резко свернула, но, потеряв сцепление с подмерзшей дорогой, продолжила вращение. Эмили вскрикнула. Автомобиль затрясся, когда включилась антиблокировочная система, но не остановился.
Все закончилось через мгновение. Машину развернуло на сто восемьдесят градусов, вынесло на противоположную сторону дороги и ударило о бордюрный камень. Ник и Эмили, ошарашенные, несколько секунд просидели молча. Из-за ограды сада, рядом с которым они оказались, на них удивленно смотрела маленькая девочка в шерстяной шапочке.
— Пожалуй, нам нужно пересесть на поезд, — сказала Эмили.
XLVIII
Штрасбург
Андреас Дритцен хотел добиться моего расположения. Он разложил на столе дичь, каплунов, заливное, сладости. Андреас похвалил мой новый плащ, хотя я купил его из вторых рук, и смеялся, если ему мерещилось, что я шучу. Он угощал меня вином, разливая его лично, хотя тут было немало слуг, которые могли бы это сделать. Я хотел выглядеть любезным. Он собирался ссудить мне немалые деньги.
Я испытывал его терпение. Часто наполнял свою тарелку и бокал. Болтал о погоде, урожае, продвижении строительства собора, Париже. Я был приятным гостем. Каспар, сидевший по другую сторону стола, говорил мало. Его настроение было подобно свече, которая могла погаснуть в одно мгновение. Если мое внимание хоть на миг отвлекалось от него, он мрачнел и погружался в себя.
Наконец тарелки опустели, слуги были отпущены, женщины отправились в свои покои. Дритцен подбросил еще одно полено в очаг и подсел поближе.
— Расскажите мне о ваших зеркалах.
Подобно многим идеям, эта родилась из необходимости. В данном случае необходимость явилась в обличье двух людей, которые однажды днем заявились в мой дом в Сент-Арбогасте. Я работал в кузне, а потому не видел, как они пришли, и вообще ничего не заметил, пока один из них не заявил о себе, стукнув меня по плечу дубинкой. Удар был вовсе не дружеского свойства — тяжелый, от него моя рука онемела. Я с криком выронил черпак. Кипящий металл пролился в огонь, оттуда стал подниматься зловонный пар, от которого у меня защипало в глазах. Я чуть не опрокинул весь тигель себе на ноги. Кашляя, со слезящимися глазами, я повернулся к своим визитерам.
Один из них был тот самый человек, который ударил меня. Если когда-либо характер человека был написан на его лице, то передо мной был именно такой тип. Правый глаз, левая ушная раковина и левая рука у него отсутствовали, хотя, судя по нанесенному мне удару, в правой его руке хватало силы на две. Нос у него был переломан столько раз, что напоминал мешок с камнями, растянутые в ухмылке губы были в кровоподтеках, которые, казалось, никогда не проходили.
Второй человек вышел из-за мощной спины первого. Это был Штольц, ростовщик.
— Мы должны были встретиться вчера, чтобы обсудить твой долг. Ты не пришел.
— Я забыл.
Однорукий сделал еще одно движение. Я все еще не успел толком проморгаться от паров и боли, а потому не увидел этого толком. Лишь почувствовал еще один мучительный взрыв боли — на этот раз в колене — и упал на пол.
Штольц встал надо мной.
— Ты удивишься, какими забывчивыми становятся люди, с которыми мне приходится иметь дело. Словно стоит дать в долг человеку золото, как у него тут же слабеют мозги. К счастью, моя память не страдает такими провалами.
Он засунул руку в мешок на поясе и вытащил маленькую записную книжку. Я вспомнил клерка на монетном дворе в Майнце и его громадный гроссбух — эту всезнающую книгу, мимо которой не прошла моя кража.
— Три месяца назад я дал тебе в долг пятьдесят гульденов.
Последовал еще один удар — на сей раз по руке. Я свалился на бок. Штольц встал надо мной.
— Некоторым людям кажется, что деньги — это некая странная абстракция. Они переходят от человека к человеку или из страны в страну и не знают границ. За один день они могут побывать в руках короля и в руках нищего, а потом вернуться к первому владельцу. Но на самом деле деньги — очень простая вещь. Это инструмент, так же как кузнечные меха или плуг. И этот инструмент обладает определенным свойством. Мы называем его ценностью.
Пинок под ребра. Я закрыл лицо руками. Ничто не губит репутацию так легко, как синяки на физиономии.
— Если я даю тебе в долг плуг, то его ценность состоит в том, что он может улучшить твою пашню, сделать ее более плодородной. За это ты платишь мне. По той же причине, если я даю тебе в долг пятьдесят гульденов, ты платишь мне за пользование ими. За использование этих денег ты должен был платить мне пять шиллингов в месяц.
Два удара дубинкой, и я скорчился от боли в спине.
— Ты уже просрочил платеж за прошлый месяц. Теперь я узнаю, что гарантии, которые ты представил мне под кредит — приданое девицы Эннелин, — обесценены. Ты разорвал свою помолвку с ней.
— Ее мать обманула меня, — попытался я оправдаться.
— Тем больший ты глупец. Я не позволю тебе оставить меня с носом. Разорвав помолвку, ты лишился обеспечения кредита. По условиям нашего соглашения я должен немедленно востребовать весь долг.
— Я не могу вернуть сейчас.
Те деньги и дня не пробыли в моих руках — часть ушла Дюнне и другим поставщикам, но большая часть пошла на оплату других долгов.
— Тогда я уничтожу тебя. — Штольц кивнул своему костолому, который нанес удар снизу мне по подошве. — Когда Карл разберется с тобой, я подам на тебя в суд.
— Пожалуйста, пожалуйста, ради бога. — Я пополз прочь от дубинки этого громилы.
Он отпустил меня, как укротитель медведя, приспускающий поводок.
Отчаяние развязало мне язык.
— Я вложил эти деньги в великое предприятие. Которое, да будет на то воля Божья, позволит мне разбогатеть. Если ты уничтожишь меня теперь, то не получишь ничего. Жалкие гроши за свои гульдены. А если подождешь, я заплачу за все.
Штольц ничего не сказал. Но Карл не двинулся с места. Я воспринял это как приглашение продолжать.
— Я работаю над новым изобретением, которое обогатит меня.
— И что же это такое?
— Ты говорил о плугах и пашнях. Представь себе, что это такой плуг, который позволит увеличить урожай десятикратно.
— Объясни. — У Штольца не было времени на загадки.
Карл приблизился и ударил меня по ребрам концом своей дубинки.
Но я не мог рассказать ему всего. Даже в моей ситуации — истекающий кровью, избитый и в ожидании худшего — не мог. Это было моей тайной, хотя я сам еще не до конца владел ею. Если она станет известна каждому, то у меня не будет преимущества. Я должен скрывать ее.
Я уставился на худое, бескровное лицо, склонившееся надо мной. Лучик света, мелькнувший из-за его спины, привлек мое внимание — зеркало паломника, подаренное мне Энеем на Рейне. Я уставился на него, молясь о спасении.
Штольц смахнул склянку со стола, она разбилась, упав на пол, что заставило меня снова перевести взгляд на него.
— Не отвлекайся.
Он сердито смотрел на меня. Карл постукивал себя дубинкой по ноге и облизывал пухлые губы. И тут меня осенило.
— Зеркала, — прохрипел я.
— Что?
Я показал. Он отошел в сторону, опасаясь подвоха, посмотрел на зеркало на стене. Отраженный зеркалом луч осветил его лицо.
— Это тебя не спасет.
— Не так, как ты думаешь. Но может быть… — Я встал.
Карл поднял дубинку, собираясь снова сбить меня с ног, но Штольц движением руки остановил его. Мой мозг напряженно работал.
— Оно было отлито из сплава свинца и олова. Я работал с этим сплавом — он сжимается, охлаждаясь, и уплотняется на форме. — Я провел пальцем по переплетающимся кругам. — Чтобы сохранился такой замысловатый рисунок, единственный способ снять зеркало — это расколоть форму. Каждое зеркало требует изготовления новой формы. Это долго и дорого.
Я не знал наверняка, так ли это на самом деле, но как некоторые врачи могут поставить диагноз, увидев лицо человека, так и я мог читать по форме и литью металла.
Я показал на фигурки внутри колец.
— Ты видишь, какие у них плоские и невыразительные лица? Невозможно получить качественное изображение при таком способе отливки. Я могу делать это лучше… и дешевле.
— Как?
— За счет нового сплава. Такого, который не сжимается, охлаждаясь. И я смогу использовать формы многократно, каждый раз делая отливку лучше, чем эта.
Я сунул зеркало ему в руку. Он взял его, провел ногтем по грубой рельефной поверхности.
— И сколько ты можешь сделать?
— Тысячу. По двенадцать шиллингов за штуку. А это пять сотен гульденов. Я смогу вернуть тебе долг с удвоенными процентами.
— Ссужать деньги в рост есть грех корыстолюбия, — пожурил меня Штольц.
Карл посмотрел на него, пытаясь понять, заслужил ли я еще один удар. К счастью, Штольц так не считал.
— Ты платишь мне за использование денег.
— Значит, я заплачу тебе вдвойне. Потому что твои деньги будут в два раза полезнее. — Я не знал, откуда взялась эта расточительность или как я смогу выполнить свое обещание. Мне было все равно. Мои мысли целиком захватила эта новая идея. Мне хотелось одного — поскорее начать.
Андреас Дритцен положил на стол зеркало, которое я ему дал.
— И ты хочешь продавать их паломникам в Ахене?
— Ты знаешь об Ахенских святынях?
— Слышал о них.
— Это самые важные святыни во всей империи. Синее платье Пресвятой Девы Марии. Материя, которой пеленали Христа в яслях, и та, что прикрывала его срам на кресте. А еще кусок той ткани, в которую была завернута голова Иоанна Крестителя, когда ее отрубили по приказу Ирода.
— Полный гардероб, — заметил Каспар.
— Раз в семь лет их вынимают из сундуков и выставляют на обозрение. Число паломников столь велико, что они едва умещаются в городе. Священники поднимаются на мостки между башнями собора: каждая улица, каждая площадь, каждая крыша и окно становятся наблюдательными пунктами.
Андреас нахмурился.
— Наверное, увидеть что-нибудь довольно затруднительно.
— Именно. — Я подался вперед, дрожа от возбуждения. — Паломники несут с собой зеркала — вроде этого, — чтобы уловить свет небес, который отражается от святынь.
— А его можно увидеть?
— Только Господь может увидеть его, — благочестиво сказал Каспар.
— Но священные зеркала улавливают его. Паломники заворачивают зеркало в материю и уносят его домой. А потом, когда в этом возникает необходимость, разворачивают его, и священный свет лечит их болезни.
— И сколько таких зеркал вы хотите сделать?
Эта идея закрепилась с того самого момента, как я впервые с бухты-барахты назвал первую пришедшую мне в голову цифру Штольцу. Я провел некоторые изыскания, удостоверился в фактах и определил более реалистичные основания для моей оценки.
— Тридцать две тысячи.
Дритцен чуть не уронил зеркало на пол.
— Когда святыни выставляют на обозрение, в Ахене собирается не менее сотни тысяч паломников. Всем им требуются зеркала, иначе их паломничество обернется ничем. Качество наших зеркал будет выше, чем у конкурентов. К тому же они будут дешевле. Как я уже сказал, это случается только раз в семь лет. Следующее паломничество состоится через двадцать месяцев. Времени для работы у нас достаточно.
— А как насчет ахенских ювелиров? Их гильдия наверняка не позволит вам наводнить их рынок вашим товаром им в ущерб.
— Ахенские ювелиры давно утратили свои права. Они не могут изготовить столько зеркал, сколько требуется. Несколько лет назад там случились беспорядки: паломники, которым не достались зеркала, дрались на улицах с теми, кто успел купить эти зеркала. Несколько человек погибли. После этого привилегии ахенской гильдии в год паломничества приостанавливаются на шесть месяцев.
Дритцен прижал зеркало к груди и пробормотал что-то неразборчивое. Я ждал, когда он повторит сказанное.
— Как я могу поучаствовать в этом предприятии?
— Рамки и зеркала будут изготавливаться отдельно. Нам нужен кто-нибудь для полировки зеркал.
— Это я могу. — Он нахмурился. — Но не в качестве наемника. Если я вхожу в дело, то должен буду получить и часть прибыли.
— Прибыль будет огромная, — согласился я таким тоном, будто это могло стать поводом для беспокойства. — Вот почему все это должно сохраняться в полнейшей тайне. Если кто-то узнает о нашем предприятии, мы лишимся преимущества.
— Я все сохраню в тайне.
Я бросил взгляд на Драха, который играл свою роль, изображая сомнение.
— Я уверен в этом, — сказал я. — Но наш кружок должен оставаться очень ограниченным — не более полудюжины человек. Половину прибыли получим мы с Каспаром как изобретатели метода. А тот, кто сделает вложение, должен приобрести не менее четверти доли от остальной части.
— И сколько это в денежном выражении?
— Восемьдесят гульденов.
Дритцен был торговцем, а потому умел производить подсчеты.
— Тридцать две тысячи зеркал — почем вы собираетесь их продавать?
— Пол гульдена.
— Шестнадцать тысяч гульденов. Половина вам — восемь тысяч. Четверть остатка мне — две тысячи.
Он прошептал эту цифру с благоговением человека, узревшего Господа. Я понимал, что он чувствует. Даже сейчас при мысли о размахе предприятия у меня дух захватывало.
— Неужели это правда?
— Мы владеем ремеслом и — как видишь — не лишены честолюбия. Все, что нам нужно, это капитал.
— Тут не может быть никакого провала, — заверил его Драх.
— И вы над этим колдовали все эти месяцы у меня в подвале?
— Частично. — Я переменил тему. — Но принять решение ты должен быстро. Есть много других, кто с радостью займет твое место.
Дритцен отер лоб и уставился в огонь. Глядя на Каспара, можно было подумать, будто он собирается заговорить, но я пнул его под столом, чтобы помалкивал.
— Я возьму долю, которую вы предлагаете.
— Она станет твоей, только когда мы получим деньги, — предупредил Каспар.
— Пятьдесят гульденов я могу дать сегодня. Остальные будут завтра. — Он задумался на несколько мгновений. — Вы подпишете договор о том, что они пойдут только во благо предприятия?
— Конечно. Но я должен иметь полную свободу действий.
Дритцен направился к сундуку у стены, достал бумагу, шкатулку с письменными принадлежностями и тяжелый мешочек, который звякнул, когда он положил его на стол. Я старался не смотреть в ту сторону.
Он снял пробку с бутылки с чернилами, обмакнул в них перо. В свете пламени из камина чернила стекали с кончика пера, как капли золота.
Камин почти догорел, и слуги уснули. Дритцен сам проводил нас до двери.
— Будь осторожен по дороге домой, — предупредил он меня. — Носить мешки с золотом по улицам небезопасно.
— Ничего не случится.
Мы пересекли дорогу и завернули за угол. В этот час улица была почти пуста. Почти, но не совсем. В тени под вывеской булочной стояли двое. Они вышли и встали у нас на пути при нашем приближении. Один был высокий и широкоплечий, он опирался на толстую палку, другой худой и невысокий.
— Он согласился? — спросил Штольц.
Я протянул ему мешок, который дал мне Дритцен. Штольц взвесил его в руке, передал Карлу. Однорукому пришлось изловчиться, чтобы держать одновременно мешок и палку.
— Здесь все, — сказал я.
— Если нет, ты скоро об этом узнаешь.
Затем двое двинулись в темноту улочки. Мы смотрели на них, пока они не исчезли из виду.
— Это во благо предприятия? — спросил Драх.
Моя совесть была чиста.
— Если теперь мне не переломают ноги, то это определенно во благо предприятия.
Штольц ошибался, рассуждая о деньгах. Они не были похожи на плуг или пару мехов, которые берут на время, а потом возвращают. Деньги были водой, которая крутит мельничное колесо наших усилий. Не имело значения, откуда они брались и на что тратились. Пока они продолжали течь.
XLIX
Франция
Они оставили машину на парковке. Ник опустил окна, ключи бросил на переднее сиденье в надежде, что ее кто-нибудь угонит, прежде чем найдет полиция.
Большую часть пути в Страсбург Ник проспал, прижимая руку к груди, где под плащом у него была спрятана книга. Проснувшись, он увидел, что стало темнее. За окном кружились снежинки, а небо обещало еще более сильный снегопад. Напротив он увидел Эмили — она сидела, глядя на него.
— Который час?
— Почти полдень.
У Ника от голода скрутило желудок.
— Умираю — есть хочется.
Эмили вытащила из сумочки бумажный пакет.
— Я купила вам круассан.
Ник оторвал кусок и сунул себе в рот. Он словно неделю не ел.
— Вас сам Господь послал. А чашечки кофе у вас не найдется?
Эмили подвинула к нему по столику между ними бумажный стаканчик с пакетиками подсластителей и сливок. Он взял по три упаковки того и другого, перемешал пластмассовой ложечкой, проглотив за это время остаток круассана.
— А вы сами-то хоть немного поспали?
— Немного. Мне мысли уснуть не дают. — Она повернулась к окну. — Вероятно, Джиллиан узнала что-то такое, что неизвестно нам.
Ник молчал в ожидании продолжения.
— Она нашла бестиарий и карту в нем; и то и другое — крупные открытия. Но она никому об этом не сказала. Даже Ательдину.
— По его словам, — вставил Ник.
Она согласилась с этим дополнением.
— Потом она спрятала карту в банковской ячейке, а книгу в морозильной камере и исчезла. Думаю, отправилась на поиски «другого» бестиария. Зачем?
Ник прихлебывал кофе, слушая, что еще скажет Эмили.
— Она узнала что-то, сделавшее эту вторую книгу еще более ценной, чем первая.
— Что?
Эмили поморщилась.
— Не знаю. Но видимо, она узнала это очень быстро. Найдя книгу, она всего день пробыла в Париже.
— Тот день, когда она ездила к Вандевельду.
Ник представил себе физика, его уклончивые манеры, его стремление доказать, что скрывать ему нечего. Он хотел снова вытащить карту, попытаться разглядеть, что же увидела на ней Джиллиан. Но не осмелился сделать это в вагоне поезда, пусть и полупустом.
— Что бы это ни было, кого-то оно сильно волнует, — сказал он. — Невообразимо. С какой скоростью они устремились за книгой в хранилище, а перед этим в библиотеку! Но если им все про нее известно, то почему они в поисках книги преследуют нас?
Эмили посмотрела в окно. Метель за стеклом усиливалась.
— Может, им книга и не нужна вовсе. Может, они хотят, чтобы она оставалась спрятанной.
Окрестности Льежа, Бельгия
Брат Жером сидел в задумчивости над столом, потирая красные глаза. После встречи с Эмили у него разболелась голова. Он протянул руку к пластиковой баночке, которая всегда была рядом со столом, вытряхнул две таблетки. Будучи молодым, он гордился тем, что содержит в чистоте свое тело. Храм, крепость Господня. Теперь этот храм лежал в руинах: затопленный кофеином, чтобы сохранять бдительность, успокоительными от бессонницы, кодеином от головной боли и какими-то таблетками, прописанными ему доктором от сердца. Были и еще более сильные средства, порошки, которые не выписывают врачи, для памяти.
Он посмотрел на сделанные им записи:
«бестиарий
nova forma scribendi
Armand, Comte de Lorraine (Strasbourg??)».
Новая форма письма. У Эмили всегда хорошо работала голова, эта девушка обладала тем научным чутьем, которое точно направляло поиски. Но были вещи, которых она не знала. Поэтому особенно ценила его опыт, не имеющий равных. Они были превосходной парой.
«Почему она приехала сюда?» — в сотый раз задавался вопросом Жером.
Он был доволен собой — внешне ему удалось сохранить спокойствие (сказывались пожизненные религиозные самоограничения), но стоило это ему немалых усилий. Она все еще пробуждала в нем чувства — ярость и желание.
«Забудь ее».
Он попытался снова сосредоточиться на книге. Еще один бестиарий, сделанный в новой форме письма и проиллюстрированный Мастером игральных карт. Это было невероятно. Дискредитированные теории и безосновательные спекуляции окажутся верными. А может быть, другие, более темные тайны, о которых осторожные люди говорили только шепотом.
Раздался робкий стук в переднюю дверь. Сердце у Жерома екнуло. Это было позорно, ну и пусть. Главное, что она вернулась. Он вскочил на ноги и побежал к двери, на ходу кутаясь поплотнее в халат. Он даже не стал смотреть в глазок — повернул защелку замка и распахнул дверь.
Перед ним стояли два человека. На обоих тяжелые черные пальто, капюшоны подняты от холода. Они протиснулись внутрь — он и слова не успел сказать. Они отбросили Жерома назад, и он ударился о стену. Более низкий из двух расстегнул молнию на куртке и сунул руку внутрь, второй сбросил капюшон, открыв угловатое лицо с патрицианским хохолком седых волос, угольно-черные глаза, которые, казалось, просверлили дыру до самой души Жерома.
Жером уставился на него.
— Вы.
Он видел его только раз — тридцать лет назад испанский священник из какого-то непонятного ватиканского отдела посетил многообещающего молодого исследователя, который начал зарабатывать себе репутацию в научном мире. Даже тогда от него исходила угроза. Он полчаса расспрашивал Жерома о его работе, неизменно в рамках жесткого этикета, но с какой-то беспощадностью, словно фехтовальщик, ищущий слабое место в обороне противника. В конце разговора он сказал: «В этом мире есть немало необнаруженных книг. Некоторые из них представляют собой незаслуженно забытые сокровища. Другие исчезли с глаз по веским причинам и должны оставаться в забвении. Если вам когда-нибудь попадется такая книга, вы должны будете немедленно сообщить мне».
В последующие годы Жером время от времени видел его фотографии. Поначалу только в церковных бюллетенях, потом в газетах и наконец даже по телевизору. Из слухов, разносившихся среди членов его ордена, он знал о методах, которыми пользовался этот священник, чтобы возвыситься в церковной иерархии. Жером верил этим слухам.
И вот теперь он стоял в гостиной Жерома рядом с коренастым громилой с переломанным носом и синеватым шрамом на подбородке. Перстень на пальце кардинала сверкал бриллиантом. Кардинал оглядел комнату, отметил царивший в ней кавардак, провел взглядом по полупустым кружкам с кофе вокруг стула.
— У вас сегодня были гости?
— Только воспоминания.
Человек за спиной Невадо вытащил руку из кармана пальто. В ней оказался черный пистолет. Громила прищурился, глядя на ствол, взвел затвор. При этом звуке Жером поморщился.
— Иногда воспоминания оживают. — Невадо сделал несколько шагов вперед. Жером съежился, прижимаясь к стене костлявыми плечами. — У тебя, брат, есть весомые основания страшиться их.
Жером заглянул в безжалостные глаза. Он даже не пытался выдержать взгляд кардинала. Дух его был давно сломлен. Сил сопротивляться не осталось: они узнают все, что им нужно.
— Она приезжала сюда, — сказал Невадо. — Эмили Сазерленд — ваша маленькая Элоиза.[31] Она привезла вам книгу?
— Сюда никто не приезжал.
Жером стукнулся головой о стену, когда Невадо ударил его по щеке. Кровь потекла с его губы, где перстень кардинала разорвал кожу.
— Врешь. Она была здесь. И еще вместе со своим ухажером — хотела пощеголять им? Подразнить тебя? Снова предлагала себя в обмен на помощь?
Халат Жерома распахнулся. Его обнаженное тело, казалось, дрожало под взглядом Невадо. Он представил себе руки Невадо на горле Эмили, его не сходящую с губ холодную улыбку.
Был только один способ защитить ее. Жером нырнул вперед, оттолкнувшись от стены, метнулся мимо Невадо за пистолетом. Он знал, что не успеет. Раздались выстрелы — три подряд. Пули угодили в грудь Жерома. Первая попала точно в сердце. Он упал на пол, и кровь его потекла на ковер.
— Идиот, — прошипел Невадо. — Нам нужно было заставить его говорить.
Он оглядел комнату. Столько книг, такой хаос. Чтобы обыскать дом, понадобится несколько часов. А у него через три часа должна состояться аудиенция в Риме. Если он не появится — пойдут разговоры. Слухов он не боялся, но если кто-нибудь дознается, где он был, могут возникнуть проблемы. Он не собирался рисковать — здесь его никто не должен видеть.
Но Невадо сделал карьеру, потому что умел видеть невидимое для других. Он застыл в центре комнаты и принялся медленно разглядывать ее, обшаривать глазами. Уго, телохранитель, ждал у него за спиной.
За открытой дверью он увидел кабинет. Гора книг на столе была отодвинута в сторону, чтобы освободить место. Рядом с ней лежали увеличительное стекло, ультрафиолетовый фонарик, пенопластовая подушка и белые перчатки.
Невадо мигом направился в кабинет и принялся разглядывать стол. Уго двинулся следом, удивляясь, насколько стремителен старик.
Невадо быстро нашел все, что ему было нужно. Крошки потертой кожи виднелись на подушке, а лежащая рядом книга была открыта на странице с дамой дикарей. В блокноте он прочитал слова, записанные Жеромом перед смертью.
«Armand, Comte de Lorraine (Strasbourg??)».
Дрожь прошла по его телу. Они нашли ее. Труд всей его жизни был теперь практически завершен.
Он повернулся к Уго.
— Езжай в Страсбург. Я приеду туда, как только смогу. Отыщи этого американца и его подружку и найди книгу, которая у них. Больше ничто не имеет значения.
Он засунул руку в карман и вытащил сложенный лист бумаги.
— Если найдешь книгу, немедленно сообщи мне, соответствует ли первая страница в ней вот этой. Ты понял?
Уго кивнул. Он взял лист, но Невадо не отпустил бумагу. Он впился черными глазами в глаза Уго.
— Если что-то случится, если тебя арестуют или если почувствуешь опасность, немедленно уничтожь эту бумагу. Ее никто не должен видеть. Если провалишь это дело, твоя жена, твои дети и вся семья подвергнутся таким мучениям, каких ты и вообразить себе не можешь.
Его пальцы в перчатках отпустили лист. Уго отступил на шаг.
Невадо пробормотал себе под нос:
— Они и понятия не имеют, что нашли.
Страсбург, Франция
Ник никогда прежде не бывал в Страсбурге. Если бы у него было какое-то представление о том, как выглядит этот город, то, наверное, он воображал бы себе кварталы из стеклобетона, заполненные парламентами, судами и комиссиями. А вместо этого у него возникло впечатление, что он вернулся на тысячу лет назад. Центр города располагался на острове. Над узкими улицами и проулками нависали дома, построенные наполовину из дерева, между ними вихрился холодный ветер, кидавший снег в лицо Эмили и Нику. У многих домов на деревянных брусьях были вырезаны причудливые существа: карикатурные физиономии издевательски показывали ему языки.
Мимо продребезжал трамвай. Ник, протянув руку, удержал Эмили, которая чуть не сошла с тротуара.
— Спасибо. — Она застенчиво улыбнулась ему. — Мне нужно было побольше поспать в поезде. Полная развалина.
Ник посмотрел на нее. Она убрала волосы под берет и подняла воротник куртки. Щеки у нее разрумянились, а глаза ярко светились от холода.
— Для развалины вы слишком хорошо выглядите.
И опять Эмили, казалось, не восприняла его комплимента. На сей раз она улыбнулась абсолютно оправдывающейся улыбкой.
— Мне станет получше, если я приму душ и съем что-нибудь горячее.
— После того, как побываем в архиве.
Они добрались до собора, который доминировал над центром города. И хотя мысли Ника были заняты Джиллиан, он не мог не восхититься этим зрелищем. Фасад представлял собой головокружительную готическую вязь: шпили и башенки, окно в форме розетки, статуи, островерхие арки. Над всем этим возвышалась одна башня розового песчаника — она устремлялась вверх, утончаясь до такого размера, что, казалось, вот-вот рухнет под весом собственной тяжести.
Эмили проследила за взглядом Ника, задравшего голову.
— Этот собор относится точно к тому времени, когда была сделана и карта. Если мастер приходил сюда, то видел собор таким же, каким мы видим его сейчас.
— Меня больше интересует, видела ли его Джиллиан три недели назад.
Они прошли по площади мимо рядов лавочек с мороженым и сувенирами. Ник представил, что летом туристы роятся вокруг этих неходовых товаров, но в холодный январский день здесь никого не было. Полупустые проволочные стеллажи с открытками, завешанные от снега полиэтиленом, одиноко торчали на мостовой, куда их выставили не теряющие надежду владельцы лавочек. Полиэтилен шелестел и трепыхался на ветру, пугая голубей, которые промышляли среди булыжников.
Архив размещался в мрачном каменном здании в задней части площади. Ник и Эмили вошли в ворота в каменной стене и двинулись к главному входу по гравийной дорожке мимо давно отцветших розовых кустов. Теперь кусты лишь щетинились шипами.
Ник повернул тяжелое металлическое кольцо на дверях, и они оказались в холле. Их глазам предстал неожиданный интерьер: вместо дубовых полов и древней мебели — длинный коридор с покрытыми линолеумом полами и лампами дневного света. За столом под постером в пластмассовой рамке сидела женщина в строгом черном костюме.
— Bonjour, — сказал Ник и повернулся к Эмили: — Вы не объясните?
— Я говорю по-английски, — сказала женщина, не поднимая головы. Она продолжала что-то писать. — Чем могу помочь?
— Нас интересует библиотека графа Лорана, — сказала Эмили. — Нам сказали, что она частично оказалась в вашем архиве.
На хмуром лице женщины появилось удивленное выражение. Она отложила ручку.
— Вы вторые за месяц, кто спрашивает меня о библиотеке графа Лорана. Etrange.[32]
— А кто еще? — спросил Ник.
Женщина посмотрела на него отсутствующим взглядом.
— Это была женщина — высокая, худая, рыжеволосая? — Он вытащил бумажник и среди кредиток нашел потрепанную маленькую фотографию, которую ни разу не доставал. На всякий случай. Он поймал на себе косой взгляд Эмили. — Это была она?
Женщина вытянула губы трубочкой.
— Oui. C’est elle. Только она была блондинкой.
— Вы не помните, когда она приходила? Дату?
Женщина смотрела на него прищуренными глазами.
— Вы знаете ее имя?
— Джиллиан Локхарт.
Она принялась листать открытый журнал, лежащий рядом с ней на столе, — хранилище имен, дат и закорючек-подписей. Их было не много. Женщина отлистала назад две страницы, и Ник увидел нужную ему знакомую подпись. Жирное «Д» и следом торопливые линии. Ему всегда казалось, что это очень мужская подпись.
В левой колонке рядом с фамилией он прочел дату: «16 декабря». Она, вероятно, отправилась сюда прямо из Парижа. Сердце Ника загорелось надеждой, какой он не испытывал за последнюю неделю.
— И она нашла ее — книгу, которую искала?
Вздох.
— Я скажу вам то же, что говорила ей. Книги графа Лорана попали сюда в девятнадцатом веке. Вам известна история Страсбурга?
Ник отрицательно покачал головой.
— В тысяча восемьсот семьдесят первом году сюда пришли пруссаки. Они осадить город и обстрелять. Большая часть города гореть вместе с библиотека. Какие-то книги остались… но из собрания графа — ни одной.
L
Штрасбург
Судьба зачастую швыряет нас, как морские волны швыряют в шторм корабль, и все наши труды обращаются в прах. Но иногда — редко — нас несет по течению, и так быстро, что даже ангелы за нами не поспевают. Таковы были мои ощущения в те золотые месяцы в Штрасбурге. Получив деньги от Дритцена, я расплатился с долгами и восстановил доверие к себе.
Это позволило мне набрать новых займов на более выгодных условиях, чтобы закупить металлы для нашего проекта, которые, в свою очередь, стали обеспечением для следующего кредита. На эти деньги мы запаслись еще большим количеством металлов, которые обеспечили возможность получения новых займов… и так далее по кругу удачи. Конечно, дохода, чтобы отдавать долги, в эти месяцы у нас было мало, но я это учитывал. Я согласился с тем, что проценты будут добавлять к основному долгу, но не раньше октября следующего года, уже после продажи зеркал в Ахене. Потом, получив прибыль, я смогу снова сосредоточиться на индульгенциях.
Иногда по ночам мне снилось, будто я сижу на гигантской башне из зеркал, которая тянется чуть не до неба, раскачивается и гнется, как конец веревки на ветру. От высоты у меня кружилась голова. Я знал, что любой порыв ветра может разрушить эту башню. Но этого не случилось.
Изготовление зеркал включало в себя два разных процесса. Замысловатые рамки нужно было отливать из сплава, а стальные зеркала полировать до блеска. Вообще-то одно к другому прикреплялось с помощью защелок, но мы решили, что их нужно изготавливать в последнюю очередь. Мы собирались весной нанять баржу, сплавить наш груз вниз по Рейну до Ахена, и не хотели, чтобы зеркала поцарапались в дороге. Никто из нас не знал, что способно повлиять на их божественные качества. Поэтому мы отливали рамки в Сент-Арбогасте, где у меня была кузня, а в подвале Дритцена делали зеркала.
В конце сентября пряхи судьбы снова заработали очень быстро. Весь день я провел в Штрасбурге, договариваясь о поставке следующей партии металлов и заверяя моих кредиторов, что все идет великолепно. Солнце начало клониться к горизонту, но мне не нужно было спешить. Я в эти месяцы очень часто циркулировал между домом и городом и приобрел лошадь, послушного мерина, которого назвал Меркурием. Поэтому я решил посетить Дритцена.
Я как раз приближался к дому, огибая двух собак, которые дрались из-за потрохов, выпавших с тачки мясника, и тут услышал голос у себя за спиной.
— Иоганн?
Меня нередко окликали на улице. Я прожил в Штрасбурге уже почти четыре года и стал широко известен хотя бы потому, что задолжал немалому числу горожан. Но меня поразили удивление и радость в голосе, как будто человек давно оставил надежду на нашу встречу. У меня не было потерянных друзей, с которыми я хотел бы снова увидеться.
Я повернулся, теряясь в догадках. Поначалу я не узнал его. Когда мы виделись в последний раз, он был молод и здоров, кипел энергией. Теперь его лицо бороздили морщины, волосы поседели гораздо больше моих. Он шел, опираясь на трость, приволакивая ногу. Но какие бы несчастья ни свалились на него, они не погасили огонь, горевший в нем.
— Эней?
Он засиял.
— Это и в самом деле ты. Я был уверен. Похоже, годы пощадили тебя. Чего не скажешь обо мне.
Я посмотрел на его высохшую ногу.
— А что случилось?
— Я отправился в Шотландию. — Он сморщился. — Варварская страна. Я чуть не умер там. Потом мой корабль затонул, и мне пришлось пешком добираться до дома.
Наверное, ему пришлось пережить ужасные мучения, но он проговорил это с таким смаком, что я не мог сдержать смех.
— Ты чуть не умер в тот день, когда мы с тобой познакомились, — напомнил я ему. — Тебе нужно быть осторожнее. Но какими судьбами ты оказался в Штрасбурге?
— Я тут должен встретиться с одним священником из Гейдельберга. Мне кажется, они хотят, чтобы я установил слежку за Папой Римским. — Он подмигнул. — Но я итальянец, поэтому они уверены, что я опоздаю. В последний раз, когда я тебя видел, мы договорились встретиться в таверне. Не думал, что наша встреча состоится через шесть лет. Но я счастлив, что наконец-таки нашел тебя. Выпьем по стаканчику?
Я ошибался. В моем прошлом все же имелись лица, которые я был счастлив увидеть.
Я повел его в винный погребок у реки, в котором не бывал прежде. Я не хотел попадаться на глаза Драху, потому что они с Энеем принадлежали к разным частям моей жизни.
Эней поднял стакан, провозглашая тост за меня.
— Ты необычный человек, Иоганн. Ты появился вполне сформировавшимся из речного ила и исчез, словно призрак. И вот я вижу тебя здесь. И ты, судя по одежде, процветающий торговец. «Variumetmutabile semper»,[33] — как говорит поэт. Всегда изменчивый и непостоянный.
Он смерил меня таким знакомым мне взглядом, неизменно исполненным надежды, взыскующим.
— Извини, что бросил тебя так внезапно, — сказал я. — Но мне нужно было уехать.
Эней ждал дальнейших объяснений, а когда увидел, что таковых не последует, кивнул.
— Полагаю, даже у людей, которые родятся из речного ила, есть прошлое. Может быть, настанет день и ты расскажешь мне, каким образом оказался здесь.
Я переменил тему.
— А Николай? Как он?
Эней посмотрел на меня печальными глазами.
— Мы теперь почти не общаемся. Ты знаешь, что Папа распустил Базельский собор?
Мне это не было известно, напротив, я знал, что до последнего времени заседания собора продолжались. Каждый месяц я слышал какие-нибудь новости о соборе в церкви или на рынке и был удивлен, когда узнал, что собор, с которым я кратко соприкоснулся шесть лет назад, все еще действует.
— Собор наконец-то начал приходить к какому-то решению. В церкви много всякой гнили, и все это начинается с самого верха. Собор принял некоторые разумные меры, чтобы избавиться от самых вопиющих злоупотреблений. Естественно, это включало и ограничение власти Папы. Мы — собор — должны были установить, что Папа — слуга церковного сообщества, а не его хозяин.
Говорил он живо, раскачиваясь на табуретке и часто заглядывая мне в глаза, чтобы убедиться, что я соглашаюсь с ним. Я напускал на себя уклончивый вид, а это только подогревало его энтузиазм.
— Папа, желая сохранить свое положение, распустил собор в Базеле и приказал ему собраться заново в Италии. Приблизив место проведения к Риму, он надеется прибрать собор к рукам. Многие участники подчинились. Но те из нас, кто видит, как следует реформировать церковь, отказались. Мы остались в Базеле и проголосовали за то, чтобы приостановить полномочия Папы, который наконец показал свое истинное лицо.
— Николай отправился в Италию, — догадался я.
— У него были на то основания. Я не могу с ними согласиться. Он желает объединения церкви. Я хочу, чтобы она стала совершенной. — Эней подавленно уставился в стол. Но неожиданно на его лице мелькнула улыбка. — Ладно, ближе к делу: жалованье мне платят те, кто остался в Базеле.
Не знаю, что случилось с тем священником из Гейдельберга, который надеялся встретиться с Энеем. Мы с ним просидели в таверне несколько часов, опустошая стаканы с вином и тарелки с едой. Как и всегда, больше говорил Эней, но я был рад слушать. В его обществе я чувствовал себя легко. Разговоры с Каспаром были сродни сражению на мечах: все высказывания должны быть аргументированы, любой компромисс или тривиальное лицемерие становились объектом его сарказма. Я никогда не знал, какое самое невинное замечание может вернуться ко мне или неожиданно для меня так ранить его, что он весь вечер будет пребывать в мрачном расположении духа. Это было восхитительно, но в то же время и утомительно.
Эней же, напротив, гордился тем, что не обижал и не обижался. Удавалось ему это с переменным успехом: его любовь поговорить была слишком сильна, и слова нередко опережали действия. Но он всегда признавал свои ошибки с таким искренним раскаянием, что не простить его было невозможно.
— Я рад, что ты хорошо выглядишь, — сказал он мне. И я поверил ему: окружающие всегда доставляли ему неподдельное удовольствие. — Ты женат?
Вероятно, кое-какие тени воспоминания о катастрофе с Эннелин появились на моем лице. Но прежде чем я успел что-либо сказать, его уже понесло дальше.
— Что касается меня, я недавно влюбился. По уши. В гостинице, где я остановился, есть женщина — ее зовут Агнесс. Она из Бискаросса. Идеальное существо.
Я против воли втянулся в его историю.
— Она путешествует одна?
— Ее муж — торговец. Он оставляет ее в гостинице, пока сам путешествует вниз и вверх по реке, где у него дела. Я видел его за завтраком два дня назад. Он глуп и не заслуживает ее.
— И ты таким образом собираешься реформировать церковь? Соблазняя чужих жен?
Эней посмотрел на меня проникновенным взглядом.
— Я бы никогда не смог принять обет священника. Одним взглядом она разбила мне сердце. Ты видишь эти мешки у меня под глазами? Я не сплю из-за нее. Каждую ночь я подхожу к ее двери и молю о сострадании, но она холодна и тверда, как мрамор. Она не впускает меня… но при этом дает основания для надежды. Может быть, сегодня я все же добьюсь своего. Ведь завтра мне нужно возвращаться в Базель.
Он опустил голову с видом побитой собаки.
— Я знаю, что эта любовь губительна. Но предпочту эти мучения всей жизни в пустом благополучии. Ты можешь это понять?
— Я понимаю, — пробормотал я, и печаль в моем голосе достигла сознания Энея, пробившись даже через его погруженность в собственные страдания.
Он посмотрел на меня сочувствующим взглядом.
— Я не буду спрашивать, — сказал он. — Ты мне все равно не расскажешь. Но я надеюсь, что мы оба воплотим в жизнь желания своего сердца.
Я поднял за это свой стакан.
— А теперь я должен идти. — Он неожиданно встал. Для другого человека это было бы невежливостью, но у Энея означало лишь, что его живой ум перескочил на что-то новое. — Я должен выспаться, если хочу обхаживать мою Агнессу.
Мне было грустно расставаться с ним. Он напомнил мне о более простых для меня временах, том спокойном периоде, когда запись на бумагу слов Николая была главным смыслом моей жизни. И еще о том, в каком несчастном состоянии я пребывал, пока Эней не спас меня. И чем я отплатил ему — внезапным исчезновением и уклончивыми ответами. Нет, я был обязан ему большим. Я хотел, чтобы он почувствовал мою благодарность.
— Сочувствую тебе в связи с Базелем.
Я вытащил зеркало из мешка у меня на поясе. Оно стало моим талисманом в те золотые месяцы, доказательством нашего безбедного будущего. Я носил его с собой повсюду.
— Я не забыл твою щедрость.
Его лицо засветилось удовольствием. Он обнял меня.
— Я рад, что нашел тебя. Надеюсь, ты больше не исчезнешь. — Он взял зеркало у меня из руки и внимательно осмотрел его. — Мое ахенское зеркало. Я почти забыл о нем. Не знаю, принесло ли оно мне счастье, но, возможно, избавило от великих несчастий, которые в противном случае обрушились бы на меня. Возможно, я стоял слишком далеко, чтобы в полной мере ощутить влияние лучей.
Он вернул мне зеркало.
— Вообще-то я только недавно вернулся из Ахена. Был там по поручению собора.
— Там все в порядке? — как бы невзначай спросил я. Я не сообщил ему о тайне зеркал. — Готовятся к паломничеству следующего года?
— Там ужас что творится. — Эней уже начал поворачиваться — торопился в свою гостиницу. — До вас еще не дошли эти новости? Чума охватила север. Никто не знает, когда она кончится и сколько человек заберет. Властям Ахена не остается ничего иного — только перенести паломничество на год.
Он уставился на меня сквозь сгущающуюся мглу.
— Что случилось, Иоганн? У тебя вид такой, будто ты собираешься снова исчезнуть.
LI
Страсбург
Они нашли отель неподалеку от собора. Ник чувствовал себя опустошенным, полностью вымотавшимся. Перед ним еще раз мелькнул образ Джиллиан. Мелькнул и снова исчез.
— Я пойду прогуляюсь по городу, — заявила Эмили. — Хотите присоединиться?
— Меня не интересуют достопримечательности, — проворчал Ник.
Но, улегшись на кровать, он обнаружил, что ему не заснуть. Две минуты спустя он поспешил вниз и застал Эмили в холле — она как раз собиралась уходить.
— Я передумал.
Они вышли из отеля. Хотя до вечера было еще далеко, небо уже посерело. Желтые огни в окнах отеля тепло сияли у них за спиной. На улицах уже лежал тонкий слой снега, и, глядя на набухшие тучи, Ник понимал, что настоящий снегопад еще впереди. Когда он оглянулся и посмотрел на отпечатки их подошв, они показались ему маленькими и одинокими, словно их оставили двое детей, заблудившиеся в лесу.
Он поднял воротник куртки.
— И куда мы идем?
— В собор, — ответила Эмили. — Мне хочется кое на что там посмотреть.
Они миновали черные и белые шпалеры наполовину деревянных домов и вошли в собор через западные двери. Внутри стояла такая темнота, что Нику даже подумалось, будто собор закрыт. Здесь было темнее, чем на улице. Он видел вокруг только стекло, призрачные образы витали над ним на головокружительной высоте. На мгновение он проникся тем трепетом, который, видимо, ощущали средневековые прихожане, это чувство причастности к божественному.
Он потерял ориентацию в темноте, протянул руку и прикоснулся к Эмили, чтобы убедиться, что она еще здесь. Она подошла поближе, словно радуясь человеческому теплу перед ледяным величием средневекового Бога.
Ник указал на северную стену, где на витраже гордо возвышались фигуры больше человеческого роста.
— Кто это?
— Императоры Священной Римской империи. Это одна из наиболее известных средневековых витражных композиций.
Она хмыкнула. Ник не видел ее, но знал, что следом за этим звуком она наморщила лоб.
— О чем вы думаете?
— О царях Израилевых.
Ник не был уверен, с кем она говорит — с ним или с темнотой.
— Вы вроде бы сказали, что это императоры Священной Римской империи.
— Цари Израилевы — это еще один популярный мотив средневекового искусства. Фасад собора Парижской Богоматери украшен двадцатью восемью статуями царей. Они есть и в Кельнском соборе — сорок восемь царей на витражном стекле в хорах, кажется. Считается, что это двадцать четыре царя Израиля и двадцать четыре царя Апокалипсиса.
— Считается? — переспросил Ник. — И что, наверняка никто не знает?
— Средневековые строители соборов не всегда объясняли, что они имеют в виду, делая те или иные украшения. Наводки мы можем найти в символике, но символы по своей природе допускают разные толкования. Вот, например, цари на фасаде собора Парижской Богоматери — здесь сомнений нет, это библейские персонажи. Но они не случайно оказались на здании, которое, по мысли французских королей, должно было символизировать их собственную власть. Средневековый ум был гораздо более изощренным, чем мы думаем. Семиотика, символизм — называйте как угодно, но они очень тонко чувствовали переход смыслов. Если вы были простым обывателем, то, проходя мимо собора Парижской Богоматери в четырнадцатом или пятнадцатом веке, вы видели в этих статуях царей Израиля, но еще вы видели в них и французских королей. Один властелин становится другим, все зависит от точки зрения.
— Вы говорите как будто о Джиллиан. — Ник сам удивился своим словам. — Один и тот же человек, но такой непохожий на себя в разных ситуациях.
— Все мы в той или иной мере такие. — Эти слова могли бы показаться пренебрежительными, но она сказала их мягко, соглашаясь с ним. — Вы не должны терять надежду.
Ник подумал, что она, возможно, вспоминает фотографию в его бумажнике.
— Я просто хочу ее найти.
— Рыцарь спасает попавшую в беду даму.
И опять это могло бы прозвучать иронически, но не прозвучало. Нику в этих словах послышалась чуть ли не грусть. Он улыбнулся в темноте.
— Я не думал об этом в таком ключе.
Его мысли вернулись ко всем его ночным забавам в «Готической берлоге», когда он убивал монстров и штурмовал замки; а перед этим — пятничные вечера в школе, когда они сидели с друзьями в подвале и кидали кость, пытаясь определить, продолжится ли их дружба. Опасные поиски в те времена не грозили гибелью, и они всю унылую неделю с нетерпением ждали этого пятничного вечера. Ничуть не похоже на теперешнюю ужасающую реальность с непреходящим чувством одиночества.
— Так вы нашли здесь то, что искали? — спросил он, меняя тему.
— Я… я хотела посмотреть царей. Они напомнили мне царей Израилевых. Я думала, это может дать какую-то подсказку. — Она тряхнула головой. — Нет… ничего.
Они закончили осмотр собора и двинулись к выходу. Пока шли по темным проходам, Эмили обращала внимание Ника на разные особенности. По мере того как они смещались с востока на запад, архитектура усложнялась; изменение стиля с романского на готический, произошедшее за века строительства, было запечатлено в камне. Она показала ему колонны, на которых изображались трубящие ангелы, и на многочисленные резные орнаменты на контрфорсах и консолях. Поначалу Ник слушал ее из вежливости, но постепенно его увлекла замысловатость этого искусства. К тому времени, когда из темноты собора они вышли под серое небо, его словарь значительно обогатился.
— Я хочу купить новую одежду, пока магазины не закрылись, — сказала Эмили. Снег продолжал падать, оседая на уступах собора. — Встретимся в отеле.
— Будьте осторожны, — предупредил ее Ник.
LII
Штрасбург
Двадцать семь царей взирали со своих стеклянных тронов — гордые и величественные, они возвышались над мелочными заботами мира. Под их витражными взглядами бурлил оставленный ими мир. В соборе гулко отдавались стук молотков, крики каменщиков, скрип шкивов и визг детей. Где-то среди всей этой суеты церковный хор пытался петь литанию. А в задней части собора в алькове стояли двое и о чем-то яростно перешептывались.
— Ты мне клялся, что все будет в порядке.
Андреас Дритцен не был ни гордым, ни величественным. Щеки его горели от гнева, кулаки были сжаты, словно он собирался ударить кого-то. Возможно, меня. Именно поэтому я настоял на встрече в соборе.
— Неужели ты думаешь, что ты единственный, кто вложил деньги в это предприятие? — Мне становилось плохо при одной мысли об этом, хотя от Дритцена я и не ждал сочувствия.
— Мы должны расплавить все изготовленные зеркала и продать металл.
— Нет. Покупали мы свинец, олово и сурьму. А теперь у нас сплав. Мы не можем его разделить. Так же как невозможно эти стекла снова превратить в песок и известь.
— Тогда продай сплав.
— Этот металл — ключ ко всему предприятию… и к нашему богатству. Если мы его продадим, то другим станут известны его возможности и они научатся делать то же самое. А если покупателем окажется какой-нибудь ювелир из Ахена, то он сам отольет зеркала и получит всю прибыль от наших трудов.
— И пусть его. — Лицо Дритцена пылало от гнева. — Мне нужны назад мои деньги.
— Паломничество было отложено, а не отменено. Нам нужно только набраться терпения и переждать еще год. И тогда мы будем богаты, как нам никогда и не снилось.
— Я не могу пережидать год! — Он взревел, как жеребец при холощении.
Я оглянулся — не слышит ли кто, но за визгом плотницких пил никто не обратил на нас внимания.
— И почему я не послушал моего брата Йорга, — простонал он. — Он мне говорил, что ты бродяга, мошенник. Что ты погубишь нашу семью.
И тогда, вероятно впервые в жизни, я осознал меру своей ответственности. Я был слишком стар, чтобы пуститься в бега. Я слишком многим и слишком много был должен, чтобы впадать в отчаяние. Однорукий Карл или кто-нибудь вроде него нашли бы меня, и потом мое искалеченное тело вытащили бы из одного из каналов, все в иле и нечистотах.
Я должен был освободиться. И как пьяница, который находит освобождение в еще одном стакане, я прибег к единственному известному мне способу исцеления.
— Есть и еще одно доходное ремесло. Оно не так глубоко проработано, как способ изготовления зеркал, но по сравнению с прибылью, которую можно получить от него, прибыль от зеркал — жалкие гроши. Нужно только терпение.
Он покачал головой.
— Хватит с меня твоих секретных ремесел.
— Ты никогда не спрашивал себя, что мы с Каспаром делаем в твоем подвале? Зеркала всегда были только прикрытием, тогда как мы готовились к более важной работе.
Я видел, что он, несмотря на охватившее его отчаяние, заинтересовался.
— Ты никогда не говорил об этом.
— Конечно не говорил. Зеркала и те секретные. А другое наше дело в десять раз важнее. О нем знают только четыре человека.
— И его можно будет реализовать до следующего года?
— Трудно сказать. Я тебе уже говорил: оно не столь продвинулось, как зеркала. Но когда мы будем готовы, задержек не предвидится. Никаких тебе ожиданий паломничества, никаких перевозок по реке. Его даже чума не в силах остановить. Оно требует лишь небольших вложений.
Он ухватил меня за лацканы и прижал к стене.
— Ты что — глухой? Ни слова не слышал из того, что я сказал? У меня больше нет денег. Как мне избежать банкротства?
Со спокойствием, которого не чувствовал, я оторвал его руки от моей одежды и отошел в сторону. Лучик света сверкнул на золотой булавке, которую он носил на плече своего плаща — Христос на кресте со стихом из Священного Писания.
— А как насчет этого?
Он накрыл булавку рукой.
— Это подарок моей жены.
Украшение было великолепное. Все жилы тела Христова напряглись в ожидании смерти, словно его плоть пыталась удержать внутри себя душу. Буквы внизу были идеально ровные, выбиты в тонком металле с невероятной точностью. Что напомнило мне о стоявшей перед нами задаче.
— Ты можешь занять необходимые нам деньги. Если надумаешь, я буду в своем доме в Сент-Арбогасте.
Иногда мне казалось, что мое настоящее призвание — брать деньги взаймы, а вся моя работа с чернилами и металлом существует всего лишь как предлог для того, чтобы занимать деньги. Зеркала стали монстром, который пожирал самого себя; когда не оставалось ничего другого, мне требовалась новая идея, под которую можно было бы занять денег. В те дни я больше не думал о ремесле как о средстве получения прибыли. Или о том, будет или не будет получен результат. Важно было лишь обеспечить бесперебойное поступление денег.
Три дня спустя после разговора в соборе Дритцен пришел ко мне домой. Я встретил его во дворе между кузней и сараем. Вокруг нас клевали зернышки куры, моя свинья откапывала яблоки, упавшие с яблони за сараем.
— Сколько? — спросил Дритцен без всяких вступлений.
Ни о чем другом я в эти дни и не думал.
— Сто двадцать пять гульденов.
Он зашелся от негодования, что быстро перешло в приступ кашля. Я с тревогой смотрел на него — не хотелось бы, чтобы он умер до того, как мы получим от него деньги.
— Это больше, чем я тебе уже дал, став почти банкротом.
— Иногда единственный способ перебраться на другой берег состоит в том, чтобы зайти еще глубже. Как насчет твоего дома?
Он рукавом отер слюну с губ.
— Что с моим домом?
— Ты мог бы его заложить.
— Я его уже заложил.
— Займи еще, — уговаривал я его. — Если ты не сможешь вернуть долги и кредиторы востребуют твой дом, то какая разница, сколько ты им будешь должен. Уж лучше рискнуть всем ради успеха, чем потерпеть неудачу, прибегая к полумерам.
Я знал, что он согласится. Иначе он бы не пришел ко мне. Ему потребовалось несколько минут, чтобы уговорить себя. Он пошаркал одной ногой, другой, потом резко развернулся, подпрыгнув, словно соломенная кукла на палке.
— Я могу дать тебе сорок гульденов сейчас. Остальное — через несколько недель.
— А ты уверен? Когда я познакомлю тебя с тайнами этого ремесла, ты не сможешь выйти из нашего партнерства. Если у тебя есть сомнения, то лучше сейчас иди домой.
Ему нужно было подтверждение.
— Деньги будут использоваться только во благо предприятия?
— Конечно, — сказал я, уже подсчитывая, как наилучшим образом распределить эти деньги среди кредиторов. — И прибыли мы разделим в тех же пропорциях, что прежде.
— И если кто-либо из нас умрет до завершения предприятия, все вложения переходят к его наследникам?
Я внимательно посмотрел на него.
— Ты что — собираешься умирать?
— Нет. — У него снова начался приступ кашля. Он попытался сдержать его. Но лишь поперхнулся. — Но мне уже больше лет, чем было моему отцу, когда он умер. Жизнь коротка. Смерть идет за нами следом.
Я перекрестился.
— Тайна эта слишком серьезна, чтобы подвергать ее случайностям наследования. Если кто-то из нас умрет, то унесет ее в могилу.
Это взволновало его.
— А как быть с моей женой? Если я умру, то она должна получить что-то. Я, по-вашему, должен заложить ее вдовство?
— Торговец, который вкладывает деньги в путешествие, не может востребовать свой капитал, пока корабль находится в море. Все деньги, которые ты вложил, должны оставаться в собственности партнерства, пока предприятие не будет завершено.
Он вздохнул, его лицо посерело от этого поражения. Я похлопал Дритцена по плечу и попытался вдохнуть в него энтузиазм.
— Забудь этот разговор о смерти. Через два года ты будешь смеяться над тем, что сомневался во мне.
Я стоял у ворот, глядя, как он идет по дороге, грустный, изможденный человек. Неужели это я довел его до такого состояния? Заблудившись в лабиринте собственных схем и долгов, я уже не мог понять, кто я для него — благодетель или заклятый враг.
— Ну что — заглотил наживку?
Из сарая вышел Каспар. Рукава его были закатаны, а на ладони остался рубец от гравировального инструмента — требовались немалые усилия, чтобы вдавливать его в металл.
— Заплатит, заплатит.
— Тогда почему ты грустишь?
Каспар потрепал меня по щеке. Но после моего разговора с Дритценом я жаждал уединения и потому отвернулся.
— Да какая муха тебя укусила? Ты такой мрачный, словно несешь на своих плечах тяготы всего мира.
— Может быть, это груз того золота, которое я должен.
— Помнишь прежние времена? Тогда ты был гораздо интереснее. До того, как стал одержим золотом, ссудами и долгами. Ты был художником, а теперь сделался менялой.
— Деньги в такой же мере часть этого искусства, как свинец, чернила или медь, — отрезал я. — И то, что я делаю, оправдано размахом предприятия. Ты хочешь создать вещь, обладающую редкой и необыкновенной красотой, — и никто не сделает это лучше тебя. Ну а в моем ремесле красота обусловлена его масштабом. Капля воды — ничто, но река — величественна. А океан неизмерим.
— А ты когда-нибудь видел каплю воды? Когда она висит на ветке солнечным утром, в ней отражается весь мир — он растягивается, когда ветка колышется, и неизвестно, то ли удержится, то ли упадет и исчезнет в земле. Она прекрасна.
— Если бы я мог сделать эту работу без денег и раздать ее плоды бесплатно, я бы так и поступил. Но ты сам видел, как одни расходы влекут за собой другие, а конца еще не видно.
— Красота либо есть, либо ее нет. — Мы с Каспаром не слышали друг друга. — Если ты напечатаешь одну индульгенцию или отольешь одно зеркало, то будешь иметь индульгенцию или зеркало. И не имеет значения, единственные ли они в своем роде или существуют еще тысячи таких же.
— А как насчет золота? Тысяча гульденов красивее одной монетки?
— Для тебя — да.
Два месяца спустя Андреас Дритцен умер.
LIII
Страсбург
Отель предоставлял бесплатный доступ в Интернет из номера. Ник десять минут пролежал на кровати, глядя на сетевую розетку в стене и, словно святой, борясь с искушением. Пробыв неделю в офлайне, он чувствовал себя так, будто потерял конечность. Ему до смерти хотелось войти в Сеть. Но люди, которые преследовали его, казалось, обладали чуть ли не телепатической способностью отслеживать его движения. Мог ли он позволить себе такой риск?
В общем оглушающем гомоне Интернета присутствие Ника было бы едва слышимым шепотком. К тому же он знал кое-какие приемы. Мучимый сомнениями, он поднялся с кровати и включил ноутбук.
Работая в цифровой криминалистике, он был одержим проблемой безопасности. Сначала он очистил журнал своего браузера — все, что случайно могло вывести его на какой-нибудь из сайтов, которые он посещал прежде, и выдать его местонахождение. Потом он превратил свой компьютер в крепость. Активизировал межсетевой экран и закрыл все порты, кроме одного, чтобы весь трафик проходил через надежно охраняемые ворота. Как и любая система защиты, эта оберегала его не только от внешних врагов, но и от внутренних. Антивирус контролировал улочки и дворы крепости, готовый пресечь любую подозрительную деятельность. Он опасался не открытой атаки, а шпионских программ.
Теперь можно было выходить в Сеть. Он подключился к Интернету и немедленно открыл веб-сайт, который рекламировал себя как анонимайзер. Такого рода сайты были популярны среди извращенцев, преступников и заговорщиков, но ими могли пользоваться и вполне законопослушные люди. Ник позаимствовал метафору и назвал этот сайт плащом невидимки — способом гулять по Сети, не оставляя следов, по которым тебя можно опознать или определить твое местонахождение.
Но и за всеми этими щитами он все же нервничал — словно прокрался в гостиную посреди ночи, чтобы залезть в бар, где отец держал виски. Каждая загружаемая им страница была словно половица, готовая заскрипеть под ногой. Но постепенно информационный поток сомкнулся вокруг него. Он забыл об опасностях и поплыл на потоках знания, следуя по возникающим ссылкам.
Он начал с царей Израилевых и не нашел почти ничего, кроме ряда имен, первые из которых были знакомы, но за ними шли ничего ему не говорившие: Давид, Соломон, Ровоам, Авия и так до самого Седекии. Онлайновая энциклопедия давала массу сведений по библейской истории, но ничто, казалось, не подходило для его случая.
После этого он перешел к «Записям царей Израилевых». Поисковик на это выкинул массу информации, от которой сердце у него забилось чаще. «Записи царей Израилевых» мельком упоминались во второй книге Паралипоменон: «Прочие дела Манассии, и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых».[34] Клик. Такого рода ссылки были разбросаны по Ветхому Завету, брошенные невзначай указания на другие книги, которые когда-то, возможно, существовали, но теперь остались только подобием призраков, насмехающихся над учеными. Клик. Как приключения Шерлока Холмса ассоциируются с доктором Ватсоном, словно и не написаны Конан Дойлем. Клик. Дело политика, маяк, дрессированный баклан…
Ник понял, что уперся в тупик. Он прошел назад и направился по другому пути, выбрав новое ключевое слово — «Манассия». Шестнадцатый царь Израилев. Вероотступник, плененный и увезенный в Вавилон, но восстановивший свое царство, когда покаялся и вернулся к Господу. Клик. Молитва его. Хотя «Записи царей Израилевых» были потеряны (если только они когда-либо существовали), около первого века до новой эры кто-то на их основе создал покаянную молитву Манассии и выдал ее за оригинальное произведение. Нечто вроде поделки, изготовляемой фанатами «по мотивам» известной вещи. Это была подделка, но древняя, обретшая и собственную ценность. Теперь она была включена в Библию как часть апокрифа.
Клик — назад к Библии. «Я согбен многими железными узами, так что не могу поднять головы моей, и нет мне отдохновения».[35]
«Я тебя понимаю», — подумал Ник.
Наконец он вернулся на домашнюю страницу Джиллиан. Он знал, как это рискованно, но не мог туда не заглянуть.
Джиллиан Локхарт
грозит смертельная опасность
(последняя запись 2 января, 11:54:56)
Здесь все осталось как прежде — она больше не появлялась. Он снова пересмотрел фотографии, опять убедился, что его фотографии здесь нет, и все внутри у него сжалось, когда он подумал о фото у себя в бумажнике. Он вернулся к доске объявлений — на всякий случай.
Там оказалась одна новая запись.
Все в порядке? Нашлось то, что было нужно? Пожалуйста, жду звонка. У меня новый номер: www.jerseypaints.co.nz
(отправлено Олафом, 11 января, 17:18:44)
Ник три раза перечитал послание. Он проверил дату на своих часах. Два дня назад. Осторожность говорила ему: дальше нельзя — ловушка. Но он не мог противиться желанию.
На экране появилась новая страница: изображение раскрашенной во все цвета радуги коровы на приставной лестнице. Корова размахивала кисточкой и усмехалась. «Краска для дома и промышленности». Под цифрами, которые, как понял Ник, были новозеландским кодом, он увидел номер телефона и несколько восторженных рекомендаций от довольных потребителей. Никаких упоминаний о ком-либо по имени Олаф он не нашел.
Ник проверил собственную онлайновую безопасность. Все светилось зеленым. Сайт вроде бы не пытался загрузить какого-нибудь троянца.
Он чувствовал, что должен рискнуть. Поднял трубку и набрал номер с веб-сайта. После некоторой паузы он услышал необычный гудок далекого телефона.
— Джерси Пейнтс, — сказал голос с новозеландским акцентом.
— Гмм… Здравствуйте. Могу я поговорить с Олафом?
Раздраженное молчание.
— Это что — какая-то шутка? Я вам уже третий раз говорю — нет здесь никакого Олафа. Прекратите наконец звонить.
— Прошу прощения, — сказал Ник.
Не успел он повесить трубку, как его переполнило ощущение вины. Он не должен был звонить. Не должен был даже заглядывать на этот сайт. А уж звонить из отеля было просто глупостью. «Я вам уже третий раз говорю». Кто-то другой прочел послание и начал действовать.
От двери раздался какой-то звук. Ник замер. Неужели они уже пришли? Отследили его с такой легкостью? Он услышал, как в коридоре кто-то вставляет электронный ключ в слот. Он в отчаянии посмотрел на окно, но оно было надежно задраено.
На замке загорелся зеленый огонек. Ручка, щелкнув, начала поворачиваться. Спрятаться было негде — даже ванная располагалась в конце коридора. Ник схватил сумку с книгой и картой — может быть, ему удастся проскочить мимо киллера, сбить его с ног и убежать.
А что, если он не один?
Дверь распахнулась. В тускло освещенном коридоре стояла Эмили с двумя пакетами. Волосы у нее были влажны от растаявшего снега. Она посмотрела на сумку в его руках.
— Вы собирались уходить?
Ник с облегчением опустился на кровать.
— Я думал… я просто хотел понадежнее спрятать книгу. — Он снова посмотрел на нее, заметил что-то новое. — Вы изменились.
Она положила пакеты, повесила куртку на дверь. Юбка, которая была на ней с Парижа, исчезла, теперь она надела джинсы в обтяжку и свитер с высоким воротником. Он впервые увидел ее не в юбке, а в джинсах. И отчасти даже смутился, это было словно встретить на выходных учительницу в магазине. Но в глубине души поразился тому, как она хороша.
— Я подумала, что если мы снова будем убегать, то лучше делать это в брюках, — невозмутимо сказала она.
Она стащила с себя низкие сапожки и рухнула на кровать рядом с Ником. Им снова предоставили номер с двойной кроватью, тогда как они просили две односпальные. Они лежали, словно супружеская пара в старом кинофильме. К удивлению Ника, это было ему странным образом приятно.
— Снег усиливается, — сказал она несколько секунд спустя. — Похоже, нам будет нелегко выбраться из Страсбурга.
— Вопрос еще куда.
Ник приподнялся и взял пульт с прикроватной тумбочки. Он включил телевизор, пробежал по французским шоу-программам и интервью со звездами, наконец нашел англоязычный новостной канал. Репортер в бронежилете стоял на фоне руин, а солдаты в коричневатой маскировочной форме обыскивали глинобитный дом у него за спиной. Явно богом забытое местечко, но, по крайней мере, там было жарко. А у Ника создалось впечатление, что он полжизни дрожит от холода.
Он выключил звук, оставив меняющуюся картинку фоном.
— Я зашел на веб-страничку Джиллиан, — сказал он. — Кто-то там оставил для нее послание.
Эмили не ответила. Он скосил глаза и увидел, что она заснула. Глаза у нее были закрыты, черные волосы, обрамлявшие бледное лицо, разметались по подушке. Он натянул ей до плеч одеяло, лежавшее в ногах. Она пробормотала что-то во сне и, повернувшись, уткнулась в него.
Он почувствовал теплоту ее тела, и этот жар проник сквозь его кожу, расплавляя ледяной покров, сковывавший его с того дня, когда он получил то послание от Джиллиан. Он понимал, что это ошибка, что она будет смущена, когда проснется, а ему будет стыдно. Но он не хотел беспокоить ее. Пусть полежит немного.
Он устремил взгляд на телевизор, принялся читать подписи и смотреть на немой парад ораторов, спортсменов, политиков и старлеток по другую сторону экрана. Совсем недавно все это казалось ему таким важным — герои, злодеи, сюжеты в прессе. Теперь же стало таким далеким.
Картинка вернулась к новостнику в студии. На экране появилась надпись. ОТЛУЧЕННЫЙ ИЕЗУИТ НАЙДЕН МЕРТВЫМ.
Он схватил пульт и включил звук. Эмили шевельнулась, почувствовав его резкое движение. Новостник исчез, вместо него появился зернистый снимок. Ник смотрел во все глаза. Человек стоял слишком близко к камере, держа в руках наборную доску.
— Это же брат Жером. — Эмили села, откинув с лица волосы.
До сознания Ника с трудом доходили слова, произносимые гнусавым голосом репортера. «Соседи услышали выстрелы… Вызвана полиция… Убийство в стиле мафии… Сообщается о найденном утром подозрительном автомобиле… Блестящий ученый… Скандал, связанный с сексуальным домогательством…»
Ник посмотрел на Эмили. По ее щекам текли слезы. Он хотел утешить ее, но она казалась такой хрупкой, что он боялся, как бы она не раскололась от прикосновения.
— Я убила его, — прошептала она.
Сюжет на экране закончился, начался новый. Вместо лица брата Жерома появилась лодка с дрожащими от холода беженцами. Ник снова отключил звук.
— Я и представить себе не мог, — пробормотал он.
— Я его погубила.
— Я понимаю, что вы чувствуете, — попытался утешить ее Ник. — То же самое было с Бретом. Если бы не я, он был бы жив. Но вы не должны себя винить. Виноваты те, кто убил его.
— Виновата я, — гнула свое она. — Если бы не я, он не оказался бы там.
— Потому что он домогался вас, когда вы были студенткой?
Эмили проглотила слезы и уставилась на покрывало. Когда Ник уже было решил, что она не слышала его слов, она быстро проговорила:
— Это была не его вина. Мы с Жеромом… мы… мы были любовниками. Он не домогался меня — у нас был роман. Когда университетские власти узнали, его выгнали. А потом его выгнали и из ордена. Это его погубило. Наука была смыслом его жизни.
Ник представил себе старика с гривой седых волос и попытался не думать о том, как его костлявые пальцы прикасаются к коже Эмили.
— И все равно он не должен был прикасаться к вам.
— Он не должен был прикасаться ко мне, — повторила она. — Это верно. Но не в том смысле, в котором вы думаете. Это я влюбилась в него. Я его соблазнила, если это слово подходит для данного случая. Это я лишилась рассудка, я была безжалостна — не желала слышать никаких отказов. Я не понимала, что делаю. — Она смахнула слезу со щеки. — В конечном счете чувство вины стало для него невыносимым, и он разорвал нашу связь. Я вышла из себя… мне хотелось одного — отомстить. Я донесла на него из одной только злости. Я погубила его жизнь. А теперь вот это.
LIV
Штрасбург
Я разглядывал лист, испытывая привычную боль разбитых надежд. Некоторые из букв едва пропечатались, другие вдавились с такой силой, что их очертания терялись в чернильном пятне. В нескольких местах бумага порвалась — значит, мы не выровняли кромки литых форм. Вся страница, когда мы извлекли ее из пресса, оказалась размазанной. Драх был прав: я мог напечатать десять тысяч копий, но все они будут ужасны.
Я взял напильник, готовясь к очередному дню неблагодарного труда. Отливать металл на гравированной медной дощечке было легко, но я не учел того, что тут потребуется высокая степень точности. Если какая-то буква оказывалась хоть на волосок ниже других, то она не доставала до листа. А если она оказывалась выше, то разрывала бумагу. Поскольку буквы образовывались на медной дощечке с помощью пуансона и молотка, то вряд ли удалось бы добиться их единообразия по высоте. Разве что путем последующей самой тщательной обточки.
— А где формы?
Каспар поднял на меня взгляд.
— В сумке.
Я залез в сумку, которую Каспар принес из дома Дритцена. Если не считать нескольких отливок свинца, сумка была пуста.
— Наверное, ты положил их на стол.
Я принялся искать их среди всякого хлама — клочков бумаги, инструментов, медных пластин и порченых форм, валявшихся на столе.
— Ты уверен, что принес их?
Он пожал плечами.
— Мне так казалось.
Вот в такие моменты я ненавидел работать с Каспаром. Если ему что-то было безразлично, то он относился к этому спустя рукава и никакие упреки до него не доходили.
— Ты, наверное, оставил их в прессе.
— Вероятно, — согласился он.
— Я тебя просил их принести.
Дритцен вот уже неделю как болел, и дом превратился в проходной двор для озабоченных родственников, всюду сующих свой нос друзей и кредиторов, которые опасались, что больше не увидят своих денег.
— Если их кто-то заметит, наш секрет будет раскрыт.
— Я запер дверь.
Мне не хотелось ссориться с Каспаром — мы и без того уже немало спорили в тот год. Я повернулся к нему спиной и подошел к двери сарая, чтобы остыть, вдохнув морозный декабрьский воздух.
Во дворе стоял мальчик. Поначалу я принял его за бродягу или воришку, но он не убежал, когда я двинулся, чтобы прогнать его. Я присмотрелся и понял, что знаю его — мальчик на посылках Ганса Дюнне. Вид у него был такой, словно он бежал всю дорогу из Штрасбурга.
— Тебя Дюнне послал? — спросил я из двери.
Он кивнул.
— Он просил передать, что герр Дритцен умер.
Дом со своими изогнутыми стенами и пологой крышей и без того был похож на гроб. Закрытые ставни не пропускали свет изнутри. Мы долго стояли на пороге, прежде чем слуга впустил нас. Внутри пахло уксусом и смолой, оттого что здесь жгли сосновую крошку.
— Иди вниз и возьми формы, — сказал я Каспару, давая ему ключ, на который мы запирали подвал. — И винты тоже возьми.
Чтобы снизить эффекты одиночной ошибки, мы ввели инновацию, разделив текст на четыре отдельные отливки — по одной на каждый абзац. Мы свинчивали их вместе, делая таким образом одну доску.
— А ты куда?
— Выразить соболезнования.
Я взял свечку со стены и пошел вверх по скрипучей лестнице. По стене метались тени. Добрый десяток пар глаз обратился на меня, когда я вошел в комнату: плакальщики и слуги стояли за дверями спальной. Всех, казалось, объединил безмолвный упрек. Большинство собралось вокруг толстой женщины в белой вуали — жены Дритцена, теперь его вдовы — и мужчины, за которого она цеплялась, его брата Йорга.
Я снял шапку.
— Фрау Дритцен, я пришел сказать, как глубоко…
Увидев меня, она отделилась от собравшихся и завизжала:
— Это ты виноват. Ты и твой дружок. Он был хороший человек, честный человек, пока вы не соблазнили его вашим колдовством. Если этот день и принесет какое благо, так только то, что он вырвался из-под вашей власти. Когда Андреаса похоронят, вы вернете мне все, что он вам дал, до последнего гроша!
Она обрушила на меня град ударов. Ее деверь обхватил ее руками и оттащил от меня.
— Иди к своему мужу, — приказал он. — А с этим я разберусь.
Он почти затолкнул ее в спальню. Через открытую дверь я увидел неясные очертания тела Дритцена, лежащего на своей кровати под саваном.
Йорг закрыл дверь и посмотрел на меня хитрым взглядом. До этого, приходя к Дритцену, я два-три раза видел его брата, который мне сразу не понравился. Это был маленький горбатый человек с опухшими щеками и поросшим щетиной подбородком, по форме похожим на луковицу.
— У нее истерика, — без малейшего сочувствия сказал он. — Ее можно понять. В такие времена деловые вопросы должна решать холодная голова.
— Твой брат умер, — сказал я. — Дела могут подождать.
— Я разговаривал с Андреасом перед его смертью. Он поведал мне о вашем предприятии, сказал — единственное его сожаление, что он не увидит того безмерного богатства, которое будет получено в результате. Он сказал, что передает мне свою долю в партнерстве.
— Если он это сказал, то у него, вероятно, от болезни уже помутился разум, — ответил я. — Но мы можем поговорить об этом позднее. Я приду сюда проводить Андреаса.
Все было верно. Я не отрицал, что играл на его корысти и подстрекал к участию в предприятии, которое мне сулило большую выгоду, чем ему. Но Дритцен был торговец — он вкладывал деньги, если видел прибыль. Откуда он их доставал — это было его дело. Но я скорбел по нему, как скорбит один человек, узнав о смерти другого.
— Я пойду. Я не хотел расстраивать семью в час горя.
— Ты гораздо сильнее расстроишь меня, если не выслушаешь, — сказал Йорг. — Я знаю, сколько денег Андреас вложил в вашу аферу, хотя он мне так и не объяснил, почему она, на его взгляд, заслуживала этого.
— Тогда ты этого и не узнаешь. Его деньги и тайны останутся в партнерстве.
— Значит, я должен занять его место.
— У меня есть подписанный им договор, согласно которому в случае его смерти его наследники не смогут получить ничего до окончания предприятия. Но он и умирая, остался мне должен.
Я не мог и представить, что мне придется говорить это, стоя рядом с еще не остывшим телом.
— Ты что же — оставишь его жену нищей?
— Ответственность за нее лежит на тебе, а не на мне. Она станет нищей, если ты это допустишь.
— Тогда я пойду в суд. — Йорг перешел на крик. — То, что вы с Андреасом держали в тайне, станет известно всему городу. Ты от меня так просто не отделаешься.
Каспара я встретил на улице.
— Ты забрал формы?
Он протянул мне тяжелую сумку.
— Я еще вывинтил винты из пресса. Кто бы его ни увидел теперь, не догадается, для чего он нужен.
— Ну, дознаться они все равно могут. Брат Дритцена грозит подать на меня в суд.
— Пусть. Есть только четыре человека, которые знают секрет. Саспах и Дюнне нас не выдадут.
Меня это мало утешило.
— Мы должны поспешить домой. Йорг Дритцен с ума сходит — хочет выведать наши секреты. Меня не удивит, если он вломится в нашу мастерскую разнюхать, что там к чему.
Мы позаимствовали лошадь для Каспара и в темноте поскакали в Сент-Арбогаст. От этой скачки у меня в памяти остались только морозный воздух да запах лошадиного пота. Как только мы добрались до места, я развел огонь в кузне и зажег все светильники, какие смог найти. С помощь Драха я отыскал в сарае все отливки, какие мы когда-либо делали, все формы, даже обломки свинца, любой фрагмент металла с буквами на нем. Я положил все это в металлический тигель и поставил его на огонь. Оставил только медные дощечки с гравировкой. Их я завернул в мешок и закопал под камнем во дворе. Они были мне слишком дороги — я не мог их уничтожить.
Я добавил углей в топку, раздул их до белого жара. Формы начали плавиться. Крохотные буквы расплылись, расплавились, потекли по лицу металла, как слезы.
— Это что — конец нашего предприятия?
Я посмотрел на Каспара. Он стоял слишком близко к огню, и капельки пота катились по его щекам. Я сунул кочергу в тигель, перемешивая упрямые куски металла.
— Даже если мы избавимся от Йорга Дритцена, что у нас есть? Ремесло, которое не работает, и предприятие, у которого нет капитала — одни долги. Эннелин, зеркала, теперь Дритцен — за что бы мы ни брались, все кончается катастрофой.
Я посмотрел в тигель — последние остатки металла превращались в текучую массу. Я вспомнил вдову Дритцена. «Это ты виноват».
Поднял глаза — Драха не было.
Паника овладела мной. Неужели он бросил меня? Неужели своими неудачами я отпугнул его? Я оставил топку и побежал в сарай.
Каспар стоял там в углу у пресса. Я с облегчением прислонился к косяку двери. Драх, стоя спиной ко мне, вытащил медную доску и зажал ее в тисках на столе. Взял мелкозубчатую пилу по металлу из ящика с инструментом на стене.
— Я тебя просил собрать все доски, чтобы я их закопал.
Он не повернулся ко мне.
— Это не твоя.
Я подошел к нему и присмотрелся. Светильники освещали канавки, прорезанные в поверхности, — стаю львов и медведей, запечатленных в меди.
— Это была доска для десятки зверей.
Драх направил пилу на край доски и медленно провел ею по металлу, высекая искры.
— Что ты делаешь? Зачем уничтожать это? Это твое искусство.
Он отпилил кусочек. На меди появился рваный порез.
— Я ее не уничтожаю, а переделываю. Нам понадобятся деньги для продолжения того, что ты задумал. Я могу сделать новые карты и продать их. Не ахти какие деньги, но помогут перебиться.
— Но ты мне сказал, что половина дощечек пропала. А теперь и эту уничтожаешь.
— В этой карте присутствуют все остальные. — Он стал прикладывать ладонь к доске, перекрывая различные ее части. — Вот единица, вот двойка, тройка… я могу разделить ее на отдельные части и сочетать их так, как мне нужно.
Я обнял его, прижал к себе. Почувствовал тепло его тела — совершенное соответствие моему. Я любил его.
И в этот момент во мне начал петь ангел. То, что Каспар сделал с картой, я могу делать с индульгенциями.
Мы разъединим все на части и начнем сначала.
LV
Страсбург
На туалетном столике беззвучно работал телевизор, показывая картинки войны и скорби. Ник смотрел как загипнотизированный. Известие о смерти брата Жерома потрясло его.
Он должен был как-то выйти из этого ступора. Схватив пульт, он выключил телевизор.
— Нам нужно уходить.
В его голосе слышалась необычная твердость, уверенность, которой он не чувствовал прежде. Это вывело Эмили из дремы.
— Куда? Нам некуда идти.
— Прежде всего уберемся отсюда. По телевизору сказали, что соседи слышали выстрелы этим утром. Тот, кто стрелял, упустил нас всего на час-другой.
— Неужели они шли по нашему следу?
— Именно Жером предложил нам отправиться в Страсбург. Он показал нам экслибрис, рассказал историю графа Лорана. Видимо, он предполагал, что мы отправимся сюда. Если он сказал им об этом…
Они спустились в холл, вышли на улицу. Он не заметил черный «ауди» припаркованный против отеля. Снегопад вроде бы ослабел, хотя в конусах света под фонарями все еще кружились снежинки. На земле уже лежал толстый слой снега. Они оставили в снегу глубокие следы, огибая собор, потом двинулись по одной из улиц. Ник оглянулся, но никого не увидел. Магазины были закрыты. Рабочие разошлись по домам.
Отойдя на несколько кварталов, они увидели маленькое открытое бистро. Там была свободна лишь половина мест, но после зимней пустоты улиц бистро манило уютом и теплом, светом свечей и дымком, пахнущим травами, жареным мясом и вином. Они сели за столик за деревянной колонной, чтобы их не было видно из окна, но чтобы при этом они могли видеть дверь. Заказали vin chaud и tartif lettes.[36] В других обстоятельствах это был бы идеальный романтический вечер: свечи, горячее вино, тесный столик, под которым соприкасаются коленки. Но теперь эта интимность казалась лишь еще одним укором, насмешкой из мира, который отказался от него.
Он крутанул стакан в руке, глядя на остатки вина в нем.
— Ательдин был прав. Я не знаю, что все это значит, но это какое-то безумие.
— Для кого-то это что-то и значит, — возразила Эмили. — Если бы мы не были на правильном пути, они не пытались бы все время нас остановить.
— Мы никогда не найдем Джиллиан, — с горечью в голосе сказал Ник. — Были убиты другие люди — вот единственное, чего я добился. Брет, доктор Хальтунг, теперь брат Жером.
— Брат Жером погиб по моей вине, — тихо сказала Эмили. — Если бы я не направила вас туда, с ним ничего бы не случилось.
— Если бы я не притащил вас сюда, то не втянул бы во все это. — Ник крепко сжал ножку бокала, так крепко, что испугался, как бы она не треснула.
Он поднял глаза. Эмили, казалось, не слышала его слов, она без всякого выражения смотрела куда-то над его плечом. Он начал поворачиваться, но она ухватила его за руку и усадила на место.
— Продолжайте смотреть на меня. Через три столика от нас сидит человек, который вот уже пять минут не сводит с нас глаз.
Ник почувствовал знакомый прилив страха.
— Как он выглядит?
— Смуглый, крепкого сложения. Сломанный нос. Похож на итальянца. Он как вошел, так и остался в пальто.
Ник стрельнул глазами в золоченое зеркало на стене, но человека не увидел. Мысли его заметались.
— У меня идея. — Все его тело напряглось — он ждал, что в любую секунду ему в спину может упереться ствол пистолета. Он встретил взгляд Эмили, и это помогло ему немного успокоиться. — Через секунду мы бурно поссоримся. Вы в слезах побежите в туалет. Я брошусь к двери. Сумку мы оставим на столе и посмотрим, что он будет делать.
— А если он кинется за вами?
— Тогда вы кинетесь за ним.
— А если он кинется за мной?
— Сядьте и кричите в голос. Я буду рядом. — Ник ухватил ее запястье. — Готовы?
Она кивнула и резко откинула стул, вскочила на ноги.
— Как ты смеешь говорить мне такие вещи? — закричала она.
Звон вилок и ножей, тихий гомон в ресторанчике смолкли. Даже Ник был ошарашен.
— Ты и представить себе не можешь, что я чувствую!
Она оглянулась с безумным видом, закрыла лицо руками и бросилась в туалет. Ник замер на мгновение, потом оттолкнул стул так, чтобы рюкзак, оставшийся висеть на подлокотнике, был хорошо виден. Он бросил двадцатку евро на столик и устремился к выходу, глядя в пол.
Не успела закрыться за ним дверь, как он услышал скрежет спешно отодвигаемого стула. Он побежал по хорошо утрамбованному тротуару к ближайшему углу, нырнул за него, остановился и выглянул из-за здания.
Почти мгновенно дверь ресторанчика распахнулась, коренастый мужчина в длиннополом пальто выскочил на улицу. Фонарь над дверью окрасил его желтым светом. Ник увидел черные волосы, смуглую кожу, боксерский нос и его собственный рюкзак в руке человека, смутно знакомого, — возможно, его же он видел в бельгийском хранилище. Преследователь покрутил головой в одну, другую сторону, оглядывая улицу, потом вытащил ключи из кармана и сжал то, что держал в руке. Оранжевые огоньки мигнули на черном «ауди». На крыше машины не было снега — значит, она простояла здесь недолго. Ник попытался вглядеться внутрь — есть ли в машине кто-нибудь еще за темными окнами.
Человек перешел улицу и открыл пассажирскую дверь. Ник принял решение. Снег под ногами позволял шагать бесшумно. Человек стоял спиной к Нику и рылся в его рюкзаке, проверяя, есть ли там книга. Он не слышал приближения Ника, пока тот не оказался почти прямо над ним. И только тогда развернулся. Ник, вкладывая в удар всю силу, вонзился в живот человека кулаками. Вся злость, страх, горечь последней недели нашли выход в этом движении — Ник словно нанес удар волшебным копьем. Преследователь сложился пополам, ключи выпали из его руки в снег, и Ник носком ноги послал их под машину, а потом, ударив противника коленом в лицо, выхватил рюкзак.
Но Ник был любителем, а его противник — профессионалом. Удар коленом заставил его дрогнуть, но не сбил с ног. А когда Ник схватил рюкзак, большая рука метнулась к его запястью и сомкнулась на нем. Человек крутанул руку Ника, и тому показалось, что она сейчас переломится в локте. Все его тело развернулось, ноги заскользили по снегу. Ник потерял равновесие и оказался на земле.
Он ловил ртом воздух. Человек, возвышающийся над ним, сделал шаг назад. Какую-то долю секунды Ник думал, что тот сейчас развернется и побежит, но человек только освобождал себе пространство. Он сунул руку в карман и вытащил пистолет, который показался маленьким в его громадной, похожей на подкову руке.
Значит — конец. Здесь, на дороге, его кровь будет растапливать снежок, а потом остынет и замерзнет. Он никогда не узнает, что случилось с Джиллиан, никогда не поймет, зачем он забрался в этот холодный уголок Франции и умер здесь. Несправедливость этого привела его в ярость.
Эмили с криком выскочила из ночи и бросилась на человека. Она была слишком хрупкой, чтобы ее атака возымела какой-то эффект, но она повисла на его руке и отвела ее вниз — прочь от Ника.
Ник вскочил на ноги, ухватил пистолет за холодный ствол и изо всех сил потащил на себя. На несколько мгновений они втроем сплелись в единый клубок, топтались и дергались на снегу. Ник снова потерял равновесие. Он вдруг понял, что упал, щека его прижалась к заснеженной мостовой, на нем оказался кто-то еще.
— Как вы?
Эмили сползла с него и поднялась на ноги. Ник с трудом встал следом за ней. Пистолет все еще был в его руке — он держал его за ствол, словно дубинку. А где был их противник?
Чуть поодаль по улице в свете фонаря виднелась фигура бегущего мужчины. Ник оглянулся. Рюкзак все еще у него.
— Постойте! — крикнула Эмили.
Но Ник уже бежал. Снег хрустел под его подошвами. Руки двигались быстро, пистолета он даже не замечал. Его противник, может, и силен, но вот бегун — никакой. Ник легко сокращал расстояние между ними, несясь по пустым улицам. Черные и белые очертания домов, наполовину сделанных из дерева, словно скелеты, стояли вдоль улиц, их зашторенные окна были слепы, и никто не видел сумасшедшей погони.
Человек оглянулся через плечо и нырнул в боковую улочку. Его тяжелые ботинки оставляли четкие отпечатки в снегу, в особенности здесь, где снег был почти нетронутым. Ник преследовал его, сокращая расстояние. Они пересекли мост — внизу мелькнула черная полоска воды — и снова повернули.
Дома здесь стояли реже, между ними появлялись полосы, поросшие травой и деревьями. Справа он увидел нагромождение деревянных крепостных сооружений и башен — детская площадка. Морозный воздух обжигал легкие. Но теперь Ник ясно видел преследуемого — между ними осталось не больше двадцати ярдов. Он, терпя боль под ложечкой, продолжил бег.
Между деревьями Ник увидел воду со всех сторон. Вероятно, они оказались на каком-то острове в реке. Впереди просматривался ряд высоких каменных башен, залитых светом на фоне черноты там, где кончался остров.
Человек понял, что он в ловушке. Он перешел на шаг, потом остановился. Ник проскользил немного по обледеневшей дорожке и замер, сохраняя расстояние между ними. Когда противник повернулся к нему лицом, Ник поднял пистолет. Они стояли молча между деревьев в снегу. Их, словно дуэлянтов, разделяла дюжина шагов. Но пистолет был только у одного.
— Кто ты? — прокричал Ник.
Ночь, казалось, поглотила его слова.
Человек не ответил. Он посмотрел на рюкзак, который все еще оставался в его руке, потом отпустил его, и тот упал в снег у его ног. Это движение отвлекло внимание Ника — и в этот момент итальянец сунул руку во внутренний карман. Ник словно прозрел. Он поднял пистолет, ощущая холодок в животе и понимая, что совершил роковую ошибку. Но его палец замер на спусковом крючке.
Нет, человек вытащил из кармана не еще один пистолет. В руках у него оказался лист бумаги. Неловкими пальцами он сложил его несколько раз, а потом принялся рвать на куски.
— Стой! — прокричал Ник.
Крохотные кусочки бумаги падали на землю, словно снежинки. Ник прицелился. Но он не мог хладнокровно выстрелить в человека.
Неожиданный луч света пронзил пространство за его спиной. По реке поднимался баркас, и капитан не желал рисковать в темноте. Через секунду Ник будет отчетливо виден, как актер на сцене. Он опустил пистолет, прижал руку к ноге. Ни он, ни его противник не могли заставить себя пошевелиться, словно олень в луче фар на дороге.
Баркас поравнялся с ними. Река здесь была такой узкой, что его корпус почти касался берега. Палуба была всего в каком-то футе под ногами Ника. Огни прожекторов осветили парк, ослепив Ника. И в этот момент итальянец прыгнул. Он рывком перенес тело через ограду и камнем свалился в баркас. Ник подбежал к ограде, но увидел только бьющие ему в глаза лучи.
У него за спиной раздался хруст снега, и он резко повернулся. По парку бежала Эмили, ее дыхание клубилось в ночи.
— Где он?
Ник показал на баркас, исчезающий за поворотом реки.
— Ушел.
Он подошел к валяющемуся на снегу рюкзаку, оглядел все вокруг. Когда глаза привыкли к темноте, он понял, что может собрать несколько клочков бумаги, горкой лежащих на снегу. Он подобрал один. Это была обычная офисная бумага с обрывками слов.
— Что это?
— Что-то важное. Когда я загнал его в угол, он постарался избавиться от этого листка.
Они присели, вглядываясь в снег и дрожащими руками собирая клочки бумаги. Хорошо, что нет ветра, подумал Ник. Они собрали все, что удалось найти, стряхнули снег и уложили в кармашек рюкзака Ника. Эмили с сомнением посмотрела на эти намокшие обрывки размером с конфетти.
— И вы думаете, это нам чем-то поможет?
Ник поморщился. Свет города, отражаясь от снега, придал его лицу какое-то дьявольское выражение. «Я собираю отдельные части в одно целое».
— У нас есть способ. Справимся.
LVI
Мы разъединим все на части и соберем заново.
Освобождая зверей из плоской клетки их медной дощечки, Драх мог сделать любую карту по своему выбору. Даже если бы осталось всего одно животное, он мог бы множить его в нужном количестве на одну и ту же карту. Система являлась не только совершенной, но и бесконечно гибкой.
Идея эта была не новой. Зачатки ее возникли, когда мы разделили дощечку с индульгенцией на четыре абзаца. Но на этом мы не остановились. Как-то днем я насчитал три тысячи семьдесят четыре отдельных знака в индульгенции. Мы отольем их все отдельно и соединим на одной странице, словно тысячу душ одной церкви.
Гансу Дюнне этот план не понравился.
— Каждый раз, сталкиваясь с проблемой, ты предлагаешь решение, которое порождает новые проблемы, но не избавляет от прежней, — остерег он меня.
Однако он заработал на мне больше сотни гульденов, делая медные дощечки, которые рождали столько проблем, а потому я не обратил внимания на его слова.
Каспару идея тоже не понравилась.
— Ты ничего не видишь, кроме своих проблем. Хочешь забраться на гору, пересчитав камушки. Ты всю жизнь потратишь на усложнение этого ремесла до такой степени, что от него не будет никакого проку.
Поздним октябрем мы с ним шли по лесу, напоминавшему пожар: вокруг нас, подрагивая на ветерке, разными цветами горели листья — ярко-алым, красным, желтым и оранжевым. Время для путешествия было опасное.
— Но даже если тебе что-то и удается, то все оборачивается так, как с зеркалами, — корил меня Каспар.
После смерти Андреаса Дритцена произошло много событий. Его брат Йорг подал в суд, прося признать его участником нашего партнерства, — и проиграл. Судья присудил ему пятнадцать гульденов. Паломничество в Ахене прошло, святыни убрали еще на семь лет. Какое-то число зеркал, которыми улавливались священные лучи, было куплено у меня. Но не много. Во-первых, нам пришлось продать немалую часть наших металлов для уплаты процентов по моим долгам. Во-вторых, нас одурачил капитан барки, и к тому же с нас неоднократно сдирали грабительские пошлины, а потом на каждой излучине нас ждали представители ахенской гильдии. К тому времени, когда все завершилось, водопад олова и свинца, который я приготовил, чтобы запрудить Рейн, иссяк до ручейка. Приток золота ко мне претерпел такую же судьбу. После того как я оплатил все расходы, рассчитался с инвесторами и долгами, включая и пятнадцать гульденов Йоргу Дритцену, остались кошкины слезы.
Каспар ужасно не любил, когда на его замечания не реагировали. Он попытался в третий раз.
— И отправляться в путь в такое время — чистое безумие. Я слышал, что неделю назад Брейсгау сровняли с землей. Они там запалили деревню и зажарили всю живность на углях. Говорят, что и жителей зажарили, а потом и сожрали.
Меня пробрала дрожь. Вот уже несколько месяцев местность вокруг Штрасбурга была наводнена дикарями, арманьякцами[37] или «дурачками», остатками великой армии, которая мародерствовала по всей Европе, служа то одному герцогу, то другому. Нечестивым сговором французского короля, германского императора и Папы Римского они были направлены в Швейцарию на разграбление Базеля: король хотел избавиться от них, император планировать присоединить к своим владениям Швейцарию, а Папа спал и видел, как положит конец собору, который Эней и его единомышленники проводили вот уже десять лет. Швейцарцы встретили их во всеоружии и ценой немалых жертв нанесли им поражение. Оставшиеся арманьякцы бежали, мечом и огнем прошлись по берегам Рейна, устроив бойню, равную — по слухам — только апокалипсису. На окраинах Штрасбурга они появились весной. Много тысяч людей погибли.
Лес потерял свою красоту. Я вглядывался в чащу, пытаясь увидеть, что там мелькает за пламенеющей листвой.
— Ник? Что, черт побери, с тобой случилось? До меня доходят всякие дурные вести.
Урзред Некромант расхаживал по своей берлоге перед ревущим костром. В углу покорно стоял стреноженный единорог.
— Долгая история. Мне нужна помощь.
— Ты где?
— В Страсбурге.
— Это что, в Кентукки?
— Во Франции.
— Так. — На восковом лице Урзреда застыла ухмылка. — Я, понимаешь, сейчас далековато от Франции.
— Слушай, мне нужен сканер с высоким разрешением и быстрый канал передачи данных. Быстрота должна быть максимальная. Я подумал, ты, может, кого знаешь.
Урзред постучал своим посохом по каменному столу, высекая синие искры.
— Ну, Ник, ты и задачки ставишь. Который там у тебя час?
Ник посмотрел на часы.
— Девять вечера.
— Ник, это выходит за рамки приличий. — Пауза, потом брюзгливый вздох. — Ладно, посмотрю в контактах, есть ли у меня знакомые французы, страдающие бессонницей и менеджерствующие в центрах по сбору и обработке информации. И с нюхом на беглецов от правосудия. Подожди.
Урзред исчез, оставив после себя облачко дыма. Ник вытащил наушник из уха и оторвал взгляд от компьютера. Вместо затянутых паутиной стен и клубящегося тумана в башне некроманта теперь все было густо замазано красной краской и стоял плотный сигаретный дым, точно в подпольном баре на набережной Сен-Жан. Другие посетители казались Нику такими же необычными, как и все в «Готической берлоге»: пирсинги во всех мыслимых частях тела, волосы, выкрашенные в красный, алый или зеленый цвета, стальные цепи на шеях и поясах. По виду и не скажешь, что кто-то из них пришел воспользоваться бесплатным беспроводным Интернетом.
— Ты уверен, что сейчас подходящее время для компьютерных игр? — спросила Эмили. Она сидела рядом с ним на потертом диванчике, потягивая «Джек Дэниелс» и запивая колой.
— Знаешь такой девиз: «Сеть есть компьютер»?
Она отрицательно покачала головой.
— Ну, говоря человеческим языком, Сеть есть Рэндал. Урзред. Если нам кто и в состоянии помочь, то Рэндал, вероятно, его знает.
— Не понимаю. У нас тут есть подключение к Интернету.
— Но скорость очень низкая. А нам нужно просканировать картинки. Это невозможно сделать камерой мобильного телефона.
На экране компьютера из ниоткуда возник Урзред. Ник снова взял наушники, стараясь не замечать насмешливых взглядов, которые бросали на него окружающие.
— Нашел, — хвастливо сказал Урзред. — Ты знаешь такое место — Карлсруэ?
— Нет.
— Это в Германии. Судя по «Интервебу» — в часе езды от того места, где ты находишься. Hochschule fur Gestaltung.[38] Это что-то вроде технического колледжа. Там на факультете информатики есть одна дева — Сабина Фриман. Она тебе поможет.
Ник помедлил.
— Туда можно добраться без машины?
— Эй, слушай, я тебе что — бюро обслуживания? — Урзред подошел к большой книге, лежащей на пюпитре в виде крыльев летящего орла. — Значит, есть поезд из Страсбурга во Франкфурт с остановкой в Карлсруэ. Отправление в двадцать один пятьдесят. Тебе сказать, где там вагон-ресторан?
— Найдем. — Ник протянул руку и захлопнул крышку компьютера. — Но мне нужно, чтобы ты организовал еще кое-что.
Какие бы опасности ни крылись в лесу, мы добрались до места живыми и невредимыми. Шлеттштадт был ничем не примечательным городком в двадцати милях от Штрасбурга вверх по Илю. Как и все города в те дни, он пребывал в состоянии осады. На стенах стояли стражники, а ворота нам открыли, только убедившись, что у нас нет оружия. Мы шли по петляющим улочкам вверх по холму к церкви, всюду встречая недоверчивые взгляды.
— Ты обратил внимание, что ювелиры всегда открывают свои лавки поближе к церкви? — пробормотал Драх. — Иисус проповедовал бедность, призывал отказаться от земных благ.
— Ты потише, — остерег я его. — Достаточно того, что нас принимают за шпионов арманьякской шайки, так ты еще ведешь разговоры, как еретик из братства Свободного духа.[39]
Мы нашли то, за чем пришли, в доме с остроконечной крышей, выкрашенном в красное между высокими балками. По большей части все, что я увидел, было знакомо по другим ювелирным мастерским: инструмент на стенах, ларцы с бусинами и проволокой, пластины, сверкающие между витринами, остатки амальгамы и расплавленных металлов.
Но все это было покрыто пылью. Не поднимался дым из трубы в задней части дома, не стучали молотки по наковальням. Времена для ювелиров были неподходящие — они не могли работать с золотом, когда все оно было спрятано под матрасами или половыми досками.
Я облокотился на пустой прилавок и заглянул внутрь. На табуретке сидел человек — он снимал со стержня кольца и полировал их одно за другим.
— Тебя зовут Готц? — спросил я.
Он кивнул. Ему было лет тридцать, из-под копны каштановых волосы на меня смотрело худое лицо. Я представился.
— Я член гильдии ювелиров Штрасбурга — видел там твою работу. Брошь с изображением Христа на кресте.
Эта брошь принадлежала Андреасу Дритцену. Его брат выставил ее на продажу в лавку после смерти Андреаса. Осторожными расспросами я выяснил, кто ее изготовил.
— Надпись сделана очень изящно. Такая аккуратная.
Он молча выслушал комплимент.
— Я полагаю, ты выбиваешь буквы пуансонами.
Подозрительный взгляд. Я продолжил благожелательным тоном.
— Я не хочу выведывать твой секрет. Я хочу его купить.
Я положил на прилавок мешочек с монетами.
— Я хочу, чтобы ты мне изготовил набор пуансонов точно таких, какие делал для себя.
Готц посмотрел на мешочек, но не прикоснулся к нему.
— Я могу изготовить для тебя пуансоны. — Он помедлил. — Но не совсем такие, какие делал для себя.
— Что ты имеешь в виду?
Он осторожно подбирал слова.
— Тебе нужны пуансоны для набивки букв в металле. У меня таких нет.
— Но брошь…
— Ты можешь обыскать всю мою мастерскую, но не найдешь ни одного буквенного пуансона.
Я попытался вспомнить все, что знал о надписи на броши.
— Но ведь ты не гравировал эту надпись.
Он отодвинул мешочек с деньгами в мою сторону.
— Я, пожалуй, промолчу.
Разочарованный и раздосадованный, я уже был готов развернуться и уйти, но сияние золота в его шкафу привлекло мое внимание. Я посмотрел сквозь освинцованное стекло.
— Можно посмотреть этот кубок?
Я видел его сомнения, но мешочек оставался лежать на прилавке, а я, вероятно, был его единственным клиентом за всю неделю. Он открыл шкаф и протянул мне кубок высотой около шести дюймов, с пузатой ножкой, инкрустированной гранатами. Вокруг основания была надпись — стих из Евангелия от Иоанна.
Я несколько мгновений разглядывал чашу, вдавливая пальцы в резкие линии надписи. Они были прямые, чистые — гравировкой сделать такое невозможно. Они наверняка были выбиты. Но Готц утверждал, что у него нет буквенных пуансонов.
Я поставил кубок и взял мешочек.
— Спасибо.
Такси довезло их до Hochschule fur Gestaltung. В темноте Ник разглядел лишь несколько скучных прямоугольных зданий в окружении деревьев. Сабина Фриман стояла у двери — ждала их. Это была стройная, голубоглазая и загорелая блондинка, ее коротко стриженные волосы торчали над ушами наподобие миниатюрного козырька. Несмотря на холод, на ней были только оливкового цвета безрукавка и брюки карго.
— Странник прибыл, — сказала она на идеальном английском со скандинавской четкостью. — Как доехали?
Она провела их внутрь. Даже в это время в коридорах толпились студенты. Здесь было тепло, светло и чисто — он не чувствовал себя в такой безопасности лет сто.
— Рэндал сказал мне, что вам нужно.
Она отперла дверь одним из ключей со связки, висевшей у нее на поясе, и они оказались в маленькой комнате без окон с компьютерным монитором и сканером на раскладном пластмассовом столе.
— Разрешающая способность этой штуки две тысячи четыреста точек на дюйм. И у нас есть прямой выход на скоростной канал передачи данных.
— Отлично. Можем мы начать со сканера?
Сабина подняла крышку и протянула руку. К ее явному удивлению, Ник засунул руку в карман и вытащил нечто похожее на пачку поздравительных открыток.
— Вы забыли поздравить кого-то с днем рождения?
Ник перевернул одну из открыток, показывая ей обратную сторону. На глянцевой красной открытке была целая мозаика крохотных клочков бумаги.
— Нам нужен был фон с высокой отражающей способностью. В киоске на вокзале ничего другого не нашлось.
В вагоне, к счастью, почти не было народа, и если их занятие и вызвало удивление, то всего у нескольких пассажиров: они с Эмили всю дорогу наклеивали клочки бумаги на поздравительные открытки.
— Это облегчит сканирование.
Сабина положила открытки на стекло сканера и опустила крышку. Аппарат ожил и загудел, зеленоватая полоска медленно двинулась вдоль планшета. На мониторе появилась многократно увеличенная картинка обратной стороны открытки.
— Теперь их нужно загрузить, — сказал Ник. Он сел на металлический стул. — Потом начнется самое интересное.
Сабина наклонилась над его плечом, рассматривая картинку на экране.
— И как же эта штука работает?
— Мы загружаем эти картинки на сервер, где размещена моя программа. Она выбирает бумажные фрагменты и преобразует их в отдельные образы. Потом анализирует по форме разрыва, частям букв или слов и пытается собрать в одно целое. Это что-то вроде головоломки.
Эмили смотрела на компьютер так, словно перед ней был какой-то инопланетный объект.
— А на своем ноутбуке вы это не можете сделать?
— Для этой задачи требуется обработка слишком большого массива информации — это не по силам домашнему компьютеру. — Ник открыл браузер и набрал адрес. — Это все равно что пытаться просчитать все возможные варианты окончания шахматной партии, но с тысячами разных фигур. Такого рода работа должна выполняться на мощных серверах. В данном случае это серверы той организации, которая финансирует мои исследования.
— И что это за организация?
— ФБР.
Даже холодная сдержанность Сабины дала трещину.
— Вы хотите взломать компьютерную сеть ФБР? Отсюда?
— Я ничего не собираюсь взламывать. Я войду туда через парадную дверь со своим логином и паролем.
Сабина подозрительно посмотрела на него.
— Рэндал сказал, что у вас сейчас вроде бы какие-то неприятности с полицией.
— Речь идет о полиции Нью-Йорка. Та часть ФБР, которая финансирует меня, очень далека от подразделений, разыскивающих преступников. Если нам очень повезет, то правая рука, возможно, никогда не сообщит левой о происходящем. И потом, они меньше всего ожидают, что я появлюсь там.
— Может, до них уже дошло. — Эмили сложила руки на груди и отошла в конец комнаты.
Сабина стрельнула взглядом в нее, в Ника.
— Принести чего-нибудь?
— Чего-нибудь с кофеином. Ночь будет долгая.
Сабина вышла. Минуту спустя Эмили снова вернулась к компьютеру посмотреть, что делает Ник. К своему удивлению, она увидела, что картинка со сканера сменилась густым лесом, по которому Ник мышкой вел одноглазого человека в сером плаще и бронзовом шлеме.
— «Готическая берлога»?
Ник, не отрывая глаз от компьютера, сказал:
— Наши противники — уж не знаю, кто они — отслеживали каждый наш шаг. — Эмили заметила, как побелели костяшки пальцев его руки, держащей мышку. — Я не хочу, чтобы Сабину постигла участь брата Жерома, если они выследят нас здесь. Поэтому я иду кружным путем.
На экране Странник вышел на полянку, в центре которой рос громадный дуб. Он казался очень древним — ветки его провисли, а морщинистая кора была изъедена болезнями. Клубок кривых корней, похожих на кабели, уходил в землю у его основания.
— Ты пришел. — Урзред Некромант вышел из-за дерева. Он выглядел удрученным.
— Ну, у тебя получилось?
— Я тебе не рассказывал о том случае, когда ко мне наведалось ФБР? Мне тогда было шестнадцать. — Урзред пристально рассматривал листья на одной из низких веток. — Не самое лучшее время в моей жизни.
— Тебе нужно только довести меня до парадной двери.
— Да все уже сделано. — Урзред показал на основание дерева, где здоровенный корень расходился, словно раздвоенное копыто. Он раздвигал землю в стороны, оставляя в вилке треугольную дыру. — Шуруй вниз.
Странник прыгнул. Нора поглотила его, и экран почернел. Ник ждал, что будет дальше. Зеленый диод на сетевой карте компьютера бешено замигал, но экран оставался черным. Неужели Рэндал напутал?
— Что — должно что-то случиться?
— Я попросил его установить безопасную связь с серверами ФБР в Вашингтоне. Надеюсь, таким образом мы останемся невидимыми для преследователей. — Ник забарабанил пальцами по столу, глядя на экран. Но ничего, кроме собственного отражения, он там не видел. — Если только мы туда попадем.
Экран засветился голубым цветом, появилась государственная печать и надпись наверху: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ. Ник и представить себе не мог, что когда-нибудь его так обрадует появление этой страницы. Он набрал пароль и затаил дыхание.
Пароль принят
Картинка на экране снова изменилась — появилась таблица проводника. Ник кликнул по одной из папок, нашел файл. Диоды на сетевой карте замигали, словно захлебываясь, а по экрану поползла зеленая полоска, показывая процент загрузки файла.
— И сколько придется ждать? — спросила Эмили.
— Ну, может, полчаса на загрузку. А потом… — Ник пожал плечами. — Программа написана так, чтобы одновременно обрабатывать несколько массивов поврежденных материалов, поэтому при одной задаче она должна работать быстрее. С другой стороны, мы не знаем, все ли у нас обрывки, не знаем, насколько они намокли в снегу. И остается вопрос: что первоначально было на этом листе бумаги. Чем более детализировано изображение, в особенности если мы имеем дело со словами, тем легче сформировать алгоритм.
— Ник, ты здесь? — Из динамиков компьютера раздался отделенный от тела голос Рэндала. Ник приблизился к микрофону, который еще раньше вставил в порт.
— Сработало идеально.
— А я тебе говорю — нет. Кто-то засек это соединение. Наверное, ты привел в действие какое-то охранное устройство, когда вошел в систему.
— Следят из Вашингтона?
— Не похоже. Сколько тебе еще нужно времени?
Ник посмотрел на строку состояния.
ЗАГРУЗКА ФАЙЛА — ЗАВЕРШЕНО 12 %
— Еще нужно какое-то время.
— Без толку потраченное время, — проговорил Каспар.
Но я увидел, как, сказав это, он стрельнул в меня глазами — он всегда прощупывает.
Я подыграл ему.
— А я считаю, что это было полезно.
Краткая пауза, во время которой он делает вид, что не хочет знать, а я — что не хочу говорить.
— Это почему ты так считаешь?
— У всех букв разные очертания. Но каждая состоит из гораздо меньшего числа основных составляющих. Палочка, точка, кривая. Я так думаю, что с набором из шести, максимум десяти пуансонов можно выбить любую букву.
Драх фыркнул.
— Все меньше и меньше. Ты свел страницу к словам, потом слова к буквам. Теперь хочешь буквы свести к линиям. А потом тебе придет в голову каждую линию формировать из отдельных зернышек металла. Но ты по-прежнему не знаешь, как сделать так, чтобы все это работало.
— Готц знает.
— Тогда почему ты не нанял его?
— Может, еще и найму. — Дюнне я уже был сыт по горло. Я подозревал, что он давно перестал верить в наше предприятие и теперь рассматривал его только как источник легких денег, который ради его блага никогда не должен иссякать. — Но сначала я должен знать, чего хочу от него.
Я вздохнул. От попытки оценить весь проект на каждом из его уровней, от законченной дощечки до тончайшей загогулины каждой буквы, у меня мозги вывернулись наизнанку. Каждый уровень зависел от других, и малейшее изменение в одном влекло за собой изменения во всех. Это было все равно что представить себе архитектуру собора, держа в уме положение каждого камня в его стенах. Иногда я прозревал гармонию целого или ощущал его высокое значение. Но чаще у меня от этого болела голова.
— Давай двигаться назад.
Каспар оглянулся на часовую башню.
— Мы и половины не успеем пройти, как стемнеет.
— Найдем гостиницу.
Мы вышли из городских ворот и направились назад по дороге в Штрасбург. Высокие тучи заволокли небо. В отсутствие солнца листья уже не казались такими яркими — просто пожухлыми. И оттого настроение у меня испортилось. Я смотрел на их морщинистые поверхности, на монотонный цвет, сменивший глянцевую зелень юности, и видел в них собственную судьбу. Мешочек с золотом свинцовым грузом висел у меня на шее.
Мы прошли всего ничего, когда к журчанию реки и шелесту листьев добавился новый звук. Отрывистое цоканье копыт, сопровождаемое неразборчивыми голосами. Мы с Каспаром переглянулись и, бросившись прочь с дороги, спрятались за двумя могучими дубами. Я вцепился в мешочек у себя под рубахой, пытаясь разглядеть, кто скачет по дороге.
LVII
Карлсруэ
ЗАГРУЗКА ОКОНЧЕНА
— А теперь самое трудное.
Ник глубоко вздохнул и отстучал несколько команд на клавиатуре. Иконки файлов исчезли, экран засветился дымчато-алым. Одно за другим, словно капли дождя на стекле окна, появились белые пятна. Некоторые сжались и исчезли, другие собрались в пучки и распределились по экрану. Это зрелище зачаровывало.
— Красиво, — сказала Эмили. — Это то, что делает программа?
Ник ударил по клавише. Экран мигнул и почернел.
— Это всего лишь визуализация. Люди, которые выписывают чеки, хотят видеть такие штуки. Благодаря им поступают гранты, но они замедляют важную работу.
Эмили с тревогой посмотрела на часы.
— Нам обязательно ждать здесь? Нельзя оставить программу в действии, а потом получить результат где-нибудь в другом месте?
— Она так не работает. Фэбээровцы начинают дергаться, если конфиденциальная информация остается без присмотра. Даже на машине. Если ты выходишь из системы, то отключается питание.
— Значит, мы должны просто сидеть здесь?
Ник оттолкнул стул от стола и открыл банку с колой.
— Можете пока, если хотите, познакомиться с необъятным миром «Готической берлоги».
Он нажал еще одну клавишу, и они тут же вернулись в лес. На краю полянки Урзред почесывался резкими, повторяющимися движениями, означавшими, что у Рэндала есть еще какая-то информация.
Эмили посмотрела на переливающийся лес.
— И что, все видеоигры обеспечивают вход в ФБР через заднюю дверь?
— Рэндал — маг семьдесят первого уровня. — Ник посмотрел на Эмили и понял, что это не произвело на нее никакого впечатления. — А еще он делал кое-какую работу для тех, кто изготовил «Готическую берлогу». У него много возможностей.
— И куча проблем.
Странник повернулся. Урзред появился у него за спиной, явно утративший собственное «я» и целиком захваченный Рэндалом.
— Дело плохо. Кто-то уже сидел стерег — ждал, когда ты выйдешь на этот аккаунт. Они пытаются погасить передачу. Массивная атака.
— Это что значит? — спросила Эмили.
Ник прикрыл рукой микрофон.
— Это значит, у них целая сеть зомби-компьютеров, которые они заразили вирусом, и все эти зомби одновременно пытаются установить связь с сервером ФБР. — Он задумался на секунду. — Представьте, что у вас есть фонтан, куда люди приходят напиться. Пока все это делают по очереди, никаких проблем не возникает. А теперь представьте, что к фонтану бросается обезумевшая толпа и все отталкивают друг друга, пытаясь получить свою каплю воды. В конечном счете их собирается столько, что они блокируют трубу и вода оттуда вообще перестает течь. Труба засоряется или даже разрывается, и все приходит в негодность. Именно это они и пытаются сделать.
— И у них получится?
— Они уже обвалили сайт ФБР, — раздался из громкоговорителей голос Рэндала. — Теперь пытаются вывести из строя нас.
— Как ты думаешь, им удастся отключить программу?
— Сомневаюсь. Им нужно, чтобы ты оставался в Сети.
— Зачем?
— Чтобы узнать, где ты.
Из-за поворота дороги показались кони. Оба всадника в длиннорукавных кольчугах были вооружены копьями. Никаких гербов я на их одежде не заметил, хотя знаки теперь мало что значили. Многие рыцари, примкнув к арманьякцам, превратились чуть ли не в разбойников.
Но всадники оказались всего лишь авангардом. За ними шла пешая толпа — мужчины и женщины, они двигались плотной группой, смеялись и разговаривали. Их было дюжины две. Многие держали посохи в руках и были одеты в короткие накидки с поднятыми островерхими капюшонами — осенняя прохлада давала о себе знать. Это была группа паломников, видимо направляющихся в церковь Святого Теобальда неподалеку от Штрасбурга.
Облегченно вздохнув, я вышел на дорогу. Один из всадников увидел нас и пришпорил коня. Я остался на месте, осеняя себя крестным знамением. Он остановился в двух шагах передо мной.
— Кто вы?
— Путники. Идем в Штрасбург. Позвольте нам идти с вами.
Из толпы паломников вышел толстый священник и спросил дружелюбно:
— Заплатить можете?
Я от неожиданности не мог сказать ни слова.
— Дорога опасная. — Он показал на двух всадников. — Мы наняли эту охрану за свои денежки. Если вы хотите находиться под их защитой, то должны сделать свой взнос.
Страх был сильнее моего чувства попранной справедливости.
— Мы можем заплатить.
Он протянул руку.
— Сейчас.
Я засунул руку под рубаху, пытаясь нащупать медную — не золотую — монетку. Паломник схватил монетку, понюхал ее, потом указал на Каспара.
— И одну за него.
— Когда доберемся до места.
Дверь шумно распахнулась, и задремавший было Ник от неожиданности чуть не упал со стула. Сабина вошла в комнату, неся еще две баночки колы. На экране Урзред и Странник ходили по поляне концентрическими кругами, купаясь в серебряных лучах невероятно яркой луны.
— Далеко продвинулись?
Ник потер глаза.
— Не знаю. Который теперь час?
— Четыре.
— Черт.
Он открыл банку, пытаясь вспомнить, о чем он думал, перед тем как уснуть. Он был уверен — это что-то важное.
— Как только отключимся от сервера, будем быстренько сматываться отсюда. И вы тоже. У нас на хвосте плохие ребята, и вам тоже нечего тут находиться, когда они объявятся.
Сабина кивнула.
— У меня машина.
— Отлично.
— Ник? — пролаял из динамиков голос Рэндала. — У нас проблема. Они нашли слабое звено.
Ник одним движением надел наушники.
— Что ты хочешь этим сказать — «слабое звено»?
— «Готическая берлога». Понимаешь, она тут действует в качестве промежуточного звена. Они не могут врезаться в соединение между центром обработки данных и игрой или между игрой и местом, где находишься ты. Но им ничего не мешает проникнуть внутрь.
В громкоговорителях послышался стук копыт. Странник повернулся. В лесу что-то двигалось.
— Да, ловко.
Из леса на чудовищном коне выскочил рыцарь. Лунный свет играл на жутковатого вида шипах, которыми щетинились его черные доспехи, на каждом красовалась неровная ленточка, трепыхавшаяся на ветру. Ник, который видел такие штуки и прежде, подозревал, что это лоскутья кожи поверженных врагов. На поясе рыцаря висел целый маленький арсенал — моргенштерны, мечи и топоры, а в правой руке всадник держал угрожающе длинное копье.
Странник вытащил меч.
— Рыцарь смерти — не новый персонаж. Они уже, кажется, бывали здесь прежде.
— Возможно, купили у какого-нибудь корейского парнишки на eBay. — Урзред Некромант сжал кулак. Из его посоха вырвалось туманное облачко и приняло форму светового купола, который окутал Урзреда.
— У них все равно нет ключа — они не смогут этим воспользоваться.
Рыцарь развернул коня. Внезапно животное поднялось на дыбы. Из его рта вырвался клуб огня, распространившийся по всей поляне языками пламени. Земля почернела, кусты вспыхнули ярким огнем.
— Может, они и парнишку прикупили, — сказал Ник.
— Это имеет какое-то значение? — Эмили уселась на стул рядом с ним. — Что происходит, если погибаешь в игре?
— Выбываешь. И можешь вернуться только через сорок восемь часов.
— И это так плохо?
— Наша связь с серверами ФБР установлена через эту игру. Если мы погибнем в «Готической берлоге», то будем отключены и программа закроется.
— Еще хуже. — Рэндал отступал к дереву, медленно двигался бочком, чтобы волшебный щит поспевал за ним. — У меня нет времени обезопасить соединение с этого конца. Если они проникнут сюда, то быстро вычислят ваше местонахождение.
— И что нам делать?
— Не погибать. И не впускать их в нору под деревом.
Рыцарь опустил копье и ринулся в атаку.
Мы остановились на перекрестке дорог в лесу. Приближалась ночь. Паломники в течение последнего часа помалкивали, торопясь к любому повороту дороги — может быть, за ним покажется какое-нибудь жилье. Всадники, ехавшие впереди, посовещались о чем-то с толстым священником. До меня донеслись обрывки раздраженного разговора. Один из них вспомнил о гостинице еще в миле пути, другой говорил, что гостиницы там нет, а вот эта уходящая в сторону дорога ведет в деревню, где они могли бы найти приют. Паломники начали беспокоиться. Солнце опустилось за деревья.
В конечном счете было решено направиться к деревне. Мы свернули на ухабистую дорогу, которая вела через лес к реке, и вскоре почуяли теплый запах дымка, обещавший горящий очаг и жареное мясо. Мы прибавили шагу, чтобы опередить темноту и чудовищ, которых она могла принести с собой.
— Слушай, — сказал Каспар.
— Что? — Я напряг слух. Но слышал только журчание воды в реке и шелест листвы на ветерке. — Я ничего не слышу.
— Сейчас закат. Почему не кричат петухи? Где лающие собаки и плачущие дети? Церковные колокола?
Внезапно тишину разорвали крики. Всадники пришпорили лошадей, а паломники поспешили за ними, боясь остаться без защиты. Мы с Каспаром шли в хвосте и тоже прибавили шагу. Еще один поворот дороги — и мы увидели деревню.
Она была небольшой — с десяток домов и сараев вокруг церквушки. За церковью над водой на сваях стояла мельница. Деревня была пуста. Единственным звуком был скрип мельничного колеса, вращаемого речным потоком.
Когда мои глаза привыкли к сумеркам, я понял, в чем дело. Деревня была разграблена. Разбитые двери висели на перекошенных петлях. Земля у мельницы была словно под снегом в том месте, где разрезали и рассыпали мешок с мукой. Кое-где белый покров был окроплен кровью. Дымок, который мы ощутили, исходил не от кухонных плит или духовки булочника — это тлели головешки, оставшиеся от домов.
Наши ратники объехали деревню, держа мечи наготове. Они заглядывали в дома через разбитые окна и распахнутые двери. Большинство паломников сбились в кучку перед церковью, но несколько человек отважились пройти по деревне. Одна из них — женщина в белом платье — направилась в церковь. Может быть, она хотела помолиться, а может, думала найти там укрытие, потому что у одной только церкви все еще сохранялась крыша.
— А где жители? — недоуменно спросил Каспар.
— Наверное, убежали.
Каспар указал на красные пятна в мучной россыпи.
— Кто-то не успел.
Подскакал один из всадников. Под шлемом лица его было не разглядеть, но голос всадника прозвучал мрачно:
— Нужно уходить отсюда.
— Уходить? — Несмотря на весь ужас этого места, такая перспектива возмутила толстого священника. — Уже почти стемнело. Кто знает, где те люди, которые сделали это? Если мы тронемся в путь сейчас, то можем наткнуться на них в темноте — и тогда погибнем все.
— Пожарища еще не успели остыть. Они, вероятно, ушли недалеко и могут вернуться. Мы нашли трех мулов, привязанных за конюшней.
— Я бы лучше…
Вопль разнесся по деревне. Священник вскрикнул и упал на колени. Паломники, сбившись в тесную кучку, озирались. Но это был скорбный плач, а не боевой клич. Он донесся из церкви. Женщина, которая зашла внутрь, стояла теперь на пороге. Юбка ее была забрызгана кровью, на лице застыла гримаса страдания.
— Не входите сюда! — прокричала она. — Не смотрите на это.
Не обращая внимания на ее предупреждение, несколько паломников бросились к церкви. Каспар дернул меня за руку.
— Сколько денег в твоем мешочке?
— Достаточно, чтобы сделать меня привлекательным для убийц.
— Может быть, нам заплатить ратникам, чтобы они проводили нас до Штрасбурга? Если бы они подсадили нас к себе на коней…
Кучка паломников начала разделяться: кто-то пошел смотреть на то, что творилось в церкви, кто-то — в пустые дома, кто-то двинулся к сараю, вероятно надеясь прибрать к рукам мулов. Над всей этой неразберихой возвышались двое взволнованно переговаривающихся всадников.
Увидев нас, они замолчали.
— Чего вы хотите?
— Помочь, — сказал Драх.
— Меч у тебя есть?
— Не меч, а план. Этот сброд не может защитить себя своими посохами и складными ножами. Наша единственная надежда — скакать за помощью.
Всадники обменялись взглядами, понятными только им двоим.
— К счастью, у моего друга есть мешочек с золотом. Если вы довезете нас до ближайшего города, то мы смогли бы нанять там ратников, чтобы вызволить этих. Но мы должны торопиться, прежде чем арманьякцы пронюхают, что мы здесь.
— Здравый план, — сказал один из всадников. — Поделиться им со священником?
— На это нет времени.
— Тогда поехали. Мы… Господи Иисусе!
Его конь вдруг, жутко заржав, встал на дыбы. Кровь, черная в сумерках, потекла по его груди. Стрела арбалета вонзилась в него ниже шеи. Мы с Каспаром отпрыгнули в сторону, чтобы он не зашиб нас копытами — конь замолотил ногами и рухнул на землю. К ржанию коня добавились крики всадника, придавленного телом животного.
Со стороны леса донеслись яростные возгласы — арманьякцы ринулись в деревню.
Конь дохнул на них еще одной огненной струей. Купол-щит потускнел и замерцал, но выдержал. Как только пламя погасло, Ник бросился в атаку. Видеть ему мешал дым, поднимающийся над обожженной землей. Он разглядел перед собой гигантские копыта и прыгнул. Конь, защищаясь, встал на дыбы, замельтешил ногами, но пока еще он не успел перезарядиться, чтобы снова пыхнуть огнем.
Ник повис в воздухе. Он поднял над головой меч, а потом обрушил его, словно молот, на шлем черного рыцаря. Сила удара была такова, что Ника отбросило назад, и это дало ему возможность замахнуться еще раз, чтобы нанести сокрушительный удар по шее рыцаря, после чего он свалился на землю. Рыцарь пошатнулся.
Взгляд Ника был прикован к углу экрана, где по цветной строке состояния можно было определить, сколько жизненной силы осталось у рыцаря. Ник выругался. Он лишь слегка поцарапал врага.
— Осторожно, смотри на коня! — раздался крик Урзреда.
Ник отпрыгнул влево и откатился в сторону. И вовремя.
Огненный смерч прокатился по земле, он был таким ярким, что Ник чуть ли не ощутил щекой его жар. Огонь настигал его и грозил поглотить через секунду.
Сверкнув синей молнией, он спрятался под куполом Урзредова щита. Пламя билось о щит, как волны прибоя, но не могло его прожечь.
— Ты должен прогнать его отсюда, — сказал Рэндал. — Долго мне этот щит не продержать. Я расходую на это всю свою силу.
— Я не могу до него добраться, пока он на этом коне.
— Ты помнишь того дракона в Башне Чарна?[40]
— Вроде как помню.
Несмотря на все происходящее, Ник обнаружил, что все еще может смущаться, ведя такого рода разговоры в присутствии Эмили. Было почти невозможно совместить эту строгую комнату, лампы дневного света и металлические стулья с отчаянной битвой, происходящей в мире фантазии на экране. Но и то и другое на свой манер было реальным.
Странник поднялся на ноги. Сунул руки в складки плаща и вытащил железный щит размером чуть ли не с него самого.
Он поднял щит и присел, готовясь к прыжку. Урзред у него за спиной, пошатываясь, переступал с ноги на ногу, дергался, словно марионетка на конце светового луча, исходящего из его посоха. Силы его были на исходе. Черный рыцарь видел, как слабеет Урзред, и изготовился к новой атаке. Из ноздрей коня хлынул дым, изо рта посыпались искры.
Урзред развернулся, утратил управление и рухнул на землю. Его посох упал рядом с ним. Рыцарь бросился в атаку. На его пути остался только Ник. Из-под копыт коня вылетала пыль. Земля вокруг сотрясалась. Еще несколько секунд — и Ник будет смят или насажен на копье черного рыцаря.
Он поднял меч, направил его на скачущего коня. Рыцарь увидел его. Ник мог поклясться, что услышал смех неприятеля. Против массы коня и длины копья его клинок был все равно что игла.
Пальцы Ника заболели, пока он выстукивал на клавиатуре сложные комбинации. Меч в руке Странника раскалился докрасна, а вскоре и добела. Луч света хлынул из кончика клинка, запульсировал, а потом в одно мгновение уплотнился до прочности стали. Меч превратился в копье. Странник упер рукоять в землю, а острие направил вверх.
Скачущий на него конь нанизался на копье, которое глубоко вошло в его грудь. Благодаря ограничениям игры рана оказалась несообразно бескровной. Конь по инерции долетел до щита Странника и сбил его на землю. Ника отбросило назад.
С жутким ржанием конь упал на колени. Черного рыцаря выбросило из седла. При падении он выронил копье, но зато в руке у него появилась теперь огромная дубинка.
Странника отбросило так далеко, что он оказался за спиной Урзреда, который все еще лежал, словно мешок костей. Черный рыцарь двигался вперед, он крутил дубинкой у себя над головой, производя жуткий звук. Ник потянулся к своему копью, но оно все еще было глубоко в груди коня.
Вдруг Урзред поднялся на ноги, из его пальцев вылетели молнии. Рыцарь отпрыгнул, но слишком медленно. Колдовские разряды Урзреда ударили ему прямо в грудь и отшвырнули на самый край полянки.
Урзред шагнул за ним, когда Ник вскочил и бросился извлекать свой меч-копье.
— Значит, он не такой уж непобедимый.
Строка состояния в уголке экрана Ника показывала, что проделана почти половина работы, и светилась теперь оранжевым светом. Черный рыцарь выдержал удар, но был повержен.
— Сколько еще тебе нужно времени? — спросил Рэндал.
Ник не ответил. Из леса донесся какой-то звук, словно рой насекомых усилил свой писк до леденящего кровь крика. Кроны деревьев задрожали, как будто их кто-то тряс изнутри.
Странник подобрал меч, прокрутил его вокруг запястья. Он знал, что это за звук. И припал к земле при виде авангарда армии гоблинов, высыпавших из-за деревьев.
Арманьякцы выскочили из леса, словно бежали с поля боя, бросая своих мертвецов. Полуобнаженные, измазанные грязью, одетые в разномастные чужеземные доспехи и вооруженные крадеными мечами, копьями, луками и ржавыми крестьянскими орудиями. Они с торжествующими воплями набросились на паломников. Толстый священник умер, пригвожденный к стене сарая копьем, прошедшим сквозь его брюхо. Один из его спутников попытался защититься посохом, но его сбили с ног. Арманьякцы отрубили его голову, словно цыплячью, подняли за волосы, а потом бросили на дорогу вслед пустившимся наутек женщинам. Одной из них голова попала в голень — она споткнулась и упала. Подняться она не успела, потому что арманьякцы налетели на нее.
Все произошло очень быстро. Второй всадник, который мгновение назад стоял рядом со мной, вдруг испарился — я только увидел, как, исчезая в лесу, сверкнула кольчуга, а следом припустили с полдюжины арманьякцев, сыпля проклятиями и камнями. Рядом со мной лошадь первого всадника билась в луже грязи и крови. Копыта умирающего животного молотили воздух с такой силой, что не было никакой возможности попытаться извлечь придавленного всадника. Мы, вероятно, и себя-то не могли спасти.
Издав предсмертный хрип, конь завалился на спину и затих. Я бросился вперед. Не обращая внимания на мольбу ратника, я схватил его упавший меч и бросился прочь. Я никогда прежде не держал в руках меч и даже понятия не имел, насколько он тяжел. Я тащил его по земле, словно плуг, а потом предложил Каспару.
— Не трать понапрасну время. — Он вытащил кинжал из складок своего плаща и выбросил ножны. — Нож у тебя есть?
— Только перочинный. — Я столько часов провел, терпеливо чиня ножом тростниковые или гусиные перья, даже не задумываясь о том, что от него может зависеть моя жизнь.
Многие паломники уже лежали убитые. Но несколько человек сумели организовать линию обороны в узком пространстве между двумя домами. Они отбивались от арманьякцев своими посохами, а один размахивал здоровенным садовым ножом, что кончилось для него плохо: его действия лишь привлекли к нему внимание еще большего числа бандитов.
— Мельница, — сказал я. — Она каменная — им ее не сжечь. Может, спрячемся там?
— Мы окажемся в ловушке, запертые рекой.
Я вспомнил, что Каспар боится воды. Но в темном лесу мы бы далеко не ушли. Прежде чем Каспар успел возразить, я припустил через площадь.
Схватка была отчаянной. Ник ссутулился над клавиатурой, молниеносно в определенной последовательности выстукивая по клавишам, отчего Странник совершал немыслимые пируэты и нырки. Ник не играл в «Готическую берлогу» несколько месяцев, но команды сохранились в его подсознании. На него наступали орды гоблинов, за которыми вышагивал туда-сюда черный рыцарь, руководивший их действиями.
Странник, сбив с ног одного гоблина, вонзил меч ему в спину, отразил удар мечом другого гоблина и в прыжке ушел от копья третьего. Приземлившись за спиной противника, он развернулся и одним ударом отсек ему голову. Справа от себя он увидел Урзреда, который кружился и прыгал, как танцор, отбиваясь от наседавших на него врагов. Кончик его посоха чадил волшебным огнем, и любой прикоснувшийся к нему гоблин отскакивал с ожогом.
— Держись ближе к дереву. — Голос Рэндала звучал спокойно, сосредоточенно.
На экране он сделал прыжок с переворотом в воздухе, его посох при этом описал полный круг. Ударная волна зеленого огня рябью распространилась от него, отбросив целую когорту окружавших его гоблинов. Их тела полежали на земле секунду-другую, а потом исчезли. Но на их место почти сразу же ринулись новые, изо всех сил стараясь оттеснить его от дуба.
Ник попытался перейти в наступление. Гоблины окружили его, нанося удары со всех сторон. Их генерируемая компьютером атака никак не захлебывалась, тогда как силы Ника были на исходе. Гоблин бросился на него, и Ник сделал нырок, чтобы уйти от удара и достать гоблина снизу, но ничего не произошло. Странник остался стоять на месте, неестественно неподвижный, абсолютно уязвимый.
Видимо, он нажал не ту клавишу. Он застучал по клавиатуре, выправляя ситуацию, но слишком поздно. Гоблин нанес удар Страннику прямо в живот — тот отлетел назад, размахивая руками. Ник попытался защититься мечом, но игра не отвечала на его отчаянные попытки. Его строка жизненной силы мигала красным. Гоблин поднял копье над плечом, намереваясь нанести смертельный удар.
С конца посоха Урзреда грянула молния — она подняла гоблина над землей, и тот, крутясь, отправился в небытие. Странник отпрыгнул назад, заколол очередного атакующего и повернул голову, чтобы поблагодарить…
— Урзред!
Черный рыцарь, увидев свой шанс, снова вернулся в бой. Армия гоблинов была похожа на псов у его ног. Он возвышался над Урзредом, размахивая дубинкой. Урзред повернулся, выставил перед собой посох, прокричал заклинание.
Но его силы после удара молнией еще не успели восстановиться. Дубинка с шипами обрушилась на его посох и разломала пополам. Находящиеся поблизости гоблины покорно отступили, образуя круг для двух единоборцев. Урзред устало вытащил меч.
— Возвращайся к дереву.
Урзреда на экране мотало, словно пьяного. Он нырял и крутился, уворачиваясь от сокрушительных ударов дубинкой. Судя по звуку, доносившемуся из динамиков, Рэндал был на пределе возможностей. Ник бросил взгляд на дуб. Над клубком его корней появилась сверкающая сфера, световой шар повис в ветвях, как запретный плод.
Вероятно, черный рыцарь знал, что это такое. Со свирепым криком он размахнулся дубинкой и ударил Урзреда сбоку по голове. Тот рухнул на землю. Гоблины радостно завизжали и бросились прикончить поверженного.
— Рэндал?
Ответа не последовало. Черный рыцарь направился к дереву, на ходу расшвыривая в стороны гоблинов. Ник проверил свои жизненные силы. Его аватар был побит и окровавлен, одежды порваны. Еще один удар — и ему конец. Между ним и деревом было не меньше полусотни гоблинов, а черный рыцарь уже добрался до дуба.
Мы проскользнули между двумя домами, присели за плетнем. Уже почти опустилась ночь, и схватка превратилась в движения неясных теней, сопровождаемые резкими вскриками. Некоторые из арманьякцев зажгли факелы, и в темноте появились окна, в которых были видны картины дикой жестокости.
Я услышал быстрые шаги слева от себя и пригнулся. Сквозь щель в корявом плетне я увидел бегущую женщину, на пятки которой наступали два арманьякца. В руках у одного была громадная дубинка, которой он весело размахивал на бегу. Она казалась слишком громадной, чтобы ею можно было размахивать с такой легкостью, но, приглядевшись, я увидел, что это лютня, которую он держит за гриф. Видимо, он прихватил ее в одном из разграбленных домов. Он еще раз замахнулся, но не попал в женщину — лютня ударилась о столб, которого он не заметил в темноте. С резким стонущим звуком лютня разлетелась на части. Он отшвырнул ее в сторону и продолжил преследование.
Наша дорога была свободна. Мы перепрыгнули через плетень и побежали по открытому пространству в направлении к мельнице. Ногой зацепившись за что-то, я чуть не упал. Страх, однако, гнал меня вперед. Серые призрачные облачка поднимались вокруг наших ног, когда мы пробегали по просыпанной муке. Наконец мы оказались внутри.
В мельнице пахло конюшней. Под ногами шуршала солома, а от пыли, висящей в воздухе, у меня запершило в горле. Я слышал у себя под ногами тяжкий скрежет камня, скрип осей, журчание воды. Мельница, как будто и не творилось вокруг этого ужаса, продолжала свой труд. Меня это странным образом успокоило.
Я пошатнулся и положил руку на плечо Каспара. Мы на ощупь двигались по захламленному помещению, стараясь не угодить в какой-нибудь механизм.
Наконец мы добрались до стены и пошли вдоль нее. Я нащупал дверь, раскрыл ее. В лицо мне ударил холодный воздух вместе с волной шума: треск, плеск и скрип мельничного колеса. Посмотрев вниз, я увидел серебряную пену там, где лопасти колеса взбивали воду.
— Нет, не сюда, — прошептал я.
Я оставил дверь открытой, чтобы внутрь пробивалась хоть та малость света, что была под открытым небом.
Внезапно внутри мельницы стало светло, как днем. Я, моргнув, повернулся. В дверях стояли два арманьякца. Один был горбатый громила с ястребиным носом и опухшими щеками, в одной руке он держал горящий факел, а в другой — топор. Его товарищ словно явился из другого мира — чистый ангел с мягкими волосами, отливавшими золотом в свете факела, маслянистой кожей и девичьими плечами. Странно было созерцать такую красоту в это ужасное мгновение.
Они сразу же увидели нас. Громила радостно вскрикнул. Ангел улыбнулся. Он поднял руки, и в свете факела я увидел, что они по локоть в крови. Он держал серп. Громила двинулся направо, перешагивая через обрушившиеся балки и обломки мебели. Ангел остался у двери наблюдателем. Улыбка не сходила с его лица.
Каспар поднял кинжал и двинулся навстречу громиле. Он поднырнул под вал все еще вращающегося мельничного колеса и обошел камень в середине. Мне бы нужно было помочь ему, но меня парализовал страх. Нож у меня в руке был бесполезен, как тростинка.
Громила наблюдал за приближением Каспара. Он не спешил. Мельники, вероятно, проводили какие-то ремонтные работы, когда появились арманьякцы, — на двух козлах лежала доска, которую уже начали пилить, — пила так и осталась в прорези. Доска образовывала естественное препятствие между громилой и Каспаром. Они смотрели друг на друга над этой преградой, как два кота. Каспар присел. Он казался резвее своего противника, хотя тот наверняка был опытнее.
Но возможно, громила уже пресытился убийствами. Презрительно глядя на Каспара, он опустил топор. Каспар поспешил воспользоваться этим и бросился вперед. В тот же момент громила, словно устав держать факел, выронил его из руки.
А потом начался кошмар огня и крови. Каспар, метнувшись вперед, поднял с пола тучу опилок, которые взвихрились и подхватили огонь факела. В мгновение ока облаком пламени взорвалась пыль. Каспар с криком приземлился в этот ад, отпрянул назад, ударился о торчащую доску, и его снова отбросило в огонь. Я побежал к нему.
Но я забыл о другом арманьякце, который, увидев мой порыв, двинулся с места и, приплясывая, вышел мне навстречу из-за вращающегося каменного колеса. На стене за его спиной дергались чудовищные тени. Он замахнулся серпом, целя мне в голову, но я успел отскочить назад. Этого почти хватило. Другая сторона серпа все же зацепила меня за щеку; вообще-то она должна была быть тупой, но ангел заточил и ее, поэтому обе стороны были остры, как бритва, и малейшее прикосновение к серпу могло лишить меня зрения.
Кровь потекла с моей щеки. Арманьякец двинулся мне навстречу. На фоне пламени за его спиной он был похож на саму Смерть. Слева от меня корчился в огне Каспар. Его крики были слышны даже за гулом пламени.
Я свалился на спину, и тут моя ладонь нащупала что-то твердое и тонкое на полу. Длинный гвоздь — вероятно, его уронил плотник. Я зажал его в кулак, просунув острым концом наружу через костяшки пальцев, а потом, видя приближающегося ангела, встал на колени. Он подумал, что я молюсь, и рассмеялся. Окровавленной левой рукой он осенил меня крестным знамением и поднял серп, собираясь совершить жертвоприношение.
Я бросился вперед, вытягивая руку к его башмаку. Он, наверное, решил, что я молю его о пощаде, и поэтому замешкался с ударом. Вложив всю силу в это движение, я вонзил гвоздь в его плоть — металл прошил насквозь его ногу и вонзился в пол.
Он завопил, бешено размахивая серпом. Но я уже откатился в сторону. Он бросился было за мной, но понял, что пришпилен к полу.
Я подбежал к Каспару. Половина его одежды обгорела, и я уже не мог разобрать, что там под обуглившейся материей — кожа, пепел, кость. Я перевернул его, пытаясь затушить пламя, но как я его ни перемещал, огонь, казалось переползал на другую сторону.
Пламя уже охватило половину помещения, поднялось неприступным валом. Единственным возможным путем отхода оставалась река. Я подхватил Каспара на руки и потащил к высокой двери. Стоило мне подняться, как дым ворвался в легкие. Голова закружилась, меня повело от нехватки воздуха, и я чуть не упал на беднягу Каспара. А он был почти без сознания.
Я оглянулся. Ангел все еще был там. Он освободился, оставив на гвозде шматок плоти, и теперь сквозь дым, хромая, двигался ко мне. В лезвии серпа в его руках отражались языки пламени. Внизу подо мной через открытую дверь я видел воду, крутящую мельничное колесо.
Я повернулся навстречу ангелу, встав между ним и Каспаром. Нож я уронил в огне и теперь был беззащитен. Он замахнулся на меня серпом, и я отступил, споткнулся о бездвижное тело Каспара и упал. Я раскинул в стороны руки, предполагая опереться о стену.
Но я ощутил только открытое пространство, жуткий ужас пустоты. Руки мои с отвратительным звуком ударились о колесо, и я камнем полетел в бурлящую внизу воду.
Экран потемнел. Ник, сидевший в кабинете без окон, вскрикнул от разочарования. Неужели гоблин убил его? На его строке состояния еще оставалась жизненная сила. Он оглянулся. Это было не медленное умирание, а гигантская тень, заполонившая небо. Когда солнце вернулось, он увидел громадного орлана, пикирующего на черного рыцаря. Выставленные когти глубоко вонзились в доспехи, пробив в них дыры.
Гоблины, оставив растворяющееся тело Урзреда, пустились в атаку. Орлан, взмахнув гигантскими крыльями, сбил их с ног, отбросил назад, на ряды у них за спинами.
Ник увидел проход. Гоблины были запрограммированы на противостояние наибольшей угрозе, и потому путь к дереву был открыт. Он побежал, отражая несколько оставшихся копий, пытавшихся вонзиться в него, отбивая другие, готовящиеся к удару. В углу экрана он увидел орлана — тот размахивал крыльями, отбрасывая гоблинов, которым удалось пробраться к нему. Черный рыцарь подхватил свое копье и, прицелившись прямо в сердце орлана, собрался метнуть его.
Птица поднялась в небо, неся в когтях двух вопящих и корчащихся гоблинов. Рыцарь метнул копье. Орлан попытался увернуться, но из-за огромных размеров был не очень резв. Копье попало в распахнутое крыло. Орлан дернулся, пошел вниз и упал на землю.
Черный рыцарь уже бежал со всех ног к дереву и тому призу, что висел на его ветвях. Но Странник был ближе. Он подпрыгнул над переплетенными корнями и схватил световой шар. Ветви хлестали его лицо, но оцарапать не могли. С криком ярости черный рыцарь раскрутил дубинку и швырнул ее, как молот, прямо в голову Странника. Внизу экрана появилось сообщение готическим шрифтом:
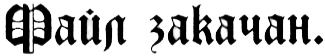
Ник нажал клавишу «выйти».
Течение было сильным, гораздо сильнее моих уставших членов. Мне требовались все силы, чтобы только держать голову над водой. Я кричал, пытаясь не потерять сознание, доказать темноте, что все еще жив. Я выкрикивал проклятия моему отцу — зачем он породил меня в этот мир. Я просил прощения у Каспара. Говорил ему, что люблю его.
Течение несло меня вниз, пока я не оказался у широкой излучины — здесь река замедлилась. Там на близком берегу я увидел мерцание света. Но для меня это было считай что поздно — я впал в ступор от холода, у меня не оставалось сил, чтобы выбраться. Но ради Каспара я должен был выжить. Последним усилием я заставил себя сделать несколько гребков к берегу, потом прошлепал по мелководью и наконец нашел место, где скот протоптал тропку к водопою. По этой тропке я поднялся наверх и свалился в грязь.
— Мы можем где-нибудь распечатать это?
Пальцы Ника стали бесчувственными, запястья после схватки ломило. Он оторвал взгляд от компьютера. У дверей, тяжело дыша, стояла Сабина.
— Ваш компьютер подключен к принтеру в моем кабинете.
Ник стукнул по клавише. Отодвинул стул, но Эмили уже была на ногах.
— Я схожу.
Сабина показала на кабинет по другую сторону коридора, пропустила Эмили, прислонилась к дверному косяку, сложив на груди руки.
— Кто был этот тип — черный рыцарь?
— Вы его видели? — В голове у Ника словно стучал барабан, стоило ему повести глазами, как боль отдавалась в висках.
Сабина повернулась и приподняла правую руку. Ник впервые заметил татуировку на ее голом плече. Гигантский орлан с расправленными крыльями и выпущенными когтями.
— Рэндал попросил вам помочь, если что.
— Спасибо. — Он сунул флешку в компьютер и скопировал файл. Он пока еще даже не посмотрел на него. — Если бы не вы — мы бы все потеряли. Правда, я пока не знаю, что именно.
— Ник! — Эмили протиснулась в комнату мимо Сабины. Рука ее, положившая на стол распечатку, дрожала. — Я знаю, что именно обнаружила Джиллиан.
LVIII
Окрестности Штрасбурга
Я встал на колени в часовне и начал молиться. Во всех нишах горели свечи, высвечивая раскрашенные ряды святых и пророков на стене. С купола над алтарем смотрел на меня Христос, прижимавший к груди огромную открытую книгу. При взгляде на Него я не мог сдержать слезы.
В ту ночь произошли чудеса, хотя до рассвета меня ждали и новые. Скот, протоптавший тропинку к реке, принадлежал монастырю, свет которого я и увидел с реки. Каким-то образом мне в темноте удалось пройти по полю до ворот. Поначалу их не хотели открывать — монахи думали, что это какая-то уловка арманьякцев, и, уж конечно, я должен был казаться им подозрительным, безумным существом, если заявился к ним в такое время. Наконец мое отчаяние убедило их. Все их кельи были переполнены, поэтому меня поместили в часовне.
После вечерней службы в воздухе все еще висел запах благовоний. Скоро наступит рассвет, и монахи вернутся к заутрене. А пока я был один.
Я молился. Молился так, как в детстве, когда еще думал, что у меня есть душа, достойная спасения. Я молился каждой клеточкой своего существа. Я опустошил себя, сделал сосудом для Господа. Я покаялся во всех совершенных мною грехах. Я просил прощения. Я поклялся никогда не творить никакого зла, жить безупречной жизнью. Только бы Господь спас Каспара.
Но я был плохой сосуд, треснутый и дырявый. Я наполнял его моими молитвами, но они проливались. В тишине часовни у меня возникали другие мысли. Прошлое протекало сквозь меня.
Слепец в Париже. «Ты знаешь, что такое на самом деле философский камень? Это эликсир, средство против всего больного».
Николай за столом в пустой комнате. «Ты никогда не оставляешь меня, Господи, но охраняешь на каждом повороте с самой нежной заботой».
В передней части церкви стояла кафедра. На ней были вырезаны сцены творения — снизу вверх: от цветов и зверей у основания до человека и четырех ангелов, которые держали на плечах громадную раскрытую Библию.
Я подошел посмотреть на нее. Каждая страница была размером с могильную плиту, буквы текста громадные, чтобы самый слабовидящий из монахов разглядел их при свете свечи. Орнаментов и украшений, которые порадовали бы Каспара, почти не было. То была строгая красота.
Я зажмурил глаза и вслепую ткнул пальцем в страницу. Я молил Бога о том, чтобы Он ответил мне, показал слова утешения и надежды. Потом я открыл глаза и прочел строчку, в которую попал мой палец.
«Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся бы уже!»[41]
Эти слова не дали мне утешения. Но несмотря на мое отчаяние, более всего вывела меня из себя не жестокость слов, а ошибка в тексте: «чтобы он уже возгорелся бы уже». Я чувствовал в этом издевательство. Как я мог обрести успокоение в совершенстве Господа, когда простая ошибка писца могла разрушить его? Я смотрел на текст, такой чистый и читаемый, такой аккуратный и неверный. Я подумал об отпечатках моих медных дощечек: грязные и неровные, иногда почти нечитаемые, но чистые по смыслу.
Я поднял взгляд на Христа, спрашивая себя, а что было написано в Его книге. Новые воспоминания заговорили во мне.
Мастер монетного двора, пытаясь произвести впечатление на моего отца, сказал: «Все они должны быть абсолютно одинаковы, иначе все, что мы тут делаем, будет совершенно бесполезно».
И снова Николай: «Разнообразие ведет к ошибке, а ошибка — к греху».
Каспар: «Ты был художником, а теперь сделался менялой».
Я понимал, почему ошибка в Библии оскорбила меня. Оскорблен был сам я. Моя душа была книгой, продиктованной Господом, но настолько искаженной ошибками переписчиков, что потеряла всякий смысл.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».[42]
Слово было Бог; Слово было совершенно. Я был несчастным существом, столь же далеким от Слова, как звезды от моря.
Я утонул в собственных пороках. Я никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Каждый из своих грехов я ощущал как гнойник на коже. Я распростерся на полу. Яд стал проливаться из меня, и меня вырвало, но и когда в моем желудке ничего уже не осталось, я все равно не мог остановиться, меня сотрясали судороги сухого кашля, пока не вывернуло наизнанку до последней капли.
Я лежал на полу и стонал, хватая ртом воздух. Из глубин я призывал Господа. И Он ответил. В этой часовне, с купола которой смотрел Христос, я понял, что такое вечность. Все мое тело сотрясалось в осознании этого. Книга моего существа распалась на слова, слова распались на буквы, буквы — на отпечатки острого чекана, к которому они и восходили. В мгновение ока меня унесло в самые забытые уголки мира, где я примирился с Господом.
Сверкающие нити протянулись из свечей и обволокли меня. Они окутали меня полосами света, они нашептывали теплые слова прямо мне в душу. Я был прощен. Червь, демон, так долго обитавший во мне, был изгнан. Его сморщенное тело лежало на полу среди блевотины и яда.
Я всегда был с Господом, но в моем грехе не знал Его. Я всю жизнь ощущал Его, следовал Его дорогой, даже не зная этого. Принцип совершенства, единства всего сущего. Один Господь. Одна вера. Одно совершенное существо во Вселенной.
«Бог есть совершенная форма, в которой объединены все различия».
Я возьму свинец и изменю его. Я расплавлю его, перемешаю, переформирую. Я добавлю к нему масла, а потом отожму его. Я преобразую его из цветного металла в истинное слово Господа.
«Его нужно соединить с философским камнем, чтобы проросло семя, заключенное в металле, чтобы в гармонии законченности металл мог принять любую форму по твоему желанию».
Я искуплю мерзкие несовершенства моей души.
«Не ради богатства или сокровищ, а ради совершенства вселенной».
LIX
Карлсруэ
Ночь еще не кончилась. В полной темноте они вышли из здания и пересекли парковку. У Сабины был старенький «фольксваген-гольф» с поцарапанными и мятыми крыльями, на крыше машины лежал двухдюймовый слой снега. Им пришлось ждать, пока Сабина очистит лобовое стекло, затем — еще дольше, — пока она заведет холодный двигатель. Выхлопная труба принялась плеваться, потом выдохнула облачко дыма. Сабина соскочила с водительского сиденья и жестом пригласила Ника за руль.
— Езжайте.
Ник недоуменно посмотрел на нее.
— А вы?
— Меня подвезет мой друг. Пока мне лучше оставаться здесь — хочу убедиться, что они вас не выследили.
Ник подумал про брата Жерома и покачал головой.
— Вы и без того уже много для нас сделали. Если вас напугал черный рыцарь в онлайне, то, поверьте мне, встречаться с ним в реальности еще хуже. Это такие злобные твари. Половина людей из тех, кто помогал нам в последнюю неделю, погибли.
— Ну вот — тогда уж нужно было сказать об этом раньше. — Сабина натянуто улыбнулась. — У родителей моего друга есть домик в Шварцвальде. Я могла бы оставаться там на какое-то время.
— Будьте осторожны, — сказал Ник.
— И вы тоже. И пригоните назад машину. Договорились?
— Я даже заправлю ее под завязку.
Ник сел за баранку, Эмили уселась на пассажирское место, потом высунулась из окна.
— А библиотека в кампусе есть?
Сабина показала на круглое здание по другую сторону футбольного поля.
— Открыта круглосуточно.
— Спасибо за все.
Ник включил передачу. Он два раза чуть не забуксовал на пути с парковки, его занесло на наледи у ворот, но он успел выровнять машину вовремя, чтобы не врезаться в фонарный столб. Он посмотрел в зеркало заднего вида, надеясь, что Сабина не догонит его и не отменит свое предложение.
— А что такое насчет библиотеки? — спросил он.
— Мне нужно проверить одну вещь, — сказала Эмили.
Она произнесла это таким непререкаемым тоном, что Ник счел за лучшее не спорить с ней. Он слишком устал для споров… да и для того, чтобы сидеть за рулем. Через несколько секунд он уже остановил машину у библиотеки.
— Не выключайте двигатель, — попросила Эмили.
Ник остался сидеть, а Эмили взбежала по ступеньками в здание. Он потер руки и пожалел, что у него нет перчаток. Слабому обогревателю старой машины было не справиться с предрассветным холодом.
Его взгляд упал на соседнее сиденье. В темноте выделялось белое пятно — там лежал лист бумаги. Распечатка. Вероятно, Эмили впопыхах оставила лист. Ник включил лампу в салоне и принялся разглядывать распечатку. Спеша поскорее убраться подальше от компьютера, он даже не посмотрел, что получилось, а когда спросил Эмили, что там, она только приложила палец к губам.
Картинка, которую он держал в руках, напоминала незаконченную головоломку, наспех собранную человеком, не способным к кропотливой работе. Ник дал задание программе игнорировать фрагменты, на которых ничего не было, чтобы ускорить процесс обработки. В результате на восстановленной странице остались пустые места. То, что для Эмили являлось очевидным, ускользало от внимания Ника. Половина страницы была занята картинкой, напоминавшей быка с необыкновенно длинным хвостом. Цифровая реконструкция не была идеальной: неверные совмещения и едва заметные искажения придавали картинке некую импрессионистскую нечеткость, на это же работал и слабый свет в салоне. Но при всем этом стиль художника был вполне узнаваемым — у Ника не оставалось в этом сомнений. Он за последние несколько дней видел достаточно работ Мастера игральных карт и мог считать себя экспертом.
Под картинкой было несколько строк. Тут изображение оказалось более резким (программа была в первую очередь настроена на восстановление текста). Буквы были жирные, они выстроились в плотные строки и имели неправильную форму: вертикальные элементы подчеркнуто основательные, словно столбы храма, а соединяющие их кривые и поперечины выписаны тонкими, как паутинка, линиями.
Он сунул руку в рюкзак за бестиарием, который они умыкнули из хранилища в Брюсселе, и для сравнения открыл первую страницу. Они были разные. Картинки в книге располагались сбоку от текста, тогда как на распечатке картинка гордо красовалась в центре. Почерк казался более аккуратным на распечатке, хотя, когда Ник попытался прочесть текст, обнаружилось, что различать буквы здесь труднее.
Яркая вспышка белого света вспорола ночь. Ник в ужасе повернулся. Его увидели? Сфотографировали? В него стреляли?
Вспышка повторилась — не фотокамера и не пистолет, а световой маячок над дверями библиотеки. Ник понял, что звук, который он принял за панику собственного подсознания, на самом деле был верещанием тревожной сигнализации.
Сигнализация неожиданно заверещала громче — дверь библиотеки распахнулась, и по ступенькам сбежала Эмили. Она бухнулась на сиденье и захлопнула дверь.
Ник посмотрел на книгу в ее руках — большой тонкий том, переплетенный в красную и черную материю.
— Вы что — украли библиотечную книгу?
— Позаимствовала. — Она сунула книгу в дверной карман. — Поехали.
Машина отъехала от подъезда и понеслась по дороге. Ник посмотрел в зеркала — погони не было.
— Ну, теперь вы мне расскажете, что все это значит?
LX
Майнц, 1448 г.
На склоне холма стояли два старика. Случайный прохожий мог бы принять их за братьев. Они были одного возраста — под пятьдесят, — седобородые, худощавые. Осенний холодок заставлял их кутаться в меховые одежды. Они не были похожи, но под морщинистой кожей, натянутой на выступающие скулы, и у одного и у другого угадывалась страсть — не умерший еще интерес к этому миру.
Они не были братьями. Одного звали Иоганн Фуст, другим был я. Вокруг нас трудились люди — перелопачивали склон холма. Они вытаскивали камни и складывали их горками — потом эти камни будут использоваться при строительстве домов. В середине поля бригада плотников сооружала наблюдательную вышку. Когда придет весна, это заброшенное поле будет засажено виноградом и зацветет. Точно так же, надеялся я, семена, посеянные Фустом, приведут к процветанию и моего предприятия.
Я не видел его пятнадцать лет после нашей случайной встречи в мастерской Оливье в Париже. В некотором роде было удивительно, что мы не встретились раньше. Я уже год как жил в Майнце, городе не столь большом, чтобы за это время не пересеклись пути двух человек, занятых книгами и бумагой. Но я избегал его. До этого дня.
Разочарованиям, постигшим меня за годы между этими двумя встречами, не было числа. Каспар как-то сказал мне, что печать игральных карт основана не на одном секрете, а на десятке — чернила, металл, пресс, бумага. Каждый элемент в точной пропорции. В этом отношении то, чем он занимался, я думаю, напоминало алхимию, хотя он добился гораздо больших результатов, чем я в Париже. Но если его искусство основывалось на десятке секретов, требующих разгадки, то в моем таких секретов была целая сотня, если не тысяча. И каждый из них не давался мне до конца. Дюнне однажды упрекнул меня в том, что каждый раз, когда я решаю одну проблему, передо мной встают десять новых.
Но в отличие от предыдущих неудач эти не вводили меня в отчаяние. Я был паломником, исполненным самых радужных надежд, хотя и не знавшим своего маршрута. Полагая, что путешествие будет коротким, я шел вслепую по лесной чаще. Теперь я нашел дорогу, хотя пункт назначения оказался гораздо дальше, чем я мог себе представить, отправляясь в путь. И это придавало мне уверенности, которую не могли поколебать камни и ожоги.
Но хотя паломника поддерживает вера, маршрут его пролегает по миру людей. Мне по-прежнему нужны были деньги. Поэтому я возвратился домой — в Майнц. Покинул город на перекрестке дорог, чтобы снова сюда вернуться — так старый медведь возвращается в свою берлогу. Когда я уходил отсюда, почти тридцатью годами ранее, здесь оставались мой дом, мать, семья и единокровная сестра, укравшая мое наследство. Теперь не было ничего, кроме старого дома, который в конечном счете перешел ко мне.
Виноградник Фуста располагался на склоне холма, поднимавшегося из речной долины за городом. Вдали я видел стены и шпили Майнца, над которыми возвышался огромный красный купол собора, нависавшего над берегом Рейна. Воздух над городом был подернут буроватым маревом — дымом бессчетного числа печей. Осеннее солнце достигло зенита, но колокола не извещали о наступлении полудня. Все церкви молчали, отчего возникало жутковатое ощущение. Впрочем, так оно и было задумано.
— Странное время ты выбрал для возвращения после стольких лет, — сказал Фуст. — Золотой Майнц потерял свой лоск.
Я знал это. В течение многих десятилетий аристократы, возглавлявшие городской совет (люди вроде моего отца), управляли сложной системой поступления доходов, и с ее помощью налоги направлялись в их собственные карманы. Проценты, которые они платили сами себе, росли подобно моим долгам, и в конечном счете настал день, когда городу пришлось объявить себя банкротом. Среди разъяренных кредиторов была церковь, которая тут же прекратила в городе все богослужения.
Мессы проходили без песнопений, детей перестали крестить, а покойники были лишены погребения по христианскому обряду.
— Но какие-то деньги в Майнце все же должны были сохраниться, — уверенно заявил я.
За стенами вдалеке суда всех размеров грудились у берега, и грузчики на плечах и с помощью подъемников заносили тюки на барки. Три плавучие мельницы домалывали остатки урожая.
— Вот этот виноградник, например. Понадобятся годы тяжелой работы, чтобы он начал плодоносить. Ты не стал бы этим заниматься, если бы считал, что у города нет будущего.
— Спрос на вино будет всегда. Чем хуже идут дела, тем больше спрос.
Фуст еще какое-то время смотрел на необработанную землю вокруг, потом перевел взгляд на меня. «Зачем ты вернулся?» — спрашивали его проницательные глаза. Но он не стал задавать вопросы — ждал, чтобы я начал первым.
— Вино не единственный продукт, который выходит из-под пресса, — сказал я.
Он молчал. Я вытащил из сумки листок бумаги.
— Я изобрел необыкновенное искусство. Новая форма письма без пера.
Он развернул лист, вгляделся в него.
— Индульгенции?
— Это только начало. — Я снова запустил руку в сумку и извлек оттуда небольшую брошюру, четыре листа, сложенные таким образом, что получилось шестнадцать страниц. — Латинская грамматика Элия Доната. Книга, которая нужна каждому ученику в каждой школе.
Он нетерпеливо посмотрел на меня — уж он-то знал, что это такое:
— Я их продал, наверное, с три сотни. Спрос такой, что писцы не успевают писать.
— Я могу готовить их быстрее и дешевле всех писцов, вместе взятых.
Фуст оглядел поле под будущий виноградник и ничего не сказал. Он в коммерции собаку съел и научился контролировать свои эмоции. Но вот удивление свое скрыть не мог.
Он прочел несколько первых строк в брошюрке.
— Никаких поправок, — сказал он.
Так оно и было. В отличие от других рукописей здесь отсутствовали вычеркивания и исправления на полях.
— Используя эту новую форму письма, мы можем вычитывать текст и исправлять ошибки до того, как слова появятся на бумаге.
Тут даже его сдержанность дала трещину, и он смерил меня внимательным взглядом — уж не дурачу ли я его.
— Покупатели любят видеть исправления, — только и сказал он.
— Исправления — это грязь на странице. Они ее уродуют.
— Они доказывают, что писец дал себе труд перечитать написанное.
— Но если бы он дал себе труд быть внимательнее при написании, то никаких исправлений не потребовалось бы.
— Совершенным может быть только Бог.
— Тогда я буду настолько совершенным, насколько это возможно.
Фуст снова посмотрел на страницы.
— Тут еще есть над чем поработать. Письмо — это не только отсутствие ошибок. Не знаю уж, как были написаны эти страницы, но сделано это довольно коряво.
— Вот почему мне и нужны деньги. Чтобы усовершенствовать изобретение. Я подумал, что ты с твоим интересом к книготорговле заинтересуешься этим. — Я протянул руку, собираясь забрать грамматику. — Видимо, я ошибся.
Фуст не отдал мне книгу.
— Новая форма письма, которое можно прочесть, прежде чем оно написано, и изготовить за месяц столько копий, сколько писец не изготовит и за всю жизнь, — сказал я. — Сколько ты готов за это заплатить?
Фуст ехидно улыбнулся.
— Кажется, ты собирался назвать мне сумму.
Я уже был сыт по горло выпрашиванием жалких кредитов, которые едва покрывали проценты с предыдущих. И целый синдикат инвесторов мне тоже был ни к чему — их ссоры отнимали у меня больше времени, чем сама работа. Я решил осесть в Майнце. И это означало, что у проекта должен быть один-единственный инвестор, настолько в нем заинтересованный, что не сможет допустить провала.
— Тысяча гульденов.
Фуст поднял руки и подышал на них.
— Это сумасшедшие деньги. Как ты собираешься их потратить, чтобы они с прибытком вернулись ко мне?
— Пойдем, я тебе покажу.
LXI
Окрестности Манхейма, Германия
— То, на копию чего вы смотрите, это первая или вторая из напечатанных книг.
Они припарковались на площадке для отдыха. Эмили положила себе на колени распечатку восстановленного листа и бестиарий, Ник оглянулся вокруг — не видит ли их кто. Перед ними был лишь темный сосновый лес с провисшими под грузом снега ветками. За спиной у них по автомагистрали А5 неслись машины.
— Из напечатанных где?
— Вообще где-либо. Точнее говоря, из напечатанных подвижными литерами.
Словосочетание «подвижные литеры» Ник узнал, хотя скорее как лицо в толпе, чем как старого приятеля. Он встречал этот термин где-то в журналах при перечислении ста величайших изобретений или людей, которые изменили мир. Обычно это словосочетание соседствовало с фамилией.
— Гутенберг?
— Именно. — Кожа у Эмили посерела от усталости. Без губной помады и туши для ресниц ее пухлые губы и темные глаза словно ввалились в лицо. Но когда она смотрела на страницы перед собой, чувствовалось, что энергия переполняет ее. — Что вы о нем знаете?
— А что о нем можно знать?
— Не много. Настолько мало, что до восемнадцатого века он был почти забыт. Он нажил себе влиятельных врагов, и после его смерти они приложили немало усилий, чтобы похоронить его наследство. И только когда ученые сотни лет спустя проанализировали сведения в архивах, они поняли.
— Что поняли?
— Что он собирал отдельные части в одно целое. — Она, чуть ухмыльнувшись, стрельнула в Ника озорным взглядом — понял ли он ее шутливый намек. — Подвижные литеры. Он разработал способ отливки отдельных букв на металлических формах, а затем складывал их в слова, предложения, в конечном счете в полную Библию. И напечатал ее.
Ник попытался представить себе, каково это было — собирать Библию буква за буквой.
— Наверное, на это ушло много времени.
— Вероятно, несколько лет. Но единственная альтернатива этому была переписка от руки. А он, набрав страницу, мог печатать столько копий, сколько ему требовалось. Потом он рассыпал набор и использовал буквы еще раз, создавая совершенно новую страницу. Гибкость системы бесконечная, при этом можно создавать абсолютно стандартизованное изделие, которое тиражируется по потребности. Это, возможно, был самый важный информационный прорыв в период между созданием алфавита и Интернета.
— И когда это случилось?
— В середине пятнадцатого века.
— В то самое время, когда жил Мастер игральных карт.
Эмили взяла книгу, украденную из библиотеки. На обложке не было ничего, кроме пасущегося оленя, выполненного золотым тиснением. Ник сразу узнал его по оленям на картах. Эмили повернула книгу корешком к нему.
— «Гутенберг и Мастер игральных карт»,[43] — прочел Ник.
— Я наткнулась на нее, когда просматривала карточку Джиллиан в Нью-Йорке. Вы не первый, кого удивила эта связь. В Принстоне есть иллюминированная копия Библии Гутенберга, иллюстрации там очень похожи на рисунки с игральных карт. Автор этой книги предположил, что существовало сотрудничество между Гутенбергом и Мастером игральных карт, который и сделал иллюстрации к Библии. Человек, который усовершенствовал печатание текста, и человек, который усовершенствовал печатание гравюр. Соблазнительная идея.
— И есть какие-нибудь подтверждения этого?
— Только косвенные. От большинства аргументов автора этой книги оппоненты не оставили камня на камне. — Эмили уставилась в распечатку, словно не могла поверить тому, что видит. — Пока не появилось это.
Вдали послышался вой сирены. Ник попытался сосредоточиться.
— Вроде бы этот рисунок очень похож на то, что мы видим в бестиарии из Брюсселя.
— Бестиарий написан от руки. А это печатное издание. Видите, какой правильный шрифт, какие тут идеально точные линии? То же можно сказать и об иллюстрациях. Картинки в бестиарии были сделаны от руки. По этой реконструкции трудно что-то утверждать, но, кажется, это было напечатано, как и карты.
Вой сирены стал громче. Ник протер запотевшее стекло и огляделся. На площадке был еще только серебристый «опель» в дальнем от них конце площадки. Водитель стоял спиной к ним, облегчаясь в снежок под деревьями.
— Значит, мы имеем печатную картинку, которая, насколько нам известно, датируется серединой пятнадцатого века, и печатный текст. Как это может быть связано с Гутенбергом?
Эмили показала на буквы.
— Гутенберг был первым. Он не просто изобрел печатный станок — ему пришлось изобретать или усовершенствовать все остальное. Сплавы для отливки шрифта, инструменты для их приготовления. Технологию собирания воедино страниц, а потом скрепления их. Чернила. — Она неожиданно замолчала.
— Чернила?..
Вой сирены достиг такой силы, что мог разорвать барабанные перепонки. Мимо них пронеслась карета «скорой помощи», пронзительными звуками требуя освободить ей дорогу. Ник выдохнул, и его дыхание тут же кристаллизовалось на лобовом стекле. Эмили, казалось, и не заметила этого.
— Вероятно, это и насторожило Джиллиан. — Она вытащила игральную карту и вгляделась в нее. — Смотрите.
Она показала на пучок черных точек в нижнем углу карты.
— Чернила Гутенберга знамениты своим блеском. Они не выцветают. Они сегодня такие же темные и яркие, как в день, когда вышли из-под печатного станка.
— И как ему это удалось?
— Этого никто не знает. Даже среди первых печатных книг это большая редкость. Чего только не пробовали, чтобы превзойти его рецепт. Эти чернила даже анализировали спектрометром.
— РЭСИЧ, — сказал Ник. — Вандевельд.
— Джиллиан, вероятно, обратила внимание на чернила и поняла, что это такое. А Вандевельд подтвердил ее гипотезу.
— Перед вашим приходом к нему. А вы как до этого додумались?
— Шрифт. Гутенберг и его изобрел. Тогда ведь вопрос стоял не в выборе между Таймсом или Ареалом. Ему нужно было создавать каждую букву, а потом выбивать ее в металлической болванке для отливки. В первых печатных книгах шрифты разные, как почерки.
Она провела пальцем по собранным воедино буквам.
— Это дедушка всех их. Шрифт, который он использовал для своего шедевра, Библии Гутенберга. Насколько нам известно, это единственная большая книга, напечатанная Гутенбергом. — Она гладила распечатку, словно ребенка. — Это все равно что найти потерянную копию пьесы Шекспира с автографом и иллюстрациями Рембрандта.
— Мы пока ее не нашли, — напомнил ей Ник. — У нас нет ничего, кроме распечатки реконструкции одной страницы, разорванной неким типом в Страсбурге. Не думаю, что у него был оригинал — ведь Гутенберг не печатал на офисной бумаге.
— Вы навели на него пистолет, а его при этом в первую очередь волновало уничтожение какого-то клочка бумаги. Это подлинная копия с чего-то. Хранящегося где-то.
LXII
Майнц
Для такого большого особняка «Хоф цум Гутенберг» выглядел на удивление скромным: узкая улочка не позволяла оценить его в полной мере. На цокольном уровне он незаметно переходил в соседское здание, тогда как большая его часть загибалась за угол в проулок. Нужно было откинуть голову назад, чтобы увидеть острый конек наверху; у большинства людей и без того хватало дел — они увертывались от скота, обходили навоз, старались не уткнуться лицом в шкурку, висевшую перед мастерской скорняка напротив, поэтому редко отрывали глаза от земли. Дом идеально подходил для того, что происходило внутри.
— Говорят, ты после возвращения взял новое имя, — сказал Фуст.
— Гутенберг.
Я отказался от имени отца и принял имя моего первого и последнего дома. С этим именем я мог представляться собственником, что оказалось полезным в некоторых из сделок. Но самое главное, с этим именем я обрел почву под ногами. Мое место было здесь.
Когда мы переступали через порог, я поднял голову, чтобы по привычке взглянуть на замковый камень в арке. На нем был изображен горбатый паломник в высокой конической шапке. Он согнулся чуть не пополам под грузом того, что нес под плащом. Я всегда задавался вопросом, что это была за ноша. Он опирался на палку, а в другой руке держал чашу для сбора подаяний. Я не знаю, почему эта фигура стала символом нашей семьи, — даже мой отец не мог это сказать. Но я, как и всегда, ощутил родство с ним: усталый паломник, все еще просящий подаяние, необходимое для завершения путешествия.
Со дня возвращения я был очень занят. Приехав, я обнаружил, что передние комнаты, в которых мой отец выставлял свои ткани и изделия, заколочены. Теперь они были забиты предметами мебели, придвинутыми к стенам или взгроможденными друг на друга, словно здесь готовились к переезду. Там уже стала скапливаться пыль.
Я провел Фуста в другую комнату, потом по короткому коридору мимо кладовки. Мы остановились перед обитой железом дверью, которая вела в заднее крыло.
— Поклянись Девой Марией и всеми святыми, что ты никому не расскажешь об увиденном здесь.
— Клянусь, — кивнул Фуст.
Я открыл дверь.
В середине комнаты за столом, специально туда передвинутым, сидели три человека. Они попивали вино, хотя, судя по их виду, никому из них это не доставляло удовольствия. Они знали, что поставлено на кон.
Я представил их.
— Конрад Саспах из Штрасбурга, мастер по сундукам и плотник. Он делает наши прессы, которые ты сейчас и увидишь.
Саспах был одним из немногих людей, выросших в моих глазах за время нашего знакомства. Борода у него теперь отросла и побелела, как у пророка, руки так загрубели — не верилось, что они могут вытачивать детали на токарном станке или делать ровнейшие пропилы. Он всегда играл второстепенные роли в нашем предприятии, но, когда я пригласил его из Штрасбурга в Майнц, охотно согласился.
— Готц фон Шлеттштадт, ювелир, который готовит для нас пуансоны и формы.
Вскоре после нашей с ним встречи арманьякцы разграбили его город и опустошили мастерскую. Ювелир, не имеющий золота, лишается дела. Через короткое время после этого он приехал в Штрасбург и предложил мне свои услуги. Я с радостью принял его предложение, потому что он был самым умелым из всех известных мне ювелиров. Все металлы в его руках становились послушными, как глина.
— Отец Хейнрих Гюнтер.
Молодой человек с мрачным лицом и вдумчивым взглядом, Гюнтер был викарием в церкви Святого Кристофа за углом, пока — в споре между архиепископом и Папой — не совершил грех: принял сторону патрона своего патрона. Архиепископ лишил его сана и оставил без гроша в кармане.
Я поглядывал на всех них: кто-то смотрел на Фуста, кто-то в свои чаши — по настроению. Эти сироты и изгои были моей гильдией, братством умельцев. Если бы с ними мог быть и Каспар, мое счастье не знало бы границ.
— И что же у вас есть общего? Это похоже на начало анекдота: плотник, ювелир, священник и… — Он посмотрел на меня. — А ты-то кто, Ганс Гутенберг?
Писец? Мастер по изготовлению оттисков на бумаге? Попрошайка? Шут?
— Паломник. — Я видел, что этот ответ не понравился ему, и поспешил продолжить: — Сначала мы тебе покажем возможности этого искусства.
Я протянул ему лист бумаги. По углам его были проколоты четыре отверстия, а посредине вроде бы наобум проведена карандашная линия.
— Напиши здесь свое имя.
Он без особого желания, как человек, который думает, что его хотят выставить в глупом свете, взял перо со стола и написал по линии свое имя.
— Бумага влажная, — сообщил он.
— Так она лучше впитывает чернила.
Саспах взял подписанный листик бумаги и вышел через дверь в соседнюю комнату. Из-за двери раздался протяжный протестующий скрип, словно корабль натягивал швартов. Потом последовали глухой стук, дребезжание и лязг. Фуст прищурился, а остальные сделали вид, что ничего не слышали.
Саспах вернулся и торжественно положил листок перед Фустом.
— Liebe Gott, — пробормотал он.
Его имя оставалось там, где он его написал, но если прежде оно располагалось посреди чистой страницы, то теперь оказалось в саду среди сотен слов, которые расцвели вокруг него за одно мгновение и вплели в свою паутину. Его имя теперь стало частью предложения:

— Никаких перьев. Никаких столов. Никаких витаний в облаках или помарок. Каждый раз идеальная копия. И, как видишь, изготовлено за считаные секунды.
Фуст был похож на человека, который свалился в пропасть и нашел полную пещеру золота. Он показал мне на грамматику, которую я ему демонстрировал на винограднике.
— И грамматика тоже была изготовлена там?
— Каждая страница.
— Она неотличима от настоящей.
— Возможно, именно она и есть настоящая. Как золото по отношению к свинцу или солнце по отношению к луне.
Но коммерческий разум Фуста не мог долго пребывать в состоянии прострации. Я не сомневался, что в его мозгу происходят подсчеты, замеры, вычисления.
— Зачем тебе нужна от меня тысяча гульденов? Тут, кажется, все готово.
— Это только начало. Доказательство того, что такое возможно. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого искусства, мне нужны еще прессы и оборудование, больше людей для работы, больше бумаги и пергамента.
— Чтобы печатать индульгенции и грамматики?
Я покачал головой и наклонился над столом. Я давно поклялся не прикасаться к вину, чтобы оно не туманило мои мысли. Теперь я обнаружил, что уже осушил чашу. Вино заструилось по моим жилам.
— Новое предприятие. Куда как более дерзновенное, чем все, что мы предпринимали. Несмотря на все наши достижения, мы пока лишь ученики в этом новом искусстве. Теперь мы хотим изготовить шедевр.
LXIII
Рейнланд-Пфальц, Германия
Ник наугад съехал с магистрали и двигался, пока не нашел мотель. Эмили спала на сиденье рядом с ним. Он чувствовал себя выпотрошенным, тело его представляло собой пустую емкость, в которой плескались последние капли адреналина и кофеина. Ему приходилось прикладывать усилия, чтобы держать глаза открытыми. Дрожь облегчения пробрала его, когда он остановился на парковке за зданием мотеля, а увидев простой номер с надежной кроватью темного дерева, он чуть не зарыдал.
Эмили откинула одеяло и, сев на краю кровати, сняла сапожки и носки. Несколько секунд она смотрела на него странным взглядом, которого Ник не понял.
Смущенно пожав плечами, она встала, стащила через голову свитер, вылезла из джинсов. На ней остались только белая сорочка и трусики с бюстгальтером. Она стояла на ковре в середине номера, чуть краснея, словно девственница, не знающая, что делать в первую брачную ночь. Ник старался не смотреть на нее.
— Я просто хочу, чтобы ты обнял меня.
Ник кивнул. Он слишком устал, чтобы чувствовать смущение. Он разделся и, оставшись в одних трусах, улегся в постель следом за Эмили. Лег рядом с ней, прижавшись грудью к ее лопаткам. Она вздрогнула. Он отодвинулся было, но она ухватила его руку и крепко прижала к своей талии.
— Так хорошо. Просто давно такого не испытывала. — Она вздохнула. — Не этого. Просто… тепла.
— Кажется, я тебя понимаю.
Она снова прижалась к нему. Ник положил ладонь на ее живот, приходя в ужас оттого, что прикасается к таким ее местам, к которым не должен прикасаться, и в то же время желая этого. Он вспомнил, как лежал точно так же с Джиллиан, испытывая такое же смущение, так близко и в то же время чувствуя расстояние. Всегда расстояние.
Он уснул.
LXIV
Майнц
Когда Фуст ушел, я принялся бродить по дому. День клонился к вечеру, скоро станет слишком темно и все пойдут отдыхать. Пока еще работы, которые были жизнью и дыханием дома, продолжались. Выйдя во двор, я почувствовал тяжелый запах горящего масла с едким привкусом угольного дыма. На отцовской кухне мы теперь отливали литеры, а там, где раньше мездрили кожи, готовили чернила. В литейной я увидел искры — отлитые литеры доводились на шлифовальном колесе.
Я поднялся по наружной лестнице у пристройки и по переходу прошел в главный дом. Здесь внешняя галерея огибала внутренний двор. Я на ходу смотрел сквозь зарешеченные окна. В той комнате, где когда-то изготовитель пуансонов делал формы для монет, теперь Готц выбивал буквы на медных квадратиках. В соседней комнате отец Гюнтер сидел за письменным столом, склонившись над маленьким томиком Библии. Рядом с ним лежал лист бумаги, а в руке он держал перо, которое, пока он читал, ни на мгновение не останавливалось. Для любого, кто видел писца за работой, это было неестественно: перо танцевало вверх и вниз по странице, явно наобум перепрыгивало через строчки. Оно не останавливалось на одном месте, чтобы вырисовать букву, а оставляло след из точек и коротких линий, какие оставляют птицы на снегу. Если он кого и напоминал, то не писца, а приказчика из купеческой лавки, занимающегося учетом товара. На самом же деле он производил учет всем буквам во всех словах Книги Бытия.
Он увидел, что я прохожу мимо, и крикнул:
— Ну как — получил, что хотел?
— Он даст нам восемьсот гульденов сейчас, а остальное потом. — Это было меньше, чем я просил, но больше, чем ожидал. — Купленное оборудование будет обеспечением денег. Он получит исключительные права продавать изготовленное нами, еще он согласился не участвовать в распределении прибылей. И он заказал пятьдесят экземпляров грамматики Доната — они будут нужны ему через три месяца. — Я рассмеялся. — Видел бы ты выражение его лица. Он поверить не мог, что такое возможно.
— Значит, он не заметил, что грамматика поддельная?
— Она была сделана безупречно.
Хотя индульгенция и была настоящей, грамматика, та, что я показал Фусту, была делом рук отца Гюнтера, который, вооружившись гусиным пером, провел над работой две бессонные ночи, когда стало понятно, что мы не сможем изготовить достаточно литер для печати всех шестнадцати страниц к назначенному времени.
— Через три месяца это не будет иметь значения, — сказал я ему.
В следующей комнате было темно; проходя мимо, я уловил запах сырости, исходящей от влажной бумаги, что хранилась внутри. В конце галереи еще один лестничный пролет вел на верхний этаж. Я уже собрался подняться, когда в сумерках раздался осторожный стук.
Кто-то стоял у парадной двери.
Я помедлил. Никто не приходил в Гутенбергхоф. И уж конечно, в такой час. Может быть, это Фуст передумал? Или городская стража? Больше двадцати пяти лет прошло с того дня, когда я бежал после преступления в доме Конрада Шмидта, но стука в дверь все еще было достаточно, чтобы кровь заледенела у меня в жилах. Я подождал.
На стук ответил Бейлдек, мой слуга. Я услышал, как он спрашивает, кто там, но ответ был такой тихий, что я не разобрал его. Дверь скрипнула и открылась. Я перевесился над перилами и посмотрел вниз. Из черноты под аркой двора вышла фигура. Человек двигался медленно, опираясь на палку, постукивавшую по булыжнику. Он остановился в середине. А потом, словно зная, что я все время смотрел на него, поднял голову.
Ноги у меня подкосились. Я крепче ухватился за перила.
— Каспар?
Он усмехнулся резко, отрывисто, словно ворона каркнула.
— Hier bin ich. Вот и я.
LXV
Рейнланд-Пфальц, Германия
Ник не знал, когда проснулся. В номере мотеля стояли сумерки — плотные занавеси не пускали внутрь свет пасмурного дня. Всю последнюю неделю он прожил в этом блеклом мраке — в свете вагонов, уличных фонарей, автомобильных фар и голых лампочек. Муха, тонущая в янтаре.
Но янтарь был холоден, а Ник чувствовал благодатное тепло, излучаемое одеялами, простынями, Эмили. Сорочка на ней задралась во сне, и она прижималась к его животу голой спиной, их тела сомкнулись в одном изломе.
Жар ее тела наполнил его огнем желания. Он раздвинул волосы у нее на затылке, чтобы поцеловать в шею, он гладил ее обнаженную руку, выпростанную из-под одеяла. Она повернула к нему голову, ее губы искали его. Он увидел, что ее глаза закрыты, и отпрянул от нее, но она обхватила рукой его шею и притянула к себе, закрыла его рот своим.
Желание перешло в страсть, он провел рукой по ее бедру, потом ухватил за ноги, притянул к себе, давая почувствовать, как напрягается его плоть. Она застонала, повела его руку вверх по своему телу, чтобы он ощутил упругость ее грудей через ткань сорочки.
Потом она перевернулась на спину и потянула его на себя. Он не сопротивлялся.
Проснувшись в следующий раз, он обнаружил, что лежит в кровати один. Головная боль прошла, но он был голоден как волк. Эмили оделась и теперь сидела перед комодом, который превратила в туалетный столик. Перед ней лежала украденная из библиотеки книга и расчерченный клочок бумаги размером с почтовую открытку. Она что-то писала на нем карандашом.
Ник сел. Его опутал клубок воспоминаний, которые могли быть его снами, и снов, которые дай бог чтобы были воспоминаниями. Он покраснел.
Эмили посмотрела на него и застенчиво улыбнулась.
— Выспался?
— Ммм… — Он вгляделся в ее лицо — нет ли в нем следов сожаления, и вскоре то же самое прочел и в ее взгляде.
— Я не хочу, чтобы ты думал… — начала она. — Я знаю, что не должна была…
— Нет. — Кажется, он говорил не то, что нужно. — Я хочу сказать: да, ты была должна. Не должна…
— Я не хочу стоять между тобой и Джиллиан.
Беспорядочные мысли Ника резко застопорились.
— Джиллиан?
— Я знаю, кто она для тебя.
— Нет, не знаешь. — Ник сбросил с себя одеяло и поднялся голый. Эмили смущенно отвернулась. — Ты что думаешь, когда мы ее найдем, я собираюсь подхватить ее на руки и умчаться в сторону заката?
Она откинула голову и заглянула ему в глаза.
— Тогда для чего ты все это делаешь?
Ник выдержал ее взгляд и понял, что не знает ответа на этот вопрос.
— Я приму душ.
Душа в мотеле не было — одна ванна. Он поплескался как мог в теплой воде, потом оделся. Когда он вышел, Эмили сидела, скрестив ноги, на застеленной кровати, а вокруг нее лежали книги и листы бумаги.
— Ну, что нашла?
— Я пытаюсь установить связь между Гутенбергом и Мастером игральных карт.
Этот разговор вроде бы укрепил невысказанное соглашение. Эмили расслабилась, Ник сел на уголке кровати.
— Мы должны исходить из того, что Джиллиан не видела страницу, которую мы восстановили. Она, вероятно, пошла по другому следу.
— Верно.
Ник вгляделся в большой лист, разложенный на кровати. Он был расчерчен неровной сеткой, перекошенной складками. Большинство квадратов были пусты, а в заполненных он увидел сделанные скорописью загадочные записи: «л. 212лс. Низ в центре, то же». В левом столбике снизу были изображены персонажи игральных карт.
— Что это?
— Это таблица книг и рукописей, в которых есть иллюстрации, похожие на рисунки игральных карт. Здесь перечислено, где какие картинки встречаются. Одна из таких книг — принстонская Библия Гутенберга, о которой я тебе говорила.
Ник соскочил с кровати и подошел к низенькому столику у двери — на нем стояли чайник и коробочка с чайными пакетиками.
— Что-то я не понимаю. Если смысл работы Гутенберга состоял в том, чтобы все экземпляры были одинаковыми, то разве иллюстрации не должны быть повсюду одними и теми же?
Эмили покачала головой.
— Как и многие революционеры, Гутенберг одел свое изобретение в очень старомодные одежды. Люди боятся перемен. Он не продавал ничего нового. Он пытался убедить людей, что изобрел еще один способ делать нечто им давно знакомое. В нашем случае — рукописи. Точно так же и первые автомобили были похожи на коляски.
Ник наполнил чайник водой.
— В Средние века книги не покупали, как теперь. Их делали на заказ. Сначала ты находил нужный тебе текст, а потом писца, который тебе его переписывал. Он писал на листах из восьми или десяти страниц, затем листы отдавали переплетчику, и тот сшивал их и делал обложку. Наконец ты нес книгу к рубрикатору, и он синими или красными чернилами писал рубрики, названия глав. Далее книга передавалась иллюминатору, который добавлял картинки. Простой чай, спасибо.
Ник вытащил два пакетика и положил их в кружки.
— Некоторые первые страницы Библии Гутенберга свидетельствуют о его экспериментах с двуцветной печатью; он добивался того, чтобы можно было печатать как заголовки, так и основной текст. Но очень быстро отказался от этой идеи, вероятно из-за чрезмерной сложности и трудоемкости. Гутенберг не хотел менять способ производства книг — только способ воспроизводства текста.
Ник вспомнил фразу в концовке бестиария «новая форма письма».
— Я должна была понять, что это значит, гораздо раньше. Но ответ на твой вопрос состоит в том, что, хотя тексты Библий Гутенберга практически идентичны, каждый сохранившийся экземпляр по-своему уникален. Иллюстрации и переплет к каждому делали разные руки.
— И принстонский экземпляр был сделан Мастером игральных карт?
— Некоторые иллюстрации в принстонском издании — близкие копии картинок с игральных карт, — поправила она. — Может быть, иллюминатор видел эти игральные карты и скопировал их. А может, они оба имели какой-то другой оригинал для копирования.
— Вот только теперь у нас есть лист бумаги, который соединяет Гутенберга и Мастера игральных карт на странице еще одной книги. — Ник налил кипяток в кружки. — Допустим, это нечто большее, чем совпадение. Видимо, такое же допущение сделала и Джиллиан.
— Согласна. Именно поэтому я хотела взглянуть на иллюстрации в принстонской Библии. Может быть, там существует какая-то система, ключ, который и нашла Джиллиан.
— Ну и тебе повезло?
— Пока нет. В этой таблице только номера страниц. Мне нужно увидеть и текст на них.
Ник уставился на нее.
— Я надеюсь, ты не собираешься украсть еще одну книгу?
LXVI
Майнц
Я провел его в гостиную, налил вина. Вечер был холодный, но Каспар держался подальше от огня, словно места ожогов, полученных той ночью на мельнице, все еще боялись тепла. Его одежда пахла сыростью и грязью, на щеках, там, где кожа была поцарапана ветвями или кустами, пролегли полосы засохшей крови.
— Арманьякцы вытащили меня из огня, — сказал он мне. — Полумертвого… даже еще хуже. Не знаю почему. Они должны были оставить меня, чтобы я сгорел там. Но взяли меня как пленника. Игрушку.
Я вздрогнул. Драх сидел абсолютно неподвижно, напряженный, как натянутая струна, вот-вот готовая порваться от любого движения.
— Они делали со мной такое, что ты и не поверишь. У тебя не хватит воображения. Их жестокость была бесконечно изобретательна. То, чему они научили меня…
— Если бы я только знал, — быстро проговорил я. — Если бы я знал, что ты жив, я бы весь мир поставил на голову, чтобы спасти тебя.
— Ты бы не знал, где искать.
Я смотрел на него в свете очага. Смотрел на слабое подобие того человека, которого любил когда-то, прежде гордого, а теперь сломленного. В свете лампы правая сторона его лица, иссеченная глубокими шрамами, напоминала одну из его медных дощечек. В пожаре сгорела половина его волос, остальные были выбриты, отчего кожа на черепе стала пятнистой и напоминала шкуру животного. Его глаза, которые прежде лучились разными цветами, теперь оставались неизменно черными.
— И сколько?..
— Месяцы? Годы? — Каспар пожал плечами. — Я не считал. Наконец мне удалось бежать. Я пришел в Штрасбург, но тебя там не нашел. Стал спрашивать. Кто-то сказал, что ты отправился в Майнц. С тех пор я и добирался сюда.
Я неловко наклонился к нему и прикоснулся к его плечу.
— Я рад, что ты пришел. Я молюсь за тебя каждую ночь.
Каспар свернулся на стуле, словно змея.
— Мог не трудиться. Господь бессилен, когда речь идет об арманьякцах.
Жесткость его взгляда поразила меня. Я промолчал.
— А ты процветаешь. — Сказанные хриплым голосом Драха, эти слова казались похожими на обвинение. — Меховой воротник, золотая стежка на рукавах. Уважаемый бюргер в отцовском доме.
— И в таких долгах, каких не могу себе позволить.
— Все гоняешься за своей мечтой совершенства?
— Нашей мечтой.
Каспар сжал, потом разжал кулаки. Пальцы у него были костлявые.
— Я уже много лет как забыл про все мечты.
Я встал — продолжать дальше в таком же тоне было невыносимо.
— Пойдем, я покажу тебе, что мы делаем.
Он поплелся за мной по галерее. Я привел его в печатню, где станки купались в свете серебряных лунных лучей.
— Мы устанавливаем каждую букву отдельно, — пробормотал я. Меня трясло. — Ты не поверишь, насколько близко к истине…
Холодная рука ухватила меня за шею, наклонила, прижала лицо к перепачканной чернилами подложке пресса. Я согнулся пополам, хватая ртом воздух. Каспар держал меня одной рукой, а другой возился с поясом.
— Что ты делаешь? — воскликнул я. — Каспар, ради Христа…
Он душил меня, прижимаясь ко мне сзади. Меня окутал могильный запах сырой земли.
— Ты знаешь, что они делали со мной, пока ты тут играл в свои игры?
— Я думал, ты мертв.
Его руки сдирали с меня одежду, царапали мою кожу.
— Пожалуйста, — взмолился я. — Не так.
— Что тут такое?
В комнате вспыхнул свет, и Каспар в мгновение ока отскочил от меня. Тени, казалось, окутали его, словно плащ. Я выпрямился и оглянулся. В дверях стоял отец Гюнтер с лампой в руке и вглядывался в комнату.
— Иоганн?
Я пробормотал что-то неразборчивое.
— Мне послышался крик.
— Это пресс проскрипел. Я демонстрировал его… моему другу.
Гюнтер повернул лампу так, что лицо Каспара выплыло из темноты. Гюнтер пристально посмотрел на него.
— Если все в порядке… — с сомнением в голосе сказал он.
— Все будет хорошо.
Каспар вернулся, но он стал другим. Темная сторона его натуры, которую я когда-то принял за неизбежную тень сверкающего солнца, поглотила его. После той первой ужасной ночи он не говорил о том, что ему пришлось выстрадать, и, слава богу, не нападал на меня. Я простил ему это, но чего я не мог принять, так это малозаметных изменений, произошедших в нем. Жестокостей исподтишка, злости в глазах. Он, как призрак, мог погрузить комнату в холод, стоило мне войти туда. Я противился этой мысли сколько мог, но в конечном счете вынужден был признать: я больше не любил его.
Но талант никуда не делся. Даже губительные демоны, поселившиеся в нем, не смогли ослабить его интерес к книге. Я поощрял в нем этот интерес, надеясь, что работа хоть немного излечит его, настроит его разум на вещи более светлые. Я предоставил ему комнату в верхнем этаже дома, дал чернила, перья, кисти, бумагу — все, что ему было нужно. И он отплатил мне за все это.
Он показал мне плоды своих трудов однажды вечером, когда я поднялся на чердак, после того как вся команда, работавшая с прессом, ушла. Каспар сидел у наклонного стола в дальнем конце комнаты. Он что-то увлеченно писал и не поднял головы, когда я вошел.
Я наклонился посмотреть, что он делает. Единственный лист бумаги размером с две индульгенции испещряли тонкие карандашные линии и дуги — все это походило на чертеж собора. Более жирной линией в середине был выделен прямоугольник, состоящий из двух массивных столбцов, похожих на колонны. Каспар затенил их тыльным концом карандаша, оставив чистой лишь верхнюю полоску в первом столбце, где написал четкими, аккуратными буквами: «In principio creavit deus celi et terram». «В начале сотворил Бог небо и землю».
— Вот как она должна выглядеть, — сказал Каспар. Он провел пальцем по одной из дуг. — Самые гармоничные пропорции. Твоя совершенная книга.
Я мягко положил руку ему на плечо, представляя себе эти столбцы, уже заполненные рядами слов.
— Это прекрасно.
Он, казалось, ждал чего-то еще. Но я молчал. Он вздохнул.
— Видишь, как я выписал буквы — они заполняют колонку целиком от одного поля до другого. Ни один писец не смог бы так, разве что случайно. Мне потребовалось десять попыток, чтобы сделать это всего на одной строчке. Но ты со своими литерами можешь точно определять место каждого слова, каждой буквы. Как Бог.
Я сразу же понял, что он прав. И почувствовал знакомую вибрацию, эхо ангельского пения. Я с такой сосредоточенностью вглядывался в рисунок, размышляя, как получить ровный оттиск каждой буквы, что от моего внимания ускользнуло более общее соображение. Мы могли так набирать слова, чтобы каждая строка казалась словно высеченной в камне: массивные столбцы текста становились опорой для слова Господа. Такого не могла сделать ни одна человеческая рука.
В слабом свете мои старческие глаза утратили четкость видения. На секунду взгляд перешел с затененных столбцов на широкие белые поля. Фон и передний план поменялись местами: белая бумага стала окном, обрамляющим туманную темноту за его рамами. Карандашные черточки, казалось, завихрились, как капельки чернил в воде, сплетаясь в слова, сказанные Господом.
Это был последний и лучший дар Каспара мне.
LXVII
Рейнланд-Пфальц, Германия
Потрепанный «фольксваген» полз по улице. Никто не обращал на него внимания, кроме разве что снеговиков, стоящих, словно часовые, по газонам у пригородных домов. А если бы кто-нибудь наблюдал за машиной, то его поразило бы ее неровное движение. Она дергалась, проезжала несколько футов, резко тормозила, останавливалась, а потом снова дергалась вперед. Спустя несколько мгновений маневр повторялся. Может быть, водитель опасался скользкой дороги, вот только проезжую часть недавно очистили и посыпали солью. Может быть, водитель был растерян или пьян. Если он и в самом деле был пьян, то это объясняло, почему машина неизменно останавливалась в неосвещенных местах.
— В другой раз нас бы уже наверняка арестовали за попрошайничество, — сказал Ник.
Они проспали весь короткий день, а теперь наступил вечер. Ник проехал еще три подъездные дорожки и остановился. Эмили сидела рядом с ним, на коленях у нее лежал включенный ноутбук. Кроме мерцающего монитора, другого света в салоне не было.
— Вот тут есть. — Она два раза кликнула мышкой по иконке. — Черт… запаролено. Не получится.
Ник снова нажал на педаль газа. Они выехали из мотеля час назад, чтобы найти интернет-кафе, но в сонном пригороде не было услуг для туристов. Они попытались зайти в библиотеку, но та оказалась закрытой. В конечном счете они не придумали ничего лучшего, как подъехать поближе к какому-нибудь дому и подключиться к беспроводной сети ничего не подозревающих хозяев.
Ник завернул за угол и остановился рядом с несколькими мусорными бачками, присыпанными снежком. Эмили склонилась к экрану.
— Вот, смотри. «Домашняя сеть семьи Хаусер — открытое беспроводное соединение».
— Как раз то, что нам нужно.
Ник взял у нее компьютер и кликнул по иконке, устанавливая соединение.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВНОМУ КОМПЬЮТЕРУ 190.168.0.1
Появилась зеленая иконка в форме радиомачты. Он снова передал ноутбук Эмили, она открыла браузер и набрала адрес. На экране нарисовался пятнистый пергамент.
— Это оно?
— В Британской библиотеке есть две Библии Гутенберга. Обе они просканированы, и их можно увидеть в онлайне.
Эмили повернула компьютер так, чтобы ему было лучше видно. Плотный текст на странице расположился в две колонки, выровненные, как будто обрезанные ножом. Пергамент от времени побурел, но чернила оставались ярко-черными, бросая вызов времени. Несмотря на готический шрифт и явную древность, дизайн был на удивление изящен.
— Понимаю, почему люди так ценят эту книгу.
— Такие вот ровные поля стали его визитной карточкой. Писцы не могли так выровнять правое поле. Это можно делать, только если у тебя есть возможность размещать литеры свободно, как тебе нужно.
— Видно, этот парень был перфекционистом.
Эмили вытащила листочек с распечаткой восстановленной страницы. На обратной стороне рядом с краткими описаниями фигур на картах она добавила какие-то буквы и цифры.
— Читай мне номера страниц.
Ник попытался было — и не смог их найти. Эмили показала на столбец.
— Л.117лс?
— «Л» означает «лист», то есть две страницы. В средневековых книгах не было нынешней нумерации страниц, и потому историки ведут нумерацию с первой страницы. Буквы в конце означают лицевую или оборотную сторону. Лицевая — эта страница, которая оказывается у тебя справа, когда ты открываешь книгу. Поэтому то, что мы могли бы назвать третьей страницей, на самом деле будет…
— Л.2лс, — сказал Ник. — Первая сторона второго листа. Понял.
Он одну за другой читал номера страниц. Их было около десятка, начиная с л.117лс (это, по его подсчетам, была приблизительно 233-я страница) и заканчивая л.280лс, страниц 325 спустя. Процесс был трудоемкий. Эмили должна была для каждой ссылки найти просканированную страницу, прочесть латинский текст, потом сообразить, из какой он книги Библии. В этот момент она зачитывала текст Нику, который записывал ссылку рядом со страницей и описанием картинки.
Но мысли его были далеко. Сложная система нумерации страниц каким-то образом подсказала ему одну мысль, не дававшую теперь покоя, словно камушек в туфле. Он погрузился в размышления, пока Эмили отстукивала что-то на клавишах компьютера.
— Следующую.
Он посмотрел на список.
— Л.226лс.
— Есть. — Несколько секунд она смотрела на экран. — «Я согрешил паче числа песка морского. Многочисленны беззакония мои, Господи, многочисленны беззакония мои, и я недостоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправд моих».[44]
Ник ждал, когда она назовет главу и стих. Но, не дождавшись, посмотрел на нее. Эмили уставилась в экран.
— Что там?
— Какая картинка соответствует этой странице?
Ник посмотрел в таблицу.
— Медведь, роющийся в земле.
— Тот же самый, что на карте?
Ему даже и сверяться не надо было.
— А что?
— На этой странице молитва Манассии. — Она повернулась к нему, лицо ее светилась от этого открытия. — Молитва, которая считается частью утраченной книги Библии, «Записи царей Израилевых».
— «Он сделал и еще одну книгу животных, используя новую форму письма…
— … которая скрыта в „Записях царей Израилевых“». И вот она. И на той же странице иллюстрация, что и на карте.
Они на несколько секунд погрузились в молчание.
— Не понимаю, — заговорил Ник наконец. — Все эти наводки — вроде все сходится. Но получается какой-то замкнутый круг. Библия с иллюстрациями Мастера игральных карт находится в Принстоне. Джиллиан никак не могла ее искать. Значит, должна быть еще одна книга, связанная с картами, с Библией и бестиарием, что Джиллиан нашла в Париже.
— Еще одна книга животных.
— И где же она?
Эмили уставилась в затуманенное их дыханием лобовое стекло.
«Вот уж лучше не придумаешь, — подумал Ник, — сидим в машине, как в ловушке, да еще и стекла замерзли».
— У этой головоломки должна быть еще одна часть, — сказала Эмили.
— Может, она была на первой странице бестиария. На той, что выдрана.
— А может, тут есть еще что-то. Мы еще не все картинки Мастера рассмотрели.
Эмили снова склонилась к компьютеру и застучала по клавиатуре — отрывисто и неритмично из-за нервной спешки. Ник посмотрел на экран. Печатная страница, кожа коровы, жившей в пятнадцатом веке, переданная с помощью жидкокристаллического монитора. Его поразило, что, хотя между двумя этими технологиями пролегла пропасть, по существу они мало чем отличались: и та и другая — носители информации. Как бы ты ни записывал номер страницы (или, как в данном случае, номер главы и стиха Библии), он все равно оставался адресом для поиска данных.
Страница 233, л.226лс, или Книга Судей 5:4, в конечном счете были обозначением (по словам Эмили) одного и того же: «Земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду». Точно так же, как набор цифр 190.168.0.1 был удобным эквивалентом главного компьютера сети в доме Хаусера.
А если перевернуть это? Что, если по информации находить цифры?
Ник пробежал глазами листок бумаги в руке. Лицевая и оборотная стороны, передняя и задняя. Он посмотрел на нечетко выгравированного быка и представил себе улыбающуюся корову на лестнице с кисточкой в копыте.
«У меня новый номер: www.jerseypaint.co.nz».
Эмили перестала стучать по клавиатуре и теперь смотрела в окно, погрузившись в свои мысли. Ник схватил ноутбук.
— Я еще не закончила, — возразила она.
— Я на минутку.
Его пальцы возбужденно забегали по клавиатуре — ему пришлось три раза набирать адрес, прежде чем получилось правильно. Корова, сверкающая всеми цветами радуги, ухмылялась с вершины лестницы.
Он нажал клавишу. Адрес превратился в цепочку цифр, которую он записал на листе бумаги.
Эмили, все еще хмурясь, подалась к нему.
— Что это?
— Каждый веб-адрес может быть переведен в цифры. — Он открыл дверь машины. В пятидесяти ярдах от них стояла под снежной шапкой будка телефона-автомата. — Может быть, еще один номер.
Он побежал к будке. Снова повалил снег. Пальцы Ника чуть не примерзли к металлическим кнопкам, пока он набирал номер.
Паузы между гудками казались ему вечностью. Каждый треск на линии звучал так, словно это сняли трубку. Наконец он услышал:
— Ja?
— Это Олаф? — спросил Ник по-немецки.
Пауза.
— Кто говорит?
— Я по поводу Джиллиан Локхарт.
Человек ничего не сказал.
— Я что — не туда попал?
— Кто вы?
— Ее друг из Америки. Она пропала. Я пытаюсь ее найти.
— А-а… — Еще одна долгая пауза. — Я не знаю, где она.
Ник крепче вцепился в трубку. От его дыхания запотело стекло будки.
— Но я знаю, куда она поехала.
Теперь настала очередь Ника выдерживать паузу — его парализовал страх сказать что-нибудь такое, что может все разрушить.
— Приезжайте в Майнц, и я вам все расскажу.
LXVIII
Майнц
Я вышел из дома на улицу через дверь, над которой был вырезан паломник, и повернул в сторону собора и рыночной площади. Идти было недалеко, но и на этом коротком расстоянии улица расширялась и сужалась много раз. Иногда на ней едва хватало места для проезда захудалой повозки. В других отрезках она достигала такой ширины, что вполне могла сойти за небольшую площадь, тут обменивались слухами, а торговцы продавали с тачек пироги и горячее вино.
Одно из таких широких мест было против церкви Святого Квинтина, куда приходили женщины набирать воду, бьющую из фонтанчика в церковной стене. На противоположном углу стоял высокий дом. Оштукатуренные промежутки между его балками были выкрашены ярко-красным цветом; дополнительным украшением служили венки, хорошо видные на темных ребрах древесины. Назывался этот дом Хумбрехтхоф, и принадлежал он моему троюродному брату Шалману, который жил там до тех пор, пока администрацию города несколько лет назад не возглавил комитет членов гильдий. Решив, что эти новенькие собираются обирать древние семейства, доводя их до банкротства, Шалман бежал во Франкфурт. С тех пор дом пустовал. Я написал брату, сообщил, что ситуация в Майнце превосходит худшие его ожидания и быстро продолжает ухудшаться. Когда я предложил снять с него заботы о пустующем доме за символическую арендную плату, чтобы защитить от черни, которая в противном случае превратит его в бордель или церковь сатанистов, он согласился очень быстро, чем даже удивил меня.
Я вошел в ворота под главным зданием и оказался во внутреннем дворе. Тут уже находились Фуст и другие — Саспах, отец Гюнтер, Готц, Каспар и молодой человек, которого я не знал. Фуст кивнул на него.
— Мой приемный сын Петер Шеффер.
Я посмотрел на этого худощавого серьезного юнца с прыщавой кожей и светлыми волосами, которыми поигрывал ноябрьский ветерок. Он мне показался довольно неуверенным в себе, но, пожимая ему руку, я почувствовал в нем необыкновенную энергию.
— Для меня это честь, герр Гутенберг. — Глаза у него были светлые, холодные, взгляд безразличный. — Отец рассказал мне о вашем искусстве. Вы можете в полной мере положиться на меня. Я благодарю Бога за то, что мне повезло и я буду участвовать в этом.
— У него от гусиного пера руки болят, — пошутил Фуст. Он стоял чуть дальше от своего сына, чем должен стоять любящий отец: старый пес, побаивающийся щенка.
— Значит, здесь у нас будет мастерская, — сказал Готц.
Дом прекрасно подходил для нашей цели: он был достаточно просторный, с большими окнами, выходящими во двор. Усилиями моего троюродного брата Шалмана и его предков существовавший здесь когда-то большой сад был уничтожен, все дворовые здания сведены в одно и надстроены почти до высоты главного дома. Они полностью окольцевали двор, словно в гостинице или в торговом доме, и снаружи нельзя было увидеть, что происходит внутри.
Я развернул свиток, который принес с собой, и повесил на гвозде, вбитом в дверь кладовки. Остальные встали кружком. Большинство из них видели частями то, что было на свитке, и только Каспар мог целиком охватить его взглядом.
— Вот почему мы здесь.
На странице было два идеально ровных столбца текста, точно так, как набросал их Каспар. Серая, заретушированная карандашом область теперь была испещрена словами, тщательно набранными и аккуратно напечатанными в Гутенбергхофе. Текст был черный, кроме инципита,[45] который был напечатан кроваво-красным цветом.
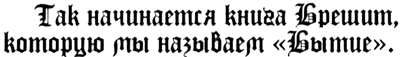
Длинная буква «В» на следующей строке выходила за ее пределы и расползалась по полям завитками, которые достигали конца страницы. «В начале сотворил…»
Страничка трепыхалась на ветру, и мне пришлось придерживать ее, чтобы не порвалась.
— Все, что видите, отпрессовали на бумаге машиной Саспаха.
На сей раз так оно и было — на этой странице никакого обмана или ловкости рук. Мы устанавливали и переустанавливали литеры, пока каждая строка не оказалась заполненной идеально ровно, а пробелы между словами не стали повсюду одинаковы. Слова инципита мы пропечатали отдельно красными чернилами. И наконец, мы сделали еще один отпечаток на другом прессе, чтобы добавить вырисованную Каспаром буквицу.
Первым прореагировал Шеффер. Если только Фуст не показывал ему индульгенции, то прежде он не видел нашей работы. Я предполагал, что он будет потрясен. Он подошел поближе и внимательно рассмотрел лист.
— Слова словно подвыцвели.
— Мы использовали старые литеры, — объяснил я. — Некоторые неровные, другие разнятся по высоте. Готц готовит новый набор, который улучшит качество отпечатков.
— А вот поля — они почти идеально ровные.
— У тебя бы такие вряд ли получились, — проворчал издалека Каспар.
— Идеально ровные, — настаивал я. — Если приложить линейку, то она коснется наружных элементов каждой последней буквы. — Бог знает сколько бумаги мы извели, чтобы добиться этого.
— Да, идеально ровные, — согласился Шеффер. — Но впечатление иное. — Он задумался на секунду. Несмотря на его молодость и самомнение, он пользовался уважением, и все ждали, что он скажет. — Некоторые строки кончаются маленькими знаками — знаками переноса и точками. Они слишком маленькие, в результате строка кажется меньше, чем на самом деле.
Он показал на текст в нижней части листа.
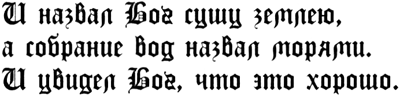
— Если вынести знак переноса на поля, то масса текста распределится ровнее. Это будет приятнее глазу.
Я бросил взгляд на Каспара. Сеть шрамов на его лице сморщилась от обуявшей его злости. Прежде чем он успел прореагировать, я сказал:
— Нужно будет посмотреть. Это ведь не просто взять перо и добавить закорючку к концу строки.
Каспар смерил мальчишку полным ненависти взглядом. Отец Гюнтер благоразумно перевел разговор на другую тему.
— Сколько Библий мы собираемся изготовить?
— Сто пятьдесят. Тридцать на пергаменте, остальные — на бумаге. По моим расчетам, мы в день можем готовить две страницы текста. Зимой меньше. У нас будет два пресса — их вон там сделает Саспах. — Я показал на первый этаж дома в другой части двора. — Мы установим их в холле и в гостиной.
— Придется укрепить полы, — заметил Саспах.
— В нижних комнатах есть кирпичные колонны. Там мы оборудуем хранилище для бумаги. Когда прессы у тебя будут готовы, ты построишь подъемник, чтобы подавать бумагу прямо туда, где стоят прессы.
— А что с тем прессом, который в Гутенбергхофе?
— Он маловат. На нем будем печатать индульгенции, грамматики и все, что можно будет продать. От Библий останется много обрезков и отходов, которые мы тоже пустим в дело.
Фуст остерегающе поднял руку.
— Никаких отходов не будет. Все, что будет куплено для Библий, пойдет на Библии. — Он описал тростью круг по двору, обозначая дом и останавливая строгий взгляд на каждом из присутствующих. — Вам понятно? Это наше совместное предприятие. Я не хочу, чтобы мои деньги входили в одну дверь только для того, чтобы их расхищали через другую. Я знаю, у многих из вас часто будут причины наведываться в Гутенбергхоф, кто-то из вас будет жить здесь. Что вы делаете в свободное время и со своими материалами — это ваше дело. Но все инвестированное в этот проект в нем и останется. Ни один клочок бумаги, ни одна литера, ни капля чернил отсюда не уйдут.
— Все, что ты вложишь в проект, в нем и останется, — поспешил я заверить его. — Отчет будет представлен до последней запятой. Точность — как на монетном дворе.
— Ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы вы все усилия сосредоточили на этом проекте.
— Я дал тебе слово, что не допущу его задержки. Но даже если будет Божья воля, прежде чем сможем начать здесь работу, пройдет несколько месяцев. И не меньше года пройдет, прежде чем мы выйдем на полную мощность. Даже если обойдется без сбоев, понадобится еще два года для завершения Библий. Работая на прессе в Гутенбергхофе, мы сможем обеспечить себе некоторый доход в эти скудные годы, а кроме того, это хорошее место для подготовки учеников.
Я прошел по двору к лестнице.
— Давай я тебе покажу, где все это будет происходить.
LXIX
Рейнланд-Пфальц, Германия
Ночь они провели в отеле. Заплатили вперед, и запас евро у них начал подходить к концу. Когда настало время сна, они разделись и без слов забрались под одеяла. Спали, прижавшись друг к другу, и их голая кожа была единственным источником тепла в комнате. В семь часов они поднялись и уехали.
Следом за снегопадом на землю опустился туман, и мир превратился во влажное и одинокое место. Они пересекли Рейн на рассвете и едва ли видели его, потом повернули на север. Ноутбук стоял на коленях у Эмили, но был закрыт, белая тишина, казалось, целиком овладела ею. Если им и попадались какие машины, то призрачные развалины, брошенные на обочинах.
— Майнц — родной город Гутенберга. — Голос Эмили был едва слышен за бесполезным шумом вентилятора. — Интересно, может, Олаф поэтому его и выбрал?
Олаф назначил встречу в одиннадцать часов в церкви Святого Стефана — покрытом белой краской сооружении, украшенном по граням красным песчаником и увенчанном коническим куполом. Церковь стояла на вершине холма за городом. Оглянувшись с наружной террасы, Ник увидел заснеженные крыши и лес антенн, прогнувшихся в туман. На мгновение он ощутил сильный страх перед невидимым врагом, который идет по следу, оставленному им в снегу. Он стряхнул с себя это чувство и вошел внутрь.
Это было как будто войти в аквариум. Мягкий синеватый свет наполнял церковь, словно вода, он был такой густой, что Ник мог чуть ли не осязать его. Он проникал сквозь окна — туманность взвихренной синевы с белыми точками: птицы в безоблачном небе, звездное одеяло, души, возносящиеся в небеса.
Только в задней части церкви за алтарем голубизна переходила в полотно для более материальных картин. Ник подошел поближе, чтобы разглядеть их. Ангел с прозрачными крыльями несет тело, безжизненно лежащее в его руках. Обнаженные Адам и Ева рассматривают яблоко, а синий змий тем временем спускается с дерева. Золотой ангел, читающий книгу, кувыркается в воздухе над зажженным семисвечником.
— Окна новые. Церковь сгорела во время войны.
Ник резко повернулся. Сзади к нему в инвалидном кресле подкатил старик, сидящий очень прямо и укутавшийся в поеденное молью одеяло. Его глаза с набрякшими веками, наверное, сами видели это разорение. Губы у него были поджаты, скрывая то, что осталось от зубов, а из-под поношенной шапочки торчали пучки седых волос.
— Новые окна делал Шагал, — продолжал старик.
Говорил он четким, неспешным голосом. Ник решил, что старику особо нечего делать, кроме как заводить разговоры с зазевавшимися туристами. Ник и Эмили в этот день были, вероятно, его единственной добычей.
— Мы в Майнце очень гордились, когда такой великий художник согласился предоставить свою работу нашей маленькой церкви.
— Они замечательные.
Ник попытался незаметно скользнуть взглядом над плечом старика. Олаф не сказал, как они узнают его. Ник боялся его пропустить.
— Но средневековые окна мне тоже нравились. Я видел их в детстве, до войны. Очень красивые… и такие необычные. Олени, львы и медведи, птицы…
— Цветы. — Ник смотрел на него, пытаясь вспомнить. — Дикари.
— Да-да. Средневековый символизм, такой непонятный для нас. Если начнешь разбираться, то так и не поймешь, куда он тебя ведет.
Эмили взяла инициативу на себя.
— Вы — Олаф?
Старик громко закашлялся. Монахиня, коленопреклоненная у передней скамьи, прекратила молиться и нахмурилась.
— Вообще-то меня зовут не Олаф. Но это имя меня устраивает. Давайте найдем место, где поговорить.
Он отмахнулся от предложения Ника катить его и двинулся в направлении скамей в задней части церкви.
— Я рад, что мы вас нашли, — сказал Ник. — Хитрый был трюк. Я говорю о том, как вы запрятали свой номер.
Олаф смерил его внимательным взглядом.
— Вы хотите сказать, вас удивляет, что человек моих лет может прочесть имейл. Да к тому же знать, что такое IP-адрес. Но я всегда искал знания. За время моей жизни появлялось и исчезало немало способов делать это.
Он проехал на своем кресле к концу скамьи и наклонился вперед, словно готовился помолиться. Ник и Эмили сели рядом с ним на скамью. Он показал на фотографию на стене — языки пламени вырываются из церкви. От здания сохранялись только концы крутых стропил, черных и обгоревших, словно ведьмины колпаки.
— Красота Господа бесконечна, — загадочно сказал Олаф. — Церкви можно перестроить, может быть, сделать их еще красивее, чем прежде. Но история… Вы не можете нанять Шагала, чтобы восстановить это. — Он тяжело вздохнул. — Вы верующие? Христиане?
— Да не то чтобы, — сказал Ник.
— А я был когда-то. Потом решил, что я умнее этого. А теперь в этом не так уж уверен.
Он впал в скорбное молчание, глядя на окна, в какой-то мучительный уголок далекого прошлого.
— Вы сказали, что знаете что-то о Джиллиан, — напомнил Ник.
Олаф, казалось, не слышал его.
— Мне было четырнадцать, когда кончилась война.
Ник произвел нехитрый подсчет и был удивлен результатом. Видимо, это проявилось на его лице.
— Вам кажется, что я выгляжу старше своих лет. — Олаф снова кашлянул. — Я и чувствую себя старше своих лет. Но я еще вернусь к этому. А пока принимайте меня таким, каков я есть. Мне было достаточно лет, чтобы мне сунули в руки винтовку, когда Жуков пересек Одер. Но недостаточно, чтобы я перестал гордиться Германией. Даже когда нам сказали правду, все то, чего по сей день стыдятся немцы, я продолжал гордиться. То, что творилось, — дело рук нацистов. Я же был немцем.
Вот почему я стал историком. Я хотел восстановить нашу историю, очистить ее от чудовищ, отобрать у иностранцев, которые похитили ее у нас. Я все больше углублялся в прошлое, пытаясь избежать яда, который отравил нас. Пока мое поколение строило новое будущее с Wirtschaftswunder,[46] я пытался подрыть его основы. Новое прошлое. Чистое прошлое.
Он вздохнул.
— Вы должны понять — быть историком в Германии означает быть в рабстве у красивой женщины, которая спит со всеми подряд, кроме вас. Не осталось практически ни одного архива, ни одной библиотеки, которые не были бы разграблены, сожжены, уничтожены или утрачены в какой-то момент истории. Хорошо, сохранились копии оригинальных документов, а иногда и копии уничтожались. Так было всегда… но после войны это стало невыносимо. Молодому исследователю для того, чтобы сделать себе карьеру, нужны документы, находки, которые он может опубликовать. А от всех наших архивов остались лишь дым и пепел. Но вот в один прекрасный день в монастырской библиотеке, просматривая старую книгу рецептов, я нашел то, что искал. Сокровище.
— И что же это было? — спросила Эмили.
— Письмо. Лист бумаги, исписанный почерком пятнадцатого века. В уголке была эмблема: два щита, украшенные греческими буквами «хи» и «лямбда», соединенные петлей, обхватившей шею ворона. Я сразу же понял, что это такое.
Он поднял взгляд, чтобы убедиться, что они все еще его слушают.
— Иоганн Фуст. Вы знаете Фуста? — Олаф слишком погрузился в прошлое, чтобы дожидаться их ответа. — Фуст был деловым партнером Иоганна Гутенберга. Гутенберга вы, конечно, знаете. Все знают Гутенберга. Журнал «Таймс» назвал его человеком тысячелетия. Но если бы вы приехали в Майнц пятьсот лет назад, то там все бы знали Фуста, а Гутенберга — никто. Гутенберг напечатал одну книгу. Фуст и его сын Петер Шеффер напечатали сто тридцать. Письмо от Фуста — это все равно что послание святого Павла. И я нашел его.
— И что там было написано?
На пальцах Олафа, теребивших старое одеяло, пульсировали жилки.
— Мне бы нужно было его опубликовать. Я должен был сообщить библиотекарю о находке. Это остановило бы все. Но я этого не сделал.
Он украдкой оглядел церковь.
— Я его украл. Я и понять не успел, что сделал, как письмо оказалось у меня в кармане. Наконец-то я нашел мою принцессу, спавшую в башне замка. Она не пожелала стать моей, так я взял ее силой. В архиве не было охраны — никто не понимал ценности всего хранящегося там.
— Но вы не опубликовали свою находку?
— Это письмо лишь дало толчок. Оно намекало на вещи куда более существенные. Я, конечно, мог бы его опубликовать. Я должен был вернуться в архив, сделать вид, что нашел его, сообщить о находке. Но в этом случае я рисковал остаться с крючком, тогда как кто-то другой мог бы уйти с рыбкой. А я был ревнив. Как старый муж с молодой женой… вот только мне было двадцать четыре, а ей — пятьсот. Я спрятал ее. Мою тайну.
Рассказывая, он намотал нить из одеяла на указательный палец так туго, что кончик пальца побелел. Он, казалось, и не замечал этого.
— Я хранил мою тайну. Но недостаточно хорошо. Я был молод, и мне хотелось производить впечатление на женщин, хотелось затмевать конкурентов-исследователей (которые иногда оказывались и соперниками в любви). Я делал намеки, неясные замечания, напускал туман. Я был беспечен. Считал себя очень умным.
И вот однажды ко мне, в мой дом, пришел человек. Молодой священник. Отец Невадо. Он был тощий — мы все тогда были тощими, но он был костлявее всех и с красными, как у вампира, губами. Он сказал, что приехал из Италии, хотя сам явно был испанцем. Из этого я сделал вывод, что он работает на Ватикан. Он сказал: «До меня дошли слухи о вашем примечательном открытии». «Да, я нашел письмо от человека, который жалуется, что церковь украла у него кое-что, — сказал я. Я был самоуверен. — Вы пришли вернуть украденное?»
Глаза священника были прозрачными и холодными, как лед.
«Это письмо — собственность Святой Церкви».
И тут он посмотрел на меня. Я вам скажу: я видел русских солдат, которые с безумными глазами шли на наши пулеметы, пока не захлебывались в собственной крови. Я видел, как они стреляли в детей и насиловали девушек на улицах. Но, заглянув в глаза этого священника, я испугался сильнее, чем тогда.
«Вы отдадите мне это письмо, — сказал он. — И отдадите все копии, которые сняли с него, включая и переводы. Вы назовете мне всех, кому говорили об этом. И больше в жизни не упомянете его. Вы забудете о нем так, будто его никогда и не было».
Он сломал меня. Я был историком, специалистом по Средним векам, и знал, что может сделать церковь со своими врагами. Даже в двадцатом веке. Я слышал это в его голосе. Видел в его глазах. Я отдал ему письмо и все мои записи.
«Если вы кому-нибудь скажете об этом, то вас ждут все страдания, которым подвергались проклятые», — сказал он мне.
И я молчал. Десять лет я весь отдавался работе. Написал диссертацию и получил место в провинциальном университете. Посещал семинары и симпозиумы. Приглашал на обеды коллег и говорил комплименты их женам. Писал подобострастные рецензии. Женился. Но моя рана так никогда и не зажила.
Я написал книгу. Маленькую книгу, интересную лишь для специалистов. Но я гордился своей работой. Для меня это было как реабилитация. Священник забрал у меня сокровище, благодаря которому моя карьера могла бы подняться до заоблачных высот, но я все равно пробился наверх. И не мог отказать себе в победном клике.
Написал примечание. Мелочь — проходную ссылку, такую туманную, что ни один читатель и не обратил бы на нее внимания. Хотел потешить свою гордыню.
За две недели до выхода книги в свет мой издатель вызвал меня к себе. Он протирал очки, говорил сочувственные слова. Он сказал, что моей работе предъявлены серьезные обвинения в плагиате.
«Но там нет ни строки плагиата», — возразил я. Вы должны понять. Обвинить ученого в плагиате все равно что обвинить его в причинении вреда собственному ребенку. Я пять лет работал как раб на галерах, чтобы написать эту книгу.
«Конечно, там нет никакого плагиата, — сказал издатель. — Но они подают на нас иск на крупную сумму, и если мы проиграем, то будем банкротами. Ваша книга важна, но ради вас я не могу рисковать всеми нашими авторами».
«И что же нам тогда делать?»
«Они требуют, чтобы мы уничтожили все экземпляры. Они люди не мстительные — предложили даже оплатить затраты на уничтожение».
«Кто? — спросил я. — Кто эти люди, которые могут диктовать, что можно, а что нельзя печатать? — Но я уже, конечно, догадался. — К вам приходил священник?»
Издатель поигрывал авторучкой.
«Не забудьте принести сигнальные экземпляры, выданные вам. Мы должны отчитаться за все до единого».
Три дня спустя я возвращался с вечеринки вместе с женой. Было поздно, на дороге гололед. Может, я выпил лишнюю рюмочку шнапса… но в те времена все это себе позволяли. Я завернул за угол. Какого-то идиота занесло, и его машина остановилась посреди дороги. Столкновения было не избежать.
Олаф сложил руки.
— Моя жена погибла на месте. Я шесть месяцев пролежал в больнице и вышел оттуда в инвалидном кресле, в котором с тех пор и остаюсь.
— Полиция задержала водителя той машины? — спросила Эмили.
— Машина была угнана. Полиция сказала, что это какие-то юнцы, решили покататься, а когда машину занесло, испугались и убежали. Я им не поверил.
После этого я забросил историю. Это было слишком опасно. Я написал несколько туристических путеводителей по Майнцу; водил экскурсии по музею. Те люди забрали мое прошлое, настоящее и будущее. Я сорок лет прожил в ожидании смерти. Я никогда не рассказывал об этом.
— Но вы сказали об этом Джиллиан.
Старик откинулся к спинке своего кресла.
— Моя вторая жена умерла пять лет назад от рака. Я почти радовался этому — по крайней мере, моей вины в случившемся не было. Детей у нас нет. Больше они ничего не могут у меня забрать. Когда со мной связалась Джиллиан Локхарт, я подумал, что это мой последний шанс. Моя рана все еще не зажила.
— Как она вас нашла?
Олаф усмехнулся.
— Вы знаете парадокс Хокинга?
— Вы имеете в виду Стивена Хокинга?[47] — спросил Ник. — Его расчеты показали, что, когда материя попадает в черную дыру, вся информация уничтожается. Но это противоречит фундаментальному закону физики, согласно которому информация не может уничтожаться.
— Доктор Хокинг ошибался. Часть информации остается даже в черной дыре. Так случилось и с моей книжицей. Где-то каким-то образом несколько экземпляров выбрались из черной дыры, уготованной для них отцом Невадо. Одна пятьдесят лет простояла на библиотечной полке бог знает где. В ожидании. А потом какая-то интернет-компания занялась оцифровкой собрания этой библиотеки — в рамках проекта по сведению воедино всех накопленных человечеством знаний. Если бы отец Невадо знал об этом, то, наверное, разорвал бы на части всю Всемирную паутину, чтобы только избавиться от этой книги. Но даже он не может контролировать все. Джиллиан нашла эту книгу первой. Потом Джиллиан нашла меня. Я, сидя в этой самой церкви, рассказал ей то, что рассказал вам. И она, как и я пятьдесят лет назад, была слишком упряма и не хотела слушать мои предостережения.
— Вы рассказали ей о письме?
— О письме — да, рассказал. Но для нее важнее было узнать о библиотеке.
— Какой библиотеке? — Ник чувствовал себя как пьяница, бредущий по замерзшему озеру, — он все время поскальзывается и падает и даже понятия не имеет, какая под ним глубина.
— Bibliotheca Diabolorum. Библиотека дьявола.
Синий свет, казалось, еще плотнее обволок Ника. Эмили подвинулась на скамейке и прижалась к нему. У алтаря молодой священник читал литанию.
— Вы о такой знаете?
Ник и Эмили покачали головами.
— Ее название известно очень немногим. Вообще-то, согласно мифу, это ад для конфискованных, отверженных книг. Отчаявшийся ученый, когда все попытки найти нужную книгу не удались, в сердцах восклицает: «Значит, она хранится в Библиотеке дьявола».
— И она существует?
— Должна существовать. — Руки Олафа дрожали. Он сплел пальцы. — Они чуть не убили меня, чтобы защитить ее. Вот каким было примечание в моей книге: «Мы не должны исключать вероятность того, что какие-то книги из коллекции Иоганна Фуста были конфискованы и хранятся в так называемой Библиотеке дьявола». Вот за это они и убили мою жену.
— И об этом говорится в письме Фуста?
— Не совсем. Можете сами посмотреть.
Олаф заерзал на месте, начал что-то делать со своим креслом. Это было старинное устройство с деревянными подлокотниками, прикрученными к металлической раме. Один из винтов был недовинчен. Олаф засунул пальцы под подлокотник и вытащил оттуда лист бумаги, сложенный несколько раз гармошкой до ширины подлокотника.
Он протянул бумагу Нику.
— Информация сохраняется даже в чернейшей из дыр.
Преподобнейшему святому отцу во Христе кардиналу Энею Сильвио Пикколомини.
Пишу это послание, чтобы смиренно сообщить Вашей сиятельнейшей персоне о несправедливости, которую разные негодяи и бродяги творят от имени церкви; сии деяния, ежели Вам они известны, Вы, несомненно как и я, осуждаете от всего сердца.
Вчера днем два человека заявились в мой дом Хумбрехтхоф у церкви Святого Квинтина. Они приостановили работы, которые вел там мой сын и характер которых не стоит того, чтобы утруждать ими Вашу Милость. Они обыскивали дом, пока не нашли определенную книгу. Эта книга, хотя и маленькая и ничем особо не примечательная, попала ко мне от некоего господина, известного Вашей Милости.
Невзирая на мои горячие возражения, эти люди забрали названную книгу с собой. Посему я умоляю Вашу Милость, если Вам известно что-нибудь о сем попрании моих прав, использовать Вашу власть для отыскания этих бесчинствующих молодчиков и возвращения мне моей законной собственности.
Эмили смотрела на лист бумаги, сморщенный, как кожа Олафа.
— Вы запомнили его слово в слово?
— Священник забрал мои бумаги, но он не мог забрать мою память. Даже после того несчастного случая. С того времени не проходило и дня, чтобы я не повторял это письмо про себя.
— А кто такой Пикколомини?
— Этот человек, родившийся в христианской семье, дослужился до сана кардинала. А потом стал Папой.[48]
— Типичный человек эпохи Возрождения.
— Он на несколько десятилетий опередил эпоху Возрождения. Кстати, именно он оставил единственное свидетельское описание знаменитой Библии Гутенберга. Он видел ее на ярмарке во Франкфурте и написал о ней своему коллеге-кардиналу.
— «Некий господин, известный Вашей Милости», — прочла Эмили. — Вы считаете, что это сказано про Гутенберга?
— Именно так думала Джиллиан.
Олаф поднял взгляд. Глаза у него были бледны — выцвели давным-давно. Он устремил взгляд на Эмили, потом на Ника, подался вперед, стараясь разглядеть что-то вдали.
— Она была права. — Эмили вытащила из сумочки восстановленную страницу и протянула старику.
Бумага задрожала в его руке. Он глубоко вздохнул и подвинулся вперед в своем кресле. Морщины на его лице словно просели, будто из него медленно выходил воздух. Он пробормотал что-то по-немецки. Нику показалось — что-то вроде: «Только то копье, что нанесло рану, может излечить ее».
— Спасибо.
— А Джиллиан не сказала, где она нашла ссылку на эту Библиотеку дьявола? — спросила Эмили.
— Здесь, в Майнце, в Stadtarchiv, в Государственном архиве.
— Наверняка ее там уже нет, — сказал Ник. — Люди, которые забрали вашу книгу, похоже, очень неплохо умеют разыскивать все, что им нужно.
— Когда ваша подруга приехала сюда, она уже начала понимать это. А потому спрятала свою находку.
— И она не сказала вам — где?
— Спрятала там, где и нашла, — сказал Олаф. На мгновение Нику показалось, что старик заговаривается. — Подсказку — она не сказала какую — она нашла в описи книг из монастыря бенедиктинцев в Эльтвилле. Эта опись лежала в коробке со штрихкодом каталога. Джиллиан заменила его на другой штрихкод. Если вы будете искать опись Эльтвиллского монастыря, то ничего не найдете. Но если будете искать труды семнадцатого века по агрономии, то вас ждет сюрприз. — Он написал ссылку на их листе бумаги.
— И вы там были — видели?
Олаф покачал головой.
— Это было бы слишком опасно. Даже сейчас.
Он протянул руку и схватил Ника за локоть. Ник поморщился, хотя силы в сухих пальцах старика не осталось.
— Я сказал, что эта библиотека — если она существует — для отверженных книг. Но книги, в отличие от людей, не знают боли. Будьте осторожны.
LXX
Майнц
Душный июньский день. Солнце пробивалось сквозь малейшую щель тесно стоящих домов, быстро просушивало висящее на веревке стираное белье, спекало навоз на улицах в кирпичи. Дети играли в фонтане у церкви Святого Кристофера, плескаясь в воде и крича от удовольствия. Мясники отложили свои ножи и размахивали метелками из конского волоса в тщетной попытке разогнать мух. Город погрузился в оцепенение, отупев от запахов и жары.
Я шел по улице от Гутенбергхофа к Хумбрехтхофу. За мной два ученика тащили тележку, нагруженную маленькими бочками. Что бы ни думали соседи о нашем предприятии за запертыми дверями и закрытыми ставнями Хумбрехтхофа, наверняка они знали одно: эта работа вызывает жажду. А как еще объяснить такое количество емкостей, перевозимых по улице.
«Вот он мой жизненный путь», — думал я.
Всего каких-то пятьдесят ярдов. Мимо булочника, у которого я мальчишкой покупал сладкие пирожки, книготорговца, продававшего мне учебники, оружейника, который пытался научить меня фехтованию, когда мой отец еще верил, что из меня может получиться достойный наследник. Если бы я прошел еще столько же за Хумбрехтхоф, то оказался бы у монетного двора, где впервые в жизни познакомился с совершенством. Теперь я шел медленнее. На странице моей души было множество отпечатков — некоторые почти неразборчивы, другие выдавлены без чернил твердым пером и видимы только автору. Местами с пера на бумагу падали слезы. Она была закапана водой, кромки обожжены огнем.
Сегодня я собирался начать новую страницу.
За семь месяцев Хумбрехтхоф преобразился. Все стены были побелены против сырости. Соломенная крыша на пристройках снята и заменена черепицей. Сорняки во дворе вытоптаны множеством ног, а рядом со старой кухней вырыта яма для опилок. Рядом лежали толстые бревна. На всех дверях красовались новые замки, а со слухового окна на крыше спускались вниз мощные тали. Пустые бочки вроде только что привезенных были складированы в углу — до того момента, когда их увезут обратно.
Ученики выгрузили бочонки и открыли их. Внутри, словно куриные яйца, лежали в соломе склянки с чернилами. Ученики начали было их доставать, но я показал им, чтобы шли за мной. Остальные видели наше прибытие и высыпали из пристроек: бумажной мастерской, кладовки для чернил, сарая с инструментом и трапезной. Они пошли за мной вверх по лестнице, по коридору и затем в печатню.
Собрались все. Фуст с обреченным видом человека, приближающегося к Судному дню. Готц из кузни, все еще в кожаном переднике. Отец Гюнтер, теребящий крест на шее испачканными в чернилах пальцами. Саспах с молотком в руке, готовый к любым срочным заданиям. А вокруг все наши помощники и ученики из обоих домов, в общей сложности человек двадцать. Пришел даже Сарум, рыжий котяра, изгонявший крыс из бумажной кладовки. Он прилег у одной из ножек стола. А посредине стоял пресс.
Он перегораживал комнату, словно ворота: две мощные колонки, соединенные на вершине и посредине тяжелыми поперечинами. Колонки были прибиты к потолку и прикручены к полу, так что весь станок вплетался в ткань дома. Сверху в центре проходил винт, на котором фиксировалось прижимное устройство над длинным столом, растянувшимся между двумя колонками. На столе было подвижно закреплено ложе, которое можно подводить под пресс или уводить в сторону, чтобы менять бумагу или литеры. Это мало походило на то хрупкое сооружение, что мы впервые построили в подвале у Андреаса Дритцена двенадцатью годами ранее.
Я встал рядом с прессом и обратился к собравшимся. Не помню, что я сказал, да и думаю, они не особо слушали. Единственные слова, имевшие значение в тот день, были отлиты в свинце на основании пресса. Я завершил свою речь молитвой, прося Господа благословить наше скромное предприятие, которое мы основали во имя Его и служа Ему.
Как только я закончил, вперед вышел Каспар. Он не смотрел на собравшихся. Он всегда умел быстро сосредоточиваться, но после того, что с ним случилось, обрел почти необоримую способность не обращать внимания на окружающих. Я думаю, ему нужна была броня от взглядов и насмешек прохожих, которые пялились на его уродство на улице.
Он откупорил две бутыли с чернилами — большую с черными и маленькую с красными. Сначала обмакнул кисточку в красные чернила и осторожно нанес их на первую строку.
Потом налил рядом с прессом лужицу из черных чернил, густых и клейких, как нефть. Он помешал чернила ножом, ровно их распределив на плитке, потом взял два кожаных шарика на палочках. Один обмакнул в чернила, потом потер их друг о друга. Когда коричневая кожа стала однородно черной, он принялся натирать ею металлические литеры в прессе, совершая короткие круговые движения, словно замешивая тесто. Чернила распределились по форме тонкой пленкой.
Он отошел. Я вздохнул с облегчением. Я хотел, чтобы Каспар был частью этого мгновения, потому что его руки художника были наиболее ловкими в обращении с чернильными шарами. Но еще и потому, что это представлялось справедливым. Он являлся моей путеводной звездой, началом всего случившегося потом. И в то же время я, как всегда, испытывал некоторое беспокойство. В людях, что его окружали, всегда находилось что-то, вызывающее его неприязнь, раздувающее в нем опасное пламя.
Два молодых человека стояли по сторонам пресса — ученик по имени Киффер, которого я привез из Штрасбурга, и Петер Шеффер. Каспар выражал недовольство тем, что Шефферу была предоставлена эта честь, но я настоял на своем. Это была политика — дело происходило на глазах Фуста, и оно того заслуживало. Шеффер уже зарекомендовал себя самым многообещающим из моих учеников. У него было чутье к книгам, которым не обладал никто другой в нашей команде ювелиров, плотников, священников и художников.
Шеффер положил на доску, петлями прикрепленную к ложу пресса, лист пергамента. Пергамент, удерживаемый шестью шпильками, таким образом оказался против намазанных чернилами литер. Потом он откинул доску назад на петлях и завел под прижимное устройство. Они с Руппелем взялись за рукоять, приделанную к винту, и повернули ее.
Я бы хотел и сам ее повернуть, но я был стар, а эта работа требовала немалых усилий. Под натягом винт заскрипел и затрещал. Они задержали его на мгновение, потом повернули рукоять в обратную сторону.
Киффер вытащил доску и откинул клапан, так что стала видна нижняя сторона пергамента. Потом он отпустил шпильки и высвободил лист, хотел было перевернуть его, но, помедлив мгновение, передал мне. Собравшиеся плотным кружком обступили меня — все хотели увидеть результат.
На странице блестели тысячи крохотных букв, влажные и черные, как смола.
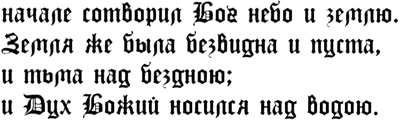
Текст не был завершен. Позднее с медной дощечки Каспара предполагалось добавить буквицу «В». Завтра печать на лист нанесут с другой стороны. А потом, еще через два дня, лист будет соединен с соседними, все будет сложено, прошито и наконец переплетено с другими. Но пока страница выглядела безупречно. Каждая буковка новых литер Готца получилась четкой и цельной, более ровной, чем могла бы сделать рука смертного писца.
Я посмотрел на Каспара, желая разделить с ним торжество. Он избегал моего взгляда и уставился на пергамент, скривившись, будто надкусил кислое яблоко. Я знал, что его не устраивает — пунктуация на полях. Петер Шеффер был прав. Совершенство казалось идеальнее, если на самом деле не являлось таковым. Почему так происходило, я не понимал, но так оно и было на самом деле.
Я хотел подойти к Каспару, обнять его, напомнить ему, что это в такой же степени его победа, как и моя, но тут передо мной возник Фуст. Щеки у него раскраснелись, в руке он держал кубок с вином. Он похлопал меня по плечу.
— Ты сделал это, Иоганн. Скоро все писцы и рисовальщики в Майнце останутся без работы.
Я заставил себя улыбнуться.
— Если будет на то воля Божья. Пока мы сделали лишь один экземпляр первой страницы. Предстоит сделать еще почти две сотни тысяч.
Настоящее испытание нас ждало десять минут спустя, когда Шеффер и Киффер пропустили через пресс второй лист пергамента. Шеффер вытащил его и повесил сушиться на подставку рядом с первым, проверяя каждую букву на малейшее отклонение.
Они были неотличимы. Идеальные копии.
Солнечный свет проникал сквозь бычий пузырь в окне, разливаясь цветовым веером по противоположной стене. Новый Завет. Я вспомнил старика в Париже.
«Пока в момент совершенства не обретет сияния радуги. Это и есть знак».
Я упивался моим мгновением совершенства и хотел, чтобы оно никогда не кончилось.
LXXI
Майнц
Он был слишком знаменит, чтобы заниматься такими делами. Он не искал славы, презирал своих коллег, которые светились на телевидении, вынося сор, который должен был оставаться в стенах матери-церкви. По возвращении из студии этих людей Невадо нередко вызывал к себе и сообщал: их ждет новое место в провинциальных епархиях на далеких континентах. Ему нравилось уничтожать их. Он сам себе казался садовником, который подрезает ветки, уродующие форму дерева.
Но теперь он почти достиг вершины своей карьеры. На таких высотах он, осиянный, уже не мог полностью скрываться в тени. Он стал видимым. Когда умер предыдущий Папа, в газетах появились среди других и фотографии Невадо. Невежественные комментаторы писали невежественные статьи для своих невежественных читателей, размышляя, достоин он или нет поста Папы. Он читал эти статьи, а потом растапливал ими печь у себя в ватиканских апартаментах. Он всю свою жизнь сжигал такого рода отходы. Иного они и не заслуживали.
Но ошибка, однажды проросшая в мир, не могла уже быть выкорчевана полностью. Пятьдесят лет назад, когда он начинал, — да, но не теперь. И все равно он понимал, что должен сделать это. Кто-то, может, назвал бы это судьбою. А для кардинала Невадо это было божественным промыслом.
Он натянул шарф, закрывая рот, и вошел в церковь.
Они двинулись вниз по склону холма в направлении к старому городу и реке. Дома в Майнце были словно построены для обитателей другого размера: Ник и Эмили, которые шли, держась за руки, по занесенной снегом улице, казались себе карликами рядом с этим высокими стенами.
Архив размещался в современном здании, выходящем на главную дорогу; с тыльной стороны между архивом и Рейном расположился парк. На берегу у пристани стоял пассажирский паром.
Они успели. Архив собирались закрывать, и архивариус явно надеялась добраться домой пораньше в этот снежный день. Но она встретила их с улыбкой и провела в подвал, где они оказались в лабиринте просевших под тяжестью папок стеллажей, освещенных голыми лампочками. В дальнем углу из-под груды папок она извлекла картонную коробку, положила ее на стол у стены рядом с решеткой отопительной системы.
— Читальный зал уже закрыт. Можете поработать здесь. — Она посмотрела на часы. — Мы даем вам час. А потом запрем здесь.
Олаф сидел в церкви, созерцая ангелов. Когда его старческие глаза утрачивали способность видеть четко, он наслаждался иллюзией, будто ангелы бежали из своей стеклянной тюрьмы и воспарили в голубое небо. Он представлял себе, что Труди, его первая жена, играет вместе с ними, и надеялся, что теперь она счастливее, чем была когда-либо с ним.
Его инвалидное кресло дернулось. Кто-то толкнул его сзади. Олаф поднял сморщенную руку в ожидании извинения — он привык к подобным вещам, — но ничего такого не последовало.
Он повернулся и увидел лицо из своих ночных кошмаров.
Там было двенадцать страниц плотного текста в одну колонку. За столетия каталог не раз подвергался доработкам. Разлиновка уничтожила многие записи, а поля превратились в параллельное перечисление имен, дат и нацарапанных чисел.
— Что мы ищем?
— То, что искала Джиллиан, когда обнаружила ссылку на Библиотеку дьявола. Возможно, что-то, относящееся к пятнадцатому веку. Может быть, бестиарий или название, о котором мы не слышали прежде.
Ник попытался прочесть первую строку каталога. Но средневековый почерк и латынь не давались ему.
— Как он организован?
— Хронологически.
— Тогда найти книги пятнадцатого века должно быть не так уж и сложно.
— Хронологически по дате приобретения книги монастырем, — поправила его Эмили.
Ник недоуменно посмотрел на нее.
— Что это еще за странный принцип?
Эмили, словно защищая архивариусов от критики, положила на страницу руку.
— Карточные каталоги были изобретены только в восемнадцатом веке. А до этого в библиотеках и архивах только и могли, что записывать поступающие книги. Если книги продавались или терялись, их вычеркивали. Можешь себе представить, насколько важна была функция библиотекаря в монастыре.
Она наклонилась над первой страницей.
— Большинство этих книг были Библиями или молитвенниками. На них мы, вероятно, можем не обращать внимания.
— Если только монахи не прибегли к тому же трюку, что и Джиллиан, — пробормотал Ник. — Если эта книга была такая сомнительная, они могли сделать о ней какую-нибудь кривую запись. — Он показал на запись в середине страницы. — Что это?
— «НАЗВАНИЕ: DE NATURA RERUM».
— И каким временем она датирована?
— Изначально? Приблизительно трехсотым годом до нашей эры. — Эмили не смогла сдержать улыбку. — Это Аристотель.[50]
Олаф с пятнадцати лет не верил в Бога. Но он верил в судьбу и в свои годы повидал достаточно, чтобы сразу понять: пришел его черед. Он не стал противиться, когда кардинал Невадо взялся за ручки его кресла и выкатил его на улицу. После голубоватого чрева церкви он оказался в мире, залитом отвратительным желтым светом.
— Вы хорошо спрятались, — сказал голос ему в ухо. — Мы целую неделю пытались вас найти.
— Я всегда знал, что вы это сделаете.
— Но по-настоящему не верили. — Колеса кресла занесло при повороте. — Человечество при всей своей хитроумности склонно к самообману. Мы слишком доверяемся своему опыту. Если нам что-то сошло с рук один раз, мы считаем, что так оно будет и всегда. Но чем чаще мы идем на риск, тем вероятнее нас настигает поражение. Вы предали нас один раз с американской девчонкой и не поплатились за это. Вы не должны были встречаться в том же месте во второй раз.
Олаф смотрел перед собой.
— Мне нравится смотреть на ангелов.
— Надеюсь, вы в достаточной мере насладились ими. Некоторое время они побудут последними ангелами, что вы видели.
Олаф внезапно разволновался. Он выгнул назад голову, но лица своего похитителя не увидел — только длиннополое черное пальто да темноту, которая стеной вставала у него за спиной.
— Что вы хотите узнать от меня?
— Ничего. Мы знаем все.
Кардинал Невадо сунул руку в карман и вытащил оттуда походный нож, завел его под тормозной тросик инвалидной коляски. Движение запястья — и тросик был перерезан.
— Да простит Господь те грехи и ошибки, что ты совершил, — пробормотал Невадо. Потом возложил длань в перчатке на голову Олафа, задержал ее там на секунду в благословении, после чего толкнул коляску.
Холм был крутой и гладкий, как стекло. Олаф пытался ухватить колеса руками, но на укатанной поверхности от этого не было никакого проку. Коляска понеслась вниз и выкатилась на проезжую часть внизу — двухполосный отрезок кольцевой дороги.
С вершины холма Невадо видел, как коляска подпрыгнула в воздухе, когда в нее врезался грузовик. Она перескочила на соседнюю полосу, подпрыгнула и исчезла под колесами автомобиля.
От Ника тут было мало пользы. Он вышагивал по подвалу, читая наклейки на папках и спрашивая себя, какие еще тайны могут в них скрываться. Когда ему наскучило это, он включил свой ноутбук, чтобы разложить пасьянс. После того как неудача постигла его три раза подряд, он вернулся за стол к Эмили.
— Нашла что-нибудь?
Эмили нахмурилась.
— Трудно сказать. Многие из этих названий мне незнакомы. Я никак не могу их датировать.
Часы на компьютере показывали, что прошло уже полчаса. Без особой надежды Ник попытался подключиться к беспроводной сети. К его удивлению, соединение установилось почти мгновенно.
— Может, мне удастся помочь.
Он подтащил к столу короб с папками, чтобы использовать его в качестве табуретки. Эмили читала названия, а он запускал их в поисковик, постепенно отсеивая из каталога все, что вроде бы не было написано в середине пятнадцатого века. В нижнем углу компьютера часы отсчитывали минуты.
— Вот тут еще одна, — сказала Эмили. — Никаких подробностей — одно название. «Liber Bonasi».
Ник ввел в поисковик «Bonasi».
Вы имели в виду «Бонсай»?
Дальше множество ссылок предлагали ему на выбор различные сайты, имеющие отношение к деревцам бонсай.
— Ничего не выдает.
— Странно. — Она вглядывалась в каталог. — Попробуй тогда «Bonasus». Может быть, это более распространенная форма.
Японские садоводы исчезли. Ник принялся просматривать новые результаты, пытаясь найти какой-то смысл.
— Похоже, что Bonasus — это какой-то польский зубр. Судя по всему, эти зубры трескают какую-то дикую травку, на которой настаивают водку.[51] Класс, да?
Он оторвался от экрана, в недоумении посмотрел на нее — отчего это она так замерла.
— Тут так написано.
— Попробуй «Bonnacon».
Она продиктовала ему слово по буквам. Ник ввел его и кликнул по первой появившейся ссылке.
Эмили встала и обошла стол, чтобы видеть экран.
— Вот оно.
На экране появилась новая картинка: странное животное с мощными боками, завернутыми внутрь рогами и раздвоенными копытами. За ним гнались три рыцаря с копьями, но их отбросила назад этакая раздвоенная струя пламени, вырывающаяся из-под хвоста животного.
Ник прочел подпись.
«Боннакон, известный также как бонасус. Мифическое животное с лошадиной гривой, телом быка и рогами, загнутыми внутрь, а потому бесполезными в схватке. При нападении на боннакона он убегает, выпуская обжигающий, словно огонь, навоз. Дальность метания достигает двух миль».
Слушая вполуха, Эмили достала из сумочки распечатку восстановленной страницы и положила рядом с компьютером. Ник переводил взгляд с экрана на бумагу, с бумаги на экран.
Животные были одинаковые. Не идентичные, но явно принадлежащие к одному фантастическому виду. То, что Ник принял за кустистый хвост, на самом деле было облаком огненных экскрементов, выброшенных животным.
— Дерьмонапалм, — сказал Ник. — Хорошо, что мне не пришлось ходить следом за одним из таких.
— «Liber Bonasi» означает «Книга Бонасуса». Это мог быть псевдоним. Вроде Либеллуса или мастера Франциска.
Ник обошел усеянный бумагами стол, чтобы снова посмотреть в каталог.
— Так здесь есть упоминание о Библиотеке дьявола?
— Нет. — Эмили показала на запись.
Название было вычеркнуто, но в отличие от других книг здесь не было ни даты, ни указания, куда она выбыла. Поля были пусты.
— Олаф сказал, что Джиллиан нашла ссылку здесь.
— Если бы ты хотел отправить опасную книгу в некую тайную библиотеку, то, наверное, не стал бы фиксировать это в каталоге.
— Или сделал бы это незаметно. — Ник вытащил сотовый телефон и включил его — впервые после того, как они выехали из Парижа.
Экран засветился голубовато-белым светом.
— Это, конечно, не ультрафиолет, но, может, что и получится.
Он приложил трубку к средневековому каталогу — свет разлился по странице. Ник принялся медленно водить телефоном то в одну, то в другую сторону, пытаясь поймать какие-либо признаки выдавленных букв.
— Это что?
Он поймал его — чуть заметный след на бумаге, почти невидимый в слабом свете. Он увеличил яркость дисплея, прослеживая очертания вдавленности, как археолог, просеивающий песок. Ему пришлось читать буква за буквой. Несколько раз он понимал, что ошибся, и возвращался назад.
«Bib Diab. Portus Gelidus».
На стальной лестнице послышались шаги. Ник подпрыгнул, но это была всего лишь архивариус. Эмили сложила каталог и сунула его в коробку.
Архивариус постучала по часам у себя на руке.
— Мы закрываемся.
Они последовали за ней наверх. На лестнице Ник спросил:
— Вам что-нибудь говорит название Портус Гелидус?
Архивариус удивленно нахмурилась.
— В Средние века такое название носил Обервинтер. Это деревня в горах на Рейне. — Она прошла в холл и показала в окно. За оживленной дорогой над съездом к пристани безжизненно повисли флаги. — Туда можно добраться на пароме.
Невадо оглядел улицу — по-прежнему ни души. Шляпа должна была скрыть его лицо от тех, кто мог видеть случившееся из окон, и от камер наблюдения. Он не думал, что полиция займется проверкой: произошедшее было слишком очевидно. Старик на льду потерял управление коляской, его понесло — и он погиб. Трагедия. Кардинал быстро зашагал прочь, нашел улицу, тротуар на которой был очищен от снега. Издали до него донесся вой сирен.
Вибрация в кармане напомнила ему, что его работа еще не завершена. Он вытащил телефон и слушал несколько мгновений.
— Ничего не делать. Ждать меня.
Когда-то Майнц был защищен камнем, теперь его стенами стали снежные бастионы — снегоочистительные машины сдвинули снежную массу на обочины двухполосного шоссе, отделявшего реку от остального города. На шоссе образовалась пробка. Машины подавались к обочине, давая дорогу карете «скорой». Наверное, кого-то занесло — неудивительно в такую погоду. Ник поискал глазами столкнувшиеся машины, но ничего не увидел.
Они протиснулись мимо стоящих автомобилей и вышли на широкую бетонированную набережную Рейна. Здесь их встретил колючий ветер — на реке он хлестал воду, которая щерилась пенистыми клыками. У флагштоков матрос в синем комбинезоне отвязывал швартовый конец от кнехта. Они прибавили шагу.
— Это судно идет в Обервинтер? — спросил Ник.
Ответ утонул в реве двигателя — паром готовился к отплытию. Воздух наполнился запахом дизельного выхлопа. Матрос оторвал два билетика с барабана и сунул их в руку Ника.
— Заплатите на борту. Может, и доберемся до Обервинтера. — Он посмотрел на небо. — А может, и нет.
Они пробежали по трапу и вошли внутрь, укрываясь от холода. Они не оглядывались, а потому не видели человека, перебежавшего через дорогу, — ему пришлось лавировать между машин, которые наконец пришли в движение. Человек остановился перед расписанием движения паромов на доске объявлений. Не видели они и человека в темном пальто и низко надвинутой на лоб шляпе, который подошел минуту спустя.
Уго услышал шаги Невадо и повернулся.
— Первая остановка в Рудешейме — недалеко. Может, на машине успеем.
Кардинал покачал головой. Паром на реке тем временем маневрировал между двумя громадными баржами.
— Мы знаем, куда они направляются.
LXXII
Майнц
Паром отошел от пристани, осторожно протиснулся между двумя спускавшимися с верховьев баржами, груженными лесом. Август был дождливый и ветреный; мощный поток подхватил маленькое суденышко, когда оно вышло из-под защиты более крупных барж. Бурая волна ударила ему в борт. Лодочник принялся грести изо всех сил, а пассажиры прижались друг к другу и стали креститься. Я смотрел на их испуганные лица с безопасного берега. Один раз я путешествовал на этом пароме — бледнолицый юнец, отправившийся в большой мир. Какой долгий путь проделал я с тех пор.
Из склада появился Фуст, прошагал мимо группы бродячих комедиантов, только что сошедших на берег, и, подойдя ко мне, поздоровался на свой всегдашний манер.
— Сколько страниц?
— Девять.
— А сколько должно быть?
— Двадцать одна.
— Уже очень запаздываем. — Он нахмурился. — Почему?
— Когда берешься за проект такого масштаба, не обойтись без проблем. Литеры изнашиваются быстрее, чем мы предполагали. Мы расходуем больше чернил, чем разрешается, — я не знаю почему. И мы до сих пор не можем добиться того, чтобы буквицы попадали на место.
— Второй пресс?
— Саспах обещает изготовить его через две недели.
— Он обещал это две недели назад.
— Один из столбов не был должным образом высушен. Он настоял, чтобы мы его разобрали и начали заново.
Фуст закатил глаза.
— Тоже мне педант.
— Задерживает нас не это. Наборщики набирают текст дольше, чем печатники печатают. Я разбил их на две команды, и они теперь работают над разными частями Библии, но Гюнтер все еще находит слишком много ошибок. Вчера он отправлял назад одну страницу пятнадцать раз, прежде чем она была готова. Но ошибки все равно остаются. Вчера мы отпечатали девять экземпляров одной страницы и только после этого заметили, что две строки набраны справа налево.
— На бумаге или на пергаменте?
— На пергаменте.
— Сначала нужно делать отпечатки на бумаге, — укоризненно проговорил Фуст. — Тогда ошибки будут обходиться нам дешевле. И не следует так уж переживать из-за незначительных погрешностей. Если мы будем переделывать каждую страницу из-за описок, то будем печатать до Судного дня.
У меня мурашки пошли по телу. Любая мысль о небрежности в книге ранила меня.
Фуст отвернулся.
— Пройдемся.
Я поспешил за ним, обходя лужи на набережной. Подняв глаза к небу, я понял, что к ночи луж станет еще больше. Нужно будет перед сном проверить крышу в кладовке для бумаги.
— Дело, которым ты занимаешься, Иоганн, уникально.
Я молчал. Когда он называл меня по имени, у меня появлялись сомнения. Наверху раздался скрип подъемника, переносившего с баржи тюки с негашеной известью. Немного порошка просыпалось сквозь дыру в тюке, и вода, куда попадала известь, начинала бурлить и шипеть.
— Я знаю, что любому новому ремеслу сопутствуют трудности. Проблемы, которые мы не предвидели. Но нам нельзя благодушествовать. Мы должны энергично реагировать, иначе эти трудности будут накапливаться. Правда, тут есть и другие соображения.
За разговором мы подошли к складу, расположенному чуть поодаль от реки. Он был построен на манер замка — с окнами-щелями и зубчатой стеной вдоль крыши. Фуст показал глиняную табличку стражнику, который пропустил нас внутрь. В помещении пахло вином и опилками. Я увидел тюки с материей, кувшины с маслом и в одном углу гору коробок, запечатанных воском с нарисованным символом в виде виноградной грозди.
Фуст вытащил складной нож из мешочка на поясе и разрезал крышку верхней коробки. Затем развернул влагостойкую ткань, в которую было завернуто содержимое. Я знал, что под этой тканью. Я открывал не один десяток таких коробок в кладовке Хумбрехтхофа. Упаковка бумаги, пропитанной шлихтовочным составом, а оттого хрупкой и глянцевой.
— Я не заказывал еще бумаги, — сказал я.
— Я заказал.
Я насчитал девять коробок. В каждой по две упаковки в пятьсот листов. На четверть больше наших запасов.
— И во сколько же это обошлось? Даже с учетом отходов у нас больше чем достаточно для наших потребностей.
— Я разговаривал с моими клиентами. — Он успокаивающе прикоснулся к моей руке. — Между нами. Я произвел кое-какие расчеты. Ты сам говорил, что основные трудозатраты — это набор страницы. Стоимость набора не зависит от того, сколько мы сделаем оттисков — один или тысячу. Но когда страница набрана, отпечатки получаются сравнительно быстро. Поэтому чем больше экземпляров мы напечатаем, тем меньше будет стоимость набора из расчета на одну страницу. А затраты на дополнительное время, бумагу и чернила — они почти самоокупаются.
— И сколько еще отпечатков?
Он повел меня из склада на улицу.
— Тридцать. Все на бумаге. По моим расчетам, это увеличит общие расходы на девяносто гульденов — я вкладываю эти деньги, — но при этом увеличится и прибыль — на девятьсот гульденов.
— Если мы их продадим, — предостерег я его. — К тому же мы еще больше отстанем от нашего расписания.
— Мы не можем позволить себе отодвигать сроки. Те деньги, что я вложил в работу, взяты под проценты и должны быть возвращены через два года.
— Долги можно переструктурировать, — беззаботно сказал я.
Наверное, слишком беззаботно. Он повернулся и жестким взглядом посмотрел на меня.
— Книга будет закончена вовремя. Мы должны удвоить наши усилия. Может быть, какие-то процессы могут быть усовершенствованы.
— Какие?
— Ну, взять, например, рубрикацию. Я был в печатне, видел, сколько времени мы теряем, накладывая чернила двух цветов на литеры. Иногда черные чернила натекают на красные, и тогда приходится удалять всю форму, протирать и накладывать чернила снова.
— Да, процесс трудоемкий, — признал я. — Но без рубрикации книга будет стоить меньше. — Говоря откровенно, мне была невыносима мысль о постороннем вмешательстве в мою книгу, о том, что кто-то нарушит единство целого.
— Чепуха. Покупатели и знать не будут о незначительной потере. Любой покупатель Библии предполагает, что он должен будет заплатить рубрикатору, так же как переплетчику и иллюминатору.
— Не иллюминатору. У них будут дощечки Каспара.
Мы остановились на набережной. Река билась о стену внизу. Стая лебедей клевала траву, пробивающуюся между камнями.
— От этого тоже придется отказаться.
Фуст и не глядя на меня наверняка знал о том выражении, что появилось у меня на лице.
— Я знаю, что он твой давнишний друг. Но мы вложили в это предприятие слишком много и не можем позволить какой-то дружбе ставить его под угрозу.
«Какой-то дружбе».
— Он больше чем друг. Без него не было бы всего этого предприятия. Я переписывал учебники в Париже, а он в это время уже печатал свои карты.
— Тогда он должен понять, что новое ремесло требует компромиссов.
У меня это вызывало большие сомнения.
— Что-нибудь еще? — спросил я.
— Тебе нужно обратить внимание на композицию страницы. Петер считает, что на каждую страницу можно добавить по две строчки, не меняя ее внешнего вида. Большее число строк на странице означает меньшее число страниц в книге. Меньше расход бумаги и времени, больше прибыль. Уже одно это позволит сэкономить половину времени, потраченного на печать лишних экземпляров.
— Я подумаю об этом, — холодно сказал я. Несмотря на свой солидный возраст, я чувствовал себя ребенком, которому не дали обещанную игрушку. Мне хотелось плакать.
Фуст стряхнул в ладонь четки с запястья и принялся перебирать их быстрыми, выверенными движениями, словно костяшки на счетах.
— Ты не можешь сделать все, Иоганн. Эта книга и без того уже настоящее чудо. За два года мы изготовим больше книг, чем один писец мог бы за две жизни. Мы не должны ставить перед собой невыполнимые задачи.
— Это была моя мечта, — прошептал я. — Донести Божье слово таким, каким его задумывал Господь.
— Слова не меняются. Речь идет только об украшениях. Ради бога, откажись от них. Мы вложили в это дело слишком много, чтобы позволить себе потерпеть неудачу.
— Я делаю это не ради прибыли.
— Не ради? Я видел твое лицо, когда сказал, какой доход мы получим от дополнительных экземпляров. И потом, если ты работаешь не ради прибыли, то я — ради. А ты работаешь на меня.
— У нас партнерство.
— Если тебе не нравятся условия, я готов разорвать соглашение. — Он сжал четки в кулаке. — Я не это имел в виду. Я знаю, все это очень важно для тебя. Но ты, как никто другой, должен исходить из практических соображений.
Он несколько мгновений смотрел на меня, потом перекинул четки назад на запястье, вздохнул, собираясь уходить, однако вспомнил что-то.
— Я вчера произвел учет наших запасов пергамента. Отсутствуют три кожи. — Он внимательно посмотрел на меня. — Я слышал, что ты напечатал партию грамматик в Гутенбергхофе на прошлой неделе.
— Пергамент, который мы собирались использовать, промок. После просушки он начал бы крошиться, как печенье. Я обещал, что книги будут поставлены вовремя, поэтому позаимствовал несколько кож из запасов в Хумбрехтхофе. Верну их, когда мы получим новую партию.
Его глаза сверкнули.
— Ты помнишь мои слова? Все, что приобретается для нашего предприятия, в нем и остается. Ты не можешь что-то заимствовать, как работник на винограднике, набивающий живот виноградом хозяина. На сей раз я закрою на это глаза, но чтобы больше такого не повторялось.
Он ушел, оставив меня на набережной. Течение крутило колеса плавучих мельниц. Мне вдруг пришло в голову, что моя мать, наверное, стояла здесь несколько десятилетий назад, глядя, как ее младший сын отплывает в Кельн с одной только чистой рубашкой на смену. Плакала ли она? Думала ли, что вот ее жизнь отрывается от нее: сначала муж, потом сын? Предполагала ли она, что может случиться дальше?
На лицо мне упали капли дождя, смешиваясь со слезами.
LXXIII
Рейн
Ник стоял на носу парома. Брызги окропляли его щеки, но это было приятнее, чем сидеть в невыносимой, пропитанной табачищем атмосфере внутри. У него возникло ощущение, будто он плывет в сказку. Не в современную, с остроумными животными и песнями, написанными так, чтобы их можно было использовать в качестве рингтонов, а в старомодные запутанные истории, вплетенные в местный колорит, в темные леса и скалистые горы. Рейн здесь нес свои воды по покатым равнинам, засыпанным снегом, под высокими утесами, куда когда-то сирены заманивали несчастных моряков. На вершине каждого холма возвышался строгий замок, наблюдающий за судами, плывущими вниз по реке. Некоторые являли собой руины, другие выглядели так, словно заиграй сейчас труба, и на стенах появятся его защитники, готовые к бою.
— Хорошо, что мы сели на паром. — Эмили показала рукой в перчатке в сторону берега. Единственная дорога петляла параллельно реке, прижимаясь к склону. Она была почти не видна под снегом. — Ни одной машины. Наверное, дорогу закрыли.
— Это хорошо, — сказал Ник. — Тем труднее им нас достать. Если только не будет еще одного парома.
— Бармен сказал, что на сегодня это последний. А завтра тоже, наверное, не будет, если ледовая обстановка не улучшится.
— Хорошо, — повторил Ник, стараясь убедить себя.
Ему было страшно. Нет, он не испытывал того внезапного притока адреналина, который чувствует в своих жилах преследуемый, — к этому он уже привык за последние дни. Это был какой-то более глубокий страх, холодные пальцы, медленно душившие его, по мере того как он сползал в пропасть. Ощущение, что пути назад нет.
Эмили вытащила помятую бумажную салфетку и, не снимая перчаток, принялась разрывать ее на мелкие кусочки и бросать обрывки в воду.
— Как ты думаешь, мы найдем то, что ищем?
— Ты хочешь сказать — того, кого ищем?
— Извини. — Она проводила взглядом клочок салфетки. Река тут же забрала его.
Ник ничего не ответил, он качнулся вбок и прижался к ней, а она склонила голову ему на плечо.
— Не могу понять, при чем тут молитва Манассии, — сказала она.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы идем по следу Джиллиан. А вот по какому следу шла она? Она отправилась в Обервинтер после своей находки в архиве Майнца. А это не имеет никакого отношения к молитве Манассии и к медведю, роющемуся в земле.
— Может быть, мы шли по неверному следу с этими рисунками, — предположил Ник. — «Записи царей Израилевых» считаются потерянной книгой Библии. Может быть, автор таким образом хотел сказать, что книга отправилась в то место, куда отправляются пропавшие книги. В Библиотеку дьявола.
— Но медведь… Ты думаешь, это совпадение, что рисунок с карты оказался именно в молитве Манассии?
«Ключ — медведь».
— Ты сама говорила, что средневековые художники все время копировали друг друга.
— Ощущение такое, будто мы идем по следу, который кто-то оставил нам пять столетий назад. Надписи, сделанные твердым пером, спрятанные книги, повторяющиеся образы… Но я не уверена, что это указывает на Обервинтер.
— А Джиллиан была в этом уверена.
Ник чуть отодвинулся, ровно настолько, чтобы засунуть руку в карман — хоть чуть-чуть отогреть. Он коснулся тонкого корпуса своего сотового, ощущая покалывание от притока крови к пальцам.
Нет, понял он, это была не кровь — телефон у него в кармане вибрировал. Он к тому же и звонил, но за ревом двигателя и шипением воды Ник не слышал звонка. Видимо, он забыл выключить телефон, после того как использовал его для подсветки в архиве.
Он вытащил трубку, посмотрел на нее, как на артефакт какой-то неземной цивилизации. А потом, от усталости и непроизвольной реакции на звонок, нажал «ответить».
— Ник? Это Саймон.
Ник чуть не выронил трубку. Эмили посмотрела на него, округлив рот: «Кто?»
— Ательдин, — прошептал Ник. Потом в трубку: — Откуда у вас этот номер?
— Вы же звонили мне со своего телефона из Нью-Йорка. Я вам названиваю вот уже двадцать четыре часа. Вы не получали моих посланий?
— Где вы?
— В Майнце. Это на Рейне. Неподалеку от Франкфурта. Не прозвучали ли его слова слишком уж непринужденно?
Слишком самоуверенно, слишком шапкозакидательски? Или Ник впадает в паранойю?
— И как Майнц? — спросил он, стараясь говорить спокойно.
— Тут есть великолепный собор в романском стиле. И магазин, где продаются шоколадные бюстики Гутенберга. — Сарказм прозвучал вполне уместно. — Но я сюда не за ними приехал. Я позвонил в наш парижский офис, и оказалось, что на следующий день после нашего отъезда мне пришел пакет. Из Майнца. Моя секретарша узнала почерк Джиллиан.
— И что там?
— Вы должны сами это увидеть. Вы можете приехать в Майнц?
— Не сейчас. Вы мне не можете сказать, что там она пишет?
— Это будет проще показать.
В висках у Ника застучало.
— Бога ради, Ательдин, мы пытаемся найти Джиллиан. Сейчас не время для игр.
— Абсолютно с вами согласен. Почему вы мне не говорите, где вы?
Ник молчал. Ательдин раздраженно вздохнул.
— Вы слышали про дилемму заключенных? Два человека в камере. Если они доверятся друг другу, то обретут свободу. Если нет, то оба будут повешены. Мы с вами именно в таком положении.
Ник по-прежнему молчал. Он был в ступоре, заморожен неопределенностями, от которых у него мутился разум.
— Джилл точно была в Майнце две недели назад. Я заходил в архивы: они там ее помнят. Мы почти у цели, Ник.
— Что было в посылке от Джиллиан?
Ательдин помолчал. Потом заговорил:
— Хорошо. Вы хотите баш на баш — ладно. Это была первая страница из бестиария, с которым вы убежали из Брюсселя. Кто-то ее вырвал, а Джиллиан, я думаю, нашла. Я сделал фотографию страницы на телефон и посылаю вам сейчас. Принимайте.
Ник ждал. Не было ли это еще одной ловушкой? Каждую секунду пребывания в Сети волнение Ника возрастало.
Электронная трель возвестила о том, что сообщение получено.
— Ну… так где вы?
Может быть, дело было в усталости. Может быть, в голосе Ательдина: каким бы покровительственным и высокомерным он ни казался, послышалась редкая нотка чего-то знакомого. Может быть, в его просьбе крылось какое-то отчаяние. Если мы не доверимся друг другу, то оба будем повешены.
— Мы направляемся в одно местечко на Рейне. Оно называется Обервинтер. Я позвоню, когда доберемся, и мы что-нибудь придумаем.
— Может, и мне удастся туда добраться. Дороги сейчас хуже некуда. — Он откашлялся. — Слушайте, мне жаль, что мы расстались в Брюсселе. Мы должны держаться вместе. Ради Джилл.
— Мне пора…
— Постойте. Тут есть…
Голос Ательдина прервался, его слова были заглушены прерывистыми помехами. Несколько секунд спустя он вернулся.
— …что она.
— Что вы сказали?
Ник оглянулся. Они огибали излучину — река между двух гор оказывалась словно в ловушке. Сигнал сюда не приходил.
— Я вас теряю.
Снова помехи. Потом тишина.
Ник отключился. Он в волнении чуть не вырубил питание. Но мигающая иконка на экране напомнила ему о послании, полученном от Ательдина.
— Я думаю, если сигнал сюда не доходит, то и отследить местонахождение телефона они не смогут.
Он открыл картинку и передал трубку Эмили. На маленьком экране трудно было что-то разглядеть. Она нажала несколько кнопок, увеличивая изображение.
— Это стандартное начало бестиария. «Лев храбрейший из всех зверей и не боится ничего…» Вот картинка.
Лев, выгнув спину, рычал так громко, что все соседние слова, казалось, трепетали.
Ник взял телефон и прокрутил картинку. Руки у него так занемели, что он чуть не уронил мобильник в воду.
— Что это?
Отметина на полях у самого низа страницы, слишком слабая, чтобы быть частью иллюминации.
— Может, клякса?
Ник увеличил изображение. Пиксели стали расплываться, потом сами по себе обрели резкость. Это была полная бессмыслица — другого слова и не подобрать, — примитивный набросок прямоугольного здания с тремя дверями и большим крестом рядом.
— Крест, видимо, означает, что это церковь или, может быть, монастырь. Это резонно. Если Библиотека дьявола и в самом деле существует, то монастырь — самое безопасное для нее место.
Ник еще несколько секунд смотрел на картинку, потом отключил телефон.
— Надеюсь, я поступил правильно, сказав Ательдину, куда мы направляемся.
Эмили взяла его за руку, сжала пальцы.
— Теперь уже все равно ничего не поделаешь.
Он смотрел в воду. Чуть впереди под водой прятались черные скалы, словно акулы, кружащие вокруг жертвы.
«Если мы не доверимся друг другу, то оба будем повешены».
LXXIV
Майнц
Все зиму мы работали не покладая рук. Октябрьские дожди заливали поля и превращали дороги в топь, а мы завязли в нашем собственном болоте из чернил и свинца. Я смотрел, как напрягаются грузчики, пытаясь протащить свои тележки по грязи, и чувствовал родство с ними.
Снег выпал в декабре. Фуст не разрешал топить печи в Хумбрехтхофе, и мы мерзли. Я посменно отправлял людей в Гутенбергхоф, чтобы они там пришли в себя перед кузнечным горном, — мы в кузне варили чернила и переотливали старые литеры. От этого короткие темные дни становились еще короче. Однажды утром мы обнаружили, что кипы влажной бумаги замерзли. Прессы заело. Чернила не оставались на листе.
Но человеческое устройство было еще более хрупким. Я делал столько книг, сколько не делал, наверное, ни один человек в истории, но мои пальцы редко прикасались к бумаге или чернилам. Весь дом превратился в механизм, сложнее которых Саспах еще не делал. Я был тем, кто приводил все это в движение. Чуть перекрутишь винт — и механизм сломается. Недокрутишь — и не получишь отпечатка. Я должен был знать, сколько страниц наборщики набирают каждый час, каждый день, каждую неделю, сколько человек нужно отрядить на эту работу, чтобы печатники на прессе не простаивали и не слишком торопились. Мне нужно было присматривать за учениками — кто из них неуживчив, кто незлобив, кто небрежен, а кто чрезмерно прилежен. Ориентируясь на эти качества, я и должен был собирать команды. Я завел порядок, при котором набранная форма не могла попасть на пресс до ее одобрения, и мне приходилось решать, как хранить готовые отпечатанные листы в кладовке, чтобы не ошибиться, разделяя их и подшивая в книгу. Это были невидимые механизмы (система, основанная на размышлениях, порядке и воображении), но они были так же необходимы для нашего ремесла, подобно любому изобретению из дерева и железа.
Еще одной проблемой был Каспар. Сначала я хотел назначить его старшим на прессе, но по прошествии трех дней Каспар исчез. Мы проискали его все утро, а пресс тем временем простаивал. Фуст метал громы и молнии. Когда мы нашли Каспара в пивной, он заявил мне, что ему не нужна эта работа. Я пообещал ему тогда назначить на это место Шеффера, это необычайно его разозлило, и он согласился остаться. Но я быстро пожалел об этом. Он опаздывал, ругался с помощниками и вскоре успел оскорбить половину людей, работавших в Хумбрехтхофе. Иногда он требовал перепечатки из-за малейшего недостатка, а иногда пропускал самые скандальные ошибки, и мне приходилось проводить дни в кладовке, выискивая их.
Слишком поздно я понял, что он не годится для этой работы. Его радовала новизна, неограниченная свобода изобретательства. Но нам теперь дисциплина требовалась не меньше мастерства, поскольку наше новое искусство основывалось на строго установленном порядке.
Как-то вечером я попытался объяснить ему это.
— Мы в этом доме — братство, служащее Богу, нашему ремеслу и друг другу. Книги, которые мы делаем, они не мои, не твои и не Фуста. Они принадлежат Богу. Чем они совершеннее, тем ближе к Богу.
— И Бог получит прибыль, когда ты их продашь?
Я разочарованно покачал головой.
— Ты меня не понял. Эта работа скучна и однообразна…
— Как молотком гвозди забивать.
— …но важно то, что мы ее делаем. Как монахи, которые читают одни и те же молитвы, повторяя их в неизменном порядке, определенном Богом.
— Да, из тебя бы точно получился отличный монах, — жестоко сказал Каспар. — Если бы я хотел жить скучной и однообразной жизнью, то стал бы крестьянином: паши, сей, снимай урожай, паши, сей, снимай урожай; пахал бы и пахал одну и ту же колею, пока не вырыл себе могилу. — Шрамы на его лице задергались. — Но я способен на большее. И ты тоже. На большее, чем крутить рычаг, словно мельник, перемалывающий зерно в муку, — для того, чтобы напечатать еще одну страницу твоей книги.
Когда он покинул свой пост в следующий раз — а это, конечно, случилось, — я не стал его уговаривать. Чтобы не осложнять ситуацию, я поручил эту работу Кифферу, но этим только привел его в смущение и оскорбил Шеффера, ведь оба они знали, что Шеффер более подходящий кандидат. Я платил Каспару жалованье, но у него не было дела в Хумбрехтхофе. Иногда — редко — он появлялся, бродил по дому, чем доводил меня до белого каления, потом исчезал. Я думаю, ему это доставляло удовольствие — вносить беспорядок в нашу работу. Остальное время он проводил в Гутенбергхофе, беря заказы в качестве иллюминатора, чтобы чем-то занять себя.
Я пребывал в печали, хотя такой исход был неизбежен с самого начала. Где-то на нашем пути это ремесло перестало быть нашим и стало моим.
В апреле ситуация начала меняться. Дни удлинились, и напряжение спало — нам уже можно было не ловить каждую минуту светлого времени; люди смотрели на работу свежими глазами — им больше не приходилось щуриться в полумраке. Дрожащие пальцы, которые прежде с трудом удерживали ледяные металлические литеры, теперь резво брали их и расставляли в ряды. Ритм работы наладился, он ежедневно отбивался клацаньем литер в гнездах, треском пресса, грохотом тележек, подвозящих свежие чернила. Когда Фуст приветствовал меня вопросом: «Сколько страниц?» — мой ответ больше не вызывал у него гримасу.
Я сказал Каспару, что мы похожи на монахов — так оно и было на самом деле. Мы были изолированы от мира, словно монахи. Люди на улице слышали доносившиеся из дома звуки и недоумевали, но никто не знал, что происходит за нашими воротами. Книжная работа была нашим монастырским уставом. Заготовка бумаги и чернил были первым часом, утренний сбор, когда мы сходились в печатне, чтобы распределить дела на день, — капитулом, и так до вечерней молитвы, когда мы смывали чернила с форм и прессов, откручивали рамки и возвращали буквы в наборную, где их раскладывали по местам для следующего дня. Мы вместе работали, вместе ели, вместе спорили и смеялись — мы были братством.
По большей части моя работа проходила вдали от пресса: я отвечал на вопросы, улаживал споры, утрясал проблемы с платежами и счетами. Но случались мгновения покоя, времена, когда все в доме вращалось без сбоев, как планеты на своих орбитах вокруг земли. Эти часы были для меня счастливейшими. Я ходил по дому, созерцая мир, который сам вызвал к жизни, и дивясь ежедневному акту творения под этой крышей.
Конечно, не все шло гладко. Люди ссорились, прессы ломались, случались ошибки, что обычно бывало после того, как мы разбирали негодную страницу, рассыпали литеры. Пропадали запасы, что сопровождалось скандалами с Фустом. Шло время, и бремя забот, лежавшее на моих плечах, стало сказываться. Я вертелся без сна в кровати, без конца пересчитывая напечатанные страницы, набранные страницы, страницы, которые еще нужно набрать и напечатать. Меня уже не манили обещания приключений, мне хотелось, чтобы это поскорее кончилось. Каждый раз, пересекая порог Гутенбергхофа, я смотрел на каменного паломника, согнувшегося под невидимым бременем, и проникался к нему сочувствием.
Но не могу жаловаться. В свете того, что уже произошло и чему еще предстояло произойти, эти дни можно было считать хорошими.
LXXV
Обервинтер
В Обервинтере сошли только Ник и Эмили. Паром не задержался и лишней секунды: они едва успели дойти до конца пристани, а его огни уже исчезали из виду. Они пересекли пустое шоссе, прошли под железнодорожным мостом и, войдя в каменные ворота, оказались в деревне. Дома вокруг перекосились и накренились так, словно бревна, из которых они были построены, сохраняли остатки памяти о тех временах, когда еще были деревьями. Ник и Эмили не увидели ни машин, ни людей, ни даже следов на снегу. Если бы не поникшие рождественские гирлянды, все еще натянутые между домами, можно было подумать, что они оказались в Средневековье.
Они миновали несколько гостиничек, выстроившихся вдоль стен и выходящих к реке, но те были заперты и погружены в темноту. Бумажные объявления, прикнопленные к дверям, извещали, что гостиницы будут закрыты до Пасхи. У Ника от холода болели ноги, он уже начал беспокоиться, что ничего не удастся найти и они с Эмили будут бродить по этой деревне, пока не замерзнут до смерти.
Главная улочка заканчивалась площадью неправильной формы. Доминировало здесь широкое трехэтажное здание с крышей как у пряничного домика, с надписью на штукатурке, выполненной переплетающимися готическими буквами: Drei Konige Hotel. К бесконечному облегчению Ника, свет внутри горел.
В гостинице было почти так же холодно, как и на улице. Они позвонили — портье на месте не оказалось. Ник разглядывал доску за стойкой, на которой висел ряд ключей.
— Похоже, свободные номера у них есть.
Эмили пробрала дрожь.
— Да я бы и в шкафу поселилась, если там есть горячая вода и одеяло.
Открылась дверь, из нее вышел человек. Он был одет в халат и курил сигарету без фильтра, от которой оставался такой маленький окурок, что Ник испугался, как бы портье не поджег себе усы. Это была первая живая душа, какую они встретили в Обервинтере, но он, похоже, увидев их, ничуть не удивился.
Он снял ключи с доски и показал на лестницу.
— Номер семь, третий этаж.
Номер был не ахти какой — несколько предметов мебели, густо покрытой прожженным сигаретами лаком, потертая ковровая дорожка на дощатом полу. Ник прикоснулся к столу — на пальце осталась влага. Холодным сквозняком тянуло из открытых дверей ванной. Он заглянул туда. На подоконнике скопился снежок, потому что отсутствовало стекло. Может, удастся затянуть полотенцем, подумал Ник.
Стоило ему войти в ванную, как у него голова закружилась от ощущения чего-то очень знакомого. Реальность затуманилась, и комната словно погрузилась в темноту, он смотрел в зернистое окошко на мониторе из комнаты за тысячу миль отсюда. С тех пор он прокручивал эту сцену у себя в голове каждый день. Вот это зеркало, та же занавеска на ванной с узором в виде елочек. Только стена здесь была белой. На экране он видел коричневую стену — в этом он был уверен.
Он выскочил на площадку.
— Куда ты? — крикнула ему вслед Эмили.
Он не ответил. Двери всех пяти номеров на этаже были чуть приоткрыты в тщетной надежде на прибытие постояльцев. На одной из дверей была прибита табличка с надписью PRIVAT. Он по очереди на цыпочках обошел все номера и осмотрел ванные. Ни в одной из них не было коричневых стен.
Он вышел на площадку. Словно по наитию, он принялся внимательнее разглядывать дверь с табличкой. Косяк был новый, а замок отливал таким блеском, как ничто другое в этой гостинице. В середине двери он увидел заполненные шпатлевкой следы четырех отверстий от шурупов. Ник отошел на шаг и на выцветшей краске различил номер — 14.
Он нажал на ручку. Заперто. Оглянулся. Рядом с их номером на площадке стояла Эмили, недоуменно смотревшая на него.
— Ты что делаешь?
Ник осторожно спустился в холл и пересчитал ключи за стойкой. Тринадцать плюс пустое место там, где висел их ключ. Он прислушался. Но ничего, кроме отдаленного рева с футбольного матча по телевизору в задней комнате, не услышал.
С бьющимся сердцем он прошел за стойку и снял последний ключ с крючка. На брелоке на было цифры, а его медь без малейшей царапинки сияла, как новенькая монетка. Он прижал ключ к ноге, чтобы не брякал, и на цыпочках поднялся по лестнице.
— Если кто появится, задержи, — сказал он Эмили, которая пребывала в полном недоумении.
Он подошел к двери. В его воображении возникали жуткие видения. Ключ вошел в скважину и легко повернулся. Дверь, пискнув, открылась, и Ника пробрала дрожь, словно он увидел призрака.
Он сразу же понял, что это именно та комната. Свет, проникавший с площадки, освещал картину полного разрушения. Весь номер был разворочен. Половые доски сорваны с балок, панели содраны со стен, кровать перевернута, матрас разрезан. Его замутило, когда он это увидел. Но следов крови не было. Разрезы были слишком ровные и длинные, вряд ли нож был нацелен на кого-то, лежащего на матрасе.
Он щелкнул выключателем, но за этим ничего не последовало. Он поднял голову и увидел пучок проводов, торчащих из потолка в том месте, где прежде была лампа.
— Что здесь случилось?
Ник вздрогнул от неожиданности.
Эмили вошла в комнату и смотрела из-за его плеча на царивший здесь беспорядок. Вид у нее был испуганный.
— Ты же должна стоять на страже.
— А ты должен сказать мне, что происходит.
— Когда Джиллиан вышла со мной на связь в тот день, у нее была включена веб-камера.
Он осторожно прошел по комнате, перепрыгивая с балки на балку, как на железнодорожных шпалах. Дверь в ванную была открыта, она растрескалась от сильных ударов, а косяк в районе замка был разбит. Он заглянул внутрь — его подозрения подтвердились.
— Вот здесь она и была. Я помню коричневую плитку на стенах. И занавеску.
Боковая панель со стены была сорвана, но занавеска с елочками все еще свисала со штанги. Он отошел назад. В отделанной плиткой стене на высоте плеча была небольшая ниша, а за ней окно, выходящее на заснеженную крышу.
— Сюда она, видимо, поставила свой ноутбук.
Он оглянулся, пытаясь отрешиться от крика, звучавшего в его памяти. Линолеум с пола был сорван до самого плинтуса, зеркало отвинчено и стояло, прислоненное к вешалке для полотенца. На радиаторе (где все еще оставались пластмассовые держатели, вытащенные из стены) лежали остатки рулона туалетной бумаги. Словно на тот случай, если у кого-то среди этого разрушения возникнет срочная нужда.
— Это не случайно. Они тут что-то искали.
Эмили оглядела обломки.
— И наверное, нашли. Если оно тут было.
— Может быть.
— Нет смысла оставаться здесь и ждать, когда они вернутся и вместо того, что искали, найдут нас. — Эмили направилась к двери. — Серьезно, Ник. Тут ничего нет.
Но Ник не слышал ее. Он смотрел на радиатор, вспоминал.
День святого Валентина. Джиллиан, проснувшись, прижалась к нему — лучшее утро в День святого Валентина, какое у него было. Он принес ей в кровать вафли и «Кровавую Мэри», боясь, как бы она не сочла это вульгарным. Он подозревал, что этот праздник для нее — пустой звук, и его не удивило бы, предложи она вместо этого посетить воинское кладбище или съесть куриный бульон. Но она улыбнулась и прижалась к нему, как котенок; правда, когда он попытался ее поцеловать, отодвинулась и пролила томатный сок на кровать.
— Сначала ты должен найти мой подарок, — сказала она ему, и в глазах у нее появился блеск — сигнал, что ему придется оставить свои поползновения.
Он перевернул квартиру вверх ногами. Даже Брета потряс этот кавардак. Джиллиан смотрела, давая ему подсказки, на его взгляд, совершенно произвольные. Вафли остыли. Несколько раз он просил ее открыть ему место, но она в ответ только смеялась и говорила, что любовь свое найдет. В конечном счете он разозлился настолько, что натянул на себя одежду и бросился в парк.
Она так и не сказала ему, где спрятала подарок.
Брет нашел его четыре дня спустя. Он сидел в туалете, рассматривал картинки в каком-то грязном журнале, потом отмотал туалетную бумагу, и рулон на этом кончился. Брет выскочил из туалета, брюки у него болтались на щиколотках, в одной руке он держал крохотный конверт, а в другой — картонную трубочку от рулона.
— Кажется, это тебе.
Брет уже вскрыл конверт. Внутри была открытка с пластмассовым позолоченным ключиком, а под ним подпись: «Ключ к моему сердцу». На обороте Джиллиан написала три слова:
«Ты меня нашел».
— У Джиллиан был один секрет.
Он подошел к радиатору и вытащил рулон туалетной бумаги из держателя. Засунул палец в картонную трубочку.
«Не ожидай найти там что-нибудь», — сказал он себе.
Он увидел щель между трубкой и рулоном, засунул туда палец и раздвинул ее. Картонная трубочка отошла. Его палец ощутил не мягкую туалетную бумагу, а жесткую поверхность писчей. Он вытащил ее. Два листика с прорывами наверху, где они были оторваны с пружинки блокнота.
Он услышал скрип лестничной ступени.
LXXVI
Майнц
Демоны поселились в нашем доме. В это уверовали многие из нас. В течение следующей осени и зимы в Хумбрехтхофе воцарилась безрадостная атмосфера. Люди не говорили мне о своих страхах — знали, как я этого не любил. Но я ловил обрывки разговоров через открытые двери, нервное бормотание себе под нос. Я знал, что некоторые из них все еще побаиваются пресса. Они считали его мощь неестественной, их смущало то, что он многократно превосходит силу человека. Некоторые объясняли эти возможности пресса черной магией. Я думаю, подобные представления питались городскими слухами; их распускали те, кого беспокоило все, что происходит за нашими стенами. И вдобавок те, кто мог догадываться о происходящем, но считал, что такие разговоры пойдут им на пользу.
Но — должен признать — странные вещи и в самом деле происходили. Клянусь, иногда по ночам я слышу скрип и клацанье пресса в комнате подо мной. Я думал, что это, возможно, дневные заботы прокрадываются в мои сны, но постепенно стало выясняться, что и другие слышат эти звуки. Как-то ночью весь дом проснулся от громкого удара. Мы бросились к прессу и нашли на полу разбитую бутылку с чернилами. Мы решили, что это кот. Или ласточки, залетевшие в окно.
В конечном счете это стало чем-то вроде шутки. Когда наборщик забрался в свою кассу и на месте «е» нашел «х»; когда в пачке с бумагой обнаружилась недостача в два листа; когда инструменты Готца вдруг в одну ночь затупились; когда форма, оставленная в прессе, наутро оказалась перевернутой, — в этих случаях люди крестились и обвиняли во всем демонов пресса.
Однажды утром я застал наборщиков в возбужденном состоянии. Это было непривычно: по своей природе они были людьми рассудительными и сдержанными. Они рассматривали наборную верстатку, наполненную литерами. Когда они немного успокоились, Гюнтер объяснил мне, что они нашли верстатку на столе, когда пришли работать. Никто не знал, откуда она взялась.
Я взял верстатку в комнату, где вычитывались тексты, и намазал литеры чернилами, потом пальцами прижал к ней клочок бумаги. Появилась неровная строка:

— Это не стих из Библии, — сказал Гюнтер.
Я остерегающе посмотрел на него. Не хотел, чтобы он пугал других.
— Да чепуха это какая-то. Кто-нибудь из учеников набрал вчера. Может, думает стать наборщиком.
— Комната была заперта, — сказал помощник Гюнтера.
— Может, ты забыл вытащить ключ из замка.
— Или его открыл Каспар Драх.
Я набросился на него.
— Драх не имеет к этому никакого отношения. Его вообще нет в доме.
— Я видел его вчера — он крался к кладовке с бумагой.
— Ты ошибся.
Я поискал взглядом линейку или палку, чтобы отдубасить его за дерзость, но под руку мне попалась только верстатка. Я перевернул ее, и буквы выпали на стол. Предложение рассыпалось.
— Ну, видишь — и нет ничего.
Но рассыпать с такой же легкостью мысли я не мог. Когда люди наконец вернулись к работе, я вышел из дома и поспешил в Гутенбергхоф. Заглянул в печатню, где готовилась новая партия индульгенций, потом поднялся на чердак к Драху.
Я не приходил сюда несколько месяцев. В комнате царил кавардак, хотя даже теперь в этом оставалась какая-то аскетичность, свойственная Каспару. Все поверхности, от половых досок до стола в углу, были белы от листов пергамента или бумаги. На некоторых было что-то написано, на других я увидел цветные рисунки или наброски углем. Некоторые были похожи на книжные страницы, готовые для переплета, другие — чисты, как свежевыпавший снег.
Я остановился в дверях.
— Откуда все это?
— Остатки, — сказал Каспар. На нем был шелковый халат, который он надевал для рисования. — И обрезки. Ты должен был постучать.
Он сполз с табуретки и, встав на колени, собрал в охапку бумаги, прижал их к груди и свалил на матрас в углу. Я обошел его, направляясь к столу посмотреть, над чем он работает.
Это был печатный лист из Библии. Несколько мгновений глаза обманывали меня — мне показалось, что это один из моих листов. Но я не успел поставить себя в неловкое положение — здравый смысл вернулся ко мне. Лист был громадный — не менее чем на четверть больше моего, такой большой, что даже в сложенном виде он занимал стол Каспара, вынуждая его ставить краски на пол. Буквы, выписанные коричневатыми чернилами, выглядели довольно четкими, но (по сравнению с теми, что я уже месяц разглядывал на печатных страницах Библии) кривыми, как зубы во рту старика. Странно сказать, но, глядя на них, я испытывал просто-таки отвращение.
— Это не твоя, — сказал Каспар. — Мне ее заказал викарий из собора.
Иллюминации привели меня в восторг. Страница была в пышном обрамлении переплетающихся стеблей водосбора, среди листьев которого обитали существа из мира Каспара. Испуганный олень, атакуемый дикарем, который размахивает раздвоенным копьем перед мордой животного; два старых льва со скорбными выражениями, пристроившиеся на стебле под розой, за которой прячется лицо дьявола. Медведь, присевший в уголке и копающий землю среди корней растений.
— Ты превзошел сам себя.
Каспар погладил пергаментную страничку, податливую и мягкую.
— Если ты добьешься своего, то ничего этого уже не будет. Ты знаешь Рейссмана — писца, который живет над «Тремя коронами»? Ему потребовался год и три месяца, чтобы написать это. А ты почти за то же время сможешь сделать в сто раз больше и еще увеличить в два раза. Как он сможет выжить при этом?
— Твои карты существуют вот уже двадцать лет. Но художников при этом не убыло. — Я пожал плечами. — Что один человек может изменить в этом мире?
Я отвернулся от стола и осмотрел другие бумаги в комнате. Большинство из них кипой лежали под одеялом на кровати Каспара, но несколько листов остались на полу. На одном я увидел наброски быка с загнутыми назад рогами, на другом — змею с человеческим лицом.
— У тебя есть еще какой-то заказ? Может быть, еще один бестиарий?
Он не ответил.
— Мы сегодня утром нашли странную верстатку в наборной. Там, похоже, был текст из бестиария. — Я попытался заглянуть ему в глаза, но его взгляд ускользал от меня, как угорь.
— Наверное, это был демон из пресса. — Он бросил на меня озорной взгляд. — А может, Петер Шеффер. Очень честолюбивый молодой человек и не хочет провести всю жизнь, печатая Библии. Я слышал на днях его слова в литейной: он считает, что второй пресс ты должен использовать для печати новой книги.
— Один из моих людей сказал, что видел тебя вчера в Хумбрехтхофе, — не отступал я.
Каспар повернулся к гигантской Библии на столе и взял кисть.
— Видимо, он перепутал меня с герром Фустом. Кстати, как он поживает?
— Он был бы счастливее, если бы из нашей кладовой не пропадала бумага.
Я уставился на кипу бумаги на кровати Каспара. Но он, как всегда, словно и не слышал меня.
— А его дочка Кристина?
Я удивленно посмотрел на него.
— Откуда мне знать? Да я и видел ее всего два раза, когда Фуст приглашал меня на обед. Ей не больше пятнадцати.
— Вполне подходящий возраст для брака.
Я рассмеялся — смехом старика, полным желчи.
— Ты что — все еще пытаешься женить меня? Слава богу, у меня уже есть деньги Фуста. Мне не нужно приданого его дочери.
Каспар обмакнул кисточку в раковину, наполненную розовой краской.
— Да просто так — подумал. Может, тебе стоит постараться, чтобы…
— У меня есть его деньги, — повторил я.
— …чтобы никто другой не прибрал этого приданого к рукам.
Его кисть, раскрашивавшая тело дикаря, мелькала по странице, как змеиное жало. Понимая, что большего мне от него не добиться, я повернулся, собираясь уходить. Серебряный блеск на стене привлек мое внимание — одно из наших ахенских зеркал. Раньше я его там не видел. Я вгляделся в свое искаженное отражение, жалея, что чудотворные лучи не могут уничтожить пропасть между нами.
LXXVII
Обервинтер
Заскрипела ступенька на лестнице, и Ник с Эмили замерли. Ветер сдувал снег с крыши и гремел стеклами в оконных рамах. Они ждали, не повторится ли скрип, не перейдет ли в звук шагов.
Ничего.
— Идем отсюда. — Ник положил рулон туалетной бумаги на место и пошел прочь. Он запер дверь, не окинув комнату взглядом напоследок. Ему не хотелось думать о том, что, возможно, случилось здесь.
Они быстро, насколько хватило духу, спустились на цыпочках по лестнице. На площадке второго этажа Ник услышал доносящийся снизу голос.
— Мы не можем здесь оставаться, — прошептал он. — Они раскурочили эту комнату не без ведома хозяина.
— Согласна. Но куда же нам идти?
— Куда угодно.
Хозяин был в холле; облокотясь о стойку, он разговаривал по телефону. Он махнул рукой, приглашая их присесть, но ничего членораздельного произнести не смог — мешали телефонная трубка и сигарета во рту.
Ник положил ключи на стойку и направился к двери.
— Идем пообедать. Вернемся примерно через час.
Они нашли weinstube[52] в доме неподалеку от главной площади, окна выходили на реку и железную дорогу. Это было уютное заведение с книжными полками вдоль стен и старыми винными бутылками на подоконнике. Официант попытался усадить их у окна, но Ник настоял на столике в дальнем конце зала за древним винным прессом. Он не знал толком, от кого прячется. Этот ресторанчик, возможно, был единственным открытым заведением в Обервинтере.
Ник не собирался здесь задерживаться, но стоило ему заглянуть в меню, и он понял, что голоден как волк. Он не ел после завтрака. Они заказали тушеную говядину с лапшой. Когда официант ушел, Ник вытащил бумажки из кармана и разгладил их на скатерти.
— Это почерк Джиллиан?
Ник кивнул. Он своими усталыми мозгами пытался вникнуть в написанное на помятых листках из блокнота. Это было похоже на повтор его собственного недавнего прошлого. Имена, которые всего неделю назад не значили для него ничего, замельтешили перед его глазами, осколки воспоминаний, которые еще не успели толком оформиться.
Вандевельд — чернила В42??? Другие рисунки МИК в Библии Г? 08:32 Париж прибыт. Страсбург 14:29. Позвонить Саймону. Ключ — медведь?
Эти записи покрывали три стороны двух листков и были нацарапаны в разное время и разными ручками, зачеркнуты, обведены кружочком, соединены стрелочками, которые переходили в новые вопросы. Палимпсест[53] трех последних недель жизни Джиллиан.
На четвертой стороне они обнаружили нечто иное. Текста там почти не было, главным образом набросок вроде бы плана здания. Приблизительно пятиугольного с неровными сторонами и угловыми выступами. Штриховая линия уходила в один из углов, и там, где она встречалась со зданием, стоял жирный красный крест и рукой Джиллиан на поле было написано «Kloster Mariannenbad», а ниже — короткий список:
веревка
лопата
нашлемный фонарь
болторез
пистолет?
— «Kloster» означает монастырь, — сказал Ник.
— Это совпадает с картинкой, которую прислал нам Ательдин.
Из кухни появился официант и поставил на стол две тарелки с горячей едой. Ник накрыл листик локтем.
— Что-нибудь еще?
Эмили выдавила улыбку. Лицо у нее осунулось, уголки рта опустились от усталости.
— Мы вот тут говорили… может быть, вы знаете. Вам знакомо здесь место, которое называется Kloster Mariannenbad?
— В Обервинтере?
— Монастырь.
Извиняющееся покачивание головой.
— Нет, не знаю такого места.
— А как насчет замков?
Официант рассмеялся.
— Это же романтический Рейн. У нас здесь замки через каждые пятьсот метров.
— А поблизости? Такие, что не стоят на туристических маршрутах?
Официант задумался на минуту.
— У нас есть замок Вольфшлюхт. Но он закрыт.
— Вы имеете в виду — закрыт на зиму?
Он упер руки в бока и обвел взглядом полки у них над головами. Ник и Эмили ждали. Наконец он достал старую книгу в потертом матерчатом переплете с захватанными страницами. «Прекрасный Обервинтер», — гласило название.
— Если хотите узнать побольше, может, здесь что-нибудь найдете.
Ник принялся листать книгу, а Эмили с жадностью набросилась на еду.
— Ну вот — замок Вольфшлюхт.
«В Средневековье это здание было монастырем, посвященным Деве Марии. Традиционно считается, что здание было построено там, где находилась местная святыня, хотя никаких доказательств этого не существует. Монастырь подчинялся Майнцской епархии и обладал одной из самых известных библиотек в Германии. Большинство таких образований прекратило свое существование во время протестантской реформации, но монастырь обратился с петицией к императору Карлу V и был объявлен reichsfrei, независимым от местных властей и подотчетным непосредственно императору. Жители Обервинтера до сих пор гордятся легендой, согласно которой Папа Римский ходатайствовал перед императором за монахов, в обмен обещая Карлу поддержку в его войне с Францией.
В конечном счете, согласно закону о секуляризации от 1802 года, монастырь прекратил существование. Право собственности перешло к графам Шёнберг, которые переделали здание в замок. Монастырь и в самом деле идеально подходил для подобного применения: он был построен на крутом холме, выходящем к Рейну, с трех сторон окружен Вольфшлюхтом, то есть волчьим ущельем. Когда армии Наполеона двинулись по Рейнским областям, они даже не попытались захватить этот замок.
В 1947 году замок был продан анонимному покупателю. Он закрыт для публики, но его по-прежнему можно увидеть с реки и задать себе вопрос, что же происходило за этими древними стенами».
— Последнее предложение звучит не без доли грусти, — сказала Эмили. — Словно автора, как и нас, разбирает любопытство.
— Это дурное место. — Официант возвратился с хлебницей. Он понизил голос и оглядел пустой ресторан, подпуская драматизма. — Мой дед как-то говорил мне, что во время войны туда часто наведывались нацисты. И всегда посреди ночи. Он говорил, что там бывал даже рейхсминистр Йозеф Геббельс.
Ник хотел спросить, что тут нужно было Геббельсу, но в этот момент женский голос позвал официанта на кухню. Тот извинился и ушел, а Ник снова занялся книгой.
Он раскрыл ее и положил на стол перед Эмили. Изображение было темным и четким: одинокий замок на скале в ущелье между двумя еще более высокими горами. Тяжелые линии на фоне низкого неба, а на переднем плане бурлит черная река.
— И мы должны посетить это место?
— Именно это и сделала Джиллиан. — Ник положил рядом набросок карты.
По книжной иллюстрации трудно было понять план замка, но они увидели две башни, которые могли соответствовать выступающим углам на пятиугольнике Джиллиан, и еще одну башню — невысокую, приземистую, видимо, сторожевую.
— Наверное, это оно.
— Действительно, Папа как будто был готов на многое, лишь бы монастырь оставался в безопасности. Там, наверное, хранилось что-то такое, что, по его мнению, не должно было попадаться на глаза протестантским реформистам.
— Или нацистам.
Эмили разглядывала план.
— И как же она туда попала?
— Посмотри на эту башню, — Ник показал на место, помеченное крестом, — вот она, сзади. Видимо, Джиллиан нашла там вход.
Эмили прочла список, оставленный Джиллиан на полях.
— Или прокопалась туда лопатой, освещая проход нашлемным фонарем.
— Давай-ка сымпровизируем. — Ник махнул рукой, подзывая официанта, и, когда тот подошел, сказал: — Наша машина застряла в снегу перед въездом в деревню. Может быть, у вас найдется лопата и кусок веревки — мы все вернем.
Официант удивленно посмотрел на них, но он был слишком вежлив и не поставил слова Ника под сомнение. Он вышел и через пару минут вернулся с садовой лопатой, фонарем и бухтой синей нейлоновой веревки.
— Идеально.
Ник последними евро расплатился, жалея, что не может дать чаевые побольше, надел куртку и взял лопату.
Официант открыл для них дверь, и от порыва ветра, занесшего внутрь снежинки, задребезжали бокалы на столе. Официант вгляделся в темную улицу.
— Желаю удачи.
LXXVIII
Франкфурт, октябрь 1454 г.
Когда мы возвращаемся в места нашего детства, то, что у нас в памяти сохранялось как нечто большое и величественное, оказывается маленьким и жалким. Франкфурт был иным. Весь мир, казалось, съехался сюда на Веттераускую ярмарку. Палатки ткачей превратили одну из площадей в городок всех вообразимых цветов и плетений: от тяжелых фланели и габардина до легчайших византийских шелков, переливавшихся, как ангельские крылья. Из крытого рынка доносился запах духов и бесчисленных специй: перца, сахара, гвоздики, чеснока и многих других, мне неведомых.
Я поставил наш лоток на углу рынка между изготовителями бумаги и пергамента. Сюда мало кто заглядывал (хотя товаров на ярмарке было множество, книги продавали только мы), и я надрывался, зазывая покупателей, пытаясь перекричать ярмарочный шум. После стольких лет затворничества и секретности я с трудом заставлял себя говорить.
Сюда должен был приехать Фуст. Он был торговцем, и это он замыслил план показать плоды наших трудов. Но днем ранее он пошел на попятный, сказался больным, а потому отправляться пришлось мне. Хорошо, что так получилось. Я в последнее время почти не выходил из Хумбрехтхофа. Приближался назначенный Фустом срок, а мы все еще отставали от графика с нашими Библиями. И постоянные мысли об этом (расчеты и перерасчеты графика, поставок, человеко-часов) тяжелым грузом давили мне на плечи. Я боялся этого путешествия. Я не мог представить себя без проекта или проект без меня. Но Фуст настоял.
— С тобой для пользы дела поедет Петер.
Но уже через час после того, как мы отправились во Франкфурт, я понял, что Фуст был прав. Осенний воздух разрумянил мне щеки, прояснил мысли. Запах спелых яблок и листьев откупорил мои чувства. Даже крики перекупщиков, которые рисковали навлечь на себя гнев властей, предлагая товар за пределами рынка, казались скорее звонкими, чем раздражающими. Тем вечером в гостинице я завязал разговор с другими торговцами и лег спать гораздо позднее, чем обычно, выпил больше обычного, отчего наутро у меня болела голова.
В первый день ярмарки к моему лотку подошли всего три человека. Я чуть не насчитал и четвертого, но он всего лишь хотел узнать, где расположились дубильщики. Занятий у меня никаких не было, кроме как щелкать блох, которые досаждали мне предыдущей ночью. То удовольствие, что я испытал, покидая Майнц, таяло. Я в уме составил длинную раздраженную претензию к Фусту, отправившему меня с этим бессмысленным поручением. Но во второй половине дня поток посетителей увеличился. На следующее утро я уже едва мог справляться с ними. Многие из них были священниками и монахами, но, видимо, они благоприятно отозвались о том, что видели. И вскоре уже более богатые руки прикасались к страницам, на фоне пергамента сверкали толстенные золотые перстни. Я видел аббатов, архидьяконов, рыцарей. И в конечном счете, нежданно-негаданно — епископа.
Каждые полчаса происходило что-то подобное этому: я стоял за прилавком, расхваливая выдающиеся качества моих книг, когда молодой человек в одежде, заляпанной чернилами, и с растрепанными волосами начинал шумно протискиваться сквозь толпу к моему прилавку. Он обшаривал взглядом страницы Библии, потом поворачивался к толпе и громко заявлял:
— Этот человек мошенник.
Он открывал тетрадь так, чтобы все видели.
— Этот человек говорит, что текст совершенен, но он даже не удосужился его прочесть. Тут нет ни одной правки.
Он шарил под своим сюртуком, доставал и разворачивал свиток пергамента, затем показывал его толпе.
— А вот моя работа идеальна.
Публика, понимая, что происходит, начинала смеяться. В сравнении с молочно-белыми страницами и ровным текстом моей Библии, его пергамент являл собой жалкое зрелище. Края были захватаны, кожа пожелтела (мы предыдущим вечером пролили на нее пиво), а слова под вязью исправлений были почти не видны.
— Здесь нет ни одной ошибки, — заявлял он.
— И здесь тоже, — отвечал я.
Он сгибался чуть не пополам, выставляя свою задницу публике, и водил носом по страницам Библии.
— Да, я не вижу ошибок, — неохотно соглашался он.
Ропот публики.
— Но повезти один раз может любому.
Я поднимал еще два экземпляра и демонстрировал их.
— А три раза? А если вы посетите мою мастерскую в Майнце, то найдете еще сотню таких же, готовых к продаже. И все они одинаковые в своем совершенстве.
Петер Шеффер (а именно он и был негодующим писцом) выпячивал грудь.
— Я тебе могу сделать не меньше. — Он начинал загибать пальцы в яростных арифметических подсчетах. — Они будут готовы к тысяча пятисотому году.
— А у меня они будут готовы к июню. — Я повышал голос, обращаясь к толпе. — Любой, кто хочет купить Библию или увидеть этот новый чудесный способ письма, может посетить меня до вторника в моем временном жилье под знаком дикого оленя. Или после этого в Майнце в «Хоф цум Гутенберге».
Многие люди из толпы проталкивались к нашему прилавку, желая узнать больше. Шеффер снимал свой сюртук, расчесывал волосы и присоединялся ко мне за столиком.
— За два года двадцать человек сделали почти две сотни этих книг, — услышал я, как он хвастается двум голландским торговцам.
Я лягнул его под прилавком: не следовало раскрывать все тайны нашего искусства или даже наводить людей на мысли, как можно добиться этого.
Но прежде чем я успел что-либо сказать, новый клиент потребовал моего внимания. Я увидел его издалека, вернее, увидел сутолоку, которая возникала с его приближением в толпе, расступавшейся перед ним. Я видел только вершину его митры. Но даже и она лишь едва возвышалась над окружающей толпой. Я разгладил на себе одежду и поправил тетради на столе.
— Епископ Триестский, — объявил священник.
Я поклонился.
— Ваше преосвященство.
— Иоганн?
Шапка с заостренным концом откинулась назад. Мне ухмылялось чисто выбритое смугловатое лицо. Но и тут я не понял, кто передо мной: титул ослепил меня и я никак не узнавал стоявшего передо мной человека.
— Эней?
— Эней стал более благочестивым. Ты клялся, что никогда не примешь сана.
— Разве? — Эней, казалось, был искренне удивлен. — Видимо, я имел в виду, что в то время я еще не был готов для этого.
Мы разговаривали в галерее собора. С другой стороны площади целая толпа священников и приспешников смотрела через двери, задаваясь вопросом, кто я такой.
— Когда я в последний раз видел тебя в Штрасбурге, ты заседал в соборе и строил козни против Папы. — Я показал на его богатые одеяния. — Теперь ты его посол.
— Я ничего не отрицаю. Это был грех неведения. Я умолял Папу о прощении, и он даровал мне его.
Он сказал это вполне серьезно, но даже у Энея это не получилось естественно. У меня возникло ощущение, что он повторял эти слова много раз.
— И еще ты пытался соблазнить замужнюю женщину. У тебя это получилось?
У него хватило такта покраснеть, хотя скорее от сожаления, чем от смущения.
— Говори потише. Ты знаешь, что небеса более благосклонны к одному раскаявшемуся грешнику, чем к девяноста девяти абсолютно безгрешным.
Мы завернули за угол галереи.
— Истинно тебе говорю, я уже не тот человек, каким был, когда ты видел меня в последний раз. Базельский собор… — Он взмахнул рукой, словно чтобы развеять дурной запах. — Они были такие зануды, Иоганн. Они не понимали, что их дело проиграно. Они обвиняли Папу, обвиняли друг друга. Некоторые даже обвиняли меня. В конечном счете мне был предложен пост секретаря при императоре Фредерике, и я принял его. Я поехал в Вену.
Он улыбнулся мне, забыв про свой гнев.
— Если в христианском мире есть более скучный город, то я молю Бога, чтобы никогда его не увидеть. Евреи в Вавилоне страдали меньше, чем я в моей ссылке. Но неисповедимы пути Господни. При этом расколотом, раздираемом распрями и интригами дворе я понял, что наш друг Николай был прав. Главное — это гармония.
— В Штрасбурге тебя больше волновало совершенство, а не гармония, — напомнил я ему.
— Но разве совершенство может существовать без гармонии? Гармония — это фундамент совершенства. И ты с твоими книгами достиг того и другого. Они настоящее чудо.
— Если это и чудо, то достигнуто оно потом и кровью. — Я подумал об Андреасе Дритцене, об обезображенном лице Каспара.
Он прикоснулся пальцами к моей руке.
— Я ничуть не умаляю твоих заслуг, Иоганн. Ты удивительнейший человек. Воистину, multum ille et terris iactatus et alto.[54] Покажи-ка мне еще раз твои странички.
Я протянул ему тетрадь, которую захватил с собой.
— Абсолютно ни одной ошибки, — с удивлением проговорил он. — И что ты там сказал в своей речи — что у тебя есть еще сотня таких же? Это правда?
— Почти две сотни.
— И как ты это сделал? — Он увидел выражение моего лица и поспешил на попятную. — Я знаю, ты должен хранить свои секреты. Но это — я повторяюсь, но другого слова нет — настоящее чудо. И ты можешь сделать что угодно, используя твое искусство?
— Все, что может быть написано.
Это привело его в сильное возбуждение. Он, продолжая опираться на свою палку, словно танцевал по галерее. Когда мы добрались до следующего угла, он воскликнул:
— Ты только представь, Иоганн! Одна и та же Библия, одна и та же месса, одни и те же молитвы во всех церквях христианского мира. Одни и те же слова в Риме и Париже, Лондоне, Франкфурте, Виттенберге и Базеле. Эти колонки на твоей странице станут опорами церкви, более прочными, чистыми и цельными, чем что-либо. Услада Господу.
— Это всего лишь книга, — возразил я.
— Но что такое книги? Чернила и пергамент? Множество знаков, нацарапанных пером на странице? Тебе это известно лучше. Это осадок испарений чистой мысли. — Он помедлил мгновение, очарованный собственным красноречием. — Христос и святые могут обращаться напрямую к нам, но чаще они говорят посредством книг. Если ты можешь создавать их в таких количествах и с таким безупречным текстом, то весь христианский мир заговорит столь громким голосом, что его будет слышно на небесах.
Его слова согревали меня на протяжении всей обратной дороги в Майнц. Я пересказал их Петеру, и мы приятно провели время, беседуя обо всех книгах, которые можем сделать и продать во благо церкви. Меня это радовало, потому что отношения между нами всегда оставались напряженными. Нередко мне казалось, что его энтузиазм по отношению к нашей работе слишком агрессивен, а потому я осаживал его. А если я все же пытался его приободрить, он воспринимал это как навязчивость. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что он был одержим работой над книгами и ревниво к ней относился, а потому не доверял ничьим мотивам, кроме собственных.
Мне все еще грезились книги, которые мы напечатаем, когда я въехал по мосту в Майнц и миновал городские ворота. Петер повез в дом тетради, позаимствованные нами для демонстрации, а я вернул лошадей в гостиницу, где мы их брали. Уже было почти темно, но мне так хотелось поделиться моими успехами с Фустом, что я поспешил в Хумбрехтхоф.
Ворота были заперты. Я попробовал открыть их моим ключом, но он не поворачивался в скважине. Я в раздражении дернул звонок у ворот.
В воротах распахнулось окошко и появилось лицо с просевшими веками. Оно было похоже на лицо Фуста, хотя я не мог понять, с чего бы это ему исполнять роль привратника.
— Ну, ты впустишь меня?
Он строго посмотрел на меня.
— Извини, Иоганн. Но этот дом больше тебе не принадлежит.
LXXIX
Обервинтер
Под воротами было невообразимо темно. Ника пробрала дрожь, когда они проходили в этой черноте. Через несколько шагов он оглянулся. Деревня уже пропадала из виду, закутанная в туман, в безопасности своих стен. В домах — мягкий свет за занавесками, мелькающие в окне огоньки на елочках, сопрано, звучащее с диска. За стенами — ничего, кроме темноты.
Они двинулись по шоссе, по привычке держась у обочины, хотя дорога была пустынна. Очень скоро они сместились к середине дороги и пошли бок о бок, по щиколотку утопая в скрипучем снегу. Ник тащил за собой лопату. Раз или два они услышали грохот с реки и увидели огни, похожие на далекие звезды, — по Рейну проплывали баржи.
Ник понятия не имел, как долго они шли. Судя по карте, замок находился совсем рядом, но в этом холодном монохромном мире, когда время измерялось только его шагами, казалось, что прошла вечность. Погруженный в свои мысли, он чуть не пропустил поворот, но Эмили дернула его за рукав.
— Смотри — эта тропинка?
Они подошли к повороту, который делала дорога, огибая гору. А перед поворотом была просека в лесу, она шла вверх по склону ущелья. Эмили показывала на темную расщелину, едва видимую в призрачном, усыпанном снегом лесу.
Ник включил фонарик. Он еще не успел найти тропинку, как что-то на краю дороги привлекло его внимание. Это был дорожный знак, едва выступающий из снежной насыпи, образованной ножом снегоочистительной машины. Ник подошел и стер снежную корку с знака.
— Wolfschlucht Brucke, — прочел он. — Мост через Волчье ущелье.
Он оглянулся: где тут мост, потом понял, что стоит на нем. Перегнувшись через перила, он увидел разверстую пасть гофрированной металлической трубы, исчезающей под дорогой.
— Кажется, это оно и есть. А тропинка, которую ты видела, это, наверное, замерзший ручей.
Они перебрались через обледенелые перила и спустились на насыпь. Замерзший ручей уходил в лес узкой белой лентой.
Ник ухватил Эмили за рукав.
— Тебе вовсе не обязательно идти.
Она стряхнула его руку, и они двинулись вверх по склону.
Хотя они шли вдоль ручья, лес был совершенно непроходимым. Деревья казались живыми. Низкие ветки хлестали Ника по плечам, ударяли по лицу, цеплялись за ноги и сбрасывали снег ему за шиворот. Земля под ногами была такой же предательской. Снег скрыл все следы камней и корней, прячущихся под ним. Включать фонарик они не осмелились — вдруг кто-то из замка следит за окрестностями. Даже там, где земля была ровной, их подстерегали опасности, потому что это означало: они идут по замерзшей воде. Один раз нога Ника провалилась до самого льда — он поскользнулся, взмахнул руками и упал на спину. Лопата грохнулась о камень. Он лежал, прислушиваясь к эху, которое разнеслось по лесу.
Ослепленные снегом и ветвями, они чуть не прошли мимо замка. Единственным признаком его близости был тускловатый просвет среди полной тьмы. Этого оказалось достаточно. Ник двинулся в ту сторону, как кабан, продираясь сквозь низкие заросли. Вокруг него клубился снег, трещали и ломались ветки. Он подумал, что если они не найдут замок в ближайшее время, то заблудятся здесь навсегда.
Пройдя деревья, они уперлись в скалу. Ник прислонился к ней, дрожа и тяжело дыша. По спине у него струился растаявший снег. Свет исчез, но если Ник закидывал до хруста в позвонках голову назад, то видел каменные стены на вершине утеса на фоне серых туч, и стены эти казались невообразимо далекими.
Он услышал треск ветки — из леса вышла Эмили. Она потеряла шапочку, и снег бриллиантами сверкал у нее в волосах.
— И как же нам туда подняться?
Ник старался не думать о том, на какой высоте стоит замок.
— Ты как — с альпинизмом дружишь?
— До десяти лет дружила, а потом — нет.
Джиллиан хотя бы какое-то время занималась альпинизмом. Одно из самых худших их свиданий было на тренировочной стене скалолазов, куда она ходила каждую среду. Она, смеясь, забралась наверх, по-паучьи быстро, а Ник все еще возился внизу, пытаясь сообразить, как надеть страховочные ремни. А когда он наконец все-таки забрался на стену (на высоту около восьми футов), у него целую неделю болело запястье.
— Я все же, пожалуй, попробую.
Он смотрел на утес, пытаясь сообразить, как Джиллиан поднялась по нему. На черной скальной поверхности, казалось, совершенно не за что было зацепиться. Он провел ладонью по камню, надеясь нащупать трещину или уступ — что угодно, с чего удалось бы начать. Небольшой выступ на уровне колена — ладно, можно попробовать.
— Вряд ли получится.
Он поставил подошву на выступ, оттолкнулся, шаря руками по скале в поисках опоры. Но ничего, кроме скользкого льда, не нашел. Опоры не было — он потерял равновесие и свалился на землю. Снег, вероятно, смягчил его падение, хотя он этого не почувствовал.
Эмили наклонилась над ним.
— Как ты?
Он встал, стряхнул с себя снег.
— Джиллиан была скалолазом, но даже она не смогла бы подняться по отвесной обледенелой стене.
Он снова подошел к скале и принялся исследовать ее, обшаривая широко разведенными руками. Эмили отошла назад, сунула руку в карман, достала и принялась разглядывать бумажки, оставленные Джиллиан. Теперь они помялись и намокли от снега.
— Может, она и не поднималась. — Эмили похлопала Ника по плечу и показала на бумажку. — Марианненбад означает пруд Марии. А в книге, которую мы читали в ресторане, говорилось, что тут, неподалеку от средневекового монастыря, было посвященное ей место поклонения.
— Ты думаешь, что Джиллиан вознеслась туда молитвами?
— Святилища Марии часто строились над ручьями. Считалось, что вода обладает целебными свойствами. — Эмили даже в этом снежном царстве говорила совсем тихо, словно деревья могли их подслушать. — Мы шли по руслу ручья. Он ведь должен откуда-то течь.
Они двинулись вдоль основания утеса, утопая в глубоком снегу. Он, казалось, лежал тут уже вечность. Все норы или пещеры наверняка забились им много недель назад.
— Что это такое?
В голосе Эмили прозвучала надежда. Ник поспешил к ней. Загораживая луч фонарика рукой, она направляла его на скалу.
— Похоже на оползень.
У подножия скалы на земле лежала небольшая груда камней. Их покрывал тонкий, неровный слой снега, почти весь он скопился в неглубокой впадине, петлями уходившей от скалы. Когда Ник поставил туда ногу, оказалось, что это лед.
— Вот он, наш ручей.
Эмили уже взобралась на камни. Она легла на них животом и принялась разгребать снег.
— Я думаю…
Послышался стук и приглушенный вздох — камни сдвинулись под весом Эмили, и она скатилась обратно. Ник бросился к ней, чтобы помочь подняться.
— Как ты?
Она отряхнулась.
— Я думаю, тут есть проход внутрь. Его засыпало, но снег не очень глубокий.
Ник осторожно забрался на каменный холмик. Раза два камни почти подавались под его весом, и он останавливался — сердце чуть не выпрыгивало у него из груди. Эмили была права. Между вершиной каменной горки и скалой, кажется, было пустое пространство. Ник зарылся в снег, принялся раскидывать его лопатой. Внизу была пустота. Когда он засунул руку по локоть, то не нащупал ничего.
Эмили смотрела на него снизу.
— Ну что — можно там протиснуться?
Ник пошевелил рукой.
— Есть только один способ узнать это.
Даже после того, как он расчистил снег, ему едва удалось пролезть в открывшуюся щель. Камни царапали ему щеки, снег таял за шиворотом. Он протискивался вперед на животе. Лаз был глубже, чем он предполагал. В какой-то момент все его тело оказалось под утесом, и его на миг парализовало жуткое видение: скала рушится, погребая его под собой.
А потом внезапно земля ушла из-под него. Ник выставил вперед руки, пытаясь нащупать опору, но не нашел ничего и полетел вниз по склону, в потоке камней, собирая синяки. Наконец, больно ударившись, он приземлился на твердую землю, при этом подняв фонтан брызг.
Он включил фонарик.
Оказывается, он сидел в ручье, который тек по руслу узкой пещеры — стоя в середине, можно было дотянуться до обеих стен руками. Со сталактитов наверху капало — так воск капает со свечей, и в воде оставались молочные пятна, исчезавшие в треснутой трубе под обломками камней.
— Ник?
Из темноты над ним раздался голос Эмили. Он развернул луч фонарика и увидел ее лицо, высовывающееся из лаза.
— Смотри — спускайся осторожно, — предупредил он ее.
Она поскользила вниз по склону головой вперед. Ник поймал ее и поставил на ноги. Стоять в пещере можно было лишь ссутулившись. На одной из стен он увидел высеченное изображение Девы Марии с младенцем на руках. Изображение было обработано довольно грубо, если не считать сглаженного участка над головой ребенка — в луче фонарика это место сияло наподобие нимба.
— Это, наверное, дело рук паломников, — сказала Эмили. — В Средние века считалось, что для исцеления, или чтобы твоя молитва была услышана, или для того, чтобы стать счастливым, достаточно прикоснуться к святыне.
Под образом Марии был неглубокий каменный бассейн, вода переливалась через его края, но Ник уловил какое-то сверкание на дне. Он встал на колени и сунул руку в ледяную воду. На дне оказалась серебряная монетка — двадцать пять центов.
— У Джиллиан была такая манера — она всегда кидала четвертаки в фонтаны.
— И куда она пошла потом?
— Ну, мы же знаем, где расположен замок.
Ник осветил фонариком потолок. Хотя он и знал, что ищет, ему потребовалось какое-то время, чтобы разглядеть это в лесу сталактитов и отбрасываемых ими теней. Но на краю пещеры он увидел темное пятно, которое не было тенью. Отверстие в потолке — ход, ведущий в замок. На стене обнаружились неглубокие ступени, высеченные в скале.
Эмили прикоснулась к его руке.
— Ты уверен?
— Что бы они ни сделали с Джиллиан, произошло это в гостинице. Я видел это по веб-камере, ты помнишь? Если она пробралась в замок, то должна была и выбраться из него.
— А что, если они узнали, как она это сделала?
— Тогда они должны были бы заделать ход. — «Не позволяй себе думать, а то сдашься». — Но снег, видимо, завалил все, прежде чем они успели найти ее следы.
Он набросил рюкзак на плечо и начал подниматься.
Стены были скользкие, покрытые какой-то порошкообразной слизью, осыпающейся с его пальцев, но ход оказался таким узким, что он мог упираться в стену. Он быстро поднимался по каменным ступеням в мерцающем свете фонарика в руках Эмили и старался не смотреть вниз.
Когда он добрался до вершины, луч фонарика остался слабой звездочкой далеко внизу. Он даже не заметил, когда закончился подъем; лишь в какой-то момент, протянув руку, обнаружил, что следующей ступеньки нет и ровный камень наверху блокирует дальнейшее продвижение. Он остановился, опершись спиной о стену. «Еще один тупик». Но адреналин заставлял его мозги работать быстрее: он знал, что Джиллиан прошла этим путем. Приложил плечо к камню над ним и надавил.
Камень подался, потребовав гораздо меньше усилий, чем предполагал Ник. Он от неожиданности даже чуть не потерял опору и не свалился вниз, но напряг спину и удержался. Потом сдвинул камень в сторону, открыв небольшую щель, достаточную, чтобы протиснуться в нее. Поднявшись наверх, он оглянулся.
Он был в замке. В небольшом круглом помещении, видимо, в основании одной из башен. Винтовая лестница уходила наверх в темноту. Он покрутил головой в поисках подмигивающего огонька камеры наблюдения или тревожной сигнализации. Ничего.
Из щели появилась Эмили. Она схватила его за руку, оглядывая высокий потолок и прикрывая пальцами фонарик.
— Как ты думаешь, нас кто-нибудь слышал?
— Будем надеяться, что нет.
Они на цыпочках стали подниматься по лестнице. На первой площадке за дверью начинался низкий сводчатый коридор. Лампы, спрятанные в нишах, проливали желтый свет на плитки пола.
Эмили вздрогнула.
— Это похоже на какое-то подземелье.
В стене был ряд дубовых дверей, оснащенных зловещего вида железными накладками и тяжелыми защелками. Во всех дверях были решетки, предположительно для того, чтобы в давно ушедшие века тюремщики могли наблюдать за несчастными пленниками. Ник подошел к ближайшей двери и заглянул внутрь.
На полу покоилось тело, руки, выпростанные вперед, лежали в луже крови.
В одно мгновение все кошмары Ника, все страхи, которые он гасил в себе, потрясли его сознание одним мощным ударом. Он упал на колени, и его вырвало. Все было напрасно.
Но и в своем отчаянии он понимал: что-то тут не так. Он поднялся и заставил себя заглянуть через решетку в сумеречную камеру еще раз.
Страх обманул его. Это была не Джиллиан.
Он увидел на теле длинный белый халат, который отчасти и объяснял его ошибку — он принял его за платье. В крови была лишь половина лица, что тоже вначале ввело его в заблуждение. Это был мужчина. Монах в сутане, затянутой на поясе веревкой. Ник увидел тонзуру над единственным пулевым отверстием в его лбу.
Отчаяние так быстро сменилось облегчением, что его чуть снова не вырвало. Он заставил себя рассуждать трезво. Кровь вроде бы была свежей — лужа все еще увеличивалась в размерах. Тот, кто это сделал, не мог уйти далеко.
Краем глаза он увидел Эмили, которая шла к нему, тоже собираясь заглянуть через решетку. Он остановил ее.
— Не надо.
Она смерила его недоуменным взглядом, но настаивать не стала. Он переместился к следующей двери, готовя себя к новым ужасам. К счастью, там не оказалось трупов. Одно помещение было уставлено бочками с маслом, что показалось Нику опасным в замке, где хранится средневековая библиотека. Он ощущал пары, проникающие через решетку. По стенам второго помещения тянулись книжные полки. Следующая камера была пуста, хотя на стенах он разглядел темные пятна. Давние или свежие?
Ник подошел к последней двери. Мокрые брюки прилипали к его ногам, мешали идти; адреналин уходил из крови. Внутренний голос кричал ему: не подходи! Он заглянул через решетку.
На полу сидела молодая женщина, опустив голову на колени. Лицо ее закрывали волосы, а на обнаженных руках виднелись синяки. Вероятно, она почувствовала движение у двери и подняла голову.
— Ник?
LXXX
Майнц, 1455 г.
— Тебе сюда нельзя.
Фуст смотрел на меня сквозь дверное окошко, он так прижался лицом к двери, что грубая его кожа почти слилась с деревом.
Я не понял.
— Это что — шутка?
— Ты нарушил условия нашего контракта. Я требую возврата моих денег.
Я все еще не мог уразуметь происходящее. Как курица, которая бежит по двору с хлещущей из перерезанного горла кровью, я продолжал говорить, словно участвовал в некой беседе, основанной на здравом смысле.
— Сколько, ты говоришь, я тебе должен?
— Две тысячи гульденов.
Я расхохотался, как безумный. Просто не знал, что мне еще делать.
— Ты же знаешь, у меня нет таких денег. Каждый мой грош вложен в Библии. Все, что у меня есть, заложено в счет будущих продаж.
Он бесстрастно разглядывал меня.
— Если ты не в состоянии заплатить, то вся твоя собственность конфискуется. Я сам возглавлю работы и закончу Библии.
— Да как ты можешь? — Тысячи вопросов вылились в один.
Фуст предпочел дать ответ в самом узком, прагматическом смысле.
— Люди знают, кто платит им жалованье. Они закончат работу. Я встречусь с тобой завтра, чтобы обсудить все это.
Он захлопнул окошко.
Десять лет надежды обернулись катастрофой в одно мгновение. Я молотил кулаками в ворота с такой силой, что чуть не снес их с петель. Я обвинял Фуста во всех смертных грехах, а вокруг начали собираться и глазеть на меня прохожие. Никто не посочувствовал мне, никто не вышел из Хумбрехтхофа, хотя все в доме наверняка слышали мои крики.
Израсходовав весь свой гнев, я отправился домой.
Мы встретились на винограднике, что на холме неподалеку от церкви Святого Стефана. Когда я в последний раз был здесь, участок представлял собой слякотную площадку. Теперь все было обнесено каменной стеной, и виноградные лозы выросли уже мне по пояс. На следующую весну они будут плодоносить в первый раз. А через год из винограда можно будет давить вино. Мне хотелось срезать их и сжечь.
По предложению Фуста мы пришли со свидетелями. Я почти что выбрал Каспара, но в последний момент передумал и пригласил Киффера, мастера пресса. Фуст привел Петера Шеффера. Они с Киффером стояли у стены и наблюдали, а мы с Фустом прохаживались между лоз, еще не покрывшихся листвой.
— Мне жаль, что так все получилось, — сказал он.
Он смотрел на меня непреклонным взглядом человека, уверенного в своей победе и уже готовящегося к следующей битве. На вершине холма за ним не было ничего, кроме пустого серого неба.
— Ты с самого начала планировал это? Отослать меня прочь, а потом, когда дело почти завершено, и вовсе вышвырнуть как бродягу?
Он выглядел разочарованным.
— Я был о тебе лучшего мнения, Гутенберг. Я думал, мы вместе сделаем что-то из ряда вон выходящее. Не предполагал, что ты будешь воровать у меня каждую ночь, пока я сплю.
Я уставился на него.
— Пока ты был во Франкфурте, я сделал переучет в Хумбрехтхофе. Переучет всего, что относится к нашему общему проекту. Знаешь, сколько ты украл? Две сотни листов пергамента. Дюжину бутылей чернил. Пятьдесят гульденов израсходованы неизвестно на какие цели. Неужели ты думал, что никто этого не заметит?
— Я не украл ни гроша.
— Значит, позаимствовал. Нет сомнений, теперь ты будешь говорить, что собирался со временем все возместить.
— Я ничего не брал. Все, что мы использовали в Гутенбергхофе, не имело отношения к материалам для Библий.
— А как насчет этих индульгенций?
— Это была моя ошибка, которую я совершил два года назад. Больше она не повторялась.
— «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои?»[55] — Он указал на меня своей палкой. — Я навел о тебе справки. Ты прожил такую долгую и необычную жизнь, но почти не оставил по себе памяти в мире. Однако не все твои следы исчезли. Бургомистр Штрасбурга знает о тебе несколько историй, и он с удовольствием их поведал.
Теперь настала моя очередь удивляться.
— Бургомистр Штрасбурга? Это кто такой?
— Человек по имени Йорг Дритцен. Он рассказал мне, как ты втянул его брата в предприятие, которого тот не понимал, высосал из него все денежки, а потом, когда он умер, присвоил его долю.
— Я поступил с его братом в соответствии с нашим контрактом.
— А я поступил в соответствии с нашим. Ты клялся, что деньги, которые я ссужаю тебе, пойдут на получение общей прибыли, а не будут разворовываться и попадать в твои карманы, пока я несу все риски по созданию Библий.
— Клянусь, я ничего такого не делал. — Перед моим мысленным взором возникло видение: мои прекрасные Библии, совершенство моей жизни, заперты от меня в Хумбрехтхофе. — Но даже если и делал, то зачем поднимать этот вопрос сейчас? Через пару месяцев мы получим прибыль, которой хватит нам обоим. Все, что, по-твоему, я должен тебе, будет возмещено, я заплачу проценты, когда Библии будут проданы.
Ответом мне была мрачная ухмылка. Я видел, что он воспринял мои слова как признание; более того, я понял, что он с самого начала так все и собирался сделать. Преследуя меня в судебном порядке теперь, он лишал меня малейшего шанса расплатиться. Незавершенные Библии будут оцениваться совсем не по той цене, по которой будут продаваться готовые, а всего лишь по цене материалов. Даже если суд признает справедливыми половину его претензий, то Фуст заберет книги вместе с прессами, литерами и запасами бумаги по бросовой цене. А когда продаст готовые Библии, вся прибыль достанется ему.
Я посмотрел на стену, у которой стоял Петер Шеффер.
— Конечно, руководить работами по завершению Библий будет он.
Фуст кивнул.
— Ты его хорошо обучил.
Новый приступ гнева обуял меня.
— Тебе придется найти новое помещение. Я — арендодержатель Хумбрехтхофа.
— Уже нет. — Фуст протянул мне лист с печатью. — От твоего кузена Шалмана. Он разорвал ваше соглашение и передал собственность мне.
— И почему же он так поступил?
— Я обещал ему воспользоваться моим влиянием в совете гильдий, чтобы с его собственностью ничего не случилось. И арендную плату обещал удвоить.
Пусть бы лучше земля поглотила меня, оплела корнями виноградных лоз и задушила. Я облокотился на столбик ограды.
— Прошу тебя, — умоляющим голосом сказал я. — Нет нужды…
— День суда уже назначен, — оборвал он меня и отвернулся. — Шестой день ноября за час до полудня в монастыре босоногих братьев.[56] Все, что ты хочешь сказать в свою защиту, скажешь там.
LXXXI
Обервинтер
Ник отодвинул щеколду. Железо было хотя и старым, но хорошо смазанным. Петли скрипнули еле слышно. Дверь открылась.
— Ты пришел!
Джиллиан бросилась к нему, повисла у него на шее. Поцеловала его в губы — и он позволил ей. Он так давно ждал этого момента, задолго до того, как услышал про восемь зверей, Мастера игральных карт, про все это. Он провел столько бессонных ночей, желая ее, пока рассвет не начинал заниматься над Нью-Йорком. Оно того стоило — она была по-прежнему желанна.
Но что-то изменилось. Желание стало увядать, даже пока он обнимал ее. Он обнаружил, что думает об опасностях, о том, как им выбраться отсюда, обо всем, что Джиллиан делала против его воли, об Эмили. Продолжая обнимать Джиллиан, он открыл глаза. Увидел Эмили, смотревшую на них с холодным сочувствием, и на его губах появилась извиняющаяся улыбка.
Он стоял так, пока объятия Джиллиан не ослабели, потом отстранился от нее. Нужно было задать тысячу вопросов, выслушать тысячу ответов, которые, вероятно, не доставили бы ему удовольствия. Но это могло подождать.
— Нужно выбираться отсюда.
Джиллиан сделала шаг назад. Лицо у нее было осунувшееся, изможденное, щеки обветрились от холода. В свете голой лампочки на потолке синяки под глазами казались еще синее. Одета она была во что-то вроде пижамы.
— Как ты? — спросил Ник.
— Бывало лучше. — Она распрямилась. — Нет, уже ничего. Слава богу, ты пришел. — Она только теперь заметила Эмили. — А вы… я вас даже не знаю.
Эмили вежливо улыбнулась, словно они знакомились на вечеринке.
— Я работаю в Клойстерсе. Если только меня уже не выгнали.
— Я вас не помню.
— Я появилась, когда вы уже ушли.
— Да, вот уйти было бы неплохо. — Ник посмотрел на босые ноги Джиллиан. — Снега навалило фута два, а до деревни довольно далеко. У тебя есть какая-нибудь обувь?
— Мы пока не можем уйти. — Джиллиан стащила с запястья резинку и завязала волосы хвостиком сзади. Ник и Эмили уставились на нее. — Замок пуст. Со вчерашнего утра я не слышала здесь никого.
— Ерунда, — сказал Ник. — В конце этого коридора лежит мертвец, из него еще кровь течет. Тот, кто его пристрелил, должен быть где-то рядом.
— Брось, Ник. Неужели ты не хочешь понять, что стояло за всем этим?
— За всем этим стояла ты.
Джиллиан улыбнулась ему своей кукольной улыбкой. Еще недавно он засветился бы от счастья, но теперь ее улыбка показалась ему натянутой.
— Я почти две недели провела здесь, в камере. А до того еще месяц выслеживала этих подонков. Они меня тут… — Она стрельнула глазами в Эмили. — Если вы хотите уходить — уходите. Но я не уйду без того, за чем пришла.
— Конечно, мы тебя не оставим. — Его потрясло, когда он понял, что впадает в искушение. Он полагал, что все будет иначе и благодарность с ее стороны вытеснит все остальное. А на самом деле он был все еще растерян, испытывал знакомое ощущение, что, как всегда, отстает на два шага и к тому же идет не в ту сторону.
Ее похитили, заперли и бог знает что с ней делали.
«А ты думал — она растает у тебя в руках?»
Он бросил взгляд на Эмили, которая в ответ едва заметно пожала плечами.
— Это займет всего пять минут.
Джиллиан, казалось, знала, куда идти. Она повела их к концу коридора, вверх по винтовой лестнице и на широкий крепостной вал. Ник поежился от ночного холода. Справа он увидел небольшой заснеженный дворик, две заостренные башни по сторонам ворот и квадратную сторожевую башню, неясным силуэтом возвышающуюся в темноте. По другую сторону до самой реки тянулся засыпанный снегом лес. Вдалеке раздался звук сирены.
— Головы ниже, — прошептала Джиллиан.
— Ты же вроде бы сказала, что здесь никого нет.
— Рисковать все равно не стоит.
Они двинулись по валу, пригибаясь так, чтобы их не было видно за зубчатой стеной. Наконец они оказались перед еще одной лестницей, спустились по ней во внутренний двор и пошли вдоль стен, держась в тени складских помещений и навесов, под решетками, оплетенными виноградными лозами, мимо каменного колодца. На снегу они увидели следы ног и автомобильных покрышек.
«Давно ли их оставили?» — подумал Ник.
Он был все время настороже — в любую минуту ждал нападения, а потому не смотрел себе под ноги. И вот споткнулся обо что-то, потерял равновесие и упал, но тут же приподнялся на руках.
Из снега на него смотрел трехглазый монстр, словно какое-то чудовище из бестиария. Кожа его посинела и почернела, губы были сжаты в безмолвном крике. Ник открыл рот, но не смог выдавить из себя ни звука. Он попятился назад, наступил коленом на что-то еще, перевернулся и оказался лицом к лицу еще с одним монстром.
Это были монахи. Еще два. И у каждого — пулевое отверстие во лбу. Тут крови было меньше: на снегу и морозе она почти сразу же замерзла.
Ник поднялся.
— Нам действительно нужно отсюда выбираться.
Теперь даже у Джиллиан был испуганный вид. Но она неоднократно и успешно доказывала, что может делать то, чего боятся другие. Прежде чем Ник успел остановить ее, она побежала вдоль основания стены к башне, повернула железное кольцо и открыла дверь. Ник, выругавшись, последовал за ней.
— Они здесь что — ничего не запирают?
— Единственный вход в замок — единственный, о котором они знают, — по разводному мосту над ущельем глубиной в сто футов. Пятьсот лет так и было.
Сказав это, она повела их по коридору и распахнула перед ними двустворчатые двери. Ник и Эмили замерли.
Это было похоже на собор, построенный из книг. Готические колонны толщиной восемь футов поднимались к едва видимому во мгле высокому балочному потолку. Все пространство между ними занимали книжные шкафы, плотно набитые книгами. Приблизительно на уровне верха каждого шкафа проходили деревянные антресоли, которые вились вокруг колонн и перед шкафами; снизу они смотрелись как полог леса. Мозаика пола повторяла этот образ: клубок множества переплетающихся деревьев, скрутившихся, словно гигантские листья.
— Bibliotheca Diabolorum. Библиотека дьявола.
Они продвинулись в помещение чуть дальше, и Ник увидел, что книги не свободно стоят на полках — они заперты и находятся за тонкой проволочной решеткой. Какие-то тома казались невообразимо старыми, с растрескавшимися корешками. Другие были потерты и захватаны, как школьные учебники. В башне стоял плесневелый запах старой бумаги и чего-то еще более едкого. Бензина?
Эмили, заглядывая через решетки, принялась читать названия на корешках. Ее пробрала дрожь.
— Неудивительно, что это называется Библиотекой дьявола. Похоже, здесь собраны все книги по черной магии. А о некоторых я вообще не слышала.
— И неслучайно, — бросила через плечо Джиллиан.
Она быстрым шагом пошла в глубь башни. Запах бензина здесь был сильнее, и некоторые книги казались влажными. Прежде чем Ник успел найти объяснение этому, Джиллиан протянула руку и принялась вытаскивать небольшую книжечку в кожаном переплете, почти невидимую между двумя массивными томами. На неопытный взгляд Ника, книги здесь вроде были древнее, чем в остальной части башни, и его удивило, что они не заперты решетками. Секунду спустя он понял почему. Книга задребезжала, стоило Джиллиан потянуть ее на себя. Когда книжечка вылезла из шкафа целиком, Ник увидел толстенную цепочку, прикреплявшую ее к стене. Большинство звеньев почернели от времени, а одно отливало как новенькое.
— Болторезы, — сказал Ник, вспоминая ее список.
— Вы вряд ли их принесли. А мои они забрали.
У Ника голова пошла кругом от всех этих неясностей. Он уже не помнил, какой представлял себе Джиллиан, отправляясь на ее спасение, но точно не такой, как эта женщина, которая расхаживала по закрытым для всех замкам так, словно это была ее собственность. Нужно было ему быть осторожнее в игре.
— Да кто такие эти «они»?
— Церковь? Банда? — Джиллиан пожала плечами. — Итальянцы после падения Римской империи сумели организовать только две вещи: католическую церковь и мафию. Я думаю, нет ничего удивительного в том, что они сотрудничают.
— Но зачем?
Джиллиан поставила книгу на полку и раскрыла ее.
— Взгляни.
LXXXII
Майнц, 6 ноября 1455 г.
Ночью спустился туман. С наступлением рассвета город исчез. Из окна моей спальни я не видел даже дома напротив, только верхушку его крыши, выступающую из мглы, как ростр корабля. Я надел пальто, отороченное мехом, и вспомнил юнца, одевавшегося в этой комнате тридцатью пятью годами ранее в ожидании суда, который сообщит ему, что он недостаточно высокого происхождения, чтобы наследовать состояние отца.
Дом был пуст. Всем, кто остался со мной, я отдал распоряжение не выходить сегодня на работу. Даже слуг не было. Я не просил уходить Каспара, но, когда заглянул в его комнату, его там не нашел. Отчасти я был разочарован, а отчасти испытал облегчение. Я прошел по безлюдному дому, пребывая в таком унынии, что не стал даже растапливать очаг. Мне нужно было бы в преддверии суда подготовить какую-то систему защиты, но стоило подумать об этом, и меня охватывал страх.
Я вошел в мастерскую и осмотрел пресс. Он стоял в середине помещения, словно виселица, прижимное устройство поднято, красочная плита сухая, рядом лежали стопки чистой бумаги. Я потрогал грубоватую на ощупь раму, приложил пальцы к литере, закрепленной в основании, посмотрел на красный отпечаток, оставшийся у меня на коже. Чувство было такое же, как тем утром в Париже, — меня будто выпотрошили. Я тогда смотрел в пламя и дожидался сияния радуги. А теперь остался один только пепел.
Но я вспомнил и тот день в Париже, когда познакомился с искусством Каспара. Теперь я пошел в свою комнату и взял бестиарий с полки, принялся листать захватанные страницы, снова удивляясь совершенству его исполнения. У многих животных был почти человеческий вид: смущенный олень, опустивший голову, страдающий от неразделенной любви единорог, который смотрит на предмет своего обожания и не видит охотничьей сети у себя за спиной, бонасус с озорной улыбкой на морде, поджаривающий своих преследователей раскаленным навозом.
Я перевернул последнюю страницу, чтобы посмотреть на карту с четырьмя медведями и четырьмя львами, которые завели меня так далеко.
«Написано рукой Либеллуса, иллюминировано мастером Франциском.
Он сделал и еще одну книгу животных, используя новую форму письма».
Я моргнул. В колофон было добавлено второе предложение, написанное торопливой рукой, водянистыми коричневыми чернилам. Я узнал почерк Каспара. Видимо, он вывел это прямо со своего места у пресса, потому что капля чернил с пресса оказалась на карте внизу.
— А я все думал, когда ты обнаружишь мою запись.
Каспар появился бесшумно, как дьявол, он стоял в дверях и с кривой улыбкой наблюдал за мной. Я поднял книгу.
— Что это значит?
— То, что сказано.
Он вышел из тени, и я увидел в его руке небольшую книжку в кожаном переплете. Он дал ее мне.
— Подарок.
Когда я открывал ее, руки у меня дрожали.
Руки у Ника дрожали, когда он открывал книгу. Секунду спустя он почувствовал себя так, будто из него выпустили воздух — почти то же самое он испытал в Париже, когда вскрыл конверт Джиллиан и наконец увидел карту. Первая страница была очень знакома — более чистый, четкий вариант того, что восстановил для них компьютер в Карлсруэ. Бонасус с озорной ухмылкой, мечущий огненные экскременты в преследующих его людей — монаха, рыцаря и купца.
— «Лев храбрейший из всех зверей и не боится ничего. — Джиллиан протянула руку, чтобы перевернуть страницу, и при этом коснулась его. Ник слегка отшатнулся. — Но насколько храбрее червь, самое слабое из всех существ, он пребывает в постоянном страхе, что его раздавят, но в то же время смиренно ищет себе пропитание под ногами гигантов и монстров. Приходит время, и ему на корм идут даже самые благородные животные».
— Этот текст не подходит для бестиария, — сказала Эмили.
Ник посмотрел на следующую картинку. Это был лев. Но не то царственное животное, что он видел на карте. Этот лежал на боку, корона на его голове была сдвинута набекрень. Облезлая шкура была разодрана, и сонм личинок разъедал его внутренности. Потускневшие глаза закатились, как если бы он все еще был жив. За ним из тени наблюдала фигура в плаще, со спрятанным под капюшоном лицом. Виден был лишь ряд очень крупных неровных зубов.
Ник навсегда сохранил в памяти то, что видел в ту ночь. Эта книга была словно памятник извращенным маниям: звериные совокупления, искривленные тела, злоба, мучительство и разложение. Благодаря Брету Ник видел кое-какие из наиболее откровенных картинок, предлагаемых Интернетом. В сравнении с тем похотливым реализмом черно-белые гравюры в книге были простыми, почти наивными. Но даже по прошествии пяти столетий они сохраняли какую-то первобытную силу, возвышенную истину в этих искаженных болью лицах, искривленных телах, которые потрясали куда сильнее, чем любые фотографии.
На каждой странице обнаруживалось новоизобретенное животное: монастикус — сложившийся пополам евнух, который лихорадочно вылизывал шрамы, оставшиеся от его гениталий; эквивор — человек с лошадиной головой и таким большим членом, что для него потребовались отдельные кольчуга и шлем. У него за спиной лежал ряд растерзанных женщин, которых он насиловал, пока не разорвал пополам. И на каждой картинке фигура в плаще с капюшоном, одобрительная ухмылка и хищные зубы.
На предпоследней странице стояло на четвереньках существо с телом свиньи и головой человека, из одежды на нем была лишь шляпа. За этим существом в анальном совокуплении пристроилась собака в короне, а другая собака стояла спереди, держала эту тварь за уши и сношала в рот. Судя по безумному экстатическому выражению на пухлом человеческом лице, свинья получала наслаждение. Трудно было сказать, то ли это мужчина, то ли женщина, потому что у существа были мужские гениталии, но свисающие с брюхатого тела женские груди, вокруг которых у его ног толклась целая стая дикарей, желавших подкормиться. За всеми ними высилась фигура в плаще, теперь троекратно увеличившаяся в размерах, она зловеще ухмылялась, глядя на них, и была подобна облаку дыма.
— Кто это?
— Свинья в шляпе — это Папа, — сказала Эмили. — Собаки — король Франции и император Священной Римской империи. Поскольку мы знаем время и место, то я бы предположила, что это своего рода метафора арманьякского разбойничества в сороковые — пятидесятые годы пятнадцатого века.
— А этот тип за ними?
Джиллиан повернулась, посмотрела на него горящими от возбуждения глазами.
— Неужели ты не догадываешься?
Последним животным в бестиарии была крыса. Она, казалось, была добавлена задним числом — фигуры в плаще, присутствовавшей на каждой странице книги, здесь не было.
«Крыса следует за гусыней в ее гнездо и пожирает гусят».
Рядом с этим текстом была картинка, изображающая разоренное жилище. Крыса в квадратной матерчатой шапке вроде той, что носил Фуст, сидя на задних лапах, отрывала голову пушистому гусенку, еще целиком не вылупившемуся из яйца. Его детские глаза были полны ужаса и уставлены на мать-гусыню не в силах понять, почему она не приходит ему на помощь. А мать, беспомощная, смотрела на происходящее. Крылья у нее были оторваны и бесполезными ошметками лежали на земле. Кровь сочилась из ее груди в том месте, где было вырвано сердце. А она в своем отчаянии еще и не заметила этого. Крысенок с лицом Петера Шеффера вгрызался в ее ногу.
Признаюсь, первой моей реакцией была не злость и не потрясение — ревность. Пока тетради моей Библии, медленно накапливаясь, томились в кладовой Хумбрехтхофа, Каспар пожал первые плоды моего творения. Он победил.
Он внимательно смотрел на меня.
— Ну, что скажешь?
— Это… — Я тяжело опустился на кровать, когда в полной мере осознал всю чудовищность того, что он сделал. — Это гнусность.
— Но какая прекрасная. Все, о чем мы мечтали, прежде чем Фуст уничтожил это. — Он встал на колени рядом со мной и погладил страницу. — Мои рисунки и твои слова.
— Это не мои слова.
— Два наших искусства сплелись в одно. Это наш шедевр. — Он показал на оглавление. — Мне даже удалось напечатать рубрикацию.
Я перелистал страницы. В некотором смысле он был прав: книга выглядела безупречной. Пропорции были приятны глазу, страницы точно выстроены, каждая капля чернил, казалось, сверкала на своем месте. Иллюминации отливали золотом. Но это был блеск чистейшего яда.
— И сколько ты таких напечатал?
— Тридцать.
— И они здесь?
— Недалеко.
— Принеси их мне, — потребовал я. — Ты должен принести их, чтобы уничтожить.
Усмешка не сошла с его лица, хотя и стала чуть более натянутой.
— Почему я должен их уничтожать? Они совершенны.
— Они богохульны! — воскликнул я. — Ты взял от моего искусства все прекрасное и благородное, что могло бы способствовать спасению мира, и обесценил его. Ты искуситель. Змий в саду.
— А ты — слепой дурак. — В одно мгновение ужасающий гнев преобразил его лицо. — Слабоумный идиот, случайно сделавший открытие, всю мощь которого не в силах осознать. Я обуздал его единственной силой в мире, заслуживающей этого.
Я, ошеломленный, сидел на кровати. В воцарившемся молчании я услышал шаги по лестнице. Мы повернулись к двери, обездвиженные в нашей схватке, как звери и охотники в его книге.
На площадке появился отец Гюнтер.
— Иоганн? Уже почти одиннадцать. Тебя ждут в суде.
Мои кости вдруг стали жидкими, как ртуть.
— Я не могу туда идти.
Гюнтер посмотрел на меня, потом на Каспара — ничего не понимающий зритель нашего жестокого раздора.
— Ты должен. В противном случае они вынесут решение против тебя, и ты потеряешь все.
Я упал на кровать. Суд, решение, Фуст — все это было ничто. Каспар разрушил субстанцию, которая делала меня единым существом, и разбросал мои составляющие. Все во мне, имевшее какой-то смысл, оказалось утрачено.
— Иди туда ты с Киффером. Потом сообщите мне, что скажет против меня Фуст.
Он помедлил.
— Если ты не можешь ответить ему…
— Иди!
— Ты не болен? Может, мне удастся убедить суд перенести слушания. — Он посмотрел на Каспара, взглядом умоляя его о помощи.
Каспар, ничего не говоря, поглаживал обложку своей книги.
— Оставь меня, — прошипел я. — Это решено.
Метнув последний недоумевающий взгляд на Каспара, Гюнтер поспешил из комнаты. Я услышал его удаляющиеся шаги на лестнице, потом хлопок двери — он вышел из дома.
Глазами, полными слез, я посмотрел на Каспара. Я ощущал гладкий, как кожа ягненка, пергамент этой презренной книги.
— Все то, в чем обвинил меня Фуст: в пропаже пергамента и чернил, в том, что литеры появлялись не там, где положено, — все это дело твоих рук.
— Кое-что — не все. У священника Гюнтера было в последний год прибыльное побочное дельце — он снабжал бумагой, купленной для печати, майнцских писцов. И нередко по ночам, когда я на цыпочках крался к прессу, Петер Шеффер осваивал это ремесло. Наверное, он знал, что этот день наступит. — Каспар рассмеялся, глядя на меня. — Ты всегда плохо разбирался в людях, Иоганн.
Я смотрел на него, стараясь удержать вместе разбитые части моего сердца.
— За что ты сделал это со мной?
— Я сделал это для тебя. Чтобы показать тебе возможности того, что ты создал. Для того чтобы освободить Адама из сада совершенства, где Господь удерживал его пленником, потребовался змий. И я хотел сыграть такую же роль, чтобы показать, чего можно достичь с помощью твоего искусства.
Он показал на бестиарий, который подарил мне в Штрасбурге.
— Ты знаешь, во что это обошлось человеку, который заказал его? Пятьдесят гульденов. А ведь это всего лишь зеркало, чтобы потешить его тщеславие. Я дал ему то, за что он заплатил. Но с помощью твоего пресса мы можем изменить порядок вещей.
Он прикоснулся к шрамам на своем лице.
— Ты знаешь, почему я получил это. Потому что король, император и Папа — а все они христиане — насиловали свои земли именем Господа. Но арманьякцы, мучая меня, преподали мне урок, через них я узнал: есть и другие силы, властвующие над этой землей. Я учился у них, постиг тайны, которых страшится даже церковь.
— Тайны? — эхом повторил я.
— Эта книга — только начало. С помощью твоего пресса мы можем писать и печатать столько копий, что ни богачи, ни церковь не в силах будут помешать этому. Мы сметем их ураганом огня и бумаги. Ты знаешь, почему церковники распускают слюни над твоей Библией? Потому что считают: если они будут владеть искусством печати, то будут владеть и миром.
Я чуть не плакал от отчаяния.
— Именно этого я и добивался. Совершенной гармонии.
— Уж кто-кто, а ты-то самый последний из людей должен был стремиться к этому. — Он в ярости сжал кулаки. — Покорность церкви, которая грабит бедняков, тогда как ее епископы ходят в золоте и мехах? Церкви, которая предпочитает собирать деньги, а не крестить души? Церкви, продающей тебе бумажки во искупление тех грехов, в которых ее пастыри виновны десятикратно против тебя? Они не заслуживают этого изобретения, Иоганн. А мы с его помощью сможем уничтожить их.
Он взял у меня книгу.
— Я не выдумал животных, которых ты видел в этой книге. Я взял их из жизни. Я думал, что уж ты-то должен был бы это понять.
Я закрыл лицо руками. Раздался тихий хлопок — он бросил книгу на кровать рядом со мной, — потом заскрипели половые доски. Может быть, я ощутил легкое прикосновение ко лбу — то ли это был поцелуй, то ли ласкающая ладонь. А может быть, это был просто спазм. Когда я поднял голову, Каспара уже не было.
— Я понимаю, почему церковь сохраняла это в тайне.
Ник закрыл книгу. Кожа у него зудела, словно личинки выползли из книги и принялись пожирать его. Он давно не чувствовал себя таким грязным.
Эмили была ошеломлена этими образами. Лицо у нее так побледнело, что казалось чуть не прозрачным.
— Это жестоко. В ней столько ненависти. Трудно представить, что это сделал тот же человек, который напечатал Библию Гутенберга.
— Это доказывает сходство шрифта.
— И ты думаешь, поэтому они ее и прятали? — спросил Ник. — Чтобы защитить репутацию Гутенберга?
Джиллиан смерила его пренебрежительным взглядом.
— Ты что — не видел? Это тебе не просто сатира. Ты посмотри на поля.
Ник неохотно снова открыл книгу и принялся разглядывать разукрашенные обрамления. Стоило ему увидеть картинки, как он понял, что никогда их не забудет. Они были гораздо хуже центральных иллюстраций — образы, которые Ник и описать толком не мог.
— Это омерзительно.
— Еще омерзительнее, чем ты думаешь. Это не орнамент. Это руководство к действию.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Фигура в плаще. Почему, по-твоему, она с каждой страницей увеличивается в размерах? Она приближается. В картинках этой книги скрыт секрет, на манер старых алхимических текстов. Это книга, которая дает власть.
Ник уставился на Джиллиан. Как и всегда, он не понимал, что она думает на самом деле.
— Но ты же не веришь в это? — сказал он, хотя по выражению ее лица и видел, что, по крайней мере, она хочет в это верить.
— Кто-то верит.
Ник не знал, что на это ответить. Он посмотрел на картинку и подумал об игривых, остроумных животных из книги, которую они вывезли из Брюсселя.
— Эта книга так не похожа на тот, другой бестиарий.
Джиллиан насторожилась.
— Бестиарий из Рамбуйе? Вы его нашли? Можно посмотреть?
Ник вытащил книгу из рюкзака и положил рядом с другой. Внешне они были почти неотличимы. Он открыл последнюю страницу и прочел надпись над картой.
«Написано рукой Либеллуса, иллюминировано мастером Франциском.
Он сделал и еще одну книгу животных, используя новую форму письма».
— И книга эта скрыта в «Записях царей Израилевых», — добавила Эмили невидимые слова.
Джиллиан нахмурилась.
— Знаете, я так толком и не поняла, что именно это означает. Наверное, это как-то связано с этим местом — со всеми утраченными книгами.
Ник посмотрел на книжные шкафы, возвышающиеся вокруг них. Сколько еще тайн хранили эти старые кожи и гниющий пергамент? Сколько других кошмарных видений и дьявольских ритуалов, изобретенных людьми, которые пытались найти самые темные силы на земле.
Он почувствовал сквозняк у себя на шее. Холодок напомнил ему, что они не могут здесь долго задерживаться.
— Как мы отсюда выберемся?
— Никуда вы не выберетесь.
Ник повернулся. Двойные двери были открыты. На мгновение он почти поверил, что магические формулы книги возымели действие. В дверях стоял человек с гривой белоснежных волос и глазами, похожими на угли. Ветер раздувал его длиннополое — до щиколоток — одеяние.
— Я думаю, у вас есть кое-что для меня.
Я лежал на кровати и плакал. Меня предали. Фуст и Каспар лишили меня всего.
Я вроде как уснул, погрузился в кошмар, в котором меня окружили хищные твари, сумасшедшие мужчины, развратные женщины, сошедшие со страниц книги Драха. Дьявольская мельница поглощала людей и истирала в прах. Папа с раздвоенными копытами сидел на троне и приговаривал меня к жестоким наказаниям.
Из этого полузабытья меня вывел громкий стук в дверь. Неужели все так быстро закончилось? Суд вынес решение? Я не знал, сколько времени провел в таком бессознательном состоянии, а когда выглянул в окно, не увидел ничего, кроме тумана.
Дверь подалась под ударами. По лестнице загремели шаги. Более тяжелые, чем шаги Гюнтера. Слишком поздно. Я чувствовал себя как самоубийца, выбросившийся с колокольни и на лету жалеющий о своем поступке. Пелена спала с моих глаз, и я в полной мере осознал убийственный масштаб того, что потерял. Я пожалел, что был так беспечен.
В комнату ворвались двое. Это были не судебные приставы, а вооруженные солдаты в форме епископства. Они что-то кричали мне, но я был слишком ошеломлен и ничего не понимал. Они стащили меня с кровати. Один держал меня, а другой бил в лицо. Я подумал, что, может быть, это очередной кошмар, но потом ощутил вкус крови во рту и тогда понял: все происходит в реальности.
Они связали мне руки и, не глядя на бестиарий, взяли его. Вторая книга — богохульный бестиарий Драха — завалилась за матрас, и они ее не увидели. Потом они надели мешок мне на голову и увели.
LXXXIII
Старик был один. Ник бросился было на него, но Джиллиан ухватила его за руку и удержала.
— Не надо.
Не успела она это сказать, как в дверях появился еще один человек, итальянец со сломанным носом, с которым Ник дрался в Страсбурге. Он навел на Ника пистолет и поморщился.
Старик вошел в помещение. Чем ближе он подходил, тем большее впечатление на Ника производили его глаза. Они сидели в глубоких глазницах его восково-бледного лица и сверкали жестким и чистым блеском алмазов.
— Отец Невадо? — догадался Ник.
— Кардинал, — поправил его старик. — Я высоко поднялся в этом мире.
— Не ждал увидеть испанскую инквизицию.
Холодная улыбка.
— Теперь мы называем это иначе. Но в широком смысле — да. Вы очень хорошо информированы.
— Я много времени провел в библиотеках.
Должно быть, это нервы, подумал Ник, адреналин подпитывает его усталый ум, но еще немного — и здравому рассудку конец. Иначе как еще можно объяснить то, что он стоит вот тут и обменивается колкостями с человеком, который собирается его убить.
«По крайней мере, я нашел Джиллиан».
Хотя бы эта мысль утешала его.
— Если это Библиотека дьявола, то кто же тогда вы?
— Ангел, охраняющий ад, куда низвергнуты потерянные книги.
Эмили оглянулась.
— Все эти книги потеряны? Я определенно видела некоторые из них прежде.
Ник удивленно посмотрел на нее. Неужели ей это важно? Даже перед лицом смерти ученый в ней берет верх? Или это просто основной человеческий инстинкт — продолжать разговор, отсрочить неизбежное, насколько возможно?
Невадо, казалось, был не прочь пошутить.
— Некоторые из книг, что вы видите здесь, не существуют за пределами этой башни, но многие остались в мире. И кое-какие из них даже имеют влияние. Так что невежественное представление, будто эта библиотека — всего лишь тюрьма для проклятых книг, неверно. Она была основана Папой Пием Вторым как школа для противодействия ошибкам. Здесь те, кто шел в первых рядах борьбы с грехом и дьяволом, могли получше узнать своих врагов.
— Это смешно, — сказал Ник. — Я заглянул в одну из этих книг и увидел там только Папу.
— Первой книгой в библиотеке стала «Liber Bonasi» — та, что перед вами. Не самая старая, но первая. Она имела личное значение для Папы Пия. Он знал Иоганна Гутенберга и ценил его, так как считал: печатный станок породит более совершенную веру. Церковь в то время была изранена, и он думал, что печатный станок излечит ее. Но как оказалось, печатный станок более пригоден для распространения лжи и ошибок.
— Вредоносная программа, — сказал Ник. — Книга — это вирус. Печатный станок быстро распространяет его, гораздо быстрее, чем прежде. Люди читают и заражаются. В конечном счете все объекты Сети оказываются зараженными, и можно воспользоваться ими для начала атаки.
— Реформация, — добавила Эмили.
— Вряд ли Папа Пий мыслил такими образами, но в общем и целом — да. Воистину, в мире нет ничего такого, чего бы церковь уже не видела прежде. Пий понимал, что если чудовище Гутенберга станет известно, то печатный станок будет назван агентом дьявола. Он уничтожал все следы «Liber Bonasi» и издал указ, согласно которому все существовавшие экземпляры должны быть уничтожены. Напечатано было тридцать. Один остается здесь для изучения. На протяжении веков велась охота за двадцатью восемью другими, просматривались библиотеки и личные коллекции, где они были спрятаны; их находили и уничтожали. Оставался еще один. И теперь вы принесли его мне.
Нику стало нехорошо. Он поднял голову, пытаясь прогнать туман из головы, но башни из книжных шкафов, нависающие над ним в темноте, только усугубили недомогание.
— А что вы так беспокоитесь? — сказала Эмили. — Гутенберг, Мастер игральных карт или уж кто там сделал эту книгу — они ведь победили. Любая революционная технология может использоваться отнюдь не в благих целях. Сколько бы экземпляров этого бестиария ни вышло из печатного станка, вы все равно напечатали гораздо больше Библий. Разве игра не стоит свеч?
Впервые Невадо выглядел рассерженным. Его лицо, прежде не имевшее признаков возраста, внезапно постарело.
— Это древняя борьба добра со злом. Нельзя идти на компромиссы с Сатаной. Папа Пий ошибался. Церковь никогда не была так сильна, как в те времена, когда книг было мало, стоили они дорого и писались на языке, доступном только ученому братству. Хранить эти книги здесь было все равно что лелеять змею у себя на груди. Оставалось их уничтожить.
— Я и не подозревала, что церковь в вопросах сжигания книг столь разборчива.
Кардинал рассвирепел еще больше. Налившиеся кровью губы искривились в жестокую ухмылку.
— Всему свое время. Почему, вы думаете, я допустил вас сюда?
Адреналин был на исходе. Ник чувствовал, что скоро не выдержит.
— Мы сами добрались сюда.
— По-вашему, почему вам удалось найти спрятанную карту, лестницу, ведущую в башню? Неужели вы думаете, мы так погрязли в Средневековье, что даже не умеем запирать двери?
— Меня бы это ничуть не удивило, — сказал Ник.
— Теперь, когда мы выполнили поручение Папы Пия, самое подходящее время покончить с этой глупостью. Библиотека сгорит, и вы сгорите вместе с нею. Среди пепла будут найдены ваши кости, и вину за пожар возложат на вас.
— А почему вы не можете взять эту вину на себя?
Невадо поднял руки. Кожа у него была тонкая, как пергамент, а вены — как реки в половодье под ее поверхностью, но руки его не дрожали.
— Вы думаете, я стар и слаб? Я достиг многого, но еще не закончил свой путь. У меня остаются амбиции.
— Неужели уничтожение бесценной коллекции книг поможет вам стать Папой?
— Лишь немногим кардиналам из конклава станет известно о случившемся. А те, кто узнает, в большинстве своем порадуются. Им станет известно, что шайка международных преступников проникла в библиотеку с целью похитить рукописи, сопротивление охранников и монахов было подавлено, и остановить мерзавцев не удалось. Но они в своей жадности утратили осторожность — уронили сигарету. Бумага занялась — библиотека сгорела. Преступники не сумели выбраться из помещения, их тела обгорели почти до неузнаваемости.
— И мы и есть эта банда международных преступников?
— А почему нет? Человек, разыскиваемый за убийство в Нью-Йорке, компьютерный специалист, сумевший взломать нашу систему безопасности. Ученый-медиевист, известная своим неприязненным отношением к церкви. И бесчестная аукционистка, воровавшая те ценности, которые должна была оценивать. Вы пришли сюда по собственной воле, разнюхали дорогу.
— Если вы хотели, чтобы мы здесь оказались, то зачем прикладывали столько усилий, пытаясь нас убить?
— Я был опрометчив. Вы были бы убиты в Нью-Йорке, если бы моим помощникам удалось это сделать. Или в Париже, или в Брюсселе, или в Страсбурге. Но вам все время удавалось уйти. Я спрашивал себя, как у вас получалось побеждать силы, во много раз превосходящие ваши собственные. Я молил Бога, чтобы Он доставил вас в мои руки. Наконец я понял. Он привел вас сюда, чтобы вы принесли мне книгу и послужили моим целям. Его целям. Воистину, неисповедимы пути Господни.
Он достал сигарету и закурил. Когда он затянулся, его лицо расплылось в ностальгическом наслаждении.
— Я бросил курить пятнадцать лет назад. Мой доктор тогда сказал, что сигареты убьют меня.
— Но остается еще одна маленькая проблема, — произнесла Эмили. — У вас не та книга.
— Где остальные книги?
Всегда один и тот же голос. Всегда одни и те же вопросы. Я бы и хотел дать ответ, но не мог. Сокрушительный груз давил меня. Он терзал мое несчастное тело, не позволял дышать моим легким, сгибал кости так, что они ломались.
— Не знаю.
Я не знал ничего. Ни где я. Ни сколько времени я там находился. Ни кто удерживал меня в заточении. Ни как им стало известно про книгу. Я в своем мешке на голове ощущал только звон цепей, запах влажного камня и горящей смолы, бесконечные вопросы, на которые я не мог дать ответ.
Я был раздет донага — это я знал — и привязан к какой-то раме, словно пергамент, натянутый для просушки. На животе у меня лежала доска, прижатая все увеличивающимся числом камней. Это была изощренно уместная пытка: я, посвятивший себя прессованию бумаги, чернил и свинца, должен был на себе испытать, каково это — находиться под прессом. Уж не Фуст ли на меня донес, спрашивал я себя.
— Люди говорят о новом ремесле, что ты изобрел. Ты его так и задумывал — как инструмент для еретиков?
— Я хотел усовершенствовать мир.
Мне это казалось таким важным прежде, тем, ради чего стоило жить. Теперь мои слова звучали неубедительно.
— Ты хочешь уничтожить церковь?
— Укрепить ее.
— Вызвать силы тьмы?
— Распространять истину.
Инквизитор склонился надо мной. Я знал это — потому что почуял запах лука в его дыхании. Я почувствовал движение воздуха у себя на шее — он помахал чем-то (книгой?) передо мной.
— Вот это ты называешь истиной? Самая дьявольская ложь и грязная клевета, какую когда-либо насаждал дьявол. Да только глядя на эту книгу, человек уже впадает в смертный грех.
Грудь у меня горела.
— Я не делал этой книги, — пробулькал я.
Он, как и всегда, проигнорировал мои слова. Боль пытки может сломать тело человека, но душу его уничтожает тщетность любых усилий. Вопросы никогда не менялись. Ответам никогда не верили.
— Сколько таких книг ты написал?
— Тридцать, — охотно проговорил я, чуть ли не радуясь тому, что могу дать ответ на вопрос. — Он сказал, что их тридцать.
— Одна с непристойной запиской была отправлена архиепископу. Другая найдена на ступенях церкви Святого Квинтина — точная копия первой. Это работа дьявола?
— Это мое ремесло.
— Значит, ты сознаешься?
Паника охватила меня. Неужели я сознался? Я попытался объяснить и для этого набрать воздуха в грудь под доской, но сумел издать лишь сдавленный стон. Потом я понял, как нелепы эти попытки, и оставил их. Я не мог осудить себя строже, чем это делали они. Я умру здесь.
Я услыхал мрачный смешок.
— Ты умрешь не здесь.
Видимо, я высказал свои мысли вслух.
— Когда мы узнаем то, что нам нужно, мы сожжем тебя на площади как еретика.
Из моей груди вырвался слабый вздох — видимо, последние остатки воздуха внутри меня. Я всегда знал, что меня ждет такой конец — урок, который мой отец пытался вколотить мне в голову во Франкфурте. Я умру еретиком. Фальшивомонетчик, обесценивший собственные деньги.
И вдруг я понял, что смеюсь: безумное клохтанье исторгалось из моей погубленной души. Полжизни я провел в страхе быть сожженным за смертный грех против тела и природы. А теперь меня собирались сжечь за книгу, которой я не делал. Наверное, в этом была какая-то справедливость.
Мой смех взбесил инквизитора. Он крикнул своих помощников, я услышал скрежет камня, и два моих ребра хрустнули под увеличившимся грузом.
— Где остальные книги?
Боль поглотила меня, и я погрузился в небытие.
Несколько мгновений Невадо оставался абсолютно недвижим. Потом он прошел мимо них к полкам в глубине башни. Киллер от двери передвинулся поближе.
Невадо взял бестиарий.
— Вы принесли эту книгу?
Ник не ответил. Его охватило жуткое предчувствие: что бы он ни сказал, они уже обречены. Сильные запахи табака и бензина вызывали у него тошноту.
Невадо открыл книгу. Одного взгляда было достаточно.
— Это не та книга. Это обычный бестиарий. — Он отшвырнул книгу и повернулся к Джиллиан. Его бледное лицо горело от гнева. — Вы мне сказали, что они принесут «Liber Bonasi».
— Там есть колофон, — проговорила Джиллиан. — В нем упоминается другой бестиарий. Так мы об этом и узнали. Это и привело нас сюда.
— Это не стоит и ломаного гроша.
Невадо оперся о шкаф, судя по всему не понимая, что сигарета, прыгающая в его рту, находится всего в нескольких дюймах от плотно набитых в шкаф книг. Но Ник почти и не заметил этого. Что-то, сказанное кардиналом, прозвучало в его ушах, словно эхо выстрела. «Вы мне сказали». Он повернулся к Джиллиан.
— Ты сказала ему, что мы придем сюда?
— Да нет, конечно. — Она принялась накручивать волосы на свой палец. — Я ему сказала, что книга, которую я нашла в Париже, именно та, что ему нужна. У меня не было другого выхода. Он, видимо, решил, что вы принесете ее, если заманивал вас сюда.
Она смотрела ему в глаза, умоляя поверить ей. Ник хотел поверить. Он почти поверил, но тут Эмили тихо произнесла:
— А записки? Вы оставили инструкции, как пробраться в замок.
— Я этого даже не знала. Он нашел эти бумажки, когда они меня схватили. И оставил там, где вы могли их найти. — Она увидела выражение лица Ника. — Что?
— И ты знаешь, где он их спрятал?
Джиллиан уставилась на него. Ник узнал этот взгляд — он уже видел его раньше, когда ее доводы были неубедительны и она искала слова, какие от нее хотели услышать. Она начала было говорить, но замолчала.
— Он спрятал их в рулоне туалетной бумаги, — сказал Ник. — Ты его надоумила?
Из нее словно выпустили воздух — и это он тоже видел раньше.
— У меня не было другого выхода, Ник. Он бы убил меня, если бы я не согласилась.
— А что, по-твоему, он сделал бы с нами, когда, поймав нас, обнаружил бы, что у нас не та книга? Извинился бы за ошибку и отпустил?
В висках у него стучало, глазам было больно просто оттого, что он смотрел на нее. Он словно окаменел.
— Ну, хватит. — Невадо повернулся. Его лицо окутал дымок от наполовину выкуренной сигареты. Он прокричал что-то по-итальянски киллеру у двери. — Я решил…
Джиллиан неожиданно бросилась на него. Прежде чем киллер успел прореагировать, она выхватила сигарету изо рта Невадо, размахнулась и швырнула ее в книжный шкаф. Промасленная бумага жадно подхватила пламя, словно пять сотен лет только и ждала уничтожения.
— Нет!
Невадо, казалось, передумал. Но было слишком поздно. Он подбежал к шкафу и выдернул горящие книги на пол, принялся, как безумный, затаптывать огонь. Порыв ветра из открытой двери подхватил несколько горящих листов и швырнул их высоко, вне пределов досягаемости, в шкафы, где пламя тут же занялось снова. Кайма длиннополого одеяния Невадо загорелась.
Еще немного — и вся стена была охвачена пламенем.
LXXXIV
Ник увидел, как Невадо в сгущающемся дыму бросился к двери. Он попытался бежать следом, но дробь пуль тут же остановила его. Он нырнул вниз, увлекая за собой Эмили, прикрывая ее своим телом. А когда поднял голову, то увидел, что дверь захлопнулась.
Куда делась Джиллиан? Он огляделся — сквозь черный дым, шедший от книг, ничего не было видно. Может быть, Невадо увел ее с собой? Таковы были условия их сделки?
Потом он увидел ее. Она лежала на полу у шкафа, пыталась приподняться на руках и отползти. На нее дождем падали горячий пепел и угли, сворачивались, словно лепестки, у нее на спине, но она не могла двигаться быстрее — когда она попыталась было сделать это, за ней потянулся полноводный кровавый ручей. Прощальный дар Невадо.
Ник подбежал к ней, подхватил под мышки и потащил к середине помещения. Эмили оторвала рукав от своего свитера и перевязала бедро Джиллиан, чтобы остановить кровотечение. Лицо Джиллиан было бледно от испуга.
— Прости, Ник, — бормотала она. — Прости, пожалуйста.
Времени выслушивать извинения не было. Пламя уже начало распространяться из глубины башни по стенам. Дым наполнял помещение. Ник вытащил перчатки из кармана и одну протянул Эмили.
— Держи у лица.
Дыша через влажную перчатку, Ник бросился к двери. Поверхность ее была ровной, однообразной — ни замка, ни ручки.
«Неужели вы думаете, мы так погрязли в Средневековье, что даже не умеем запирать двери?»
Он ударил по двери ногой, но она только чуть скрипнула, а он сильно ушиб ногу. Он навалился на дверь всем телом, но почувствовал лишь холодную силу металла. Они сгорят задолго до того, как эта дверь подастся.
Он бегом вернулся к Эмили и Джиллиан.
— Плохие новости.
Не убирая перчатки ото рта, Эмили показала наверх. Среди балок вихрились, уходя вверх, клубы дыма. Она оторвала перчатку от лица ровно настолько, чтобы сказать:
— Дым. Уходит. — Она перевела дыхание. — В крыше должно быть отверстие.
Так ли? У Ника были сомнения на этот счет. Но ничего другого не оставалось. Он посмотрел вверх — шкафы гигантской лестницей поднимались вдоль стен. Их соединяли галереи и перекрытия, хотя некоторые и были уже в опасной близости от все разрастающегося пожара. Даже если они доберутся до верха, то, вполне возможно, окажутся там в ловушке.
«Не оставляй попыток», — сказал он себе, потом подхватил под плечи Джиллиан, поднял ее и повел к ближайшей лестнице.
Холодный воздух во дворе был как благодать Божья. Невадо упал на колени в снег, чтобы загасить последние язычки пламени в подоле одеяния и остудить ноги, саднящие от ожогов. Уго неуверенно посматривал на него.
— Загасить огонь? — спросил он.
Невадо оглянулся. Снаружи адское пламя, бушующее внутри башни, было почти невидимо. Окна в башне давно были заделаны. Только запах дыма, почти утешительный в такую снежную ночь, свидетельствовал о пожаре. Облака дыма, вырывающиеся из крыши, терялись в темноте.
— Вы не пострадали, монсеньор?
Невадо вдруг понял, что его трясет. Он планировал совсем другой конец — не такой поспешный и скомканный, вышедший из-под контроля. Поручение Папы Пия все еще оставалось выполненным не до конца. И вид всех этих книг, охваченных пламенем — какое бы зло ни таили они в себе, — потряс его сильнее, чем он мог ожидать.
Но пути Господни неисповедимы. Может быть, подумал он, это была мягкая поправка, предупреждение его гордыне: совершенным может быть только Бог. Его план все еще воплощался в жизнь.
Он повернулся к Уго.
— Дай мне твой пистолет.
Уго удивленно посмотрел на него, но без колебаний протянул пистолет. Невадо ощутил его тяжесть в руке — он был намного меньше пистолетов, которыми он пользовался в юности, защищая себя от республиканских банд, что прятались в лесах вокруг церкви его отца в Андалузии. Но механизм был таким же. Он проверил затвор и предохранитель.
— Упокой, Господи.
Он два раза выстрелил Уго в грудь. Итальянец, не проронив ни звука, рухнул на землю, его кровь, словно чернила, потекла на снег.
«Они подавили сопротивление охранников, и остановить их не удалось».
Жаль, но это было необходимо. Никто не посмеет обвинить его в чрезмерной предосторожности.
Невадо выстрелил в Уго еще раз — чтобы уж наверняка, потом швырнул пистолет в снег у башни. Пусть тот, кто будет расследовать это, делает собственные выводы. После этого он поспешил к конюшням, где была запаркована машина.
Задняя стена башни была охвачена огнем, и это напоминало игру красок в витражном окне. Туда подсасывало воздух, и вся башня от этого становилась огромной духовкой. Ник в другой стороне, хоть и разделся до футболки, был мокрый от пота. Рубашкой он обвязал ногу Джиллиан, приладив к ней импровизированный лубок из двух обломков шкафа. Она шла хромая, опираясь на шкафы.
Мостки были металлические — литая решетка, глядя сквозь нее вниз, ты точно видел, с какой высоты тебе придется падать. Сгореть она не могла, но зажарить их — вполне. Ник уже через подошвы чувствовал, насколько она раскалилась. Пока что каменные колонны не позволяли огню распространиться на их часть библиотеки, но долго это продолжаться не могло. В потоках дыма и обжигающего воздуха кружились горящие клочки бумаги.
Тот, кто сооружал эту библиотеку, не очень заботился об удобствах — лестницы-трапы располагались на противоположных концах каждой галереи, так что приходилось зигзагами пробираться по каждому уровню, чтобы перейти до следующего. Это напомнило Нику примитивную видеоигру, в которой нужно добраться до верха под прицелом гориллы, мечущей в тебя бананы и шаровые молнии. Только тут шаровые молнии были почти как настоящие.
Самыми трудными были лестницы. Первой шла Эмили. Потом она ложилась на живот и вытягивала руки вниз, а Ник тем временем подталкивал Джиллиан, поддерживая ее за бедра. Она пыталась помогать, подтягиваясь на ступенях, но от дыма, боли и кровопотери у нее кружилась голова.
Один раз она поскользнулась, не удержалась и, еще немного — упала бы вниз. Ник с трудом удержал ее.
— Оставь меня. — Она протянула руку и погладила его по щеке. — Спасайся сам.
Если бы была хоть какая-то надежда спастись, он, может быть, поддался бы искушению. Но вместо этого он подсадил ее себе на плечи и продолжил подъем. Она не противилась.
Эмили прокричала что-то Нику, но ее голос потонул в реве огня. Она не стала кричать еще раз — просто показала вниз. Пламя плясало вокруг колонн, жадные языки лизали шкафы под ними.
И тут они пустились наперегонки со смертью. Они вдвоем подхватили Джиллиан и, спотыкаясь, потащили к следующему пролету. Дым поднимался вокруг них, просачивался сквозь пазы в чугунном литье, как ядовитый газ. Легкие у Ника болели, кожа начинала трескаться от жара.
Наконец они оказались на верхней галерее. Ник посмотрел вниз, и ему показалось, что он стоит на вершине огненной колонны. Дым приглушал цвет, делал его тускловатым, кроваво-красным и был таким густым, что сквозь него почти ничего не просматривалось.
Но Эмили была права: дым поднимался наверх. Прищурившись сквозь слезы, Ник разглядел темное отверстие в потолке. Оно было слишком высоко — не дотянуться, и слишком далеко от стены, чтобы удалось воспользоваться шкафами.
— Ждите здесь.
Ник опустился на пол и пополз по мосткам на четвереньках. Горячий металл обжигал ему руки. Он схватил две книжки, словно это были рукавицы, и двинулся дальше, защищая ими ладони. В конце ряда шкафов, засунутый за колонну, стоял, собирая пыль, старый школьный стол. Может быть, его назначение состояло в том, чтобы тому, кто добрался сюда, не пришлось нести книгу для чтения вниз. Ник схватил стол и потащил его назад по мосткам, зажмуривая глаза от дыма. Книги валились с полок; один раз стол развернулся, и его заклинило между шкафами и перилами. Отчаянным рывком Ник высвободил его.
Он даже не сообразил, что добрался до Эмили, пока не почувствовал ее руки у себя на спине. Она сразу же поняла. Забралась на стол, вытянула руки, но ей все равно было не дотянуться до люка в потолке. Ник присел, обхватил ее ноги руками и приподнял.
Она покачнулась. Было одно ужасное мгновение, когда ему казалось: сейчас она рухнет и они оба полетят вниз. Но она выровнялась, ухватившись за края люка. Потом он почувствовал, как исчезла тяжесть ее тела. Когда она оказалась наверху, Ник поднял Джиллиан и затем поднялся сам. Стоило его голове просунуться наверх, и он тут же ощутил приток свежего воздуха. Он глубоко вздохнул и сразу закашлялся, потому что в легкие ему попал сгусток дыма. Он оглянулся.
Наверху наступила оттепель. Огонь растапливал снег, и он стекал с крыши на каменные мостки, где они стояли. Ник набрал немного талого снега в ладонь, чтобы протереть глаза, и почувствовал, что тот теплый. От луж начинал идти пар.
Он оставил Джиллиан и Эмили и побежал по периметру башни, разбрызгивая перед собой воду со снегом и перегибаясь через ограду, чтобы разглядеть, нет ли там лестницы, обычной или пожарной, да хотя бы неровной кирпичной стены, по которой можно было бы спуститься. Ничего такого не нашлось.
Вода на крыше начинала булькать. Он вдруг с ужасом понял, что это не только вода. Плавиться начал и свинец, он отслаивался от крыши и стекал по перегруженным водостокам. Еще немного — и вся крыша обвалится. Ник придвинул Джиллиан поближе к ограждению, чтобы на нее не попал расплавленный металл. Молча прижал к себе Эмили. Сказать было нечего.
Потом он услышал биение в ушах, стук, набиравший силу и вскоре перекрывший даже рев пламени в библиотеке. Наверху в небе появился ослепительный белый луч, прошедшийся по ним, как око Судного дня.
Я был в шаге от смерти. На меня давил такой громадный груз, что мне казалось, он разорвет мою кожу и сокрушит сердце. К голове моей словно притекла кровь из всего тела, и теперь череп раздулся, как пузырь. Я балансировал на грани жизни и смерти, словно на тончайших весах ювелира. На одной чаше лежали камни, на другой — моя жизнь. Добавь одну монетку — и я буду раздавлен, отправлюсь в небытие.
— Каков смысл другого бестиария, что мы нашли в твоем доме?
Вопросы никогда не прекращались. Груз на моей груди давно лишил меня возможности отвечать. Но мне приходилось стонать, хватать ртом воздух, бормотать бессмысленные слова, чтобы убедить их, что я пытаюсь. Если бы я не делал этого, они бы просто добавляли камни.
— Кто еще тебе помогал?
Я ничего не сказал. Несмотря на все мучения, я ни разу не ответил на этот вопрос.
Мое молчание вывело из себя инквизитора. Я услышал знакомую команду: «Alium» — «Еще». Послушные шаги. Хруст камня.
Потом хлопок, приглушенные крики, которые внезапно стали громче. Неужели доска, которая почти расплющила меня, сломалась и груз с нее свалился? Нет, не похоже. Может быть, я умер?
Я постарался услышать, что говорят. После инквизитора любой новый голос был словно холодный ручей в пустыне.
— Вы должны немедленно прекратить это, — сказал кто-то. — Снимите камни.
— Это замок архиепископа. Вы здесь не обладаете властью, епископ.
— Кардинал, — поправил его новый, но знакомый голос. — Я высоко поднялся в этом мире. И если ты немедленно не освободишь моего друга, то полетишь, как один из твоих камней, в очень глубокий колодец.
— Этот человек еретик.
— Он верный слуга Господа, каким ты никогда не будешь.
Последовала пауза, наполненная надеждой более сокрушительной, чем все перенесенные мной мучения. А потом — хвала Господу — звук камня, снимаемого с моей груди. Я попытался вздохнуть и обнаружил, что моя грудь обрела чуть большую степень свободы.
— Быстрее, — потребовал кардинал. — Если он умрет сейчас, его место займешь ты.
Ручеек камней превратился в водопад, рухнувший на пол, как башня, сброшенная с фундамента. Каменные осколки посекли мне щеку, но я почти не заметил этого.
Доску сняли с меня, словно открыли дверь. Пальцы завозились с узлами у меня на шее, распутывая их.
Яркий свет ослепил меня — как утреннее солнце на Рейне. Он образовал что-то вроде нимба вокруг лица, склонившегося надо мной. Даже в этой жестокой камере ему удалось улыбнуться своей обычной улыбкой, впрочем, теперь в ней присутствовала и тревога.
— Воистину, ты необыкновеннейший человек.
Когда Невадо входил в следующий поворот, машину занесло. Он знал, что едет слишком быстро. Дорога меняла направление и петляла по лесу, резкие повороты на крутых подъемах внезапно переходили в прямые обледенелые участки, втиснутые между деревьями. В свете фар мир превратился в гофрированный туннель из деревьев и снега. Он не отрывал глаз от дороги впереди.
Дорога стала прямее, и Невадо немного расслабился. Шоссе на Майнц было закрыто, но его катер был причален у Обервинтера. К рассвету он уже может быть во Франкфурте. Потом скорый поезд до Базеля, к другу, который под присягой покажет, что Невадо два дня не покидал Швейцарию. Позвонят из полиции, и он неохотно сообщит в Ватикан об ужасной новости.
Он понял, что отвлекается, и снова сосредоточился на дороге. Он приближался к повороту, где оползень снес деревья, открыв вид на замок за ущельем. Он мягко нажал на тормоза и почувствовал, как машина, завибрировав, остановилась. Он оглянулся. Огромный столб дыма и пламени затмевал звезды, прорываясь сквозь оставленный им открытым фонарь на крыше, чтобы можно было полюбоваться зрелищем. Он улыбнулся, стараясь выровнять дыхание. Все получилось.
Яркий белый свет, словно ангел, прорезал мрак над ним. Машину сотрясла дрожь от близости пролетающего вертолета. Кто бы это мог быть? Заметили ли его? Внезапно весь его план оказался под угрозой.
Охваченный паникой, он нажал на педаль газа. Слишком сильно — колеса забуксовали, протестующе визжа и бросая снег назад. Он ударил по педали еще сильнее, со скрежетом переключив передачу. Колеса взвыли, потом вгрызлись в мерзлую землю. Машина рванулась вперед. Все еще ослепленный светом прожектора, он не заметил поворота впереди, а когда заметил, было слишком поздно. Он попытался повернуть, ударил ногой по педали, думая, что бьет по тормозам, но это была педаль газа.
Здесь не было ограждения или деревьев, которые задержали бы его, и машина слетела носом вниз прямо в ущелье. Последнее, что увидел Невадо, были лучи фар, отражающиеся от снега, две точки света, набегающие на него, глаза мстительного Бога. Он закричал.
На южном склоне ущелья из леса вырвался небольшой столб огня. Некоторое время он светился, словно горящий бумажный ком, а потом погас, оставив черное пятно в девственно-белом снегу.
Ник, вглядываясь в небо, ладонью заслонил глаза от яркого света. Сквозь вихрь снежинок он видел лопасти вертолета, клацающие, как гигантские ножницы, сверкание стеклянного фонаря кабины и квадрат света в том месте, где открылась дверь. В проеме кто-то стоял, глядя на них. Ник бешено замахал руками, прося о помощи. Шум винтов заглушал его крики, отшвыривая их в темноту.
Но кто-то, видимо, заметил его. Вниз упал трос. Мгновение спустя Ник увидел, что по тросу, словно паук, спускается человек. Оказавшись на крыше, он вразвалочку направился к ним троим. Одет он был как спортсмен-парашютист, но слегка на военный манер, лицо его скрывал огромный шлем.
Ник показал на Джиллиан. Кровь пропитала импровизированные бинты у нее на ноге и закрасила лужи расплавленного снега вокруг. Человек в одежде парашютиста поднял руку с выставленным вверх большим пальцем. Вдвоем с Ником они подняли Джиллиан и усадили ее в подвесную систему.
Эмили приложила ладони трубочкой к уху Ника.
— Кто это?
Ник пожал плечами. Луч прожектора слепил его, и он не мог разглядеть опознавательные знаки на вертолете. Ему пришло в голову, что, возможно, это люди Невадо и сейчас они заберут Джиллиан, а его оставят гореть на крыше. Но минуту спустя — она показалась ему вечностью — он увидел, что человек-паук возвращается. На этот раз он нес две подвесные системы и защитные наушники. Ник и Эмили пристегнулись и скоро оказались наверху. А под ними из рушащейся крыши уже прорывались языки пламени. Они словно летели над вулканом.
Когда они добрались до вертолета, шум мотора стал еще громче. Сам воздух, казалось, отторгал Ника, на его плечи давил тяжелый груз, словно стремясь отправить его назад. Трос раскачивался, но наверху уже ждали сильные руки, затащившие его внутрь.
В конце кабины лежала привязанная к носилкам Джиллиан. Санитар подсоединил капельницу к ее руке и надел кислородную маску. Лицо у нее посинело, но, когда маска прижалась ко рту, он увидел, что прозрачная пластмасса запотевает изнутри. Джиллиан дышала.
Он почувствовал, как чья-то рука постучала его по плечу, и повернулся. На сиденье против него сидели два человека. Один казался встревоженным и немного нездоровым, у другого на лице гуляла мрачная улыбка. Ник меньше всего ожидал увидеть их.
LXXXV
Я лежал на кровати в гостинице — не знаю где. В жестком матрасе было мало соломы, чтобы облегчить боль в моих членах, но все равно после перенесенных мучений мне казалось, что я лежу на мешке с перьями. Эней поднес к моим губам чашу с водой. Я едва мог пить — половину расплескал на грудь.
— Ты уже стал кардиналом?
Он приложил палец к губам, хотя подслушать нас никто не мог.
— Скоро буду. Но пока эти идиоты все равно не смогут дознаться.
— Спасибо.
— Когда-то ты спас мою жизнь. Теперь я отдал тебе долг.
Он поднял книгу, которую взял у инквизитора, и некоторое время молча читал ее. Блеск в его глазах потускнел.
— Как они ее обнаружили? — спросил я.
Из допросов я знал, что экземпляра, который завалился за мою кровать, они не нашли. Если бы нашли — я бы уже, наверное, был мертв.
— Она была оставлена на ступеньках собора для архиепископа. Он увидел страницы из твоей Библии и узнал твое искусство. Он сразу же решил, что ты, вероятно, и сделал ее. — Эней посмотрел на меня взглядом, который проник, казалось, в самую душу. — Ты?
— Она была сделана в моем доме. Моими инструментами.
— Но не тобой?
Я отрицательно покачал головой.
— Не спрашивай меня кем.
Это не понравилось Энею, и он нахмурился. Через несколько мгновений его гнев прошел, и на лице появилось выражение усталой покорности.
— Если тебе и пытка не развязала язык, то я не буду пользоваться дружбой как рычагом, чтобы выдавить из тебя ответ. Мы найдем его сами.
Я подумал о Драхе, о его изменчивом характере и быстро меняющихся привязанностях. Если на свете и был человек, который мог исчезнуть, то именно он.
— Вы его никогда не найдете.
— Лучше бы нам его найти. Многие будут думать, что он самый опасный еретик после Гуса. А может, еще опаснее. Гус, по крайней мере, мог писать свои подстрекательские воззвания лишь по одному зараз.
Он отложил книгу в сторону.
— Помнишь, что я сказал тебе во Франкфурте? Твое искусство — это способ взывать к людским сердцам. А эта книга — она заразная болезнь. Силой твоего искусства она может разнести чуму ереси дальше и глубже, чем когда-либо прежде. Она разорвет на части христианский мир.
— Или свяжет его воедино. — Я приподнялся и ухватил его за руку. — То, что открыл я, уже нельзя отменить. Ты не изведешь ересь, уничтожив мое искусство. Оно всего лишь инструмент. Наверное, я был бы осторожнее, если бы представлял себе всю его силу, но оно все равно остается только инструментом. Слова отпечатываются на странице, но сочиняют их люди. Лучше бороться с их идеями, чем с инструментами, которыми они пользуются.
Мой слабый голос замер, когда я увидел, что он кивает мне.
— Вот почему мы должны защитить его, твое искусство. — Он сунул книгу в кожаный мешок и крепко перевязал его тесьмой. — Мы искореним это зло и полностью его уничтожим. Найдем человека, который сделал это, и сотрем его имя со страниц истории. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя — как видишь, я обладаю некоторым влиянием, — и ты никому ни слова не скажешь об этом.
То был единственный раз, когда он говорил так серьезно, и я увидел проблеск той внутренней силы, которая вознесла его столь высоко.
— Я уверен, ты заслужил большего, чем то, что получил от своих друзей. И подумаю, как облегчить тебе жизнь.
Он взял что-то с прикроватного столика и сунул мне в руку. Книгу. На мгновение мне показалось, что это книга Каспара. Дрожь пробрала меня, когда я прикоснулся к ней. Но тут я понял: это мой бестиарий с приклеенной мною картой. Эти две книги было легко перепутать.
— Она была у инквизитора. Я возвращаю ее тебе. Постараюсь вернуть тебе и другое твое состояние.
На его лице появилась ироническая улыбка.
— Хотя ты и узнаешь, что церковь — не единственный твой враг.
Ник смотрел на лица против него. Он никак не ожидал, что спасение придет в лице двух этих людей. Ательдин, нелепо выглядящий в шерстяном пальто, а рядом с ним в синей куртке и бейсболке с надписью «Н.-Й. П.» человек, которого Ник оставил в Нью-Йорке, и, хотелось ему думать, надолго.
— Детектив Ройс?
Он мог не напрягать связки — шум в кабине стоял такой, что он и себя едва слышал. Один из пилотов протянул ему наушники.
— Вы прилетели, чтобы меня арестовать?
Ройс покачал головой и показал в сторону носилок.
— Вашу подружку.
— Джиллиан? Она…
— Она воришка.
Ник не мог в это поверить.
— Вы хотите предать ее суду за то, что она украла карту в Париже? После всего этого ужаса?
— Тут дело не в карте. Вот Саймон несколько месяцев вел ее.
Ник посмотрел на Ательдина. Нет, он не был похож на сыщика.
— Вы что — полицейский?
— Я аукционер. Но у меня есть друзья в художественном отделе Скотланд-Ярда. Иногда я оказываю им услуги. Несколько месяцев назад они попросили меня присмотреть за Джиллиан. В нью-йоркском Клойстерсе пропали кое-какие вещи, а потом они были выставлены на продажу в Лондоне. Но музей так ничего и не смог доказать. В конечном счете музей выдал ей превосходное рекомендательное письмо и отправил в аукционный дом Стивенса Матисона. Вскоре такие же вещи начали происходить и у нас.
Ник ткнул большим пальцем в сторону Ройса.
— А он участвовал в расследовании?
— Только после того, как вы появились в Париже. — Ройс улыбнулся ему ослепительной улыбкой. Она теперь показалась Нику не такой неприятной, как в комнате для допросов. — Саймон позвонил в Лондон, а там уже о вас были предупреждены через Интерпол. Они позвонили мне. И тут чутье меня не подвело. Вместо того чтобы задержать вас по подозрению в убийстве и за противодействие правосудию, я решил понаблюдать за вами.
— А Ательдин? Его чуть не убили в Брюсселе. Это что — тоже было частью плана?
Ательдин принялся теребить пуговицу на пальто.
— Это было по-настоящему. Я был в ужасе. Обычно меня вызывают как эксперта, если есть подозрение, что кто-то продает вещи, ему не принадлежащие. Или чтобы подтвердить подлинность предмета, по которому предъявляются страховые требования. А к таким штукам я не привык.
Вертолет обогнул гору. Тучи на небе рассеялись, и появилась луна.
— Что это там? — Ательдин показал на склон горы внизу. Среди деревьев полыхал огонь, золотая бусина в серебряном лесу.
В наушниках раздался голос пилота, говорившего с немецким акцентом:
— Может быть, авария? Позвоню в Обервинтер, пусть пришлют полицию.
— А пожарную машину они могут выслать?
Ательдин выгнул голову, чтобы видеть замок. Крыша, вероятно, уже обрушилась — пламя теперь беспрепятственно вырывалось над башней.
— На такой дороге — это невозможно. Разве что утром.
— Библиотека дьявола, — пробормотал Ательдин. — Хотя бы на полчасика в ней оказаться.
— Я бы мог с вами поменяться, — проговорил Ник. — Библиотекарь вам бы точно не понравился.
— Понятно. Однако жаль — все книги погибли.
Эмили залезла под рубашку и вытащила видавшую виды книгу в кожаном переплете.
— Не все.
Ательдин чуть не бросился к ней через всю кабину, но потом вспомнил правила хорошего тона.
— Это та самая?..
— Нет, та была прикована к стене — у меня не получилось. Но я сумела схватить эту. Мне она больше нравится. — Она передала книгу Нику. — Это тебе.
Ник покачал головой. С его места ему была видна Джиллиан — она спала, неровно дыша под одеялом.
— Я нашел то, что искал.
КОЛОФОН
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
Странные чувства испытывал я, вернувшись в Хумбрехтхоф. Стук прессов, клацанье литер в верстатках, крики и шутки учеников, орущих через двор: принеси еще бумаги, еще чернил, еще пива. Но это уже было не мое. Та цель, которой жил дом, изменилась: целеустремленная рутина, больше не заряженная эйфорией открытия. Каспар и я, Готц, Киффер и другие — мы создавали новую страну. Теперь прибыло второе поколение, чтобы прокладывать дороги, строить жилье, осушать болота, сажать растения, укрощать стихию. Лиц многих я не видел прежде: они посматривали на меня, но без всякого интереса. Некоторые узнавали меня и отворачивались или пожимали мне руку, как позволяла их совесть. Петера Шеффера среди них я не нашел.
— Он уехал во Франкфурт, — сказал Фуст, принимая меня в своем кабинете. — У него там дела с одним книгопродавцем. Он должен был уже вернуться и будет жалеть, что не увидел тебя. Наверняка его задержала какая-нибудь женщина.
Я пропустил эту ложь между ушей, спрашивая себя, знает ли Фуст, что Шеффер спит с его дочерью. Фуст неправильно понял выражение моего лица.
— Он был о тебе очень высокого мнения. Как о художнике и изобретателе. Это был самый трудный выбор в его жизни — между тобой и мной. Он не только мой наследник, но еще и твой.
Он взял со стола маленький металлический предмет и передал мне. Тот начал разваливаться в моих руках. Я начал извиняться, но тут же понял, что так оно и было задумано. Одна часть, меньшая, представляла собой выпуклую букву «В» с замысловатой гравировкой внутри — там росли цветы, занимались бутоны на ветках, а на лугу гончая преследовала утку. Эта часть входила в щель во второй, на которой была выгравирована листва, образующая единое целое.
— Это изобретение Петера. Внутреннюю часть покрываешь красными чернилами, внешнюю — синими, потом закрепляешь ее среди черных литер и печатаешь буквицу. Мы используем это на псалтыре для собора.
Он показал мне отпечаток на листе бумаги — куда более резкий, чем мог сделать любой иллюминатор или рубрикатор.
— Красиво, — признал я. Может быть, я ошибался и не все еще открытия были сделаны в этом доме.
— Все пока делается очень медленно. Петер в этом смысле похож на тебя, он одержим качеством и не задумывается о цене.
Затем между нами воцарилось неловкое молчание. Фуст, чтобы скрыть замешательство, принялся рыться в бумагах на столе, наконец нашел то, что искал.
— Я полагаю, мы должны закончить наше дело. — Он дал мне документ на подпись. — Мне жаль, но это необходимо. Мы с псалтырем запаздываем, церковь платить не торопится, поэтому мне приходится брать взаймы. Еврей узнал о наших разногласиях и потребовал в качестве гарантии, чтобы ты принял все условия приговора, вынесенного судом. Это всего лишь формальность. — Он зажег свечку и достал воск для печати.
— Я надеюсь, ты меня простишь, но я должен десять раз подумать, прежде чем подписывать любую бумагу, какую предлагаешь ты.
— Конечно. — Он улыбнулся хищной улыбкой. Нет, уязвить его было непросто.
Я прочел документ. Фуст забирал себе все содержимое Хумбрехтхофа, прессы и литеры, чернила и бумагу, мебель — все вплоть до последней верстатки. Ему также доставались напечатанные Библии для продажи и получения прибыли. Гутенбергхоф, его пресс и все в доме оставалось в моей собственности. Было время, когда несправедливость этого решения возмущала меня, теперь мой гнев остыл. Все осталось в прошлом.
Я расписался внизу и приложил мою печать в мягкий воск. Форма и оттиск. Фуст сделал то же самое.
— У тебя новая печать, — заметил я.
Черная птица в ошейнике держала два щита, украшенные буквами и звездами.
— «Книжная мастерская Фуста и Шеффера». Петер сделал. Мы будем ставить эту печать на все наши работы — знак нашего качества. Клиенты будут знать, что приобретают.
Мне это не понравилось. В некотором роде это казалось еще большим богохульством, чем то, которое совершил Каспар. Ставить свое клеймо на произведение искусства, заявлять свои права на него означало отчуждать его от Бога.
И снова Фуст неправильно меня понял, увидев, что я нахмурился.
— Мне жаль, — повторил он. Ему хотелось, чтобы я поверил в это. — Улица между нашими домами не так уж длинна. Мы, несомненно, будем видеться. Надеюсь, мы сможем быть друзьями.
Я был достаточно стар, и солгать мне не составило труда.
— Надеюсь. Но не теперь. Я на некоторое время уезжаю из Майнца.
Он не мог скрыть облегчение.
— И куда ты направляешься?
— У меня есть дела в Штрасбурге.
Город купался в лучах апрельского солнца. Деревянно-кирпичные дома и готические башни сияли теплым светом; площадь сверкала яркими цветами там, где стояли стеллажи с кухонными полотенцами, почтовыми открытками и путеводителями, которые словно прорезались сквозь асфальт. Вокруг толклись толпы туристов, радуясь Пасхе, а с каменных карнизов за всем этим наблюдали ангелы, львы, рыцари и змеи.
Никто не обращал никакого внимания на молодую пару, которая, держась за руки, шла по площади. Они вошли в собор через западную дверь под монументальным фасадом и оказались в сумерках, постоянно царивших внутри. Слева на северной стене ряд царей на витражном стекле сиял в ярком свете, проникавшем снаружи. Ник почувствовал, как сердце забилось быстрее, и сжал руку Эмили.
Ательдин ждал в средней части нефа, в том месте, где боковой придел вторгался в процессию царей. Поверх костюма на Ательдине был небрежно наброшенный светоотражающий жилет, на голове — каска. За Ательдином, у основания колонны, в гидравлическом подъемнике стоял каменщик.
— Надеюсь, вы не ошибаетесь. Вы и представить себе не можете, сколько всяких бумажек нужно написать, чтобы вам позволили разобрать один из шедевров готической архитектуры. В особенности если люди, которые хотят это сделать, — все как один персоны нон грата среди церковников. Мне пришлось просить людей об услугах, за которые мне в жизни не расплатиться, и беззастенчиво врать.
Ник вытащил бестиарий из рюкзака. Уголок потертой карты торчал из-за последней страницы. Он засунул карту назад. Вскоре ему придется проститься с обеими — карта присоединится к колоде в Национальной библиотеке в Париже, а книга отправится в Британскую библиотеку в Лондоне. Все это было организовано аукционным домом Стивенса Матисона. Ник, никогда не державший в руках книги старее, чем 61-й выпуск «Супермена»,[57] печалился при мысли о том, что ему придется расстаться с ними.
Но бестиарий еще хранил последнюю тайну. Ник раскрыл книгу на восстановленной первой странице, вырезанной Джиллиан, но теперь умело возвращенной на место реставраторами. В нижнем углу находился набросок прямоугольного здания, стоящего на поперечинах креста, на которое они не обратили внимания на пароме по пути в Обервинтер.
Разгадала загадку в конечном счете Эмили.
— Это не здание с крестом, — сказала она как-то вечером в Нью-Йорке. — Это здание на перекрестке дорог.
На Ника это не произвело впечатления.
— Нам это вообще ничего не дает.
— Дает, если знаешь что-нибудь о жизни Гутенберга. — Взволнованный вздох. — Страсбург — это перекрестье дорог. Перекресток Европы.
— А это здание…
— Собор.
Это было бездоказательно — рисунок мог подразумевать любое здание со сводчатой дверью. Оно даже на башню особенно не походило.
— Смотри — все совпадает. Перекресток. Короли на стене и «Записи царей Израилевых». Гутенберг.
И вот они вернулись в церковь на перекрестке, где были увековечены в стекле две дюжины королей давно канувших в небытие царств.
— Манассия был шестнадцатым царем Израилевым. — Эмили пересчитала царей на витраже по четыре и остановилась на фигуре против того места, где они стояли. — Людовик Благочестивый.
— Подходяще.
— Джиллиан сон потеряет, если мы окажемся правы, — сказал Ательдин.
Ник смолк. Он проехал чуть не всю Европу, разыскивая Джиллиан, и — невероятно, но он спас ее. Он все еще не знал толком, что же нашел. Он больше не лежал бессонными ночами, размышляя о том, что могло бы произойти. Он уже не хотел, чтобы она обнимала его, шепотом прося прощения за все, умоляя дать ей еще один шанс. Но на некоторые вопросы он не находил ответа. Она навсегда останется сумасбродкой, необузданной, непостижимой женщиной, которая ходит по краю.
Ник и Эмили надели каски и светоотражающие жилеты. Подъемник понес их вверх вдоль колонны, и скоро они оказались высоко над головами туристов. Один или двое посмотрели вверх, но при виде светоотражающей одежды решили, что ничего интересного не происходит. Маскировочная одежда, бросающаяся в глаза.
— Как Гутенберг мог подняться сюда? — недоумевал Ник.
— Собор все еще строили и перестраивали, когда он был здесь. Возможно, вокруг колонн были какие-то леса.
Подъемник остановился. Они теперь находились почти на уровне королевских голов перед резьбой на колонне. Сквозь густую листву на них смотрело человеческое лицо. Орел со змеей в клюве. И…
— Медведь, роющийся в земле.
Ник знал, что увидит его здесь: Ательдин разглядел его снизу и прислал фотографию. Но все равно он испытал что-то вроде благоговейного трепета. С такого расстояния было видно, насколько этот медведь похож на того, который был изображен на карте. Чуть более приплюснутый, чтобы уместиться в ограниченное пространство на колонне, с более плоской спиной, более резким выгибом лапы, и от этого кажущийся более целеустремленным. Рядом с его зарывающейся в землю мордой в нижнем углу в камне было просверлено маленькое отверстие.
«Ключ — медведь».
Каменщик взял тонкий металлический крюк, похожий на инструмент дантиста.
— Если это на цементе, то я ничего делать не буду, — предупредил он.
Но каменную плитку ничто не удерживало на месте, кроме скопившихся слоев грязи и сажи, спекшихся в липкий черный сгусток. Каменщик высвободил плитку с помощью своего инструмента, который оставил по периметру узкую трещинку.
— Ну, волнующее мгновение, — сказал Ательдин.
Он ухватил медведя за морду и потянул на себя. Плитка сошла легко, словно только и ждала этого. Ательдин с каменщиком положили ее на пол подъемника. Под плиткой обнаружилось прямоугольное отверстие.
— Там что-то есть.
Эмили сунула туда руку и вытащила ржавую металлическую коробочку размером с банку из-под печенья; в такую вполне могла поместиться книга. Дрожащей рукой Ательдин засунул лезвие под крышку и поднял ее. Их головы сомкнулись над коробочкой.
— Оно все… рассыпалось.
В коробке были одни лишь хлопья, похожие на мыльную стружку или осенние листья, собранные для костра. На большинстве виднелись следы букв, некоторые сверкали золотым или красным цветом, где на фрагменты иллюминации попадал свет из витражного стекла. Размер фрагментов не превышал и дюйма.
— Наверное, туда попали водяные пары. Если пергамент перед этим какое-то время находился на солнце, то влага должна была разрушить его.
Эмили надела резиновую перчатку и взяла один из фрагментов. Даже теперь чернила оставались черными, блестящими.
— Вполне подходящий шрифт для «Liber Bonasi».
— Но тут есть еще.
Ательдин показал на другой фрагмент, где чернила были коричневыми. Даже Ник видел, что это написано от руки — не напечатано.
— … много имен… гусиное мясо… — Ательдин убрал фрагмент назад в коробочку. — Не знаю, что это такое.
Эмили быстро перебрала еще несколько фрагментов.
— Похоже, здесь были две разные книги — «Liber Bonasi» и гораздо более объемная рукопись. Они перемешались.
Ник смотрел в коробку. Он даже представить себе не мог, сколько там отдельных фрагментов. Тысячи? Миллионы? Некоторые, возможно, совсем превратились в прах, другие оставались разборчивыми. Но время у него было.
Он улыбнулся Эмили.
— Мы сможем собрать это в одно целое.
Я в последний раз перешагнул порог Гутенбергхофа, как всегда бросив взгляд на паломника на замковом камне. Я стал больше похож на него после испытаний у инквизитора. Спина моя сутулилась, голова поникла. В холодные дни мне даже дышать было трудно. Но тот груз, что я так долго нес, пряча под плащом, больше почти не тяготил меня.
Остальные ждали меня наверху. Саспах и Готц, Гюнтер, Киффер и Руппель, и еще с полдюжины других, чьи имена не фигурировали в моей хронике, хотя я видел их почти ежедневно, когда работал станок. Писец Ментелин, который начал работать над новыми литерами, когда Фуст забрал мои; Нумейстер, Швайнхайм, Сенсеншмидт и Ульрих Хан. Не было только Каспара. В середине, возвышаясь над всеми ними, стоял станок. Он постарел, как и все мы: был заляпан чернилами, помят — нам случалось молотками выбивать заклинки, винты утратили прямизну, но в умелых руках он все еще был в состоянии выдавать шестнадцать страниц в час.
— Я ухожу, — без всякого вступления сказал я.
Послышался разочарованный шепот, но никаких потрясенных вскриков. Они видели: после процесса и всего, что последовало за ним, я понемногу выходил из дела. После громадного труда по созданию Библии мне было неинтересно печатать календари и грамматики.
— В мое отсутствие мастерскую будет возглавлять Киффер. Пока он сосредоточится на уже набранных текстах — индульгенциях и всем таком, а потом мы накопим капитал и наймем новых учеников. Все остальные могут оставаться в моем доме, сколько пожелают. Однако не тратьте попусту время. Обучайтесь ремеслу, которое вам неизвестно. Если ты наборщик, научись отливать литеры. Если ты пока только варил чернила, научись наносить их на литеры, чтобы отпечатки каждый раз были ровные. Не бойтесь делиться знаниями. А потом возвращайтесь в свои родные местечки или уезжайте в большие города, о которых мечтали, и открывайте там мастерские. Обучайте учеников, а те пусть обучают своих учеников. Не входите ни в какие гильдии, но старайтесь создавать шедевры. Распространяйте это мастерство по всем уголкам христианского мира, чтобы все могли читать, учиться, понимать и расти. Вы будете ошибаться. Совершенен только Господь. Некоторые люди, может быть даже кто-то из вас, будут использовать изобретенное нами искусство в дурных целях. Это неизбежно. Этот инструмент обладает слишком большой силой, чтобы оставаться в руках одного или двух человек. Пока мы своей работой добавляем в этот мир больше добра, чем было бы без нас, это искусство будет благодатью.
Я оставил их в доме и вышел на улицу, под теплое апрельское солнышко. Я уверился в безнадежности своей мечты: мне не создать ничего совершенного. Я ведь был всего лишь человеком. Будь я помоложе, случившееся уничтожило бы меня, а теперь я испытывал только облегчение — тяжкий груз сняли с моих плеч. Я примирился с несовершенным миром.
Я не отошел и пяти миль от Майнца, как меня посетила мысль о том, что мой пресс можно усовершенствовать.
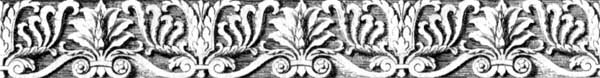
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Иоганн Гутенберг был человеком, который изменил мир, но при этом оставил на удивление мало следов в истории: несколько расписок, пару упоминаний в гражданских документах и отрывочные записи о четырех судебных процессах, ссылки на которые есть в этом романе. В основном они порождают больше вопросов, чем дают ответов. Реальность, о которой они свидетельствуют (промышленный шпионаж, соглашения о нераспространении, права на интеллектуальную собственность, идущие на риск инвесторы, нестабильное финансирование, судебные иски), знакома многим предпринимателям сегодняшней Силиконовой долины. Они напоминают нам, что печатное дело было чрезвычайно сложным и дорогостоящим предприятием, которое требовало огромных вложений без отдачи на протяжении нескольких лет, а также управленческого мастерства и организации поточного производства, практически неизвестного в Средние века. Гутенберг, видимо, обладал гениальными способностями в области финансового инжиниринга и логистики, а кроме того, он разработал технологии изготовления чернил, разбирался в металлургии, механике и производстве бумаги. В этой книге я отпустил свое воображение в свободное плавание в том, что касается ранних лет Гутенберга. Главы, где действие происходит в Страсбурге и Майнце, более основаны на общепризнанных фактах.
Но жизнь Гутенберга — это открытая книга в сравнении с жизнью Мастера игральных карт. О нем ничего не известно — мы знаем только его работы и имеем смутное представление о времени и месте его жизни. Историки искусства сходятся во мнении, что он был первым в истории, кто печатал изображения с медной гравировальной доски. Как и другие революционные открытия в искусстве (и не в последнюю очередь Библия Гутенберга), карты представляют собой не только свидетельство технологического прорыва, но и подлинный шедевр.
Мысль о том, что два этих титана раннего периода книгопечатания могли знать друг друга и сотрудничать, хоть и бездоказательная, захватила меня. Наиболее активные годы жизни этих двоих людей, живших в Рейнской области, приходятся на первую половину пятнадцатого века, оба они в числе первых использовали печатные станки для организации поточного производства. Как об этом говорится в романе, несколько картинок Мастера имеются в Библии Гутенберга, хранящейся в Принстонском университете, а другие можно увидеть в гигантской рукописной Библии, изготовленной, видимо, в Майнце в то же время, когда печатал свои Библии Гутенберг.
Если цель средневекового художника состояла в том, чтобы не оставить никаких сведений о себе в работе, вдохновленной исключительно Богом, то и Гутенберг, и Мастер игральных карт превосходно в этом преуспели. Имя мастера не сохранилось. В равной мере под завалами пропаганды Фуста и Шеффера почти на два столетия был забыт и Гутенберг. Но нынешний мир являет собой памятник их страсти к текстам и образам, произведенным поточным способом.
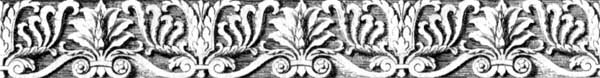
БЛАГОДАРНОСТИ
Я хочу поблагодарить всех тех, кто оказывал мне помощь и поддержку в написании этой книги. Доктора Наталью Новаковски из Соммервильского колледжа Оксфорда за возможность познакомиться с ее исследованиями по истории раннего книгопечатания; Максима Прео из Парижской Bibliotheque nationale, который любезно позволил мне увидеть оригиналы игральных карт; доктора Алена и форум авторов, пишущих в детективном жанре; Оливера Джонсона, соавтора и редактора; семью Бане и Изабеллу Пол за их гостеприимство в Германии и многое другое; мою семью, в особенности моего отца за его немецкий опыт; Джона, Сару и Агнессу Хокинс, для которых «Заветы Рейнской области» остаются одной из величайших упущенных возможностей, хотя и вымышленных; моего агента Джейн Конуэй-Гордон, несмотря на ее угрозу лишить меня шоколадного торта; литературное агентство «Интерконтинентал»; Джона Келли; Шарлотту Хэйкок и всех остальных в издательстве «Рэндом хаус»; персонал Британской библиотеки в Лондоне и Бостон-Спа; библиотеку Йоркминстерского собора и библиотеку Дж. Б. Моррела в Йоркском университете.
После написания восьми книг я мог бы принять как нечто само собой разумеющееся терпение и поддержку моей жены Эммы, но они тем не менее представляются мне еще более удивительными. Она создала мне самые благоприятные и спокойные условия для работы, какие были в моей жизни.
Мой сын Оуэн родился месяц спустя после начала моей работы над этой книгой. Он появился на свет во время моего исследовательского путешествия и, покоряя своим обаянием Европу, подвергался воздействию готической архитектуры в гораздо большей мере, чем это безопасно в пятимесячном возрасте. Кроме того, он вносил свой вклад в произвольную пунктуацию в те моменты, когда, преодолев все эшелоны обороны, добирался до клавиатуры моего компьютера. Эта книга посвящается ему, родившемуся в мире, где коммуникационная революция, начатая Гутенбергом, распространяется на новые невообразимые измерения.