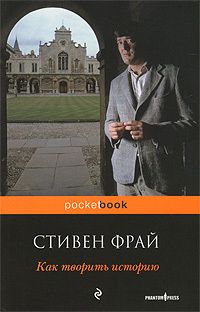
Стивен Фрай
Как творить историю
Бену, Уильяму, Джорджу, Чарли, Биллу и Ребекке, а также настоящему времени
Часть первая
Как делать кофе
Все начинается со сна…
Все начинается со сна. Эта история, которая может, подобно окружности, начаться везде и нигде, начинается для меня – как-никак это моя история и больше ничья, да и быть никогда не могла ничьей, только моей, – со сна, который привиделся мне одной майской ночью.
Сон был самый что ни на есть дурацкий. В нем присутствовала Джейн, чопорная и негнущаяся, как перекрахмаленная ресторанная салфетка. Он тоже там был. Разумеется, я его не узнал. Я с ним и знаком тогда толком не был. Просто старик, которому киваешь на улице или улыбаешься, чинно придерживая перед ним дверь библиотеки. Сон омолодил его, обратив из безликого старого бородача с усеянной печеночными звездочками кожей в подобие бармена Мака Сеннетта[1] – обвислые черные усы, прилепившиеся к вытянутой, белой от недоедания физиономии висельника.
При всем том физиономия-то была его. Хоть я тогда этого и не знал.
Во сне он находился вместе с Джейн в лаборатории, в лаборатории Джейн, разумеется, – сон оказался не настолько пророческим, чтобы предсказать размеры его лаборатории, ставшей известной мне лишь позже, – то есть это если мой сон вообще следует считать пророческим, каковым он вполне мог и не быть. Надеюсь, вы меня понимаете.
Похоже, мне предстоит попотеть.
Так или иначе, Джейн смотрела в микроскоп, а он стоял сзади и тискал ее. Поглаживал между бедрами, сунув руку под длинный белый халат. Она-то не обращала на это внимания, а вот я оскорбился – оскорбился, когда рука, скользившая по нейлону, замерла и я понял, что пальцы его добрались до самого верха длинных ног Джейн, туда, где чулки заканчиваются и начинается мягкая, жаркая, укромная плоть – жаркая, укромная плоть, принадлежащая мне, начнем с этого.
– Оставь ее в покое! – кричу я с некоего незримого режиссерского места, находящегося позади кинокамеры, так сказать, сна.
Он поводит в мою сторону грустными глазами, цепенящими меня, как они всегда это делали, яркой лучистостью своей синевы. Вернее сказать, делали впоследствии, поскольку к тому мигу я, в моей реальной, наяву протекавшей жизни, еще не обменялся с ним ни единым взглядом.
– Wachet auf,[2] – говорит он.
И я подчиняюсь.
Сильный свет майского солнца отбеливает землистую кремовость грязноватых штор, которые мы собирались сменить еще месяц назад.
– С добрым утром, малыш, – бормочу я. – Два куска «Глостерского»… мама всегда говорила – это не сыр, а блаженный сон.
Однако ее нет. Джейн то есть нет, не мамы. Впрочем, и мамы, строго говоря, тоже. Ее-то уж нет точно. Ту т у нас история совсем другого толка.
Та половина постели, на которой спит Джейн, холодна. Я напрягаю слух, пытаясь различить шипение душа или бряцание чайных чашек, неуклюже сваливаемых на сушильную доску. Все, что делает Джейн вне работы, она делает неуклюже. Ей свойственно обыкновение отворачиваться от собственных рук на манер брезгливой студентки-медички, подбирающей свежеотрезанный аппендикс. К примеру, рука, держащая сигарету, может тянуться влево, а Джейн при этом смотрит вправо, давя окурок о блюдце, книгу, скатерть, тарелку с едой. Женщины с плохой координацией, близорукие женщины, долговязые, неповоротливые, неловкие женщины всегда казались мне чудовищно привлекательными.
Вот теперь я начинаю просыпаться. Последние крохи сна улетучиваются, я готов взяться за утреннюю головоломку – переизобретение себя самого. Я смотрю в потолок и вспоминаю то, что имею вспомнить.
На миг оставим меня лежащим в постели, собирающим себя по кусочкам. Я как-то не уверен, что рассказываю эту историю правильно. Я уже говорил, что она подобна окружности, в которую можно войти в любой ее точке. Она подобна также окружности, в которую нельзя войти в любой ее точке.
Мой бизнес – история.
Ну-ну, нашел начало… история для меня никакой не бизнес. Спасибо и на том, что воздержался от поименования истории своим «ремеслом», – полагаю, это дает мне право записать на мой счет пару очков. История – моя страсть, мое призвание. Или, если быть болезненно точным, это сфера моей наименьшей компетентности. То, чем я пока что занимаюсь. Будь я человеком терпеливым и дисциплинированным, я выбрал бы литературу. Однако, хоть я и способен читать «Мидлмарч» и «Дунсиаду» или, не знаю, Джулиана Барнса либо Джея Макинерни[3] с удовольствием, не меньшим того, что получают от них другие, в мозгу моем отсутствует тот маленький участок, дополнительная доля, которая безусловно имеется у студентов литературного факультета, доля, позволяющая им сохранять отстраненность и наделяющая отвагой, необходимой, чтобы рассуждать о книгах («текстах», сказали бы они), как иные рассуждают о статьях договора или структуре клетки. Помню, как в школьном классе мы читали какую-нибудь оду Китса, сонет Шекспира или главу из «Скотного двора». Внутри у меня все тряслось, мне хотелось плакать – только от слов, от простого чередования звуков, ни от чего иного. Однако, когда доходило до написания Сочинения, я сбивался и терпел неудачу. Я так и не смог уразуметь, с чего полагается начинать. Как можно выдерживать дистанцию и писать в академически одобренном стиле о том, что заставляет тебя ежиться, дрожать и всхлипывать?
Я вспоминаю дитя из романа Диккенса, по-моему, из «Тяжелых времен», девочку, выросшую в цирке, проводившую все дни с лошадьми, ухаживая за ними, кормя их и любя. В романе есть сцена, в которой Грэдграйнд (точно, «Тяжелые времена», только что проверил), желая похвастаться своей школой перед визитером, просит эту девочку определить, что есть «лошадь», и, разумеется, малышка тут же лишается слов, запинается, мнется и беспомощно таращит глаза, что твоя дворовая собачонка.
«Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь!»[4] – объявляет Грэдграйнд и с широкой презрительной улыбкой поворачивается к маленькому, разбитному проныре Битцеру, самоуверенному уличному мальчишке, который за всю свою жизнь и лошадей-то видел разве что частями, – полагаю, когда швырял в них камни. Поросенок, самодовольно осклабясь, встает и выпаливает: «Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок…» – и так далее, заслуживая бурные овации и всеобщее одобрение.
«Ученица номер двадцать, теперь ты знаешь, что есть лошадь», – говорит Грэдграйнд.
Так вот, всякий раз, что меня просили написать сочинение на тему вроде «“Прелюдия” Вордсворта как самолюбование в отсутствие возвышенного», я, получая мою работу назад с отметкой «1», или «0», или уж не помню какой, чувствовал себя так, словно я-то и есть запинающаяся обожательница лошадей, а весь остальной класс состоит из нахальных, попугайствующих поросят, каждый из которых уже умудрился лишиться души. С успехом писать о книгах, поэмах и пьесах можно, лишь если они тебя не волнуют, не волнуют по-настоящему. Конечно, все это бред истеричного школьника, позиция, порожденная не чем иным, как самовлюбленностью, тщеславием и трусостью. Да, но до какой глубины прочувствованная. Все школьные годы я сохранял убежденность в том, что «литературные исследования» есть вереница аутопсий, произведенных бессердечными лаборантами. Хуже, чем аутопсий: биопсий. Вивисекций. Даже с кино, которое я люблю больше всего на свете, больше жизни, даже с ним поступают ныне подобным же образом. Теперь без методологии о кино и заикаться-то нечего. Как только нечто становится темой университетского курса, ты понимаешь – оно мертво. История, как я обнаружил, область для меня более безопасная: я не люблю Распутина, или Талейрана, или Карла Пятого, или кайзера Вилли. Да кто же их любил? Историку дарована приятная роскошь – он сидит, ничем не рискуя, за письменным столом и указывает, где обмишурился Наполеон, как можно было избежать вот этой революции, свалить вон того диктатора или выиграть то сражение. Я обнаружил, что могу относиться к истории, в которой все и впрямь мертвы, с совершенно упоительной бесстрастностью. До известных пределов. Что и возвращает нас к нашему повествованию.
Как историк, я должен, вообще-то говоря, обладать способностью дать простой и ясный отчет о событиях, происшедших в… ну-ка, ну-ка, и где же они произошли? Все это очень спорно. Когда вы углубитесь в мой рассказ, то поймете, сколь огромные стоят передо мной проблемы. Историк, сказал кто-то – по-моему, Берк, а если не Берк, то Карлайль,[5] – это пророк, обращенный в прошлое. Я к моей истории подходить таким манером не могу. Загадка, которая меня донимает, лучше всего формулируется посредством следующих утверждений:
А. Ничего из нижеследующего никогда не происходило.
Б. Все нижеследующее – чистой воды правда.
Вот и вертись тут. Получается, что моя задача – рассказать вам историю, которая никогда не происходила. Возможно, это и есть определение художественной литературы.
Готов признать, мое вступление выглядит несколько игриво: меня, как и любого читателя, выводят из себя авторы, норовящие привлечь внимание к своей технике письма, – само это предложение глубже, чем большинство прочих, погрязло в нечистой эластичности прямой повествовательной кишки, но тут уж я поделать ничего не могу.
Я видел на прошлой неделе пьесу (пьесы с фильмами несравнимы, то есть совершенно. Театр мертв, однако я люблю понаблюдать иногда за расчленением трупа), в которой одна из героинь выдала примерно следующее: правда о чем бы то ни было, сказала она, походит на чашу с рыболовными крючками – ты пытаешься рассмотреть одну малюсенькую правдочку, а вытаскиваешь на свет божий всю их черную и опасную гроздь. Я не могу допустить, чтобы нечто подобное произошло и со мной. Я должен как-то разделить и распутать крючки, дабы они, даже если им предстоит вытащиться на свет всем сразу, появились, по крайней мере, аккуратно сочлененными, подобием цепочки из канцелярских скрепок.
И потому я чувствую, что могу с достаточной уверенностью начать с такого маленького ряда сцепок: если бы не ослабевший замочек, не алфавитное соседство и не дикий, изнуряющий похмельный сушняк, донимавший Алоиза, мне и рассказать-то вам было нечего. Так что мы в полном праве начать с того, что я уже объявил началом (хоть потом от объявления и отрекся). Вот я и лежу, гадая, подобно Китсу: Мечтал я? – или грезил наяву? Проснулся? – или это снова сон?[6] И гадая также, почему, о Иисусе, Джейн не лежит рядом, свернувшись теплым калачиком?
Часы сказали мне – почему.
Времени – четверть десятого.
Она никогда еще так со мной не поступала. Никогда.
Я полетел в ванную, вылетел из нее с пузырящейся в уголках губ зубной пастой.
– Джейн! – забулькал я. – Какого хрена? Уже больше половины десятого!
В кухне я сцапал кастрюльку и принялся лихорадочно искать кофе, кусая в панике мятно-фтористые губы. Пустая банка «Кенко» и пачки, пачки, пачки чая.
«Розмариновое рандеву», господи ты боже мой! Рандеву? «Апельсиновый блеск». «Бананово-лакричная мечта». «Ночное наслаждение».
Иисусе, да что это с ней? Все чай, чай, чай. И ни зерна, ни пакетика кофе.
И вот, в глубине буфета… триумф, блаженство. Ууф! Большой аквафрешный поцелуй тебе, дорогая.
«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров».
Ат-лично!
Назад в спальню, запрыгиваю в джинсы. Трусы, носки – нет времени. Вбиваю в туфли босые ступни, шнурки потом.
Снова на кухне, как раз и кастрюлька зарокотала, шипит, потому что воды мало, ничего, на чашку хватит, на чашку хватит вполне.
Нет!
Ах, проклятие, нет!
Нет, нет, нет, нет, нет!
Сука. Свинья. Корова. Ангел. Дважды сука. Сладость. Стерва.
– Джейн!
«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров. Обескофеинен органическим способом».
– Блин!
Спокойно, Майкл, спокойно. Bleib ruhig, mein Sohn.[7]
Ничего, с этим я справлюсь. Я аспирант. Мне скоро докторскую защищать. Этим меня не проймешь. Только не такой ерундовиной.
Ха! Нашел! Свет, вспыхнувший над головой, щелчок пальцами – эврика, ну, кто у нас умница? Да…
Таблетки, таблетки для бодрости. «Про-Доза»? «Не-Доза»? Что-то похожее.
При пролете через ванную мозг мой наполовину зарегистрировал нечто. Важное обстоятельство. Какое-то несоответствие. И отложил в сторону. Потом разберусь.
Куда они подевались? Куда подевались?
Вот вы где, сволочонки маленькие… да, идите к мамочке…
«Не-Доза. Для поддержания бодрости. Идеальное средство для тех, кто готовится к экзаменам, поздно ложится спать, водителей и т. п. Каждая таблетка содержит 50 мг кофеина».
На кухонной доске, уподобясь лондонскому кокаинисту, хихикающему в туалете ночного клуба, я давлю их, дроблю и мельчу.
Белые кусочки тускнеют и меркнут в кофейной грязи, пока я поливаю ее кипящей водой.
«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров. Обескофеинен органическим способом».
Вот теперь это кофе. Малость горьковат, быть может, но настоящий кофе, не питательный отвар «Клубничная пустышка» или «Крапива с ромашками». Так, говоришь, Джейн, смекалки мне не хватает? Ха! Подожди, пока я не расскажу тебе нынче ночью об этом. Да я самого Пола Ньюмена из «Харпера» обскакал. Он-то всего-навсего второй раз использовал старый бумажный фильтр, так?
Без четверти десять. Занятия начнутся в одиннадцать. Без паники. Теперь я торжественно и уверенно вступаю с чашкой в руке в комнату для гостей, я овладел ситуацией. Я показал ей, чего стою.
«Эппл» остыл. Никакой тебе больше бурчливой воркотни. Кто знает, когда я снизойду до того, чтобы включить тебя снова, моя Мэкки Тэтчер?
А там, на столе, сложенный опрятной стопкой, величаво, непристойно толстый – сам Das Meisterwerk.[8]
Держусь на расстоянии, только шею вперед вытягиваю: нельзя допустить, чтобы хоть крохотная капелька не-кофе запятнала великолепие титульной страницы.
Из Браунау[9] в Вену: Корни власти.
Майкл Янг
магистр искусств
магистр философии
Тпру, приехали! Четыре года. Четыре года и двести тысяч слов. Вот она, стерва-клавиатура, такая пластмассово немая, такая комически праздная.
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890 Больше выбирать не из чего. Только эти десять цифр и двадцать шесть букв, образующие в различных сочетаниях двести тысяч слов, ну еще кое-где запятую вставишь или точку с запятой. И тем не менее шестую часть моей жизни, целую шестую часть жизни, клянусь большим блаженным Буддой, эта клавиатура вгрызалась в меня, точно рак.
Э-хе-хе! Теперь потянуться немного – вот и вся утренняя разминка.
Я удовлетворенно вздыхаю и перетекаю на кухню. 150 мг кофеина пронеслись по кровеносным сосудам и, воздев руки над головой, пересекли в моем мозгу финишную черту. Я проснулся. Проснулся, накачанный бодростью.
Да, теперь я проснулся. Проснулся и готов ко всему.
Готов к тому, чтобы увидеть: В Ванной Что-то Не Так.
Готов к тому, чтобы заметить листок бумаги, зажатый на кухонном столе между огрызком вчерашнего сыра и пустой винной бутылкой.
Готов к тому, чтобы сообразить – тютелька в тютельку в восемь никто меня, как оно следовало, не разбудил.
«Посмотрим правде в глаза, Пип. Ничего у нас не получится. Попозже, днем, я вернусь за остальными моими вещами. Заодно выясним, сколько я должна тебе за машину. Поздравляю с завершением диссертации. Тем временем подумай обо всем, и ты поймешь, что я права».
Даже пока я прохожу через положенные стадии потрясения, гнева и воплей, какая-то часть моего сознания регистрирует облегчение, мгновенно регистрирует облегчение, – ну, если не облегчение, то отчетливое сознание того, что эта изящная записочка затрагивает куда меньшую, гораздо менее значительную часть моих чувств, чем обнаруженное чуть раньше отсутствие кофе, или возможность того, что мне позволили проспать все на свете, или – вот в эту минуту – вздорное, наглое предположение, будто моя машина должна достаться ей.
Вспышка ярости – разыгранная мной главным образом проформы ради – это, строго говоря, подобие комплимента в адрес Джейн. Летящая через всю кухню винная бутылка – особая винная бутылка, праздничная, винная бутылка, со тщанием выбранная мною вчера вечером в «Оддбинс»: «Шатонёф-дю-Пап», ради которого я протрудился шестую часть всей моей жизни, – есть, таким образом, следствие жеста, необходимого театрального признания того, что завершение нашего трехлетнего сожительства заслуживает хотя бы некоторого шумства и драматического представления.
Вернувшись за своими «вещами», она обнаружит на кухонной стене изысканно изогнутый подтек ржавоватого винного отстоя, и под большими ступнями ее прохрустит стекло, и она ощутит некоторое удовлетворение при мысли, что я «разволновался». Союз Джейн и Майкла распался, Джейн теперь сама по себе, а Майкл сам по себе, и Майкл стал наконец Кем-то. Кем-то, кто, по выражению Леннона, Пишет Как Может.[10]
Так.
В кабинете, снимая со стола «Meisterwerk», взвешивая его в руках, уже готовый аккуратно уложить его в кейс, я вдруг вытаращиваю глаза, точно Кролик Роджер при громком звуке клаксона, на крохотное пятнышко, севшее на титульный лист. Оно вылезло невесть откуда, подобное меланоме на коже завзятого серфера, за то недолгое время, что я провел на кухне, предаваясь метанию винных бутылок. Это не кофе, тут я совершенно уверен; возможно, просто дефект бумаги, выявить который оказалось способным лишь мощное майское солнце. Времени загружать компьютер и перепечатывать страницу у меня нет, поэтому я хватаю пузырек со «штрихом», прикасаюсь кончиком кисти к гадкой веснушечке и мягко дую на нее.
Держа лист за края, выхожу наружу и подставляю его под солнце. Ну и хватит. Сойдет.
Вон оно, место у телеграфного столба, на котором должен стоять «рено».
– Ну, сука!
О господи. Какая оплошность.
– Извините!
Девочка-газетчица закладывает вираж и уносится прочь, сжимая руль велосипеда и вспоминая все страшные истории, когда-либо попадавшиеся ей на глаза на первых страницах газет, которые она каждодневно забрасывает на коврики у наших дверей. Все про тебя маме расскажет.
О господи. Пусть лучше отъедет немного, не то решит еще, что я за ней гонюсь, а мне это совсем ни к чему. Я вообще не понимаю, зачем нам газеты. Джейн подсела на них, вот в чем штука. Нам доставляют даже «Кембридж ивнинг ньюс». Каждый вечер. Ну на что это похоже?
Я поворачиваюсь, выкатываю из коридора велосипед. Стрекот колес наполняет меня блаженством. Черт, я же молод. Волен делать все, что захочу. У меня чистые зубы. В моем благородном старом школьном кейсе сокрыто будущее. Сокрыто Будущее. Солнце сияет. И плевать мне на все остальное.
Как готовить завтрак
Запах крыс
Алоиз вскочил в седло, поправил на плечах вещевой мешок и, ритмично работая ногами, поблескивая под солнцем зелеными лампасами форменных брюк и золотым орлом на шлеме, покатил вверх по холму. Клара, глядя ему вслед, гадала, почему он никогда не привстает в седле, как делают дети, чтобы усилить нажим на педали. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающе регулярные, намеренно скованные движения.
Она поднялась в пять, чтобы разжечь печь и отскоблить кухонный стол еще до того, как проснется служанка. Клара всегда испытывала потребность отчищать стол от винных пятен, липких лужиц шнапса и осколков стекла, словно надеясь, что вид чистого стола заставит Алоиза забыть, как много он выпил прошлой ночью. Да и не хотелось ей, чтобы дети увидели руины проведенного их отцом «вечерочка в кругу семьи».
Поднявшаяся в шесть служанка, Анна, по обыкновению своему хмыкнула, и наморщенный нос ее словно сказал Кларе за спиной начищавшего у печи сапоги Алоиза: «Я знаю тебя. Мы с тобой – одно. Ты тоже была когда-то служанкой. Даже не горничной. Просто кухонной девкой. Такой ты и осталась, и останешься навсегда».
Как обычно, Клара, наблюдая за мужем, надраивающим сапоги, завидовала той любви, дотошности и гордости, с какими он лелеял свое обмундирование. Убаюканная ритмичными взмахами щетки, она, по своему обыкновению, томилась желанием снова вернуться в Шпиталь с его полями, подойниками, запахом силоса, снова оказаться среди своих братьев, сестер, их детей, подальше от респектабельности, жесткости, жестокости дяди Алоиза, от мундиров и от людей, чьих разговоров и повадок она понять не могла.
Дядя Алоиз! Он запретил ей называть его так.
– Я тебе не дядя, девчонка. Разве что кузен, да и то по браку. Поняла?
Однако, разговаривая с самой собой, она ничего тут поделать не могла. Он всегда был дядей Алоизом, и навсегда им останется.
Прошлой ночью он напился не сильнее обычного и не сильнее обычного был зол, жесток и груб. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающе регулярные, намеренно скованные движения.
Когда муж мучил ее, Клара старалась не кричать, потому что боялась разбудить Анджелу и маленького Алоиза – мысль о том, что дети узнают, как обходится с ней их отец, казалась ей невыносимой. Особым умом она не блистала, однако была женщиной тонко чувствующей и понимала, что ее приемные дети, узнав, с какой покорностью она принимает побои их отца, ощутят не жалость к ней, но презрение. В конце концов, как это ни смешно, годами она была ближе к детям, чем к Алоизу. Наверное, потому, полагала она, ему так хочется иметь детей и от нее. Он желал сделать ее взрослой, обратить из глупой деревенской девчонки в Мать. Отнять у нее запах силоса. Нарастить на ней немного жирка, придать ей немного основательности, респектабельности. О, респектабельность Алоиз обожал. А с другой стороны, сам-то он был ребенком незаконным. Это единственное, в чем Клара превосходила его. Она, может быть, и глупая деревенская девчонка, но по крайней мере знает, кто ее отец. А дядя Алоиз Ублюдок не знает. И все-таки она тоже хотела детей от него. Как сильно она их хотела!
Три года назад их сын Густав умер, прожив всего одну синюшную, полную непрестанного кашля неделю. На следующий год Клара родила мертвую девочку, а всего год назад их сын Иосиф проборолся, отважный, как бойцовый петушок, целый месяц, прежде чем и его забрали на небеса. Вот тогда и начались побои. Дядя Ублюдок купил плеть из бегемотовой кожи и, ужасно улыбаясь, повесил ее на стену.
– Это Пнина, – сказал он. – Pnina die Pietsche. Пнина Плеть, наш новый малыш.
И вот теперь Клара стояла в дверях и смотрела, как прямая, затянутая в мундир фигура поднимается на вершину холма. Только Алоиз умел придать столь нелепой машине, как велосипед, исполненный достоинства вид. И до чего же Алоиз любил его. Каждое новое достижение по части патентованных шин, педалей и цепей приводило его в восторг. Вчера он взволнованно зачитал маленькому Алоизу газетную статью. В Мангейме инженер по фамилии Бенц построил трехколесную машину, которая развивала скорость в пятнадцать километров в час – без всяких усилий со стороны человека, без лошадей, без пара.
– Вообрази, мой мальчик! Это как маленький личный поезд, которому не нужны рельсы. Когда-нибудь и мы заведем такой самодвижущийся экипаж и поедем с тобой, точно принцы, в Линц или в Вену.
Клара вернулась в дом, посмотрела, как Анна жарит детям яичницу.
Ей хотелось сказать: «Давайте я сама». Но теперь она умела сдерживаться и потому с немедля вспыхнувшим чувством вины быстро подошла к пустому ведру у задней двери, скорей ощутив, чем увидев, как Анна оборачивается на взвизг ведерной ручки.
– Давайте я… – начала Анна, однако Клара была уже снаружи, и кухонная дверь захлопнулась, не дав пискливой фразе закончиться.
Клару позабавило, что ее появление у колодца совпало, как то нередко случалось, с прохождением инсбрукского поезда. Она представляла себе путь, уже проделанный им по лугам – мимо ферм, – и мысленно видела, как ее шпитальские племянники и племянницы подпрыгивают и машут машинисту. Она принялась жать на ручку насоса быстрее, заставляя воду бить в ведро в одном ритме с мощным локомотивом, распушившим в небе белые императорские усы.
И тут она услышала запах. О, мой бог, запах.
Клара зажала рот и нос ладонью. Но тщетно. Рвота потекла между пальцами, тело ее пыталось отогнать вонь, ужасный, жуткий смрад. Смерть и разложение наполнили воздух.
Как достичь приятного расположения духа
Парковки и парки
Пренебрежение, оказанное мною носкам, было большой ошибкой. Ко времени, когда я миновал Милл, ступни мои уже были потны и изранены. Как, если на то пошло, и я сам.
Пока я устало тащился по мосту, что на Силвер-стрит, вокруг весело болтали первокурсники – уворачиваясь от машин и выставляя напоказ то сочетание хвастливой энергичности с вялой усталостью от жизни, что является их дурацкой, от рождения получаемой привилегией. Я даже студентом никогда себя так не вел. Слишком стеснителен. Чего стоит одна их манера перекликаться через улицу:
– Луций! Так пойдешь ты, в конце концов, на вечеринку?
– Кэйт!
– Дэйв!
– До скорого, Марк, дружище!
– Бриджит, оу, бэби!
Будь я проклят, если когда-либо участвовал в этом.
Помню огромное граффити, тянувшееся вдоль Даун-стрит, – намалевано оно было примерно в пору крушения Коммунизма, но еще оставалось различимым, вызывающее и крикливое, на кирпичной стене Музея археологии и антропологии.
ДО ЭТОГО МЕСТА СТЕНА НЕ ДОХОДИТ. МЕРТВОГРАД 85
Вряд ли можно винить юношу, выросшего в Кембридже, за то, что он изображает из себя классового воителя. Представьте, что вас всю жизнь окружали одни только длинновласые фабианцы да интеллектуалы в бейсболках – с их деньгами, и румяными лицами, и деньгами, и долговязостью, и деньгами, и приятной наружностью, и деньгами, и книгами, и деньгами, и деньгами. Дрочилы.
Нам подрочи! – футбольным хором орут на тебя классовые воители. На-ам! Сопровождая крики соответственной жестикуляцией.
Мертвоград 85. Музею археологии и антропологии следовало бы отреставрировать эту поблекшую надпись и сохранить ее, как драгоценнейшее приобретение, аль фреско, говорящее куда больше, чем все его коллекции разложенных по постаментам кельтских амулетов, подсвеченных инкских сосудов да костей, которые носили в носах туземцы Борнео.
Коллега из Оксфорда (какое это чудо – состоять в аспирантах, в младших недоученных сотрудниках, и иметь возможность прибегать к словам вроде «коллега»), коллега, да, вот именно, коллега, собрат-историк, рассказывал мне о фотографии, виденной им на выставке в тамошней галерее. На самом-то деле фотографий было две, помещенных бок о бок, и обе изображали контейнеры для сбора пустых бутылок. Левый снимок был сделан в Каули, на окраине города, неподалеку от автомобильного завода. Этот контейнер состоял, как легко догадаться, из трех отделений, выкрашенных в разные цвета, указующие, какие бутылки куда надлежит совать. Белое отделение – для прозрачных, зеленое – для зеленых, а коричневое, втрое превосходящее первые два по ширине, – для коричневых. Вторая фотография, на первый взгляд неотличимая от первой, изображала другой контейнер, но только эта была сделана в центре Оксфорда, в университетском квартале. После того как вы некоторое время озадаченно разглядывали обе фотографии, в сознание ваше вдруг с треском вламывалось различие между ними. Белое отделение, коричневое и, заметьте, втрое превосходящее их шириной зеленое. Что еще нужно человеку знать о нашем мире? Им следовало бы – при закрытии, пока звучит государственный гимн, – выводить эти снимки на большой экран.
Не то чтобы я принадлежал к поколению, гневающемуся, узрев социальную несправедливость, – всем известно, что нам на нее начхать. Я хочу сказать, черт побери, у нас здесь город из породы «ищи-работу», и к дьяволу всех обывателей. Кроме того, я историк. Историк я. С прописной буквы, если позволите.
Я распрямился, скрестил на груди руки и покатил мимо «Юниверсити-Пресс», мурлыча песенку «Ойли-Мойли».
Не быть мне девицей,
Не быть мне тобой.
Я полагаю, что и счет уже потерял велосипедам, которые переменил за последние семь лет. Так уж получилось, что вот эта модель сбалансирована достаточно хорошо, чтобы я мог ехать, сняв руки с руля, – клевая манера, которая очень мне нравится.
Воровство велосипедов распространено в Кембридже в той же мере, в какой воровство автомагнитол в Лондоне или выхватывание сумочек из рук во Флоренции; иными словами, оно является эн-мать-его-демичным. У каждого велика имеется номер, изящно и бесполезно нанесенный краской на заднее крыло. Было даже время, каковое следует счесть для города унизительным, когда здесь попытались осуществить План. Оборони нас боже от каких бы то ни было Планов, верно? Отцы города закупили тысячи велосипедов, выкрасили их в зеленый цвет и расставили по всему Кембриджу на маленьких велопарковках. Идея состояла в том, что вы запрыгивали на велосипед, катили куда вам требуется, а там оставляли его на улице для следующего пассажира. Такая остроумная идея, ну чистый Уильям Моррис,[11] чистая Утопия, тупость.
Читатель, ты будешь изумлен, услышав, ты будешь поражен, ошеломлен ты будешь, узнав, что за одну лишь неделю все зеленые велосипеды сгинули. Все до единого. В Плане присутствовало нечто до того хитроумное, и доверчивое, и исполненное надежды, и благородства, и ээээх! – что в конечном итоге город, по завершении этой истории, проникся лишь пущей гордыней, а не смирением, как ему следовало. Мы же только хихикали. Однако, когда городской совет объявил о новом, доработанном Плане, мы уже просто катались по полу, взревывая от хохота и в перерывах умоляя его переcтать.
Горе в том, что в Кембридже на роликах особо не раскатишься – слишком много булыжных мостовых. Существует жалостное маленькое «Общество одного скейт-трека», существует «Общество двора», притворяющееся, будто Мидсаммер-Коммон[12] – это самый что ни на есть Центральный парк, однако все это не пляшет, ребята. Велики, и только велики, причем горные велики – в самых равнинных местах Британии, где даже куча, наваленная собакой, привлекает взволнованное внимание «Общества альпинистов», – не пляшут тоже.
Члены Кембриджского городского совета обожают два слова – «парк» и «парковка». Это то единственное, чего в нашем городе устроить ну никак невозможно, и потому они суют эти слова куда ни попадя. Кембридж был едва ли не первым городом, предложившим систему автобусов «Паркуйся-и-кати».[13] Он гордится своей Научной парковкой, Бизнес-парковкой и, разумеется, незабвенными и оплаканными Велопарковками. Не удивлюсь, если на рубеже веков у нас появятся Секс-парковки, Интернет-парковки, Шопинг-парковки, а быть может, и Парк-парковки – с качелями и детскими горками.
Парковаться в Кембридже невозможно по самым разным причинам. Это маленький средневековый город, ширина улиц ограничена рядами глядящих друг на друга колледжей, неколебимых и недвижимых, как горные кряжи. В пору отпусков его битком набивают туристы, зарубежные студенты и участники всякого рода симпозиумов. Сверх всего, это главный город «Болот», единственный серьезный торговый центр для сотен и тысяч жителей Кембриджшира, Хантингдоншира, Хертфордшира, Суффолка и Норфолка, разнесчастные они сукины дети. Однако в мае – в мае Кембридж принадлежит студенчеству, всем этим юным хлыщам с их ничтожными бороденками и опрятными бачками. Ворота колледжей закрываются, а над центром города возносится лишь одно слово, раздувающееся так, что его того и гляди разорвет, точно налитый водой воздушный шарик.
Экзамены.
В мае Кембридж обращается в Экзаменационный парк. По берегам реки, лужайкам, библиотекам, дворикам и коридорам распускаются разноцветные юные бутоны, ломающие свои головки над книгами. Паника, подлинная паника того рода, о котором до 1980-х никто и не слыхивал, окатывает студентов третьего курса подобно прибою.
Экзамены – дело нешуточное. Степень, которую ты на них получаешь, – тем более.
Если, конечно, ты, подобно мне, не сдал выпускных экзаменов годы назад, не зубрил, как последний очкарик, не получил Первую степень, не дописал докторскую диссертацию и не обрел наконец волю.
Воля! – кричу я себе.
Вуаля! – отвечают мне катящий по инерции велосипед и летящая мимо панорама домов.
Господи, как я себе нравился в тот день.
Наслаждайся зудом и болью в твоих лежащих на педалях ступнях. Ради какого черта ты обязан впадать в уныние? Многие ли могут, подобно тебе, встать и объявить себя вольными людьми?
Вот и Джейн тоже дала мне вольную. Хоть я и не вполне покамест уверен в том, какие чувства мне это внушает. Я вот к чему – надо все же признать, что она была моей первой настоящей подружкой. В студентах мне ни разу не пришлась по душе ни единая из полнотелых, обалденных красоток нашего мира, потому что я… чего уж тут крутить… я стеснительный. Мне трудно встречаться с людьми глазами. Как говорила обо мне (и при мне) моя мать, «он, знаете ли, в компании краснеет». Ясное дело, высказывание это здорово мне помогало.
Мне было всего семнадцать, когда я поступил в универ, – круглолицый, легко краснеющий и неуверенный ни в ком, не говоря уж о девушках. Школьных друзей, уже учившихся здесь, у меня не было, поскольку школу я окончил бесплатную, в Кембридж до меня ни один выпускник ее не попадал, а что касается спорта, журналистики, игры на сцене – в общем, всего, что позволяет человеку выделиться, – то я почитал их дерьмом. Почитал дерьмом, потому что они позволяют выделиться, я так полагаю. Нет, будем честными, почитал дерьмом, потому что дерьмово в них выглядел. Так что Джейн была… словом, она была моей жизнью.
Однако теперь, ого-го! Если я смог за четыре года написать докторскую диссертацию и лично окофеинить обескофеиненный органическим способом «Надежный путь», так мне никто и не нужен.
Все Фионы и Фрэнсисы, морщившие лбы над своими Флоберами, казались теперь совсем иными новому, вольному мне, привольно летевшему без рук на велосипеде, привольно соскочившему с него у ворот Св. Матфея и вкатившему, всей душой ощущая волю, привольно пощелкивавший 4857М в сторожку привратника.
Как читать газеты
Мы, немцы
Алоиз протолкнул велосипед сквозь ворота, а следом и в сторожку привратника.
– Grüß Gott![14]
Веселость Клингермана при таких инспекционных наездах неизменно раздражала Алоиза. Предполагалось все-таки, что тому надлежит нервничать.
– Gott![15] – пробормотал он тоном, средним между приветствием и ругательством.
– Нынче утром все тихо. Герр Зоммер позвонил по телефонной машине, сказать, что сегодня прийти не сможет. Летняя простуда.
– Ну, зимней в июле и не бывает, не так ли, юноша?
– Нет, сударь! – подмигнул ему Клингерман, принявший сказанное за добрую шутку, чем еще пуще раздражил Алоиза. А тут еще эта его боязнь телефона, который Клингерман именует Das Telefon Ding,[16] как будто перед ним не Будущее, а некий дьявольский аппарат, посланный, чтобы сбить его с панталыку. Деревенщина. Деревенщина, вот что не позволяет нашей стране вырваться вперед.
Алоиз холодно миновал Клингермана, уселся за стол, извлек из вещмешка газету, бутылку шнапса и приступил к чтению.
– Прошу прощения, сударь? – произнес Клингерман.
Алоиз, проигнорировав его, отодвинул газету. Он только одно слово и пролаял: «Scheiße!»[17]И, основательно хлебнув шнапса, уставился в окно, за пограничные столбы, в Баварию, в Германию, прошу, вашу мать, прощения. В Германию, где уже сейчас, в Мангейме, совершенствуют самодвижущиеся машины. Где создают телефонные сети, которые опутают всю страну, где эта свинья Бисмарк вот-вот получит то, что ему причитается.
«Мы, немцы, боимся Бога, а больше никого на свете», – бахвалился Старый Боров в Рейхстаге, полагая, что русские с французами, узрев мощь его новомодного Тройственного союза, наложат полные штаны. «Мы, немцы!» Какого дьявола это может означать? Потачливый ублюдок с его Датскими войнами и показанным Австрии языком – а тебе-де к нам нельзя. Конечно, только Старый Боров и вправе решать, что такое «мы, немцы!» Пруссаки. Юнкера дерьмоголовые. Это они все решают. Вестфальцы могут быть немцами, о да. Гессенцы, гамбургцы, тюрингцы и саксонцы могут быть немцами. Даже долбаные баварцы и те – пожалуйста. Но только не австрийцы. О нет. Эти пускай себе чухаются с чехами, словаками, мадьярами и сербами. Я о чем толкую-то, разве не очевидно, не очевидно даже такому Arschloch,[18] как Бисмарк, что у австрийцев и немцев всегда было… а, что проку? Теперь уж неважно, Старый Боров свое все равно получит.
Вильгельм с его желтой, точно моча, рожей того и гляди окочурится, и, когда закончится траур, на троне уже будет сидеть Фридрих-Вильгельм. А Фридрих-Вильгельм с Бисмарком на дух друг друга не переносят, ха-ха! Прощай, Железный Канцлер! Дерьмовой скатертью дорога, Старый Боров. Твои деньки сочтены.
К посту приближалась повозка. Алоиз встал, расправил мундир. Хорошо бы в ней сидел баварец, а не возвращающийся домой австриец. Немец. Всякий раз, инспектируя пограничный пост, Алоиз с наслаждением устраивал немцам веселую жизнь.
Как ожидать лучшего
Почтовый ящик
Привратник Билл смотрел, стоя у окна, как я борюсь с велосипедом. Я давно уже подозревал, что он относится ко мне с неодобрением.
– Доброе утро, мистер Янг.
– Это ненадолго.
Он принял недоуменный вид:
– Погоду обещали хорошую.
– Да нет, это «мистер» ненадолго, – со смущенной улыбочкой пояснил я и показал ему кейс, в котором лежал «Meisterwerk». – Я дописал диссертацию.
– А, – промямлил Билл и уперся взглядом в свой стол.
Ожидать, что мой триумф доставит ему удовольствие – это было бы слишком. Кто и когда смог проникнуть в запутанные отношения, сложившиеся под конец двадцатого века между слугами и хозяевами? У привратников имеются их «сэр» и «мэм», их котелки, у нас – глупые, дружеские, подхалимские улыбки, посредством коих мы пытаемся все исправить. Нам никогда не узнать, что говорят они о нас за нашими спинами. Им, предположительно, никогда не узнать, чему мы на самом деле посвящаем все наши дни. Не исключено, что именно сыновья и дочери привратников и писали на стенах «Мертвоград 85». Билл знал, что одни студенты остаются здесь, пишут докторские диссертации и становятся членами колледжей, как знал и то, что других отчисляют или они сами уходят в просторный мир, дабы разбогатеть, прославиться либо кануть в забвение. Быть может, его это волнует, быть может, нет. И все же чуть больше Денхолма Эллиота из «Поменяться местами» и чуть меньше Джудит Андерсон из «Ребекки»[19] – это можно было бы только приветствовать. Вы понимаете, о чем я? Да? Вот именно.
– Конечно, – с выражением, как мне казалось, удрученной скромности я взвесил на ладони кейс, – ее сначала должны рассмотреть…
Все, что я получил в ответ, это подобие хрюканья, и потому поворотился – посмотреть, что принесла мне почта. Из моего ящика торчал толстый желтый конверт. Клево! Я с нежностью вытянул его.
На адресной бирке красовался логотип немецкого издательства, специализирующегося по истории и научным трудам, «Seligmanns Verlag». Я хорошо знал это название по моим исследованиям, но откуда они-то мое имя узнали? Я им никогда не писал. Очень странно. И книг я у них точно не заказывал… разве что они, прослышав обо мне от кого-то, обладающего солидной репутацией, решили поинтересоваться, не соглашусь ли я опубликовать у них мой «Meisterwerk». Кле-ево!
Издание диссертации было, натурально, величайшим, глубочайшим, дражайшим и сокровеннейшим желанием моего сердца. «Seligmanns Verlag», ничего себе, вот это будет номер.
Мечты, видения, все мыслимые конструкции будущего начали разрастаться в моей голове подобием сделанного ускоренной съемкой фильма о возведении небоскреба: балки и стропила, фермы и опоры мигом вставали по местам под разухабистый клекот ксилофона. Я пребывал уже там, в Башне Майкла Янга, принимая награды и профессорские посты, подписывая изящно изданные «Seligmanns Verlag» экземпляры моей диссертации (я даже видел цвет переплета, картинку на супере, фотографию исполненного достоинства автора и аннотацию). Все это произошло за бесконечно малую долю секунды, отделившую первый взгляд на адрес отправителя от осознания – под вой тормозов, визг покрышек и вздувание воздушных подушек – имени, стоящего в адресе получателя. Я тут навалил дерьмовую кучу метафор, но вы меня поймете.
«Профессору Л. Г. Цуккерману,– гласил этот адрес. – Кембридж, колледж Св. Матфея. СВ3 9ВХ».
О. Стало быть, не Майклу Янгу, магистру искусств.
Я глянул на ящик, расположенный прямо под моим. Ящик был забит письмами, рекламными листками и извещениями. Алфавитное, так сказать, соседство.
– Черт, – сказал я и попытался хоть краешком втиснуть конверт в положенное ему место.
– Сэр?
– Нет, ничего. Просто в мой ящик попало письмо к профессору Цуккерману, а его переполнен.
– Если вы отдадите конверт мне, сэр, я прослежу, чтобы профессор его получил.
– Да все в порядке, сам отнесу. Он может помочь мне в… познакомить с какими-нибудь издателями. Он где проживает?
– Двор Боярышника, сэр. 2А.
– А он, собственно, кто? – спросил я, опуская конверт в мой кейс. – Ни разу с ним не встречался.
– Он – профессор Цуккерман, – последовал чопорный ответ.
Чинопочитание. Чш-ш.
Как устроить веселую жизнь
«Диаболо»
– Но я же немец!
– Вы никто. Эти документы говорят мне – вы никто. Абсолютное никто. Вас не существует.
– Один день! Они просрочены на один день, вот и все.
– Сударь, этот господин всегда тут проходит. – Во взгляде, который послал Алоизу Клингерман, читалось смущение. – Я… я хорошо его знаю. Могу за него поручиться.
– А, так вы можете за него поручиться, Клингерман. А как по-вашему, зачем имперское правительство в Вене что ни месяц расходует целые состояния на документы, печати, паспорта и поручительства, а? Смеха ради? Что такое, по-вашему, поручительство? Это снабженный печатью лист бумаги, который надлежит носить с собой постоянно, ибо он узаконивает носителя. Или этот несуществующий гражданин пустого места воображает, будто он сможет носить с собой вас, своего поручителя?
– Однако, как немец, я имею право свободного доступа в Австрию!
– Никакой вы не немец. Вчера, если верить этим бумагам, вы, возможно, и были немцем. Но сегодня, сегодня вы никто и ничто.
– Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья!
– «Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья»?…
– Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья, сударь!
– Так ведь и австрийским столярам нужно зарабатывать на жизнь, у них тоже семьи, сударь! А каждый безвкусный кусок немецкого дерьма, который вы к нам протаскиваете, отнимает кусок хлеба у австрийского столяра.
– Сударь, при всем моем уважении, это не дерьмо, это игрушки, изготовленные вручную, с любовью и тщанием, и, насколько мне известно, в Австрии никто их не делает, так что обо мне вряд ли можно сказать, будто я отнимаю у кого-то кусок хлеба.
– Тем не менее деньги, которые бедные, респектабельные австрийские родители расходуют на эти развращающие немецкие бирюльки, они, не будь вас, потратили бы на здоровую пищу, произведенную австрийскими же крестьянами. И я не вижу причин, по коим мне, официальному представителю Императора, следует допускать подобное положение дел.
– Развращающие? Но, сударь, это же совершенно невинные…
– Как они называются? М-м-м? Скажите мне. Как они называются?
– Сударь?
– Каково их название?
– «Диаболо», сударь. Вы наверняка и прежде видели их…
– Вот именно, «диаболо». «Диаболо» означает по-итальянски «дьявол». Сатана. Развратитель. И вы именуете их невинными?!
– Но, Herr Zollbeamter,[20] их назвали «диаболо» лишь потому, что с ними… с ними дьявольски трудно справиться. Трудно овладеть этой игрой. Они заставляют человека потрудиться, испытывают его координацию и сноровку. Это же забавно!
– Забавно, Herr Tischlermeister?[21] Вам представляется забавным то, что австрийское юношество тратит на сатанинскую немецкую бирюльку время, которое оно могло бы отдать учебе или подобающим мужчине упражнениям?
– Сударь, может быть… может быть, вы испробуете ее сами? Вот… это в подарок. Надеюсь, вы увидите, насколько они безвредны и занятны.
– О боже. – Алоиз облизал губы. – О боже, боже, боже. Подкуп. Вот горе-то. Подкуп. Боже ты мой. Клингерман! Форму КИ 171, побольше сургуча и имперскую печать!
Как заводить друзей
Муза Истории
Дьявольская Мысль Номер Один явилась мне как раз на пути к профессору Цуккерману.
Пройдя через сторожку привратника, я огибал Старый Двор, направляясь к арочному проходу, что ведет в Двор Боярышника. Вполне возможно, что мне дозволялось и законным образом пересечь двор, а не обходить его кругом, однако я не был вполне уверен, дано ли мне право ходить по траве. Табличка гласила: «Только для членов колледжа», а я так ни разу и не набрался храбрости спросить, входят ли в их число и младшие недоученные сотрудники. Я к тому, что, задавая такой вопрос, ты вроде как выставляешь напоказ свое слабое место. Знаете, как если бы ты, учась в школе, стал первым ее учеником и решил выяснить, можешь ли ты теперь являться на занятия в кроссовках или называть учителей по именам. Как-то оно глупо, нет?
Самоутвердись, Майкл, вот что главное. Посуди сам, что еще должно выпасть на твою долю, чтобы ты уверился – у тебя имеется ровно столько же прав жить на этой планете, сколько и у любого другого человека? Нам требуется новое мировоззрение – больше достоинства, больше важности, больше созвучности нашему новому положению в мире…
Приятные размышления эти прервал грохот, быстрый перестук шагов и какой-то клекот, все это вырвалось из расположенного в том углу двора, которым я как раз проходил, открытого дверного проема лестницы «Е». Из проема с писком выскочила и засеменила по лужайке, слегка размытая скоростью, фигура, державшая в руках стопку компакт-дисков, гипсовый бюст, три бархатные подушки и свернутый в трубку плакат. Фигуру я узнал – Эдвард Эдвардс, Дважды Эдди, имевший куда меньше моего прав попирать ногами траву. Он делил жилище и жизнь с еще одним второкурсником, Джеймсом Макдонеллом. Им нравилось конфузить меня, освистывая и выкрикивая «задницу хочешь?!» или «сосунок!», когда я проходил мимо. На самом-то деле парой они были очень милой, обладающей, однако, склонностью разыгрывать истерические сцены и рассуждать втихаря о якобы недосягаемых для всех прочих совершенствах присущей им сексуальности.
Диски так и посыпались из рук Дважды Эдди на траву.
– Эй! – крикнул я ему вслед. – Ты кое-что уронил.
Дважды Эдди не повернул назад и не сбавил ходу. Он лишь обратил ко мне рассерженное лицо, выпалил: «Ну и пусть!» – и шмыгнул носом.
О боже, подумал я. Опять разругались. Я двинулся следом за ним, с опаской ступая по траве, точно проникнутый чувством ответственности отец, проверяющий, выдержит ли лед его детишек.
За спинами нашими послышался крик, тонкий и чистый, отразившийся эхом от каменных стен и окон двора. Оглянувшись, я увидел в дверном проеме лестницы «Е» Джеймса – глаза горят, руки уперты в бока.
– Просто вернись! – воззвал он. Однако Дважды Эдди несся себе дальше.
– Никогда, – на ходу объявил он. – Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.
– Ой ли!
В дверях сторожки уже обозначился мрачный Билл Привратник.
– Сойдите с травы, джентльмены, будьте так любезны.
Дважды Эдди почти уж достиг дальнего края лужайки, но Билл тем не менее прибег к несомненному множественному числу, вот вам и ответ на мой вопрос насчет лужаек и младших недоученных сотрудников. Verboten.[22]
Когда Дважды Эдди прошел сквозь сторожку, пытаясь, без особого, впрочем, успеха, насвистывать что-то, я, неудержимо краснея под взглядом привратника, принялся собирать рассыпанные диски.
– Извините! – мямлил я. – Вот только подберу и…
Билл, хмуро кивнув, продолжал наблюдать за моим чрезмерно торопливым и все-таки недостаточно быстрым копошением. «Festina lente.[23] Eile mit Weile[24]», – лепетал я себе под нос. Если вы ученый и кто-то на вас давит, вы ухватываетесь за потасканные латинские и прочие иные иноязычные фразочки, дабы напомнить себе о своем превосходстве. Правда, это вам никогда не помогает. Неловко собрав «Кабаре», «Джипси», «Карусель», «Суини Тодда» и прочее, я вприпрыжку направился к Джеймсу, так и стоявшему с полными слез глазами, прислонясь к дверному косяку.
– М-м, возьми тогда ты. Рука его оттолкнула диски:
– Я в этой дряни не нуждаюсь. Хоть сожги их, мне наплевать.
Я положил ладонь на его ходящее ходуном плечо.
– Ладно, я пока подержу их у себя. Слушай, мне правда очень жаль, – сказал я. – Такой тяжелый удар. Ну, то есть, когда от тебя уходят. – Он молчал, и я продолжил, на сей раз предлагая ему воспользоваться всеми преимуществами моего недавнего опыта: – Уж я-то знаю, друг. Меня и самого бросили, понимаешь?
Он уставился на меня как на сумасшедшего. Я подумал: он скажет сейчас, что мой случай – совсем другой. Но он, причитая, что все это просто нечестно, повернулся и забухал вверх по лестнице, оставив меня с дисками.
Конечно, нечестно, горестно думал я, проволакивая мои незавязанные шнурки под арочным проходом и выходя на парковку, просто нечестно, и все. Когда тебя покидают, это и вправду самый что ни на есть ударнейший удар. Главная хитрость тут в том, чтобы отделить унижение от утраты. Никогда ведь не знаешь наверное, что терзает тебя сильнее – боль существования без человека, которого любишь, или смятение, вызванное тем, что тебя отвергли. Я уже начал подумывать, как бы мне уговорить Джейн вернуться, – чтобы я мог потом ее бросить и тем самым сравнять счет.
И вот он – красуется посреди парковки – «рено-клио» ценой в четыре тысячи фунтов. С моими, заметил я, «Петлями киллера» на приборной доске. И их, черт подери, захапала. Я уронил кейс на землю рядом с моей машиной, отрыл в кармане мой комплект ключей, отпер дверцу и напялил очки. Самоутверждается ли, в той или иной степени, человек, надевающий темные очки? Ты скрываешь под ними глаза, что можно счесть признаком слабости и боязливости, но, с другой стороны, приобретаешь вид хладнокровный и отчасти непроницаемый. Вот только ни черта в них внутри машины не видно. Я кое-как различил в кармане дверцы тубус с мятными лепешками, уж точно мой. Отлично помню, как покупал его на заправочной станции. Если на то пошло, так и половина кассет тоже моя. Я загреб столько, сколько уместилось в ладони. Обычную мешанину: «Палп», «Портишед», «Кинкс», Верди, «Блёр», сборники Морриконе и Альфреда Ньюмена[25] и, разумеется, всех моих обожаемых «Ойли-Мойли». Мэрайю Кэри, Кэй Ди Лэнг, Вагнера и Баха пусть уж, так и быть, оставит себе. В нашем возрасте разрыв бездетных отношений сопровождается спорами по поводу прав на музыкальные записи, поэтому важно предъявить таковые первым.
Вот тогда-то в голове моей и возникла Дьявольская Мысль Номер Один. Потянувшись, я сорвал с изнанки ветрового стекла разрешение колледжа на парковку и изодрал его в мелкие клочья. Хе-хе!
Дьявольская Мысль Номер Два поразила меня в тот миг, когда кассеты присоединились в моем кейсе к дискам Дважды Эдди, а мне под руку подвернулся пузырек со «штрихом».
Для человека поколения клавиатуры я, надо признаться, обладаю почерком первостатейным. Незадолго до моего четырнадцатилетия бабушка подарила мне на Рождество каллиграфический набор «Осмироид», и я какое-то время помногу с ним возился. Ну, знаете, правильное формирование букв, «о» выводится в два взмаха пера, нарядные, устремленные вверх курсивные засечки на верхних и нижних выносных элементах, жирно-тонко, тонко-жирно, и изящество пропорций, присущее всей этой музыке. Видели бы вы мои поздравительные письма за нынешний год. Высший класс.
Я оперся о капот «рено» – в позе задержанного американским патрульным подозреваемого, – высунул кончик языка и углубился в работу. Мне представлялось, что содержащиеся в «штрихе» растворители сотворят с краской капота нечто сказочно коррозивное, отчего устранить мое маленькое любовное послание без нудной перекраски, требующей немалых затрат времени и денег, будет никак нельзя. И отлично. Вот уж теперь перед нами точно тот самый утверждающий себя Майкл Янг, которого мы так долго искали. Когда я выпрямился, дабы обозреть свое творение, сердце у меня гулко ухало. Ничего похожего мне никогда прежде делать не приходилось. Ощущение такое, точно я в магазине что-то слямзил или порнографии накупил.
Буквы получились мельче, чем хотелось бы, однако с маленьким пузырьком «штриха» особо не разгуляешься, тем более на компактном капоте «клио». И все-таки на красной краске «Дюбонне» белая надпись моя просто била в глаза, да и слова, сказал я себе, самые что ни на есть подходящие.
Меня Сперла Полоумная Сучка
Я постоял немного, любуясь надписью и размышляя, не отодрать ли заодно – для, мать его, порядка – жалкий, абсолютно жалкий стикер «ГЕНЕТИКИ ДЕЛАЮТ ЭТО IN VITRO[26]», прилепленный к заднему стеклу, но тут сообразил вдруг, что время уже близится, надо полагать, к одиннадцати. А мне еще нужно было доставить чертов конверт Цуккерману, забросить «Meisterwerk» в кабинет Фрейзер-Стюарта и добраться до собственного, где ожидает моих руководящих указаний первокурсница. Если я правильно помню, она уже запоздала с эссе о Каслри и Каннинге,[27] срок представления коего я благодушно сдвигал целых два раза. Вот пусть снова его не сдаст – тут же получит от меня кратчайший из наикратчайших нагоняй с епитимьей. Я, завершивший диссертацию в двести тысяч слов, диссертацию, отличающуюся строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированной исторической аргументацией, – я не желаю и впредь возиться с ленивыми, бестолковыми первокурсниками, в каком бы добром расположении духа я ни пребывал. Мистер Душа-Человек свое существование прекратил. Познакомьтесь с доктором Душителем.
Я нагнулся, чтобы поднять кейс, и вот тут-то случилось ЭТО. Самое страшное, что только могло случиться. Происшествие поистине дерьмовое само по себе, оно подготовило дерьмовейшее, возможно (хоть и замалчиваемое властями), событие в истории человечества. Разумеется, тогда я об этом ведать не мог. Тогда меня занимала одна только личная катастрофа, олицетворяемая этим дерьмовым происшествием; уж поверьте, оно было достаточно гадостным и без сознания, что происшествие это определяет участь миллионов людей, без самомалейшей мысли о том, что я подготавливаю взрыв, который уничтожит все, что мне знакомо.
А случилось следующее. Я потянул кейс за ручку, и запор его, изнуренный годами эксплуатации, перемещений, дерганий, мотаний, тяганий, пинков, падений и переносов, выбрал именно этот миг, чтобы сломаться. Быть может, причиной тому было непривычное бремя дисков Дважды Эдди, моих музыкальных кассет, «Meisterwerk’а» и попавшей не в тот почтовый ящик бандероли из «Seligmanns Verlag». Какая разница? Трехзвенная латунная пластина, принимавшая в себя язычки замка, выдралась из ее непрочного скобчатого крепления, кейс раззявил изношенную пасть, и четыре сотни несброшюрованных страниц строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированной исторической аргументации достались гулявшему по парковке майскому смерчику.
– О нет! – истошно взвыл я.
«Пожалуйста, нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» – с таким припевом метался я из угла в угол, ловя летучие страницы, точно котенок снежинки.
Есть на телевидении программа, в которой то же самое проделывают знаменитости – только за деньги. Ветродуйная машина выбрасывает в воздух тысячу банкнот, а какой-нибудь томный прохиндей должен наловить их столько, сколько сумеет. «Тяни тыщонку», так она называется. А ведет ее малый, смахивающий на Кеннета Брана в его бородатом шекспировском варианте. Эдмундс, Ноэль Эдмундс. Или, может быть, Эдмондс.
Бoльшая часть оглавления опрятной стопкой устроилась под колесами моего/Джейниного «рено». Все же прочее, могучий корпус благородного труда, включая приложения, таблицы, алфавитный указатель и благодарности, привольно порхало по воздуху.
Согнувшись вдвое, прижимая спасенные листы к груди, я ковылял от одного завихрения страниц к другому, ловя и когтя их, точно серебристая чайка рыбешку.
– Блин господень распроадский, нет! Ко мне, ублюдки! – голосил я. – Ну пожалуйста!
Впрочем, я был не одинок.
– Боже, боже! Какое несчастье.
Я обернулся и увидел старика, который медленно вышагивал по парковке, подбирая листок за листком.
Как ни был я благодарен за помощь, мне, в моем испуге и спешке, показалось, что ему эта помощь ничего не стоит, поскольку куда бы он ни поворачивался, воздушные потоки, казалось, смирялись и страницы безжизненно опадали на землю и лежали, смиренно дожидаясь, когда он их подберет. Этого, конечно, быть никак не могло. Однако, остановившись и приглядевшись, я понял – именно это и происходит. Действительно происходит. Действительно. Куда бы ни направлялся старик, ветер стихал перед ним. Совершенный колдун, усмиряющий метлы и плошки в «Фантазии», – эпизод про ученика чародея. Что, разумеется, обращало меня в Микки-Мауса.
Старик повернулся ко мне.
– Лучше подходить с наветренной стороны, – изрек он, выговаривая «в» на немецкий манер, – тогда ваше тело заслонит бумаги от ветра.
– О, – отозвался я. – Спасибо. Да. Большое спасибо.
– И возможно, вам стоило бы завязать шнурки?
Какой-нибудь умник непременно отыщется, верно? Кто-нибудь, выставляющий вас человеком, напрочь лишенным здравого смысла. Вот и отец мой был точно таким, пока не смекнул, что пытаться обучить меня даже самым начаткам плотницкого дела или хождения под парусом – затея пустая. А после он умер, прежде чем я успел вознаградить его усилия, проявив ко всему этому хоть какой-то интерес. Сегодняшний умник, бородатый, явно предпочитавший толстовскую модель брана-шекспировской, продолжал мирно разгуливать по парковке, подбирая страницы, которые при его приближении опадали на землю и притворялись мертвыми.
«Наветренная» метода сослужила службу и мне, теперь мы оба сновали туда-сюда между павшими страницами и выброшенной на сушу дохлой рыбиной – моим разинувшим пасть кейсом.
После того как все бывшие на виду листки оказались собранными, я заглянул под каждый автомобиль, обратясь наружно в такое же достойное, чумазое, ободранное и оборванное существо, каким ощущал себя внутренне. Последняя страница, которую мне суждено было найти, лежала текстом вниз на капоте «клио», прилипнув к подсыхающему «штриху». Я нежно ее отлущил.
Конечно, катастрофа задержала меня лишь на день. Я к тому, что все же сохранилось на жестком диске в нашем доме, в деревушке Ньюнем, и тем не менее случившееся не было, знаете ли, никак уж не было добрым предзнаменованием. Ну, то есть, снова покупать пятьсот листов бумаги для лазерного принтера и… в общем, случившееся подсодрало позолоту со свиной кожи, так я это ощущал. Вчерашнее ночное празднество, «Шатонёф-дю-Пап» за 62,00 фунта, ощущение воли, с которым я прикатил на велосипеде в город… все оказалось преждевременным.
Солнце ушло за облако, я задрожал. Старик стоял совершенно неподвижно, глядя на одну из страниц «Meisterwerk’а».
– Большое спасибо, – сказал я, отдуваясь и розовея. – Такая глупость. Придется обзавестись новым кейсом.
Он взглянул на меня – во взгляде его присутствовало нечто такое, что я даже тогда отчетливо ощутил монументальность старика. Нечто абсолютно вечное, невыразимое.
Он протянул мне листок, который читал, морща чело. Это была страница 49 из первой части «Meisterwerk’а», той, где Алоиз добивается законного права взять Клару Пёльцль в жены.
– Простите, а что это? – спросил он.
– Это, э-э, моя докторская диссертация, – ответил я.
– Вы аспирант?
В его голосе прозвучало удивление, но я давно уже к этому привык. Если честно, я временами выгляжу слишком юным даже для первокурсника. Может, стоит еще раз попробовать бороду отпустить. То есть если у меня хватит на это тестостерона. В прошлом году я предпринял такую попытку, и порожденная ею едкая критика окружающих едва не довела меня до самоубийства. Я покраснел еще пуще и кивнул.
– Почему? – спросил он, кивком указывая на листок, который так и держал в руке.
– Простите?
– Почему такая тема? Почему?
– Почему?
– Да. Почему?
– Ну…
Я что хочу сказать, всем же известно, как выбирается тема докторской диссертации по истории. Ты лихорадочно носишься по библиотекам, отыскивая такую, за которую никто еще не брался – или, по крайней мере, не брался в последние, скажем, двадцать лет, – а отыскав, вцепляешься в нее мертвой хваткой. Стараешься застолбить участок. Это же всем хорошо известно. Однако взгляд, устремленный на меня стариком, был исполнен такой невыразимой серьезности, что я, не сумев даже сообразить, как подступиться к ответу, лишь беспомощно пожал плечами да глупо улыбнулся, потупясь. Джейн вечно устраивала мне выволочки за столь жалкую тактику, но поправить в ней что-либо было мне не по силам.
– Как ваше имя? – спросил он – не резким тоном человека, надумавшего донести на тебя властям, но с подобием замешательства, с повышающейся к концу вопроса тональностью, как если бы его удивляло и отчасти пугало то, что я ему все еще не представился.
– Майкл Янг.
– Майкл Янг, – повторил он все так же недоуменно. – И вы аспирант? Здесь? В этом колледже?
Я покивал, а он устремил взгляд на укрывающие солнце облака за моей спиной.
– Никак не могу разглядеть ваше лицо, – сказал он.
– О, – отозвался я. – Извините.
И сдвинулся в сторону, чтобы он мог получше меня разглядеть.
Ну полный сюр. Он кто, пластический хирург? Портретист? Какое отношение имеет мое лицо к чему бы то ни было?
– Нет-нет. Солнечные очки, – с ударением на втором слоге, солнечные, определенно немецким – немного восточным, возможно, или южным.
Я сорвал с лица «Петли киллера», отчего лишь сильнее смутился, и мы постояли немного, вглядываясь друг в друга. Ну то есть это он в меня вглядывался, а я лишь бросал из-под ресниц вороватые взгляды, совершенно как юная леди Ди.
Он был, как я уже упоминал, стар и брадат. Лицо морщинистое, усталое, но сказать по нему что-либо о возрасте было трудно. Годы вообще сказываются на ученых не так, как на обычном человеке. Кое-кто из них и на восьмом десятке лет сохраняет неестественно гладкую кожу и моложавость – некое мальчишество, песчанистость волос, что-то от Элана Беннетта,[28] – полагаю, и я, остепенясь, буду выглядеть именно так. Другие, не дожив и до сорока, преждевременно дряхлеют и начинают щуриться, моргать и горбиться, что твои маленькие библиотечные кроты. Этот человек напоминал мне фотографию… вождя Джозефа, что ли? Или Джеронимо?[29] Одного из них. У. Х. Оден, переваливший за шестьдесят, это во всяком случае. Что в свой черед напомнило мне слова, которые Дэвид Хокни[30] произнес, впервые увидев старого Одена: «Мать честная, если у него такое лицо, на что же похожа его мошонка?» У этого старика, судя по рытвинам и разломам его чела, должно было болтаться в штанах подобие савойской капусты. Борода была белой у корней, однако, переходя к их жестким, истертым окончаниям, градировала, если существует такое слово, к оттенку средней серости.
Не знаю, что именно он увидел, разглядывая меня: двадцать четыре года, все волосы целы, на лице ни единый из них не растет, и, да, все верно, черт подери, бейсболка. Однако, что бы он ни увидел, ему этого оказалось достаточно, дабы протянуть руку и пожать мою.
– Лео Цуккерман.
– Профессор Цуккерман?
Уматывай полным ходом. Это он самый и есть.
– Я профессор, да.
– О. Хорошо. Вообще-то у меня кое-что есть для вас. – Конверт от «Seligmanns Verlag» лежал лицом вниз на земле. Стряхнув комочки грязи, я вручил его старику. – Это засунули в мой почтовый ящик, он прямо над вашим. Ваш был переполнен, так что я…
– Ах да. Ксенакис, Янг, Цуккерман, X, Y, Z. – Сейчас он тянул гласные, что сообщало его выговору оттенок отчасти американизированный. – Мне так жаль. Я самым прискорбным образом пренебрегаю очисткой моего почтового ящика.
– Все в порядке. Никакого беспокойства.
– Надеюсь, не единственный ваш экземпляр? – сказал он, указав на свалку в моем кейсе. – В компьютере сохранилась, конечно, копия?
– Нет, не единственный. Но все равно неприятно.
– Божья кара.
– Виноват?
– За то, что вы столь неизящно отреагировали на отставку. – И он с улыбкой взглянул на капот «клио», на мое любовное послание.
– Да, – сказал я. – Ребячество.
Старик внимательно вглядывался в мое лицо.
– Вы, я бы сказал, человек кофейный.
– Кофейный?
– Судя по тому, как вы подпрыгиваете, разволновавшись. Кофейный человек. А я человек горячего шоколада. Не согласитесь ли вы как-нибудь – в скором времени – посетить мое жилище? Выпить кофе?
– Кофе? Правильно. М-м-м. Да. Отчего же нет? Конечно. Спасибо. Вполне. Прекрасно. – В этой бессмысленной литании вежливого английского мне удалось избежать лишь слов «здорово» и «прелестно».
– В какой день? В какое время? Сегодня я свободен после трех.
– Э… о… сегодня? Конечно! Да! Прелестно. Это будет отлично. Я… мне придется заново отпечатать все это, однако…
– Так когда же? Скажем, где-то после половины пятого?
– По-моему, превосходно. Спасибо. И спасибо, что помогли мне с… ну, вы знаете. Спасибо.
– Мне кажется, что вы, пожалуй, поблагодарили меня уже достаточное число раз.
– Что? А. Да. Извините.
– Tshish! – произнес он.
Во всяком случае, это прозвучало как «tshish» и, полагаю, должно было выразить приятное удивление, внушаемое иностранцу английским недугом – неспособностью, начав извиняться и благодарить, хоть когда-нибудь да остановиться.
Мы на несколько ярдов отступили, пятясь, один от другого – как это принято у ученых мужей.
– Значит, в половине пятого, – сказал я.
– Двор Боярышника, – ответил он. – Два-А.
– Правильно, – сказал я. – Спасибо. То есть извините. Здорово. Клево.
Как делать любовь
Перья, копыта и шкуры
Лежа под ним, Клара думала о маргаритках. О маргаритках, коровьих колокольчиках, коромыслах молочниц, пасхальном пении в Мондзее – о чем угодно, о чем угодно, лишь бы не о смраде, грузности и хрюканье вздымавшегося над ней Ублюдка.
Должно быть, две прежние его жены обладали способностью выносить все это, так же как обладали способностью вынашивать для него живых детей. Быть может, на этот раз получится и у нее, думала она. На этот раз. Не как у бедной Фриды Браун, которая выкинула как раз сегодня под вечер, после того, как накачала воды из цистерны и учуяла ту жуткую вонь, и увидела червей, потоком стекавших ей в ведро. Бедная Фрида. А теперь цистерна пуста, и им приходится, точно крестьянам, занимать воду у тех, кто живет через улицу. Бедная Фрида. Она тоже так хотела ребенка.
Девочку, молилась Клара. Сладкую малышку, Лилли, которую она втайне научит любить поля и горы, а ненавистные, душные города не ставить ни во что. Ублюдок сказал этим вечером, что собирается вскоре перебраться со всем семейством в Линц. В Линц, который по сравнению с Браунау просто огромен. Линц, который навевал Кларе мысли о перьях, копытах и шкурах. Перьях на женских шляпках; ярко-голубых страусовых перьях в вазах, стоящих на цветных плитках коридоров; перьях, расходящихся веерами в витражных окошках над входными дверьми; перьях птичьих чучел под стеклянными колпаками, что стоят в гостиных на верхотуре черных дубовых буфетов. Перья, копыта и шкуры. Оленьи копыта со вставленными в них дорогими камнями – броши. Лисьи шкуры на шеях сгорбленных вдовьей долей женщин; не просто шкуры – цельные лисы: лапы, голова, глаза, зубы, осклабленная в ухмылке клиновидная мордочка; животное, расплющенное и высушенное, точно картон, точно соленая треска, которую и разорвать невозможно.
Так приводят они в город деревню, думала Клара. Убивают животных, чтобы носить их на себе, или держать под стеклянными колпаками, или сдирать с них кожу и шить из нее лакированные городские туфельки либо желтоватые чемоданы. Лошадей они заставляют всю жизнь таскать по городам конки, а после вываривают на клей или свежуют, чтобы набивать их волосом диваны или делать смычки для скрипок. Деревья швыряют в топки, чтобы приводить в ход машины и обогревать дома, или же из них вырезают кисти дубовой листвы с желудями и орешками или трубки, и все это потом зарастает темными пятнами, печалится и умирает. Цветы высушивают, подкрашивают и выставляют букетиками на роялях, на квадратиках бахромчатого шелка. Весь просторный, светлый сельский мир пишут маслом на холстах – темные грозные горы, мглистые, гулкие ущелья и тревожные темные тучи, а после холсты развешивают по мрачным коридорам, освещенным тусклыми, шипящими газовыми горелками, и картины эти пугают детей, поселяя в них вечный ужас перед миром, что лежит за пределами городов. Город, как его одолеешь? Кровь, железо и газ. Маргаритки. Думай о маргаритках. Но маргаритка – цветок гусиный, гусиная кожа. Кожа, по которой ползут мурашки, в которой покалывает от его мокрых прикосновений.
Клара знала, что ей предстоит ночь любви, как он их называл. Liebesnacht. Знала, потому что он не избил ее и, судя по виду его, бить не собирался, даже после того, как она за обедом пролила суп ему на колени. Ни единого взгляда на стену с Пниной, лишь мертвенная улыбка да игривый шлепок по руке, сопровождавшийся словом «гадкая!», произнесенным шутливым гувернантским фальцетцем. И с подлой ухмылочкой, как если б он знал, что любовь мужа для нее бесконечно ужаснее жестоких его кулаков.
Господи, как же долго он возится! Клара вспомнила сестру, шутившую по поводу невозможной, никакой радости не доставляющей стремительности ее мужа, Германа.
– И влезть не успел, а уж выскочил!
Но Герман был деревенским парнем, напивавшимся только в дни всяких там святых да по выходным, а не пятидесятилетним мужчиной – господи! Пятидесятиоднолетним. В прошлом месяце Алоизу стукнул пятьдесят один год – Алоизу, говорившему, что пьет он только по средам да по дням, в названии которых есть буква «G». Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sontag.[31]
Клара, изогнув шею, с тоской смотрит на Деву над изголовьем кровати. Алоиз, раз семь-восемь выйдя из нее и снова войдя, похоже, добирается все-таки, потея, как ломовой возчик, до желанного конца. Она узнает новое неистовство ритма и ждет последних животных содроганий.
Небо, думает она. Небо, озера, леса, кролики и орлы. Да, огромная орлица слетает из горного гнезда и уносит этого визжащего борова. Парящая в великой выси, всесильная, всевидящая, всепобеждающая орлица с пронзительными глазами, с могучими крыльями, с когтями, с которых капает свиная кровь!
Как надо мириться
Оранжевые пилюльки
Красная жидкость стекала по капле в одну из тех закрученных винтом, спиральных штуковин, которые так по душе этой братии. Работа Джейн всегда оставалась для меня темной загадкой, и Джейн это нравилось, однако я не стал бы отрицать влекущей миловидности сопутствующих ей принадлежностей. Метры и метры стоек с ретортами, капилляров, прозрачных пластиковых трубок, тянущихся повсюду, вверх и вниз, внутрь и наружу, против и по часовой стрелке, зигами и загами. Что до центрифуг, те были и вовсе сексуальными до невероятия. Я часто наблюдал, как Джейн набирает в шприц крошечную подкрашенную каплю чего-то яркого, до крайности комковатого и затем с нежным «плип» выстреливает жидкость в пробирочки, плотно, точно голодные птенчики, стоящие в круглом барабане. Когда каждый стеклянный клювик получал свою порцию пищи, барабан начинал вращаться. От хромированной точности и низкого гудения барабана у меня захватывало дух. Он был намного массивнее своего подобия из какой-нибудь посудомоечной или стиральной машины. Никакой вибрации, все прочно, гладко, научно – как и в самой Джейн. А на другом испытательном стенде мне нравилось разглядывать предметные стеклышки с цветными гелями, пронизанными посередке изысканными прожилками иных цветов, – нечто похожее можно увидеть в кладовке кондитера, нечто, напоминающее кровяные нити, какие встречаются иногда в яичном желтке. Джейн называла свою лабораторию «Кухней»; зрелище собранных здесь воедино нержавеющей стали, стекла с клейкой и красочной органикой, ярких жидкостей воскрешало во мне мальчишку, услужливого, томящегося ожиданием сына, которому нравится наблюдать, как мама, взбив жидкое тесто, сворачивает сдобный рулет.
Охота за генами – занятие, естественно, прибыльное. Перед всем прочим миром ты делаешь вид, будто исполняешь великий план, именуемый проектом «Геном человека», что и достойно, и благородно, и попахивает Нобелем – Высокая Наука, Достижения Человечества, Передний Край Знания и все такое, – на самом же деле ты пытаешься отыскать новый ген, и застолбить права на него, и выжать из бедняги все возможное, пока на ген этот не натолкнулся кто-то еще. В одном только Кембридже существуют десятки коммерческих «биотехнологических» компаний. И бог весть какая продажность и скверноты в них процветают. Конечно, Джейн подкупить невозможно. Ни в коей мере.
Временами я задираю Джейн, распространяясь насчет характера ее работы.
Что станешь ты делать, обнаружив существование геевского гена? Или установив, что у черных меньше способностей к языкам, чем у белых? Или что азиаты обращаются с числами более умело, чем люди белой расы? Или что все евреи скаредны? Или что женщины глупее мужчин? Или что мужчины глупее женщин? Или что религиозность есть генетическая предрасположенность? Или что вот этот ген определяет преступные наклонности, а вон тот – болезнь Альцгеймера? Сама ведь знаешь, во что это обратит страхование жизни, какое оружие даст расистам. Вот это все.
Она отвечает, что пройдет по этому мосту, когда до него доберется, да и вообще она работает в другой области. И кстати, если ты, историк, обнаружишь, что Черчилль всю войну трахал королеву, будет ли это твоей проблемой? Ты сообщаешь факты. А истолковывать их – дело человечества в целом. То, что Бог не создавал Адама и Еву, стало затруднением не для Дарвина, а для епископов. Не надо валить всю вину на вестника, спокойно говорила она, лучше подрасти немного и научись заботиться сам о себе.
Я щелкнул ногтем по трубочке, из которой что-то сочилось. Десять минут назад Дональд, лаборант Джейн, отправился, шаркая, искать ее. Услышав, как стукнула дверь в коридор, я распрямился. Джейн не любила, когда в лаборатории что-нибудь трогали.
– Ах, черт возьми! Оно и вправду здесь. Ему действительно хватило наглости явиться сюда и предстать перед нами.
– Привет, малыш…
– Ты что-нибудь трогал? Покажи мамочке, с чем ты здесь играл, где что испортил, чтобы нам не пришлось самим потом разбираться с этим.
– Ничего! Ничего не трогал… ну, разве вот по этой трубочке слегка прищелкнул. Там жидкость немного застряла, я и помог ей пройти. Это все.
Джейн в ужасе вытаращилась на меня:
– Все? Это все? – И она, повернувшись к двери, завопила: – Дональд! До-ональд! Иди сюда! Нам придется все начинать сначала. Десять недель работы псу под хвост! О господи!
Влетел Дональд.
– Что? Что такое? Что он сделал? Что?
– Джейн, клянусь, я просто прищелкнул ногтем, совсем чуть-чуть…
– Этот тупой засранец всего-навсего протолкнул метилоранж через трубку с тартратом.
– Да какого черта, Джейн? – взвыл я. – Не может же какая-то капелька все испортить.
Дональд не отрывал взгляда от трубок.
– Иисусе, – наконец выдавил он. – Нет! Нет! И он, привалившись к стенду, закрыл ладонями лицо.
Я со вздохом облегчения повернулся к Джейн:
– Чертовски жестокий трюк, вообще-то. Не будь Дональд таким бездарным притворщиком, я бы и вправду огорчился.
Брови Джейн взлетели вверх.
– О, – сказала она, – так это был жестокий трюк, вот оно как. Понимаю. И ты бы того и гляди огорчился.
– Послушай, я прекрасно знаю, что ты собираешься сказать…
– Изгадить мою машину, добиться, чтобы ее отбуксировали из колледжа за незаконную парковку, – это все не жестокие и огорчительные трюки, верно? Это лишь милые проявления любящей, истерзанной души. Романтические забавы, порождения прекрасного и сложного ума. Не ребячливости, но зрелости. Иронический комментарий к превратностям любви. Дивный комплимент. Мне следовало бы таять от благодарности.
Ну просто ненавижу, когда она становится такой. Еще и Дональд хихикает, как будто ему известно, о чем речь.
– Да, да, да, – сказал я, поднимая руку. – Очень клево.
– Оставь-ка нас, Дональд, – сказала, усаживаясь на высокий табурет, Джейн. – Мне нужно поговорить с этим штучным изделием.
Дональд, который, подобно мне, легко краснеет, начал по-дурацки пятиться к двери.
– Ага. Ну да. Верно, конечно. Я… да. Идет? Я подождал, когда стихнут хлопки дверей, и лишь после этого набрался смелости, потребной, чтобы взглянуть в ее насмешливые глаза.
– Прости, – сказал я.
Слово это с гулким стуком упало в мучительно долгую тишину.
Собственно, взгляд ее не был насмешлив. Я мог бы приписать ему любое свойство. Мог бы назвать его взглядом холодным, взглядом ироническим. Или оценивающим. То был взгляд Джейн, и кому-то другому он мог бы представиться а) дружеским, b) добрым, с) приятно удивленным, d) вызывающим, е) эротичным, f) неприветливым, g) скептическим, h) восхищенным, i) страстным, j) блудливым, k) тупым, l) интеллектуальным, m) презрительным, n) смущенным, о) испуганным, р) неискренним, q) отчаянным, r) скучающим, s) удовлетворенным, t) исполненным надежд, u) вопрошающим, v) стальным, w) выжидательным, х) разочарованным, у) проницательным или z) полным новой жизни.
Все это в нем присутствовало. Я хочу сказать, это же были человеческие глаза, зеркало души. Не ее души зеркало – моей. Я гляделся в него, ощущая себя олухом всех разновидностей сразу, и потому, естественно, получил в ответ взгляд насмешливый.
И вдруг она, к великому моему удивлению, склонилась и погладила меня по затылку.
– Ах, Пип, – сказала она. – Ну что мне с тобой делать?
Насчет «Пипа».
Меня многие так называют.
Ту т вот какая история.
В солидный университет полагается являться в пиджаке, при галстуке и в летних брюках, специально для такого случая купленных мамой. Вас зовут Майклом. Вы на два года моложе всех остальных и к тому же впервые, по сути дела, покинули дом. Как вы поступаете? Поездка по железной дороге из Уинчестера в Кембридж означает, что вам приходится пересекать Лондон, перебираясь с одного вокзала на другой. И вы, попав в Вест-Энд, выходите оттуда с добротной стрижкой, облаченным в поношенные мешковатые брюки, футболку с надписью «Отсоси Мою Душу», парку цвета хаки и с именем «Пэк». И в поезд, идущий до Кембриджа, вы уже садитесь нехилым малым. Восемь лет назад слова «нехилый» и «малый» были более-менее приемлемыми. Теперь-то ими, конечно, пользуются одни журналисты да рекламщики. Какие нынче обороты в ходу на улицах, я ни малейшего понятия не имею. Я выбыл из этого забега довольно рано – после того, как мне пару раз дали от ворот поворот и порекомендовали угребывать туда, откуда пришел.
Имя «Пэк» я выбрал потому, что играл его в школьной постановке «Сна в летнюю ночь» и полагал, что оно мне вроде как подходит. Спайк, Джеш, Бласт, Спит, Физзер, Джог, Стрик, Флик, Бойлер, Заг, Клют, Граулер – я перебрал их все. Пэк показался мне клевым и при этом лишенным особой агрессивности. Увы, при первом же моем обеде в Холле все и запуталось.
– Привет, – сказал, садясь со мной рядом, решительно неклевый субъект в пиджаке и при галстуке. – Я Марк Тейлор. Ты, похоже, из новеньких, так?
Я сообщил ему мое клевое новое имя, но, поскольку рот у меня был набит едой, в перепелесой башке моего собеседника утвердилось впечатление, будто я назвался Пипом Янгом.
– Пип? Ну да, понятно. Пиппи. Отлично.
И сколько я потом ни брызгал слюной, все отрицая, я так и остался Пипом, или же Пиппи. Это был удар, от которого я так и не смог бы оправиться, даже обратившись в распродолбанного, здоровенного, зловредного, драчливого, супер-пупер, клево-расклевого бандюгана, чего я достичь даже и не рассчитывал. Возможно, какой-нибудь Снуп-Догги-Дог из Южного Централа, Лос-Анджелес, штат Калифорния, и сумел бы отбиться от клички Снуп-Пиппи-Пип, но у Майкла Янга из Ист-Дин, Эндовер, графство Гэмпшир, ни малейших шансов на это не было.
Разумеется, Джейн мое прозвище нравилось. Ей нравилось называть меня Пипом, Пиплом и Пиппи. Что отчасти и объясняет маленький бунт, вследствие коего я украсил той надписью ее «рено».
Ее «рено»? Я хотел сказать – наш «рено». Вот видите? Она уже брала надо мной верх.
Это означает – да, мне нравилось, что моя женщина старше меня. Вообще говоря, два года разницы в возрасте еще не делали ее Женщиной, Которая Старше Меня, однако и столь малое различие наполняло меня упоением. Да, мне нравилось, что она по-матерински меня опекает. Да, мне были приятны острые уколы ее нежных насмешек, но НЕТ, я не евнух и не мазохист. Какая-то часть моей личности желала обращения, хотя бы недолгого, в Мужчину. И я чувствовал, честно, я чувствовал…
– Я знаю, что ты чувствовал прошлой ночью, – сказала она. – Ты решил, что я тебе завидую. Думал, будто мне не нравится, что ты дописал диссертацию. Мы оба теперь станем докторами, окажемся ровней. И ты полагал, что меня это злит.
– Ничто не может быть дальше от истины! – ответил я, и дальше этих моих слов от истины быть ничто не могло.
– И наверное, ты полагал, что изучение истории представляется мне, в сравнении с моей работой, занятием далеко не серьезным.
– Ничего подобного! – снова соврал я.
– О, – брови Джейн удивленно поползли вверх, – правда? Потому что я именно так и думала. Все перечисленное. Меня злило, что ты вот-вот станешь доктором. Раздражало, что ты расхаживаешь по дому павлин павлином. Знаешь, милый, женщину послабее от этого просто вырвало бы.
– Я был счастлив, только и всего.
– И я думала: ну что такое докторская по истории? Каждый, у кого есть хоть половина мозгов, способен несколько месяцев обжираться плодами библиотечного знания, а после прогадиться длинной, блестящей диссертацией. Размышлять при этом не нужно, расчеты проводить не нужно, трудиться тоже. Это же не работа. Просто претенциозное дилетантское кривляние.
– Ну спасибо! Огромное тебе спасибо.
– Да знаю я, Пиппи, знаю. Но это прошло. Я действительно завидовала тебе. Мне было обидно.
– О.
– Прости меня. Я рада, что ты закончил диссертацию. И горжусь тобой.
Абсолютный гений притворства, уклончивости и ускользания, вот кто она такая, наша Джейн. Ты еще рта не успеваешь раскрыть, как она сама выдвигает против себя все пункты обвинения, а после просит прощения, да так мило, так отважно, оставляя тебе лишь одну возможность – благодушно его даровать.
– Насчет машины, – сказал я, опуская глаза, – я поступил как глупое дитя.
– Да хрен с ней, с машиной. Подумаешь, машина. Это всего лишь машина, не живой котенок, не декларация прав человека. И даже рискуя вновь пробудить в тебе мужественное негодование, скажу – то был один из очень немногих твоих забавных, храбрых и независимых поступков, согласись. Опять же, про то, что ее отбуксировали с парковки, я наврала, а надпись твоя исчезла при первом же дуновении «Фреона», так что ничего вредоносного ты не учинил.
– И что же, получается, мы… э-э… мы по-прежнему вместе?
– Иди сюда, – ответила она и притянула мою голову к своей.
Мы целовались долго, страстно, и я, отрываясь, чтобы глотнуть воздуху, все лепетал слова благодарности. Я уж было и свыкся с мыслью, что меня бросили, предали и послали куда подальше. Душевные раны, возникающие от обид и иного дурного с нами обращения, не лишены некоторой приятности. Но я, видите ли, любил ее. Я ее действительно любил. «Я все еще дрожу, когда ты трогаешь меня». «Ойли-Мойли» не врут никогда. Всякий раз, как ее тело прижимается к моему, я ощущаю трепет. И мы, стало быть, целовались, а я – да какого черта! – я прощался с моей свободой.
Ростом Джейн повыше меня – это не так уж и важно, люди в большинстве своем выше меня ростом. Она смугла, я белокож. Ее нередко принимают за итальянку или испанку. Я называю ее моей черноволосой гитаночкой-совратительницей, на что Джейн отзывается добродушными стенаниями. Она большая чистюля. Странно, но так. Она не просто почти, как выражаются в телерекламе, чиста, она чиста по-настоящему. Ладони у нее неизменно свеженькие, ухоженные, лабораторный халат и прочие ее наряды нигде не морщат, не обвисают. Присущая ей милая, подкупающая неуклюжесть, намек на косноватость движений подобен намеку на косину у Ингрид Бергман – этот крошечный, почти неуловимый изъян лишь подчеркивает ее красоту.
– Послушай, – сказал я, – давай я заеду в «Сайнсбериз» и мы с тобой устроим вечером по-настоящему хороший обед. На сей раз все будет без дураков. Согласна?
Она взглянула на меня сверху вниз.
– Знаешь, Пип, – сказала она, – будь ты хоть на йоту милее, я бы точно замариновала тебя в формальдегиде.
– Да ладно, – ответил я и, взяв со стола плексигласовое, наполненное оранжевыми пилюльками блюдце, потряс им в смущенном южноамериканском ритме. – Гм, – промычал я, беря двумя пальцами одну из облаток. – И какого же рода кайф мы ловим, глотая вот это?
– А, дьявол, поставь на место! – Джейн, с внезапно обуявшим ее бешенством, вырвала у меня блюдце – да так неловко, что пилюльки рассыпались по полу и лабораторному столу.
Такой я ее еще не видел. Разъяренной, поистине разъяренной.
– Эй! – протестующе вскричал я, когда она грубо оттолкнула меня от стола.
– Когда же ты научишься ничего здесь не трогать?
Джейн соскочила с табурета и принялась собирать рассыпанные пилюли, попутно кляня себя, меня, жизнь и Господа Бога.
Все это казалось мне выходящим за пределы реальности. Я присел рядом с ней и тоже стал подбирать оранжевые облатки.
– Послушай, малыш, я просто…
– Заткнись и постарайся не проглядеть ни одной. Я не хочу с тобой разговаривать.
В третий раз за такое же количество часов я подбирал сегодня с земли что-то упавшее. Диски, листы бумаги, а вот теперь пилюли. Каждому иногда выпадают подобные дни. Тематические.
Когда все пилюли вернулись в блюдце, а само оно было убрано подальше от шаловливых детских ручонок, Джейн повернулась ко мне, и грудь ее, должен вам доложить, вздымалась и опадала, переполненная гневными чувствами.
– Господи, Пип, ну что с тобой такое?
– Со мной? Со мной? Черт, да что я сделал – всего лишь взял одну облаточку…
– Ты хоть знаешь, что они собой представляют? Хоть какое-то понятие о них у тебя есть? Нет, разумеется. В них могут содержаться носители сибирской язвы, полиомиелита, бог знает чего. Все это способно абсорбироваться сквозь кожу. Они могут вообще состоять из чистого цианистого калия, тебе же ни черта не известно.
– Ну так и что это?
– Противозачаточное средство, вот что.
– Да? – Я с интересом взглянул на пилюльки.
– Для мужчин.
– Для мужчин? Клево. Но ведь оно не опасно.
– С какой стороны взглянуть, дурья твоя башка, и смотря что ты называешь опасным. Начать с того, что на людях их еще не испытывали.
– А, ну тогда, может, возьмешь меня в подопытные кролики?
– Ни в какие клепаные кролики я тебя не возьму! – грянула она. – Действие этих таблеток необратимо.
– Ну-ка, еще разок.
– Еще разок, это именно то, на что ты окажешься уже неспособным, по меньшей мере в смысле оплодотворения. Они раз и навсегда стерилизуют мужчину.
Я сглотнул слюну.
– О.
– Вот именно. О.
– Выходит, я был на волосок от гибели.
– Был, хотя, с другой стороны, мир сколько-нибудь рациональный навряд ли пожелал бы широкого распространения твоих генов.
– Тебе следует держать их под замком.
– Мне тебя следует держать под замком. Давай установим правило, Пиппи. Ты не лезешь в мою работу, я не лезу в твою. Так нам удастся избежать катастрофы, идет?
– Ладно, – сказал я, отодвигаясь от нее. – Извини. Слушай, я бы чего-нибудь пошамал.
Джейн смотрела на меня, и лицо ее расплывалось в улыбке.
– Как по-твоему, существует хоть один шанс, что после утверждения твоей диссертации ты научишься изъясняться на человеческом языке?
– О чем ты?
– Все эти твои «клево», «кайф» и «оу»… ну что это такое? Не исключено, что в следующем году ты станешь членом твоего колледжа. Ты что, думаешь, Тревор Роупер[32] тоже разгуливает по своему, восклицая: «Оу, мужик… типа, того, клево»?
– Ну, так, – сказал я, снова садясь. – Ту т вот какая штука, история – это, видишь ли, вопрос образа.
Такова моя излюбленная теория, о которой я Джейн ничего еще не рассказывал. Я провел ладонями по поверхности лабораторного стола, словно отодвигая одну от другой две горки соли.
– Существует два типа историков, да? Вот тут у нас тип А, приятный тебе молодой консерватор – Хайек,[33] Питерхаус,[34] круглая шапочка на голове, читает только «Спектейтор», Тэтчер у него богиня, а предел его мечтаний – пост личного секретаря какого-нибудь члена парламента от тори, так? А тут, на этой стороне, тип Б, преисполненный серьезности, тяжеловесный, Христофер Хилл, Олтассер, Э. П. Томпсон, постструктуралист, охочий резать правду-матку, индивидуальность побоку и полна-жопа-истории.
– И к какой же кучке относишься ты, Пип?
– Ни к той ни к другой.
– Ни к той ни к другой. Угу. В таком случае моя научная подготовка приводит меня к мысли, что типов должно существовать не два, а больше. Есть еще тип В.
– Да, да, да. Очень умно. Я, собственно, вот о чем – если принять два эти образа за данность, что тогда остается делать? Понимаешь, историк консервативного типа стилистически принадлежит к сороковым и пятидесятым годам, а тип тяжеловесный – к шестидесятым и семидесятым. Так что оба они вроде как устарели, а сама история окостенела. Согласно моей теории, тут ты права, историк должен принадлежать к собственному времени, и куда сильнее, чем к какому-либо еще. Как сможешь ты историфицировать прошлый век, если не отождествляешь себя полностью со своим собственным, да? Ты должен отталкиваться от своего времени. Поэтому я – я принадлежу к «сейчас».
– Я принадлежу к «сейчас»? – переспросила Джейн. – Я принадлежу к «сейчас»? Не могу поверить, что ты это сказал. Да еще и историфицировать?
– Ладно, похоже, чтобы свыкнуться с жаргоном, тебе понадобится какое-то время.
– М-м. Хорошо, стало быть, ты проделал следующее: изобрел третий тип, В, историка-серфера. Ты зажимаешь пальцами ног доску и летишь на гребне волны вчерашнего дня. Киану Янг, доктор хилософии.
– Да. Грустно, правда?
– Есть немножко, дорогой, есть немножко. Но пока ты сам это сознаешь, оно не так уж и плохо. На факультетах и в профессорских нашего мира обитает множество стареющих хиппи, и я не вижу причины, по которой в них не могли бы прижиться и стареющие серферы.
– До старения мне пока далеко, сучка!
Мы поцеловались еще раз, и я поспешил смыться из лаборатории, пока Джейн опять на меня за что-нибудь не окрысилась.
Направляясь к навесу, под которым стояли велосипеды, я немного уклонился в сторону. Да, вот она. Наша маленькая «клио». Никаких следов моих каллиграфических усилий на капоте не осталось. Чертовы ученые. И кстати, что это за гадость такая, «Фреон»? Я нагнулся, чтобы завязать шнурки. Весь день проходил с развязанными – знаете, как оно бывает с полуботинками? – боковины их становятся от долгой носки мягкими, отвисают, и шнурки то и дело заваливаются внутрь, тебе под пяту, обращая тебя в вечную принцессу на горошине.
Привет! Концы шнурка правого ботинка оказались снаружи, ни один внутрь не улез. Значит, это ко мне в башмак какой-то камушек заскочил, что-то же впивается там в ступню.
Мать честная! Одна из оранжевых пилюлек Джейн. Месть Жермена. Надо бы вернуться и…
На хрен. Я сунул таблетку в бумажник. Может, скормлю ее соседскому кролику. Тихий смешок.
Я ехал, с накрепко завязанными шнурками, по Мэдингли-роуд и составлял в уме список. Еда, вино, настоящий кофе, бумага для принтера, потом домой, снова отпечатать «Meisterwerk», вернуться с отпечатанным в город, к Фрейзер-Стюарту, а после, ну да, заскочить к этому типу, к Цуккерману…
Как обрести свободу
Приземление орлицы
– Тужьтесь, женщина! Тужьтесь! Четвертые, вы говорите?
Алоиз кивнул и с отвращением взглянул вниз.
– Послушай меня, Клара… послушай!
Клара его не слышала.
– Клара! – самым строгим своим тоном произнес, склоняясь над ней, Алоиз.
Но Клара пребывала во множестве миль отсюда. Снимаясь с гор, паря над озерами и деревнями, опускаясь на шпили церквей, на миг сжимая когтями яркие золотые купола и вновь отдаваясь ветру, взмывая все выше и выше.
Подошел и встал рядом с Алоизом доктор.
– Если она уже рожала три раза, сильной боли быть не должно – даже без столь почтенной порции лаунданума.
Вот этим словам проникнуть в замутненное опиумом сознание Клары удалось. Боль? Да никакой боли и нет, внутренне усмехнулась она. Никакой боли, один лишь восторг! Радость! Чистая, вольно парящая радость!
Новая колоссальная схватка спирально вознесла ее превыше самой высокой горы. Вся Европа лежала под ней, без таможенных постов, без рубежей и границ. Звери рыскали там на приволье. Как ни высоко залетела она, движение малейшей полевки или бабочки различалось ею с совершенной ясностью, Клара слышала шуршание земли, с которым в двенадцати милях под ней вылезал из норы кролик, вглядывалась в каплю росы, свисавшую с крошечной травинки. Повелительница пространства и времени, владычица всего сущего. И Клара, испустив пронзительный вопль радости, понеслась кругами, с востока на запад, с севера на юг, и земля летела под ее великанскими крыльями, купаясь в чистой, безграничной свободе.
– Бог мой, Шенк, кровь! У нее никогда раньше не было столько крови! Что-то не так?
– Ничего, сударь. Ничего, уверяю вас. Головка у младенца большая, простой разрыв гименальной мышцы, не более того.
Клюв орленка яростно бьет о стенки яйца. Эта будет жить. Я чую ее силу. Ее железную волю. Моя дочь, орлица, которую я выращу способной одарить меня свободой.
– Клара! Ради всего святого! Как она кричит! Вы уверены, что дали ей достаточно?
– Для первого раза доза была просто огромной. Чуть больше, и она впала б в бесчувствие. Ага, выходит. Да, выходит! Еще одно усилие, Клара.
Она свободна! Она вышла в мир! Свободна! Вслушайтесь в ее страстные вопли! Сила! Воля! Воля к жизни, воля к страсти. Она будет жить, сильная, а я буду любить ее сильнее, чем какое-либо живое существо любило когда бы то ни было свою дочь.
– Ха-ха! – гоготнул Алоиз. Он, никогда не смеявшийся, теперь хохотал. Он тоже почувствовал это. Проникся величием момента.
Доктор Шенк пригладил влажные пряди волос, оставив на лбу Клары полоску крови шириной в большой палец.
– Поздравляю, дорогая моя. Вот ваше дитя. Крепенькое, как дуб.
– Либлинг! Клара! Mein Schatz![35]
– Она спит, сударь.
– Спит?
– Право же, доза была огромной. Все это время Клара спала. А когда она проснется, то почувствует себя освеженной. И ничего не вспомнит о боли. В этом смысле Природа добра.
Алоиз наклонился и поцеловал окровавленный лоб.
– Посмотри на него, умница моя. Посмотри! Вот он! Мой мальчик! Мой чудный мальчик!
Как вести беседу
Кофе и шоколад
– Мой мальчик! И точно по часам! Вода уже пошла через кофе, миг, и все будет готово. Входите, входите! Здесь не так чисто, как следовало бы, но место, чтобы присесть, найдется. Быть может, сюда? Хорошо. Я Augenblick.[36] Вы говорите по-немецки? Ну да, разумеется, говорите. Сейчас достану чашку. Чашку для вас, Майкл Янг!
Я сижу, положив на колени руки и, пока он, готовя кофе, возится в кухоньке, оглядываюсь вокруг.
– Вообще-то не так чтобы говорю, – громко произношу я ему в спину. – Читаю, более или менее. У меня есть друг, который помогает мне… ну, знаете, со сложными оборотами.
Не уверен, что он слышит меня сквозь дребезжание чашек.
А неплохой он разжился квартиркой, отмечаю я. Выходящее во Двор Боярышника двустворчатое эркерное окно с видом на реку и Мост Сонетов за ним. Две стены, закрытые книжными полками. Я встаю, чтобы взглянуть на книги.
Ух ты!
Примо Леви, Эрнст Клее, Джордж Стайнер, Барух Фидлер, Лев Бронстейн, Вилли Дрессен, Марта Венке, Фолкер Рисс, Эли Визел, Джорджи Конрад, Ханна Арендт, Дэниэль Иона Голдхаген и так далее, и так далее. Ряд за рядом, все посвященные этой теме книги, о каких я слышал, и еще десятки, дюжины, сотни не известных даже мне.
Если Цуккерман занимается современной историей, как получилось, что я нигде на него не наткнулся? Несколькими полками дальше характер книг становится более общим. Тут есть одна хорошо мне знакомая – «Корни немецкого национализма» Снайдера, издательство Университета штата Индиана. Я едва ли не способен назвать ее ISBN, содержащийся, разумеется, в библиографии «Mei-sterwerk’а», составленной мной всего два дня назад. Я вытаскиваю эту книгу, подчиняясь странному порыву, который подталкивает попавшего в чужой дом человека первым делом осматривать то, что есть дома у него самого. Помню, я где-то прочел, что создатели автомобильной рекламы установили: человек с большей охотой читает рекламу машины, которую только что купил, чем какой-либо иной. Здесь, я думаю, тот же синдром. А может быть, нам кажется, что, разглядывая вещи, тождественные тем, какими владеем сами, мы не так сильно вторгаемся в чужую жизнь, как суя нос в нечто, нам незнакомое. В общем, как вам будет угодно.
– «Политический национализм стал для европейца нашего века, – цитирует Цуккерман, появившись с подрагивающим в руках подносом, – важнейшей вещью в мире, более важной, чем гуманность, достоинство, доброта, набожность; более важной, чем сама жизнь». Так?
– Слово в слово, – удивленно отвечаю я.
– И когда же он это сказал, Норман Энджелл?[37] По-моему, незадолго до Первой мировой. Пророчество.
– Позвольте, я помогу.
– Ничего-ничего. Я его вот здесь пристрою. Итак! Молоко? Сахар?
– Только молоко, я человек не сахарный, – вылезаю я с каламбуром.
– Сахарный человек, Цуккерман! Как забавно!
Он хохочет – скорее, кажется мне, из-за краски, залившей мое лицо после этого рокового усилия, чем от блеска самой шутки. Дернул же меня черт.
– О, вижу, вы сделали вашему багажу перевязку. Весьма разумно.
Я опускаю взгляд на стоящий рядом со мной на полу перетянутый толстой резинкой старый кейс.
– Да. Думаю, в конце концов все-таки придется порадовать себя новым. Этот старичок у меня еще со времен начальной школы.
– Вот, возьмите. А теперь, извините, я отвлекусь на секунду. – Он вручает мне кофе и снимает со стоящего на письменном столе ноутбука фаянсовую кружку, наполненную чем-то другим, горячим шоколадом, полагаю. – Я развлекаюсь, – сообщает он, щурясь на экран и водя пальцем по панельке управления курсором, – игрой с американским коллегой.
Через плечо его я вижу, что Цуккерман скачивает некую почту. Все сообщение, отмечаю я, состоит из трех-четырех букв. Он прочитывает его, хихикая, и отходит к окну, к столику, на котором стоит шахматная доска с фигурами.
– Опля! – восклицает он, переставляя черного коня. – Вот до этого я не додумался. Вы играете, Майкл?
– Нет… э-э, не играю. Ну, то есть, ходы-то я знаю, однако игра со мной вам, боюсь, большого удовольствия не доставит.
– О, наверняка доставит, не сомневаюсь. Я в шахматы играю ужасно. Просто ужасно. Друзья посмеиваются надо мной за это. Хорошо. С этим покончено. – Он возвращается к столику и усаживается напротив меня. – Ну-с. Как вам кофе?
Я приветственно поднимаю чашку:
– Очень клевый. Спасибо.
– Клевый? Ах да. Вы хотите сказать – хороший? Клевый. Вот слово, которое меня неизменно смешит. Сколько уж лет оно то входит в моду, то выходит из нее, совсем как роликовые коньки. Помню премьеру «Вестсайдской истории» в Нью-Йорке. «Разыграй это клево, Джонни, клевый Джонни». Когда же это было-то? Постойте… ну да, верно, в пятьдесят седьмом, почти сорок лет назад, мой первый год в Колумбийском. А люди и поныне говорят «клево»! Только клевых «стариков» теперь уже больше не встретишь, а? Нынче нам все больше клевые «чуваки» попадаются. Я поерзал на стуле.
– Вообще-то тут я не в курсе, профессор, мне ведь двадцать четыре, для меня все это далекое прошлое.
– Называйте меня Лео. О, разумеется, далекое прошлое, еще бы. Двадцать четыре! Скоро вам придется сменить фамилию, с Янга на Стара. Н-да, двадцать четыре вам исполнилось, сколько я помню, в апреле.
Я вытаращил глаза:
– Откуда вы знаете?
– Да уж поинтересовался. Посмотрел вашу домашнюю страницу в Вор-р-рлд Вайд Веп! – Он сопровождает эти комически исковерканные слова эффектным, как у престидижитатора, взмахом руки.
В наши дни у каждого, кто подвизается в каком угодно университете, имеется во всемирной паутине собственная домашняя страничка. Моя слабовата, скучна, ее написала для меня Джейн, хорошо разбирающаяся во всяких компьютерных штучках – фреймах, «Хот-Джаве», апплетах и тому подобном. Страница состоит из тощего биографического раздела; нашего с Джейн, сделанного на берегу реки, снимка, который она как-то там отсканировала, или оцифровала, или что с ними делают, и ссылок на сайт исторического факультета и ее собственную страницу, куда более навороченную, чем моя, – там у нее и молекула ДНК вращается, и вообще много чего напридумано.
– И в какой же день апреля это произошло, хотелось бы знать? – продолжает Цуккерман. – Позвольте мне догадаться…
– Не понимаю, какая…
– Как насчет… как насчет, скажем… двадцатого? Двадцатого апреля?
Я, вытирая ладони о штанины, киваю.
– Ну, как вам это понравится? В самую точку! Двадцать девять шансов к одному, и я попадаю с первого раза! А место рождения? Я было решил, что это описка, что вы родились в английском городе Хертфорде. Но нет, возможно, отец ваш служил в армии. Возможно, вы родились в Херфорде, Германия, где еще несколько лет назад располагалась база британской армии?
Я снова киваю.
– Так. Вы родились в Германии, в Херфорде, 20 апреля 1972 года.
Цуккерман вглядывается в меня поблескивающими глазами. На одну жуткую секунду он обращается в двойника того нелепого старикашки в подтяжках из «Смарфов», который имел обыкновение подпевать, упершись подбородком в столик, приплясывающим синим человечкам, следя за ними блуждающим взглядом.
– А вы? – спрашиваю я, спеша сменить тему. – Вы ведь не историк. Чем именно вы занимаетесь?
Он прослеживает мой направленный на книжные полки взгляд.
– Боюсь, делами довольно скучными. Я просто ученый. Мой предмет – физика, но у меня, как видите, имеются и… другие интересы.
– Шоа?[38]
– А, вы, похоже, решили сделать мне приятное, прибегнув к еврейскому слову. Да, главным образом Шоа. – Взгляд его возвращается ко мне. – Скажите, Майкл, вы еврей?
– Э-э… нет. Нет, вообще-то, не еврей.
– Вообще-то. Вы уверены?
– Ну да. Я хочу сказать, не то чтобы это имело для меня какое-то значение, однако я не… еврейской крови во мне нет.
– Знаете, в тридцатых Форстер[39] написал эссе о том, что он назвал «еврейским самосознанием». Откуда нам знать, говорит он там, что мы не евреи? Можем ли мы, любой из нас, назвать имена восьми наших прадедов и прабабок и с уверенностью заявить, что все они были арийцами? А ведь если хоть кто-то из них был евреем, жизни наши абсолютным образом определяются им или ею, точно так же как и всей мужской частью нашего рода, которой мы обязаны фамилиями и личностями. Интересное, на мой взгляд, замечание. Сомневаюсь, что даже принц Уэльский смог бы назвать имена восьми своих прадедов и прабабок.
– Ну, я-то своих определенно не назову, – говорю я. – Я, собственно, даже имена четырех моих дедушек и бабушек точно назвать не сумею. Но, насколько мне известно, я не еврей.
– И не то чтобы это имело для вас какое-то значение.
– Нет, – подтверждаю я, стараясь, чтобы голос мой не прозвучал раздраженно. Во всем разговоре, в этой череде вопросов явственно присутствует нечто, внушающее мне гадливость. Цуккерман внимательно вглядывается в меня, словно придя к какому-то выводу, хотя что это за вывод, я сказать не берусь.
Проводя мои исследования, я обнаружил, что в нашей области подвизается множество людей по-настоящему странных и кое-кто из них полагает само собой разумеющимся, что вы разделяете их странные взгляды. Была одна группа в Лондоне, непонятно каким образом прознавшая о теме моей диссертации и приславшая мне образцы своей «литературы», которые заставили нас с Джейн тут же позвонить в полицию.
Выражение, застывшее на моем лице, вызывает у Цуккермана смешок.
– Я вижу, мои беспорядочные вопросы сердят вас.
– Нет, но я не понимаю, к чему…
– Хорошо! Больше никаких скачков, обещаю. Перехожу к сути. – Он наклоняется в кресле вперед. – Вы, Майкл Дункан Янг, написали диссертацию на тему, которая сильно меня интересует. Очень сильно. Поэтому. Два пункта. Альфа, я хотел бы ее прочитать. Бета, я хотел бы понять, почему вы ее написали. Вот и все. Очень просто.
И он откидывается на спинку кресла, ожидая моего ответа.
Я с трудом сглатываю слюну. Это глубокие воды, Ватсон. Ступайте осторожно. Очень осторожно.
– Первое, что вы должны понять, – я говорю медленно, стараясь, без особого, впрочем, успеха, не отрывать взгляда от его пронзительных синих глаз, – так это, что я… ну, знаете, я не какой-нибудь там извращенец, не… не подобие Дэвида Ирвинга,[40] если вы об этом. Я не коллекционирую Железные кресты, свастики, «люгеры», эсэсовские мундиры, не утверждаю, будто жертвами холокоста стало всего лишь двадцать тысяч человек, – никакого дерьма в этом роде.
Он кивает, закрыв глаза, словно вслушиваясь в музыку, и взмахом руки предлагает мне продолжать.
– И вы правы, я действительно родился двадцатого апреля. Думаю, с тех самых пор, как я узнал, что двадцатое апреля – это… ну, знаете, что его можно назвать красным днем календаря, я проникся… любопытством или, не знаю, ощущением вины, что ли.
Я отпиваю, дабы увлажнить быстро пересыхающее горло, кофе.
– Вины? Это интересно. Вы, может быть, верите в астрологию?
– Нет-нет. Дело не в этом. Не знаю. Все так, как я сказал. Ну, вы понимаете.
– Угу. А кроме того, обычные биографии в эту тему особо не вдаются, и потому она более чем пригодна для докторской диссертации, автор которой предпочитает разбивать свой шатер в чистом поле, да?
– Ну и это тоже, конечно. Он открывает глаза:
– Одного Слова мы с вами так и не произнесли, верно?
– Простите?
– Имени. Мы избегаем Имени. Как будто это ругательство.
– А, вы имеете в виду, э-э, Гитлера? Ну…
– Да, я имею в виду «э-э, Гитлера». Адольфа Гитлера. Гитлер, Гитлер, Гитлер. – Он повторяет это все громче. – Он пугает вас? Гитлер? Или вы, может быть, думаете, будто я считаю недопустимым упоминание Гитлера в моем доме, – примерно как слова «рак» в будуаре дамы?
– Нет, я просто…
– Разумеется.
Мы умолкаем и молчим, пока я не соображаю, что Цуккерман ожидает от меня продолжения.
– М-м… насчет возможности прочитать ее. Диссертацию то есть. Она сейчас у моего руководителя, у доктора Фрейзер-Стюарта, и он, понятное дело, просмотрит ее, ну, знаете, все проверит, а после отошлет профессору Бишопу. Потом, я думаю, она отправится в Бристоль. Там работает одна такая дама, профессор Уорд. Эмили Уорд. У вас здесь есть ее книга… во всяком случае, мне пришлось сегодня днем отпечатать для доктора Фрейзер-Стюарта новую копию после… ну, знаете, после того, что произошло на парковке и так далее, однако, если хотите, я готов сделать еще одну, для вас. М-м. Ясное дело.
– Ладно, Майкл, давайте начистоту. Те страницы, которые я видел, все еще при вас?
– Да, но только они перемешаны и вообще не в самом лучшем виде.
– Мне настолько не терпится прочесть ваш труд, что я готов взять их у вас и самостоятельно разложить по порядку. Полагаю, они пронумерованы?
– Конечно, – говорю я, протягивая руку к кейсу, – пожалуйста.
Он принимает от меня толстую стопку украшенных отпечатками шин, надорванных, измятых, припорошенных песком страниц и аккуратно опускает ее на столик, разглаживает титульный лист и произносит:
– Итак, Майкл Янг. Готовы ли вы заявить, что знаете о юности Адольфа Гитлера больше, чем кто бы то ни было из живущих ныне людей?
Я помаргиваю, стараясь обдумать этот вопрос со всей доступной мне честностью.
– Полагаю, это было бы сказано слишком сильно, – выдавливаю я наконец. – В прошлом году я ездил в Австрию, пересмотрел все документы, какие смог отыскать, однако не думаю, что наткнулся в них на что-то, никем до меня не виденное. Понимаете, меня интересовало очень узкое временное окно. Наверное, я вправе сказать, что узнал кое-что новое о происхождении его матери, Клары Пёльцль, выяснил кое-что о доме в Браунау, в котором он родился, однако все это относится к временам очень ранним, не оказавшим на его жизнь серьезного влияния. Видите ли, ему был всего год, когда они перебрались в Гросс-Шонау, и еще через пару лет – в Пассау, а когда ему исполнилось пять, семья переехала из Фишльхама в деревню под Линцем; ну а все, что можно узнать о его школьных годах, известно и без меня, я бы так сказал. У историков конца сороковых и пятидесятых было одно преимущество – они могли разговаривать с людьми, знавшими его еще мальчиком. А в моем распоряжении имелись, понятное дело, лишь документы. Так что…
– Вы по-прежнему избегаете имени.
– Правда? Это я не намеренно, уверяю вас, – говорю я, совсем уж охрипнув. Все предыдущее было слишком длинной для меня тирадой. – Так вот, чтобы ответить на ваш вопрос: я думаю, что знаю о детстве АДОЛЬФА ГИТЛЕРА не меньше кого бы то ни было, а в некотором смысле и больше.
– Угу.
– А зачем?
– Виноват?
– Зачем вам так уж необходимо это знать?
– Если позволите, я сначала прочту ваш труд. – Он встает и направляется к двери, давая понять, что визит окончен. – А после вы, быть может, окажете мне услугу и навестите меня еще раз?
– Конечно. Непременно. Пойдет.
– Прекрасно.
– Я к тому, – говорю я, еще раз взглянув на его книжные полки, – что вы, как я понимаю, и сами большой знаток, так что ваше мнение было бы для меня чрезвычайно ценным.
– Вы очень добры, однако я не профессионал, – произносит он, отвечая мне столь же неубедительной академической учтивостью.
Я неловко переминаюсь у двери, не зная, какими словами с ним попрощаться.
– Вообще-то, – вдруг выпаливаю я, – моя девушка – еврейка.
На сей раз я не просто краснею, я багровею. Я чувствую, как краска заливает мне спину и грудь, выплескиваясь на шею и затопляя лицо, пока оно не обращается в большой и яркий бакен смущения и муки. Ну что за дерьмо! Вот зачем я это сказал? Зачем я сказал это?
Он удивляет меня, ласково обняв рукой и похлопав по плечу.
– Спасибо, Майкл, – говорит он.
– Она занимается биохимией. Здесь, в колледже. Возможно, вы с ней знакомы?
– Возможно. И она по-прежнему ваша девушка? После того, что вы учинили с ее машиной?
– О. Да. Она очень отходчива. Собственно, ее это позабавило.
– Меня тоже. Столь рыцарственный, если говорить начистоту, комплимент. Так вы навестите меня снова? И может быть, в следующий раз – придете посмотреть мою лабораторию, а?
– М-м! – отвечаю я. – Было бы очень интересно.
Он откидывает голову назад, смеется:
– На самом-то деле, мой мальчик, я тоже, хоть оно вас и удивит, полагаю, что это было бы очень интересно.
– Да, хорошо. И спасибо за кофе… о, я его не допил.
– Неважно. Каким бы ни был он поначалу, уверен, сейчас он отнюдь не клевый.
Как запугивать ребенка
Табель успеваемости: I
Клара, сделав над собою усилие, с мольбой коснулась руки Алоиза.
– Ты будешь добр с ним? Не станешь злиться?
– Поди прочь, женщина. Пришли его ко мне, и все.
Уныло понурясь, она вышла из комнаты. И, закрывая двойные двери, увидела, что Алоиз берет со стола трубку. Клара прикусила губу: трубка предназначалась для строгих отеческих бесед.
В коридоре Анна смахивала пыль со стеклянного колпака, из-под которого, в навечном торжестве растопырив крылья, бодро взирали два щегла. Клара смущенно кивнула ей и полезла по лестнице вверх – плотный, черный, поблескивающий дуб погогатывал под ее ногами голосом старой карги.
Он лежал на кровати, на животе, и читал, прикрыв ладонями уши. Как ни скрипели ступени, он ее не услышал, и Клара какое-то время любовно вглядывалась в мальчика. Читал он с огромной скоростью, переворачивая страницы и постоянно что-то сам себе бормоча, усмехаясь, коротко вздыхая, недовольно всхрапывая над каждым абзацем. Наверное, еще одна книга по истории, решила она. Недавно – дело было на дне рождения школьного товарища – он поразил библиотекаря из Линца, заведя с ним, пока прочие дети танцевали и играли под бренчание пианино в чехарду, полный обстоятельных подробностей разговор о Римской империи. Клара расслышала его слова: «Гиббон[41]совершенно не прав», – библиотекарь в ответ расхохотался и похлопал его по плечу. От такого обращения он съежился, помрачнел, а по дороге домой горько сетовал: «Почему они вечно обращаются со мной, как с ребенком?»
– Но, милый, они и видят в тебе ребенка. Люди считают, что дети должны вести себя по-детски, а взрослые – по-взрослому.
– Что за чушь! Истина остается истиной, кто бы ее ни высказывал – десятилетний деревенский мальчик или дряхлый венский профессор. Какая разница, сколько мне лет?
И он был совершенно прав. В конце концов, разве Господь наш еще ребенком не спорил в храме со священнослужителями? И разве не сказал Он: «Пустите детей приходить ко Мне»? Впрочем, об этом Клара в тот раз говорить не стала. Такие слова могли подтолкнуть его к каким-нибудь дерзостям, способным лишний раз обозлить Алоиза.
Теперь же, пока Клара смотрела на него, он вдруг перестал переворачивать страницы и приподнял голову.
– Мутти, – без тени сомнения произнес он, даже не оглянувшись.
Клара рассмеялась:
– Как ты узнал? Он повернулся к ней.
– Фиалки, – сказал он. – Знаешь, ты приходишь ко мне по воздуху.
И, подмигнув ей, сел.
– Ах, Дольфи! – неодобрительно воскликнула Клара, увидев, что кожаные короткие штаны его надорваны, а одно колено покрыто ссадинами. – Ты опять подрался.
– Пустяки, мутти. К тому же я победил. А тот мальчик был старше и больше меня.
– Ладно, почистись, приведи себя в порядок. Тебя хочет видеть отец.
Пока он ополаскивался в ванной, Клара выложила для него на постель один из давних костюмов Алоиза-младшего. Немного великоват, однако сын выглядел в нем таким нарядным, серьезным. Она взяла книгу, которую он читал, и с удивлением обнаружила, что книга детская – «Остров сокровищ», про пиратов, попугаев и ром.
Он вышел, опоясанный полотенцем, из ванной, нахмурился, увидев в ее руках книгу. «Мне нужно переодеться», – сказал он. Клара вздохнула и покинула комнату. Год назад он позволил бы ей искупать его, а теперь даже одеваться при ней не хочет. Вот уж и голос у него ломается, и он с каждым днем становится все более замкнутым, обособленным; что ж, так уж устроены мальчики, вырастая, они отдаляются от тебя. Клара медленно спустилась по лестнице, прошла на кухню. Анна заваривала для маленькой Паулы чай. Клара решила выйти наружу, покопаться в саду. Под окном кабинета Алоиза имелась очень удобная клумба, как раз нуждавшаяся в прополке.
– Прошу! – произнес Алоиз своим исполненным ледяной вежливости офицерским тоном. Клара опустилась близ открытого окна на колени, сжала в руке усик вьюнка и услышала, как открылась и закрылась дверь.
Последовало долгое молчание. Детский трюк Алоиза – он притворяется, будто читает, пока бедный Дольфи стоит посреди ковра, не зная, как ему быть.
– У тебя что, башмаки грязные?
– Нет, сударь.
– Тогда почему ты вытираешь их о штанины? Стой на обеих ногах, мальчик. Ты же не аист, верно?
– Нет, сударь. Не аист.
– И сию же минуту оставь этот наглый тон!
Вновь тишина, нарушаемая лишь театральным шелестом страниц и сухим покашливанием – перед тем, как Алоиз начинает читать вслух.
– «Не лишен сообразительности, однако отличается недостатком самодисциплины… неуживчив, своенравен, дерзок и вспыльчив. С явным трудом приспосабливается к жизни школы. Сочетает энтузиазм с рьяной энергией, кои улетучиваются, едва он осознает, что от него потребуются работа мысли, прилежание и учеба. Более того, он с плохо скрываемой враждебностью реагирует на любой совет или неодобрение. В этой четверти работал совершенно неудовлетворительно». Ну-с? Что ты на это скажешь?
– Доктор Гумер. Это отчет доктора Гумера, верно? Он меня ненавидит.
– Чей это отчет, тебя не касается! Ты хоть представляешь, сколько дерет с меня Realschule[42] за сомнительную честь обучать тебя? И чем ты мне платишь? «Влияние, которое он оказывает на других учеников, здоровым назвать никак нельзя. Создается впечатление, что он требует от них безоговорочного подчинения, воображая себя их лидером». Лидером? Да ты бы и в детском саду лидером стать не сумел, мальчишка!
– А что доктор Потш? Что говорит он?
– Потш? Потш говорит, что тебе присущи одаренность и энтузиазм.
– Ну вот!
– Однако и он винит тебя в недисциплинированности и лени.
– Я вам не верю! Он никогда бы такого не сказал. Доктор Потш понимает меня. Вы это выдумали.
– Да как ты смеешь! Подойди сюда. Подойди сюда!
Слезы наполнили глаза Клары, слушавшей свист рассекающей воздух плети, удары по плотной ткани старого костюма Алоиза-младшего. А Дольфи кричал, кричал и кричал: «Я ненавижу вас, ненавижу, ненавижу!» Почему он никак не научится покорности, которой научилась она? Разве мальчик не понимает, что чем больше он протестует, тем больше удовольствия доставляет Ублюдку?
– Отправляйся к себе в комнату и сиди в ней, пока не научишься просить прощения!
– Очень хорошо. – Надтреснутый, наполовину мальчишеский, наполовину мужской голос Дольфи остался твердым. Гнев и боль выдавало лишь хлюпанье, с которым мальчик втягивал текущую из носу влагу. – Тогда я останусь в ней до вашей смерти.
– Нет, нет, милый! – прошептала Клара, в отчаянии обхватывая себя руками, в страхе, что Алоиз снова возьмется за Пнину.
Но, к удивлению своему, она услышала лишь фальшивый смешок мужа:
– Мать может баловать тебя, льстить твоему отвратительному тщеславию, но поверь мне, Адольф, я тебя все равно усмирю. О да. А теперь убирайся.
– Не… не смейте, – она услышала, как дрогнул голос силящегося сдержать слезы Дольфи, – не смейте ее трогать. Я убью вас. Я вас убью.
Теперь он уже рыдал открыто. Алоиз вновь рассмеялся:
– Ладно, катись отсюда, мальчишка, пока твои сопли ковер не закапали.
Как совершать ошибки
Табель успеваемости: II
Пот капал с кончика моего носа на пол. Этим его не проймешь, думал я, не на такого напал.
Доктор Ангус Александер Хью Фрейзер-Стюарт любил забирать свои длинные белые волосы в сетку. Что касается одежды, он предпочитал шелковые кимоно, белые хлопковые хламиды и просторнейшие штаны из черного атласа. В его жилище, веренице огромных комнат в угловой части Франклин-билдинг, глядящего фасадом на Кем, проникал снаружи обильный свет: в окна било слепящее солнце, на потолке и стенах рябили блики отраженных водой лучей, свет фар, долетавший с шоссе, заливал продуманно развешенные по простым белым стенам картины и гравюры. В этой комнате повсюду – на подоконниках, полочках, столах и циновках из копры – аккуратными рядами стояли кактусы. Огромный аризонский экземпляр, словно позаимствованный из ковбойских комиксов Ларсена, занимал целый угол комнаты, топыря две асимметричные руки, точно увечный дорожный патрульщик. С висевшего над камином закопченного портрета таращился на пару перекрещенных на противоположной стене кавалерийских турецких сабель веселый, поддавший, по всему судя, Бэкон. И все это купалось в подобном удушающему туману страшенном зное. День снаружи стоял палящий, безоблачное небо отливало зловещей, научно-фантастической синевой, а в комнате конвекционные обогреватели гнали на кактусы сухой, горячий воздух. Подмышки мои источали все больше пота, стекавшего в трусы и на бедра. И я, угрызаемый ужасом, вдруг понял – худшее еще впереди.
Фрейзер-Стюарт, усевшийся, скрестив ноги, на полу, протянул, не отрывая глаз от пристроенного им себе на колени «Meisterwerk’а», руку к сигарной коробке. Пять лет назад, точь-в-точь в такой же безумно знойный день, я, впервые сидя в этой комнате и утопая в океане плотного дыма «гаваны», спросил, нельзя ли открыть окно. Старик скорбно глянул на кактусы, выпустил разочарованное облако дыма и осведомился, не из тех ли я людей, что только о своем удобстве и думают. Сукин сын, подумал я тогда, и сейчас – сукин сын, думал я.
Я смотрел, как мягкие, округлые голубые валы дыма обращаются в продолговатые желтые эллипсы, схожие с верхушками кедров, и застывают – высоко, под потолком, – а он все продолжал читать.
– Мне нужно просмотреть кое-что еще раз, – сказал он, когда я вошел. – Садитесь.
Этим я теперь и занимался: сидел. А также потел, задыхался, зудел и чесался.
Возможно, вам известно, как все устроено с докторской диссертацией. Вы приносите свой опус научному руководителю, руководитель передает его внутреннему оппоненту, а тот в свою очередь отсылает оппоненту внешнему. Оппоненты приходят к согласию насчет того, что труд ваш обладает требуемыми кондициями, а затем, в ходе простой, но волнующей официальной процедуры, проводимой в Доме Сената, Канцлер[43] университета или благодушный его заместитель посвящает вас в доктора. Затем, немного попресмыкавшись и полизав правильно выбранные задницы, вы обращаетесь в члена вашего колледжа, лектора вашего факультета и получаете пожизненную ученую должность. Диссертацию вашу публикуют на предмет единодушного ее одобрения; вы даете знать о ней радиорежиссерам и тележурналистам всего англоязычного мира, дабы попасть на рынок экспертов, чьи мнения начинают пользоваться спросом, когда в новостях появляется нечто, относящееся к сфере их научных интересов; продуманная череда учебников и руководств, предназначенных для прибыльного школьного рынка, навсегда избавляет вас от финансовых затруднений; вы венчаетесь в по-средневековому пышной капелле колледжа с вашей возлюбленной; у вас подрастают дети, светловолосые, умные, занятные, обладающие намного более нежели средними познаниями по части горных лыж; прежние ваши студенты добираются до должности премьер-министра, и им хватает доброты, чтобы вспомнить, когда дело доходит до раздачи таких королевских даров, как председательства в комиссиях, рыцарские звания и руководящие посты в университетах, своего любимого старого преподавателя истории, – короче говоря, жизнь ваша складывается на славу.
И сейчас я наблюдал, как куется первое звено этой цепи. Фрейзер-Стюарту полагалось еще неделю назад передать «Meisterwerk» профессору Бишопу, но ведь Фрейзер-Стюарт ленив, как кот. Бывший военный, обладатель «блестящего ума», что бы сие ни означало, он принадлежит к числу тех помешанных, что специализируются по военной истории. Подобно Паттону, Орди Уингейту[44] и многим иным исполненным самоуважения милитаристам до него, он полагает, что присущее ему сочетание любви к оружию с начатками философии и сомнительного свойства тайных знаний должно производить на окружающих неизгладимое впечатление. Полковник Джек-потрошитель Стерлинга Хайдена и мистер Курц Марлона Брандо[45] – вот его прямые прародители. И мелодраматический-то генерал уже достаточно гадок, а если он к тому же гордится знанием даосизма, музыки французского барокко и сочинений Дунса Скота,[46] то составляет подлинную угрозу вашему мировому порядку. Уж если шлете меня в сражение, так хотя бы дайте мне полковника Блимпа[47] – доброкачественного, высокомерного старого олуха с колючими усами, читающего Джона Бакана[48] и верящего, что Кьеркегор – это главный аэропорт Швеции, – а не самовлюбленного болвана, который голышом играет в поло и пишет на постклассической латыни комментарии к «Пизанским песням» Эзры Паунда.
Наконец – я уж решил, что он никогда не закончит, – Фрейзер-Стюарт поднял на меня взгляд и этак припукнул губами, выпустив в мою сторону струйку дыма, точно сбивающая добычу рыбка-брызгун.
– Да, так что же, юный Янг, вы пробовали обращаться за помощью?
– Простите?
– Я о ваших проблемах с наркотиками.
– С чем?
– Вы же пропитаны героином, милейший! Меня вам не обмануть. Сидите на «эйфории» или другом каком новомодном зелье. Я знаю, это всегдашняя проблема молодых людей ваших лет. Думаю, вам следует что-то предпринять на сей счет. И как можно быстрее.
– Э-э… вы случайно не спутали меня с кем-то другим, сэр?
– О, не думаю. Нисколько не думаю. Чем же еще можно объяснить вот это?
– Что именно?
– Вот это, юноша. Вот это! – И он сердито помахал «Meisterwerk’ом».
Мир мой начал разваливаться на куски.
– Вы хотите сказать… вам не понравилось?
– Это? Понравилось? Это макулатура. Мусор. Не диссертация, а куча фекалий! Гной, нравственные отбросы, похабщина.
– Но… но… мне казалось, вы согласились с тем, что моя работа идет в правильном направлении?
– Насколько то было известно мне, шли вы в направлении правильном. До того, как принялись набивать нос снежком, или бегать по девкам, или к чему вы там пристрастились? А виноват во всем фильм «На игле», не так ли? Не думайте, будто я в подобных делах ничего не смыслю. Господи, меня просто тошнит от всего этого! Наизнанку выворачивает. Целое поколение ввергнуто во мрак и гибнет, срезается косой танцулек под кайфом и веселящих порошков.
– Послушайте, уверяю вас, я наркотики не принимаю. Даже травку не курю.
– Тогда что же? Как? А? – Фрейзер-Стюарт зашелся в жутком сухом кашле. Я испуганно наблюдал, как он, с брызжущими из глаз слезами, все машет и машет мне рукой, показывая, что сейчас оправится, что говорить – очередь все еще его. – Мы… мы говорим о вашей работе, – продолжил он, пыхтя и отдуваясь, – вы создаете у меня полное впечатление того, что отличнейшим образом все контролируете, а после приносите эти… эти помои. Это не научные доводы, это роман, да еще и совершенно отвратный. Что? Что?
– Вы уверены, что прочитали именно мою работу? – Я наклонился к нему, исполненный скорее упований, чем надежд. Нет, в том, что рука его сжимала именно «Meisterwerk», сомневаться не приходилось.
– За кого вы меня принимаете? Разумеется, вашу! Итак, если вы не перебравший наркоты торчок, галлюцинирующий, наглотавшись неких шутовских грибов, в чем тогда состоит ваша проблема? О… ха… конечно! – Лицо его просветлело, он игриво осклабился, показав мне желтые зубы. – Это же шутка, не так ли? Настоящую диссертацию вы где-то припрятали! Розыгрыш в духе майской Гребной недели. Ха! Ну-ка, честно!
– Но я не понимаю, что в ней не так! – в отчаянии едва ли не взвыл я. Последней моей надеждой как раз и было, что это он меня разыгрывает.
Секунд, должно быть, шесть он смотрел на меня, не веря услышанному. Шесть секунд. Отсчитайте их сами. Раз-аллигатор-два-аллигатор-три-аллигатор-четыре-аллигатор-пять-аллигатор-шесть. Я, разинув, как золотая рыбка, рот, выпучился на него, стараясь не позволить горестным слезам хлынуть из моих глаз.
– О Иисусе, – прошептал он. – Так он это всерьез. Совершенно всерьез.
Я продолжал таращиться, думая в точности то же самое.
– Я допускаю… – произнес я, – допускаю, что некоторые ее части… необычны, однако…
– Необычны? – Он взял одну из страниц и прочитал вслух: – «Парящая в великой выси, всесильная, всевидящая, всепобеждающая орлица с пронзительными глазами, с могучими крыльями, с когтями, с которых капает свиная кровь!» И вы утверждаете, что не впрыскиваете себе в вены гашиш? «Новая колоссальная схватка спирально вознесла ее превыше самой высокой горы. Вся Европа лежала под ней, без таможенных постов, без рубежей и границ. Звери рыскали там на приволье». Вы провели исследования столь обширные, что и в самом деле отыскали сведения о мельчайших подробностях родов этой Пёльцль и даже о видениях, которые ее при них посещали? Она что же, дневник вела? Наговаривала свои мысли на магнитофон? Вы, как я заметил, утверждаете, что муж ее ухитрился шагнуть в двадцатый век и лично присутствовал при родах. Очаровательно, коли так! Но где же ссылки? Где источники?
– Нет, ну это же просто связующие звенья. Согласен, они не ортодоксальны, однако я полагал, что они придают работе… знаете… красочность и драматичность.
– Красочность? Драматичность? В диссертации? Подыщите-ка для себя реабилитационный центр, юноша, пока еще не поздно! – Он перелистнул в изумлении несколько страниц, брови его грозили покинуть лицо и воспарить в горние выси. – Я замечаю, что вы не удосужились уведомить изумленного читателя и о том, как попал в ваши руки табель успеваемости юного Гитлера.
– Согласен, я допустил некоторое количество вольностей. Однако учитель Адольфа, Эдуард Гу – мер, действительно говорил, что Адольф недисциплинирован и воображает себя лидером.
– А, так он уже Адольф, вон оно как! Похоже, вы с ним довольно близко сдружились?
– Ну, говоря о мальчике двенадцати лет, затруднительно все время называть его по фамилии, не так ли?
– А мамочка Адольфа, качающая воду из колодца, между тем как мимо проходит, чух-чух-чух, поезд «с мощным локомотивом, распушившим в небе белые императорские усы»? Мамочка Адольфа, сжимающая в руке усик вьюнка? Мамочка Адольфа, пахнущая фиалками? Это что?
– Просто я думал, что такие детали облегчат чтение текста, н у, знаете, когда его издадут…
– Издадут? – Богом клянусь, мне показалось, что его сейчас разорвет на куски. – Издадут? Хрень господня, дитя, да даже «Миллс и Бун»[49] покраснели бы при мысли об этом.
– К ним я не обращался, – сказал я, норовя уцепиться за эту тему. – Вот «Seligmanns Verlag» определенный интерес проявило.
– Видимо, имея в виду свои издания по психопатологии. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ваша диссертация попросту неприемлема.
– Ну, я мог бы убрать эти места, – без всякой надежды проблеял я. – Они ведь составляют всего лишь двадцатую часть целого. Если не меньше.
– Убрать? Хм… – Он ненадолго задумался.
– Я к тому, что… как вам все остальное?
– Остальное? О, компетентно, по-моему. Скучно, но компетентно. Дело, прежде всего, в том, что я просто не могу понять, зачем вы напихали сюда все это не поддающееся точному описанию дерьмо. Даже если оно исчезнет из диссертации, я все равно не смогу читать ее так, как читаю другие. Она уже изгажена. Можно, конечно, выудить из бака с водой какашку, но всякий, кто знает, что она там была, пить из него не станет, ведь так, а? Гм? Что? Разве не так? А? Гм?
– Но ведь никто же и не узнает, правда? – В моей голове нарисовалась вдруг жуткая картина: Фрейзер-Стюарт в приступе честности и фанатической ревностности посылает двум моим оппонентам скорбные письма, извещая их о налипшей на «Meisterwerk» грязи.
– Я просто гадаю, вполне ли вы уверены в вашей пригодности для карьеры ученого? Не были б вы счастливее в какой-то иной атмосфере? В средствах массовой информации, к примеру? В рекламе? В газете? На Бип-бип-си?
– Это моя атмосфера, – ответил я со всей твердостью, на какую был способен. – Я уверен.
– Очень хорошо, очень хорошо. Тогда возвращайтесь к себе и перепечатайте все заново, опустив на сей раз вымышленные и гипотетические нелепости. Возможно, что-то из-под обломков спасти и удастся. Но меня просто-напросто удивляет, что вы могли подумать, будто я соглашусь передать подобную околесицу моим коллегам. – Он вдруг громко рыгнул и похлопал себя ладонями по бедрам, раскачиваясь взад-вперед. – Нет уж, простите, да они решили бы, что я с ума соскочил, верно?
Я встал, собираясь уйти.
– Боже оборони, – сказал я, оглядывая Фрейзер-Стюарта от волос под сеткой до веревочных сандалий, – нам это вовсе ни к чему, не так ли?
Вырвавшийся из удушающего зноя его квартиры, я стоял, облокотясь о парапет Моста Сонетов, позволяя ветерку, какой уж он ни был, овевать, если можно так выразиться, влажный жар, скопившийся в укромных уголках моего тела, и пыл негодования, бушевавший в укромных уголках сознания. Подо мной скользили вверх и вниз по реке плоскодонки с оглушительно горланившими счастливыми сукиными детьми, только что покинувшими экзаменационные залы. Господи, думал я. Блин, банан и большая булка! Жизнь может быть такой гадостью.
– Эй!
На берегу с удобством устроились Джейми Макдонелл и Дважды Эдди, оба в плавках «спидос», воссоединившиеся и счастливые. Я робко помахал им рукой.
– Давай, Пиппи! Ныряй, тебе же хочется.
– Я, э-э, у меня все еще лежат ваши диски, – крикнул я вниз. – Забросить их как-нибудь?
Они расхохотались, рука каждого обвивала талию друга.
– О, забрось! Конечно, забрось. И сам вниз бросайся. Просим, просим! Забрось, забрось, забрось! Сбрасывайся!
За спиной моей вдруг раздался, напугав меня, голос:
– В счастливой молодости есть нечто, нагоняющее тоску, вы не находите?
Лео Цуккерман в немыслимой, надвинутой на лоб панаме, смотрел вниз, на Джейми и Дважды Эдди, корчившихся от хохота на речном берегу.
– Настало лето, – сказал он, – осень уж в пути?[50]
– Им нет до нее дела, – с мрачным удовлетворением отозвался я. – Они второкурсники. Ни вступительных экзаменов, ни выпускных. Одно лишь вино да Гребная неделя.
– И разумеется, быть геем, как это теперь называется, так модно.
– Ну, наверное…
– Красный треугольник – эмблема гордости.[51] А известно ли вам одно обстоятельство, Майкл? Известно ли, что в лагерях существовали и треугольники лиловые?
– Правда? Для кого же?
– Догадайтесь.
– Лиловый треугольник?
– Лиловый.
Я поразмыслил. Такие вещи я, предположительно, должен был знать.
– Не для цыган?
– Нет.
– Э-э… тогда для уголовных преступников?
– Нет.
– Лесбиянок?
– Нет.
– Коммунистов?
– Нет-нет.
– Черт. Дайте подумать…
– Странная игра, не правда ли? Пытаться думать на манер нациста. Пытаться представить совершенно новую категорию людей, которых вам следует ненавидеть. Ну-ка, еще разок.
– Художники по интерьеру?
– Нет.
– Душевнобольные?
– Нет.
– Словаки?
– Нет.
– Поляки?
– Нет.
– Э-э… мусульмане?
– Нет.
– Казаки?
– Нет.
– Анархисты?
– Нет.
– Журналисты?
– Нет.
– О боже. Сдаюсь.
– Сдаетесь? Не можете ничего придумать?
– Магазинные воришки? Хотя нет, вы сказали, не уголовники. М-м, группа расовая?
– Лиловый треугольник? Нет, не расовая.
– Политическая?
– Нет, не политическая.
– Тогда какая же?
– Хорошо. Я скажу вам, для кого предназначались лиловые треугольники. Скажу, когда вы посетите меня в моей лаборатории. Итак, когда же это случится?
– О. Ну, видите ли, у меня появилась дополнительная работа, и…
– Возможно, вам удастся прийти завтра утром? Я был бы очень рад. Мы бы поговорили заодно и о вашей диссертации.
– Так вы ее уже прочитали?
– Разумеется.
Я ожидал хоть какой-нибудь похвалы, однако Лео ничего больше не прибавил. Вот чего мы, писатели, терпеть не можем. Я хочу сказать, ну, сами понимаете, господи боже, ведь это же мое детище. Представьте, вы лежите в родильном отделении и все ваши друзья набились туда, чтобы посмотреть на только-только рожденного вами младенца.
– Так это он, что ли?
– Да, – вздыхаете вы, заливаясь румянцем материнской гордости.
Молчание.
Я хочу сказать, ну, право же… так нельзя. Я ведь не говорю, что вы обязаны благоговейно преклонять колени, предлагая чаши с ладаном и сосуды со смирной,[52] но хоть что-то, хотя бы тихое «аааааах»… что угодно.
– Хорошо, – сказал я, поняв наконец, что никакого упоенного бульканья и восторгов мне не дождаться, и покраснев немного от мысли, что и Лео тоже счел полеты моей образной мысли неприемлемыми и нескромными.
– Значит, завтра утром в вашей лаборатории?
– «Нью-Резерфорд», третий этаж. Там вам любой дорогу покажет.
– Франкмасоны? – спросил я.
– Виноват?
– Их не франкмасоны носили? Лиловые треугольники?
– Нет, не франкмасоны. Завтра скажу. Всего доброго.
И он оставил меня, понурившегося под жгучим солнцем на мосту. Подо мной Дважды Эдди и Джейми, склонясь с бережка к воде, тянули из нее за рыболовную лесу бутылку белого вина. Что бы с ними ни приключилось в дальнейшем, думал я, у них останутся дни наподобие этого – останутся, как нечто, достойное воспоминаний. В промозглых февральских провинциальных библиотеках, полысевшие и ожесточенные, трясущиеся над своими чашками «Эрл Грея»; в местных редакциях хроники новостей, борющиеся за увеличение бюджета; в школьных классах, едва справляющиеся с хаосом, который создает презирающее их хулиганье; в театральном буфете «Ковент-Гардена», щебечущие о тесситуре оперной дивы, – куда бы их ни занесло, они навсегда сохранят воспоминания о себе девятнадцатилетних: с плоскими животами, сияющими волосами и бутылками охлажденного в реке «Сансер». Этот город, думал я, принадлежит им в куда большей мере, нежели мне; и все же именно я мог бы поселиться в нем навсегда. Для них он навек останется островом во времени, оазисом в пустыне прожитых ими лет, а для меня может вскоре обратиться в место работы, столь же гнетущее и насыщенное сплетнями, как и любое другое.
Ой, да заткнись, Майкл. Оазис в пустыне прожитых лет. Тьфу! Черт знает что за дерьмо иногда в голову лезет. Как знать, может, куда лучше прострадать всю жизнь, чем изведать хоть какое-то счастье. Как знать, может, теми, чье детство и юность состояли лишь из любви, доверия и радости, боль страданий переживается намного острее. Я о том, раз уж мы заговорили про оазисы и пустыни, что тому, кто вырос в Зеленой долине штата Вермонт, приходится в Сахаре куда более туго, чем туарегу, ничего другого и не видавшему. Воспоминания измученного жаждой человека о несчетных, недопитых в более счастливые времена стаканах ледяного чая – утешение так себе, верно? Скорее уж это разъедающая душу пытка. Не исключено, что детство лучше иметь несчастное, голодное и полное жестокостей. По крайней мере, оно научит тебя оценивать вещи по истинному их достоинству. Заставит до конца смаковать каждую выпавшую тебе капельку счастья. Нет, погоди, не может такого быть: страдание – травма, а стало быть – серьезная проблема. Нынче все так считают. Страдание травмирует человека, убивает наслаждение как таковое. Отупляет его, умерщвляет способность чувствовать, отдаляет от людей. Да все что угодно. Джейми и Дважды Эдди наслаждались собой, упивались мгновением, срывали цветы удовольствий, со страстью переживали каждый удар своих сердец – тонко чувствующие, неразрывно связанные с миром. Вот и отлично, что бы их там ни ожидало в будущем.
Теперь насчет моего будущего. Возможно, Фрейзер-Стюарт прав, возможно, я не создан для карьеры ученого. Я хочу сказать, да ну ее в задницу. Я знал, знал в самой глубине души, что подсовывать ему весь этот конский навоз – безумие. Черт, да ведь знал же. И все-таки некий засевший во мне бес науськал меня включить в диссертацию эти пассажи и показать их ему. Возможно, я хотел спровоцировать его на то, чтобы он меня завалил.
Может ли кризис среднего возраста произойти в двадцать четыре года? Или это всего-навсего кризис взросления, нечто такое, к чему мне придется привыкать и привыкать, пока я не удалюсь тряской походкой в вечное забвение? Весь последний год, сообразил я, мне приходилось переносить эту боль, это струение расплавленного свинца в моем желудке. Каждое утро, стоило мне проснуться, вглядеться в потолок и вслушаться в тихое похрапывание Джейн, как он затоплял мое нутро, – темный прилив понимания того, что мне предстоит прожить еще один убогий день. Можно ли как-нибудь выяснить, что это такое – заскок или самое обычное дело? Никак нельзя. Безостановочно плодящиеся в университете Христианские общества назвали бы это признаком того, что тебе необходимо найти в твоей жизни место для Христа. Что боль твоя порождена душевной пустотой. Да, правильно. Еще бы. Именно эту пустоту, я полагаю, и заполняют наркотиками. И еще я думал, что, может статься, для этого и существует Джейн. Нет, не Джейн, – Любовь. Да, но тогда получается, что либо я не люблю Джейн по-настоящему, либо перед нами еще одна лопнувшая теория. Или что – томление творческого духа? Быть может, душа моя стремится выразить себя в Искусстве? Но: рисовать не умею, писать не умею, петь не умею, актерствовать не умею. Отлично. И что же мне остается? Надо полагать, подобие сальерианства. Проклятие искрой божественного огня, достаточной, чтобы распознавать его в других, но не достаточной, чтобы самому создать что-либо. Ай, вздор…
Вполне возможно, тут не что иное, как страх перед вступлением в переходный период жизни. Тот самый, в который перед вами разверзается пустота. Когда вы стоите на краю, на пороге. Пустота – это дверной проем, сквозь который вам так всегда не терпелось пройти, однако, приближаясь к нему, вы невольно оглядываетесь назад и гадаете, хватит ли вам духу на это.
Самокопание, вот что это такое. Мой вечный, неизменный порок. Я все время приглядываюсь к себе. Вот он я. Шагаю по улице – что видят при этом другие? Это я, будущий доктор Янг. Я, идущий под руку с девушкой. Я, вот в этой самой шапчонке, кто я – мудак или свойский малый? Шагаю, стало быть, – под мышкой книги, ни дать ни взять многоумный историк, невозмутимый ученый муж на двух голых ногах, чувак что надо! И что получается? – комплекс Пруфрока.[53] Могу я съесть этот персик? А эти все – исподтишка смеются надо мной? Или не смеются? Или это я думаю, будто они надо мной смеются. Я, наблюдающий за собой, наблюдающим за другими, наблюдающими за мной. Как от этого избавиться? В чем тут фокус? Может, я и смогу научиться не краснеть, но самокопание-то так при мне и останется. Не-ет…
Критическим, утверждает словарь, называется то, что находится в состоянии кризиса или имеет к нему отношение. Таким образом, жизнь моя достигла критической стадии. Мы имеем точку опоры. Диссертация – это те петли, на которых держится дверь в мое будущее. Выходит, я намеренно или неосознанно не стал эти петли смазывать, оставил громко скрежещущими – просто на случай, если мне вдруг приспеет охота метнуться назад и выбрать другую дверь. Теперь же мне велено вернуться и смазать их. И дверь станет распахиваться беззвучно, и все будет хорошо и гладко. Это и есть то, чего я хочу?
В конце концов Джейми и Дважды Эдди прикончили вино, уложили вещички, встали, помахали мне на прощанье ручками и преувеличенно осторожной, притворно опасливой поступью удалились вверх по течению, совершенно как эдвардианские дети, пробирающиеся берегом моря по заводям в скалах. Слеза сорвалась с кончика моего подбородка и присоединилась к речной воде, вершившей путь к океану.
Как нарваться на неприятности
Окно в мир
Физика нынче в моде. В наши дни, увидев двух беседующих студентов литературного отделения, вы можете почти с полной уверенностью поручиться – речь у них идет о кошечке Шрёдингера, или Хаосе, или Катастрофе. Двадцать пять лет назад все молотили языками насчет Э. М. Форстера и Ф. Р. Ливиса;[54] потом их сменили Структурализм и Стивен Хит с его приживалами и фанатками, странствующими в поисках Различия и Деконструкции; ныне же здесь кишмя кишат американские туристы с портретами Нильса Бора на футболках, исполненные надежд прикоснуться к шинам кресла, в котором разъезжает Стивен Хокинг,[55] и познать тайны Вселенной, коими эти шины напичканы.
Числа есть Альфа и Омега науки. Я хочу сказать, что без них в ней ничего добиться нельзя.
Вот, скажем, предыдущие два предложения в числовом отношении неверны. Числа, следовало сказать мне, суть Альфа и Омега науки, и без них в ней нельзя добиться чего бы то ни было. Ведающая работой с числами часть моего мозга лишь ненамного больше той, что занимается проблемой новозеландской политики или исходом турнира мастеров ПАГ.[56] Французский язык у меня школьный и познания в арифметике тоже. Ровно такие, какие позволяют выходить сухим из магазинов и ресторанов. Если я расплачиваюсь за тридцатипенсовую газету монетой в один фунт, мне хватает ума ожидать семидесяти пенсов сдачи. А поставив пять фунтов на победителя дерби при ставках три к одному, я расстраиваюсь, не став на пятнадцать фунтов богаче. Но уже при ставке семь к двум лоб мой покрывается потом. Поганая штука – числа. Как и большинство людей моего поколения, я покорно читал или пытался прочесть популярные изложения основ теории относительности, квантовой механики, единых теорий поля, «Теории всего» и тому подобного. И вероятно, я не сильно уклонюсь от истины, если скажу, что мне раз двадцать объясняли, печатно и устно, что такое электрон, однако я и поныне толком не помню, какой он – отрицательный или положительный. Пожалуй что отрицательный, потому что протон звучит как-то положительнее (хоть и не так положительно, как позитрон, что бы ни представлял собою любой из этих миляг), однако какое именно качество знаменует его отрицательность, я ни малейшего понятия не имею. Все маленькие частицы, из которых состоит атом, должны каким-то образом соединяться и связываться в одно, в этом я уверен. Однако как может частица обладать отрицательным качеством или зарядом, этого я вам не скажу, хоть вытрясите из меня душу. Возможно, отрицательный заряд для того только и нужен, чтобы не дать развалиться посвященным атому книгам.
Я читал книги, специально, насколько я способен судить, предназначенные для того, чтобы позволить ничего в естественных науках не смыслящим якобы интеллектуалам вроде меня нести на званых обедах откровенную околесицу насчет ускорителей частиц, сильного взаимодействия и очарованных бозонов, книги, написанные простым языком, с большими схемами, куцыми словами и минимумом формул, – и тем не менее, закрыв любую из них, я оказывался решительно неспособным припомнить хотя бы один научный факт, не говоря уж о принципах, с ним сопряженных. И однако ж, скажите мне – тихим голосом, средь шумного бала, – что сражение при Баннокберне произошло в 1314 году, и я буду помнить это до конца моих дней. Я что хочу сказать – а в чем, собственно, дело? 1314 ведь тоже число, не так ли?
Помню, читал я однажды о том, как поссорились Роберт Гук с Исааком Ньютоном. По уверениям Гука, Ньютон спер у него мысль о том, что тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный квадрат разделяющего их расстояния. Та к никогда его и не простил. Ну вот, я отчетливо помню, как заучивал эту фразу в школе, полагая, что она будет хорошо смотреться в моей посвященной семнадцатому веку письменной работе. (Историки любят эдак мимоходом раскланиваться с естественниками – Дарвином, Ньютоном, всей этой публикой, – пара замечаний о «механистических вселенных» и «перевороте в научных взглядах викторианцев» выглядит в исторических работах столь же почтенно, как старые, надежные «нарождающиеся средние классы». Как всем нам хорошо ведомо, в истории нет периода, применительно к коему вы не могли бы с уверенностью разглагольствовать относительно нарождающегося, обретающего новую уверенность в себе среднего класса, как не существует в ней, после шестнадцатого столетия, и периодов, не позволяющих говорить о «перевороте в прежних научных взглядах».) Ну-с, я радостно заучил сентенцию Гука – Ньютона и даже записал ее. И, записывая, вглядывался в каждое слово. Совсем простые слова. «Тела притягивают друг друга…», тут ничего сложного нет. Очень легко запомнить – особенно школьнику, который, взглянем правде в лицо, в каждое мгновение своего сна и бодрствования испытывает притяжение всех и всяческих тел. Мы, однако же, знаем, что для ученого слово «тела» означает, как правило, «объекты в пространстве». «Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется…» Тоже более-менее понятно, – в конце концов, изменяется практически все. Стало быть, Луна притягивается Солнцем, но, возможно, не так сильно, а возможно, и сильнее, чем Землей. С этим я как-нибудь слажу. «Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный…» Привет. Обратный, да? Нас ждут неприятности. Перископ опустить. Включить сирену. «С силой, которая изменяется как обратный квадрат разделяющего их расстояния». Погружение, погружение, погружение! Я хочу сказать, ну ладно, что такое квадрат, мне известно. Четыре – это квадрат двух. Шестнадцать – квадрат четырех и так далее. Но обратный? Бросьте-бросьте, вы должны признать, что на этом мозги можно вывихнуть. Что значит «обратная сила»? И уж коли на то пошло, что такое обратное число? Или обратный квадрат – это то же самое, что квадратный корень? Дает ли обратный квадрат четырех минус четыре? Или, скажем, два? Или четверть? Или минус шестнадцать? Понимаете, в чем сложность? Хотя нет, если вы естественник, то не понимаете. Вы только одно и видите: Майкл Янг туп как дубовая планка.
«Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный квадрат разделяющего их расстояния…» Честно вам говорю, я уверен, что могу вглядываться в эту фразу с нынешнего дня и до второго пришествия, но так ни к чему и не прийти. Умелый популяризатор, тупой, если угодно, как Планк, смог бы, наверное, подобрать для меня хорошую аналогию, вроде: «Когда вы бросаете камень в бочку с водой, рябь расходится от него вовне, так?» Или: «Представьте себе Вселенную как бублик, так вот…» И пока он будет говорить, я, при условии, что он умело выбирает слова и образы, возможно, и смогу уяснить описываемый им принцип. Однако это ничем мне не поможет, когда я натолкнусь на новую фразу. «Тела иногда притягивают друг друга с постоянной силой, определяемой как обратный квадрат их массы» или еще чего-нибудь. Ему пришлось бы тогда начать все его изнурительные труды заново, с новой моделью или новой аналогией. Это все равно что пытаться удержать в руках живого лосося – чем крепче я его стискиваю, тем дальше он, выскользнув из моих рук, улетает. Поганая штука – числа.
В голове моей застревают лишь анекдоты. Эйнштейн любил мороженое, парусные лодки и скрипки. Музыкант, с которым он как-то играл дуэт, сказал ему: «Ради бога, Альберт, вы что, считать не умеете?» А сам Эйнштейн говорил разные разности о Боге, который не играет с Вселенной в кости. Говорил, что не знает, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, зато точно знает, каким будут сражаться в Четвертой – камнями и палками. Эсэсовская газета нападала на Гейзенберга за то, что он «белый еврей», «дух от духа Эйнштейна», и спасло Гейзенберга одно только близкое знакомство его мамочки с мамочкой Гиммлера. Как-то под вечер она, сидя в берлинской парикмахерской под сушилкой для волос, сказала: «Вели своему Генриху отцепиться от моего Вернера», на что госпожа Гиммлер ответила: «Но Генрих считает принцип неопределенности еврейским враньем». «О, Вернер, он Вернер и есть, – отозвалась госпожа Гейзенберг. – Он вовсе ничего такого не думал. Просто выкаблучивался, как обычно, пытаясь привлечь к себе внимание». Что еще я знаю о физике? Ах да, Макс Планк, отец квантовой механики, был также отцом Эрвина Планка, одного из тех, кого гестапо казнило в 1944 году, после неудачной попытки взорвать Гитлера в его бункере. Эрвином, разумеется, звали и Роммеля, тоже пострадавшего после крушения этого заговора. У Шрёдингера имелась сиамская кошка. Слово «кварк» заимствовано из «Поминок по Финнегану». Один из Боров сказал как-то, что, если квантовая механика вас не шокирует, значит, вы в ней ничего толком не поняли. Когда Крик и Уотсон создавали свою похожую на пучок перекрученных макарон модель ДНК, им помогала женщина, которой, как многие считали, следовало бы разделить с ними Нобелевскую премию. Нобель, уж если на то пошло, изобрел динамит, а Фридрих Флик,[57] поддерживавший нацистов и заработавший во время Второй мировой миллионы, используя рабский труд, владел компанией «Динамит Нобель». В 1972 году Флик оставил своему сыну-плейбою миллиард фунтов, так ни разу и не извинившись перед теми, кто все-таки выжил на его рабских фабриках, так и не пожертвовав им ни цента. Внук Флика попытался учредить в Оксфорде кафедру «Европейского взаимопонимания», но отказался от этой идеи, когда профессора этики назвали его деньги «грязными». Понимаете? Все, что я знаю о физике, сводится к истории. Нет, буду честным. Все, что я знаю о физике, сводится к сплетням.
– Ньютон-то с Лейбницем – разругались, ну просто вдрызг.
– Не может быть!
– Чистая правда.
– Лейбниц говорит, Ньютон у него метод флюксий потырил.
– Иди ты!
– Ага. Говорит, он может называть его исчислением или как ему заблагорассудится, да только это все равно принаряженный в пышный парик метод флюксий, а Исаак только до этого самого парика первым и додумался.
– А что такое, если быть точным, метод флюксий? И заодно уж, что такое исчисление?
– Да какая тебе разница? Главное, что они друг с другом больше не разговаривают.
– Фантастика!
– А то… Мало того, Вольфганг Паули с Альбертом Эйнштейном тоже расплевались.
– А эти-то с какой стати?
– Я слышал, чего-то там у них насчет нейтрино не сладилось. Альберт в него не верит, а Вольфганг злится.
– Нейтрино?
– Да, это, по-моему, такие таблетки от несварения. Альберт же теперь в Америке живет, ну и предпочитает «Ролэйдс».
– Господи!
И так далее…
Естественная наука, говорят естественники, это и есть настоящая история. Некая смесь, исходившая паром и булькавшая на плитке Космоса и х миллиардов лет назад породившая Землю, вот она – настоящая история; то, что х миллионов лет тому назад произошло в гипоталамусе и в коре головного мозга, наделив хомо сапиенс сознанием, – вот она настоящая история. Ублюдки. Поганая штука – числа. Их попросту не существует. Нет такой сущности, как Четыре. Хуже того, совсем уж нет и такой сущности, как Минус Четыре. Я это о чем – чего ж удивляться тому, что после Грешема[58] да Декарта мир начал разваливаться. Это они разрешили отрицательным числам разгуливать по планете. Тысячи лет совершенно справедливого запрета на ростовщичество, и вдруг – бац! – дебет, кредит, отрицательные числа и явление «минус одной сотни тонн кофе». Отрицательная маржа. От долга к долговой тюрьме, от кредита к кретинизму, от ипотеки к импотенции. Поганая штука – числа.
Прилив этих горестных мыслей породила очередная ссора с Джейн. Я возвратился в Ньюнем, предвкушая теплые объятия, кои вознаградили б меня за катастрофу с Фрейзер-Стюартом.
– Господи боже ты мой, – сказала Джейн. – А чего ты, собственно, ждал? Ты же не собирался и в самом деле вставить туда эту сентиментальную блевотину? В ученую-то диссертацию?
Уязвленный, я объяснил, что относился к моим вставкам как к стихотворениям в прозе.
– Отличная мысль, Пип. Стихотворения в прозе. Надо попробовать втюхать что-нибудь подобное в мою следующую статью. «Он дергался в корчах, покрывая ее, и в голове его наперегонки неслись мысли о свободе любовного акта. Чистота! Стерильность! Свобода соития без последствий! Он вдруг ощутил себя господином времени и пространства! Как если б…»
– Я привез из «Сайнсбериз» очищенные куриные грудки, – холодно прервал я Джейн. – Пойду нарежу их кубиками.
Я с подчеркнутой тщательностью обмазывал мясо горячим оливковым маслом, а Джейн между тем раскупоривала щеголеватую бутылку вина, и вид у нее был при этом куда более раздражающим, чем то способен описать какой угодно язык. Вид этот сам по себе являл то, что мы, историки, именуем casus belli.[59]
– Естественникам легко. Вы просто складываете числа. Да – нет, верно – неверно, черное – белое.
– Чушь собачья, дорогой.
– Ты сама это говорила. Все ответы запечатаны в разбросанных по Вселенной конвертиках. Тебе остается только вскрывать их. Вон тот ген делает человека музыкантом, а этот – святым. Эта частица говорит тебе о полном весе Вселенной, а та – о том, с чего все началось.
– Ну разумеется, именно так я и говорила. И если бы мы, бездушные тупицы, были столь же разумны, как вы, тонко чувствующие историки, мы бы уже столетия назад разложили все по полочкам.
– Я этого не говорю! – и я гневно пристукнул сковородкой об стол. – Я хотел сказать совсем не то, и ты отлично это знаешь. Ты нарочно притворяешься, будто не понимаешь меня, разве не так?
– Пойду-ка я телевизор смотреть. Твое вино на столе.
Пока я размешивал зеленую пасту тайского карри и ополаскивал рис, в голове моей складывались, в беспорядке снуя и сумятясь, новые доводы. Высокомерие, говорил я себе, до чего же они высокомерны, эти господа. Каждое умственно отыгранное мной очко сопровождалось ударом деревянной ложки о стол или хлопком крышки о котелок с рисом. Естественники, похоже, напрягают всю, какая им выпала, волю, чтобы нарочно отыскивать самые пустяковые в мире проблемы и решать именно их. Искусство, вот что идет в счет. Счастье идет в счет. Любовь. Добро. Зло. Я со стуком закрыл холодильник. Только они в счет и идут, и, разумеется, именно их естественные науки, в своем победном шествии, предпочитают игнорировать. Минут пять еще – и, пожалуй, можно будет добавить воды и бульона. Вся ваша публика относится к искусству так, точно оно – болезнь – мать твою, до чего же оно горячее, – или как к эволюционному механизму, или – черт, сломал-таки – мы ни разу не слышали от вас: «О, нам удалось установить, что электроны порочны, а протоны добродетельны», ведь так? В вашей вселенной все остается нравственно нейтральным, а между тем двухлетний ребенок способен сказать вам, что ничего нравственно нейтрального попросту не существует. Ублюдки. Долболобы. Задаваки, заблудшие, забубенные зубрилы.
– Готово!
– Секундочку!
Я завернул подогретые ломти хлеба в бумажные салфетки и налил себе еще стаканчик. А сколько презрения, сколько душераздирающего, надменного презрения к тем, кто пытается перейти топкое болото действительности, всю эту грязную жижу людских желаний и побуждений. Потому что наш метод, видите ли, «ненаучен», – да, разумеется, он ненаучен, дорогая моя. Настоящие проблемы ставят не числа, а люди.
– Мм-хм! Как вкусно пахнет.
– Знаю я, что ты думаешь, – говорю я, полагая, что все это время Джейн, сидя перед телевизором, тоже перебирала свои аргументы. – Ты думаешь, что понимать науку способны одни естественники. Всякому, кто не прошел через ритуал посвящения, говорить о ней автоматически запрещается. А вот естественник имеет столько же прав разглагольствовать о Наполеоне и Шекспире, сколько и любой другой человек.
– Хаа! Горячо! – Джейн, чтобы потянуть время и обдумать услышанное, отходит к раковине и наливает себе воды.
– Я только одно и говорю, – норовлю я выжать все, что удастся, из отыгранного очка, – мы проводим на этой планете лет семьдесят-восемьдесят. Что для нас важнее – понять физические принципы устройства атомной бомбы или разобраться в побуждениях человека и удержать его от ее использования?
– А почему бы не заняться и тем и другим?
– Да. Конечно. Еще бы. В идеальном мире – разумеется. Но давай, знаешь ли, смотреть правде в лицо. Для того чтобы разобраться в предмете столь сложном, как устройство ядерной бомбы, необходимо посвятить себя изучению определенной дисциплины, а это требует времени и упорства…
– Да я тебе объясню его меньше чем за четыре минуты. А вот если бы кто-то объяснил мне за столь же малое время побуждения человека, ведущие к войне и разрушениям, я бы просто взвыла от восторга. Передай мне бутылку, пожалуйста.
– Ага! Вот именно! Именно! – Я тычу пальцем в стол. – Наука с ее простотой – все равно что религия. Она вроде бы и дает тебе ответы, однако…
– Пип, ты сам только что сказал – понимание предмета столь сложного, как ядерная бомба, требует времени и упорства.
– Не говорил я этого.
– А, ну ладно, похоже, у меня начались слуховые галлюцинации. Извини.
– Послушай! – мною уже владеет лихорадочное возбуждение. – Я же не говорю, что естественные науки чем-то нехороши…
– Уф!
– …просто они занимаются не тем, что по-настоящему важно.
– Хотя, с другой стороны, занимаются тем, что по-настоящему важно для науки. Поэтому, собственно, и существуют разные научные дисциплины, не так ли?
– Да, но не следует слепо поклоняться им как вместилищам окончательной истины.
– А любая наука так себя и ведет?
– Ты и сама знаешь, именно так!
– Нет, не знаю. Ты, во всяком случае, им слепо не поклоняешься. – Джейн начинает собирать корочкой карри. – Знаешь что, Пип. В Кембридже работают тысячи ученых-естественников. Познакомь меня с теми из них, что слепо поклоняются науке как вместилищу окончательной истины, и я добьюсь, чтобы их выставили из университета за слабоумие и некомпетентность. Идет?
– Ну понятное дело, ты этого признать не желаешь! Изображаешь скромницу, которая во всем сомневается, полную благоговения, «прикосновенную к лику Господню» и так далее, однако попытайся все-таки взглянуть правде в лицо, попробуй хотя бы!
– О! Гладко изложено. Добавки не найдется?
– На плите. Я ведь что говорю-то, что я говорю… науке известно далеко не все.
– Не все. Чистая правда. Но это же не означает, что ей ничего не известно, ведь так? Будешь еще?
– Спасибо.
– Послушай, Пип, то, что наука не в состоянии объяснить, как Моцарт писал музыку, вовсе не запрещает нам рассуждать о строении живой клетки. Или запрещает?
– Знаешь, с тобой совершенно невозможно разговаривать.
– Чего не знала, того не знала. Мне очень жаль. Я вовсе этого не хотела.
Вот вам и вся Джейн. И все ее ученые. Увертки, увертки и увертки. Поганый народ – ученые.
Когда я погасил свою прикроватную лампу, Джейн читала какого-то южноафриканского романиста. «Приятных снов», – пробормотала она.
Я смотрел в потолок.
– Тот человек, Гамильтон, – сказал я. – Помнишь? В Данблэйне. Тот, что пришел с четырьмя пистолетами в спортивный зал подготовительной школы. И через три минуты пятнадцать пятилетних малышей и их учительница были мертвы. Человеческое существо целится в ребенка и смотрит, как пуля разрывает тому череп. Представь себе кровь, полное непонимание в глазах детей. А он все делает, и делает, и делает это. Прицеливается и спускает курок.
Джейн отложила книгу:
– Что ты пытаешься мне сказать?
– Не знаю. Не знаю. Но разве не именно это мы и должны попытаться понять?
– Надеюсь, ты не собираешься использовать этот кошмарный случай как доказательство того, что твое сердце больше моего или что твой предмет важнее, чем мой.
– Нет, я не об этом. Не об этом. Правда.
– Пип, ты плачешь!
– А, ладно, пустяки.
На следующее утро, катя по Куинз-роуд, я дал себе исчерпывающее объяснение происшедшего. Унижение. Все очень просто. Фрейзер-Стюарт уязвил меня гораздо сильнее, чем я готов был признать. И я, обозлившись, залился внутренне краской стыда. Я вел себя как забалованное дитя, поскольку боялся близящегося перехода из студентов в мир взрослых людей. Что клево, то клево. Все было не более чем маленькой, естественной вспышкой раздражения. Что-то похожее я уже говорил – о двери, о том, как медлишь на пороге. Говоря «прощай» долгому, счастливому времени, когда ты был правильным, умненьким мальчиком, писавшим сочинения и получавшим похвалы, и писавшим новые, после которых его снова осыпали хвалами. В семь лет я был умнее большинства десятилеток, в четырнадцать умнее семнадцатилеток, а в семнадцать – большинства двадцатилетних ребят. Теперь мне двадцать четыре, и я нисколько не умнее сверстников, которых вижу вокруг, да и вообще все это больше уже не скачки на приз за одаренность. Все они теперь идут со мной вровень, а я уяснил, понял, с резким уколом ужаса в животе, – опасность в том, что я-то останусь стоять на месте, а они понесутся дальше. Но ведь конечно же, хотя бы одну ханжескую, пуританскую вспышечку гнева перед тем, как вступить на долгий, изнурительный путь наверх – к порядку и прилежанию, совестливости и старательности, тщанию и труду, – позволить себе я мог? Разочек подергаться, покричать, глядя, как затягивается тучами слепящий, сверкающий небосвод юности?
Как я уже говорил, такая временами чушь в голову лезет.
Я плавно летел, низко склонясь над рулем, по Мадингли-роуд. Впереди вставали Лаборатории Кавендиша – не кафедральный собор антихриста, но самое обычное строение, скопление ангаров на краю города. У работавших здесь людей были сердца добрые и сердца злые, как и у всех прочих. Они не считали себя хранителями единственного ключа от человеческого разума. Просто охотились на свои частицы, гены, силы, волны, так же как историки охотятся на документы или орнитологи озирают небеса, выглядывая красного коршуна. Джейн, наверное, решила, что я рехнулся. Впрочем, нет, она все понимает, да благословят небеса ее попку. Джейн точно знает, что к чему, и ей оно нравится. Этакое мамочкино наказание.
Изначальные лаборатории Кавендиша, те, в которых Резерфорд острил топор, расколовший первый атом, расположены в центре Кембриджа, а вот новые их здания стоят на окраине, за Черчилль-колледжем, на пути к Американскому кладбищу и Мадингли.
Закат все тот же – море меда
От Мадингли до ферм Шелфорда?[60]
Нет, Руперт, дорогуша, нет. Боюсь, там теперь все больше туман, состоящий главным образом из окиси углерода. И церковные часы не стоят уже на без десяти три. А насчет того, подают ли по-прежнему мед к чаю, так это надо спросить у Джеффри Арчера, поскольку старым домом священника владеет теперь он. Возможно, кому-нибудь следовало бы написать новый «Грантчестер»:
Столбы стоят ли в комьях грязи
Немою стражей безобразий?
А ночью ножичком пырнут,
И бляди, свистни, тут как тут?[61]
Бог да благословит наше столетие. Главное лабораторное здание ничем не отличается от офисного: сплошное стекло, вращающиеся двери и «Приемная! Могу я вам чем-нибудь помочь?». Собственные форменные фуражки, журналы, в которых расписываются визитеры, ламинированные карточки на грудях и прочая лабуда.
Если существует слово, пригодное для описания нашего века, так это, скорее всего, Безопасность, или, говоря иначе, Небезопасность. От невротической небезопасности Фрейда, через небезопасности Кайзера, Фюрера, Эйзенхауэра и Сталина, прямиком к ужасам, подстерегающим граждан современного мира:
ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ!
Вражины. Они вскроют ваш автомобиль, обчистят ваш дом, нападут на ваших детей, ввергнут вас в адское пламя, убьют вас, чтобы разжиться деньжатами на наркоту, заставят вас обращаться лицом к Мекке, заразят вашу кровь, поставят ваши сексуальные предпочтения вне закона, обесценят вашу пенсию, загрязнят ваши пляжи, подвергнут ваши мысли цензуре, украдут ваши идеи, отравят ваш воздух, а после примутся угрожать вашим ценностям и уничтожать вашу безопасность. Держите их подальше от нас! Посадите под запор! Уберите с глаз долой! Заройте в землю!
Половина моих школьных друзей уже управилась – прямая противоположность моей, описанной ранее, безуспешной попытке на этот счет – с успехом перекреститься в Спидеров, Боззлов, Во-ло, Тэтлов, Грипов и Джанг, продырявить любые свободные складки плоти, какие у них отыскались, навтыкать туда золота, серебра, меди и выступить в путь. Они проходят маршами по главным улицам южных городов – в респираторах, под флагами, на коих изображены черепа и скрещенные кости; они сражаются с автомобилями, с Актом об уголовном судопроизводстве, с хайвеями, с рубкой деревьев, со строительством электростанций… со всем на свете. Они хотят попасть под запор; им нравится выглядеть опасными; они упиваются своей отверженностью.
А меня они считают козлом.
В прошлом году я ездил к Джанге – в Брайтон, в одно из тех мест, где кучкуются она и ее друзья по скитаниям, – и могу сказать вам, о да, могу вам сказать, что эти дети свободы сочли меня совершеннейшим козлом. Заметьте, однако, что будь я настоящим козлом и козлом тошнотворным, я бы сейчас начал распространяться о том, как они никогда не возражали против того, что я покупал им в пабах выпивку за выпивкой и еще раз выпивку, как они, посылая меня в восемь утра в мини-маркет, чтобы я накупил им молока, хлеба и газет, решительно никаких угрызений совести не испытывали. Я сказал бы также, что вполне можно быть доблестной эковоительницей и не пахнуть при этом, как давно скончавшаяся старая побирушка. Я добавил бы, что, живя на благотворительные подачки, героем способен быть всякий. Однако аргументы подобного рода ниже моего достоинства, и потому я лучше ничего говорить не стану.
Теперь вот стою посреди вестибюля в озерце солнечного света и с любезным видом сношу неодобрительные взгляды тех, кто шлепает, плеща полами своих облачений, мимо. Ну да, на мне же нет лабораторного халата. Значит, меня надо убить. Э-хе-хе! Н у, народец…
– Майкл, Майкл, Майкл! Простите, ради бога, что заставил вас ждать. – Белый, покрытый в положенных местах пятнами халат Лео, рукава которого на три комичных размера короче его рук. – Пойдемте, пойдемте, пойдемте.
Послушный щеночек, я следую за ним по коридорам, на ходу приподымаясь на цыпочки, чтобы сквозь высоко прорезанные в стенах оконца разглядеть лаборатории.
Мы подходим к двери. «К. 1.54 (Д). Профессор Л. Цуккерман». Лео вставляет карточку – вспыхивает зеленая лампочка, что-то попискивает, щелкает замок, и дверь открывается. Я медлю на пороге и горестно бормочу на манер Майкла Хордерна в «Орлином гнезде»:[62] «Безопасность? Здесь ее обратили в шутку». Лео в тревоге оборачивается, и я, переигрывая, бубню себе в лацкан: «Он внутри. Дайте нам тридцать секунд и приступайте к отвлекающей атаке».
До Лео доходит, я получаю в награду натянутый смешок, и, словно в ответ на него, над нашими головами, пощелкивая, загораются лампы дневного света. Я понимаю, моя детская потребность выдать шуточку вызвана напряжением Лео, его едва ли не страхом, от которого и мне становится не по себе. Страх то накатывает на Лео, то стихает, решаю я. У него дома, когда Лео беседовал со мной о диссертации, страх исчез, сменившись добродушной шутливостью. А как только разговор закончился и Лео пригласил меня сюда, в глазах его снова возникло загнанное выражение.
Не знаю толком, чего я ожидал. Чего-то. Я ожидал чего-то. В конце концов, с какой стати кто-то вознамерится показывать тебе свою лабораторию, если лаборатория эта – офис офисом и ничего больше?
Блестящая маркерная доска без единой формулы или цепочки перевернутых вверх тормашками греческих букв. Ни осциллографов, ни генераторов Ван дер Граафа, ни длинных стеклянных трубок с пульсирующими в них лиловыми соцветиями ионизированной плазмы, ни глубоких раковин, покрытых пятнами устрашающих химических соединений, ни герметичных стеклянных шкафов с механическими манипуляторами, позволяющими перемещать из одного контейнера в другой крупицы жутко радиоактивных веществ, ни плаката с высунувшим язык Эйнштейном, ни ласкового компьютерного голоса, приветствующего нас с эксцентричным, запрограммированным дружелюбием: «Доброго утречка, Лео. Еще один дерьмовый денек, не так ли?» Коротко говоря, ничего такого, чего вы не смогли бы увидеть в офисе вашего местного агента по продаже «тойот». Еще и меньше того, поскольку у вашего местного агента по продаже «тойот», по крайности, имелся бы на письменном столе калькулятор, компьютер, горшок с цветком, электронный дневник, факс, мобиль какой-нибудь для снятия напряжения и календарь на нынешний год. Хотя нет, постой-ка. Компьютер, во всяком случае, тут есть. Небольшой ноутбук с подключенной сбоку мышкой. Имеются также, готов признать, полки с книгами и журналами, а вместо календаря – периодическая таблица элементов.
Лео замечает мое разочарование.
– Боюсь, это не то место, где творят «еще непросохшую», что называется, науку.
Я подхожу к периодической таблице и с умным видом вглядываюсь в нее – надо же выказать хоть какой-то интерес.
– Она осталась от моего предшественника, – сообщает Лео.
Ну вот, приехали.
Я оглядываюсь. Почтенно традиционные слова «Так, значит, вот где все и происходит» прозвучали бы здесь довольно глупо, поэтому я просто с силой киваю, как бы одобряя запахи и общий тон комнаты.
– Если у меня появляется нужда в оборудовании, я отправляюсь в другое помещение и арендую там время на больших машинах.
– А. Ну да. Выходит, вы в основном занимаетесь физикой теоретической?
– А разве существует еще какая-то? – Впрочем, произносится это любезно, без раздражения.
Лео подходит к ноутбуку, поднимает крышку. Я вижу теперь, что он не похож на компьютеры, какие мне доводилось видеть прежде, и по дрожанию длинных пальцев Лео понимаю – для него этот миг важен. Верхняя часть компьютера достаточно привычна – прямоугольный экран. А вот клавиатура мигом приковывает мой взгляд. Поверху ее, там, где обычно находятся функциональные клавиши, тянется ряд квадратных кнопок без каких-либо значков. Под каждой от руки нанесены желтым фломастером цифры, буквы и некие символы. Основную же часть клавиатуры – ту, которую положено занимать буквам и мышиной панельке, – покрывают квадратики черного стекла, в котором отражаются лампы дневного света.
В нижней части испытательного стенда, на котором стоит эта самоделка, – полагаю, использование слова «стенд» здесь вполне правомерно, что ни говори, мы все-таки находимся в научной лаборатории, как бы она ни выглядела, – находится тумба с двумя дверцами. Лео открывает их, и я наконец вижу надлежащую машинерию. Два весьма впечатляющих стальных шкафчика с массивными рычажками и кучей проводов, которые обвивают их на манер спагетти, – провода озадачивают зрителя настолько, что лучшего и желать не приходится. Я замечаю и два широких цветастых плоских кабеля, похожих на те, какими в стародавние времена подключали к компьютеру принтер, – оба уходят от тыльной стороны ноутбука вниз, в тумбу.
Лео перебрасывает на каждом шкафчике рычажки питания. Тут же начинает низко и удовлетворенно гудеть вентилятор. Черные стеклянные фишки клавиатуры оказываются самостоятельными жидкокристаллическими дисплейчиками – на каждом загорается зеленая восьмерка, и все они ритмично вспыхивают и гаснут, точно на панельке видеомагнитофона с не установленным временем. Бросив на меня быстрый взгляд, Лео нажимает несколько функциональных клавиш, вид у него при этом становится немного виноватый, точно у посетителя магазина, неспособного удержаться от того, чтобы не сыграть на выставленном для продажи синтезаторе «Чижика-пыжика». Мерцающие восьмерки одна за другой обращаются в устойчиво горящие цифры, и экран оживает.
Что я рассчитывал увидеть? Анимированную модель зарождения Вселенной, возможно. Вращающуюся ДНК. Фрактальную геометрию. Секретные файлы ООН, посвященные распространению новой страшной болезни. Прокручивающиеся цифры. Изображения спутников-шпионов. Голую Тери Хатчер. Папки личной электронной почты президента Клинтона. Чертеж нового оружия массового уничтожения. Крупный план Кардассианского главнокомандующего, объявляющего о вторжении на Землю.
А что увидел? Экран, заполненный облачками. Не метеорологическими – цветными облачками, словно бы газовыми. И все-таки не газовыми. Если как следует приглядеться, они походили скорее на воздушные потоки, увиденные через объектив термальной камеры. Внутри этих потоков перемещались участки более чистых цветов, окруженные радужными ореолами, которые вихрились и переливались, пробегая в своем движении весь цветовой спектр. Гипнотическая картина. И прекрасная, лучезарно прекрасная. Впрочем, у большинства персональных компьютеров имеются скрин-сейверы, не в меньшей степени радующие глаз.
– Что скажете, Майкл? – Лео смотрит на экран. Красочные массы отражаются в стеклах его очков. На лице Лео читается все то же, озадачивавшее меня прежде загнанное, голодное выражение. Одержимость. Не «Одержимость» Келвина Кляйна, но одержимость Томаса Манна и Владимира Набокова. Болезненная потребность, гнев и отчаяние старого извращенца, виновато пожирающего глазами юную красоту. Так я, во всяком случае, думал в то время. Сейчас-то я уже попривык к тому, что многое воспринимаю неправильно.
– Прекрасно, – шепчу я, словно боясь, что мой голос взорвет мягкую прелесть красок. Да, именно взорвет, потому что я уже понимаю, на что они похожи, эти очертания. Они похожи на невесомые мыльные пузырьки. Дрожащие, вращающиеся, маслянисто радужные оболочки, умиротворяющие взгляд и проникающие в самую глубь души.
– Прекрасно? – Лео не отрывает глаз от экрана. Правая ладонь его лежит на мышке, очертания движутся. Сцена меняется, и на память мне приходит кино моего детства. Я сидел один в темноте, рекламы «Бенсон энд Хеджес» и «Баккарди» оставалось дожидаться еще минут двадцать. Чтобы зрители не заскучали, владельцы «Одеона» предлагали им музыку и световое представление – текучие, психоделически розовые, зеленые и оранжевые цвета переплетались на экране. Я сидел, приоткрыв рот, безмолвно заталкивая в него одну изюмину в шоколаде за другой, и смотрел, как меняются краски, как подвешенные в жидкости пузырьки воздуха прорываются, подобно судорожным амебам, сквозь поверхность экрана.
– Да, прекрасно, – повторяю я. – Вам так не кажется?
– Как по-вашему, на что вы смотрите?
– Я не уверен, – голос мой не поднимается выше уважительного шепота, – какой-то газ?
Лео впервые переводит взгляд на меня.
– Газ? – безрадостно улыбается старик. – Он говорит «газ»!
И Лео, покачивая головой, снова обращает взгляд к экрану.
– Тогда что же?
– Впрочем, не исключено, что и газ, – говорит он скорее себе, чем мне. – Какая страшная шутка. Да, это может быть газом.
Я вижу, как он с безостановочной быстротой грызуна покусывает нижнюю губу. Зубы уже прорвали кожу, из губы сочится кровь, но Лео этого, похоже, не замечает.
– Я скажу вам, на что вы смотрите, Майкл. Вы не поверите мне, но я все равно скажу.
– Да?
Он тычет пальцем в экран и произносит:
– Смотрите! Anus mundi! Das Arschloch der Welt![63] – Мое недоумение и потрясение забавляют его, и он с силой кивает. – Перед вами, – говорит он, указывая подбородком на экран, – Освенцим.
Я перевожу взгляд с Лео на экран и обратно:
– Простите?
– Освенцим. Аушвиц. Вы наверняка о нем слышали. Город в Польше. Весьма известный. Задний проход мира.
– Что вы, собственно, хотите сказать? Это фотография? Инфракрасная, термальный образ, что-то в этом роде?
– Нет, не термальный. Его скорее можно назвать темпоральным. Да, это подходящее слово.
– Я все-таки не понимаю.
– Перед вами, – говорит Лео, тыча пальцем в экран, – концентрационный лагерь Освенцим девятого октября одна тысяча девятьсот сорок второго года.
Я недоуменно сморщиваюсь. Экий тугодум. Я то есть тугодум.
– Что вы хотите сказать?
– Именно то, что говорю. Освенцим, девятое октября. В три часа пополудни. Вы видите именно этот день.
Я еще раз всматриваюсь в прелестные волнующиеся очертания, в их сладостные переливчатые цвета.
– Вы хотите сказать… фильм?
– Вы по-прежнему спрашиваете, что я хочу сказать, а я по-прежнему именно это и говорю. Я хочу сказать, что ваш взгляд прорезает одновременно и пространство, и время.
Я молча вытаращиваюсь на него.
– Если бы в этой лаборатории имелось окно, – произносит Лео, – и вы посмотрели бы в него, то увидели бы Кембридж пятого июня одна тысяча девятьсот девяносто шестого года, так?
Я киваю.
– Экран, который вы видите, и есть такое окно. Все эти очертания, смещения суть передвижения мужчин и женщин, находящихся в Освенциме, Польша, девятого октября сорок второго года. Вы могли бы назвать их энергетическими подписями. Треками элементарных частиц.
– Вы хотите сказать… то есть вы говорите, что эта машина смотрит назад во времени?
– Одна из этих форм, – продолжает Лео, как если бы я ничего и не спросил, – одна из красок, – ладонь его слегка подталкивает мышку, – одна из них. Любая, им может быть любая.
– Чем может быть любая?
Лео на миг поворачивается ко мне:
– Где-то здесь находится мой отец.
Я наблюдаю, как он яростно водит мышкой, словно отыскивая что-то. Мышка, похоже, работает, как ручка телекамеры, создающая панорамный обзор, наклоняя и увеличивая весь этот мир красочных форм. Лео резко бросает ее влево: картинка поворачивается по часовой стрелке.
– Отец прибыл в Освенцим восьмого октября. Это все, что я знаю. Вот! Как по-вашему, это не он? – Лео тычет пальцем в приземистую фигурку, внешнее оперенье которой светится нежными сиреневыми тонами. – Возможно, и он. А может быть, собака или лошадь. Или просто дерево. Труп. Скорее всего, труп.
Сердитые глаза Лео наполняются слезами, слезами, которые текут по его лицу, смешиваясь с кровью, так и сочащейся из прокушенной губы.
– Мне никогда не узнать, – произносит он, низко склоняясь над стендом, чтобы пристукнуть по тумблерам питания. – Никогда и ничего.
С мелодичным пощелкиванием статического электричества темнеет экран. Светодиодные цифры гаснут. Тихий гул вентилятора, гукнув, стихает. Я молча гляжу в пустоту экрана.
– Ну вот, Майкл Янг. – Лео изящно промокает слезы узким краем выступающей из рукава его лабораторного халата рубашечной манжеты. – Вы видели Освенцим. Мои поздравления.
– Вы серьезно?
– Совершенно серьезно. – Гнев и напряжение исчезли, он снова обратился в спокойного дядюшку Смарфа. Лео закрывает свою машину, любовно поглаживает мышку.
– И мы действительно смотрели назад во времени?
– Всякий раз, поднимая глаза к ночному небу, вы смотрите назад во времени. Не такое уж и великое дело.
– Да, но вы сфокусировались на отдельном дне.
– Разумеется, это телескоп совсем иного типа. К сожалению, он также и совершенно бесполезен. Просто световое шоу, вот и все. Искусственная квантовая сингулярность, проку от которой не больше, чем от электрической точилки для карандашей. Даже меньше.
– Вы не можете преобразовать все эти красочные завихрения в узнаваемые фигуры?
– Не могу.
– Но когда-нибудь?
– Когда я обращусь в далекое прошлое – возможно. Да. Это возможно. Возможно все.
– А что вы еще видели? Какие-нибудь битвы, землетрясения? Ну, знаете, Хиросима, что-нибудь в этом роде?
– Хиросиму я наблюдал. Я видел также Западный фронт Первой мировой. Я побывал во многих временах и местах. Но, боюсь, всегда возвращался к Освенциму. Кстати, ответ таков: «Свидетели Иеговы».
– Э-э… не понял. «Свидетели Иеговы» – ответ на что?
– Лиловый треугольник? Помните, вы не смогли догадаться, кто его носил? Та к вот, «Свидетели Иеговы» и носили.
– А. – Сказать мне на это, в общем-то, нечего. – Значит, вы всегда возвращаетесь в Освенцим, в этот день?
– Всегда в этот день.
– И ничего сделать не можете, не можете… взаимодействовать?
– Нет. Это… как бы лучше сказать? Это вроде радиоприемника. Вы настраиваете его, слушаете, но передать ничего не можете.
– И вы не знаете, что перед вами? То есть не можете истолковать увиденное?
– Цвета связаны с химическими элементами. Кислород синий, водород красный, азот зеленый и так далее. Но и это ни о чем мне не говорит.
– Кому еще вы это показывали?
– У нас что, игра «Двадцать вопросов»? Вы первый, кто видел мое устройство.
– Почему я?
Лео вперяет в меня взгляд.
– Предчувствие, – изрекает он.
Как воевать
Ади и Руди
В шесть утра и так-то было темно, а при нынешнем тумане мрак стоял совсем непроглядный. Тем не менее Штойер, командир взвода, выбрал для очередной своей речи именно это время.
– Солдаты! Линия фронта британцев протянулась от Гелувельта до Бекелара, Ипр лежит всего в пяти милях к востоку. Перед Шестнадцатым поставлена задача нанести сокрушительный удар по самому сердцу томми. И мы не подведем. Полковник фон Лист надеется на нас. На нас надеется Германия.
Рядовые Вестенкиршнер и Шмидт вглядывались в темноту – в то место, из которого доносился голос Штойера.
– Германия не имеет о нашем существовании ни малейшего представления, – весело сообщил Игнац Вестенкиршнер.
– Не стоит так говорить, – пророкотал между ними чей-то голос.
Игнац удивленно воззрился на стоявшего справа от него пехотинца с желтоватым лицом. Ростом Ади – все они называли его Ади – был, при его пяти футах, девяти дюймах, немного выше среднего, однако из-за болезненной, землистой кожи и узких плеч казался более тщедушным и низкорослым, чем все прочие.
– Прошу прощения, сударь. – Игнац отвесил ему на манер прусского юнкера насмешливый поклон.
До атаки оставалось сорок пять минут. Со стороны британских окопов доносились звуки беспорядочной пальбы: тупые хлопки, казавшиеся скорее смешными, чем опасными, – как будто там пердел пережравший травы бык.
Эрнст Шмидт молча протянул товарищам сигареты. Ади, взглянув на пачку, ничего не сказал, так что Игнац взял себе сразу две.
– Даже сейчас не будешь? – удивленно спросил он. – Когда до боя осталось всего ничего?
Ади покачал головой и, побаюкав в руках винтовку, прижал ее к телу. Игнац вспомнил, как наблюдал за ним на второй день обучения, – Ади поглаживал винтовку с той самой минуты, как она оказалась в его руках. Смотрел на нее с благоговением и восторгом, с какими женщина разглядывает новые шелковые трусики, привезенные из самого Парижа.
– Ты что же, вообще никогда не курил?
– Один раз, – ответил Ади. – Совсем немного. За компанию.
Игнац встретился взглядом с Эрнстом и слегка приподнял бровь. Представить себе Ади в какой ни на есть компании, выходящей за рамки очереди в солдатской кантине или общей душевой, было довольно трудно. Эрнст, как обычно, не сказал и не сделал ничего, хотя бы отдаленно схожего с реакцией на предложенную шутку.
Вот и все общество, какое мне досталось, подумал Игнац. Пуританин да лишенное чувства юмора бревно.
И тут же, словно по сигналу суфлера, с западного края окопов донесся негромкий свист, а следом появился и Глодер. В свои девятнадцать Руди Глодер выглядел куда более полным жизни и взрослым, чем Ади и Эрнст, уже основательно выбравшие третий десяток. Веселый, красивый, светловолосый Руди, с его искрящимися голубыми глазами и добродушным остроумием, был в роте всеобщим любимцем. Он уже получил звание ефрейтора, и успех этот ни у кого зависти не вызвал. Те, кто знал его только с чужих слов, кто слышал о его блестящем владении винтовкой, об умении сочинять смешные песенки, о заботливом отношении к товарищам, нередко проникались к нему неприязнью. «Так, говоришь, музыкальный, спортивный, умный, веселый, храбрый, простой и до невозможности красивый? Уже ненавижу». Но разумеется, стоило такому человеку свести с Руди знакомство, как и он, подобно всем остальным, оказывался бессильным устоять перед его обаянием.
– Я явился меж вас, – сказал Руди, присев перед Ади, Игнацем и Эрнстом на корточки, – со сладким кофе. Не спрашивайте, как мне удалось сотворить это чудо, просто наслаждайтесь.
Игнац принял протянутую Руди фляжку. Тягучая сладкая жидкость пролилась в его горло, опьяняя – даром что спирта в ней не было ни капли, – точно коньяк. Оторвав фляжку от губ, он заглянул в танцующие глаза Руди.
– Нет ничего, что было бы для моих солдат слишком хорошим, – объявил Руди, в совершенстве воспроизводя интонации фон Листа. – А ты, дорогой мой?
Руди взял у Игнаца фляжку и протянул ее Ади. На миг глаза их встретились – густая веселая синева Руди и светлый, блестящий кобальт Ади.
– Спасибо, – отозвался Ади. «Спасибо», означавшее «нет».
Руди пожал плечами и отдал кофе Эрнсту.
– Ади не пьет, не курит, не ругается, по бабам не ходит, – сказал Игнац. – Поговаривают даже, что он и не срет.
Руди положил ладонь на плечо Ади.
– Но готов поспорить, он все же сражается. Ведь ты сражаешься, Ади, товарищ, не так ли?
При этом слове глаза Ади вспыхнули. Kamerad. Он с силой закивал и разгладил свои большие усы.
– Будьте уверены, – сказал он. – Томми меня еще узнают.
Руди с секунду продержал руку на плече Ади, потом снял ее.
– Мне пора, – сказал он. – Вот только должен сообщить вам одну мысль, которая не дает мне покоя. – Он ткнул себя пальцем в голову. – Насчет наших фуражек.
– А что с ними? – То были первые произнесенные Эрнстом за утро слова.
– Вам ничего не кажется странным? – удивленно спросил Руди. – Ну что ж, может быть, мне просто почудилось.
После его ухода они прождали еще полчаса.
В семь Штойер дунул в свисток, и началась атака. Слишком шумная, слишком торопливая, слишком хаотичная, чтобы оставить место для колебаний или страха. Солдаты с криками, руганью и лязгом побежали к окопам англичан.
Томми немедленно открыли пулеметный огонь. В первые же мгновения Эрнст с Ади каким-то образом потеряли Игнаца из виду. Они вдвоем продвигались туда, откуда били пулеметы, – к самому центру линии британских окопов.
Внезапно сзади, слева и справа забили пулеметы новые, и по обеим сторонам от Ади и Эрнста начали валиться получившие по пуле в спину бойцы.
– Шмидт! За мной! – крикнул Ади.
Эрнст Шмидт запутался. Полностью. Они же шли в атаку, предполагалось, что они шли в атаку. Шли вперед. На англичан. Может, они попали в ловушку? В окружение? Или описали в этой мгле полукруг, поворотив на сто восемьдесят градусов, так что англичане оказались у них за спиной? Эрнст повалился рядом с Ади на землю у какой-то живой изгороди, оба, задыхаясь, затиснулись в жалкое это укрытие.
– Что происходит? – спросил Эрнст.
– Тише! – сказал Ади.
Они пролежали так какое-то время, растянувшееся в помутненном сознании Эрнста на секунды, минуты, а может, и часы, и вдруг, усугубив нереальность происходящего, на Эрнста с криком рухнул какой-то человек. Хрустнули, ломаясь, очки; в лицо Эрнсту врезались медные пряжки, впечатались пуговицы, и он взвыл от боли – в живот упавшему.
«Меня придушит умирающий», – подумал он. «Фрау Шмидт, с прискорбием сообщаем вам об утрате вашего задушенного покойником сына. Он умер, как и жил, в совершеннейшем недоумении».
Вот это и есть война, мертвые убивают мертвых.
Время на подобные мысли у Эрнста нашлось. Время, чтобы посмеяться над бессмыслицей происходящего. Время, чтобы нарисовать в воображении мать и отца, читающих в Мюнхене телеграмму. Время, чтобы позавидовать брату, избравшему службу на флоте. Время, чтобы обозлиться на штаб, не сумевший его спасти. Уж там-то, наверное, знают, что происходит. Если мы допускаем подобные случаи, со всей серьезностью осведомил он своих командиров, война и до Рождества не закончится.
В следующее мгновение Эрнст уже глотал ртом воздух, рвал ворот своего мундира и ощупывал то, что осталось от очков.
Человек, повалившийся на него, вовсе не был покойником. Он был офицером Саксонского полка, и живехоньким. Перекатившись на бок, он угрожающе наставил на Ади и Эрнста «люгер». Однако, вглядевшись в них, изумленно ахнул и пистолет опустил.
– Господи! – произнес он. – Вы же немцы!
– Шестнадцатый Баварский резервный пехотный, сударь, – отрапортовал Ади.
– Полк Листа? Вот же дерьмо, а я принял вас за англичан!
В ответ Ади сорвал с головы фуражку и запустил ее подальше. Затем проделал то же самое с фуражкой Эрнста.
– Руди был прав, – сказал он.
– Руди? – переспросил офицер.
– Ефрейтор нашего взвода, сударь. Все дело в фуражках. Они почти в точности такие же, как у томми.
С секунду офицер молча смотрел на него, а после расхохотался:
– Мать-перемать! Добро пожаловать в имперскую армию Его величества, юноши!
Ади с Эрнстом изумленно смотрели, как офицер, мужчина лет, пожалуй что, сорока, кадровый, судя по грубости его манер и слов, военный, лупит себя кулаками по бедрам и заходится в хохоте.
Наконец Ади потряс его за плечо:
– Сударь, сударь! В чем дело? Что происходит? Нас окружили?
– Еще бы вас не окружили! Впереди томми, слева саксонцы, а справа вюртембержцы! Господи Иисусе, мы увидели вас перед собой и решили, что англичане пошли в контратаку. И последние десять минут заколачивали вас в ад.
Ади с Эрнстом в ужасе уставились друг на друга. Эрнст увидел, как на фарфоровые глаза Ади наворачиваются слезы.
– Послушайте, – офицер наконец успокоился, – я должен остаться с моими людьми. Я, конечно, попробую передать сообщение по цепи, да только у нас ни хрена нет связи. Готовы вы возвратиться в штаб? Кто-то должен прекратить это безумие.
– Конечно, готовы, – ответил Ади. Офицер смотрел им вслед.
– Удачи! – крикнул он в их спины, а после добавил, уже шепотом: – И замолвите за меня словечко перед святым Петром.
Как рождается музыка
Похмелье
Я сижу на пассажирском месте «клио», Джейн за рулем, мы едем на прием, в сад колледжа Магдалены. По классическому каналу FM передают «Идиллию Зигфрида», я насвистываю короткую тему гобоев, выскакивающую, точно бесенок, из-за пения струнных.
– Никак не пойму, – произносит Джейн, – почему Вагнер сам до этого не додумался? Бестонное, лишенное ритма подвывание – именно то, что требуется в этом месте.
– Прости. – Я умолкаю и получаю в награду всепрощающую улыбку.
– Ничего, Пип, – говорит она и дважды, по-дружески, похлопывает меня по бедру. – Ты старался как мог.
– Странно, – я все же решаюсь на замечание, – что тебе нравится Вагнер.
– М-м?
– Э-э… Ну, ты же понимаешь. Еврейка и так далее.
– И что?
– Все-таки любимый композитор Гитлера.
– Вагнер вряд ли в этом повинен. Гитлер еще и собак любил. И полагаю, просто обожал пирожные с кремом.
– В собаках и пирожных с кремом, – немедля выпаливаю я, – нет ничего антисемитского.
– А в Вагнере было?
– Ты же знаешь, что было. И все это знают.
– Я, однако ж, не думаю, Пиппи, что он стоял бы у печей, восторженно приветствуя убийц, а ты? Он писал о любви и власти. Обладать и тем и другим одновременно нельзя. Любовь сильнее, любовь лучше. Он повторял это множество раз.
– Хм. И все-таки.
– И все-таки, – соглашается она. – Готова также признать, что отец мой терпеть не мог, когда я на полную громкость запускала у себя в спальне «Кольцо». Просто на стену лез.
Меня, собственно говоря, никогда не раздражало, что вкусы Джейн во всем, что касается искусства, немного серьезнее моих, – меня это всегда удивляло. Если дело доходит до выбора фильмов, Джейн неизменно предпочитает экспериментальное кино удобопонятному. Я могу в любое время посмотреть любой фильм и что-то извлечь из него, даже если он покажется мне фигней, и при этом никогда до конца не верил Джейн, твердившей, что ей нисколько не нравится «История игрушек», как не мог до конца понять, почему ее не тошнит от «Пианино». «Список Шиндлера» она смотреть и вовсе отказалась, но это, в общем-то, вполне понятно.
– У тебя, – спрашиваю я, и горло мое слегка перехватывает, потому что этого вопроса я никогда ей не задавал, – много родных погибло в лагерях?
Она бросает на меня удивленный взгляд:
– Немало. Большинство братьев и сестер моих дедов и бабок. Двоюродные бабушки и дедушки, так их, по-моему, называют. И их двоюродные братья с сестрами тоже.
– Где? Я имею в виду, в каком лагере? Тебе это известно?
– Нет. – Похоже, ответ удивляет и ее саму. – Нет, неизвестно. Семья мамы родом, кажется, с Украины. Отец из Польши. Так что, наверное, где-то в тех местах.
– Родителей ты никогда не расспрашивала?
– А кто это вообще делает? Родителей обычно никто не расспрашивает. Да и как бы там ни было, скорее уж они должны были расспрашивать своих родителей. Отец появился на свет через два года после войны.
– Ну да.
– По-моему, у деда было что-то написано об этом. Воспоминания, дневник, что-то в таком роде. А почему ты спрашиваешь?
– Ну, знаешь. Просто интересно. Я ни разу не слышал, чтобы ты говорила на эту тему.
– А что я могла сказать?
– Тоже верно.
Короткая приязненная пауза.
«Идиллия Зигфрида» достигает приглушенного завершения, и я переключаюсь на первый канал, где приятно и с пользой проводит время «Оазис», объясняя всем на свете, что не стоит оглядываться во гневе.
– Предположим, – произношу я, замечая ее гримасу и немного уворачивая звук, – предположим, ты смогла бы вернуться во времени назад, в… не знаю, в Дахау, скажем, в Треблинку или в Освенцим, куда угодно. Что бы ты сделала?
– Что бы я сделала? Погибла бы, надо полагать, в газовой камере. Не думаю, что мне предоставили бы большой выбор.
– Да, конечно.
Еще одна пауза. Не столь приязненная, но достаточно дружелюбная.
– Как по-твоему, – спрашиваю я, – сможем мы когда-нибудь путешествовать во времени вспять?
– Нет.
– Наука считает это невозможным?
– Во всяком случае, логически.
– И что это значит?
– Ну, – произносит Джейн, сдавая машину вспять, в научно и логически невозможное пространство, – если бы это было возможным, кто-то, обитающий в будущем, вернулся бы назад и предотвратил бы тот же холокост, не так ли? Кто-то помешал бы сумасшедшему из Данблэйна заявиться в школьный спортзал и открыть стрельбу. Кто-то предупредил бы правительственных служащих Оклахомы, что в их здании заложена бомба. Кто-то мог бы сказать эрцгерцогу Фердинанду, чтобы тот отменил визит в Сараево, посоветовать Кеннеди ехать в закрытой машине, внушить Мартину Лютеру Кингу, что тот день ему лучше было провести дома. Тебе так не кажется? И прежде всего, – говорит она, решительным щелчком выключая приемник, – прежде всего, кто-то вернулся бы в Манчестер семидесятых, разлучил сразу после рождения братьев Галлахер и позаботился тем самым, чтобы никакого «Оазиса» на свете и духу не было.
Э-хе-хе! Ну, народ…
Дважды Эдди и Джеймс тоже здесь, оба в белом и с лавровыми венками на головах. Пижоны, устроившие этот прием, как раз такого рода пижоны, и прием у них тоже такого рода.
– Это же Пипл!
– Э-э… привет вам обоим. Вы знакомы с Джейн Гринвуд?
Каждый торжественно пожимает ей руку.
– Здравствуйте, Джейн Гринвуд. Я Эдвард Эдвардс.
– А я, я Джеймс Макдонелл.
– Так вы – подружка Пиппи? Джейн серьезно кивает.
Дважды Эдди приобнимает ее за плечи:
– Скажите, он и вправду чудесен в постели?
– У меня все еще лежат ваши диски, – говорю я. – Надо бы как-нибудь вернуть их вам.
– Ведь чудесен, правда? Чудесен! Разве нет? Поспорить готов. Ну скажите же, что чудесен!
Я ускользаю, краснее красного, к большой центральной стойке и наполняю бокал пуншем.
После нескольких раундов выпивки мы удаляемся. Приемы – это для молодняка.
В доме на Онион-Роу Джейн придерживает меня, согнувшегося над унитазом, и отрешенно, лишь слегка забавляясь, смотрит, как меня выворачивает наизнанку.
– Похоже, – говорю я, пытаясь оборвать длинную нить слюны, свисающую с моих губ и подрагивающую над чашей унитаза, будто чертик на ниточке, – чтобы избавиться от этой дряни, мне понадобятся ножницы. Она вроде как приклеилась к моей гортани.
– Если ты и дальше будешь так страшно харкать, чтобы извергнуть ее, я покину страну и никогда в нее не вернусь, – говорит Джейн. – И даже открытки тебе не пришлю.
– Это не просто комок в горле. Он какой-то упругий. Знаешь, вроде пружины. Кхкхкха!
Подражание кофеварке, похоже, срабатывает. Пыж мокроты отрывается от моего внутреннего язычка, длинная нить шлепается на фарфор.
– Странно, – говорю я, разгибаясь и покачиваясь, – не помню, чтобы я ел сегодня сливовую кожицу.
– Ты, – постановляет Джейн, – просто-напросто мерзкий мальчишка. Сюда ты вошел белым как простыня, а теперь лилов, точно…
– Лиловая простыня.
– Волосы мокрые, липнут ко лбу, из глаз и из носа течет, пахнешь отвратительно, а из дрянного пушка на твоей верхней губе сочится пот…
– Это щетина, – вношу я поправку и шмыгаю носом, заполняя его пазухи блевотной кислятиной.
– Дрянной пушок.
– Нет, как хочешь, – говорю я, смаргивая резь в глазах, – а с пуншем было что-то неладно.
– Разумеется, неладно. Девяносто процентов водки. Как и каждый год. И каждый год ты, дурак дураком, надираешься им. Каждый год мне приходится чуть ли не относить тебя в ванную и смотреть, как ты блюешь.
– Ну, в таком случае, это уже традиция. Довольно красивая.
– К тому же не понимаю, с какой стати ты направляешься в спальню.
– Я, вообще-то, проспаться хотел.
– Ты душ сначала прими.
– О, верно. А что, мысль недурна. Душ. Холодный. Да. Отлично. – Я сужаю глаза, подпуская в них хищного блеска. – Он взбодрит меня, и тогда мы, пожалуй, сможем…
Я дважды прищелкиваю языком, точно понукающий лошадь наездник, и непристойно подмигиваю.
– Господи, – произносит Джейн. – Это ты о сексе?
– Хоть об заклад бейся, сучка.
– Я лучше вылижу языком всю эту уборную.
Я вздрогнул, проснулся и обнаружил, что лежу в постели, рядом с тихо похрапывающей Джейн. Должен сказать, храп у нее не такой уж и непривлекательный. Мягкий, изысканный храпок. Какое-то время я прислушивался к нему, вглядываясь в Джейн, потом увидел рядом с ней будильник.
Десять минут пятого.
Гм.
С приема мы вернулись рано, не позднее половины девятого. Что было потом?
Меня рвало. Естественно.
А потом?
Скорее всего, принял душ и завалился спать. Неудивительно, что я проснулся. Проспал почти восемь часов.
Я вдруг осознал, что язык мой прилип к нёбу, что меня терзает жуткая жажда. Может быть, потому мое тело меня и разбудило.
Выскользнув из постели, я голышом прошлепал на кухню.
Окно над кухонной раковиной выходило в поля, небо уже светлело, и я благопристойно опустил жалюзи, прежде чем пригнуться, свесить что положено над раковиной и помочиться в сток. Восхитительно греховное ощущение, оправданное, впрочем, соображением, что мое тихое журчание разбудит Джейн с меньшим вероятием, чем рев низвергающейся в писсуаре воды. А кроме того, У. Х. Оден всегда писал в раковину. Особенно если та была забита посудой.
Я покрутил кран, подождал, пока вода станет ледяной, и склонился к смесителю – напиться. Я глотал, глотал и глотал. Никогда еще вода не казалась мне такой сладкой.
Аспирин мне не нужен. Никакой головной боли, вот в чем вся прелесть водочки.
И мало того, что голова совсем не болит. Я и чувствовал себя превосходно. Здоровым, как «Фростис». Я просто-напросто источал здоровье.
Я стоял, отдуваясь, вода стекала по подбородку и капала мне на голую грудь.
Сто лет не ощущал себя таким одиноким. Подлинное одиночество испытываешь, когда все вокруг спит. Конечно, для этого нужно подняться пораньше. Сколько раз я, трудясь над диссертацией, засиживался допоздна, как раз до этого самого часа, и чувствовал себя жалким и заброшенным, однако проснитесь в такую вот рань – и вы изведаете ощущение чудесного, положительного одиночества – в этом вся разница. Такое намного лучше. М-м.
Я направился к хлебнице, наслаждаясь шлепками босых ног по плиткам пола. Не слишком теплым, не слишком холодным. В самый раз. Отодрав кусок батона, я заглянул в холодильник.
Не знаю, почему стояние голышом перед открытым холодильником представляется мне занятием до крайности эротичным, но вот представляется, и все тут. Быть может, это как-то связано с ожиданием скорого утоления голода, быть может, из-за падающего на тело света я ощущаю себя профессиональным стриптизером. Быть может, со мной приключилось в детстве нечто неположенное. Чувство, смею вас уверить, пугающее, поскольку, когда у вас встает, созерцание пищевых продуктов каких только мыслей не порождает. При первом же приливе крови байки о том, что можно проделать с несоленым сливочным маслом, или зрелыми дынями, или сырой печенкой, так и лезут вам в голову.
Заметив большой брус «Красного лестера», я отломил от него кусочек. И простоял какое-то время, жуя, весь наполненный гудением счастья.
Тогда-то меня и осенила идея, уже совершенно готовая.
Осенила с таким напором, что я задохнулся. Непрожеванный комок хлеба вывалился из моего открытого рта, кровь стремглав понеслась к мозгу, коему она была в тот миг нужнее всего, не оставив тому, что возбужденно подрагивало этажом ниже, ничего, кроме возможности съежиться и возвратиться, подобно испуганной улитке, в свое укрытие.
Я плечом захлопнул дверцу холодильника и повернулся, хихикая. Пока я на цыпочках прокрадывался в кабинет, в голове моей что-то ухало. Все мои заметки лежали стопой на полке над компьютером. Я знал, что мне искать, и знал, где это найду.
О предварившем рождение идеи сексуальном возбуждении я упомянул потому, что, оглядываясь назад, обзавелся такой вот теорией: подсознательная часть моего разума, взвешивая возможности выброса эротической энергии – с помощью ли сырой печенки, сливочного масла, масла оливкового или без оных, – натолкнулась на мысль о семени. Мысли о семени установили, по взаимному сродству (тут не исключена какая-то связь с питием из-под крана, сопровождавшимся размышлениями об отсутствии головной боли), некие связи в памяти, а следом соответственные синапсы принялись палить во все стороны сразу, пока в сознании не пробудилась с воплем идея. Это всего лишь теория. Насколько она верна, решайте сами.
Как делать правильное кино
У. Т. О
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
ОБЩИЙ ПЛАН КОЛЛЕДЖА СВ. МАТФЕЯ – УТРО
САДОВНИК подстригает траву во Дворе Боярышника. Куранты отбивают время.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОЛЛЕДЖА СВ. МАТФЕЯ, У ДВЕРИ ЛЕО – УТРО
МАЙКЛ стоит у дубовой двери профессора и лупит в нее ногой. В руках у него два больших пакета с эмблемой магазина «Путь свободен».
ЛЕО (за кадром). Войдите!
МАЙКЛ аккуратно опускает пакеты на пол, распахивает дверь, подбирает пакеты и входит, ногой закрывая за собой дверь.
ЛЕО удивленно поднимает голову от компьютера.
ЛЕО. Майкл!
МАЙКЛ (нервно). Профессор, мне нужно с вами поговорить.
ЛЕО. Конечно, конечно. Входите, входите.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОЛЛЕДЖА СВ. МАТФЕЯ, КОМНАТА ЛЕО – УТРО
МАЙКЛ, раскрасневшийся, нервничающий, запыхавшийся. Выходит на середину комнаты, но, похоже, не знает, с чего начать. ЛЕО не отрывает от него взгляда.
ЛЕО. Присаживайтесь. Я сделаю вам чашку кофе.
ЛЕО скрывается в кухоньке. В кадре МАЙКЛ. Мы слышим, как и прежде, дребезжание кофейных чашек, плеск наливаемой воды. Камера ОТЪЕЗЖАЕТ.
МАЙКЛ подходит к книжным полкам, еще раз оглядывает книги. Он взвинчен. Нервно постукивает ногтями по зубам. Принимает решение.
МАЙКЛ (повышая голос). Профессор…
ЛЕО (выходя). Сколько раз повторять вам, юноша? Меня зовут Лео.
МАЙКЛ. Лео, вы знаете, я вроде как не естественник, однако разве не верно, что Маркони, когда изобрел радио, первым делом произвел передачу?
ЛЕО. О чем это вы?
МАЙКЛ. Ну, принимать же он не мог, так? Я хочу сказать, принимать было нечего, сигналы отсутствовали, верно? Поэтому он и передавал их, и принимал.
ЛЕО медленно кивает.
ЛЕО. Не лишено смысла.
МАЙКЛ. Клево. Так я вот что хочу сказать, открытие этой… как она называется… беспроводная телеграфия?
ЛЕО. Да, разумеется, беспроводная телеграфия.
МАЙКЛ. Открытие беспроводной телеграфии подразумевает возможность приема и передачи. В противном случае она не имела бы смысла, да?
ЛЕО. Совершенно никакого.
МАЙКЛ. А вы сказали, что ваша машина… та, которую вы мне вчера показывали… (Прерывает сам себя, ему приходит в голову новая мысль.) Кстати, как она называется?
ЛЕО. Называется? Что значит «называется»?
МАЙКЛ. Имя. У нее есть имя?
ЛЕО (недоуменно). Имя? Имени у нее нет.
МАЙКЛ. О. Так, может быть, нам назвать ее… (Задумывается.) Назвать ее УТО?
ЛЕО. Уто?
МАЙКЛ. Ну да, от слова «утопия». Или… постойте! Да, это может означать… э, как вы тогда сказали? «Темпоральные образы…» Да, УТО означает «Устройство темпоральных образов». Клево! УТО. УТО. Мне нравится.
ЛЕО. УТО. Хорошо, назовем ее УТО.
МАЙКЛ. Так о чем я говорил?
ЛЕО (пожимая плечами). Что-то такое насчет Маркони.
МАЙКЛ. Верно, верно. Вы сказали, что УТО похоже на радио, которое можно только настраивать на принимаемую волну, однако вести передачу оно не может.
ЛЕО. Да, так я и сказал.
МАЙКЛ. Ну вот, а я говорю о том, что любой инженер-недоучка способен взять обыкновенный радиоприемник, над ним помудрить немного и переделать его в передатчик, так?
ЛЕО. Что касается обычного приемника, все верно. Но мы же говорим не про обычный приемник.
На заднем плане начинает сердито ПОСВИСТЫВАТЬ чайник.
МАЙКЛ. Так ведь тут то же самое! Тот же принцип. (Победно.) Вы можете сделать это, верно? Вы знаете – как.
ЛЕО смотрит в полные ожидания глаза МАЙКЛА.
ЛЕО. Я принесу кофе.
МАЙКЛ (ему в спину). Вы можете! Можете сделать это!
МАЙКЛ следует за ЛЕО в кухоньку. ЛЕО наливает кипяток в кофеварку. МАЙКЛ, стараясь справиться с волнением, наблюдает за ним.
Ведь это же правда, так? Так.
ЛЕО поднимает, требуя тишины, палец и со спокойной неспешностью составляет на поднос молочник, маленькую сахарницу и кружку для своего горячего шоколада. Берет поднос и выходит; МАЙКЛ по пятам следует за ним, все еще дрожа от возбуждения.
ЛЕО опускает поднос, наблюдает за МАЙКЛОМ, который энергично расхаживает из угла в угол.
ЛЕО. Теперь я понимаю, почему у вас такое щенячье прозвище, Пиппи. Вы гоняетесь за людьми, пыхтите, повизгиваете. Не исключено, что и лужи на полу оставляете.
МАЙКЛ. Я просто хочу знать…
ЛЕО (перебивая его). Послушайте. Сядьте и послушайте.
МАЙКЛ, надувшись, опускается в кресло.
Послушайте, пока я буду наливать вам кофе. Вы ничего не знаете о созданном мной устройстве, об этом УТО. Ничего не знаете о его физических принципах, о встроенной в него технологии. Я описал его как подобие радиоприемника, потому что счел это чем-то вроде… модели, аналогии… которая вам будет понятна. (Вручает ему чашку кофе.) Однако отсюда не следует, что мое устройство, УТО, и вправду работает, как радиоприемник. Эта аналогия не выдерживает никакой проверки.
МАЙКЛ (вызывающе). Но ведь вы же можете, верно? Можете!
ЛЕО берет кружку с шоколадом, откидывается на спинку кресла. Закрывает глаза.
ЛЕО. Да. Теоретически это возможно.
МАЙКЛ (торжествующе). Я так и знал! Я ведь о чем? Мы можем вернуться! Назад, во времени.
ЛЕО. Не вернуться. Я могу вести, как вы выражаетесь, передачу. По крайней мере, я в это верю. Это возможно. В принципе, возможно.
МАЙКЛ. Тогда мы уничтожим его! Если бы мы захотели, то смогли бы ликвидировать Гитлера.
ЛЕО (со страстью). Нет! Ни в коем случае!
МАЙКЛ. Но…
ЛЕО. Вы думаете, мне это не приходило в голову? Полагаете, что идея об избавлении человечества от проклятия, именуемого Адольфом Гитлером, это не то, о чем я помышляю каждую минуту моей жизни? Но послушайте меня, Майкл, послушайте. В тот день, когда я впервые узнал о том, что произошло с моим отцом, о том, что происходило тогда в Освенциме, я дал себе обещание. Я поклялся перед Богом и Вселенной, что никогда, во веки веков, не буду участвовать в войне, в убийстве, в причинении вреда ни единому человеческому существу. Вы меня понимаете?
МАЙКЛ. И уважаю.
ЛЕО. Так не говорите же мне об убийстве.
МАЙКЛ. Ну, клево. И все-таки я вас раскусил. Ладно, допустим, все, что вы сказали, – правда. Но почему тогда вам так не терпелось прочесть мою диссертацию? Почему вы пригласили меня в лабораторию и показали УТО? А когда я спросил вас вчера, когда сказал: «Почему я?» – помните, что вы ответили? Вы ответили: «Предчувствие». Помните? Предчувствие. Что вы имели в виду, говоря «предчувствие»?
ЛЕО. Я не уверен. Я… я не знаю.
МАЙКЛ. Знаете, Лео. Вы думали, что я мог бы помочь вам, и я могу. Я могу помочь вам стереть память о Гитлере с лица земли.
ЛЕО страдает.
ЛЕО. Я же сказал вам, Майкл! Сказал. Я не могу убивать. Я дал клятву.
Однако у МАЙКЛА есть ответ и на это.
МАЙКЛ (довольно улыбаясь). А кто говорит об убийстве?
ЛЕО молча смотрит на него. МАЙКЛ победно ухмыляется и вытаскивает бумажник. Покопавшись в нем, МАЙКЛ двумя пальцами, указательным и большим, извлекает МАЛЕНЬКУЮ ОРАНЖЕВУЮ ПИЛЮЛЮ.
КРУПНЫЙ ПЛАН оранжевой пилюли.
МАЙКЛ (улыбка становится озорной). Мы просто позаботимся, чтобы сукин сын никогда не появился на свет. Понимаете?
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН КОЛЛЕДЖА СВ. МАТФЕЯ – ДЕНЬ
Камера подплывает НА КРАНЕ к окну комнаты Лео. Одновременно мы видим, как в окне задергиваются шторы.
МУЗЫКА:
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ СЕН-САНСА.
МОНТАЖ коротких эпизодов, относящихся к разным часам дня.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОМНАТЫ ЛЕО – ДЕНЬ
ЛЕО и МАЙКЛ вглядываются в старую карту городка Браунауна-Инне, Верхняя Австрия. МАЙКЛ указывает на какую-то улицу. ЛЕО кивает и что-то записывает.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН НОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ КАВЕНДИША – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
Снятый с высоты установочный план, камера движется от Королевской обсерватории, пересекает дорогу, направляясь к гигантской цистерне с жидким азотом, к лесу антенн спутниковой связи и Физическим лабораториям.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ЛАБОРАТОРИИ ЛЕО – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
МАЙКЛ пьет из литровой бутылки «коку». Он сидит на табурете, наблюдая за ЛЕО; ЛЕО тестирует различные блоки УТО, созданного им устройства. Кожух с УТО снят, к внутренним схемам подведены разного рода зонды.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ДОМА МАЙКЛА В НЬЮНЕМЕ – УТРО
ДЖЕЙН просыпается и видит раскинувшегося рядом с ней, полностью одетого МАЙКЛА. Толкает его локтем. МАЙКЛ перекатывается на бок, спиной к ней, однако не просыпается.
ДЖЕЙН хмурится: она озадачена.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОЛЛЕДЖА СВ. МАТФЕЯ, СТОРОЖКА ПРИВРАТНИКА – УТРО
МАЙКЛ, зевая, заглядывает в свой почтовый ящик. Вытаскивает небольшой желтый пакет. Переворачивает его и видит почтовый штемпель АВСТРИИ. МАЙКЛ, волнуясь, вскрывает пакет. Мы видим, что тот содержит пачку планов, факсимильных копий каких-то чертежей и синек. МАЙКЛ очень взволнован.
МАЙКЛ, с головой ушедший в чтение, выходит из сторожки привратника. Наталкивается на облаченного в очаровательное кимоно ДОКТОРА ФРЕЙЗЕР-СТЮАРТА. МАЙКЛ торопливо извиняется и тут же вновь углубляется в чтение.
ФРЕЙЗЕР-СТЮАРТ, недоумевая, смотрит ему вслед.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОЛЛЕДЖА СВ. МАТФЕЯ, КВАРТИРА ЛЕО – УТРО
Вся мебель сдвинута в сторону, пол покрывают карты и планы, полученные МАЙКЛОМ из АВСТРИИ.
ЛЕО, пальцы которого зависли над клавиатурой КОМПЬЮТЕРА, наблюдает за МАЙКЛОМ, а тот между тем, лежа на животе, маркером тщательно прорисовывает на карте линии водопровода. Покончив с этим, он берет циркуль и промеряет, сверяясь с масштабом карты, расстояния. Называет результат ЛЕО, тот вводит цифры в КОМПЬЮТЕР.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩ. ПЛАН НОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ КАВЕНДИША – НОЧЬ
Установочный план ночной физической лаборатории. Камера приближается к яркому свету, горящему на втором этаже.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ЗАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ – НОЧЬ
Царство сложной техники. Ряд телемониторов с бирками «Мет. Сп. IV», «Гео. Сп. II» и т. п. На экранах – термальные изображения, снимки циклонов и антициклонов, спектрограммы и прочее. Под ними панели с кнопками и световыми индикаторами, клавиатуры. Все ослепительно и стоит больших денег.
МАЙКЛ сидит на испытательном стенде, вытягивая из коробки клинышек пиццы. К его футболке пришпилена полученная от охраны карточка.
ЛЕО украшен такой же карточкой, рядом с ним на табурете, стоящем под пультом спутниковой связи, – открытое УТО. От него к блокам управления тянутся кабели.
МАЙКЛ, немного скучая, наблюдает за ним. Телемонитор над УТО показывает кусок Центральной Европы в сумерках. Под изображением указано время.
Внезапно МАЙКЛ вскакивает и смотрит на свои часы. ЛЕО поднимает на него испуганный взгляд.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ДОМА В НЬЮНЕМЕ – ВЕЧЕР
ДЖЕЙН сидит за кухонным столом, на ней красивое, элегантное черное вечернее платье. На столе перед ДЖЕЙН наполовину выпитая бутылка вина.
Дверь распахивается, на пороге возникает запыхавшийся МАЙКЛ. ДЖЕЙН смеривает его убийственным взглядом.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР СВ. МАТФЕЯ, ПРОФЕССОРСКАЯ – НОЧЬ
Входят ДЖЕЙН и МАЙКЛ, оба в вечерних нарядах. Галстук у МАЙКЛА перекошен, сам он красен, потен и отдувается. ДЖЕЙН бледна и сердита.
Профессорская заполнена переговаривающимися ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕДЖА и ГОСТЯМИ, все они также в вечерних нарядах. ДЖЕЙН, скрипнув зубами, виновато улыбается явно недовольному МАСТЕРУ колледжа.
МАЙКЛ смотрит через весь зал на безупречно одетого ЛЕО, тот покачивает головой, пощелкивает языком и неодобрительно поглядывает на свои карманные часы.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР СТАРОГО ХОЛЛА СВ. МАТФЕЯ – НОЧЬ
Официальный банкет за «высоким столом». СТЮАРДЫ колледжа, все в белых перчатках, разливают вино и разносят суп. ДЖЕЙН и МАЙКЛ сидят бок о бок, спина ДЖЕЙН подчеркнуто обращена к МАЙКЛУ.
СТАРЫЙ ПРОФЕССОР поглядывает на кривой галстук-бабочку МАЙКЛА. МАЙКЛ пытается поправить его, используя для этого свое отражение в большой, стоящей в середине стола, серебряной вазе. Результат – комическое ухудшение.
МАЙКЛ, расстроенный и скучающий, откидывается на спинку стула. Смотрит на ЛЕО, тот поднимает брови. МАЙКЛ отвечает ему вопрошающим взглядом.
ЛЕО подмигивает. МАЙКЛ улыбается, глядя, как ЛЕО встает и, стискивая, словно от ужасной головной боли, виски, прощается с теми, кто сидит по сторонам от него.
Дождавшись его ухода, МАЙКЛ проделывает то же: встает, хватается за виски и улыбается мальчишеской, извиняющейся улыбкой.
ДЖЕЙН наотмашь бьет его по лицу.
Роняются суповые ложки, выпучиваются глаза. МАЙКЛ покидает комнату.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ЗАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ – НОЧЬ
ЛЕО, без пиджака, в развязанном галстуке, улыбается МАЙКЛУ, также снявшему смокинг и сокрушенно поглаживающему щеку.
ЛЕО поворачивается к УТО, потирает ладони и перебрасывает несколько рычажков.
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
ИНТЕРЬЕР ЗАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ – НОЧЬ
КРУПНЫЙ ПЛАН просыпающегося МАЙКЛА. Над ним стоит, тряся его за плечо, ЛЕО.
МАЙКЛ. Который час?
ЛЕО. Шесть. Нам пора.
МАЙКЛ садится.
Он спал на испытательном стенде, подложив под щеку вместо подушки свой сложенный смокинг. Спрыгивает на пол.
Молодость. Если бы я полежал в такой позе, мне потребовалось бы, чтобы подняться, минут десять. Идемте. Позавтракаем.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩ. ПЛАН КИНГЗ-ПЭРЕЙД – УТРО
Кран опускается от Кингз-колледжа, минует капеллу и сторожку привратника и приближается к фасаду кафе «Медная кастрюлька». Сквозь окно нам видны профили сидящих за столиком ЛЕО и МАЙКЛА. Мы слышим их разговор, наложение звука.
МАЙКЛ (наложение). Итак?
ЛЕО (наложение). Я предпочитаю яйца не настолько жидкие.
МАЙКЛ (наложение). Вы же понимаете, о чем я. Насколько мы близки?
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР «МЕДНОЙ КАСТРЮЛЬКИ» – УТРО
ЛЕО отпивает горячего шоколада. Серьезно смотрит поверх кружки на МАЙКЛА.
МАЙКЛ. Неделя? Десять дней? Сколько?
ЛЕО. Нужно провести еще несколько испытаний.
МАЙКЛ. Каких?
ЛЕО. Все очень сложно. Это как с кольцом открывалки на банке содовой.
МАЙКЛ. То есть?
ЛЕО. Единственный способ испытать открывалку на исправность состоит в том, чтобы вскрыть банку. Однако при этом отваливается кольцо. Понимаете, в чем проблема? То же самое со сложенным парашютом. Или с центральным разделительным барьером на автостраде. Чистая проверка невозможна.
МАЙКЛ. О чем вы?
ЛЕО. О том, что я могу множество раз пройтись по математическим выкладкам. Могу множество раз проверить программу. Но в конечном счете по-настоящему испытать что-то можно, только использовав его.
МАЙКЛ (наклоняется к нему, напряженно шепчет). Так когда?
ЛЕО. Думаю, на той неделе. В четверг. Однако, Майкл… (касается рукава Майкла) вы должны понимать, что именно собираетесь сделать.
МАЙКЛ. Я понимаю.
ЛЕО. Не уверен. Ничто не останется прежним. Ничто.
МАЙКЛ. Так в этом-то вся и суть! (Возбужденно.) Все станет лучше, чем было. Мы сотворим лучший мир.
ЛЕО кивает, втыкает вилку в яйцо. Во все стороны разлетаются брызги желтка.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН НЬЮНЕМА – УТРО
МАЙКЛ тихо вкатывает велосипед в прихожую и на цыпочках поднимается в спальню.
Постель пуста. МАЙКЛ стоит, оглядывается. Подходит к одному из гардеробов, открывает его. Голо.
Он переходит в кабинет. Письменный стол ДЖЕЙН убран дочиста. На полу сложены коробки. МАЙКЛ смотрит на бирки.
ПРОСЬБА НЕ ТРОГАТЬ: ЗА НИМИ ПРИДУТ.
МАЙКЛ торопливо проходит на кухню. На столе стоит чайник, к нему прислонена ЗАПИСКА. Камера быстро наезжает на нее. Твердый женский почерк:
НА СЕЙ РАЗ – ЭТО ВСЕРЬЕЗ
ЗАТЕМНЕНИЕ
Как делать правильные ходы
Лео берет пешку
Какое-то время я просидел за кухонным столом, злой как черт.
От формы голливудского сценария к скучной, старой, традиционной прозе я перешел, поскольку и себя чувствовал именно таким. Когда чему-то приходит конец, обязательно возникает это чувство.
Я уже говорил и скажу снова: книги мертвы, пьесы мертвы, стихи мертвы – осталось только кино. Музыка еще кое-как дышит, потому что музыка – это саундтрек. Десять, пятнадцать лет назад каждый студент-гуманитарий норовил стать романистом или драматургом. Я очень удивлюсь, если вам удастся теперь найти хоть одного обладателя столь бесперспективных амбиций. Теперь все они мечтают делать кино. Всем жуть до чего охота делать кино. Не писать кино. Кино не пишут. Кино делают. Вот только жить, как в кино, дело совсем не простое.
Когда вы идете по улице – вы в кино; когда ссоритесь – вы в кино; когда предаетесь любви – вы в кино. Когда пускаете камушки по воде, покупаете газету, паркуете машину, занимаете очередь в «Макдоналдсе», стоите, глядя вниз, на краю крыши, встречаетесь с другом, рассказываете анекдоты в пивной, внезапно просыпаетесь посреди ночи или засыпаете, в доску пьяным, – вы в кино.
А вот оставаясь в одиночестве, в совершенном одиночестве, без реквизита и исполнителей ролей второго плана, вы попросту валяетесь на полу монтажной. Или еще того хуже – вас заносит в роман; на сцену, где вам никак не удается выпутаться из монолога; вы попадаете в капкан поэзии. Вас ВЫРЕЗАЮТ.
Кино – это действие. В кино всегда что-нибудь да происходит. Вы то, что вы делаете. А что творится у вас в голове, пока вы это делаете, никого не интересует. Жест, выражение лица, действие. Вы не думаете. Вы действуете. Реагируете. На вещи. На события. Вы заставляете что-нибудь да происходить. Вы творите собственную историю и собственное будущее. Обрезаете идущие к бомбе провода, пришибаете негодяя, спасаете человечество, швыряете ваш полицейский жетон в грязь и уходите, обнимаете женщину и погружаетесь в затемнение. Думать вам решительно ни к чему. Ваши глаза могут перебегать с иноземного монстра на искрящие электрокабели – готово, у вас созрел план, – однако думать вам не нужно, совсем.
Совершенный сценический герой – это Гамлет. Совершенная киногероиня – Лэсси.
Ваша собственная история – «фоновая», как ее именуют в Голливуде, – важна лишь постольку, поскольку она формирует настоящее, «сейчас».
Действие фильма вашей жизни. Вот так мы все теперь и живем. Сценами. Бог вовсе не Сочинитель Вселенной, он сценарист вашего биографического фильма.
Фразы, которые мы неизменно слышим в кино:
«Нечего тут болтать, делай – и все».
«У меня на этот счет дурное предчувствие».
«Джентльмены, мы попали в сложную ситуацию».
«У меня нет времени на разговоры».
«Действуйте, мистер».
Фразы, которые мы неизменно читаем в романах:
«Я задумался, что бы все это значило».
«В глубине души он понимал, что не прав».
«Но больше всего ей нравилось, как встают торчком, когда он возбужден или взволнован, его волосы».
«Ничто больше не имело смысла».
Вот так я и сидел, в этом самом состоянии, в романе, на кухне, ритмично подергивая себя за вихры, уставив мертвый взгляд на мертвую записку. Какие уж тут могли быть действия, одни размышления.
«На сей раз – это всерьез».
Я собирался – вот что смешно-то, – собирался все рассказать Джейн как раз этим утром. Нет, не все. Насчет облатки я бы упоминать не стал. Подал бы все как эксперимент, нечто, производимое мною и Лео in vitro. Исследование природы времени и исторической возможности. Проект, осуществляемый ради развлечения и обретения нового знания. Это объяснило бы Джейн мой странный распорядок дня и ночи, мою рассеянность, мое с трудом подавляемое волнение, мои отлучки, не дав ей и намека на риск или безрассудство.
И ведь самое нелепое – в последнюю неделю Джейн не раз и не два спрашивала у меня, чем я занимаюсь. Она не стояла, скрестив на груди руки, в проеме кухонной двери, не постукивала ступней в шлепанце по полу, соорудив на лице выражение вроде «как-ты-полагаешь-который-уже-час-ночи?». Не вперялась в меня взглядом, грозно вопрошая: «Ну?» Не раздувала свирепо ноздри, не пыталась, как то зачастую водится у влюбленных, досадить мне, весело напевая и притворяясь, будто в упор меня не видит.
Ничего подобного. Только едва различимые, смятенные вздохи, грустная сдержанность.
А теперь ее нет и уже не будет. С концами. Или без конца.
Быть может, думал я, быть может, это судьба приготовляет меня таким способом к тому, что мне предстоит совершить. Обрывает связи с настоящим, чтобы я мог вступить в новую жизнь, которую мы с Лео вознамерились создать.
Безумие, конечно. Это я понимал. Ничего у нас выйти не может. Нельзя изменить прошлое. Нельзя переиначить настоящее. Черт, да, скорее всего, и будущее-то переиначить нельзя. Гитлер уже родился, и этого не отменишь. Полный бред. И все-таки – какая проверка моих познаний! Я, знавший больше кого бы то ни было о Пассау, Браунау, Линце, Шпитале и прочих скучных подробностях убогого воспитания маленького Адольфа, мог проверить свои знания так, как никто до меня не проверял. Историк в роли Бога. Мне известно о вас столь многое, мистер Так-Называемый-Гитлер, что я могу помешать вам появиться на свет. При всех ваших умных-преумных речах, шикарных мундирах, факельных шествиях, изрыгающих смерть «пантерах», печах-убийцах и надменных повадках. При всем этом вы полностью во власти аспиранта, заучившего назубок ваши юные годы. На-ка, съешь, важная шишка.
Разумеется, для Лео все нами задуманное было исполненной великого значения миссией. Окончательная правда о ней, ошеломительная ее суть открылась мне через два дня после ухода Джейн.
Естественно, я попытался ее отыскать. Как и прежде, я, в надежде на примирение, отправился к ней в лабораторию. Ну похожу я с очаровательным и глупым видом на задних лапках, и Джейн покровительственно погладит меня по головке, и все будет хорошо. Как же.
В лаборатории я застал рыжего Дональда. Он все пытался сглотнуть волнение, от чего нелепый ком его кадыка подпрыгивал на белой шее вверх и вниз.
– Джейн, она… э-э… вроде как, ну, знаешь… ее здесь больше нет.
– Что значит «нет»? Была да вся вышла? Как яйца, пакеты с молоком и боеприпасы?
– Принстон. Исследовательский грант. Она тебе не говорила?
– Принстон?
– Штат Нью-Джерси.
Отлично. Пять с плюсом. С охеренным.
– И ни о каком телефоне спрашивать, я полагаю, не стоит?
Дональд пару раз пожал костлявыми плечами. Я взирал на него с ненавистью:
– Это что? Попытка передать номер сигнальными флажками?
Он поправил большим пальцем очки:
– Джейн особо просила…
Я не отрывал от Дональда взгляда. Глаза его расширились от страха, он дернул ладонью вверх, словно заслоняясь. Впрочем, я этот тип людей знал. Ни черта я от него не добьюсь. Тощий, хилый, башковитый, прыщеватый, слабый. Труднее сломить ослиное упрямство слабого, чем решимость сильного.
– На хер! – рявкнул я ему в физиономию. – Так и скажи ей, на хер! Если спросит обо мне, передай, я сказал: «На хер».
Он кивнул, холодная слоновая кость его малокровных щек пошла противными красно-оранжевыми пятнами.
Я протянул руку к веренице украшенных опрятными бирками пробирок.
Дональд испуганно заквакал.
И тут все во мне словно замедлилось. Я видел подергивающиеся на горле Дональда синеватые вены, его приоткрытый мокрый рот. Я ощущал, как мышцы моей руки напрягаются, готовясь к толчку, от которого пробирки разлетятся по лабораторному полу. Слышал, как кровь ревет в ушах, выбрасываемая вверх, к мозгу, смерчем гнева, который раскручивался в моей груди.
И, словно обжегшись, отдернул руку. В каждой пробирке облегченно заколыхалось по голубому мениску, Дональд снова сглотнул, со скрипом, в горле у него совсем пересохло.
Внутренне я, может быть, и дерьмо, но не наружно. Я просто не смог этого сделать.
Из лаборатории я вышел, насвистывая.
Лео изобразил полное отсутствие удивления.
– Она вам напишет, – сказал он. – Хоть бейтесь об заклад.
Он весь ушел в свою трансатлантическую шахматную партию – тягал себя за бороду и хмурился над позицией, сложившейся на доске. Всего-то два короля, ладьи да пара пешек.
– Та самая партия? – спросил я, пытаясь выдернуть пролезший сквозь подлокотник моего кресла конский волос.
– Критический момент. Эндшпиль. Камерная музыка шахмат, так его называют. А у меня получается что-то вроде камерной параши. Хорошие ходы даются с таким трудом.
Держался бы ты лучше физики, подумал я, с отвращением наблюдая, как он удовлетворенно хихикает, а острить предоставил другим.
– Кто этот малый, с которым вы играете? – спросил я.
– Ее зовут Кэтлин Эванс.
– Тоже физик?
– Конечно. Без ее работ я бы УТО не построил.
– Она про УТО знает?
– Нет. Хотя, думаю, она со своими принстонскими коллегами работает над чем-то похожим.
– Принстонскими?
– Институт перспективных исследований. С университетом никак не связан.
– Все равно. Один черт. Принстон. Ненавижу этот гребаный город.
– Эйнштейн в свое время тоже перебрался в Принстон. И многие другие беженцы.
– Джейн не беженка, – холодно отметил я. – Она дезертирша.
– Знаете, Гитлер совершил в этом смысле огромную ошибку, – сообщил, игнорируя мои слова, Лео. – Большинство тех, кто создал современную физику, работали в Берлинском университете и в Геттингенском институте, и многие из них бежали в Америку. Германия могла получить атомную бомбу в тридцать девятом. Если не раньше.
Я нетерпеливо встал и еще раз прошелся вдоль книжных полок.
– А существует какая-нибудь связь между еврейской кровью и наукой? – спросил я.
– Сейчас половина ученых здесь – азиаты. Индийцы, пакистанцы, китайцы, корейцы. Возможно, это как-то связано с положением чужака. Ни культурных корней, ни места в обществе. А числа универсальны.
– Та дамочка из Принстона, с которой вы играете в шахматы, Кэтлин Эванс. Она, судя по имени, не из чужаков.
– Она англичанка, так что в Америке – чужестранка.
– Еще одна дезертирша.
Это замечание Лео ответом не удостоил.
– Но в шахматы вы ее могли бы и обыгрывать.
– Это почему же?
– Так ведь вы, евреи, играете в них с блеском. Это всякий знает. Фишер, Каспаров и так далее.
– «Вы, евреи»? – Удивленный Лео оторвался от доски.
– Ну, вы же понимаете, о чем я. Вы, «люди еврейской крови», если вам так больше нравится.
– О, – негромко вымолвил Лео, – так вы не поняли? Ну конечно, тут я виноват.
Он вылез из кресла, подошел ко мне, стоявшему у книжных полок, положил мне на плечо руку.
– Майкл, – сказал он. – Я не еврей. Во мне нет еврейской крови.
Я вытаращил глаза:
– Но вы же говорили…
– Я никогда не говорил, что я еврей, Майкл. Разве я хоть раз говорил это?
– А ваш отец? Освенцим! Вы сказали…
– Я знаю, что я сказал, Майкл. Конечно, мой отец был в Освенциме. Он служил в СС. И мне приходится жить с этим.
Как напустить побольше дыма
Француз и шлем Полковника: I
– С тобой невозможно разговаривать, Ади. – Ганс Менд рассмеялся и, признавая поражение, с подчеркнутым благодушием пожал плечами. – Отныне пусть все будет по-твоему. Черное – это белое. Солнце восходит по вечерам. Яблоки растут на телеграфных столбах. Дания – столица Греции. Обещаю больше с тобой не спорить.
– Истину никто не жалует, – величественно изрек Ади, пряча книгу и спрыгивая, чтобы продолжить прогулку, на дощатый настил.
Каждый раз, как с ним поспоришь, думал Ганс, он вытаскивает своего чертова Шопенгауэра. «Die Welt als Wille und Vorstellung». «Мир как воля и представление». Похоже, в этой книге содержатся ответы на все вопросы. И главное, в ней содержится любимое слово Ади, Weltanschauung.[64]
– Тут вот какая история, – сказал Ади. – Я почитал пропагандистские листовки, которые англичане распространяют в своих частях.
– Ты же не знаешь английского!
Ади неловко поежился. Напоминания о том, что существует нечто, чего он не знает, не доставляли ему удовольствия.
– Мне перевел их Руди, – проворчал он.
– А, ну конечно! – Английский язык Рудольфа Глодера был, как и все в нем, безупречен.
– Суть в том, что в своих листовках англичане предпочитают изображать нас, немцев, варварами и гуннами.
«Нас, немцев». Если Weltanschauung было любимым словечком Ади, то это представлялось его излюбленной фразой. «Мы, немцы, верим…» «Мы, немцы, никогда не согласимся…» Но ведь сам-то Ади – Wienerschnitzel.[65] Тебе следовало бы говорить «мы, австрийцы», подумал Ганс.
– Ну разумеется, – согласился он. – Это же пропаганда. А чего же ты ожидал? Безудержных похвал?
– Я не о том. Понятно, они лгут, однако у их лжи имеются психологические обоснования. Она готовит английского солдата к ужасам войны, оберегает его от разочарований. Он прибывает на фронт и видит, что враг действительно жесток, что война – это ад. Его вожди были правы. Война будет трудной. И потому томми зарывается в землю с лишь усилившейся решимостью. А что говорит полному надежд немецкому юноше-новобранцу наша пропаганда? Что англичане трусливы и их легко раздавить. Что французы лишены дисциплины и вечно пребывают на грани бунта. Что Фош, Петен и Хейг[66] – дураки. Это тоже ложь, однако у нее психологические обоснования отсутствуют. Прибыв на фронт, наши солдаты быстро обнаруживают, что на самом-то деле французам присуща железная дисциплина, что томми совсем не трус. Выводы: Людендорф[67] – врун, а в штабах засело сплошное жулье. И солдаты утрачивают веру в великую фразу, которую прочитали на берлинских плакатах: «Der Sieg wird unser sein».[68] В головах их нарождается и разрастается мысль, что и это может оказаться враньем. Возможно, думают они, победа будет вовсе и не за нами. Результат: ослабление воли и снижение боевого духа. Пораженчество.
– Все может быть, – неопределенно откликнулся Ганс. – Но ведь ты-то в победу веришь.
– Вера, вот в чем вся суть! – Ади ударил кулаком по ладони, глаза его взволнованно засветились. – Победу творит воля! Пораженчество есть пророчество, которое осуществляет само себя! Создать же волю к победе с помощью лжи, на которой тебя с легкостью ловят, невозможно. Мы победим, если в нас будет воля к победе. Не существует того, чего мы, немцы, не сможем достичь, если у нас будет вера. Как не существует и глубин, до которых мы способны пасть, утратив ее. Тут нет места сомнениям. Слитная стена веры, вот что нам требуется, стена достаточно крепкая, чтобы оградить Германию от внешних врагов и от трусливых нападок ее собственных пацифистов и уклонистов. Единство, только единство. Если твои приверженцы не верят твоей пропаганде, как можно надеяться, что ей поверит враг?
– Потому-то ты и отделал того капрала?
Несколько дней назад Ади поразил всех, затеяв драку со здоровенным капралом из Нюрнберга. «Вся эта война – надувательство, от начала и до конца, – провозгласил капрал. – Это не наша война, это война Гогенцоллернов. Война аристократов и капиталистов».
– Как ты смеешь вести подобные разговоры перед солдатами! – завопил, бросаясь на него, Ади. – Ты лжец! Предатель! Большевик!
Сам Ади был младшим капралом, однако уважения к этому чину не питал – ни как к вещи в себе, ни как к вещи вне себя. Его пытались повысить в чине еще в прошлом году, но, поскольку, согласно правилам, вестовой полка выше ефрейтора подняться не может, он так ефрейтором и остался.
Противник его, капрал полный, обер-ефрейтор, раз за разом вбивал свой достойный гориллы кулак в лицо Ади, однако безрезультатно. Возможно, все дело было в нехватке воли. Или в неверном Weltanschauung. Кончилось все тем, что капрал повалился в грязь, изо рта и носа его текла кровь, а Ади, с ходящими ходуном боками, с пенящейся на губах слюной, остался стоять над ним.
После этой истории у Ади, несмотря на его Железный крест второго класса и на репутацию первоклассного добытчика еды и припасов, популярности среди новичков поубавилось. Солдаты бывалые, Игнац Вестенкиршнер, Эрнст Шмидт, Руди Глодер и сам Ганс, относились к кровожадному австрийцу с прежней любовью. Малый он был, что и говорить, утомительный. Без него жизнь была бы приятнее. Приятнее, но и опаснее, быть может, поскольку Ади не ведал страха.
Они приближались к основному ходу сообщения, прозванному Курфюрстендам – в честь главной торговой улицы Берлина. Ади замедлил шаг.
– Помню, как мне в первый раз пришлось давить вшей, – вдруг ни к селу ни к городу произнес он.
– В октябре, четыре года назад, – тут же подсказал Ганс. Взгляд его прошелся по траншеям и уходившей к Ипру ничейной земле. – Четыре года назад и в четырех милях отсюда. Мы сделали полный круг, Ади. По миле в год. Великолепный успех. Великолепная война.
И он тут же поднял, защищая лицо, ладони:
– Это не большевизм, уверяю тебя! Просто дурацкое замечание.
К удивлению его, Ади лишь улыбнулся, да еще и с неподдельной веселостью:
– Не волнуйся, я товарищей не бью. Kameraden. Еще одно излюбленное словцо.
– Слава богу. Я этой физиономией дорожу.
– Вот уж не могу понять – почему.
Силы небесные, подумал Ганс. Да он, похоже, пошутил.
– Нет, на самом деле это был не первый раз, – продолжал Ади. – В первый я избавлялся от вшей в Вене, почти десять лет назад. То место называлось Obdachlosenheim,[69] а по сути было тюрьмой, гнусной и унизительной. Деньги на жизнь, которые я получил от семьи, вышли, картин моих никто не покупал. Мне только и оставалось, что отдаться на милость государства.
Ганса слегка передернуло. Ади очень редко рассказывал о своем доме и прошлом. А если и рассказывал, то настолько бессвязно и мелодраматично, что многие принимали его за выдумщика либо вруна. «Отдаться на милость государства», надо же! «Поселиться в ночлежке» – вот и все, что он имел в виду. Помилуй его Бог.
– Для тебя это было ужасно.
Ади, отвергая сочувствие, пожал плечами:
– Я не жаловался. Не жаловался тогда, не жалуюсь и теперь. Однако я тебе так скажу, Ганс. Никогда больше. Никогда.
– «Никогда больше? Никогда?» – послышался за их спинами веселый голос. – Похоже на речи нашего любимого Адольфа.
Между ними протиснулся, хлопнув обоих по плечам, Руди Глодер.
– Герр гауптман! – Ади с Гансом, вытянувшись в струнку, отдали ему честь.
Повышения в звании, которые получал Руди, – из ефрейторов в обер-ефрейторы, штабс-ефрейторы и унтер-офицеры – следовали чередой быстрой и безостановочной. То, что ему удалось перескочить Великую Пропасть и обратиться в лейтенанта, обер-лейтенанта, а ныне и в капитана, удивляло лишь тех, кто никогда не сражался и не жил с ним бок о бок. Просто существуют люди, рожденные для того, чтобы подниматься все выше и выше.
– Да будет вам, – смутился Руди. – Салютуйте, только когда на нас смотрят другие офицеры. Так что там за история с «никогда больше»?
– Дело в том, сударь, – сказал Ади, – что мы с Гансом беседовали о французе и шлеме Полковника.
Гладкость, с которой солгал Ади, поразила Ганса. То, что Ади не желал говорить о своем далеко не блестящем венском прошлом, представлялось ему вполне естественным. А то, что менее всего Ади хотелось обсуждать эту тему именно с Глодером, было еще логичнее. Ади обладал большим, нежели у прочих, иммунитетом к обаянию Глодера. Гуго Гутман, прежний адъютант командира полка, тоже на дух не переносил Глодера, однако Гутман был евреем, а Руди никогда не боялся выказать презрение к нему и не раз называл его прямо в лицо aufgeblasene Puffmutter.[70] Впрочем, Ади не жаловал и Гутмана, даром что именно Гутман усиленно проталкивал по инстанциям представление Ади к Железному кресту. Понятно, стало быть, что блестящие достоинства Руди производили на Ади впечатление меньшее, чем на прочих людей, не по причине преданности Гутману. И все-таки, иммунитет там или не иммунитет, странно, что Ади с такой легкостью и непринужденностью солгал товарищу… странно и неприятно.
– Француз и шлем Полковника? – переспросил Руди. – Смахивает на название дешевого фарса.
– Так вы не слышали? – в голосе Ади звучало удивление. – Один из солдат, нынче утром наблюдавших за вражескими позициями, видел Pickelhaube[71]полковника Балиганда, его лучший наборный имперский шлем, – французы победно размахивали им, насадив на ствол винтовки. Должно быть, они захватили его прошлой ночью, когда напали на блиндаж Флека.
– Вот же ублюдки французские, – сказал Руди. – Растлители поганые.
– Я как раз и говорил Менду, сударь. Мы должны вернуть его.
– Разумеется, должны! Тут речь о чести полка. Вернуть, да еще и собственные трофеи захватить.
Надо показать соплякам из Шестого, у которых в жилах моча течет вместо крови, как сражаются настоящие мужчины.
Бывалых бойцов, состоявших под командой Листа, выводило из себя то обстоятельство, что полк их, изрядно прореженный четырьмя годами боев, оказался ныне обременен, точно неприятным наростом, Шестым Франконским пехотным полком. На взгляд баварских ветеранов, новички эти были никчемными, пугливыми слабаками, коим недоставало дисциплины и храбрости.
– Я испросил у майора разрешения произвести сегодня ночью одиночную вылазку, – сказал Ади. – В сектор К, это к северу от новой французской батареи. Я хорошо знаю те места по прежним временам. В конце концов, не так уж и давно эти окопы были нашими. Я много раз доставлял в них сообщения. Однако майор сказал… – и Ади довольно похоже изобразил нынешнего адъютанта (еврей Гутман погиб некоторое время назад, возглавив атаку), – сказал, что «не может жертвовать своими людьми ради столь безрассудной авантюры», и теперь я не понимаю, что нам делать.
И он выжидающе уставился на Глодера. Ганс же готов был поклясться, что различил в голосе Ади оттенок вызова.
– Ну еще бы, майор Эккерт, – сказал Глодер, – франконец. Хм. Ту т надо подумать.
Ганс внимательно вглядывался в Ади. Бледно-голубые глаза его, полные воодушевленного ожидания, не отрывались от лица Руди. Ганс недоумевал. Он что же, надеется все-таки добиться разрешения на вылазку? Но должен же он знать, что капитан не вправе отменить приказ майора. К тому же Ганс не мог понять, когда Ади успел обратиться к Эккерту за разрешением на эту затею. Они почти весь день провели вместе. Быть может, утром, когда Ганс отлучался в нужник? Очень все это странно.
– Как вы полагаете, – с надеждой осведомился Ади, – если я все же рискну, Эккерт закроет глаза на неподчинение приказу? Мне так хотелось бы…
– Нарушить прямой приказ ты не можешь, – ответил Руди. – Оставь все папочке. Он что-нибудь придумает.
На следующее утро Менд только еще управлялся с первой своей кружкой паршивого эрзац-кофе, когда к нему прибежал Эрнст Шмидт, пребывавший в редком для него волнении.
– Ганс! Ты уже слышал? О господи, какой ужас!
– Слышал что? Ради Христа, я только что проснулся.
– Тогда иди и посмотри сам. Посмотри!
И Эрнст трясущимися руками сунул ему под нос полевой бинокль.
Ганс нахлобучил каску, ворча, направился к ближайшей окопной лесенке и медленно выставил голову над бруствером. Немногословный обычно Шмидт, похоже, утрачивает умение владеть собой, думал он.
– На три часа! Слева от затопленной воронки! Вон там!
– Вниз, дурень! Хочешь, чтобы нас обоих подстрелили?
– Там! Видишь? О боже, какая смерть… И внезапно Ганс увидел.
Глодер лежал на спине, незрячие глаза его смотрели на восходящее солнце, слоновой кости шея была разорвана, алые лужи застуденевшей крови стояли на кителе, точно застывшие озерца лавы. В метре примерно от его отброшенной в сторону руки возвышался великолепный парадный Pickelhaube полковника Максимилиана Балиганда – шпицем вверх, как если б он все еще украшал голову зарытого в землю полковника. С одного плеча Руди свисал – небрежно, по-гусарски, – обеденный китель французского бригадира.
Внимание Ганса привлекло какое-то движение на переднем плане. От немецких окопов к телу медленно, сантиметр за сантиметром, по-пластунски полз человек.
– Мой бог, – прошептал Ганс. – Там Ади!
– Где?
Ганс отдал бинокль Эрнсту:
– Проклятье, если мы попробуем прикрыть Ади огнем, французы его мигом засекут. Спускайся. Воспользуемся перископом. Так будет безопаснее.
В течение двадцати минут они, безмолвно молясь, следили, как Ади приближается к проволочному заграждению.
– Осторожнее, Ади! – шептал сам себе Ганс. – Zoll für Zoll, mein Kamerad.[72]
Ади пополз вдоль главного витка проволоки, отделявшей его от Руди, и полз, пока не достиг участка, помеченного крошечными клочками ткани, – тайного прохода, оставшегося после саперов. Благополучно миновав его, он возобновил пластунское продвижение к трупу. Как только он доберется туда…
– Что теперь? – спросил Эрнст.
– Дым! – ответил Ганс. – Раз он уже там, мы можем поставить дымовую завесу между ним и передовой врага. Скорее!
Эрнст завопил, требуя дымовых ракетниц, Ганс между тем продолжал наблюдение.
Лежавший ничком Ади, похоже, вслепую ощупывал раны на спине Руди.
– Что он делает?
– Не знаю.
– Может быть, Руди не мертв!
– Разумеется, мертв, ты глаза его видел?
– Тогда что же делает Ади?
Этого Ганс разобрать не мог – Ади, поднявшись на четвереньки, загородил от него тело.
– Иисусе, да ляг же ты, полоумный! – прошептал Ганс.
И Ади, точно услышав его, снова вжался в землю близ трупа Глодера, став таким же неподвижным, как тот.
– Мой бог! Его подстрелили?
– Мы бы услышали выстрел.
– Ну, значит, нервы сдали!
До сознания Ганса дошел нараставший в окопе шум. Он оторвался от перископа, огляделся. Поднятый Эрнстом крик собрал в окоп с десяток мужчин. Да нет, не мужчин. По большей части юнцов. Одни притащили с собой перископы и описывали, с дурацкими комментариями, каждую подробность наблюдаемой ими картины. Другие таращили большие, испуганные глаза на Ганса.
– Почему он не двигается? Обмер? Перетрусил?
Зрелище оцепеневшего на ничейной земле солдата было для всех привычным. Бежит человек, бежит, виляя из стороны в сторону, а через минуту он уже неподвижен, как изваяние.
– Только не Ади, – бодро, насколько мог, ответил Ганс. – Он собирается с силами для обратного броска, вот и все.
И Ганс опять припал к окулярам. По-прежнему никакого движения.
– Всем, у кого есть дымовая ракетница, приготовиться! – крикнул он
Полдесятка солдат вскарабкалось по лестницам, на ковбойский манер держа ракетницы на плечах, дулами назад.
Ганс, прежде чем снова приникнуть к окулярам, послюнил палец и проверил, куда дует ветер. Внезапно, без всякого предупреждения, Ади вскочил лицом к врагу, подцепил руками Руди и задом поволок тело к немецким окопам, попрыгивая на полусогнутых ногах, точно танцующий казак.
– Давай! – крикнул Ганс. – Огонь! Стрелять повыше, на пять минут влево!
Ракетницы захлопали, будто вежливо аплодирующая публика. Ганс смотрел на Ади: дымовые шашки падали, перелетая его, и занавес густого дыма вставал, уплотняясь, медленно колыхаясь на ветру, между ним и передовой французов. Ади, кренясь, продвигался к своим, без остановок, без единого взгляда за спину. Возможно, он и рассчитывал на дымовую завесу, подумал Ганс. Верил, что мы поймем, как поступить. А возможно, рискнул бы в любом случае. Ганс всегда считал Ади храбрецом, однако и предположить не мог, что в нем кроется такая животная сила.
– Какого дьявола тут происходит? – В окоп вступил майор Эккерт, усы его подергивались. – Кто приказал поставить дымовую завесу?
Молодой франконец четко отсалютовал ему:
– Это ефрейтор Гитлер, сударь.
– Гитлер? А кто разрешил ему отдавать такого рода приказы?
– Да нет, сударь. Это не его приказ, сударь. Он там, снаружи, сударь. На Niemandsland.[73] Вытаскивает тело капитана Глодера, сударь.
– Глодера? Капитан Глодер убит? Как? Что?
– Он отправился этой ночью за шлемом полковника Балиганда, сударь.
– Шлемом полковника Балиганда? Вы пьяны, милейший?
– Никак нет, герр майор. Француз, должно быть, захватил его в четверг, когда напал на наши позиции, сударь. Гауптман Глодер пошел, чтобы забрать шлем. И забрал, да еще и обеденный китель их бригадира прихватил. А после его, должно быть, снял снайпер, сударь.
– Боже милостивый!
– Сударь, так точно, сударь. И теперь ефрейтор Гитлер вытаскивает тело, сударь. А штабс-ефрейтор Менд приказал прикрыть его дымом.
– Это правда, Менд?
Менд вытянулся по стойке «смирно»:
– Так точно, сударь. Я счел это наилучшим образом действий.
– Но, проклятье, француз может решить, что мы его атакуем.
Слишком ошеломленный и напуганный, чтобы ясно думать, Менд все же нашелся с ответом:
– С вашего дозволения, герр майор, от этого никому никакого вреда не будет. Franzmann[74]израсходует несколько тысяч ценных патронов, только и всего.
– Ну, знаете ли, все это полное безобразие.
По крайней мере, не такое, как ты, дерьмоголовый школьный учитель, успел подумать Менд, прежде чем предаться размышлениям более грустного толка.
– И где же сейчас Гитлер?
Шмидт, не отрываясь от бинокля, пролаял в ответ:
– У проволоки, сударь! Сударь, с ним все в порядке, сударь! Он отыскал проход. Тело при нем. И каска, сударь! Каска тоже при нем!
Солдаты восторженно взревели, и даже майор Эккерт позволил себе улыбнуться.
Ганс в недоуменном смятении повторял и повторял про себя: «Эккерт до этой самой минуты ничего не знал. Эккерт ничего не знал! Ади не говорил вчера с Эккертом о шлеме Полковника. Ади не просил разрешения на вылазку. Но ведь он же сказал мне и Руди, что просил. Почему же Ади солгал?»
Ганс медленно покинул окоп в ту самую минуту, когда туда перевалился труп Руди. Следом спрыгнул и Ади, держа наотлет шлем Полковника, – отчеканенный на нем золотой орел посверкивал под солнцем.
И пока Ганс удалялся от окопа, одобрительные крики солдат разрастались и взбухали в нем и наконец прорвались потоком горячих слез отвращения, хлынувших из его глаз.
Как искупать вину
История Акселя Бауэра
Лео вытер ладонью слезы со щек. Я тихо сидел в кресле, подергивая конский волос и боязливо наблюдая за стариком. Никогда прежде не видел плачущих взрослых людей. Ну, то есть, помимо кино. В кино взрослые люди плачут то и дело. Однако тихо. Лео же громко рыдал, прерываясь лишь для того, чтобы глотнуть побольше воздуху. Я ждал, когда эта кошмарная буря уляжется сама собой.
Минуты через две или три Лео снял очки и протер их концом галстука. Он помаргивал, уставив на меня мокрые, покрасневшие глаза.
– О, я понимаю. Почему не сказал вам раньше? Почему позволил считать меня евреем?
Я издал звук, находившийся где-то посередине между хрюканьем и взвизгом и имевший целью обозначить согласие, непредубежденность, понимание… Не знаю, что-то в этом роде. Однако, издавая его, я, наверное, давал также понять, что слово за Лео, что вести разговор придется ему, я же пока ни к каким выводам не пришел.
Видимо, так он меня и понял.
– Думаю, вы догадываетесь, что это не самая легкая для обсуждения тема. Собственно, я никогда прежде ни с кем об этом не говорил. Кроме себя самого.
Я пытался придумать, что бы такое сказать, конструктивное.
– Цуккерман… – выдавил я. – Это же еврейская фамилия, правильно? Есть такой дирижер или музыкант-исполнитель, что-то в этом роде.
– Пинхас Цуккерман. Дирижер и скрипач. И виолончелист тоже. Каждый раз, встречая его имя на записи, в газете, я гадаю…
Лео надел очки и опустился в кресло напротив меня. Мы сидели лицом друг к другу, как в день нашей первой встречи. Только на этот раз не было ни кофе, ни шоколада. Лишь расстояние между нами.
– Настоящая фамилия отца была Бауэр, – сказал Лео. – Дитрих Йозеф Бауэр. Он родился в Ганновере, в июле девятьсот четвертого. Все двадцатые провел, изучая гистологию и радиологию, затем получил пост научного сотрудника в Анатомическом институте Мюнстерского университета, где руководителем его был профессор Пауль Кремер, о нем вы от меня еще услышите. В тридцать втором отец вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию и через два года получил место Sturmarzt в СС-Рейтерштандарте номер восемь.
– Sturmarzt?
– Врач. В СС почти все звания начинались со слова «штурм». Что еще так уж необходимо знать об этой организации, кроме того, что своих врачей она именовала «штурм-докторами». Штурм-доктора! – На глаза его вновь навернулись слезы, он покачивал головой, вперед-назад. – Сама природа вопиет.
Впервые в жизни я пожалел, что не курю. Левая нога моя, как я обнаружил, попрыгивала вверх-вниз, упираясь подушечкой ступни в пол, – привычка, которую я, как мне казалось, изжил с тех времен, когда был задерганным шестнадцатилеткой.
– Так или иначе, – сказал Лео, снимая очки и вновь вытирая глаза, – в сорок первом отца приписали к Резервным войскам СС в чине гауптшарт-фюрера, это что-то вроде старшего сержанта или старшины, я полагаю, но без обязанности заниматься строевой подготовкой. Своего рода титул учтивости. Вот все, что мне удалось выяснить.
– Так вы его не знали? Вашего отца?
– К этому мы и подходим. В сентябре сорок второго он, работая в госпитале СС в Праге, получил письмо от своего старого учителя профессора Кремера, который, собственно, и присоветовал ему вступить в СС, сам Кремер с той поры продвинулся по службе, получив младшее офицерское звание унтерштурмфюрера, и теперь занимал временный пост в маленьком польском городке, о котором никто никогда и не слышал, городке под названием Аушвиц. Кремеру хотелось вернуться к работе в академии, и он рекомендовал отца в качестве подходящей замены. Мне было четыре года. Мы с матерью все еще жили в Мюнстере. При крещении мне дали имя Аксель. Я того времени совсем не помню. В октябре сорок второго нам приказали присоединиться к папе в Польше, и мы провели там два с половиной года.
– В самом Освенциме?
– Боже милостивый, нет! В городе. Да, в городе. Исключительно в городе.
Я покивал.
– Вы спрашиваете, помню ли я отца. Я расскажу вам то, что помню теперь, – то, память о чем вернулась ко мне после многих лет отсутствия. С возрастом, как вы, несомненно, знаете, такое случается. Я помню теперь мужчину, который вечно делал мне прививки. От дифтерита, от тифа, от холеры. В Аушвице часто происходили вспышки разных заболеваний, а ему не хотелось, чтобы я подцепил что-нибудь пагубное. Я также помню мужчину, который вечерами приходил с пакетами домой. Бутылки хорватской сливовицы, цельные тушки только что забитых кроликов и куропаток, куски ароматического мыла, банки с молотым кофе, а для меня – цветная бумага и цветные карандаши. Вы должны понимать, все это было великой роскошью. Как-то раз он даже принес ананас. Ананас! О работе своей он никогда ничего не говорил, если не считать слов о том, что о работе своей он никогда ничего не говорит. Он был добрым, веселым, и, думаю, в то время я любил его всей душой.
– И что именно… в чем состояла его работа?
– В том, чтобы лечить заболевших солдат и офицеров СС и присутствовать в качестве медицинского наблюдателя при Sonderaktionen.
– Зондер…
– Специальные акции, ради которых и были построены лагеря смерти. Умерщвления с помощью газа. Они называли их специальными акциями. Кроме того… – Лео умолк и с секунду смотрел мимо меня в окно. – Кроме того, отец продолжал кое-какие медицинские эксперименты, начатые Кремером. Удаление живых органов на предмет их исследования. Обоих интересовали уровни атрофии клеток у недоедающих и физически ослабленных людей. В особенности молодых. В сорок третьем Кремер написал отцу из Мюнстера, попросив его продолжить работу и регулярно высылать полученные данные.
Я смотрел, как Лео встает и подходит к книжным полкам, берет маленькую черно-белую книжку, листает ее.
– Кремер, видите ли, вел дневник. Что его и сгубило. Он провел в Освенциме всего три месяца, однако их оказалось достаточно. Дневник конфисковали англичане, которые затем передали Кремера полякам. Эта книга, изданная в Германии в восемьдесят восьмом, содержит выдержки из его дневника. Я вам почитаю. «Десятое октября тысяча девятьсот сорок второго. Экстрагировал и зафиксировал свежие живые образцы тканей печени, селезенки и поджелудочной железы. Распорядился, чтобы заключенные изготовили для меня резиновый факсимильный штамп. Впервые протопил комнату. Новые случаи сыпного тифа и Typhus abdominalis.[75] В лагере продолжается карантин». Следующий день. «Сегодня, в воскресенье, обедали жареным кроликом – по-настоящему жирная лапка – с запеченными в тесте яблоками и красной капустой. Семнадцатое октября. Присутствовал на суде и при одиннадцати экзекуциях. Экстрагировал, предварительно впрыснув пилокарпин, и зафиксировал свежие живые образцы тканей печени, селезенки и поджелудочной железы. Воскресенье, одиннадцатая зондеракция происходила утром при холодной, сырой погоде. Ужасные сцены – три голые женщины умоляли нас сохранить им жизнь». И так далее, и так далее, и так далее. Такими были три месяца Кремера. Полный его вклад в окончательное решение еврейской проблемы в Европе. Отец должен был вести жизнь очень схожую, однако он дневника заводить не стал. От его двух с половиной лет не осталось ни дневника, ни писем. – И Лео повторил, останавливаясь после каждого слова: – Двух. С половиной. Лет.
Я сглотнул слюну.
– Ваш отец тоже попал в плен? В конце войны?
– Не знаю почему, – Лео не обратил на мой вопрос никакого внимания, – но я то и дело мысленно возвращаюсь к одному месту из дневника Кремера: «Распорядился, чтобы заключенные изготовили для меня резиновый факсимильный штамп». Почему никто, размышляя об истории, не обращает внимания на подобные вещи? Вы рисуете газовые камеры, печи, собак, зверства охранников, болезни, ужас детей, муки матерей, немыслимую жестокость, неописуемый кошмар, но не «распорядился, чтобы заключенные изготовили для меня резиновый факсимильный штамп». Блестящий профессор, глава анатомической школы, получает назначение в концентрационный лагерь. Примерно через неделю он устает подписывать бесчисленные распоряжения. О чем – что можем мы предположить? О пополнении запасов фенола и аспирина? О том, что таких-то и таких-то больных заключенных следует признать непригодными для труда и отправить на обработку посредством специальной акции? Распоряжения, санкционирующие экстрагирование живых органов? Кто знает? Просто распоряжения. И потому, «Проклятье, – говорит он как-то утром коллеге. – Никак не уломаю начальника снабжения, чтобы он выдал мне факсимильный штамп. Твердит, что я здесь лишь временно, а на получение штампа из Берлина уйдет целых два месяца». «Тоже мне проблема, – отвечает коллега. – Распорядись, чтобы его сделали заключенные».
И как же он это проделал, блестящий профессор с двумя докторскими степенями, подаривший миру два поколения превосходно обученных врачей и хирургов? Как поступил, чтобы осуществить эту простую, очевидную идею? Послал ли он за заключенным, еврейским капо быть может, и велел ему все устроить? Зашел ли в один прекрасный день в барак и сказал вытянувшимся в струнку лагерникам: «Послушайте, есть у кого-нибудь из вас навыки в канцелярском деле? Мне нужен человек, способный изготовить факсимильный штамп. Я жду добровольцев». Кто знает? Так или иначе, все устроилось к лучшему. Кремер написал на листке бумаги свое имя, «Иоганн Пауль Кремер», и вручил листок отобранному для работы заключенному. Как изготовлялось факсимиле – что можем мы предположить? Пока чернила еще не просохли, заключенный приложил к листку резиновую заготовку для штампа. На заготовке осталось зеркальное отображение подписи. Заключенный аккуратно обрезал всю прочую резину. Возможно, он сделал это в кабинете, в мастерской, в каком-то месте, где ему выдали нож. Возможно, у него ушел на работу час, возможно, больше – надо было постараться и угодить герру профессору обер-штурмфюреру Кремеру, человеку, угождать которому стоило. И профессор Кремер стал счастливым обладателем штампа, несшего на себе совершенное подобие его подписи, обладателем того, что было в двадцатом столетии эквивалентом перстня с печаткой или Большой государственной печати. Теперь ему не нужно было трудиться в поте лица, выводя свое имя на листках бумаги. Все, что от него требовалось, – это прикладывать штамп. Шлеп, шлеп! – Лео с такой силой и звучностью влепил правый кулак в левую ладонь, что я подскочил на месте. – А что же сталось с изготовившим штамп лагерником? Не появилось ли в какой-то из дней его имя над подписью, столь тщательно им вырезанной? Шлеп, шлеп! А мой отец? Он тоже, приехав туда, позаботился, чтобы заключенный изготовил для него факсимильный штамп, или подождал, когда Берлин снабдит его чем-то более официальным, более стильным? – Лео примолк, переводя дыхание. – Пойду-ка, приготовлю себе шоколад. А вам кофе. Может, и печенья какие найдутся.
Я тупо кивнул.
– Вы думаете, как оно неуместно – вспомнить после подобного разговора о кофе, шоколаде и печеньях, – сказал Лео, поставив чайник на огонь и вернувшись назад. – Вы правы. Та же тошная мысль посещает меня, когда я читаю записи тех, кто управлял лагерями. «Сегодня утром, в душевой – жалкая попытка бунта. С десяток голых мусульманок» – вам известно, что они называли евреек «мусульманками»? – «с десяток голых мусульманок попытались сбежать. Кречмер прострелил каждой ногу и, прежде чем ликвидировать, заставил их десять минут прыгать на месте. Картина совершенно уморительная. За обедом – чудесное пиво, присланное из Чехии. Следом – великолепная телятина и настоящий молотый кофе». Или письма домой. «Дорогая Труди, Бог ты мой, какое же это жуткое место. Люди, которые здесь работают, демонстрируют воистину героическую стойкость. Каждый день поступает все больше евреев, их всегда оказывается слишком много для обработки. Ты ощутила бы гордость, узнав, как редко жалуются охранники и офицеры на задачи, которые им приходится выполнять в лагере. А ведь еврейские обезьяны с их вонью на что только наших людей не провоцируют. Поцелуй от меня мутти и скажи Эриху, что я хочу услышать о лучших отметках в его школьном табеле». Вот так все и шло.
– Банальность зла, – пробормотал я.
Лео поморщился:
– Возможно. Я никогда не питал доверия к этой фразе. А, вода закипает.
Снаружи заработала газонокосилка. В квартире внизу звонил телефон, с которого никто не снимал трубку. С той же несколько женственной осторожностью, что и прежде, Лео опустил поднос на столик между нами и налил мне кофе.
– Так. В один из дней сорок пятого мама призвала меня к себе. Рядом с ней стоял папа, при полном параде. В черном мундире – к тому времени уже штурмбаннфюрера СС. В мундире, который и тогда уже порождал ужас в миллионах нормальных людей и болезненное обожание с вожделением в горстке умалишенных. Фасонистая черная фуражка с «мертвой головой» на околыше, эмблемы на воротничке – молнии, изображающие две буквы, «SS», – одно это было шедевром дизайна! То, что теперь именуется «логотипом», нет? Широкие бриджи, сверкающие сапоги, охотничий хлыст, чтобы было чем мужественно постукивать себя по бедру, обшлага, галстук, крахмальная сорочка. Дух нацизма. Такой мундир обладал властью обращать и самого смехотворного олуха в неистового Übermensch.[76] Даже наименования их несли в себе мощь тотема. Sturmbannführer. Поправьте, стоя перед зеркалом, козырек фуражки, вскиньте в приветственном жесте правую руку, прищелкните каблуками и произнесите: «Ich bin Sturmbannführer».[77] По всему свету дети играют в эту игру. Мундир, язык, стиль. Для пребывающего в своем уме мира они символизируют все надменное, наглое, жестокое, варварское, скотское. Все, что покрывает нас позором. Для меня же они символизируют все то, чем был папа.
– Но в этом же нет вашей вины.
– Если вы не против, Майкл, темой вины мы займемся попозже.
Я, извиняясь, поднял руку. Что ж, это его игра. Его подача. Его правила.
– Итак, в один прекрасный день мать призвала меня, и я к ней явился. Папа опустился передо мной на колени, погладил по голове. Как делал, когда прикладывал ладонь к моему лбу, чтобы проверить, нет ли у меня температуры.
«Акси, – сказал он. – Тебе придется какое-то время заботиться о мутти. Как по-твоему, сможешь ты сделать это, ради меня?»
Я ничего не понял, однако взглянул на маму, в глазах которой стояли слезы, и кивнул. Отец, не поднимаясь с колен, обернулся и протянул руку к своему докторскому саквояжу. «Мой солдат! Но сначала я должен кое-что сделать, тебе будет немножко больно. Это ради твоего блага. Ты понимаешь?»
Я снова кивнул. Я уже привык к уколам. Впрочем, этот укол был болезненнее всех. И времени он занял немало, я просто вопил от боли. Она смутила, ошеломила меня, однако рядом была мутти, гладившая меня по голове и шептавшая: «Тише, тише». И какая-то часть меня сознавала, что все это делается из любви ко мне. Наконец папа поцеловал меня, встал, поцеловал маму. Затем резко одернул китель, чтобы разгладить морщины на нем, уложил докторский саквояж и ушел. Больше я его не видел. – Лео умолк, чтобы, сдув с шоколада пенку, сделать глоток.
– Сколько вам тогда было?
– Шесть лет. Я рассказываю то, что знаю, но не обязательно помню. Кое-что вспоминается очень ясно, однако это лишь малая часть. Маленькие озарения, островки памяти – вот все, что у меня есть. Я не помню, как мама объясняла мне, что теперь у нас будут новые имена. Не помню, что был когда-то Акселем Бауэром. Не помню времени, когда меня звали не Лео Цуккерманом, а как-то еще. Я знаю, что оно было, однако не помню его.
– Но как же вы все это выяснили?
– В шестьдесят седьмом я работал в Америке – Нью-Йорк, Колумбийский университет, – и все у меня шло отлично. Молодой профессор, не намного старше вас теперешнего, с большим будущим. Еврейский юноша, переживший Шоа и преподающий в университете «Лиги плюща». Если это не было совершенным образчиком спасения от европейского кошмара в объятиях американской мечты, значит, такого образчика просто не существовало. Однако в один прекрасный день меня вызвали к телефону и снова окунули в кошмар. И на сей раз бежать от него было некуда. У вашей матери случился удар, Лео, приезжайте немедленно. Я как безумный помчал в моей машине по мосту, ведущему в Куинс. В квартире мамы, у двери ее спальни, стояли, негромко переговариваясь, мужчины и женщины. Раввин, доктор, плачущие друзья. Маму нашли на полу кухни. Она умирает, сказал доктор. Я вошел в спальню, один. Мама знаком велела мне закрыть дверь и сесть у ее кровати. Она была слаба, но сил, чтобы рассказать нашу историю, ей хватило. Мою историю. Она рассказала мне то, что я рассказал вам, – настоящее мое имя Аксель Бауэр, отец мой был в Освенциме врачом-эсэсовцем. Рассказала, что к концу сорок четвертого он со всей ясностью понял – русские приближаются и расплата, возмездие неминуемы. Он был уверен, что отмщение ожидает не только его, но и всю его семью. Евреи, считал отец, с их девизом – око за око, зуб за зуб, – не удовольствуются одной лишь его смертью. В этом он не сомневался. И методичнейшим образом разработал план спасения своей семьи. В то время ему ассистировал при хирургических операциях еврей-заключенный. Блестящий врач из Кракова, Абель Цуккерман. Жену Цуккермана, Ханну, немецкую еврейку из Берлина, и их маленького сына, естественно, отправили сразу же по прибытии в лагерь в газовую камеру, как людей никчемных, а Цуккермана, специалиста по болезням печени, сочли представляющим определенную ценность и дали ему работу в операционной. Отец, судя по всему, относился к Цуккерману по-доброму, тайком подкармливал его и вызывал на разговоры о прошлом. В течение нескольких недель отец очень многое узнал о семье Цуккермана, о ее истории, о жившем в Нью-Йорке брате Абеля, его учебе, прошлом, о том, как он познакомился с женой, – все, что о нем следовало знать.
И однако ж настал некий день. День, когда власти сочли, что полезность свою еврейский врач несколько пережил и настала его еврейская очередь воссоединиться с его еврейской семьей в их еврейском аду. Может быть, и отец приложил к таковому решению руку. Временами я со страхом задаю себе вопрос об этом. Однако послал ли его на смерть мой отец или кто-то другой, Абель Цуккерман закончил жизнь именно так. То был день, когда штурмбаннфюрер Бауэр получил возможность привести в исполнение свой план спасения жены и сына. День, когда он пришел домой и сказал мне, что я должен быть сильным и заботиться о матери, как хороший солдат. День, когда он, опустившись на колени, вытатуировал на моем плече лагерный номер – лучший паспорт, какой мог иметь ребенок в близившиеся времена. День, когда я стал Лео Цуккерманом. День, в который моя мать, больше уже не Марта Бауэр, а Ханна Цуккерман, покинула вместе со мной Аушвиц и направилась на запад. Подальше от русских, которых она боялась пуще всего на свете. Нам следовало постараться попасть в руки американцев или англичан. Папа пообещал матери, что когда-нибудь, когда это уже не будет опасным, он присоединится к нам. Так или иначе, но он нас отыщет, и мы опять заживем одной семьей. На самом же деле, мама была уверена в этом, отец знал, что больше нас не увидит.
Все это я выслушал, пока раввин и друзья мамы ждали за дверью. Она говорила, а во мне пробуждались воспоминания, манившие к себе, словно далекая музыка. Воспоминания о боли, причиненной татуировочной иглой. Воспоминания об ананасе. Воспоминания об отцовском мундире. А следом воспоминания о том, как мы проходили ночами милю за милей и как я плакал. Как мне не давали есть. О снова и снова повторяемых мамой словах: «Ты должен похудеть, Лео! Ты должен похудеть!» Об этом воспоминании я ей сказал, спросив, что оно, собственно, означает. «Бедный малыш, – ответила она. – У меня сердце разрывалось от того, что я морила тебя голодом, но как смогла бы я убедить чиновников, что мы – беженцы из концлагеря, если бы у нас был упитанный, сытый вид?»
После недели пути, который вел нас на юг и на запад, сказала мама, мы присоединились к каким-то евреям, бежавшим из марша смерти.
Тут Лео прервал рассказ и вопросительно взглянул на меня:
– Вам известно, что такое «марш смерти»?
– Э-э… в общем, нет, – ответил я.
– Ах, Майкл! Уж если вы, историк, не знаете этого, на что же тогда остается надеяться?
– Ну, понимаете, это же не мой период. Лео горестно поник головой:
– Ладно, тогда я вам расскажу. Под самый конец СС решило, что ни одного еврея наступающие союзники освободить не должны. Все понимали – война проиграна, однако нельзя было допустить, чтобы евреи уцелели, обрели свободу и рассказали о том, что с ними творили. И пока американцы с англичанами наступали с запада, а Советы с востока, огромная армия заключенных покинула лагеря и направилась к центру Германии. Дорогой их нещадно били, морили голодом и убивали без счета. Заставляли проходить многие мили, выдавая для пропитания не больше одной репы в день. Сотни тысяч погибли. Вот это и были Todesmдrsche, марши смерти. Теперь вы знаете.
– Теперь знаю, – согласился я.
– Так вот, в один из дней, через неделю после ухода из Аушвица, мы с мамой повстречали несколько человек, каким-то образом сумевших сбежать из одной такой колонны. Трое детей и двое мужчин. Поначалу их было больше, но многие умерли в пути. Они были родом примерно из тех же мест, что и мы. И шли из лагеря в Биркенау, который иногда называют вторым Освенцимом. Мы продвигались на запад, вместе пересекли чешскую границу, все были в жалком состоянии, шли только ночами, а днем покидали дорогу и спали в канавах или под живыми изгородями. Там был мужчина, который мог только прыгать, у него отекла и начала попахивать гангреной нога. Из детей один умер на ходу, бок о бок со мной. Просто упал замертво, не издав ни звука. Спустя еще неделю нас подобрали чешские коммунисты. Меня и маму перебрасывали из одного лагеря беженцев в другой, каждый следующий был больше предыдущего. В конце концов, поверив бесконечным рассказам мамы о ее живущем в Нью-Йорке девере, нас отправили на запад, к американцам. Сержант взъерошил мне волосы и дал пластинку жевательной резинки, совсем как в кино. Он опросил нас, записал вытатуированные на наших руках номера и выдал нам удостоверения личности и проездные документы. И в сорок шестом мы наконец получили разрешение пересечь Атлантику и поселиться в Квинсе, с нашим дядей Робертом и его семьей. Вот так. План отца сработал идеально. Я рос американским евреем, вместе с такими же американскими евреями, моими двоюродными братьями и сестрами, ничего не зная о прошлом, кроме того, что мне рассказали о моем замечательном, убитом отце, добром докторе Абеле Цуккермане. Вас, может быть, удивляет, что я принял все на веру? Ведь должен же я был понимать, что это неправда?
– Не знаю, – ответил я. – Ну, то есть, что-то из прежней вашей жизни вы должны были помнить?
– Вот и я не знаю. Может, я что-то и помнил, а может, просто стер все из памяти. Теперь я не помню, что именно помнил тогда, если вам понятно, о чем я. Что сами вы помните из вашей жизни, той, какой она была до семи лет? Разве не одни только тени и странные пятна света? Я верил всему, что говорила мне мать. Как и всякий ребенок. Подумайте еще и о травме, полученной мной, когда я голодал, брел неизвестно куда, прятался, о замешательстве ребенка, которого в течение бесконечных месяцев перегоняют вместе со множеством прочих людей с места на место, о скуке и морской болезни во время путешествия через океан. Все это во многом сделало за маму ее работу. После приезда в Америку прошло полтора года, прежде чем я снова обрел способность хоть как-то разговаривать с людьми. Ко времени, когда я нарушил молчание, я уже искренне верил, что имя мое – Лео Цуккерман. А все иное попросту лишилось всякого смысла.
– А дядя? Как вашей матери удалось убедить его, что она и вправду приходится ему невесткой?
– Роберт не виделся с братом десять лет. С настоящей Ханной Цуккерман он никогда не встречался. В чем он мог усомниться? О, у мамы объяснения имелись на все. Она объяснила даже… – Лео примолк, лицо его исказила гримаса боли и смущения. – Она объяснила даже непорядок с моим пенисом.
– Простите?
– Она сказала дяде Роберту, что краковского моэля нацисты схватили еще в тридцать девятом, до того, как мне успели сделать обрезание. Обрезанию я подвергся в Нью-Йорке, через неделю после приезда туда. Вот уж чего я никогда не забуду. Обрезание, еврейскую школу, бар-мицву – их я помню совершенно отчетливо. И теперь, лежа на смертном одре, мама решилась сказать мне, что все это было ложью, вся моя жизнь. Я не еврей. Я немец.
– Лихо!
– «Лихо» – слово ничем не хуже иных. Годится практически на все случаи жизни. Я смотрел на эту женщину, на Марту Бауэр из Мюнстера. Лицо ее было так же бело, как подушка под ним, а в глазах светилось то, что я мог назвать только гордостью. «Ну вот, Акси, теперь ты знаешь все», – сказала она. Имя ударило меня, точно камень. Взбаламутивший грязные лужи памяти. «Акси»… это наводило, что называется, на самые разнообразные мысли.
«А мой настоящий отец? – спросил я. – Штурмбаннфюрер Бауэр. Что стало с ним?»
Она покачала головой. «Поляки схватили его и повесили. Я выяснила это. Со временем. Понимаешь, мне приходилось осторожничать. В конце концов я надумала обратиться в венский Центр Шимона Визенталя и заявить, будто видела его в Нью-Йорке, на улице. И мне ответили, что видела я кого-то другого, поскольку Дитриха Бауэра осудили и казнили в сорок девятом, и это совершенно точно. Вот так я все и узнала. Но ты не горюй, Акси, – торопливо прибавила она, – я уверена, он умер счастливым. Зная, что мы вне опасности».
«Почему ты ничего не говорила мне раньше, мутти?» – спросил я, стараясь, чтобы в голосе моем не прозвучало отвращение. Она умирала. А умирающих укорять нельзя.
«Для меня было важно только одно. Твоя безопасность. В этом мире лучше быть евреем, чем немцем. Но я всегда хотела, чтобы когда-нибудь ты узнал, кто ты. Я была хорошей матерью. Я защитила тебя».
И знаете, Майкл, в голосе ее проступило что-то жестокое, ужаснувшее меня.
«Ты не должен стыдиться отца. Он был хорошим человеком. Прекрасным врачом. Добрым мужчиной. Он делал что мог. Теперь никто этого не понимает. Евреи представляли опасность. Настоящую опасность. Что-то необходимо было сделать, так думали все. Все. Может быть, кто-то и зашел слишком далеко. Однако, слушая, что они теперь о нас говорят, можно подумать, будто мы были животными. А мы животными не были. Мы были людьми – с семьями, с идеалами, с чувствами. Я не хочу, чтобы ты стыдился, Акси. Я хочу, чтобы ты гордился».
Вот что она мне сказала. Я посидел с ней еще немного, мама держала меня за руку. Я чувствовал, как слабеет нажим ее пальцев. И наконец она прошептала: «Скажи им, пусть войдут. Я готова».
Поворачиваясь к двери, я увидел, что она берет со столика еврейский молитвенник. Я стоял, глядя на мать, пока ее друзья проходили мимо и обступали, по еврейскому обычаю, кровать. Вот так, Майкл, я в последний раз и увидел второго из моих родителей. Теперь вы знаете все.
Кофе в моей чашке остыл. Я смотрел на книжные полки, на ряды книг. Посвященных только одной теме.
Лео проследил мой взгляд.
– Книгу Примо Леви, «Периодическая таблица», предваряет еврейская поговорка, – сказал он. – «Ibergekumene tsores iz gut tsu dertseylin». «Приятно рассказывать о напастях, которые ты одолел». Для него, для других все это, возможно, и напасти, которые они одолели. Мне же одолеть их не удастся никогда. И в рассказе о них ничего приятного нет. На мне пятно крови, которое не смыть в этом мире. Быть может, удастся в другом. И потому – вперед, Майкл, давайте создадим этот другой мир.
Как творить историю
47 o 13’ N, 10 o 52’ E
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
ОБЩИЙ ПЛАН ДОМА МАЙКЛА – НОЧЬ
Установочный план дома в Ньюнеме. Все лампы включены. Ухает сова. Из дома несутся ЗВУКИ глухих ударов, скрежета.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ДОМА МАЙКЛА, СПАЛЬНЯ – НОЧЬ
МАЙКЛ в спальне, роется под кроватью. Разговаривает сам с собой.
МАЙКЛ. Ну давай, моя маленькая… Я же знаю, ты где-то здесь…
Подходит к платяному шкафу, открывает его. В шкафу пусто. Шарит по полу шкафа.
Ну же!
Разгибаясь, в отчаянии хлопает себя по бедрам. Проводит рукой поверх платяного шкафа. Ничего.
Переходит в ванную.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ДОМА МАЙКЛА, ВАННАЯ – НОЧЬ
МАЙКЛ распахивает дверцу висящего над раковиной шкафчика.
Делает это он слишком резко. Все содержимое шкафчика вываливается наружу. Крем для бритья, зубная паста, зубные щетки, тюбики мазей, пузырьки с таблетками.
МАЙКЛ (гневно кричит). Жопа! Блин! Дважды блин!
Сгребает все, что упало, и пытается запихать обратно. Не получается.
Долбаная блинная жопа!
Хватает бритву и, закрывая ее, ранит руку. МАЙКЛ, разъяренный, высасывает кровь.
Распроблин херотень Христова…
Бормоча что-то, топает на кухню.
Блин-переблин-херня-распроклятая.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ДОМА МАЙКЛА, КУХНЯ – НОЧЬ
МАЙКЛ ополаскивает руку под краном, мрачно подходит к столу посреди кухни.
На столе лежит раскрытый БУМАЖНИК. Содержимое его высыпано на клеенку. Деньги, кредитные карточки, водительские права, клочки бумаги.
Мрачный МАЙКЛ садится за стол, перебирает все это. Сует пальцы в бумажник, обшаривает каждое отделение.
МАЙКЛ (бормочет сам себе). Надежное место! Ну, умора…
Обхватывает руками голову, горестно раскачивается взад-вперед.
(Подражая Оливье в «Марафонце».) Это безопасно? Это безопасно? (Подражая Хоффману в том же фильме.) Конечно, безопасно. До того безопасно, что вы и не поверите… (Неистово кричит сам на себя.) Идиот. Жопа драная. Тебе ни… ни… ничего доверить нельзя… утихни, ладно? НО ПОЧЕМУ? Почему я не мог просто…
Внезапно выпрямляется…
Алло!
На лице его появляется улыбка.
Ну да…
Улыбка становится шире.
Мать-размать, а почему бы и нет?
Вскакивает, бежит в кабинет.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ДОМА МАЙКЛА, КАБИНЕТ – НОЧЬ
Появляется МАЙКЛ, направляющийся не к своей половине кабинета, но к половине Джейн. Там все еще стоят готовые к отправке, аккуратно помеченные наклейками коробки.
МАЙКЛ. Она не вспомнила об этом. Она не вспомнила. Она об этом вспомнить не могла…
Открывает нижний ящик письменного стола Джейн, шарит у задней стенки.
(Подражая Джейн.) «Всегда держи запасец»… «Всегда держи запасец»…
Рука его нащупывает что-то.
Да!
Появляется ладонь, сжимающая…
Пыльную КРЕДИТНУЮ КАРТОЧКУ.
МАЙКЛ сдувает пыль.
КРУПНЫЙ ПЛАН кредитной карточки.
Это не кредитная карточка, а скорее удостоверение. С фотографией очень серьезной Джейн.
МАЙКЛ целует карточку, проводит пальцем по магнитной полоске.
Сука. Свинья. Корова. Милая. Ууф!
ПЕРЕХОД К:
ОБЩ. ПЛАН КОРПУСА ГЕНЕТИКИ – НОЧЬ
МАЙКЛ в черной водолазке, черных брюках и черных перчатках не очень убедительными скачками перебегает от куста к кусту.
Оглядывает здание. Вестибюль освещен, однако больше света нигде не видно.
МАЙКЛ смотрит на наручные часы.
МАЙКЛ. Блин.
Выпрыгнув из-за куста, он с более-менее уверенным видом направляется к стеклянным дверям.
Мы видим за первой дверью замок с прорезью для магнитных карточек.
МАЙКЛ извлекает карточку, дважды сглатывает и вставляет ее в прорезь.
Цвет индикатора сменяется с красного на зеленый, мы слышим утешительное БЛЯМ.
МАЙКЛ открывает дверь и входит.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОРПУСА ГЕНЕТИКИ, ВЕСТИБЮЛЬ – НОЧЬ
МАЙКЛ, беззвучно перебирая ногами, бежит к лифтам. Бросает взгляд налево, на стойку секретарш. Там никого. Все купается в жутковатом безмолвии.
МАЙКЛ жмет на кнопку, двери лифта разъезжаются.
Он нервно сглатывает, вступает в лифт, и двери за ним смыкаются.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОРПУСА ГЕНЕТИКИ, ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ – НОЧЬ
Тихий, тускло освещенный коридор.
ДЗЫНЬ!
Двери лифта расходятся, тут же вспыхивает свет, – МАЙКЛ выступает в коридор, нервно озирается направо-налево.
Осторожно идет по коридору, приближаясь к знакомой двери.
Оглядывает замок, снова вставляет карточку в прорезь.
Еще одно утешительное «блям»!
МАЙКЛ входит внутрь, включает свет.
МАЙКЛ. Ат-лично!..
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОРПУСА ГЕНЕТИКИ, ЛАБОРАТОРИЯ ДЖЕЙН – НОЧЬ
Вспыхивают лампы дневного света, МАЙКЛ выходит на середину лаборатории.
Теперь он на хорошо знакомой ему территории. С секунду оглядывается по сторонам, привыкая к яркому свету люминесцентных ламп.
Подступает к испытательному стенду.
МАЙКЛ. Ну-с. Где вы, красавицы мои? Только не говорите мне, что…
Смотрит на пустой край стенда. Проводит рукой по голой поверхности.
Нет. Нет, это было бы… Спокойно, малыш. Только спокойно.
Он делает шаг назад, стараясь подавить все нарастающий страх. Смотрит, как смотрим и мы, на стенд…
Глубокие раковины с резиновыми трубками на кранах. Электрическое оборудование. Центрифуги. Стойки с пробирками. Над стендом и под ним расположены шкафчики, все это смахивает на хорошо оборудованную кухню.
МАЙКЛ делает глубокий вдох и подходит к одному из шкафчиков. Открывает его.
КРУПНЫЙ ПЛАН – лицо МАЙКЛА.
Он заглядывает в шкафчик…
ПУСТО.
Жопа.
Открывает другой…
ПУСТО.
Блин.
Еще один…
ПУСТО.
Две жопы.
Еще…
ПУСТО.
Дважды блин.
И еще…
ПОЛОН.
Да неужели?
Брови МАЙКЛА взлетают вверх.
Да! Полон!!
Шкафчик заставлен большими склянками. В одной из них – оранжевые пилюли. Мы их уже видели раньше. Едва способный дышать – а вдруг это мираж? – МАЙКЛ наклоняется, извлекает из шкафчика склянку с пилюлями.
Осторожно ставит ее на поверхность стенда, открывает, зачерпывает полную горсть.
Смотрит на пилюли, глубоко вздыхает и пересыпает пилюли в карманы.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОРПУСА ГЕНЕТИКИ, ВЕСТИБЮЛЬ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ – НОЧЬ
Двери лифта разъезжаются, появляется МАЙКЛ. Он пересекает вестибюль и почти уже открывает наружную дверь, чтобы выйти…
ЗВУК.
МАЙКЛ прислушивается.
Мы СЛЫШИМ странное, приглушенное подвывание. МАЙКЛ оборачивается, смотрит вдоль коридора, недоуменно хмурится.
Заинтригованный, МАЙКЛ быстро идет по коридору. ПОДВЫВАНИЕ усиливается.
Он останавливается у двери. Дверь деревянная, но с вертикальными стеклянными прорезями. МАЙКЛ прижимается к одной из них глазом.
Мы видим все этим глазом.
И различаем тускло освещенные КЛЕТКИ.
В клетках сидят СОБАКИ. Симпатичнейшие щенки, каких мы когда-либо видели, негромко и грустно подвывают, прижимаясь к стальным прутьям.
МАЙКЛ (шепотом). Привет, щенятки!
ВОЙ нарастает, клетки начинают раскачиваться.
Чш! Ребятки… потише, ладно?
МАЙКЛ нащупывает карточку, проводит ею по прорези замка. Проходит в дверь.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОРПУСА ГЕНЕТИКИ, КОМНАТА ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ – НОЧЬ
МАЙКЛ включает свет, осматривает комнату. Всю ее занимают клетки со щенками.
Скулеж, царапанье, вой разрастаются до громового шума.
МАЙКЛ (нервно). Ну-ка, ребятки… потише, ладно?
Шум усиливается.
Вы щенки… я Пип. Рад знакомству.
Новый взрыв царапанья и воя.
Послушайте, выпустить вас я не могу. Вы слишком юны. И просто подохнете. Поверьте. Это было бы слишком жестоко. Простите.
Щенки, снятые в РАЗНЫХ РАКУРСАХ. Почему-то они приобретают вид почти зловещий. Огромные, кровожадные. Шум усиливается еще больше, клетки раскачиваются.
Все выглядит так, точно с них вот-вот сорвет запоры.
МАЙКЛ отступает, испуганный. Покидает комнату, закрывает за собой дверь.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН КОРПУСА ГЕНЕТИКИ – НОЧЬ
МАЙКЛ бежит от здания, завывание щенков все еще отдается в его ушах.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН МАДИНГЛИ-РОУД – НОЧЬ
МУЗЫКА
МАЙКЛ летит на велосипеде. Сворачивает за угол и мчится к Лабораториям Кавендиша.
МАЙКЛ проносится через автомобильную парковку к фасаду здания, у которого его поджидает ЛЕО с компьютерной сумкой в руке, вид у него немного рассерженный. МАЙКЛ спрыгивает с велосипеда, роняет его на землю.
ЛЕО. Еще немного, и мы упустили бы спутник.
МАЙКЛ (отдуваясь). Простите… Пришлось…
ЛЕО. Неважно. Главное, вы здесь. Пошли.
ЛЕО поворачивается к дверям. МАЙКЛ снимает кейс с багажника лежащего на земле велосипеда и следует за ЛЕО.
МАЙКЛ (шепотом). Jawohl, mein Hauptmann! Schnell, schnell![78]
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ЗАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ – НОЧЬ
ЛЕО возится с техникой. УТО уже включен. От него расходятся сзади кабели, круглые и плоские. Мы видим, что над экраном появилась наклейка: «У. Т. О.»
МАЙКЛ. Я потерял пилюлю. Представляете? Уверен был, что положил ее в какое-то надежное место, – и потерял. Пришлось пойти, разжиться другими. Потому и опоздал.
ЛЕО (сосредоточенный на том, чем занимается). Потеряли?
МАЙКЛ опустошает карманы. Пилюль набирается около тридцати.
МАЙКЛ. Все в порядке. Вот они. Может, оно и к лучшему. Вдруг одной оказалось бы мало? Мы же об этой дряни ничего толком не знаем, так?
ЛЕО смотрит на пилюли.
ЛЕО. Это верно.
МАЙКЛ. Сколько их нужно, как вы думаете?
ЛЕО. Там видно будет. Мы ведь даже не уверены, что Алоизу захочется пить.
МАЙКЛ. Еще как захочется. Вспомните, какие у него похмелья по утрам. Ему только одно и требуется – вода, причем галлонами.
ЛЕО. На это вся наша надежда. Так, прошу вас. Координаты.
МАЙКЛ открывает кейс, заглядывает в свои записи. Диктует координаты.
МАЙКЛ. Сорок семь градусов тринадцать минут двадцать восемь секунд северной широты, десять градусов пятьдесят две минуты тридцать одна секунда восточной долготы.
ЛЕО подходит к пульту спутниковой связи и одну за другой вводит называемые МАЙКЛОМ цифры.
Мы видим, как на мониторе изменяется получаемое от одного из спутников изображение. Подпись под ним гласит: 47o 13’ 28" N – 10o 52’ 31" E.
ЛЕО. Проверка.
ЛЕО подходит к УТО, берет кабель и подсоединяет его к разъему пульта спутниковой связи.
ЛЕО возвращается к УТО, включает его. Экран вспыхивает, однако изображение на нем отсутствует.
Так. Теперь дату.
МАЙКЛ. Мы же договорились – июнь тысяча восемьсот восемьдесят восьмого.
ЛЕО. Хорошо. Пусть будет первое июня тысяча восемьсот восемьдесят восьмого.
МАЙКЛ. Утро.
ЛЕО. Ноль шесть ноль-ноль…
Нажимает клавиши УТО. Перебрасывает переключатель. На этот раз экран УТО оживает.
КРУПНЫЙ ПЛАН экрана. Хаотические, как и прежде, завихрения красок. По экрану тянется что-то вроде темно-лиловой вены.
МАЙКЛ. А это еще что? ЛЕО. Оно самое. Браунауна-Инне, Верхняя Австрия, первого июня.
МАЙКЛ. Лихо!
ЛЕО и МАЙКЛ смотрят друг на друга.
ЛЕО берет четыре облатки, отходит к другому концу стенда, туда, где стоит странный КОНТЕЙНЕР ИЗ СЕРОГО МЕТАЛЛА, накрытый стеклянной крышкой. Сняв крышку, ЛЕО помещает в контейнер пилюли. Потом берется за отходящий от контейнера кабель и подсоединяет его к УТО.
МАЙКЛ сглатывает.
Вы уверены, что мы действительно хотим этого?
ЛЕО смотрит на МАЙКЛА.
ЛЕО. У нас нет времени на разговоры. Через десять минут уйдет спутник.
МАЙКЛ. Я просто…
ЛЕО. Что вы мне пытаетесь сказать? Мы уже столько раз все обсуждали. Господи, ведь это же ваша идея!
МАЙКЛ. Я знаю, знаю. Но вдруг что-нибудь пойдет не так?
ЛЕО. Не так? Не так? Майкл, это шло не так. В том-то все и дело.
Он тычет пальцем в экран.
Смотрите! Вот сюда! Смотрите. Всего через десять месяцев здесь получит свободу самая злая за всю историю мира сила. Беды, страдания, пытки, смерть, отчаяние, разрушения, гибель… что еще могу я сказать? Язык тут бессилен. А мы можем все остановить.
КРУПНЫЙ ПЛАН экрана – слова ЛЕО сопровождаются красочными всполохами.
(За кадром.) Эта тихая улочка вот-вот породит ящик Пандоры, похожий с виду на шкатулочку, в которой хранит свои украшения Барби. И мы способны помешать этому! Нам не придется стрелять, метать ножи. Ни бомбы, ни яда, ни боли. Всего четыре пилюльки, и зло никогда не явится на свет.
МАЙКЛ. И вы сможете спать ночами.
ЛЕО (сердито). Вы полагаете, для меня только это и важно? Моя совесть?
МАЙКЛ. Ну… так ведь оно и есть, верно?
ЛЕО. Значит, раньше… когда вы считали меня евреем. Тогда вас ничто не смущало? Я имел право мстить. А теперь. Теперь, когда вы знаете, что я немец, сын одного из освенцимских животных, теперь все стало иначе? Месть – дело благородное, а искупление вины – нет?
МАЙКЛ. Нет, не то. Я просто…
ЛЕО берет МАЙКЛА за руку.
ЛЕО. Послушайте, Пип. В этой жизни ты – либо мышь, либо крыса. Иного не дано. Однако…
МАЙКЛ. Ну понятно, кому же охота быть крысой?
ЛЕО. Вы не даете мне закончить. Разница между ними состоит в том, что крыса творит добро или зло, изменяя то, что ее окружает, действуя. Мышь же творит добро или зло, не делая ничего, отказываясь вмешиваться. Кем хотите быть вы?
МАЙКЛ смотрит на экран. На ЛЕО. На пилюли в его руке.
МАЙКЛ (глубоко вздохнув). Черт.
ЛЕО улыбается.
МАЙКЛ улыбается в ответ.
Быть крысой и взяться за эту мышь.
ЛЕО берется за присоединенную к УТО компьютерную мышь, изображение на экране смещается.
ЛЕО. Вот! Лиловое – это вода. Тот самый источник, и сомневаться не в чем.
Мы видим пересекающую экран лиловую линию. Внезапно на экране возникает какое-то движение.
МАЙКЛ. Господи, что это, как по-вашему? ЛЕО. Кто знает? Возможно, животное. Сейчас увеличу цистерну…
Изображение медленно лиловеет.
МАЙКЛ. Не могу поверить, что…
ЛЕО снимает ладонь с мыши.
ЛЕО. Вы знаете, что делать. По моему слову.
Вступает и нарастает МУЗЫКА.
МАЙКЛ подходит к контейнеру с пилюлями. Сбоку на контейнере расположена красная кнопка.
МАЙКЛ облизывает губы и кладет на кнопку большой палец.
Тем временем ладонь ЛЕО ложится на клавиатуру УТО.
Они смотрят друг на друга.
МУЗЫКА усиливается.
КРУПНЫЙ ПЛАН МАЙКЛА.
КРУПНЫЙ ПЛАН пилюль в контейнере.
КРУПНЫЙ ПЛАН лица ЛЕО.
КРУПНЫЙ ПЛАН лежащих на клавиатуре пальцев ЛЕО.
КРУПНЫЙ ПЛАН большого пальца МАЙКЛА.
ЛЕО дважды кивает и…
ЛЕО. ДАВАЙТЕ!
Большой палец МАЙКЛА вдавливает кнопку.
Мы видим, как внутри контейнера вспыхивают и наливаются светом четыре пилюли. Потом они выцветают, словно…
Палец ЛЕО нажимает на клавишу.
Посреди лиловой картинки на экране УТО возникают тусклые призраки четырех оранжевых облаток, они становятся все ярче.
Из контейнера пилюли исчезли.
Они появились в Браунау, в цистерне.
Внезапно МАЙКЛ обнаруживает, что все в комнате начинает вращаться, менять форму.
Мониторы спутниковой связи, клавиатура, даже сам ЛЕО – все изменяется, обращаясь в подобия водоворотов.
Когда МУЗЫКА достигает кульминации, становится ясно, что в водоворот затягивается все вокруг. Вещество, свет, энергия – все они обращаются в гигантский смерч сверкающих красок.
В эпицентре смерча находится экран УТО. Все материальное, начиная с маленьких предметов, деформируется и затягивается в него.
ЛЕО исчезает прямо на глазах МАЙКЛА, экран всасывает старика, как будто тот был всего лишь упавшим в сток канализации древесным листком.
Огромная, ослепительная вспышка света и цвета – и МАЙКЛА тоже отрывает от пола и проносит сквозь экран, как если бы он нырнул в океан сверкающей ртути.
Кажется, что и сама Вселенная улетает в УТО, которое словно выворачивается наизнанку и всасывается само в себя, оставляя лишь…
ЗАТЕМНЕНИЕ
Часть вторая
Местная история
Генри-Холл
– Дамы и господа, добро пожаловать в Город Ракетных Струй…
– Оу!
– Эй, дурень, я сказал «приложи голову к стене», а не «колотись об нее что есть силы».
– Непристойно, совершенно непристойно…
– Вот блеванул так блеванул…
– Черт дери, он мне ботинок изгадил…
– Что там с его головой?
– Крови не видно, а шишкарь к утру точно вскочит.
– Кто-нибудь, держите его руку…
– Да я к нему и близко…
– Ну почему он проделывает этот номер каждый распроклятый раз? Господи, да неужели…
– Видел бы ты его в прошлый актовый день…
– Будем торчать здесь, маршрутку упустим.
– По-моему, он вырубился.
– О-о…
– Смотри-ка! Оно разговаривает…
– Куда я, к черту, попал?
– Как-то странно оно разговаривает…
– Не тяни волынку, Майки. Двигаться надо.
– Может, в него гамбургер запихать?
– Нет, Тодд. Это не мысль…
– О господи… опять свалился.
– Меня, похоже, ноги не держат.
– Кончай дурить, Шерлок…
– Да что с тобой, Майки? Черт, ты же выпил не больше любого из нас…
Смутно различаю в алкогольном тумане «Бургер-кинг», мимо которого мы проходим. Странный какой-то «Бургер-кинг». И книжный магазин. Тоже странный. Никогда их прежде не видел.
На другой стороне улицы – ворота колледжа. Тринити? Не Тринити. Сент-Джонз? Нет.
Тогда что?
И с машинами непорядок. Дело не в том, что они плывут и вихляются, как медузы. Не в том, что их фары режут мне глаза. Тут что-то другое…
Ладно, через минуту пойму. А пока – все внимание на ноги.
Видишь? Не так уж оно и трудно.
Ты, главное, постарайся передвигаться по прямой.
Господи, сыро-то как…
И вообще, кто эти люди?
Кто такие эти ребята?
Это ты у нас умник, Буч.
Вот, правильно, сосредоточимся на том, что знаем. Уверимся, что мы не полностью безнадежны.
«Буч Кэссиди и Санденс Кид», 1969-й, режиссер Джордж Рой Хилл.
Четырежды четыре шестнадцать.
Битва при Азенкуре, 1415-й.
Столица Корсики – Аяччо.
В: Можете ли вы назвать национальность Наполеона?
О: Конечно, могу!
Солнце находится в девяноста трех миллионах миль от Земли. Или около того.
Второе имя Л. П. Хартли[79] – Поулс.
Прошлое – заграница, там все делают иначе.[80]
Ладно, похоже, мозги в порядке.
Однако, надрался. Нарезался будь здоров. Ту т и говорить не о чем. И голова после удара кружится.
Ты знай себе топай, сынок.
Кто-то вцепился в меня, да так, что того и гляди кожу под мышкой разорвет.
О! Какой миленький автобус!
Только какого дьявола водитель уселся не с той стороны?
Не поспать ли мне чуток?
Мм…
– Подъем, пропойца…
– Генри-Холл…
– Генри Холл? А кто он, этот Генри Холл?
– Слушайте, братцы, может, бросим его в вестибюле?
– Пора бы уже повзрослеть, Уильямс.
– Ладно. Я дотащу его до комнаты…
– Ну ты герой, Стив.
– Не, серьезно, где я?
– Здорово. Ты просто делай, как я, дружок, я прямо у тебя за спиной. Пока, ребята.
– Пока, Стив.
– Думаешь, он в порядке?
– Будет, я постараюсь.
– Что это за дом?
– Дом, милый дом, Майки. Вот сюда… и поспешай без торопливости.
– А другие куда пошли?
– Другие пошли по своим постелям. А ты должен попасть в свою. После чего и я смогу отправиться в мою. Что будет приятно. Ключ, пожалуйста…
– А? Ключ?
– Ага. Ключ.
– Что ключ?
– Не валяй дурака, Майки. Мне нужен твой ключ.
– Мой ключ? Майки? Кто такой Майки? И кто мой ключ?
– Где он?
– Ключ? У меня нет ключа.
– Разумеется, есть…
– Ключа нет.
– Ключ есть. Слушай, Майки, мы так кого-нибудь разбудим.
– Эй! Что ты делаешь?
– Ничего личного, Майки. Я лишь хочу найти…
– Убери руки из моих карманов, понял? Я тебе говорю, я не желаю…
– Ладно. А это, по-твоему, что? Талисман на счастье?
– Да я их отродясь не видал.
– Знаешь, Майки, ты здорово сегодня чудишь. Ты уверен, что у тебя все путем? Ладно. Входим… Ложимся на кроватку, там добрый мистер Баиньки только и ждет, чтобы забрать тебя с собой. Далеко-далеко, в страну снов, где каждый счастлив и кушает сладкий вишневый пирог.
– Чья это комната?
– Ложись, не болтай. Все путем. Раздевать тебя я не буду.
– Да нет, а что происходит-то?
– Я просто хочу убедиться, что ты не блеванешь и не захлебнешься, только и всего. Посмотри на меня, Майк. Ты ведь не собираешься больше блевать, верно?
– Ты кто?
– Просто ответь. Тебе стравить нужно?
– Нет. Стравить не нужно…
– Ладно. Отлично. Твои ключи и деньги вот тут, на столе…
– Как жарко…
– Уф. Не хотел бы я поутру поменяться с тобой головой.
– Хорошая кровать. Удобная.
– Конечно. Удобная. Очень удобная. Я выключаю свет.
– Пока-пока… а как я тебя называю? Как твое имя?
– Здорово…
– Ты случайно не американец?
– Тьфу… Крепкого тебе сна, Майки. Не позволяй клопам кусаться.
О Иисусе. Блин. Похоже, настоящего похмелья я до сих пор еще не знал. Нынешнее – полный восторг. Пожалуй, надо немного полежать. Подождать, пока язык отлипнет от нёба.
Тп-тп-тп. Тп-тп-тп.
Набери немного слюны.
Самая непристойная песенка «Ойли-Мойли»:
Чуть-чуть слюны —
И все
Путем.
Хм.
Воды.
Попробуй открыть глаза. Хотя бы чуть-чуть. У тебя получится.
Ни хрена себе…
Это как в детстве, когда ты брал целлофановую обертку от конфеты «Куолити-стрит» и прикладывал ее к глазам, хихикая и бегая по кухне за ставшей шафрановой мамой. «Уй… ты вся желтая, мам».
Впрочем, главное даже не в том, что все вокруг окрашено в тошнотворный цвет яичного желтка, у нас имеется и другая проблема. Комната…
Крепись. Этого не может быть. Просто быть не может. Составь список. Занеси в него все, что видишь. Конспективно, используя только одно полушарие мозга.
Комната, содержащая:
столик, содержащий:
• связку ключей,
• пачку сигарет «Лаки страйк»,
• железнодорожный билет, на котором значится:
«Транзитная компания Нью-Джерси»,
• бумажник,
• мобильный телефон,
• бутылка «Эвиан», содержащая: воду «Эвиан», я полагаю,
• часы, сообщающие: 09:12;
постель, содержащая:
• мое тело, несущее на себе: чужую одежду, шишку на голове,
• мое сознание, ощущающее: тошноту, нелепость происходящего, замешательство, испуг; окна, содержащие:
• жалюзи (закрытые); письменный стол, содержащий:
• компьютер выключенный,
• книги,
• телефон,
• бумаги;
дверь (наполовину открытую), ведущую:
• в ванную комнату;
стены, на которых висят:
• плакаты с изображениями неведомых мне музыкальных групп, бейсбольной команды, симпатичных поп-звезд («М» и «Ж»),
• черно-оранжевый флаг;
платяной шкаф, содержащий:
• одежду (наполовину неразличимую), принадлежащую:
??;
еще одну дверь (закрытую), ведущую в:
•???????
Комплект неплох. О чем он нам говорит? Он говорит о том, что у нас похмелье. Он говорит нам, что мы находимся в чужой квартире. Говорит, что с нами творится нечто неподобное.
Но мы не впадаем в панику. Мы пытаемся расслабить наше открытое всему на свете сознание, подобно тому, как мучимый запором человек пытается расслабить свой несговорчивый сфинктер. М-м, какой симпатичный образ, Майки.
Майки?
Не напрягайся. Постарайся привыкнуть к этому свету.
Воды. Так-то лучше.
В мозгу моем распускаются маленькие цветики воспоминаний.
Я, блюющий в парке.
Нет, не в парке, на площади. На небольшой городской площади.
«Бургер-кинг», не похожий на «Бургер-кинг».
Книжный магазин.
Странно ведущие себя машины. Странно? Что значит – странно? Ладно, потом.
Еще воды.
Автобус. Миленький такой автобусик.
Кто-то произносит: «Генри Холл».
Да, правильно, Генри Холл.
Теперь поосторожней, дружок. Соберись с мыслями. Запомни их. И поспешай без торопливости.
«Поспешай без торопливости»… так кто-то сказал. Прошлой ночью, если это было прошлой ночью, кто-то сказал: «Поспешай без торопливости». Я в этом уверен.
Стив… Мне является имя – Стив. Как трудно разодрать завесу, мой дорогой. Однако взывает же ко мне некто, именуемый Стивом. Не было ль в твоей жизни близкого человека по имени Стив, совсем недавно скончавшегося? Не он ли теперь дает тебе знать, что очень счастлив, что ему хорошо и спокойно?
Да, а вот и второе имя. Майки.
Они все время называли меня «Майки». Почему? Никто меня так не звал. Никогда.
Ощупываю шишку на голове и…
Иисусе…
Еще одна новость. Какой-то сукин сын пролез сюда и остриг меня!
Мои прекрасные волосы… Не такие, конечно, длинные, как у хиппи, но все же они ниспадали, понимаете? Бывало. А теперь они обрезаны, мертвы.
Черт, надо бы встать.
Надо бы встать и…
…и что?
На миг оставим меня лежащим в постели, собирающим себя по кусочкам. Я как-то не уверен, что рассказываю эту историю правильно. Я уже говорил, она подобна окружности, в которую можно войти в любой ее точке. Она подобна также окружности, в которую нельзя войти в любой ее точке.
Самые эти слова стояли в начале моего рассказа. Если у окружности бывает начало. Теперь приходится их повторять.
Как историк, я должен, вообще-то говоря, обладать способностью дать простой и ясный отчет о событиях, происшедших в… ну-ка, ну-ка, и где же они произошли? Все это очень спорно. Загадка, которая меня донимает, лучше всего формулируется посредством следующих утверждений:
А. Ничего из нижеследующего никогда не происходило.
Б. Все нижеследующее – чистой воды правда.
Вот я и лежу, гадая, подобно Китсу: Мечтал я? – или грезил наяву? Проснулся? – или это снова сон? И гадая также, почему, о Иисусе, Джейн не лежит рядом, свернувшись теплым калачиком? Хотя нет, тут и гадать-то не о чем. Ответ на этот вопрос мне известен. Она меня бросила. Это я знаю. Уж это-то я знаю. Нет ее здесь. Обратилась в историю. Ну ладно, тогда – гадая, куда меня, к чертям, занесло.
В самой середке моего мозга расположился темный колодец. Я все пытаюсь спустить в него ведра, ведра слов, ведра образов и ассоциаций, которые смогли бы вытянуть наверх что-то знакомое, вызвать некий чистый, холодный всплеск памяти. Может, если поработать насосом, все и извергнется наружу большим фонтаном.
Понимаете, я знаю, что знаю нечто, вот что меня донимает. Нечто незабываемое. Наиважнейшее. Но что именно? Память – что твой лосось. Чем крепче я его стискиваю, тем дальше он, выскользнув из моих рук, улетает. И этот образ мне тоже знаком.
Надо встать. Встану, все ко мне и вернется.
Ух ты! Голова у нас, может, и болит, в животе все дрожит, ноги подкашиваются, горло дерет, но мы все-таки встали. Сто лет не блевал, и ощущение от этого времяпрепровождения мне нисколько не нравится.
Нет. Неверно. Меня рвало, и совсем недавно. Над чашей унитаза – длинная нить слюны, прилепившаяся к гортани, свисала изо рта… это когда же было-то, прошлой ночью? Недавно. Ничего, вспомню.
А пока… Я гляжу на себя и задаюсь вопросом, что это на мне за одежонка такая? Не узнаю я ни этих шортов, ни тенниски. Извините, но я их просто-напросто не узнаю. Я к тому, что нипочем не надел бы чего-то настолько… не знаю, настолько чистенького, полагаю. Хлопчатобумажные шорты? Поклясться готов, что они отглажены, хоть и заляпаны подсохшими брызгами рвоты. Да еще и тенниска… тенниска из хлопка «си-айленд», господи боже ты мой. С какой-то вышитой золотом эмблемой на левой стороне. Я оттягиваю тенниску сбоку, чтобы приглядеться получше. Вроде бы слон, вверх ногами не разберешь, слон в какой-то люльке. Такие подцепляют к подъемному крану, чтобы переносить животных с судна на берег. Я хочу сказать, каким надо быть никчемным уродом, чтобы носить отглаженные шорты и тенниски «си-айленд» с дол-баными вышитыми слонами?
Вот обувь признать я еще могу. Обычные кроссовки-мокроступы с грязными подошвами, «Тим-берленд». Правда, не мои, хотя ступни облегают, как… ну, вы понимаете. Просто так уж вышло, что «тимберленды» я не ношу. Мне подавай «Себейго». Ту т никакой особой причины, просто таким я всегда и был. Я полагаю.
Пора подойти к окну, поднять жалюзи и напомнить себе, где я завершил вчера мой путь и почему.
С жалюзи я управляться никогда не умел. Никак не запомню, что полагается делать – не то за шнур потянуть, не то ручку повертеть. На сей раз я проделал и то и другое, отчего правая сторона жалюзи наполовину поднялась и застряла, вызывающе сомкнув планки. Я пригнулся, чтобы заглянуть в освободившийся треугольничек.
Мать честная…
Отродясь ничего этого не видел. Какое-то длинное, низкое здание. Окна со средниками, с одного бока увитые плющом. Может, это Сент-Джонз-колледж? Я заночевал в Сент-Джонз-колледже?
Я отвернулся, чуть ли не хохоча про себя. Все до того смешно, что с этим остается только смириться.
Не спеши… с этим надо смириться.[81]
От этих слов из памяти выползает анекдот.
КЛИЕНТ. Официант, этот суп, который вы мне принесли…
ОФИЦИАНТ. А что такое, сэр?
КЛИЕНТ. В меню сказано суп «Оазис». А на мой вкус, это обыкновенный томатный суп.
ОФИЦИАНТ. Все верно, сэр. Обыкновенный томатный суп, сэр.
КЛИЕНТ. Тогда почему он назван супом «Оазис»?
ОФИЦИАНТ. Потому что (поет): «С этим надо смириться…»
Дердан, дердан… тьфу!
Стоп, стоп! «Оазис» напомнил мне что-то важное. Связанное с Джейн.
Да, но Джейн ушла…
Я полагаю.
Нет, что-то из сказанного ею. Что-то… а, хрен с ним. Самое лучшее – отыскать дорогу домой, выспаться – все самой собой и пройдет.
«Отыскать дорогу домой» – более простых и ясных слов никому еще написать не удавалось. «Одиссея», «Невероятное путешествие», «Стар трек: Вояджер». Под конец все сводится к тому, чтобы отыскать дорогу домой.
Я принял душ, хороший, надо отдать ему должное, душ, просто отличный, если на то пошло, лучший, возможно, какой я когда-либо принимал, горячий, шипящий, широко расходящийся, хлеставший меня, точно обжигающий ливень. Я под ним едва в обморок не грохнулся.
Из-за похмелья и зашибленной головы чувствовал я себя, что уж говорить, дерьмово. Но, знаете, в каком-то смысле и хорошо. Потому что хорошо выглядел. Я провел пальцем по грудным мышцам и подумал, что, может, наконец обращаюсь в крепкого парня. Потом опустил взгляд ниже и вот тут-то едва в обморок и не упал. Вы бы тоже упали.
Я сменил шорты и тенниску на… на другую тенниску и другие хлопчатобумажные шорты, – жарко было, даже в этот ранний час, а после душа жарко, как в парилке, между тем простой легкой тенниски найти мне не удалось – и открыл дверь, напоследок окинув комнату недоумевающим, испуганным взглядом.
Оказался я не в коридоре, как ожидал, а в другой комнате. Набитые книгами полки, какой-то странноватый компьютер, новенькие плакаты с неведомыми мне моделями, музыкантами и спортивными звездами, холодильничек, кушетка под высоким лжеготическим окном… все чужое. Я, не задерживаясь, потопал к другой двери.
За этой уже был коридор, примерно такой, как в отеле, только светлее и шире; запущеннее, но в то же время пышнее. Не столь маниакально пропылесосенный, вылизанный и навощенный, однако более сочных тонов, более солидной постройки – наделенный подобием шика. Выступив в него, я увидел перед собой дверь с номером 300, а под номером – медную накладку с вставленной в нее карточкой, на которой каллиграфическим почерком было выведено: «Дон Костелло». Я обернулся, чтобы взглянуть на дверь, которую закрывал, дверь комнаты, из которой вышел.
303
Майкл Д. Янг
И я ударился в бегство, пот уже лил у меня из подмышек, струился по бокам. Я пробегал мимо комнат, двери некоторых были открыты, их обитатели сидели на кроватях, натягивая плотные белые носки, или разгуливали туда-сюда в полотенцах на бедрах. Добежав до застекленной двери в конце коридора, я рывком распахнул ее и вылетел на широкую лестницу из поблескивающей сосны.
Жара, непривычные запахи, высокие окна, скрип дерева – все это слипалось в комок и просачивалось в мое сознание подобно тому, как протекает между пальцами зажатая в кулаке мокрая глина. Я ощущал во всем моем липком теле покалывание – кошмар первого дня в новой школе. Вселяющее страх ощущение подступающих к тебе со всех сторон опасностей. Понимание того, что мозг твой вскоре перечертит карту пространства, которое ты видишь, переменив его пропорции и размеры, что перспективы, углы, все эти поля обзора дадут усадку. И ты сможешь, стоя посреди коридора, воскресить первое впечатление от него, полученное до того, как он стал привычным и безопасным, и станешь гадать, что же, собственно, делало его столь пугающим. И будешь томиться давящим, точно свинцовый груз, сознанием того, что привыкание твое к этому месту было, в сущности, его порчей, утратой.
Ну и парит, однако… вот уж к чему я бы никогда привыкнуть не смог. Какой-то металлический привкус ощущается в воздухе, намек на далекую, кипящую на горизонте грозу.
Спустившись до середины лестницы, я услышал поскрипывание деревянных ступеней под кроссовками, шлепки ладони о деревянные же перила – кто-то поднимался мне навстречу.
Кто бы он ни был, сказал я себе, вопросы следует задавать как можно спокойнее.
Я глянул вниз и увидел копну светлых волос, подрагивая, приближавшуюся ко мне.
– Простите, – сказал я. – Не могу ли я…
– А, так оно живо!
– М-м…
– Ну, как все?
– Я…
Он хлопнул меня ладонью по плечу, вглядываясь в мои глаза своими, синими и участливыми.
– Да-а, видок у тебя все еще безобразный. Черт, ну ты прошлой ночью и дал. Я, это, как раз решил зайти взглянуть на тебя.
– Э-э… а, собственно, где я?
– Ну правильно! Еще бы! Давай-ка мы в «Тауэр» заскочим, выпьем кофе.
Мы пошли вниз по лестнице. Он был юношей из прошлой ночи, хотя я бы в этом не поклялся.
– Вы ведь Стив, верно?
– Слушай, Майки, ты давай кончай с этим, ладно? Уже не смешно. Фух! Я и сам-то вчера многовато принял.
– Куда мы идем?
– Я же сказал, в «Тауэр»… впрочем, нет, в твоем состоянии лучше, пожалуй, прогуляться до «Папы Джонса». Пусть тебя ветерком обдует.
Я последовал за ним до двери у подножия лестницы, двери, к которой он на секунду прислонился, оглядывая меня из-под полуопущенных ресниц и грустно покачивая головой, – совершенно как школьный учитель, всматривающийся в ученика, который, как он полагает, добром не кончит. Взгляд у него был озадаченный – озадаченный, но не без некой надежды, а на что, я тогда не уразумел. Лишь позже – много, много позже – понял я этот взгляд.
– Ой-ёй-ёй…
Он вздохнул и толчком распахнул дверь. Теплый воздух ударил мне в лицо сырой, тропической волной. Но куда более сильный удар, от которого у меня захватило дух, который лишил меня всех надежд на исправность моего рассудка, нанес открывшийся передо мной вид на огромный двор, огромную череду дворов. Во всех направлениях тянулись университетские башни, сторожки привратников, лужайки, сводчатые переходы, прямоугольные дворы и скульптуры. Казалось, Св. Матфей заболел раком и изверг из себя непомерные, мутантные новообразования, буйные и слабоумные вариации на тему Кембриджа.
Я врос в землю, притиснув, точно дитя, ляжку к ляжке.
– В чем дело?
– Я… я…
– Черт, а тебя и впрямь до печенок проняло, верно?
Я немо кивнул.
– Иди-ка сюда, – сказал Стив. – Посмотри на меня. Посмотри на меня…
Он встревоженно вглядывался в мои глаза. Я, перепуганный до колик, подчинился.
– Может, у тебя сотрясение мозга. Зрачки, по-моему, нормальные. Хотя я ни черта не знаю о том, что случается с ними при сотрясении мозга. Ладно, пошли.
Я шел с ним, точно во сне. Надо мной возносились якобы якобианские колокольни, псевдосредневековые зубчатые стены и несообразно смазливые горгульи; мощеные дорожки, выложенные в розоватом термакадаме, вели нас сквозь самое сердце этого огромного поселения.
Последнее слово пробудило во мне видение Патрика Макгуэна, Заключенного, просыпающегося в своей маленькой комнатке посреди Поселения. Камера, обуянная манией исторической дотошности, переплывает с подбрасывающего пинг-понговые шарики фонтанчика на зеленые медные купола; с миниатюрных, украшенных опять-таки куполами дворцов на глумливых каменных херувимов.
– Где я?
– В Поселении.
– Кто вы?
– Я Номер Второй.
– А кто Номер Первый?
– ВАШ номер Шесть.
– Я не номер, я СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Стив обнимал меня рукой за плечи, мы миновали сторожку привратника – старинную по стилю, но крепкую, чистую, новую – и вышли на полную машин улицу.
Потребовалась секунда, чтобы увиденное дошло до моего сознания.
– Иисусе, – произнес я. – Машины…
– Ну брось, Майки. Успокойся, ладно? Чего уж ты их так испугался? Улицу мы перейдем немного дальше.
– Нет, но где мы? Это же не Англия!
– О господи, Майки.
Я смотрел на него, дрожащий, испуганный, и видел, как мой страх отражается и на его лице. Глаза мои наполнились слезами.
– Простите… простите! Но я и правда не понимаю, что происходит. Почему вы меня знаете, а я вас нет? И машины. Они же едут по правой стороне. Гд е мы? Прошу вас, скажите, где?
Он стоял передо мной, положив мне на плечи руки, прохожие поглядывали на нас, и я чувствовал, как он старается одолеть собственный страх и желание оказаться в милях и милях от меня, стенающего идиота. Потом он, повысив голос, как делают, разговаривая с глухим, с иностранцем, с умалишенным, произнес:
– Майки, все в порядке. Я думаю, ты вчера треснулся головой и, наверное, у тебя от удара все спуталось в памяти. Ты малость заговариваешься, но это ничего. Посмотри на меня. Ну же, посмотри на меня, Майки!
Я снова спросил – дрожащим, повизгивающим дискантом:
– Да, но где же я? Пожалуйста. Я не понимаю, где я.
– Майки, я сейчас отведу тебя к доктору. Ты просто иди со мной, и только, ладно? Все хорошо. Ты в Принстоне, где ж тебе еще быть, и беситься тут совершенно не с чего, идет?
Военная история
Француз и шлем Полковника: II
– Ну и жарища. Как будто в кипятке варишься, а они все равно заставляют нас напяливать гимнастерки.
Ганс Менд, шаркая сапогами, тащился по дощатому настилу в сторону передовых позиций, громко и беззаботно понося генералов. Шагавший бок о бок с ним Эрнст Шмидт оставался, как и всегда, неколебимо немногословным, лишь время от времени комментируя услышанное сипом, исходившим из его поврежденных газами легких.
– И заметь, – сказал Ганс. – Даже если бы кто-нибудь влепил им в задницы по гаубичному снаряду, они, скорее всего, ухитрились бы и это объявить тактической победой. А тут еще, – продолжал он, выдержав учтиво оставленную им для ответа паузу, которая, как он знал, заполнена не будет, – Franzmann и дважды клятый шлем Полковника. Надо же что-то делать. Поучить наших франкийских щенков на достойном примере. Показать им, что мы, баварцы, не оставляем таких оскорблений без ответа. Мы обязаны отомстить. Преподать урок.
– Говорить-то легко, – сказал Шмидт. Ганс весело ткнул Эрнста локтем в ребра:
– Вот и постарался бы делать это почаще. А? Ха!
– От разговоров проку мало.
– Напротив, они позволяют скоротать время, упражняют легкие и острят ум.
– Из-за разговоров-то мы эту войну и проигрываем.
– Ради бога, Эрнст! – Ганс нервно оглянулся. – Ничего мы эту войну не проигрываем. В военном отношении все у нас идет хорошо, мы обладаем явным преимуществом, и все это знают. Мы терпим поражение лишь на домашнем фронте. Наш боевой дух поимели большевики, пацифисты и художники-извращенцы.
– Это кого же опять поимели художники-извращенцы? – послышался за их спинами веселый голос. – Надеюсь, речь не об очередном скандале в прусском семействе? Только его нам и не хватало.
Между ними протиснулся, хлопнув обоих по плечам, Руди Глодер.
Ганс с Эрнстом, вытянувшись в струнку, отдали ему честь:
– Герр гауптман!
– Да будет вам, – смущенно улыбнулся Ру-ди. – Салютуйте, только когда на нас смотрят другие офицеры. Так что там за история с артистами-извращенцами?
– Речь шла о состоянии морали, сударь, – ответил Ганс. – Я говорил Шмидту о том, что кое-кто в тылу подрывает наш боевой дух.
– Хм. Хороший выбор слов. Внутренний наш враг использует те же методы, что и враг, засевший во Франции. Изматывание противника и подкопы – вот все, чем каждый из нас занимается на этой войне. Наши драгоценные лидеры не понимают сути военного искусства двадцатого века. По счастью, наши недруги понимают его еще хуже.
Недруги! Типичное для Руди, подумал Ганс, и внешне противоречащее себе самому использование в разговоре о современной войне старинного вагнеровского слова наподобие «недруги» выдает в нем нечто мальчишески искреннее и совершенно неотразимое.
– Свинья Franzmänner[82] очень даже его понимает, – мрачно заметил Эрнст.
Брови Руди поползли вверх:
– То есть?
– Я думаю, это он о французе и шлеме Полковника.
– Француз и шлем Полковника? – переспросил Руди. – Смахивает на название дешевого фарса.
– Вы об этом еще не слышали, сударь, – сказал Ганс.
– Вы, вестовые, всегда узнаете новости первыми. А нам, скромным окопным крысам, приходится переваривать их уже пережеванными и сплюнутыми в окопы.
– Тут вот какая история, сударь. Один из солдат, нынче утром наблюдавших за вражескими позициями, видел Pickelhaube полковника Балиганда, его лучший наборный имперский шлем, – французы победно размахивали им, насадив на ствол винтовки. Должно быть, они захватили его в четверг, во время вылазки.
– Вот же ублюдки французские, – сказал Руди. – Высокомерные свиньи.
– Вам не кажется, что мы должны вернуть его, сударь? Ради укрепления боевого духа?
– Обязаны! Ту т речь о чести полка. Вернуть, да еще и собственные трофеи захватить. Надо показать соплякам из Шестого, у которых в жилах моча течет вместо крови, как сражаются настоящие мужчины.
– Да, сударь. Вот только майор Эккерт ни за что не разрешит произвести ради подобной цели какие-либо прямые действия.
Руди потер подбородок:
– В этом ты, возможно, и прав. Майор Эккерт, как ни крути, франконец. Тут надо подумать. Где окопался этот наглый мусью?
– Точно к северу от новой позиции их батареи, – ответил, указывая пальцем, Ганс. – В секторе К.
– В секторе К? Там ведь были когда-то наши окопы, верно? Мы сами же и вырыли эту пакость четыре года назад. Я бы, пожалуй… Какого дьявола, Шмидт?
Ганс глазам своим не поверил, увидев, как Эрнст хватает Руди за руку и тянет к себе.
– Сударь, я знаю, что вы задумали, но об этом и речи быть не может! – сказал Эрнст.
– Как ты смеешь говорить мне такое?
– Сударь, вы не должны! Правда же, не должны!
Руди спокойно отнял руку, и нечто среднее, показалось Гансу, между досадой и приятным удивлением покрыло складками вечную гладь его чела.
– Эрнст,[83] – произнес он, – какое точное тебе дали имя.
– Совершенно верно, Herr Hauptmann! – неуступчиво ответил Эрнст. – И смею вас уверить… ich meine es mit bitterem Ernst.[84]
Руди улыбнулся и негромко пропел:
– Ernst, Ernst, mein Ernst! Immer so ernsthaft ernst.[85]
– Простите меня, сударь, но я точно знаю, что вы задумали. И это негоже, сударь, правда, негоже.
– А как ты можешь это знать?
– Я знаю, просто знаю. Знаю вашу отвагу, сударь. Однако это слишком опасно. Мы вполне можем позволить себе потерять шлем Полковника, двадцать шлемов, двадцать полковников даже, но… – от прилива чувств грубое лицо Эрнста покраснело и набрякло, Ганс увидел в глазах его слезы, – но не вас.
Ганс подумал, что ему ни разу в жизни не доводилось видеть человека, столь открыто, столь бесстыдно преклоняющегося перед своим героем. Да нет, черт возьми, тут не преклонение, тут любовь. Товарищество составляло самую суть окопной жизни; не согреваясь у огня дружеских чувств того или иного свойства, солдаты не смогли бы снести душевную стужу, которой дышала война. То был мучительный парадокс их жизни здесь: без дружбы протянуть невозможно, и при этом, что ни день, кто-то из твоих друзей погибает. Обрати человека в опору своего существования – и его смерть сделает тебя еще более слабым, чем прежде. И потому о привязанности к товарищам говорить было не принято, а от смертей их солдаты отделывались пожатиями плеч и кладбищенскими шуточками. И Гансу казалось поразительным, что Эрнст, именно Эрнст Шмидт, не кто-то другой, оказался способным, если слегка переправить метафору, содрать с себя маску, рискуя вдоволь наглотаться газа.
Видит бог, все они любили Руди. Видит бог, подшучивать над его смертью им было бы нелегко.
Вот сам Руди, тот да, тот имел право подшучивать над чем угодно. Обняв Эрнста за плечи, Руди улыбнулся ему, тепло и любовно.
– Мой дорогой старый товарищ, – сказал он, – ты что же, хотел бы, чтобы я окопался в двух милях отсюда, среди генералов? Сидел бы себе в кресле да покуривал трубку? Я воин. И ты уже должен бы знать, что меня ничто не берет. Я искупался в крови дракона.
Руди, когда он произносит слова в этом роде, думал Ганс, почему-то не выглядит, как оно следовало бы, смехотворно нелепым. Начни я разговаривать подобным манером, думал он, в меня запустили бы куском мыла, а после еще и потешались бы надо мной до скончанья времен. Но Руди – Руди словно стоит в витражном окне, посверкивая серебром доспехов, и святые рыцари с блистательными героями окружают его. Господи, да вы меня только послушайте! Ганс, чтобы не расхохотаться, стиснул кулаки, вонзив себе ногти в ладони. Между тем Эрнст, на которого накатил приступ кашля, все еще ухитрялся оставаться… серьезным.
– Пообещайте мне, сударь! Пообещайте! – умолял он, взревывая, будто тюлень.
– Я не даю обещаний, которые не способен сдержать, – ответил Руди. – Но ты не бойся. Завтра утром я вновь буду здесь, целый и невредимый. Вот в этом, мой преданный друг, я поклясться готов. И не волнуйся ты так! Знаешь, тебе следовало остаться в отпуске по болезни на более долгий срок. Твои легкие все еще не оправились.
– Я так же крепок, как любой из наших солдат, – возразил Эрнст.
– А я вот думаю, может, мне стоит подать рапорт, чтобы тебя снова отправили в отпуск?
– Нет, сударь! Прошу вас, не делайте этого.
– Ну, тогда, может быть, перевели на службу полегче…
– Это всего лишь простуда, ничего больше! Я годен для боя.
– Что верно, то верно, старый товарищ, – ласково произнес Руди. – Конечно, годен. Годен на все.
Контраст между ними казался Гансу удивительным до нелепости. Руди, золотоволосый, лучащийся здоровьем, и Эрнст, ростом на голову ниже его, с грубыми чертами, заходящийся в сухом, лающем кашле.
Руди повернулся к Гансу:
– Сделай мне одолжение, пригляди за ним, ладно? Позаботься, чтобы он не лез на рожон.
И Руди ушел, напевая Вагнера, а Эрнст трогательно смотрел ему в спину, сипя, как старая собака.
Чистые звуки прирожденного Heldentenor[86] Руди перепархивали с одного такта радостной песни Зигфрида на другой, подобно оленю, прыжками поднимающемуся в гору, наполняя слух Ганса музыкой мечей, копий и боевых коней, способной посрамить далекое уханье пошлых пушек.
«Этот миг я унесу с собой в могилу», – подумал он. И тут же досадливо хлопнул себя по ляжкам. Ты становишься слишком сентиментальным, Ганс Менд, слишком привязчивым. Совсем как старина Эрнст. В конце концов, Руди могут убить через пять минут. Не избирай в опору стебель травы.
Ладно, сказал он себе, быть может, в сантиментах, в честных немецких сантиментах никакого вреда и нет. Но как же хотелось бы, чтобы Руди удержался от искушения поддразнивать Эрнста. Возможно, впрочем, что он, хорошо зная Эрнста, пытался спровоцировать его на какую-нибудь дурацкую выходку…
Ганс тряхнул головой и выбросил из нее эту мысль.
На следующее утро, когда Менд еще раскручивал осадок на дне первой своей кружки паршивого эрзац-кофе, к нему заявился мрачно покачивавший головой Игнац Вестенкиршнер.
– Худое дело, Менд. Худое.
– О чем ты?
– О господи, так ты еще не слышал?
Ганс раздраженно фыркнул. Он терпеть не мог, когда с ним заводили эту волынку – сообщали новость в час по чайной ложке. Свежие сведения на фронте дороже, чем шоколад, и почти каждый солдат испытывал наслаждение, пересказывая их со всей возможной неторопливостью, Вестенкиршнер же был в этом смысле худшим из всех.
Ганс уткнул взгляд ему в колени.
– Нет, не слышал, – сказал он. – И почти уверен, что слышать не хочу. Полагаю, однако, что узнаю твою новость довольно скоро.
Он почувствовал, как на плечо его легла рука Вестенкиршнера.
– Прости, Ганс. Я думал, тебе уже сказали… Ганс встал, в желудке его внезапно запульсировал страх.
– Так что?
Игнац мягко вложил ему в ладонь полевой бинокль и указал в сторону ничейной земли.
– Посмотри сам, старина, – сказал он.
Ганс взобрался по ближайшей окопной лесенке и медленно выставил голову над бруствером. Если Игнац меня разыгрывает, думал он, я оторву ему яйца и запихаю их в орудийный казенник.
– На девять часов! Справа от воронки. Вон там!
– Где?!
– Там! Неужели не видишь? И внезапно Ганс увидел.
Эрнст лежал ничком, спина его была разворочена и поблескивала, точно черная смородина, пальцы отброшенной в сторону руки сжимали ремешок великолепного парадного Pickelhaube полковника Максимилиана Балиганда. Чуть дальше, не дотянуться, валялись серебряные ножны с саблей французского офицера в них, – казалось, последнее, что сделал умиравший солдат, это отбросил саблю к своим окопам.
Ганс смотрел, и его мутило от ненависти и гнева. Он так и знал. Просто-напросто знал, что Эрнст выкинет что-нибудь в этом роде.
– Дурак! – завопил он. – Дурак дерьмоголовый! Ну зачем это? Зачем?
– Полегче, – сказал снизу Игнац. – Теперь уж ничего не попишешь.
Внимание Ганса привлекло какое-то движение на переднем плане. От немецких окопов к телу медленно, сантиметр за сантиметром, по-пластунски полз человек.
– Мой бог, – прошептал Ганс. – Там Руди!
– Где? – Игнац выхватил у него бинокль. – Святая Мария! Он спятил? Его же убьют! Что нам делать?
– Делать? Делать? Ничего, идиот. Что бы мы ни сделали, это лишь привлечет к нему внимание. И спусти свою чертову башку в окоп, воспользуемся перископом.
В течение двадцати минут они, безмолвно молясь, следили, как Руди приближается к проволочному заграждению.
– Осторожнее, Руди! – шептал себе Ганс. – У тебя получится.
Руди полз вдоль главного витка проволоки, отделявшего его от тела Эрнста, полз, пока не достиг участка, помеченного крошечными клочками ткани, – тайного прохода, оставшегося после саперов. Благополучно миновав его, он возобновил пластунское продвижение к трупу.
Как только он доберется туда…
– Теперь-то он какого черта делать станет? – проскулил Игнац. – Мой бог, пока была самая легкая часть.
– Дым! – сказал Ганс. – Раз он уже там, мы можем поставить дымовую завесу между ним и передовой врага. Скорее!
Игнац скатился с лестницы и понесся к ближайшему блиндажу, криками требуя дымовых ракетниц; Ганс между тем продолжал наблюдение.
Руди лежал рядом с трупом, такой же неподвижный, как тот.
– Что происходит? У него нервы сдали?
До сознания Ганса дошел нараставший в его окопе шум. Он оторвался от перископа, огляделся. Поднятый Игнацем крик собрал в окоп с десяток мужчин. Да нет, не мужчин. По большей части юнцов. Одни притащили с собой перископы и описывали, с дурацкими комментариями, каждую подробность наблюдаемой ими картины. Другие таращили большие, испуганные глаза на Ганса.
– Почему он не двигается? Оцепенел от страха?
Зрелище оцепеневшего на ничейной земле солдата было для всех привычным. Бежит человек, бежит, виляя из стороны в сторону, а через минуту он уже неподвижен, как изваяние.
– Только не Руди, – ответил Ганс с уверенностью, которой вовсе не чувствовал. – Он собирается с силами для обратного броска, вот и все.
Он опять припал к окулярам. По-прежнему никакого движения.
– Всем, у кого есть дымовая ракетница, приготовиться! – крикнул он.
Полдесятка солдат вскарабкалось по лестницам, на ковбойский манер держа ракетницы на плечах, дулами назад.
Ганс, прежде чем снова приникнуть к окулярам, послюнил палец и проверил, куда дует ветер. Внезапно, без всякого предупреждения, Руди вскочил лицом к врагу, подцепил руками Эрнста и задом поволок тело к немецким окопам, попрыгивая на полусогнутых ногах, точно танцующий казак.
– Давай! – крикнул Ганс. – Огонь! Стрелять повыше, на пять минут влево!
Ракетницы захлопали, будто вежливо аплодирующая публика. Ганс смотрел на Руди: дымовые шашки падали, перелетая его, и занавес густого дыма вставал, уплотняясь, медленно колыхаясь на ветру, между ним и передовой французов. На секунду Руди обернулся и приветственно помахал рукой своим. Знал ли он, что мы пустим дым? – гадал Ганс. Верил ли, что поймем, как поступить? Нет, он рискнул бы в любом случае. Руди считал себя повинным в гибели Эрнста и готов был загладить вину, отдав свою жизнь. Какое великолепное идиотство.
– Какого дьявола тут происходит? – В окоп вступил майор Эккерт, усы его подергивались. – Кто приказал поставить дымовую завесу?
Молодой франконец четко отсалютовал ему:
– Это гауптман Глодер, сударь.
– Гауптман Глодер? Почему он отдал такой приказ?
– Да нет, сударь. Это не его приказ, сударь. Он там, снаружи, сударь. На Niemandsland. Вытаскивает тело штабс-ефрейтора Шмидта, сударь.
– Шмидта? Штабс-ефрейтор Шмидт убит? Как? Что?
– Он отправился ночью за шлемом полковника Балиганда, сударь.
– Шлемом полковника Балиганда? Вы пьяны, милейший?
– Никак нет, герр майор. Француз, должно быть, захватил его в четверг, когда напал на наши позиции, сударь. Шмидт пошел, чтобы вернуть его. И забрал, да и еще саблю их прихватил. А после его, должно быть, убило снарядом, сударь. Или миной.
– Боже милостивый!
– Сударь, так точно, сударь. И теперь гауптман Глодер вытаскивает тело, сударь. Штабс-ефрейтор Менд приказал прикрыть его дымом.
– Это правда, Менд?
Менд вытянулся по стойке «смирно»:
– Так точно, сударь. Я счел это наилучшим образом действий.
– Но, проклятье, француз может решить, что мы его атакуем.
– С вашего дозволения, герр майор, от этого никому никакого вреда не будет. Franzmann израсходует несколько тысяч ценных патронов, только и всего.
– Ну, знаете ли, все это полное безобразие. По крайней мере, не такое, как ты, дерьмоголовый школьный учитель, подумал Менд.
– И где же сейчас гауптман? Вестенкиршнер, не отрываясь от бинокля, пролаял в ответ:
– У проволоки, сударь! Сударь, с ним все в порядке, сударь! Он отыскал проход. Тело при нем. И каска, сударь! Каска с саблей тоже при нем!
Солдаты восторженно взревели, и даже майор Эккерт позволил себе улыбнуться.
Ганс смотрел, как Руди осторожно опускает труп Эрнста на руки солдат, протянутые снизу, из окопа. Руди спустился и сам, отмахиваясь от приветственных криков и поздравлений, и безграничность его печали заставила солдат умолкнуть. Он приблизился к телу так, словно был с ним наедине, в какой-то далекой часовне, – на родине, во многих милях от войны. Не выпуская шлема и сабли из рук, он опустился на колени, – Tarnhelm и Nothung лишь усиливали оставляемое всей сценой впечатление величественного вагнерианского абсурда.[87] Далекое буханье артиллерии казалось приглушенными ударами барабанов, сопровождающими заупокойную службу, клубы долетающего сюда дыма овевали окоп похоронными курениями. Руди, с мокрым от слез лицом, мягко опустил шлем и саблю на грудь Эрнста. Ганс тоже плакал, горячие слезы горя, гордости и любви катились по его щекам.
Руди перекрестился, встал, вытянулся по стойке «смирно», отдал трупу честь и ушел, расталкивая побледневших юнцов.
И Ганс вдруг с совершенной ясностью и убежденностью понял кое-что. Невозможно, с приливом гордости осознал он, чтобы Германия проиграла войну. Если бы враг смог увидеть то, что видел сегодня он, то капитулировал бы уже завтра. Скоро все закончится. Мир и победа будут за нами.
История болезни
Жезл Гермеса
– Скоро все закончится, сынок. Вы просто последите глазами за моим пальцем. Вот так, головой не двигайте. Только глазами.
Доктор Бэллинджер записал что-то в блокнот, со стуком уронил на него ручку, скрестил на груди руки и улыбнулся мне, лучезарно, точно душевный дядюшка.
– И что? – спросил я.
– Думаю, за психику вам тревожиться нечего. Признаки сотрясения отсутствуют. Давление хорошее, пульс тоже. Вы производите впечатление пышущего здоровьем молодого человека.
Ступни мои со страшной скоростью попрыгивали вверх-вниз.
– Да, но память, доктор. Почему я ничего не могу вспомнить?
– Ну, не думаю, что нам следует впадать из-за этого в панику. Такое случается.
Я хмуро кивнул, чувствуя, как ноги мои, овеваемые воздухом из кондиционера, покрываются гусиной кожей.
– Сделайте мне одно одолжение, Майк. Просмотрите содержимое этого бумажника.
На разделявшем нас столе лежал черной кожи бумажник. Стиву пришлось сбегать за ним в ту, чужую, комнату, в которой я нынче утром проснулся.
– Давайте же, он вас не укусит. Возьмите его! Загляните внутрь. И скажите мне, что в нем.
Я вытащил кредитную карточку «Американ экспресс», повертел ее в пальцах. Увидел имя «Майкл Д. Янг», провел большим пальцем по тисненым буквам. «Членство с 1992. Действительна до 08/98».
– Не молчите же, Майк
– Это карточка «Американ экспресс».
– Угу. И чья?
– Ну… моя, наверное. Только я ее до сих пор ни разу не видел.
– Вы в этом уверены?
– Совершенно. На ней написано «Майкл Д. Янг». А я никогда вторым именем не пользуюсь. Никогда. Получается, моей она быть не может.
– Ладно, ладно. Что еще вы видите в бумажнике?
– Что-то вроде удостоверения личности, водительские права.
– Вы видите водительские права. Чья на них фотография?
– Моя. Фотография моя, но, опять-таки, клянусь, я вижу ее впервые.
– Это ничего. Приглядитесь к правам повнимательнее. В каком штате они выданы?
Я пригляделся, недоумевая.
– Тут написано – штат Коннектикут. Вы это хотели узнать?
– Какие мысли приходят вам в голову, Майк, когда вы произносите слово «Коннектикут»? Какие образы у вас возникают?
– М-м… Пол Ревир?[88]
– Пол Ревир. Хорошо. Расскажите, что вы знаете о Поле Ревире.
– Ночная скачка?
– Ночная скачка, превосходно. Продолжайте.
– Он прискакал из Лексингтона в Конкорд. Или из Конкорда в Лексингтон? Кричал: «Англичане идут, англичане идут!» Кроме этого я ничего не знаю. Боюсь, это не мой период.
«Это не мой период»!
Что-то заворочалось у меня в голове, шелест воспоминаний, удиравших при попытках приблизиться к ним, точно испуганные мыши-полевки.
– Прекрасно. У вас прекрасно получается. Так, что еще вы там видите?
– Ну, еще одну карточку. Тоже с моим именем. Кроме того, на ней имеется греческий символ. Посох, обвитый змеями… э-э, как же он называется?
Бэллинджер пожал плечами:
– Это уж вы мне скажите, Майк.
– Кадуцей! Это кадуцей, жезл Гермеса. Вот! Почему я помню слова наподобие «кадуцей» и не помню, кто я?
– Спокойнее, поспешайте без торопливости. Как по-вашему, что это может быть за карточка?
– Не знаю. Кадуцей – символ медицинский, не так ли? Это национальная медицинская карточка?
– А что такое национальная медицинская карточка, Майкл?
Я вытаращил на него глаза:
– Понятия не имею. Никакого. Просто всплыли в голове эти слова. А вы знаете?
– Это ваша карточка медицинской страховки, Майкл.
– Но я к частникам не хожу.
– Простите?
– Я… у меня нет медицинской страховки. Я пользуюсь Государственной службой здравоохранения, я в этом уверен.[89]
Бэллинджер уставился на меня непонимающим взглядом.
– Майкл, у вас, случаем, нет какой-либо причины симулировать легкое слабоумие? Я вот сижу и гадаю об этом. Какие-нибудь неприятности дома? С девушкой? Может быть, работа вас совсем доконала и вы страшитесь провала?
– Симулировать? Симулировать? Да зачем мне что-то симулировать?
– Я обязан был спросить вас об этом. Хорошо, что такое «государственная служба здравоохранения»?
Я в отчаянии развел руки в стороны:
– Не знаю. Правда, не знаю. Я в этом уверен.
– Понятно. Скажите мне, как по-вашему, кому может принадлежать эта карточка?
Я горестно взглянул на нее.
– Мне, наверное. Должно быть, мне. – Я зажмурился. – Только я не могу припомнить…
– Не насилуйте себя. Положите бумажник. Думаю, будет неплохо, если вы расскажете мне о том, что вы припомнить можете.
Что-то в его тоне сказало мне, что он просто импровизирует. До сей поры ему ни с чем подобным сталкиваться не приходилось, и он блуждает в потемках, пытаясь угадать, какой мне задать вопрос. А еще я чувствовал, что он озадачен не меньше моего, встревожен, – немного, но встревожен тем, что его попытки расшевелить мою память, или выбить из моей головы бредовые фантазии, или разоблачить мое притворство ни к чему не приводят.
– Что же со мной не так, доктор?
– Стоп, стоп, не будем спешить. Сначала ответьте на мой вопрос. Скажите, что вы помните наверняка?
– Ну, я помню, что прошлой ночью мне было плохо. Я бился головой об стену. Словно с цепи сорвался…
– Почему?
– Простите?
– Почему вы сорвались с цепи?
– Ну, потому что перебрал.
– И что же вас так разозлило?
– Разозлило? – недоуменно повторил я. – Да ничего не разозлило…
– Тогда почему вы сорвались с цепи?
– А. – До меня наконец дошло. – Вы имеете в виду «вышел из себя». А я имел в виду «пустился во все тяжкие». Понимаете, в Англии, когда мы говорим «сорваться с цепи»… ну ладно. – Бестолковый взгляд Бэллинджера начинал меня раздражать. – В общем, я помню, как бился головой. Помню автобус. И как проснулся сегодня, чувствуя, что мне как-то не по себе.
– А до того? Что вы помните из прошлого?
– Не знаю, почти ничего. Ну, Кембридж, конечно. Кембридж помню. Собственно, в нем-то я быть и должен.
– Возможно, вы собирались навестить в Гарварде школьных друзей?
– В Гарварде? В каком еще Гарварде?
– Гарвардский университет находится в Кеймбридже, штат Массачусетс, возможно, вы договорились о встрече с тамошними друзьями?
– Да нет! Я говорю о Кембридже. Кембридж, понимаете? Святой Матфей.
– Кембридж, который в Англии?
– Ну да, я должен быть там. Сейчас! Это важно! Я должен сделать что-то, там что-то произошло. Если б я только мог вспомнить…
– Эй, эй! Сядьте, Майкл. Если вы будете так волноваться, это ничем нам не поможет. Давайте сохранять спокойствие.
Я опустился в кресло.
– Ну почему это случилось со мной? – спросил я. – Что происходит?
– Что ж, это мы с вами и пытаемся выяснить. Итак, вы помните Кембридж, тот, что в Англии.
– По-моему, да.
– Вам, может быть, нравится все английское?
– То есть?
Он пожал плечами:
– Ну, например, каковы ваши политические взгляды?
– Политические? У меня нет политических взглядов.
– Политические взгляды отсутствуют, хорошо. Однако ваши родители приехали сюда из Англии, не так ли, Майк? В шестидесятых.
– Мои родители?
– Отец с матерью.
– Да знаю я, что такое родители! – рявкнул я. Повадки Бэллинджера все сильнее действовали мне на нервы – не в меньшей мере, чем неразбериха, царившая в моей голове, действовала, я это видел, на нервы ему.
Он не ответил, лишь записал что-то в блокноте, разозлив меня тем еще пуще. Он просто пытался скрыть неприязнь, которую я у него вызывал.
– Это я знаю, – повторил я. – Отец мой умер, мать живет в Гэмпшире.
– Вы считаете, что ваша мама проживает в Нью-Хэмпшире?
– Нет, не в Нью-Хэмпшире. Просто в Гэмпшире. В старом Гэмпшире. Графство Гэмпшир, Англия, если угодно.
– А вы бывали в Англии, Майкл?
– Бывал? Это мой дом. Я там вырос. Жил. Я и сейчас должен быть там.
– Вам нравятся английские фильмы?
– Мне всякие нравятся. Не только английские. К тому же английских не так уж и много.
– Может быть, они кажутся вам слишком политизированными?
– О чем это вы?
Он не ответил, просто подчеркнул что-то в блокноте, снова уронил на него ручку, поставил локти на стол и подпер ладонями подбородок.
– Быть может, вам хотелось стать киноактером, все дело в этом? Быть может, вы видите себя большой голливудской звездой?
– Актером? Я отроду ни в чем не играл. Разве что в рождественских спектаклях.
– Видите ли, я пытаюсь объяснить себе выговор, который вы подделываете.
– Я ничего не подделываю! Просто я так говорю. Это обычный мой выговор.
Бэллинджер придвинул к себе адресную книгу, пролистал ее, прошелся кончиком ручки по колонке имен.
– Студенты последнего года обучения, – сказал он сам себе. – Так, давайте посмотрим. Энгельс… Юлий… Якобс… ага, вот!
Обведя что-то кружком, он пододвинул книгу ко мне:
– Сделайте мне одолжение, Майк. Взгляните на имя, на номер и скажите, что вы видите.
– Э-э… Янг, Майкл Д., Генри-Холл, 303. 342 1221.
– Хорошо. Теперь я наберу этот номер, а вы последите за мной, ладно?
Бэллинджер нажал кнопку телефонного аппарата, и из динамика полился долгий гудок.
– Назовите мне номер, Майкл.
– Три, четыре, два. Один, два, два, один.
– Три, четыре, два, – повторил, набирая цифры, Бэллинджер, – двенадцать, двадцать один.
Озадаченный, я вслушивался в длинные гудки.
– Но если это мой номер, зачем тогда?… Бэллинджер поднял ладонь:
– Чш! Просто слушайте.
Длинные гудки прервались, раздался щелчок, а следом бодрый голос произнес:
– Привет, я Майк. Вы звоните, а меня нет, но это еще не конец света. Оставьте сообщение после гудка, и, может быть, если вам здорово повезет, я перезвоню.
Бэллинджер отключил громкую связь, скрестил на груди руки и уставился на меня:
– Это ведь были вы, Майк? Разве мы не ваш голос слышали?
Я смотрел на телефон.
– Но это не мог быть…
– Вы знаете, кто это был.
– Но он же американец!
– Вот и я о том же, Майк. Вы и есть американец. Я просмотрел вашу медицинскую карту. Вы родились в Хартфорде, штат Коннектикут, 20 апреля 1972 года.
– Это неправда! Я знаю, вы мне не верите, но, говорю вам, это просто неправда. Нет, насчет даты рождения вы правы, но только родился-то я в Англии, то есть, во всяком случае, вырос в ней.
– И чем вы там занимались?
– Я не знаю! Я жил в Кембридже. Занимался… чем-то занимался. Не могу вспомнить. Господи, это сон, наверняка сон. Все не так, все изменилось. Я хочу сказать, Иисусе, у меня даже зубы другие.
– Зубы?
– Они ровнее, чем следует. Белее. Волосы стали короче. И… – Я умолк, покраснев при воспоминании о том, что увидел под душем.
– Продолжайте.
– Мой пенис, – прошептал я и приложил ладонь ко рту.
Бэллинджер закрыл глаза.
– Так, так, пенис, говорите?
Отвечая, я уже слышал, как он покатывается от смеху, рассказывая всю эту историю коллегам, видел, как пишет научную статью, сокрушенно покачивая головой в такт мыслям о юношеской эротической истерии.
– Да, – сказал я. – Моя крайняя плоть. Она исчезла. Ее больше нет.
Он выпучил на меня глаза, а я, уткнувшись лицом в ладони, заплакал.
История личности
Фронтовой дневник Руди
Йозеф уткнул лицо в ладони и расхохотался – да так, что Ганс испугался, как бы у него живот не лопнул.
– Ausgezeichnet![90] Блеск! Полный блеск. Надо будет рассказать за обедом Полковнику. Анекдот совершенно в его духе. Если Кайзер и Людендорф одновременно прыгнут с высокой башни, кто из них ударится о землю первым?
Ганс Менд наморщил нос, оглядел потолок.
– М-м… сдаюсь, – сказал он.
Йозеф, пожав плечами, развел руки в стороны.
– А какая разница? – Он с силой ткнул Ганса локтем в бок и снова расхохотался. – А! Какая разница?
В жизни вестового имелись свои преимущества. Сновать между запасными окопами, штабом и передовой было опасно до нелепости – тебя легко мог снять любой заскучавший вражеский снайпер, не говоря уж о том, что ты то и дело обращался в потенциальную жертву перекрестного огня своей стороны. Временами погода и местность позволяли, как, например, сегодня, воспользоваться мотоциклом, однако чаще всего приходилось месить ногами грязь. А тут еще известное присловье о том, что во всем виноват вестник… Сколько раз Менд, открыв ранец, вручал приказы, о содержании коих ничего не ведал, и тут же получал залп ругани от какого-нибудь выскочки-офицерика, навоображавшего себе поводы для недовольства главным штабом. И все-таки ради привилегии покинуть хотя бы на час с хвостиком окопы и траншеи передовой Ганс готов был сносить опасности и вдвое большие. В конце концов, пока-то он жив, не так ли? Он провел четыре года в самой гуще боев – с первого дня войны и до нынешнего, отделавшись всего двумя пустяковыми ранениями, двумя шрамиками, которые сможет показывать внукам в пору неблизкого мира. Говорят, тот, кто пережил первые два месяца, так навсегда целым и останется.
К тому же если опасности лежат на одной чаше весов, то на другой навалены привилегии. Стаканчик шнапса и трубка приличного табака в штабе – хоть ими и приходится наслаждаться в обществе олуха вроде Йозефа Крейсса – это, как ни крути, а роскошь.
Ганс вздохнул, опустил стакан на стол и встал.
– Уже уходишь?
– Ничего не попишешь. Вестенкиршнер в отпуске, а замену ему никто подыскать не удосужился. Так что беготни у меня прибавилось.
Йозеф проковылял к своему столу и принялся с нарочитой тщательностью перебирать пакеты с документами. Как будто, подумал Ганс, он и вправду хоть как-то участвует в их составлении. Господи боже, всего-то на всего писаришка. Почему просто не отдать мне то, что ему приказали отдать, и дело с концом? Зачем каждый раз устраивать эту дурацкую копошню?
– Ага, – произнес Йозеф, взвесив на ладони бумажный конверт и опустив его в ранец Ганса. – Это тебя может заинтересовать. Имеет отношение к одному из твоих, сколько я понимаю, друзей.
– К кому?
– К Глодеру. Капитану Рудольфу Глодеру.
– Руди? И что там?
– О, так он уже Руди, вот оно что? У нас теперь принято называть начальство по именам, понятно. Возможно, мне следует направить генералу Бюхнеру памятную записку на сей счет. Ему подобный большевизм младших чинов не по нраву.
Ганс закрыл глаза.
– Так что насчет капитана Глодера, Йозеф?
– А, похоже, нам это интересно?
Ганс, не открывая глаз, теперь уже глубоко дышал через нос.
– Да, Йозеф, – спокойно ответил он. – Мне это интересно.
Иисусе, до чего же ребячлива эта публика.
– Ну-с, так уж случилось, что поданное на него представление к награде утверждено. Железный крест, первый класс, рыцарский, с алмазами.
Ганс даже не попытался скрыть удовольствия.
– Чудесно! – воскликнул он. – И в самое время. Он уж раза три должен был его получить.
– Ба, как мы обрадовались!
– Это хорошая новость, Крейсс, вот и все. Ру… капитан Глодер подобной чести заслуживает. Без него наш полк развалился бы уже месяцы назад. А может, и годы. Не удивлюсь, если его еще до конца войны произведут в майоры. Ты же знаешь, он, как и я, начал службу простым Landser.[91]
– Что ж, война есть война. Накипь всегда всплывает наверх.
– Не накипь, а пенки, – поправил Ганс. – Он из хорошей семьи, мог вступить в армию офицером, однако не сделал этого.
– Значит, у него есть друзья наверху, – сказал Крейсс. – Что тут нового?
– Друзья у него есть везде, – резко ответил Ганс. – В отличие от некоторых.
– Ладно, ладно, я не сомневаюсь, что Глодер – образчик всяческих добродетелей. Тебя он, во всяком случае, явно с руки кормит.
Пригнувшись к рулю так, что грязь долетала из-под колес до его защитных очков, Ганс переваривал приятную новость. Он воображал пирушку, которую Руди непременно закатит, чтобы отметить награду. Обед в каком-нибудь первоклассном тыловом ресторане, может быть даже в «Le Coq D’Or».[92] Музыка, прекрасное вино, смех и настоящее немецкое товарищество. Глодер не преминет усадить солдат за один стол с офицерами. А после к девочкам. Дорогим, без сифона.
Заехав на ferme,[93] Ганс бросил мотоцикл у ограды конного двора и поспешил в дом.
Глодер был сейчас временно прикомандирован к адъютанту командира полка, майору Эккерту из Шестого Франконского, – назначение, как говорил он Гансу, для него крайне неприятное.
– Я тут все самое интересное пропущу, – сказал он, когда оказался в полумиле от передовой, в фермерском домике, занятом штабом полковника Балиганда. – Для Эккерта война сводится лишь к тому, чтобы лизать задницы генеральским штабным да молиться о мире. Я, конечно, стараюсь, как могу, подтолкнуть его хоть к каким-то действиям, но я же солдат. На фронте пользы от меня было бы больше.
Ганс вручил адъютанту Полковника пачку документов, дождался, дрожа от нетерпения, ответной пачки, а после, взволнованный, точно ребенок рождественским утром, поспешил на второй этаж, где находились кабинеты и жилые помещения подчиненных майора Эккерта.
Он остановился на лестничной площадке, одернул гимнастерку. Надо будет разыграть все как можно спокойнее, решил Ганс. «Добрый день, капитан Глодер, – неторопливо скажет он, – сегодня, боюсь, ничего интересного. Я только что из штаба. Тут, скорее всего, какое-нибудь распоряжение, запрещающее использовать паприку в рагу из ослятины или гласящее, что каждому солдату надлежит в честь дня рождения Кайзера до блеска начистить задницу».
Руди улыбнется в ответ, возьмет конверт и вскроет его. Прочитает приказ, поднимет взгляд на сияющего, готового лопнуть от счастья Ганса, расхохочется и вытащит бутылку самого выдержанного своего коньяка.
Крепко сжимая в руке ранец, Ганс миновал кабинет майора Эккерта и прошел в конец коридора, к двери из выцветшего французского дуба. Дверь украшали вырезанные от руки совершенные готические буквы:
SCHLOß GLODER[94]
Ганс ухмыльнулся и легонько стукнул в дверь.
Ответа не последовало.
Он постучал еще раз, погромче.
Однако веселого голоса по-прежнему в ответ не услышал.
Разочарованный, Ганс нажал на черную железную ручку, и дверь растворилась. Не вполне понимая, как ему теперь поступить, он вошел и огляделся.
Комната была большая, квадратная, с еще одной дверью, ведущей в спальню. Чтобы кто-нибудь да пожелал сменить эти королевские апартаменты на блиндажные нары, представлялось Гансу немыслимым, впрочем, напомнил он себе, Глодер – вовсе не «кто-нибудь».
Он подошел к письменному столу, вытащил из ранца конверт, положил его в самой середке большой конторской книги с кожаными уголками.
Затем отступил в центр комнаты, чтобы полюбоваться достигнутым эффектом.
Нет, маловато.
Ведешь себя, точно дурачок-школьник, улыбнувшись, подумал он и, взяв со стола ручку и серебряный ножик для разрезания писем, под углом – на два часа и на десять – уложил их над конвертом, так что получилось подобие стрелки, вопящей: «Посмотри на меня! Посмотри!»
Все-таки чего-то не хватает, решил он.
Карандаш, установленный на шесть часов, помог, однако разрушил симметрию.
Ганс выдвинул ящик стола, порылся внутри в поисках чего-либо, позволяющего соорудить настоящую стрелку. Под руку подвернулись еще два карандаша, английская ручная граната из тех, что называют «бомбами Миллза», – трофей, решил Ганс, добытый в какой-то безрассудной вылазке, – и заряженный «люгер». Не разложить ли вокруг письма патроны, остриями внутрь? Может получиться совсем неплохо.
Обдумывая эту артистическую возможность, он потянул на себя другой ящик. Ту т только бумаги. И засунутая в самую глубину толстая книга, переплетенная в яркую тисненую кожу. Ганс вытащил ее. Ему казалось, что ничего прекраснее он отродясь в руках не держал. Чего стоил один только вес книги, ее глянец, мерцание золотого обреза.
Книга запиралась на золотую застежку, посередке которой виднелась маленькая замочная скважина. Ганс, ощущая, как сильно колотится его сердце, потянул за застежку. К его удивлению, та оказалась не запертой. Возможно, она и вовсе не запиралась. Сколько он помнил такие книги, замочки у них вечно не работали.
Ганс медленно, словно в руки ему попала подлинная Библия Гутенберга, перевернул первый лист.
Das Kriegstagebuch von Rudolf Gloder[95]
Так Руди вел дневник! Ганс, трепеща, заглянул на следующую страницу. Там были записаны два такта какой-то музыки, а под ними слова:
Blut-Brüderschaft schwöre ein Cid![96]
Вагнер, решил Ганс. Клятва в кровном братстве. Какое невозможное тевтонство, и до чего же эта высокопарность к лицу Руди.
Он наугад выбрал одну из начальных страниц. Обуреваемый восторженностью почти девической, Ганс прежде всего рассчитывал наткнуться где-нибудь на запись о себе, пусть даже короткую.
14 января 1917
Повышение из лейтенантов в обер-лейтенанты почти ничего, как я обнаружил, мне не дало. Вот следующий барьер уже пойдет в счет. «Капитан Глодер». Это будет звучать совсем неплохо. Кое-кто из офицеров все еще недоволен моим повышением. Да и ладно, пусть их. Гутман, отметил я, единственный, кто по-братски меня поприветствовал, однако мотивы Гутмана нам известны. Еврей пойдет на все, лишь бы втереться в общество людей чистой крови. К тому же он относится ко мне, и это уже оскорбительно, как к своего рода собрату-интеллектуалу. Его представления об интеллекте далеки от моих. Тем не менее он полезен. Он очень основательно изучил военную историю, – я не мешаю ему считать меня своим другом.
Вчера снайперы убили четырех солдат саперной команды. Я написал соболезнующие письма их семьям, занятие для меня новое. Эккерт дал мне стандартное письмо, которое используют в этих случаях. Для меня оно недостаточно хорошо. Я сочинил четыре разных, великолепных письма, наворотив в них всяческой чуши насчет героизма павших. «Могу ли я добавить от себя, что Вольфганг – это не только Ваша утрата? Его здесь очень любили. Личность Вольфганга, его юмор и обаяние столь же незаменимы для нас, сколь священна память о нем». А следом цитаты из Гете и Гельдерлина. И все это ради каких-то неотесанных олухов, деревенщины, которой не хватило ума увернуться от пули. Не сомневаюсь, каждое письмо обретет золотую рамку и место на стене. Насколько прав был Пэк, сказавший: «Lord, what fools these mortals be!»[97]
В остальном – скучный, чертовски холодный день.
Ганс, нахмурясь, оторвался от чтения. Английской цитаты – скорее всего, из Шекспира, – он не понял, однако слова об олухах и деревенщине пришлись ему не по душе. Впрочем, день тогда был действительно чертовски холодный, а в дурное настроение впадать случается каждому. Он обратился к середине книги.
22 апреля 1918 Наконец-то весна!
Winterstürme wichen dem Wonnemond…[98]
Ну, во всяком случае, теоретически. Зимние бури, быть может, и стихли, однако артиллерийские все еще с нами. И хоть нежный свет весны, возможно, и вправду сияет под любовно легкими душистыми ветерками, дуновения, что несутся к нам по лесам и лугам, отдают не веселым смехом и улыбчивыми глазами, но злобной гримасой и шипением гигантских отравленных облаков.
Да-да, еще одна газовая атака томми. Этим утром погибли двое и сильно пострадал Эрнст Шмидт. Мы с Мендом первыми бросились за масками, Шмидт же остался на месте, чтобы поднять тревогу. И чуть не заплатил за свою тупость жизнью. Едва поняв, что он задумал, я схватил его маску и, точно тигр, понесся к нему, ободряя попутно солдат в цепи и утешая отравленных. Однако вся слава досталась Шмидту, и я был первым, кто погладил его по спине, как смирного, преданного пса, коим он и является, и пообещал порадеть, чтобы в приказе по фронту была упомянута его «беззаветная храбрость». Не хватало мне еще и этой мороки.
Ганс читал и чувствовал, как сердце его сжимается.
Прошелся по линии окопов, извещая о новых приказах касательно использования граммофонов в блиндажах. Сколь мудро наше начальство, как тонко понимает оно, что для нас самое главное! Повсюду только и разговоров, что о храбрости Шмидта. И никто не превозносит его громче, чем я. Поступили две новости, хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что мы, похоже, удерживаем Мессинский кряж и Армантьер. Если нам удастся продвинуться вперед до того, как американцы получат на Западном фронте серьезный плацдарм, это наступление может увенчаться успехом. Плохая – на сей раз не слухи, но подтвержденный факт, – вчера канадский пилот, совсем еще новичок, сбил ротмистра фон Рихтгофена,[99] и тот погиб. Все очень подавлены. Два года изнывал я от зависти к «Den Roten Freiherrn», к внушаемому им преклонению, втайне понимая, однако, что Берлин, принимая сотворенный Рихтгофеном миф, совершает роковую ошибку. Англичане похоронят его со всеми воинскими почестями. Похоже, существуют сомнения в том, кто же его все-таки сбил – канадский ли авиатор или австралийские пулеметчики, с земли.
После обеда перебранка в офицерской столовой. Гутман, как выяснилось, обожает Вагнера, что я нахожу нелепым. Его теории относительно творений Вагнера безнадежны и, на мой злобный взгляд, извращены. Гутман считает, будто все эти сочинения «прослоены психологическим и политическим смыслом». Как всякий представитель его расы, он отказывается признать, что вещь есть вещь, и ничто иное. Что произведение искусства означает лишь то, что в нем сказано, и является тем, чем является. Куда там, ему необходимо извлечь из каждой фразы свой собственный слой путаной чуши. Я разозлился и, почувствовав, что Полковник заскучал, решил немного поиграть с нашим Гуго. Сказал, что неплохо бы ему вспомнить о Миме и Зигфриде. О маленьком недоростке, нибелунге Миме, обучавшем Зигфрида выковывать меч и в то же время замышлявшем измену. (Я видел по физиономии Гутмана, что он понял – говоря «нибелунг», я подразумеваю «еврей».) Еврей Миме задумал использовать чистоту и бесстрашие Зигфрида как средство, которое позволит ему получить кольцо и обрести власть над миром. И чем же кончает Миме? Да тем, что Зигфрид, убив дракона, завладевает кольцом, а следом обращает свой меч против Миме. Ха-ха! Кстати сказать, «Миме» сильно смахивает на Memme,[100] а кем, как не трусами, показали себя нибелунги? Разумеется, они свершили над Зигфридом гнусную месть, заколов его в спину. Но кольца-то они не получили! И никогда не получат.
– Кольца, которое сами же и изготовили, – чопорно отметил Гутман.
– Да, из украденного ими золота! – резко парировал я. – Оно никогда им не принадлежало. Никогда!
– Что же, оно и понятно, – согласился Гутман, кивая, по обыкновению своему, точно раввин – вот-де какой я умный и смиренный. – Власть над миром достается лишь тем, кто готов отречься от любви.
– Что ж, одно можно сказать с уверенностью: она не достается самодовольным бандершам вроде вас, – выйдя из себя, заявил я.
Сидевшие за столом офицеры покатились со смеху. Им-то было известно, что, при всей его драгоценной гейдельбергской учености и выставляемом напоказ интеллекте, смрадное богатство Гутмана имело своим источником раскинувшуюся по всей Германии и принадлежащую его отцу сеть дешевых театриков. В эти жалкие заведения люди приходят не ради Шиллера и Шекспира, а ради девок (уж мне ли не знать!!!).
Гутман побагровел и, отвесив, на манер коротышки-юнкера, сухой поклон, покинул столовую, а младшие офицеры насмешливо выкрикивали в его удаляющуюся спину: «Aufgeblasene Puffmutter! Aufgeblasene Puffmutter!»
Беседуя после того с Полковником, я заметил, что Гутман человек не такой уж и дурной. Главная его беда, сказал я, в том, что он провел слишком много времени вдали от настоящих боев и утратил связь с окружающей нас действительностью. Впрочем, скромно добавил я, моя теория насчет того, что офицеров среднего звания следует время от времени посылать сражаться бок о бок с солдатами, вне всяких сомнений, безнадежно устарела и отзывает сентиментальностью…
– Нисколько, – ответил Полковник, – нисколько…
И я понял, что заронил в его голову мысль. Ха! Не удивлюсь, если через пару дней Гуго Гутман окажется на передовой, а там, при наличии удачи и вследствие кое-каких моих скромных манипуляций, в мире, глядишь, и станет одним евреем меньше.
Спать завалился пьяным. Полковник задержал меня и намекнул в разговоре, что я, возможно, стою в очереди на повышение!
Жизнь хороша.
Ганс дрожащими пальцами перелистал страницы и попал на запись совсем уж свежую.
24 мая 1918
Утром столкнулся с Мендом и Шмидтом. Услышал от них идиотскую историю о том, как прошлой ночью французы совершили вылазку и захватили лучшую каску полковника Балиганда, которую наш дурень-адъютант (Гутман, да сгноит Господь его душу, был, по крайней мере, внимателен) забыл после вчерашней вечерней инспекции в блиндаже обер-лейтенанта Флека. Мусью приползли по каким-то траншеям, выкопанным (как хорошо я это помню!) три с половиной клятых года назад, забрались в траншеи Флека, закололи часового и перерезали горло всем спавшим солдатам, какие им подвернулись под руку, включая и самого Флека. Они завладели кое-какими документами (военного значения имеющими меньше, чем искусавшие мой член лобковые вши), пятью винтовками, ящиком не годных к употреблению гранат и, как теперь выясняется, гребаным парадным, мать его, шлемом полковника Балиганда.
Я поразорялся немного о том, какое это безобразие (как будто мне не наплевать), побряцал оружием, после чего случилось и впрямь безобразие – Шмидт ухватил меня грязными лапами за рукав. Из его поврежденного газом горла доносилось невнятное бульканье насчет того, что он-де точно знает, что я задумал, и я совсем уж собрался отечески погладить его по головке и удалиться, как до меня вдруг дошло: он же упрашивает меня не впадать в безрассудство и не пытаться в одиночку вернуть полковничью каску! Можно подумать, мне могла когда-нибудь втемяшиться в голову подобная дурь. Да пусть французы хоть срут в нее каждую ночь – отныне и до судного дня, – мне-то что.
Конечно, если бы от меня этого потребовали, мне пришлось бы отправиться за ней, поскольку именно такие поступки и создают репутацию, но Эрнст-то, дурень, требовал, чтобы я ничего такого не делал. Солдатик попросту преклоняется передо мной, – противно, но забавно. Я не стал разубеждать его в том, что героический Рудольф и впрямь рехнулся настолько, что решил голыми руками перебить всю французскую армию, лишь бы вернуть нам медный сральник. И тут в голове моей возник довольно изящный план. Я подумал: черт побери, готов поспорить, что сумею подбить его отправиться за каской!
Я сыграл на недавнем увечье Шмидта, сделал вид, будто озабочен его пригодностью к службе и собираюсь попросить для него освобождения от передовой. Шмидт, с его упрямым умишком мужлана, отнесся к этому как к страшному оскорблению! Я понимал, ему хочется выказать себя передо мной героем, и не сомневался – он проглотит мою наживку, как то и положено люмпен-пейзанину. Рядом с нами торчал Менд, и потому я не мог позволить себе действовать совсем уж в открытую. Однако попозже я перехватил Шмидта и с полчаса поработал над ним, довольно искусно. Почти уверен, что он выкинет какую-нибудь глупость.
Что же, может, сработает, может, и нет.
Сейчас уже за полночь. Подожду еще час с небольшим, посмотрю, что к чему. С северной насыпи отлично виден сектор К и нейтральная полоса перед ним. Если Шмидт отправится на поиски славы, я его увижу.
А вдруг он прихватит с собой кого-то еще? Хм. Да нет, он пойдет в одиночку. У него один только друг и есть – Менд, а Менд слишком, слишком труслив, чтобы принять участие в подобном кретинизме. Шмидт выступит в путь один, и, если ему удастся добыть каску, я подползу к проволоке, дабы встретить его, – сделав вид, будто тоже решился на эту затею, – и мы с триумфом возвратимся назад.
Посмотрел в календаре – ночь сегодня почти безлунная. Отменно! Шмидт наверняка полезет к французу.
25 мая 1918
Бог ко мне милостив. Я прождал час, озираясь вокруг и коротая время за тем, что подсчитывал созвездия, которые знаю по именам. Двадцать три, не так уж и плохо. Решил: если до двух ночи Шмидт не покажется, вернусь в блиндаж. Чтобы одолеть проволочное заграждение и тишком доползти до французской передовой, ему потребуются по меньшей мере два часа темноты.
И разумеется, ровно в два ноль-ноль я его увидел – всего только в паре метров подо мной, – выбирающимся из передовой траншеи и направляющимся к ближайшему проходу в проволочном заграждении. Было слишком темно, чтобы с уверенностью его опознать, впрочем, по доносящемуся до меня свиному похрюкиванию и пыхтению я понял – это не кто иной, как наш достойный недоумок Шмидт.
В течение минут десяти я ничего различить не мог, однако проволока, с негромким звоном дрогнувшая по всей ее длине, поведала мне, что до ограждения он, во всяком случае, добрался.
Ладно, по крайней мере, передвигался он бесшумно. После легкого содрогания проволоки я не услышал больше ни звука. Я прождал час, наставив бинокль на сектор К, к которому Шмидт, по моим предположениям, направлялся. Отчасти я ему даже завидовал. Хотел бы и я проделать то, на что нацелился он, и, смею сказать, я проделал бы, если бы кто-нибудь посмел бросить мне вызов или усомнился во мне. Видит Бог, я не трус, однако храбрость должна к чему-то вести. К приобретению репутации, к достижению цели. Шмидтова же храбрость отличалась полным отсутствием воображения – то была слепая храбрость пушечного мяса.
В небе за нашими окопами слабо забрезжил свет. Шмидта по-прежнему видно не было. Я вновь погрузился в раздумья, цитируя сам себе Гете и переводя, развлечения ради, на французский.
Наконец, минут через пятнадцать, я увидел его – темную фигуру, зигзагами продвигавшуюся из мрака в мою сторону. В одной руке он держал за ремешок шлем Полковника, под мышкой другой различалось некое подобие шпаги. Ну что за отличный парень!
Я спрыгнул на дощатый настил и направился к ближайшей окопной лесенке. Поднялся по ней и пополз по засохшей грязи к проволоке. Достигнув ее, я приподнял голову – как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шмидт, задохнувшись, замедлил ход и сполз в воронку от снаряда. И мне пришла в голову мысль, что я мог бы сейчас подползти туда, пристрелить его и со славой вернуться назад, один.
Однако я решил воздержаться от сей операции, пока не обдумаю ее до конца. Естественно, никаких возражений нравственного толка у меня против нее не имелось. Единственное, что нравственно в жизни, – это твое продвижение наверх, – просто я хорошо знал, что поспешные действия всегда неразумны. Если у тебя имеется план, так держись его. Люди мелкие совершают поступки под воздействием момента и уверены при этом, будто заслуживают похвал за предприимчивость и инициативу, хоть на самом-то деле они всего лишь показывают, что планы их не были как следует проработаны, что они не взвесили все возможности, не продумали заранее каждый свой шаг и не предугадали все мыслимые реакции на него. Конечно, умение реагировать на неожиданности имеет жизненно важное значение; воображение и инициативность определенно являются полезным оружием из общего нашего арсенала, однако их следует применять только в случае необходимости: совершать ни на чем не основанные поступки, давать ход неожиданно возникшим, недостаточно проанализированным мыслям – значит совершать роковую ошибку. Этому учат нас биографии самых разных исторических деятелей. Большинство изумилось бы, узнав, в какие мелочи входили великие полководцы. Да вот, всего только на прошлой неделе я читал в жизнеописании английского адмирала Горацио Нельсона рассказ о стратегических совещаниях, которые он проводил перед решающим морским сражением при Трафальгаре. Он едва не свел своих офицеров, сколь те его ни любили, с ума, снова и снова настойчиво втолковывая им свои замыслы. И пошел дальше, лишь убедившись, что каждый офицер флота знает и понимает общую цель и значение его, Нельсона, основной стратегии. Только тогда приступил он к кропотливому изложению тактических тонкостей. «Если так, то так» и тому подобное, и от всего этого ответвлялись десятки новых «если» и «то», пока не были досконально проработаны сотни сценариев. Когда же разразилось сражение, Нельсон обратился в само спокойствие, поражая всех явственным безразличием к любому обстрелу, любому бортовому залпу. Еще бы! Ведь каждый обстрел, каждый бортовой залп был предугадан им и учтен. И даже когда Нельсон, получив смертельную рану, упал, он остался спокойным. Просто и такая возможность тоже была предучтена, и на ее случай имелись хорошо отрепетированные, легко приводимые в исполнение планы. Он умер, будучи уверенным в победе. Разумеется, ему не хватало распорядительности, веры в себя, политической изворотливости, он никогда не смог бы подняться выше адмирала, но ведь лишь очень немногие сочетают в себе качества, необходимые для появления великого лидера, способного вести за собою людей и в мирной жизни, и на поле брани.
И потому я не поддался порыву, сколь ни казался он соблазнительным, пока не обдумал все досконально. Я не сомневался в том, что мог бы сию же минуту подкрасться к Шмидту, залегшему посреди ничейной земли, пристрелить его и спокойно вернуться назад, триумфально притащив с собой два бесценных трофея. Однако, поразмыслив, я понял, что это было бы глупостью. Куда вернее будет прикончить его, в полутьме вернуться назад с пустыми руками, а после, уже при свете дня, доползти до трупа и притащить все сюда на глазах у моих товарищей. Они сумеют защитить меня, а я, если потребуется, – смогу извлечь из спины Шмидта все способные выдать меня товарищеские пули еще до того, как его тело увидит кто-либо еще.
Так бы я, несомненно, и поступил, если б все дело заняло у Шмидта хоть на полчаса меньше. Теперь же становилось слишком светло, чтобы решиться приблизиться к нему, – это означало бы рискнуть и моей безопасностью, и тем, что меня засекут из наших окопов. Я выругал его за нерасторопность. Почему он не вышел пораньше? Я бы, затеяв подобную экспедицию, так долго мешкать не стал. И уже сейчас был бы дома.
Видимо, и Шмидт сообразил, что время на исходе. Ибо в этот же миг он выставил башку над краем воронки, подхватил шпагу с каской и, пригнувшись, побежал к заграждению. Он одолел не больше десятка метров, когда я услышал далекий хлесткий щелчок винтовочного выстрела и увидел прямо в секторе К короткую клиновидную вспышку пламени. Мусью продрал глаза и обнаружил пропажу. А стрелять мусью умел хорошо. Шмидт, выбросив вперед руки, рухнул ничком и распростерся в грязи.
Все сложилось лучше, чем я мог вообразить. От удовольствия я даже обнял сам себя. Провидение бывает иногда очень добрым.
Теперь мне осталось всего лишь дождаться восхода солнца.
Прошел час, прежде чем я различил в наших траншеях первое шевеление. Обычный пердеж, воркотня и оханье, за коими последовало посвистывание денщиков и прихлебаев, тащивших своим хозяевам кофе и воду для бритья. Скоро кто-нибудь да заметит труп Шмидта, а там увидят и меня и решат, будто я, повинуясь героическому порыву верности, надумал вытащить тело «камрада».
По моим прикидкам, я мог бы, пробираясь по-пластунски, пролезть через дыру в заграждении. Кому-нибудь из наших наверняка придет в голову прикрыть меня дымом. А там – бросок назад, к проволоке, и следом – слезливая вагнеровская сцена, после коей я, отмахиваясь от лестных похвал, возвышенно удалюсь, дабы остаться наедине с моей скорбью.
Однако даже на то, чтобы додуматься до такого, очевидного и для ребенка, тактического хода, как дымовая завеса, им потребовалось изрядное время. Как я узнал потом, человеком, в тусклой башке которого забрезжила в конце-то концов эта мысль, был не кто иной, как Ганс Менд. Боже милостивый, вообразите – вверять свою жизнь таким вот недоумкам!
Так или иначе, дым, обладавший еще и тем достоинством, что он позволил мне превосходнейшим образом залиться слезами в финальной сцене, все-таки появился. И я, едва уверясь в надежности…
– Надеюсь, чтение увлекательное?
Неожиданно грянувший в комнате голос Руди заставил Ганса уронить дневник на стол и вскочить. Руди Глодер стоял в проеме двери и насмешливо улыбался, глядя на Ганса.
– Ты разве не знаешь, что некрасиво читать чужой дневник, не испросив на то разрешения?
Ганс обнаружил, что лишился голоса. Он пытался заговорить, но слова не давались ему. Остались одни только слезы. Слезы и по-волчьи ненасытная жажда мести.
История в кратком изложении
Знаменитые блинчики «Папы Джонса»
– Проголодался, Майк?
– По-волчьи.
– Я грозился свести тебя к «Папе Джонсу», так пошли.
Я шел за Стивом по панели, тротуару, или как его, и озирался по сторонам.
– Это Нассау, – сказал, проследив мой взгляд, Стив. – Главная улица Принстона. Названа по имени принца Вильгельма Нассау-Оранского, так мне, во всяком случае, говорили. Кампус слева, бары, кофейни, книжные магазины и прочее справа.
– Довольно мило, – сказал я.
– Даже слишком. Вон там Палмер-сквер, а между нами и Палмер-сквер стоит «Уизерспун», в котором находится «А и Б». – И Стив вопросительно уставился на меня, видимо ожидая какой-то реакции.
– Э-э… «А и Б»?
– «Алхимик и Барристер». Паб, так? – прибавил он, чуть возвышая к концу вопроса тональность, как делают американцы и австралийцы.
– Паб? Не знал, что у американцев в ходу это слово.
– Конечно, в ходу. Временами. Особенно в Принстоне. И особенно если речь идет об ирландском баре вроде «А и Б». Вообще-то мы заседали в нем прошлой ночью и так налегали на «Сэма Адамса» и «Абсолют», точно их того и гляди из продажи изымут.
– Сэма Адамса?
– Это пиво, темное пиво. Ты эль любишь? Мы его несколько кварт выдули, да и чистой водки добавили будь здоров.
– Так мы были здесь прошлой ночью? Ты и я?
– Ты, я и еще кое-кто из ребят. Я медленно покивал.
– Я помню, как здорово меня выворачивало, вот это – да. Вспомнил, едва проснулся. Если так можно сказать.
– Ну точно, неподалеку от Палмер-сквер. Всю стену облевал да еще и головой об нее бился. Док Бэллинджер считает, что от этого, может, все и пошло. От битья головой об стену.
– Пошло что, Стив? – спросил я, глядя ему прямо в глаза и стараясь не дать разгуляться нараставшей во мне панике. – Что, по-твоему, со мной неладно? Разве при амнезии такое бывает? Люди начинают говорить с английским акцентом и считать, что живут в «Кембридже, Англия», а не в «Хартфорде, Коннектикут»? Это что, нормально? Доктор так тебе и сказал? Ты провел с ним довольно долгое время. Должна же у него быть хоть какая-то теория.
Стив отвел взгляд.
– Док Бэллинджер сказал, Майки, что главное – не волноваться. Постараться, чтобы ты получал от происходящего удовольствие, как это ни дико звучит. Не принуждать тебя ни к чему. Мы просто пройдемся по городку, по кампусу, все как обычно. Память к тебе скоро вернется, можешь пари на это держать. А после полудня мы повидаемся с одним таким Тейлором.
– А это кто?
– Да вроде как профессор.
– Психиатр?
– Ну, типа того. А что тут такого? Я хочу сказать, он, скорее всего, просто постукает тебя за ухом молоточком, каким они рефлексы проверяют, ты и очухаешься.
– То есть ты собираешься присматривать за мной? Показать мне, где тут что. Напомнить, где что. Помочь расшевелить мою память?
Стив пожал плечами:
– Примерно так.
– И мы… – я сглотнул, – мы с тобой, выходит, близкие друзья? Ты и я? Прости, я знаю, звучит по-идиотски, но, понимаешь, я действительно ничего не могу припомнить, ничего. Поэтому мне нужно, чтобы кто-то рассказывал мне даже о самых тривиальных вещах… Не то чтобы дружба – это вещь тривиальная, – спохватился я. – Я хотел сказать, о вещах основных… мне нужно рассказывать о самых простых вещах. Насколько я понимаю, мы с тобой друзья… кенты, так это называется?
Я балабонил таким манером, потому что видел, как покраснел Стив, и хотел дать ему время оправиться. В конце концов, действительно же нелепый вопрос.
– Да, пожалуй, можно и так сказать, – наконец выдавил он. – Наверное, можно сказать, что мы с тобой кенты.
– Значит ли… прости, я понимаю, вопрос смешной, но значит ли это, что мы «лучшие друзья», или есть человек, знающий меня еще ближе?
– Ну…
– Я не о том, – поспешно перебил я Стива, – не о том, что мне не по душе твоя забота. Я тебе благодарен. Я просто… понимаешь… интересуюсь… вот и все.
Бедный Стив не знал куда девать глаза. Мне было жаль ставить его в столь неловкое положение, но, господи, должен же я был хоть за что-нибудь ухватиться.
– Черт, Майки. Понятия не имею, что и сказать. Сдается, я знаю тебя не хуже любого другого, однако…
– Я отчасти нелюдим, – подсказал я, чтобы помочь ему. – Это мне известно. Возможно… у меня есть… – в сознании моем вдруг возникло лицо Джейн, – подруга какая-нибудь?
Стив остановился и ответил – неловко, хрипловато, почти неслышно:
– Нет, подруги нет. По крайности… то есть… я ее не знаю. Вот.
– Ладно, спасибо.
Стив, все еще не решавшийся взглянуть мне в глаза, кивнул, потом поднял взгляд вверх и повеселевшим голосом, явно обрадовавшись возможности сменить тему, сообщил:
– Ну вот и пришли!
Он указал на закусочную с угловым фасадом, возвышавшуюся на другой стороне улицы, – полосатый, красно-белый тент над входом в нее украшала жирная надпись: «Папа Джонс».
– «Папа Джонс»! – вскричал, без всякой на то нужды, Стив и трубным голосом прибавил: – Отчий дом знаменитых блинчиков папы Джонса!
Не торопись, сказал я себе, пересекая вслед за ним улицу. Чтобы снова прийти в себя, тебе понадобится помощь этого парня, так что не стоит смущать его и отталкивать. Откуда мне знать, может, он считает меня законченным козлом, другом моим никогда по-настоящему не был и просто ведет себя благовоспитанно – лишь потому, что это он уложил меня спать и повстречал сегодня утром. Не исключено, что он был бы рад очутиться как можно дальше отсюда.
Личного опыта общения с американцами у меня, почитай, не имелось, так я, во всяком случае, полагал, и потому меня удивило то, что Стиву столь явно не понравились мои вопросы о лучших друзьях и подружках. Мы, англичане, вечно осуждаем себя за неспособность говорить об отношениях между людьми, о наших сокровенных чувствах, одновременно осуждая американцев за неспособность говорить о чем-либо другом. Возможно, Стив неправильно меня понял. Я сказал себе «мы, англичане», поскольку, вопреки всем доказательным, обстоятельным, прямым свидетельствам в пользу противного, все еще держался твердой веры в то, что родом я из Англии, вырос в Гэмпшире, что произошла какая-то кошмарная ошибка или же кто-то сыграл со мной идиотскую шутку.
В конце концов, Пип, сказал я себе, не мог же ты выдумать свой выговор, лексикон, смутные воспоминания о девушке по имени Джейн и месте, называемом «Святой Матфей», как не можешь и подделать инстинктивный взгляд не в ту сторону при пересечении улицы… эй! Пока я увертывался от обозленно гудевшей машины, мне явилась новая мысль.
Пип! Я только что назвал себя Пипом. Откуда взялось это имя?
Мы уже были на другой стороне улицы.
– А скажи, Стив, – поинтересовался я, – меня когда-нибудь называли Пипом? Было у меня такое прозвище? Пип или Пиппи?
Стив, открывая передо мной дверь «Папы Джонса», улыбнулся во весь рот:
– Ни разу не слышал. Только Майк да Майки. Хотя Пиппи тебе идет. Точно. Пиппи! Да, мне нравится…
– И это странно, – сказал я, шагая за ним, – потому что мне-то, похоже, не очень.
Мы уселись за столик у окна, выходящего на Нассау-стрит. Выходящего на Нассау, следовало, наверное, сказать. На столике стояли: солонка, перечница, хромированный держатель для салфеток, хромированный же кувшинчик с молоком, бутылка кетчупа «Хейнц», баночка горчицы «Гульден» и пепельница.
Первое, что сделал Стив, усевшись, – вытащил пачку сигарет «Стрэнд» и вытряс из нее одну для меня.
– Со «Стрэндом» ты никогда не одинок, – процитировал я, отказываясь от сигареты.
– Извини?
– Ну, ты же знаешь, плакаты, которые висели по всей Америке. Рекламные щиты, так они у вас называются. В пятидесятых, по-моему. «Со “Стрэндом” ты никогда не одинок». Знаменитый провал рекламной кампании. На плакате мужчина, один-одинешенек, с сигаретой в зубах. Люди миллионами отказывались от этой марки, потому что она стала ассоциироваться с одинокими неудачниками.
– Да? Никогда об этом не слышал. Так ты и вправду не хочешь?
– Вправду.
Тут я вспомнил, что, проснувшись, увидел на столике у кровати пачку сигарет. И до меня вдруг дошел смысл его вопроса.
– Бог ты мой, – сказал я. – Ты хочешь сказать, что я курю?
– «Лаки». Ну, вчера вечером еще курил. Две пачки высосал. Но если теперь не хочешь… слушай, это же отличная возможность бросить.
– Как ни смешно, – ответил я, – как раз и хочу. У меня внутри что-то вроде дыры, в самой середке. Я думал, она связана с моей… ты понимаешь, с неспособностью хоть что-нибудь вспомнить… но, возможно, – а, ладно, какого черта… Давай, попробую.
И я взял ее. Стив щелкнул латунной «Зиппо» и, придерживая мою руку, поднес зажигалку к кончику сигареты.
– Йо-хо! – воскликнул я, затянувшись. – О да! Точно, этого я и хотел. Господи, хорошо-то как! Почему же я раньше не знал? Хотя нет, видимо, знал…
Повеселев, я огляделся вокруг и обнаружил, что курят здесь очень многие.
– Поразительно, – сказал я. – А мне казалось, курильщиков в Америке почти извели.
Стив рассмеялся и совсем уж было ответил мне что-то, но тут…
– Привет, Майки, привет, Стив. – К нам подошла официантка с двумя меню и двумя стаканами ледяной воды.
– Здравствуйте… Джо-Бет, – сказал я, прочитав имя на приколотой к ее переднику карточке.
– Чем могу вас нынче порадовать? – спросила она, вручая нам по меню и вытягивая из хромированного держателя две салфетки. Прежде чем я успел хотя бы взглянуть на первую строчку меню, показавшегося мне невероятно толстым и сложным, она уже разостлала перед нами салфетки, поставила на каждую по стакану воды и, взмахнув блокнотом, распахнула его.
– Э-э… – промямлил я, нервно поглядывая на ее нависший над страницей карандаш. – Ты первый, Стив.
– Пожалуй, как обычно, Джо-Бет, и Майки тоже.
– Ах, мальчики, нет в вас авантюрной жилки, – с шутливым презрением вздохнула официантка, отобрала у нас меню, черкнула что-то в блокноте и стремительно удалилась.
– Когда-нибудь мы тебя еще удивим, – пообещал ей в спину Стив.
– Хм, я понимаю, вопрос дурацкий, – наклонясь к нему, прошептал я, – но что я тут обычно ем?
Стив подмигнул:
– Подожди немного, увидишь…
– Знаешь, – сказал я, любовно вглядываясь в горящий кончик сигареты, – некая часть меня начинает получать от происходящего удовольствие. Такое безумие, такая бестолковщина.
– И правильно, – отозвался Стив, – так к этому и относись.
– Похоже на сцену из кино, из «Вспомнить все».
– «Вспомнить все»? Никогда не видел.
– Нет? Арни, Шарон Стоун… по роману Филипа К. Дика.
Он покачал головой:
– Прошло мимо. Так тебе знакомо это место? Вспоминается что-нибудь? Запах блинчиков, запотевшие стекла, окраска стен?
Теперь уже я покачал головой, улыбаясь:
– Не-е-е. Н у, то есть, не в точности. Хотя закусочные такие я в кино видел тысячи раз.
– Знаешь, что странно, Майк? Этот твой английский выговор. Он почти совершенен, понимаешь? Однако ты употребляешь слова вроде «кино» и «мило», которых англичане никогда не используют. В Англии говорят «фильмы», «приятно», «да что вы!» и так далее.
– Я всегда говорю «кино». Как и множество англичан. То же относится и к «мило». В конце концов, разве мы не испытываем постоянного воздействия американской культуры? На самом-то деле Джейн талдычит, будто я разговариваю, как… – Я умолк, нахмурившись.
– Джейн? Какая Джейн?
Я на манер завзятого курильщика потер пальцем нос.
– Вот тут не уверен. Она носит белый халат, и она меня бросила. Это я знаю. И еще она забрала «рено-клио».
– Что забрала?
– Это такая марка машины. Французская. «Рено-клио».
– Как «Клеопатра», что ли?
– Да нет, К-Л-И-О.
– Виг-Клио! – Стив в волнении пристукнул кулаком по столу.
– Виноват?
– Виг-Клио, это два здания в кампусе. Им по сто лет. Мы были там вчера вечером, на заседании Клиософского общества.
– Клиософского?
– Конечно, неужели не понимаешь? Там дискуссия была, о политических отношениях между Америкой и Европой. Нудятина страшная, так что мы смылись пораньше. Я о чем говорю-то, может, с тобой вот что приключилось: ты зашиб голову, заснул, пьяный как сапожник, и увидел сон! Настолько яркий, что до сих пор от него не очухался. Так? Тебе снилось, будто ты в Англии, а машину, ну, французскую, «клио», ты придумал, потому что в мозгу у тебя засело это слово! Вот и все! Поспорить готов!
Я смотрел на него, мне и хотелось поверить услышанному, но что-то сопротивлялось внутри.
– Наверное, это возможно…
– Да точно же!
– А что такое «Клиософское общество»?
– Ну, знаешь, оно там разные дискуссии устраивает. Названо в честь Клио, музы истории или еще чего.
– Истории! Ну конечно… истории… – В сознание мое начали просачиваться ручейки воспоминаний. – Я же занимаюсь историей, верно?
– Господи, да ты чем только не занимаешься. Точно не скажу.
– Я имею в виду – изучаю историю. Я… как это называется, история – мой основной предмет.
С мгновение он внимательно вглядывался в меня, желая увериться, что я не шучу.
– Очнись, Майк. Философия. Твой основной предмет – философия.
Я вытаращил глаза:
– Философия? Ты сказал – философия? Ууй! Стив поднял выпавшую из моих пальцев сигарету и раздавил ее в пепельнице.
– Эй, ты бы поосторожнее, друг.
– Так я же ни аза в философии не смыслю.
– Факт первый. Неосторожное обращение с сигаретой может привести к ожогу. Факт второй. Ожог причиняет боль. Боль – это плохо. Вывод. Курите с осторожностью.
Появилась Джо-Бет.
– Два фирменных завтрака. Наслаждайтесь, мальчики.
Я, не веря глазам, уставился на водруженную передо мной башню блинов. Здоровенный кусок сливочного масла потихоньку соскальзывал с ее верхушки. На нижнем, так сказать, этаже тарелки завивались вокруг двух поджаренных яиц хрусткие ленточки бекона. Посасывая волдырек, уже выскочивший сбоку на пальце, я с изумлением созерцал этот громоздившийся на столе иноземный натюрморт.
– Неужели предполагается, что я все это могу слопать?
– Такова основная идея, – ответил, распрямляясь и расставляя пошире локти, Стив.
– А вот это? – поинтересовался я, беря со стола четыре пакетика с кленовым сиропом. – Это зачем?
В ответ он надорвал два своих пакетика и оросил их содержимым собственный бекон.
– Бекон с кленовым сиропом? – поразился я. – Теперь я точно знаю, что сплю.
Тем не менее, заставив себя попробовать завтрак, я обнаружил, что он не лишен определенных достоинств. Было в нем нечто неопровержимо правильное, как будто тело мое только его и ждало.
– Поверить не могу, – сказал я, управившись с едой, раскурив еще одну сигарету и радушно приветствуя темный наплыв дыма в легкие. – Не могу поверить, что столько всего съел.
– Может, именно в этом ты и нуждался, – отозвался Стив, наливая кофе из кувшинчика, который расторопная Джо-Бет мимоходом закинула на наш столик.
– И я всегда завтракаю таким вот манером?
– Разумеется. Почти каждое утро.
– Тогда почему во мне не пятнадцать стоунов?
– Как-как?
– Ну, знаешь, почему я не… – Я уставился в потолок и попытался произвести пересчет. – Почему во мне не двести фунтов или около того? Почему я не растолстел?
Стив ухмыльнулся:
– Это ты лучше бы у тренера спросил, у Хейвуда.
Что-то оборвалось у меня в желудке.
– О боже, – пробормотал я. – О боже, только не это. Ты хочешь уверить меня, будто я занимаюсь каким-то спортом, да? Та к я и знал.
– Давай выбираться отсюда. Твоя подача, питчер.
– Питчер?
– Да ладно тебе. Гони семь баксов, и мы в расчете.
Я вытащил из заднего кармана шортов бумажник, достал деньги.
– Семь баксов? – переспросил я, раскладывая банкноты по столу. – Слушай, они же все одного размера.
– Ну да, – ответил Стив, отбирая несколько бумажек. – А какими же им быть?
Мы вновь на Нассау, диснейлендовская готика смотрит на нас, и Стив объявляет, что нам надлежит прогуляться по кампусу.
Первый студенческий год, сообщает он, называется годом сосунка, второй – годом недоросля, третий – вьюноши, а четвертый, и последний, – годом зрелости. Судя по всему, мы с ним завершаем нашу юношескую пору и потому относимся к «классу» 1997-го, года нашего выпуска. Специальность Стива – физика, однако в ученые ему идти неохота. Возможно, он подастся в писатели. Он слушает лекции по истории, по поэзии, и они ему нравятся.
Пока мы прогуливаемся, на меня изливаются местные сказания.
Стив указывает на изящное, увитое плющом здание.
– Один из первых губернаторов Нью-Джерси, Джонатан Белчер, сыграл немалую роль в основании Принстонского колледжа. Если бы не его скромность, Нассау-Холл, отпраздновавший в этом году свое двухсотпятидесятилетие, назывался бы Белчер-Холлом, что было бы не совсем приятно.[101] В 1777-м Джордж Вашингтон выбил из Нассау-Холла англичан, а пять лет спустя Принстон ненадолго обратился в столицу Соединенных Штатов, чему мы и обязаны редкой привилегией не спускать на ночь наши «Звезды и Полосы». Вашингтон возвратился в Принстон, чтобы получить благодарность Континентального конгресса за свое поведение во время войны, а 31 октября именно сюда была доставлена новость о подписании Парижского договора, формально завершившего Американскую революцию. Посетителей просят не топтать траву. Фотосъемка со вспышкой внутри здания запрещается. Спасибо за внимание.
– Черт, откуда ты столько всего знаешь? – спросил я.
– Водил по этому дому группы туристов, когда был недорослем. Они здесь все время толкутся. Ты тоже этим занимался.
– Правда?
– Конечно. Как и множество других студентов. Хороший способ заработать немного деньжат. Вот это «Ворота Стэнопа». Студенты проходят через них после церемонии вручения дипломов, поэтому пользоваться ими до того не стоит, очень плохая примета. Своего рода суеверие – ты проходишь сквозь них, только когда покидаешь университет, поэтому в другое время никто сюда не суется.
Я сказал, что хотел бы взглянуть на здание, которое, по его словам, известно мне лучше прочих.
– Ладно, – сказал Стив. – Пойдем глянем, кто сейчас болтается в «Лужайке Ректора», ты проводил там кучу времени. А по дороге посмотрим, что я смогу вспомнить об этом здании. Ну вот, послушай. В прежние времена земля, примыкавшая к университету, называлась двором или лужайкой, так? Затем, под конец восемнадцатого века, президент Принстона Джонатан Уизерспун решил, благо он занимался античностью, присвоить полям вокруг Нассау-Холла наименование «кампус», что на латыни означает «поле», поэтому теперь территорию любого университета, где бы он ни находился, именуют «кампусом». Роскошно, а?
Я согласился: роскошно. Спокойствие, с которым я усваивал все эти сведения, похоже, радовало Стива.
– Теперь еще кое-что, – сказал он. – Имеется две теории насчет того, по какой такой причине лучшие университеты Америки объединены названием «Лига Плюща», так? Согласно одной, дело все в том, что каждый выпускник Принстона сажал перед Нассау-Холлом росток плюща. Традиция прервалась уже в нашем столетии, году в сорок первом, когда плющом зарос весь фронтон Нассау. Так что нынче те, кто закончил учебу, сажают плющ под памятной табличкой своего выпуска, за домом. Отсюда и «Лига Плюща», понимаешь? Из-за плюща.
– Не лишено резона, – согласился я. – Однако ты сказал, что теорий две.
– Верно. Вторая гласит, что поначалу, в середине восемнадцатого века, существовали только Гарвард, Йель, Принстон и… еще один, Корнелл или Дармут, по-моему. Всего четыре университета. А римская четверка образуется из букв I и V, вот их и называли «университеты-IV». Ай-Ви, Ivy – плющ, понимаешь?
– Эта теория мне нравится больше, – поразмыслив, сказал я. – Ну а тот дом, в котором я нынче проснулся? Как его?
– А, Генри-Холл, это студенческое общежитие на западном краю кампуса, мы называем его «Трущобой».
– Трущобой?
– Ага, хотя вообще-то оно довольно красивое. «Трущобой» – потому что от центра кампуса, где находятся столовые старшекурсников, путь до него вовсе не близкий. Но место отличное, оттуда рукой подать до Университетской площади, где «Магазин Принстонского университета», до театра «Макартни» и рынка «Уова», симпатичный такой рыночек. А это, – Стив указал на нарядное оранжевое здание перед нами, – как раз и есть студенческий центр «Лужайка Ректора». Ребята тут часто тусуются. В «Ротонде» можно поесть, поиграть, ну и так далее. Не узнаешь?
Я почти не слушал его, потому что из дверей здания вышло нечто, вернее, вышел некто, мне уж точно знакомый. Один только вид его сдвинул в моей голове запор здоровенного шлюза, и в нее хлынуло сразу все, как при горячей загрузке ОЗУ Джонни Мнемоника. Джонни Мнемоник… Киану Ривз… Киану Янг, доктор хилософии… Джейн… оранжевые пилюльки… Ко мне возвратилось столько всего сразу, что я убоялся перегрузки памяти.
– Дважды Эдди! – завопил я. – Господи, Дважды Эдди!
Дважды Эдди бросил на меня один-единственный взгляд и оглянулся назад, словно решив, что я обращаюсь к кому-то другому.
Я рванулся к нему.
– Черт возьми! – задыхаясь, сказал я. – До чего же я рад тебя видеть! Ну как ты? Есть у тебя хоть какие-то соображения насчет того, что за чертовщина с нами творится?
Он тупо уставился на меня:
– Прошу прощения?
Я положил руку ему на плечо:
– Брось, Эдди, не придуривайся. Это ведь ты, так? Я знал, что ты где-то здесь.
Эдди перевел взгляд на торопливо приближавшегося к нам Стива.
– Слушай, Майки, нам бы лучше двигаться дальше, – сказал Стив.
– Я знаю этого парня, – ответил я. – Тебя же Дважды Эдди зовут, так?
Дважды Эдди покачал головой:
– Извини, друг. Меня зовут Томом.
Его американский выговор привел меня в бешенство.
– Нет! – Я с силой тряхнул его за плечо. – Пожалуйста, не надо так со мной. Ты Эдвард Эдвардс, я знаю!
– Эй, успокойся, ладно? Да, мое имя Эдвард Эдвардс. Эдвард Томас Эдвардс, но тебя я совсем не знаю.
Стив аккуратно снял мою руку с плеча Дважды Эдди. Я скорее почувствовал, чем увидел, как он подает Эдди какие-то знаки за моей спиной. Скорее всего, пальцем по лбу стучит. Извините, пожалуйста, моего чокнутого друга.
– Да, но когда ты был в Кембридже, – в отчаянии выпалил я, – тебя звали Дважды Эдди. А любовника твоего Джеймсом Макдонеллом. Вы поругались, я подобрал твои диски. Помнишь?
Дважды Эдди побагровел и на шаг отступил от меня.
– Что за херня? Я тебя не знаю. И не хватайся за мою сумку, понял?
– Извини… – Я взъерошил пальцами мои короткие волосы. – Я не хотел… но разве ты не помнишь? Святой Матфей? Твоя коллекция дисков? Вы с Джеймсом жили в Старом Дворе, в Е4. В тот раз вы расплевались, но после помирились, и все было отлично.
– Мать твою, так ты меня пидором назвал? – Дважды Эдди, лицо которого было теперь уже алым, с силой толкнул меня в грудь.
Я врезался в Стива.
– Эй-эй-эй! – сказал Стив. – Забудь об этом, ладно? Это Майки, с ним произошел несчастный случай. Голову зашиб. И у него теперь память путается. Он ничего плохого сказать не хотел. Просто давайте все успокоимся, идет?
– Да? – откликнулся Дважды Эдди. – Тогда скажи ему, чтобы заткнул пасть насчет пидоров, идет? – а то я ему еще раз голову зашибу.
– Уфф! – выдохнул Стив, когда Эдди удалился. – Ты все-таки полегче, малыш. Такими словами направо-налево не бросаются.
– Но это же он, – сказал я, глядя Эдди в спину и отчетливо припоминая, как он шествовал по Старому Двору, роняя от злости диски. – Я знаю – он. И потом, откуда эта гомофобия?
– Что?
– Я хочу сказать, что уж такого дурного в гомосексуалистах?
Стив вытаращился на меня:
– Ты серьезно?
– Да еще и в Америке, не где-нибудь. Я думал, это хиппово. Ну, знаешь, – модно. А он повел себя как какой-нибудь армейский мачо.
Во взгляде Стива читался теперь неподдельный страх.
– Слушай, может, нам лучше вернуться в Генри-Холл? Ты поспишь немного перед встречей с профессором Тейлором. Хоть никого больше в раж вводить не будешь.
– Да, – ответил я. Новые, пробужденные встречей с Дважды Эдди воспоминания омывали меня изнутри с такой силой, что я почти чувствовал, как волны их плещутся о мои зубы. – Ты прав. Мне нужно побыть одному.
Переписывая историю
Сэр Уильям Миллз (1856–1932)
Глодер одиноко сидел за письменным столом, ожидая наступления темноты.
Перед ним лежало официальное извещение о том, что он награжден рыцарским Железным крестом первого класса, с алмазами. Еще раз улыбнувшись извещению, Руди отодвинул его от себя к другому краю стола. Все складывалось, чувствовал Руди, чудо как хорошо, полностью выходя за пределы, которых он мог бы достичь усилием одной лишь воли. Глодер не был фантазером, как не был и человеком, верящим во всемогущество провидения или в неотвратимость предначертанной каждому судьбы. Глодер был существом уравновешенным, он верил, что между этими двумя, между волей и роком, наличествует пустое пространство, в котором можно выстраивать свое будущее из материалов, подбрасываемых тебе судьбой.
Руди считал себя также и человеком великодушным, человеком, который, сознавая дарования, полученные им от природы, нутром понимает, что принадлежат они не ему одному и оттого нельзя бросать их на ветер ради дешевых наслаждений или грубой погони за почестями. Сколько Руди помнил себя, он знал – ему надлежит использовать свои таланты для того, чтобы указать путь ближним, несчетной массе людей, не наделенных его прозорливостью, знаниями и хотя бы десятой частью его выносливости, способности к концентрации и силы ума.
В другом человеке веру подобного рода можно было бы принять за высокомерие или даже идефикс. В Руди ее следовало истолковывать как проявление скромности. Немного находилось людей, и уж тем паче в аду войны, коим он мог бы это разъяснить. Однажды он попытался изложить все на бумаге.
«Представьте себе человека, – писал Руди, – чей слух обострен настолько, что ни единый звук не минует его ушей. Каждый шепот, каждый раскат далекого грома явственно слышен ему. Такому человеку остается либо сойти с ума от несносного шума, постоянно насилующего его мозг, либо изобрести методу вслушивания, способы, позволяющие извлекать из вала звуков образы, доступные его пониманию. Ему надлежит научиться обращать все звучание мира в нечто упорядоченное, в подобие музыки.
То же и со мной: все, что я вижу, слышу, ощущаю и понимаю, настолько превосходит ту малость, какая доступна большей части ближних моих, что я разработал систему, общую музыку мира, не внятную никому другому, но сообщающую устроение и форму всему, что понимаю я. Во всякую секунду всякого дня новые ощущения и озарения вливаются в эту музыку, отчего она нарастает и нарастает».
Руди не считал, что, описывая себя как существо, столь разительно превосходящее обыкновенного человека, впадает в зазнайство или искажает реальность. Конечно, ему встречались люди, обладавшие куда более острым отвлеченным мышлением. Тот же Гуго Гутман чувствовал себя в мире абстрактной философской мысли куда уютнее Руди. Но Гутману недоставало чутья на людей, он не умел ладить с дураками, не обладал способностью (если продолжить музыкальную метафору) вслушиваться в более грубые человеческие мелодии, в раскачливые, Bierkeller[102] песни солдат или в чувствительные баллады буржуа. К тому же Гутман погиб. И опять-таки, Глодер знавал людей с такими познаниями в математике и прочих науках, какие ему и не снились, однако люди эти были абсолютно лишены чувства истории, воображения или сострадания к ближним. Знавал он и поэтов, однако у тех напрочь отсутствовал вкус к фактам, к цифрам, к логической последовательности чистых идей. Философы, которых он знал либо читал, в совершенстве владели абстрактным мышлением, но ничего не смыслили в охоте на оленя или устройстве плуга. Что пользы в умении добираться до сорокового десятичного знака «пи» или раскладывать по полочкам онтологию человеческого разума, если ты не способен толково обсудить с поселянином наилучшее время перегона стад с горных пастбищ или прогуляться с приятелем в поисках шлюхи почище? И уж коли на то пошло, что пользы в даре общения с какими угодно людьми, даре, открывающем тебе доступ к умам и сердцам масс, если ты не способен оплакать смерть Изольды, в которой человеческая любовь достигает величайших высот чистого Искусства и, изнемогая, претворяется в дух, в потустороннее ничто? Так полагал Глодер.
Он встал и снова подошел к двери, ведшей в его маленькую спальню. Ганс Менд лежал, раскинувшись на кровати, глупые глаза его пристально вглядывались в потолок, как если бы он пытался припомнить нечто забытое, из детства, или произвести сложное сложение.
Корить себя за совершенную глупость – надо же было оставить дневник в незапертом ящике – Глодер не собирался. Время, которое попусту расходуется на угрызения совести, лучше потратить на то, чтобы чему-нибудь научиться. Ошибка не была роковой, и больше он ее не повторит. В сущности, ее можно обратить к собственной выгоде. Отныне новый дневник Руди (старый дотлевал в камине) будет документом, достойным того, чтобы на него случайно наткнуться.
Некое подобие удовлетворения доставляла Руди и глубина потрясения, испытанного Мендом, когда тот обнаружил его вероломство. Столь горькое чувство обиды мог испытать лишь тот, кто всей душой, всем сердцем уверовал в капитана Рудольфа Глодера и его неслыханные достоинства. Менд отличался меньшей, чем у прочих солдат, тупостью, и уж если такой человек целиком отдался преклонению перед Руди, какие же чувства должен он внушать всем прочим неандертальцам?
Да и первая минута их разговора оказалась почти совершенной в ее комизме.
– Надеюсь, чтение увлекательное? – поинтересовался от двери Руди, с такой же точностью выбрав время для вопроса, с какой комедиант выбирает миг для своей коронной реплики.
Ганс в полнейшей панике вскочил на ноги – ни дать ни взять школьник, которого застукали за чтением непристойных разделов греческой антологии.
– Ты разве не знаешь, что некрасиво читать чужой дневник, не испросив на то разрешения?
Бедный Ганс простоял так, казалось, полную минуту, губы его шевелились, лицо побелело от гнева и негодования. На самом-то деле, знал Руди, они таращились друг на друга не долее трех секунд, впрочем, в такие мгновения время начинает вести себя нехорошо. И, несмотря на крайнюю щекотливость положения, у Руди отыскался миг, чтобы вспомнить о трудах Анри Бергсона и ходе внутреннего времени.
В этот-то краткий миг он и приблизился к Гансу, чтобы преспокойнейшим образом снять со стола дневник.
– Я должен извиниться, дорогой мой Менд, за отсутствие в моем тексте особых художественных достоинств, – произнес он тоном усталого джентльмена-ученого. – Трудности военного времени, знаешь ли. Под гром орудий добиться безупречной изысканности стиля удается далеко не всегда. Вижу, прочитанное на тебя ни малейшего впечатления не произвело.
Он повернулся к Менду спиной и, сколь ни дорога была тисненая кожа переплета, уронил дневник в камин, облил керосином и поднес к нему спичку.
– Приговор нашего критика суров, – вздохнул он, не оборачиваясь к Менду, чье затрудненное дыхание ясно различал у себя за спиной, – но, вне всяких сомнений, справедлив.
Руди поворошил горящие страницы носком до блеска начищенного сапога и наконец повернулся, – Менд подступал к нему с «люгером» в руке.
– Дьявол!
Голос Менда был не громче хриплого шепота.
– Надеюсь, – откликнулся Руди, – меня нельзя назвать чрезмерным приверженцем мелочных правил и норм, столь отягощающих нашу здешнюю жизнь. И тем не менее считаю своим долгом отметить, что использование портупейного оружия дозволено лишь офицерам. Винтовки для солдат, пистолеты для офицеров. Обычай, безусловно, глупый, и все же я полагаю, что нам надлежит придерживаться, сколь бы ни было сие прискорбно, подобных традиций, иначе недисциплинированность поразит, словно тиф, все, что нас окружает.
– Не беспокойтесь, капитан, – прошипел Менд. – Этот пистолет предназначен именно для вас.
Замешательство, отразившееся на лице Менда, когда он нажал на курок, выглядело комично и – как-никак, Руди ведь тоже был человеком – довольно трогательно.
– Капут, – сообщил Руди, постукивая пальцем по кобуре, в которой покоился его табельный «люгер».
Менд нелепо замер посреди комнаты, спусковой крючок, подчиняясь движению его пальца, раз за разом повторял дурацкие, упругие щелчки. В конце концов Менд уронил пистолет на пол и просто смотрел на Руди так, словно тот ему снится, и никакого гнева лицо его более не выражало.
Не промолвив ни слова, Руди подступил к нему, вытянув перед собою руки, – точно сомнамбула или, вернее, точно французский Maréchal,[103] вознамерившийся заключить кого-то на параде в церемониальные объятия. Большие пальцы Руди не встретили, смыкаясь на шее Менда, никакого сопротивления и беспрепятственно впились в его горло.
Менд не издал ни звука, да и тело его никаких попыток защититься не произвело. Ему недостало ума выкрикнуть проклятие или завопить, призывая помощь. Наполненные слезами глаза Менда неотрывно смотрели на Руди. Выражение этих глаз могло привести убийцу в замешательство, даже устыдить, если бы не их покорство, – нет, больше чем покорство – страстную потребность, смиренное приятие, вот что они выражали. Ганглии и жилы его горла оказались мягкими и податливыми, точно женские груди. В миг смерти глаза Менда выкатились из своих слезных колодцев, однако при последнем судорожном вздохе ушли назад, подобно раздувшимся пузырькам грязи, слишком тугим, чтобы болотному газу удалось прорвать их изнутри.
Руди уложил труп на свою кровать, затворил и запер дверь спальни и, выбежав из кабинета, понесся по коридору, стуча каблуками, ликующе вскрикивая, взревывая и хохоча.
– Смотрите, что оставил на моем столе штабс-ефрейтор Менд! – воскликнул он, влетев в кабинет Эккерта. – Где он? Он был здесь? Первая рюмка бренди – вестовому!
Эккерт припомнил, что Менд часа два, что ли, назад приносил ему послеполуденную почту.
– Да бог с ним, – сказал Эккерт. – Мои поздравления, капитан Глодер! И, если позволите, никогда еще право подписать подобное представление не доставляло мне большего удовольствия. Я знаю, то же относится и к Полковнику.
Руди застенчиво улыбнулся и сглотнул – скромно, почти неприметно.
– Вы слишком добры ко мне, сударь. Вы все – слишком ко мне добры. Надеюсь, если позволит общая стратегия, мне разрешат пригласить в эти выходные столько офицеров и солдат, сколько можно будет отпустить с передовой, на небольшое торжество? Chez «Le Coq D’Or»? Эта награда принадлежит полку, и полк следует отблагодарить. Офицеров, солдат, всех до единого.
– Хороший вы малый, Глодер, – сказал Эккерт, – но, должен вам заметить, что, хоть товарищеские отношения с нижними чинами и делают вам честь, адъютанту подобного рода братание не к лицу. Особенно, – с лукавой улыбкой добавил он, – адъютанту, которого ожидает повышение в звании.
– Герр майор! – изумленно выдохнул Руди.
– Ладно, ладно! Ни для кого не секрет, что главный штаб давно уж присматривается к вам. Нет-нет, я знаю, что вы собираетесь сказать… – Эккерт поднял руку, останавливая протесты Ру-ди, – вы хотите остаться на фронте, с солдатами. Все это замечательно, и все-таки умный человек с большим боевым опытом порою оказывается более полезным в тылу.
Под конец дня Глодер поднялся в свои комнаты. Незадолго до этого он порасспрашивал о Мен-де в траншеях, однако ему сказали, что тот отсутствует, скорее всего, отправился куда-то вдоль линии фронта, разносить приказы. Всем известно, что отыскать вестового дело всегда не из легких. Поэтому Руди, поздним уже вечером, вернулся к себе, забросив попутно две бутылки шнапса в караульное помещение; лопатки его ныли от бесчисленных хлопков по спине.
Вот он теперь и сидел за письменным столом, дверь в спальню стояла открытой, и коченеющий труп Менда по-прежнему сосредоточенно вглядывался в потолок.
– Милый, преданный Ганс, – промолвил Ру-ди. – Твоя достойная сожалений любознательность помешала тебе стать свидетелем минуты моей величайшей славы. Пройдет немного недель, и я обращусь в майора Глодера, любимца всего штаба. Дни мои будут течь в роскошном шато, и теперь уж до самого конца этой дурацкой войны я буду жевать шоколад и передвигать по карте оловянных солдатиков. Пока же оставь меня в покое. Я переписываю дневник.
В три часа утра Глодер прервал свои труды, разогнул затекшую спину и спустился вниз, к кухням. Вокруг все было тихо, и он выскользнул через заднюю дверь на двор.
Он отыскал тачку и подкатил ее вдоль стены под свое окно. Ближайший постовой находился по другую сторону ferme и после щедрого дара Ру-ди – праздничного шнапса – почти наверняка спал беспробудным пьяным сном.
Снова поднявшись к себе, Руди выдвинул ящик письменного стола и покопался в нем. Потом прошел в спальню, пристроил сумку Менда ему на плечо, поднял тело и без особых усилий донес его до открытого окна. А там и уронил вниз. Совсем уже окоченевший труп ударился оземь рядом с тачкой, и кости его хрустнули, ломаясь, точно сухие сучья.
Катя в ночи по настилу Курфюрстендам свой косный, изломанный груз, Руди казался себе мельником, везущим мешки с мукой в деревню, на продажу. И он стал негромко насвистывать переливистую мелодию аккомпанемента к Шубертовой «Die Schöne Müllerin».[104]
Добравшись до блиндажа Менда, он подхватил тело и занес его внутрь.
– Кто здесь? – донесся из темноты невнятный голос.
– Всего лишь я, – спокойно ответил Руди. – Приволок пьяного Менда, пусть отоспится.
– Слава богу, сударь. А я уж решил, что подъем.
– До него еще два часа. Спи. Я уложу его на койку и уйду.
Одна сломанная нога торчала в сторону, однако после недолгой возни Руди удалось придать трупу достаточно натуральный вид лежащего в постели человека.
Он вышел из блиндажа, забросил тяжелую деревянную тачку на тыльный траверс траншеи, а следом, враскоряку встав на мешки с песком, вскарабкался к ней и сам. И повернулся ко входу в блиндаж.
Безумным все это выглядит расточительством, сказал он себе. Но с другой стороны, война и есть безумное расточительство. И всем это известно. Надо будет, подумал он, вытаскивая из кармана бомбу Миллза, написать их родителям самые что ни на есть прекрасные, поэтичные письма.
Бегом возвращаясь к ferme, он отбросил тачку в сторону, и та, кувыркаясь, полетела во тьму.
И миг, в который она врезалась в зеленую изгородь, точно совпал с громовым, детонирующим взрывом за спиной Руди.
Вечная история
Что из этого проистекает
Появление Дважды Эдди совпало с громовым взрывом в моей памяти, похожим на извержение подводного вулкана, так что мне и вправду хотелось остаться наедине с разномастным потоком мыслей, взбухавшим и все уплотнявшимся в моей голове. Образ, быть может, и гипертрофированный, но не взыщите, такой уж у меня получился. Метафоры, какими бы безумными они ни казались, неизменно утешительны. Когда ваша жизнь обращается в пустое пространство, держитесь покрепче за любую картинку, коренящуюся в реальном мире, это поможет вам не уплыть в пустоту.
Мы шли вместе со Стивом по кампусу к Генри-Холлу. Стива, насколько я понимал, стычка с Дважды Эдди здорово напугала, ему не терпелось оставить меня и вернуться, хотя бы на время, к собственной здравомысленной жизни. В конце концов, у него могли быть и свои дела – девушка, к примеру, с которой он мог бы провести это несуразное утро, не исключено даже, что он обязан был отчетом доктору Бэллинджеру.
– Послушай, – сказал я, повернувшись к нему, когда вдали замаячили увитые плющом камни викторианской готики Генри-Холла – благодатно знакомый вид посреди чужого мира, – ты был удивительно добр. Тебе наверняка пришлось совсем не сладко, я это понимаю и очень ценю. А теперь я пойду, немного отдохну.
– Ключ при тебе?
Я сунул руку в карман шортов, вытащил ключ.
– Вот он, – сказал я.
Стив с нескладной сердечностью положил мне руку на плечо.
– Когда-нибудь мы с тобой будем покатываться со смеху, вспоминая все это, – сказал он.
– Наверняка, – согласился я. – Но над твоей добротой и чуткостью я никогда смеяться не буду. Такое терпение мог проявить лишь настоящий друг.
– Да ладно, вали ты, – сказал он, покраснев, и отвернулся.
Очень все получилось трогательно, ей-богу. Я гадал, куда он теперь направится и что расскажет тем, с кем встретится по пути.
Возвратившись в квартирку, 303-ю, мою квартирку, я плюхнулся на постель, в которой проснулся этим утром, и уставился в потолок, старательно приводя в порядок вернувшиеся воспоминания.
Теперь я знал наверняка, что я – Майкл Янг, аспирант-историк из Кембриджа. Знал также, что прошлой ночью, что бы эта «прошлая ночь» ни означала, находился в Кембридже, в лаборатории – лаборатории Кавендиша, вот как она называлась, – в лаборатории физика по имени… Ничего, вспомнишь.
УТО! Машина именовалась УТО. У. Т. О. – Устройство Темпоральных Образов. Хотя потом мы смысл начальных букв переменили – как раз когда Лео трудился над…
Лео! Вот видишь, Пип? Все возвращается. Его звали Лео. Лео Цуккерман. Доводя его машину до ума, мы переменили значение аббревиатуры, и УТО стало расшифровываться как Устройство Транспортировки Облаток, потому что мы собирались отправить пилюли…
Пилюли! Там была такая горстка оранжевых пилюль, которые Джейн…
Джейн! Пилюли Джейн! Стерилизуют мужчину. Намертво. Труба, подводящая воду к дому в Браунауна-Инне, Австрия. Вот туда мы их и отправили. В Браунауна-Инне…
Браунау!
На меня нахлынуло столько мыслей, что я боялся в них потонуть.
Алоиз. Клара. «Meisterwerk». Совсем готовый, до последней запятой. Мой почтовый ящик с конвертом, предназначенным для Лео Цуккермана. Парковка. Я уродую «клио». Кейс раскрывается. Диссертация разлетается по ветру. Лео подбирает листки. Примирение с Джейн. Я прихожу к Лео на кофе. Жаркий, парной день, встреча с Фрейзер-Стюартом, которому диссертация моя внушила омерзение. Лео показывает мне УТО. Освенцим.
Освенцим. Отец Лео. Никакой он не Цуккерман. Бауэр.
Я думал об отце Лео, выкалывающем номера ему и его матери. Думал о Джейн. Думал о татуировке на ее руке, той, которой она ударила по моей, нетатуированной, когда я рассыпал облатки.
Татуировка на руке Джейн? Разве у нее была татуировка?
Если бы путешествия во времени были возможны, кто-нибудь вернулся бы назад и разлучил братьев Галлахер сразу после рождения, позаботившись, чтобы никакого «Оазиса» на свете не было. Это слова Джейн?
Сейчас Лайам и Ноэль Галлахер в Принстоне. Состоят в Клиософском обществе и вместе со Стивом и Дважды Эдди целыми днями катаются на плоскодонках под музыку Вагнера.
Увитые плющом Стив и Дважды Эдди обнимаются на речном берегу. Вот только из кармана Стива выпал мой ключ. Упал в Кем и пошел на дно. Я видел, как он, серебрясь, крутится, крутится, точно знаменитые блинчики, кувыркающиеся в струе кленового сиропа. Мой ключ… мой ключ, мой кл…
– Майкл! Майки! Проснись. Идти пора.
Я резко сел, тенниска липла к спине, покрывшейся от дневного сна пленкой пота. Надо мной стоял Стив.
– Ты как, приятель?
– Я… да. Хорошо. Все хорошо. – Я прошелся взглядом по спальне и остановил его на Стиве.
– Уверен? Похоже, снилось тебе черт знает что. Знаешь, как при глубоком парадоксальном сне. Вон даже челка ко лбу прилипла.
– Виноват?
– Ты весь в поту. Прости, что потревожил, но в три нам надо быть у Тейлора.
– Да нет, ничего. Со мной все хорошо. Намного лучше. – Я встал и, дрожа от вновь накатившего возбуждения, нашарил ногами «тимберленды».
– Ну и отлично.
Я взял Стива за руку.
– Мне нужно спросить тебя кое о чем, – сказал я. – Вопрос может показаться тебе диким, но ты просто ответь на него, ладно?
– Ладно, попробуй.
Я заглянул ему в глаза.
– Расскажи мне все, – попросил я, – что тебе известно об Адольфе Гитлере.
– Адольфе Гитлере?
– Да, что ты о нем знаешь?
– Адольфе Гитлере, – медленно повторил Стив. – Это кто-то из твоих знакомых?
– Забудь о моих знакомых, – почти взвизгнул я, – что знаешь о нем ты?
Стив задумался, на секунду закрыл темно-синие глаза, так что длинные ресницы сомкнулись, потом снова открыл, словно придя к твердому решению.
– Ничего. Никогда об этом парне не слышал. Он что, из преподавателей? Тебе нужно с ним повидаться?
– О черт, – выдохнул я. – Черт, черт, черт! Я подскочил к окну, распахнул его.
– Лео! – завопил я на весь кампус. – Лео, кем бы ты ни был, у нас получилось! Господи Иисусе Христе, все, мать твою, получилось!
Я шел по кампусу, не чуя под собой ног. Каждый вид, каждый звук, воспринимаемый мной, все было новым и прекрасным. Мир вокруг сиял и светился невинностью, надеждой и совершенством.
Ах, если бы я мог оказаться сейчас в Европе! Посмотреть Лондон, Берлин, Дрезден, со всеми их зданиями, стоящими в целости и сохранности, не-разбомбленными, – и все благодаря мне. Боже мой, я же великий человек, куда более великий, чем Черчилль, Рузвельт, Ганди, мать Тереза и Альберт Швейцер, вместе взятые.
Быть может, мне удалось бы найти и Лео, узнать, что с ним стало.
Впрочем, Лео уже не Лео. Он был Лео лишь потому, что отец сделал его таким в другой жизни, в альтернативной, стертой с лица земли реальности. Теперь он… как там его звали? Бауэр! Аксель Бауэр, сын Дитриха Бауэра, вне всяких сомнений ведущий где-то невинную, беззаботную немецкую жизнь, между тем как настоящий Лео Цуккерман, не уничтоженный в пять лет, тоже где-то существует, – глядишь, и в Польше: стал музыкантом, врачом, фермером, учителем, как знать? – богатым промышленником, дающим работу и безбедное существование тысячам людей.
Интересно, почему я в Америке? Наверное, отец, вместо того чтобы пойти в армию, переехал сюда с мамой еще до моего рождения. Ладно, увижусь с ними и все узнаю. Надо привыкать к этому новому миру. В конце концов, я провел в нем всего один день, даже меньше. Надо постепенно знакомиться с ним. Старый мир – это теперь всего лишь причудливый мысленный образ, существующий в моей и только в моей голове, возможность, так и не осуществившаяся, пропущенный поворот. Тема для романа ужасов.
Освенцим, Биркенау, Треблинка, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Бухенвальд, Собибор. Что они ныне? Городки в Польше и Германии. Счастливые, глупенькие городки, с чьих названий смыто пятно греха и позора.
– Вам не доводилось бывать в одной такой немецкой деревушке, в Дахау? Если отправитесь туристом в Германию, остановитесь в ней, она того стоит. И до прекрасного старинного Мюнхена от нее рукой подать. Я бы особенно порекомендовал вам отель «Адлер». А попадете в Саксонию, вообще на север, не забудьте после Ганновера заглянуть в деревню Берген-Бельзен – удивительное соединение старинного очарования и современных удобств.
Я хихикнул и внутренне обнял себя, поздравляя.
Собственная моя участь, участь человека, которого забросило в другую историю, это дело десятое. Все равно никто и никогда не поверит в то, что я сделал, на каких кошмарных исторических корнях произрос. Да и как тут поверить?
Врачи будут толпиться вокруг меня, покачивать головами, дивясь уникальному характеру моей амнезии. Подумать только, деформация памяти, принявшая вид изменения выговора! Одна-две статьи в журналах по невропатологии, может быть, даже эссе Оливера Закса[105] в следующем его сборнике психологических анекдотов.
Со временем выговор станет американским, я узнаю историю моей жизни. А совершенное мной останется неизвестным и непризнанным.
И я вообразил сценку, разыгрываемую в Кембридже, в нехорошем старом мире.
Некто приходит ко мне и заявляет:
– Склонитесь передо мной, я не позволил появиться на свет Петеру Попперу.
– Петеру Попперу, – говорю я. – А кто он, к чертям собачьим, такой?
– Ха! – отвечает пришелец. – Вот то-то и оно! Он родился в тысяча девятисотом и наполнил мир смертью, бедствиями, жестокостью и ужасами. Он поверг наше столетие в апокалипсис междуусобных раздоров и немыслимых зверств.
– Да ну?
– Ага, а я не позволил ему родиться, вот только что оттуда и вернулся. Лишь по моей милости Лондон еще и стоит. В тысяча девятьсот пятидесятом Петер Поппер сбросил на него бомбу и сровнял с землей. Я – спаситель нашего столетия.
В общем, я что хочу сказать… как отреагирует любой нормальный человек на такие вот разговорчики? Похлопает бедолагу по плечу, даст ему немного мелочи и поспешит удрать. Нет уж, знание о моем свершении следует держать при себе и только при себе.
Стив, заметив мое радостное воодушевление, улыбнулся:
– Сдается, сон пошел тебе на пользу, нет?
– Это уж будь уверен. Господи, до чего же здесь красиво.
Какое-то время мы шагали в молчании, сворачивая в дворики и на лужайки, пока не добрались до большого каменного строения на самом краю кампуса.
– О черт, – чуть слышно вымолвил Стив.
– Что такое?
– Да ничего, просто ребята.
– Ребята?
– Ага, Скотт, Тодд и Ронни. Они были с нами вчера.
Самый высокий из них отлепился от стенки, которую подпирал, и направился ко мне, протягивая руку.
– Ну, хеллау! – произнес он с душераздирающим английским акцентом. – Как поживаешь, старина, старый ты забулдыга?
– Кончай, Тодд, – сказал Стив.
– М-м, привет, – поздоровался я. – Так ты – Тодд?
– Точно так, дружище. Я Т-О-дд, – провозгласил он, с коротким, на английский манер, «о». – Это Ск-О-тт, а тот – Р-О-нни.
– Лады, – сказал я, стараясь, чтобы у меня получалось поамериканистее, – хай, Тадд, Скатт… Ранни.
Они рассмеялись, но как-то неловко и неуверенно.
– Нет, без дураков, Майки, ты же просто хохмишь, верно?
– Вообще-то, боюсь, что нет, – ответил я. – Думаю, Стив вам все расскажет. Я проснулся сегодня, считая себя англичанином. О себе почти ничего вспомнить не смог. Нелепо, я понимаю, но это правда.
– Да?
– Угу.
– Завязывай чушь молоть, – сказал Ронни. – Ты что, хочешь сказать, будто не помнишь и о сотне баксов, что занял у меня на той неделе?
– Вот же задница, – сказал Стив, когда все они, увидев мое замешательство, расхохотались. – Ладно, ребята, вы обещали оставить нас с ним в покое.
– Эй, – ответил Скотт, – мы целый долбаный год прожили бок о бок с этим прохвостом. Так что теперь, когда у него крыша поехала, у нас есть ровно столько же прав корешиться с ним, сколько у тебя.
– Разве что желания быть с ним рядом у нас поменьше, Бернс, – ты понял, к чему я клоню?
– Послушайте, – сказал я, напуганный смущением Стива. – Я понимаю, вам все это должно казаться безумием. Скорее всего, причина в том, что я долбанулся башкой. Родители у меня – англичане, может, это как-то на мне и сказалось.
Скотт хлопнул меня по спине:
– Мы с тобой, друг. Только не жди, что я когда-нибудь еще стану поить тебя водкой. Никогда. Усек?
– Покажи им, где раки зимуют, Майки. Стив повел меня мимо них к двери.
– Да, и главное, не забудь, как мяч вбрасывать, – крикнул Ронни, когда мы уже входили в нее.
Господи, подумал я. Бейсбол! Я же ни черта в бейсболе не смыслю. А философия! Предполагается, что я студент-философ. Туго же мне придется.
– И не давай им втыкать в тебя электроды, слышишь?
В первый раз увидев Саймона Тейлора, я едва не расхохотался.
Табличка на двери сообщала: «С. Р., Ст.-К., Тейлор», а залитая светом приемная, в которой сидела за компьютером секретарша, породила во мне ожидание все той же атмосферы, преобладавшей почти всюду в кампусе, – кондиционеры, расслабленность, хлопковые шорты, хай-тек и возгласы «хай!».
– Профессор Тейлор ждет вас, – сказала секретарша, взмахом руки предложив мне и Стиву присесть. – Хотите воды?
– Спасибо, – ответил я.
Секретарша кивнула и уткнулась в монитор. Я взирал на нее в некотором недоумении, пока Стив не ткнул меня локтем в бок и не указал в угол, на большую, перевернутую вниз горлышком бутыль с водой.
– А, – произнес я, вставая. – Ну да. Конечно. Рядом с бутылью возвышалась колонна конических бумажных стаканчиков.
– Клево! – сказал я. – Столько раз видел это в кино. Эдвард Г. Робинсон,[106] помнишь? Ты наливаешь себе воды, из бутыли доносится бульканье воздушных пузырей, а ты одним глотком высвистываешь воду, сминаешь стаканчик и швыряешь в мусорную корзину. Я это к тому, что оставлять его на столе никак нельзя, верно?
Секретарша удивленно уставилась на меня, а Стив смущенно заерзал в кресле.
– Ты просто выпей воды, Майки, – сказал он.
– Ну конечно. Правильно. Да. А ты?
Стив покачал головой и, откинувшись на спинку софы, погрузился в созерцание стены напротив. Я с удовольствием глотнул ледяной воды, сел рядом с ним, и мы вместе принялись изучать забранный в рамку плакат, изображающий Вермеерову «Даму с лютней».
По прошествии минут десяти дверь в кабинет Тейлора распахнулась и перед нами предстал он сам.
Вот тут-то я едва и не расхохотался.
Росту в нем было по меньшей мере шесть футов пять дюймов. Льняной костюм-тройка, полосатый галстук английского колледжа и напоминающее Аластера Сима[107] выражение недоуменного удивления. Желтоватые зубы его сжимали трубку из верескового корня, над которой различалась тонкая полоска усов а-ля Роналд Колман.[108] От всей повадки Тейлора так и веяло каким-нибудь утопающим в джине британским клубом в Куала-Лумпур или погрязшим во внебрачных связях форпостом Грэма Грина посреди колониальной Африки.
– О, джентльмены! И кто же из вас Майкл Янг?
Подавив улыбку, я неуверенно поднял руку и встал. Он оглядел меня, коротко кивнул.
– А вы, молодой человек, надо полагать, Стив Бернс?
– Да, сэр, – ответил Стив.
– Очень хорошо, очень хорошо. Не будете ли вы столь добры, что задержитесь здесь ненадолго? Возможно, несколько позже я попрошу вас присоединиться к нам.
– С легкостью, сэр.
– Возможно, Вирджиния будет так любезна, что отыщет для вас чашку кофе или стаканчик содовой? Полистайте пока журналы и так далее. Прекрасно, прекрасно. Итак, если вы соблаговолите пройти в мой кабинет, мистер Янг, мы могли бы поболтать с вами немного.
Тейлор придерживал дверь, прихватив ее за самый верх, так что я вступил в кабинет под его рукой, напоследок послав Стиву сокрушенный взгляд.
– Почему бы вам не присесть вон там, старина?
Стены кабинета были обиты темным деревом, перед самым большим из окон стоял письменный стол. Вдоль одной из стен тянулся широкий, весь во вмятинках, кожаный диван – на него-то и указывал Тейлор.
– Хотите курить, не стесняйтесь. Надеюсь, против моей старушки-трубки вы возражать не станете?
Я покачал головой и нащупал в кармане шортов пачку сигарет. Когда он наклонился, поднося спичку к моей помятой «Лаки», я непроизвольно ахнул от изумления…
– Святой Матфей?
– Виноват?
– Ваш галстук. Вы учились в Святом Матфее. Тейлор мягко кивнул, помахал в воздухе спичкой.
– Имел такую честь. – Он подтянул от стола кресло и медленно опустился в него, лицом к дивану. – Здесь этот галстук способны признать немногие. Расскажите мне, что вам известно о Святом Матфее.
Пока я собирался с мыслями, он протянул длинную руку, взял со стола желтоватую кожаную папку и открыл ее.
Положение у меня было не из простых. Рассказывать все, что мне известно о Кембридже и Англии, я особого смысла не видел. Пока что он знал из посвященных мне документов, что я родился и вырос в Соединенных Штатах. Любые подробные сведения о зарубежном университете показались бы в никогда никуда не выезжавшем американце довольно странными. Однако сидевшему во мне от природы выпендрежнику страсть как хотелось поразить его глубокой осведомленностью обо всем, что касается Англии. Объяснить ее Тейлору будет ох как непросто. Глядишь, он даже уверует, против собственной воли, в астральные проекции и внетелесный опыт. До меня начало доходить, что я мог бы здорово позабавиться в этом новом мире, что в моем распоряжении – своего рода могущество.
– Ну, – сказал я, – это такой колледж в Кембридже, не так ли?
– Вы посещали когда-либо Кембридж, Майкл?
– Э-э, не то чтобы посещал, но, знаете… меня интересует все английское. Мои родители и прочее… так что я очень много читал об этом.
– М-м. Насколько мне известно, вы сказали доктору Бэллинджеру, что жили в Кембридже? В Англии. И при этом упомянули колледж Святого Матфея.
– А… – Я поморщился. – Понимаете, я этим утром проснулся с такой кашей в голове. Ничего не мог вспомнить. Совершенно ничего.
– Однако способность разговаривать на английский манер вас все же не покинула.
– Ну, да… очевидно.
– Очевидно?
– Я хотел сказать, при амнезии оно так обычно и бывает, верно?
Он пожал плечами:
– Это уж вы мне расскажите, молодой человек.
Мы помолчали. Происходившее представлялось мне сражением двух воль. И пока Тейлор его проигрывал.
– В таком случае, – произнес он, – скажите, что вообще знаете вы о Кембридже. Все, что придет вам в голову.
– Ну, это второй из старейших университетов Англии. Второй после Оксфорда. Состоит из колледжей с названиями вроде Тринити, Кингз, Сент-Джонз, Сент-Катеринз, Святой Матфей, Крайстс, Куинз, Модлин, Кейз, Джизус и так далее.
– Произнесите еще раз название колледжа Магдалины.
Я внутренне выбранил себя и выполнил его просьбу.
– Хорошо. А теперь «Киз».[109] Ладно, подумал я. Взялся за гуж… Тейлор пометил что-то в блокноте.
– И при всем том, вы знаете, что они произносятся и как «Модлин» и «Кейз», верно?
– Так ведь я уже говорил, я много о них читал.
– Это интересно. И какие же именно книги? Не припоминаете?
– Э-э, вообще-то, нет. Книги как книги.
– Понятно. А как насчет Принстона? Что вам известно о Принстоне?
Я принялся лихорадочно рыться в памяти, выкапывая из нее крохи сведений, которые сгрузил в меня Стив, когда мы утром прогуливались по кампусу.
– Нассау-Холл, – сказал я. – Назван в честь принца Вильгельма Нассау-Оранского, хотя его могли назвать и в честь человека по имени Белчер, да только тот был слишком скромен. Вашингтон приезжал сюда подписывать договор о независимости. Хотя нет, это он в Филадельфии проделал, так? Короче, Вашингтон приехал сюда, и тут какое-то время находилась столица союза. Нам дозволено не спускать по ночам флаг, что-то в этом роде. А еще здесь есть ворота, через которые нельзя проходить, пока не получишь диплом. Западную часть кампуса называют «Трущобой». Ну, в общем, мне много чего известно. Рынок «Уова». «Недоросли». Знаете… – Я грациозно взмахнул ладонью.
– Где находится Рокфеллер-колледж?
– Э-э…
– Диккинсон-Холл? «Башня»? Я сглотнул.
– Простите?
– И почему, хотел бы я знать, вы говорите, что Нассау-Холл назван в честь принца Вильгельма Нассау-Оранского, хотя его следовало бы назвать в честь Джонатана Белчера?
– А разве это не так?
– Так-то оно так, но ведь вы же американец, верно?
– Верно, – ответил я. – Еще бы. Просто подцепил где-то этот дурацкий выговор, на время. Но я от него понемногу отделываюсь, я чувствую.
– Однако, видите ли, в чем штука, американцы не говорят – вот это названо в честь того-то, верно? Они говорят – по имени.
– Правда?
– Таково одно из мелких различий. Про тротуары и панели, фонари и лампы, шторы и портьеры знают все. А вот «в честь» и «по имени»… очень странно, что смена выговора сопровождается у вас также и столь точной сменой идиом. Вам не кажется?
Я развел руки.
– Сдается, это из-за моих родителей, – сказал я. – Я к тому, что они же как-никак англичане. Видать, у них я это и подцепил, верно?
– Да-а-а, – с сомнением произнес Тейлор. – Что ж, они провели здесь немалое время, но ведь и вы окончили среднюю школу в Америке, а после и на абитуриентских курсах учились, не правда ли?
Я молчал, гадая, к чему он клонит.
– Что ж, давайте тогда поговорим о ваших родителях, годится?
Я уставился в ковер.
– Разумеется, – сказал я. – Что вы хотите услышать?
Тейлор поднялся и начал прохаживаться по кабинету, зажигая на ходу спичку за спичкой в бесплодных попытках раскурить трубку.
– Знаете, старина, все это очень странно. Вы начали пересыпать вашу речь американизмами наподобие «подцепил» и «сдается», а теперь еще и «разумеется», с твердым американским «р». Вы потратили немало времени, стараясь убедить доктора Бэллинджера в том, что вы стопроцентный британец, выросший в Гэмпшире, такой же английский, как белые утесы Дувра, а теперь норовите уверить меня, что в вас столько же американского, сколько в яблочном пироге, и что подлинный ваш выговор возвращается к вам таким же загадочным образом, каким он и сгинул.
– А вы хотите сказать, что не верите мне?
– Я просто пытаюсь понять, друг мой. Все выглядит несколько непоследовательно, не так ли? Может быть, вам лучше сказать правду, как вы считаете?
– Это что, полицейский допрос? Черт возьми, я же встретился здесь с людьми, которые знают меня. Я видел мои водительские права… мои водительские, мать их, права, мою квартирку в Генри-Холле, кредитные карточки, бумаги. Да, я проснулся с шишкой на башке и со странным акцентом. Но и не более того. Я полагал, идея состоит в том, что вы и все прочие скажут правду мне. Это же у меня память, на хрен, отшибло. Все, что мне требуется, – вернуться к моей жизни.
– И ничего больше? Забыть все случившееся, вернуться к жизни и сдать трайпос?[110]
– Да! Вот именно. Собственно, зачем же еще я здесь, так?
– А что вы проходите?
– Философию.
– Н-да, вот теперь вы меня и вправду озадачили. Ни в одном университете мира, за вычетом Кембриджа, слово «трайпос» для обозначения экзамена на степень не используется. А здесь, в Принстоне, мы совершенно определенно не прибегаем к слову «проходить» в значении «изучать». Все это очень трудно понять.
– Ну и прекрасно! Вы получили предмет исследования, который принесет вам славу. Так в чем же проблема?
– Проблема в том, старина, что во всем этом отсутствует смысл.
– То есть вы думаете, что я вру? Притворяюсь? Что ж, если так, – отлично! Да, вы совершенно правы. Все это обман. Враки. Розыгрыш. Надувательство. Выбирайте любое слово. Я проделал все на пари. А теперь мне гораздо лучше. Я такой же американистый, как мамин яблочный пирог. Ты офигенно прав, партнер, будь спок, я убогий, в лоб вашу мамашу, америкашка, поэтому я щас, если тебе это по губе, поканаю целым таким куском восвояси, и спасибочки, что потратил на меня прорву времени, добрый мэн.
– О господи! – выдавил Тейлор, и брови его улезли еще выше – ни дать ни взять изумленный Аластер Сим.
– И уж если говорить о странностях, – продолжал я, – так какого дьявола вы въелись в эти ваши «старина» и «друг мой» и бросаетесь ими так, точно у вас в заднице свербит, а? Ни один настоящий англичанин ими лет уж тридцать как не пользуется. Вы разговариваете, точно усеченная версия Питера Селлерса из «Доктора Стрейнджлава».
– Прошу прощения?
– Не суть важно, – сказал я. – Вы о нем ни малейшего представления не имеете. Вам ведь, полагаю, никогда о Питере Селлерсе слышать не доводилось?
По пустому лицу его было ясно – не доводилось.
А я вдруг понял, что существует целая куча фильмов, здесь так и не снятых, что киноактеры, которых в моем мире вывела в звезды война и прочие обстоятельства, здесь никому не известны. «Стрейнджлав», «Самый длинный день»[111]… Боже милостивый, «Касабланка». У них нет «Касабланки»!
Хотя, если подумать… если подумать обо всем кино, которое наснимали здесь за последние пятьдесят лет и которого я еще не видел.
Господи! Я же могу заработать целое состояние. Я могу написать для них «Касабланку»! Черт, ведь я знаю ее почти слово в слово, кадр за кадром. А «Третий человек»![112] Я и его могу написать… «Шталаг-17»,[113] «Большой побег»,[114] «Шпион, который пришел с холода».[115] Господи…
Тейлор перестал разгуливать по кабинету и снова уселся напротив меня, сводя и разводя колени, так что я видел измятую, покрытую пятнами пота льняную промежность.
– Теперь послушайте меня, Майкл. Я буду с вами совершенно откровенен. Договорились?
Я выкинул из головы сценарные мечтания и не без опаски кивнул.
– Не стану притворяться, будто точно понимаю, что происходит у вас в голове. Разумеется, одну из возможностей составляет гипноз. Другую – самогипноз.
– Вы полагаете, что я…
– Я просто перебираю варианты, старина. Кто-то мог загипнотизировать вас, – возможно, в шутку, возможно, по причинам не столь безобидным. Не исключено, что вы проделали это сами – случайно или намеренно, сказать очень трудно. Не исключено даже, что вы не тот, за кого себя выдаете.
– Что?
– Существуют, разумеется, разного рода обследования, которые мы могли бы провести.
– Так ведь все это просто из-за того, что я головой стукнулся. Я хочу сказать, такое же случается, нет?
– На моей памяти еще не случалось, Майкл. Думаю, самое лучшее для нас – подержать вас некоторое время под наблюдением.
– Но я совершенно здоров. И все проходит, я чувствую.
– Я вовсе не имел в виду, что мы запихнем вас в больничную койку. Если вы согласитесь пройти в ближайшие дни кое-какие обследования, думаю, я смогу гарантировать вам полную свободу. А вот водительские права вы лучше пока оставьте у меня. Не хотелось бы, чтобы вы взяли да исчезли. В конце концов, я уверен, вы понимаете все, что… э-э, из этого проистекает.
– Проистекает? – переспросил я, окончательно одурев. – Что значит «проистекает»?
– Возможно, вам следовало бы связаться с родителями. Вы им еще не звонили?
– Я даже не знаю их… – начал я, но притормозил. – Я хочу сказать, что даже не знаю, дома ли они сейчас. Ну, то есть, они, наверное, на работе. Мне не хочется их волновать.
– И все же, я уверен, с кем-то из них связаться придется. А теперь, если вы согласитесь подождать снаружи, мне хотелось бы перемолвиться с мистером Бернсом.
Я, в самый последний миг сообразив, что речь идет о Стиве, успел удержаться от вопроса, кто такой, к забубенной матери, мистер Бернс, и в совершенно помраченном состоянии поплелся к двери, – одна длинная рука Тейлора обнимала меня за плечи, другая сжимала мое водительское удостоверение.
Мы договорились, что на следующее утро я приду в лаборатории факультета психологии, дабы пройти некие обследования. Пока же Стив снова брел со мной по кампусу.
Теперь он выглядел каким-то притихшим.
– Что сказал тебе Тейлор? – спросил я.
– Да так, ничего, – ответил Стив, – просто расспрашивал о том о сем. Ну, сам понимаешь, давно ли мы знаем друг друга и прочее.
– Тебе, наверное, все это прискучило, нет? – сказал я. – Если хочешь оставить меня, валяй, со мной все будет в порядке, не сомневайся.
– Не могу, Майки. Ты заблудишься, и виноват в этом буду я. И потом, – тактично добавил он, – это было бы нечестно. Нужно, чтобы кто-то находился рядом с тобой.
Я поразмыслил над его словами.
– Спасибо, – сказал я. – Я понимаю, что все время лезу к тебе с благодарностями, но все равно спасибо.
Он пожал плечами.
– Я одного никак в толк не возьму, – сказал я, – что имел в виду Тейлор, говоря о том, «что из этого проистекает».
Стив решительно тряхнул головой:
– Давай поговорим о чем-нибудь еще.
Мне нужно было столь о многом расспросить его. Нужно было разобраться с историей. Выяснить все, что следует знать об истории последних шестидесяти лет. Шестидесяти трех. Об истории Европы начиная с 1933 года. Выяснить, кто тут у них кинозвезды, рок-звезды, кто президент, черт подери. Президент, премьер-министр, все. Но я понимал, что от таких вопросов он лишь озвереет, и потому держал язык за зубами. Надо будет попозже улизнуть и отыскать библиотеку.
Однако первым делом, считал я, следует сделать Стиву приятное – я перед ним в долгу.
– Эй, а как тебе такая мысль? – спросил я. – Как насчет того, чтобы завернуть в «Барристера и Алхимика» и пропустить по маленькой?
– В «Алхимика и Барристера», – машинально поправил меня Стив.
– Да-да. Как скажешь. Я не предлагаю нализаться или еще что. Но шут его знает, вдруг у меня от рюмки спиртного щелкнет что-нибудь в голове и я снова стану самим собой.
– Идет, – согласился он. – Только на водку не налегай.
– На водку налегать не буду, – сказал я, вспомнив Джейн и Гребную неделю.
Заведением «Алхимик и Барристер» оказался приятным – полумрак, низкие потолки. Бармен меня, похоже, знал – он подмигнул мне со сдержанным дружелюбием, обыкновенным среди людей, работающих в университетских городках. Все вы, студенты, – придурки, казалось, говорило это подмигивание, но ты нам платишь, а мы умеем притворяться, будто ты малый клевый и интересный.
Мы со Стивом уселись снаружи, под длинным полотняным навесом, пили английского пошиба пиво, разглядывали прохожих. За соседним столиком двое мужчин в клетчатых рубашках с короткими рукавами всматривались в карту, препираясь насчет того, куда им сходить и какой путь выбрать.
– Сюда, наверное, много туристов наезжает? Стив пожал плечами:
– Для Нью-Джерси, пожалуй, что немало.
– Эти двое видели бы карту гораздо лучше, если бы сняли темные очки, – сказал я, с удовольствием выпуская облако табачного дыма. – Но, по-видимому, туристы – везде туристы.
Стив рассеянно кивнул, отпил пива.
– Я знаю, ты решишь, будто у меня не все дома, – сказал я, – однако я сейчас до того счастлив, что дальше и некуда.
– Да? – удивился Стив. – Это отчего же?
– Если бы я тебе рассказал, ты бы не понял.
– А ты попробуй.
– Я счастлив оттого, что, когда я недавно спросил тебя про Адольфа Гитлера, ты ответил, что сроду о нем не слышал.
– И это сделало тебя счастливым?
– Ты и понятия не имеешь, что это значит. Ты никогда не слышал таких имен, как Гитлер, или Шикльгрубер, или Пёльцль. Никогда не слышал о Браунау, никогда…
– Браунау?
– Браунауна-Инне, Верхняя Австрия. Тебе это название ни о чем не говорит, а меня оно делает счастливейшим из живущих на свете людей.
– Вот это круто.
– Ты никогда не слышал об Освенциме, он же Аушвиц, или Дахау, – продолжал разливаться я. – Никогда не слышал о Нацистской партии, никогда…
– Стоп, стоп, – сказал Стив. – Ладно, я не похож на мистера Всезнайку, но что значит – никогда не слышал о Нацистской партии?
– Так ведь не слышал же, верно?
– Ты спятил?
Я уставился на него:
– Но ты не мог о ней слышать. Это невозможно.
– Ну еще бы, – ответил Стив, стирая с губ пену, – я и о Глодере отродясь не слышал, и о Геббельсе, и о Гиммлере, и о Фрике, правильно? Эй, поосторожней!
Стив схватил меня за запястье, выпрямляя бутылку, которую я сжимал в руке. Пенное озеро расплылось по разделявшему нас столу, через край которого переливалось, капля за каплей, темное пиво.
Политическая история
Партийные животные
– Пивная Штернеккера? – переспросил Руди, стараясь, чтобы в голосе его не прозвучало презрительное неверие.
Мейр улыбнулся:
– Это Мюнхен, Руди. Сам знаешь, все, что происходит в Мюнхене, так или иначе связано с пивом. Три тысячи радикалов Гоффмана встречаются в «Левенбрау». Левинэ начал свою апрельскую революцию в пивном зале, безработное аугсбургское отребье толчется в «Киндлкеллере», последних еврейских большевиков расстреляли тоже в пивной. В конечном счете все правильно: политическая жизнь этого города питается пивом точно так же, как война газолином.
– Но почему я должен тратить время на очередную кучку чокнутых профессоров и чокнутых «тулистов»?
– Руди, у меня в отделе не хватает людей, которым я могу доверять. Мне необходимы надежные Vertrauensmдnner,[116] агенты, наблюдатели, организаторы, способные дельно разговаривать со всеми этими группировками и распознавать среди них опасные. Вот только на прошлой неделе тут у нас болтался бывший капрал, в надежности которого я готов был поклясться, – Карл Ленц. Железный крест с дубовыми листьями, безупречные рекомендации его начальника разведки, – мне потребовалось отправить кого-нибудь в Лехфельд, где, по нашим сведениям, распространяется большевистская и спартаковская зараза… ну что ты морщишься, таков нынешний жаргон, я тут ни при чем… и я отправил Ленца в составе Aufklдrungskommando,[117] чтобы он выступил насчет Версальского договора и объяснил отношение армии к политическим группировкам. А оказалось, что он и сам из невесть каких красных. Согласно рапорту Лаутербаха, Ленц убедил половину собравшихся в том, что лучше ставить на Ленина, чем на Веймар. Видишь, с кем мне приходится работать?
Глодер протестующе выставил ладонь:
– Хорошо, хорошо, схожу. Особого удовольствия получить не обещаю, но схожу.
– Выясни, что это за публика. Не выступай перед ними, не наводи их на мысль, что за ними следят. Просто присмотрись к ним и постарайся понять, чем они дышат, договорились?
Вот так Руди и оказался под вечер на Променадештрассе, – неторопливо шагал по ней, еле слышно насвистывая и с насмешливым удивлением разглядывая лозунги и рисунки, украшавшие здешние стены.
«Rache!»
Да, думал Руди. Мщение. Сколько политической мудрости. Сколько зрелости.
«Denkt an Graf Arco-Valley, ein deutscher Held!»[118]
Руди глянул на другую сторону улицы и сообразил, что на этом-то месте граф Арко-Валли и всадил, выхватив пистолет, две пули в голову еврейского коммуниста Курта Эйснера.[119] День тогда стоял холодный, февральский, снегу навалило столько, сколько Мюнхен не видел за два десятка лет. Руди переминался неподалеку и едва не получил одну из трех пуль, выпущенных в возмездие за содеянное телохранителем Эйснера в Арко-Валли. А следом оказался в положении до смешного нелепом – ему пришлось вместе с еврейским секретарем Эйснера сдерживать ораву спартаковцев и отборной красной сволочи, стремившейся тут же и забить раненого Арко-Валли до смерти. Руди, в обшарпанном полицейском фургоне, поехал со смертельно раненным графом к хирургу (еще одному еврею), сумевшему продержать пациента в живых на время, достаточное, чтобы тот успел произнести в свое оправдание бессвязную речь. «Эйснер был могильщиком Германии. Я всей душой ненавидел и презирал его, – лепетал Арко-Валли. – Продолжайте сражаться за deutsche Volk,[120] Глодер. Отечество нуждается в людях, подобных нам с вами».
Руди похлопал умирающего по руке и наговорил ему в утешение кучу тевтонской чуши. С графом его связывало знакомство лишь шапочное – оба были военными героями с множеством орденов, ленточки которых, приколотые к обтрепанным шинелям, обеспечивали им бесплатное угощение в пивных Баварии, чья численность ныне стремительно сокращалась. Граф геройствовал на Русском фронте, Руди во Фландрии. Однако Руди он не нравился – граф был одним из тех перегерманивших самих германцев австрияков, что просто-напросто сочатся тошнотворного пошиба пангерманизмом, каковой Руди находил безвкусным, смахивающим на чрезмерную порцию венского Sachertorte.[121] Арко-Валли так и не удалось избавиться от жгучего чувства унижения, возникшего, когда «Общество Туле»[122] отказало ему в членстве на том основании, что мать графа была еврейкой, – обстоятельство, Руди чрезвычайно забавлявшее.
Впрочем, теперь «тулисты» сочли удобным забыть об этом, и Арко-Валли обратился в еще один увядший после мученической кончины цветочек в венке ультраправых, антисемитских, националистских меморий. «Народные» объединения, «тулисты», «Germanen Orden»[123] и еще три десятка неистовствующих группок провозглашали, каждая, что присущие им бесконечно малые расхождения в нюансах и программных установках суть, на самом-то деле, суть возвышенные различия доктрин. Бог ты мой, да рядом с ними и Вавилонская башня покажется съездом эсперантистов.
Руди миновал еще один лозунг, начертанный двухметровыми алыми буквами:
«Juden-Tod beseitigt Deutschlands Not!»[124]
Что ж, может быть. Все может быть. Руди, однако же, представлялось, что Германии для утоления ее горестей необходимо нечто большее, чем смерть нескольких евреев. Германии необходимо повзрослеть.
Под лозунгом этим красовалась грубо начертанная, с красными каплями, стекающими с каждого изогнутого крюком окончания, священная огненная метла тевтонов – Hakenkreuz[125], который приказано было нанести на каску каждому солдату Второго морского Freikorps[126], входящего в состав бригады полковника Эрхардта,[127] которая выступила в первую неделю мая, чтобы раздавить слабенькую, самопровозглашенную Баварскую советскую республику. То был общий для всех правых группировок значок. Свастика стала для националистов тем же, чем были для марксистов серп и молот. Она сменила имперского орла, обратившись в новый символ лояльности.
Потея на поздней сентябрьской жаре, Руди поворотил в лабиринт средневековых улочек, ведших в восточную часть Старого города.
Собрание, как оказалось, происходило в задней комнате, в разливочной убогой пивной Штернеккера. У Руди упало сердце. Он знал эту комнату, больше ста человек поместиться в ней не могло. Вечерок предстоит явно тоскливый. И тосковать придется в духоте, среди сладковатых запахов солода и пивных дрожжей.
На столике у входа в зал собраний лежала открытая книга.
– Что это? – презрительно наморщив нос, поинтересовался Глодер.
– Книга регистрации посетителей, сударь, – ответил, нервно поглядывая на орденскую ленточку Руди, сидевший за столиком рыжий однорукий молодой человек.
Руди занес в книгу свое имя, завершив подпись эффектным росчерком.
– Напомните мне название этой организации, – неторопливо, врастяжечку произнес он. – Пангерманская народная партия? Национальная рабочая партия? Немецкая национальная партия? Народная национальная партия? Германо-немецкая пангерманская немецкая партия?
Молодой человек покраснел:
– Немецкая рабочая партия, сударь.
– Ну да, разумеется, – пробормотал Руди. – Как глупо с моей стороны.
Молодой человек, взглянув на его подпись, вскочил на ноги.
– Прошу прощения, герр майор! – выпалил он. – Полковник Мейр приказал ждать вас к семи. Я уж думал, что вы не появитесь.
Руди вздохнул, расправил на спине шинель – вечер стоял жаркий, однако Руди нравилось ходить в наброшенной на плечи, на надменный прусский манер, шинели – и неторопливо последовал за молодым человеком в комнату.
– Сейчас выступает герр Дитрих Федер,[128] – прошептал тот, прежде чем отвесить поклон и покинуть комнату.
Руди кивнул, смахнул перчаткой пыль с деревянного стула и лениво огляделся по сторонам.
Присутствовало человек сорок – пятьдесят, не больше. В том числе, отметил Руди, одна женщина. Вроде бы дочь окружного судьи. Приятная, с округлой грудью, но жутко близорукая, натужно во все вглядывающаяся.
Собравшиеся, похоже, слушали Федера с большим, нежели он того заслуживал, вниманием. Руди знавал его еще в прежние времена – когда речь заходила об экономике, Федер обращался в фанатика. Он торговал вразнос странноватой бурдой, составленной из обветшалого марксизма, стандартного отвращения к профсоюзам и ненависти к евреям. По правде сказать, слушая нынешних политических ораторов, ты словно присутствуешь в дешевом цирке уродцев. Подивитесь на женщину, обросшую леопардовой шкурой! Сенсация, помесь человека с обезьяной и котом! Невиданный доселе марксист-антикоммунист! А вот дивное диво, провеймарский сепаратист!
Глодер подобрал с пола квадратик желтоватой бумаги, прочитал плохо отпечатанный текст. Если этой листовке можно верить, он присутствует на лекции «Как и какими средствами можно упразднить капитализм».
Руди лениво погадал, не служит ли эта партия, при всех ее правого толка атрибутах и риторике, прикрытием для Marxerei. В том, что Москва живо интересуется внутренней политикой Германии, сомневаться не приходится. Она не побрезгует пролезть и в самую мелкую и убогую из раскольничьих политических фракций. Достаточно вспомнить, как она направила в Будапешт Белу Куна[129] со штатом комиссаров, мешками золота и приказом еженощно отчитываться по радио перед самим Лениным. Правительство Карольи[130] пало едва ли не за одну ночь, а Венгрия оказалась в большевистском стаде. Европа – гниющий труп, созревший для коммунистических стервятников.
Федер называл себя социалистом, однако социалистом националистическим, антикоммунистическим и антисемитским. Было ли то большевистской уловкой или все же обладало реальным смыслом? Говорил он без особых выкрутасов, политическим опытом, похоже, не обладал, но что-то в мешанине его идей показалось Руди привлекательным. Федер проводил различие между Хорошим Капитализмом, капитализмом шахт, железных дорог, фабрик и военного снаряжения, и Капитализмом Плохим, капитализмом финансовых домов и кредитных учреждений, – короче говоря, между капитализмом немецких рабочих и капитализмом еврейских кровососов.
Руди, вытащив карандаш в серебряной держалке и тонкую черную записную книжечку, занес в нее несколько пометок. «Выяснить, что такое Дитрих Федер. Не зять ли он историка Карла Александера фон Мюллера? Не из тех ли Федеров, что служили принцу Отто Баварскому, впоследствии королю Греции? Партийная принадлежность? Влияние Дитриха Эккарта?[131]»
Он закрыл записную книжку и с веселым удивлением прислушался к словесам нового оратора, коим был, надо думать, профессор Бауман, – произнеся несколько сентиментальных похвал в адрес Федеру, он принялся с жаром доказывать, что Баварии надлежит отделиться от Германии и создать вместе с Австрией очищенный от евреев Священный католический союз.
Руди обещал Мейру не выступать, однако оставить подобную галиматью без ответа было ему не по силам.
Он поднялся со стула, кашлянул.
– Господа! Не позволите ли мне сказать несколько слов? – И с удовлетворением отметил немедля наступившую тишину. Повернувшись к дочери судьи, он коротко поклонился и прищелкнул, с учтивым «Gnäiges Fräulein!»,[132] каблуками. Приятно было видеть легкий румянец, окрасивший бледные щеки девушки. Выходя на середину комнаты, Руди вспомнил ее имя – Роза, Роза Дернеш – и поздравил себя с тем, как безупречно работает его ум, некая часть которого сумела, пока он готовился к выступлению, обособить мелочь настолько незначащую. – Позвольте представиться, – вежливо улыбнулся он несколько потерявшемуся профессору Бауману, который явно мог многое еще сказать на баварскую тему. – Мое имя Рудольф Глодер. По шинели моей вам не составит труда понять, что я армейский майор. Я прислан сюда полковником Мейром из пропагандистского отдела Баварской армии, чтобы присмотреться к вам. Однако выступить перед вами я хочу не в этом моем качестве… – он уронил на пол шинель и офицерскую фуражку, – сейчас к вам обращается не солдат, но немец. Баварец, если быть точным, и все-таки немец.
Руди сделал паузу и окинул комнату взглядом, всматриваясь в глаза своих слушателей. Одни взирали на него с отвращением, другие с симпатией, один-двое одобрительно кивали.
Он набрал в грудь побольше воздуха и рявкнул во всю мощь своих голосовых связок:
– ПРОСНИТЕСЬ! Проснитесь, самодовольные олухи! Как смеете вы сидеть здесь и разглагольствовать о будущем Германии? ПРОСНИТЕСЬ!
Сила его голоса повергла всех, включая и самого Руди, в ошеломленное изумление. Какой-то сидевший в углу старик воспринял его слова буквально и действительно проснулся, кашляя, брызгая слюной и испуганно озираясь, словно вокруг бушевал пожар.
Руди одернул китель, откашлялся. Все тело его просквозила гигантская гудящая молния энергии, возбуждения, радости, как если бы он втянул носом добрую пригоршню кокаина, как это проделывали перед атакой кавалерийские офицеры Габсбургского полка. Он говорил, ощущая огромную легкость и силу, и ни одна частность лиц, в которые он вглядывался, не ускользала от него.
– Герр Федер твердит о евреях в банках и евреях в большевистской России, – продолжил Руди голосом уже более тихим, почти шепотом, зная, впрочем, что шепот этот достигнет ушей каждого, кто присутствует в комнате. – Он, со свойственными ему красноречием и эрудицией, обливает их презрением. Но хотелось бы знать, как реагируют на это сами евреи? Дрожат от страха? Укладывают чемоданы, намереваясь удрать куда подальше? Падают к нашим ногам, трусливо прося прощения и обещая исправиться? Нет, они СМЕЮТСЯ, друзья мои. Смеются в свои габардиновые рукава. И чем же может профессор Бауман, при всем моем уважении к этому ученому господину, чем может он ответить на это? Он говорит, что Бавария должна оставить Германию и присоединиться к Австрии. Должен ли я преподать вам урок истории? Должен ли напоминать о том, что все мы услышали девятого мая?[133] Должен? Должен? Нам надлежит расстаться с каждой немецкой колонией в Африке и на Тихом океане. Без обсуждения, без жалоб. Пруссия разрезается надвое коридором, идущим к Балтийскому морю. Данциг отходит Польше. Никаких споров. Каждый год на немецких верфях должны строиться суда общим водоизмещением в двести тысяч тонн, которые будут отдаваться, отдаваться нашим захватчикам. А деньги? Сколько с нас требуют денег? Эта графа не заполнена. Репарации придется выплачивать по скользящей шкале. Чем больше мы процветаем, тем больше платим. Каждая капля пота, что упадет с усталого чела каждого немецкого рабочего, должна будет влиться в огромный поток, который потечет за границу, к нашим врагам, пока сами мы будем бороться за жизнь в нашей безводной пустыне позора. Вся вина, вся ответственность за войну взвалена на нас, на немецкую нацию. Der Dolchstoß,[134] так это называется, и удар этот нанесли в гордую спину Зигфрида берлинские Гагены. Коим помогали Левин, Левинэ, Гоффман, Эгельхофер, Люксембург, Либкнехт и прочие евреи, коммунисты и предатели.
Каков же ответ Баумана на эту катастрофу? Величайшую катастрофу из тех, что претерпевала какая-либо нация за всю историю нашей планеты. Ответ таков: Баварии, гордой Баварии следует перестать цепляться за юбку Германии и нырнуть под одеяло бесплодной, увядшей австрийской шлюхи, между тем как Святой Отец будет, ликуя, взирать на них, точно самодовольная бандерша, и благословлять этот разврат, это трусливое распутство.
И таково решение? Такова Realpolitik?[135]
ПОВЗРОСЛЕЙТЕ! ПОВЗРОСЛЕЙТЕ и ПРОСНИТЕСЬ! Наши враги хохочут и приплясывают от восторга, покамест мы плачем и разносим все вокруг в припадках ребяческой вспыльчивости.
И тем не менее лекарство от всех наших горестей существует, вам оно не понравится, хоть и лежит перед самыми вашими носами. Есть лишь одно решение, одна надежда, один верный путь к славе и выживанию Германии. Вы знаете, в чем оно состоит, вы все это знаете.
Оно состоит в роспуске партий, подобной вашей. Постойте! Прежде чем вы разорвете меня на куски, прежде чем заглушите меня криками, как подосланного лазутчика, саботажника, агента-провокатора и предателя, выслушайте то, что я должен сказать вам. Это всего одно слово. Только одно. Одно слово. Одно. И слово это…
Единство!
Да, мы можем раздробиться на мелкие группки, подобные вашей Немецкой рабочей партии, мы можем копаться и копаться в тонкостях политической теории и экономической теории, теории расовой и теории национальной, какой угодно, и называть себя умниками, называть себя патриотами. Мы можем оттачивать наши идеи до тех пор, пока не затупятся бритвы наших умов. Но чем крепче будем мы вцепляться в соломинки, чем громче будем выть на луну, тем пуще будут злорадствовать, хихикать и ухмыляться наши враги.
В одном только Мюнхене существует пятьдесят отдельных политических партий, и большинство их представительнее вашей. Вдумайтесь в это. Вдумайтесь и зарыдайте.
Взгляните на веймарцев. Они, с их безвольным, их безумным стремлением лизать задницу Вудро Вильсону, получили правительство, пропитанное такой либеральной благожелательностью, таким благодушием, что в него вошли десятки разномастных партий, каждой из которых позволяется разглагольствовать о нашей государственной политике. Вдумайтесь в это и зарыдайте.
Но подумайте следом и о единой немецкой партии. Представьте себе такое явление. Единая немецкая партия для единых немецких рабочих, крестьян, домохозяек, ветеранов и детей. Единая немецкая партия, говорящая единым немецким голосом. Вдумайтесь в это и засмейтесь от счастья. Ибо говорю вам, говорю со всей пророческой силой и любовью к Отечеству, что такая партия сможет править не только Германией, но и всем миром.
Сказать вам, почему я уверен в моей правоте? Существует старинное правило, приложимое к жизни солдата, к политике, к шахматам, к карточной игре, к управлению государством, ко всем родам и видам человеческой деятельности.
Делай не то, что тебе больше всего хочется сделать, делай то, что меньше всего понравится твоему врагу.
Мы знаем наших врагов: большевистских евреев, финансовых евреев, социал-демократов, либеральных интеллектуалов.
Что бы они хотели заставить нас делать?
Они хотели бы, чтобы мы препирались друг с другом о том, чья немецкая душа чище, чьи экономические программы лучше, чьи идеи умнее, кто наиполнейшим образом выражает помыслы среднего немца.
Пока мы предаемся этому занятию, они, наши враги, счастливы. Недовольный рабочий не увидит в своих политиках ничего, кроме разброда и шатания, и потому вступит в подкармливаемый Москвой профсоюз. Проценты, которые мы станем выплачивать, будут поступать в еврейские банки, и Германия так и останется в их лапах.
А что меньше всего понравилось бы нашим врагам? Единый голос. Рождение единой Германии, объединенной в одну партию, которая станет править нашей судьбой. Забота о наших собственных рабочих. Развитие нашей собственной техники, науки и национального гения, нацеленное на возрождение Германии как могучего современного государства, будущее коего не зависит ни от кого, кроме ее народа.
Все это требует единства. Единства, единства и еще раз единства.
Но ведь ничего этого никогда не будет, не так ли? Не будет, потому что каждый из нас стремится стать самым главным кочетом на нашей кучке навоза. Мы не сможем содеять то единственное, что так нам необходимо.
Потому что это трудно. Ах как трудно. Это потребует терпения, труда, планирования и жертв. Это потребует внутреннего единения, способного создать единение внешнее. Это потребует колоссальных организационных усилий.
Я знаю, на какое единение способны немцы. Я видел его, я разделял его мощь с другими в окопах Фландрии. И я знаю, на какое немцы способны разъединение. Я вижу его в самую эту минуту, в смрадной задней комнате мюнхенской пивной.
Таков стоящий перед нами выбор. Разделиться и рыдать или соединиться и смеяться.
Что до меня, то я баварец. Я посмеяться люблю.
Все! Я сказал, что хотел. Простите меня. И, дабы вознаградить вас за терпение, позвольте купить каждому по стакану пива.
Руди наклонился, чтобы поднять с пола шинель, снова набросил ее на плечи и вернулся на свой стул.
Молчание, предварившее овацию, напомнило ему бездыханную паузу, наступившую, когда он в первый раз пришел с отцом на Байрейтский фестиваль, за последними нотами «Götterdämmerung».[136] Тогда ему на один страшный миг показалось, что публика недовольна, что она покинет театр в молчании. Но тут зал взорвался аплодисментами.
То же произошло и теперь.
Мужчина, годами, возможно, десятью старше Руди, протолкался к нему и протянул брошюрку с красной обложкой.
– Герр Глодер, – прокричал он, перекрывая топот и возгласы «Einheit! Einheit!».[137] – Меня зовут Антон Дрекслер.[138] Я основал эту партию. Мы нуждаемся в вас.
Современная история
«Кресало»
– Ты мне нужен, Стив. Помоги мне найти библиотеку.
Стив опустил несколько долларов на залитый пивом стол и торопливо последовал за мной.
– Иисусе, да что на тебя нашло?
– Где ближайшая?
– Библиотека? Господи, это же Принстон.
– Мне любая сгодится, была бы приличная. Прошу тебя!
– Ну ладно, ладно. В кампусе есть «Кресало», до нее рукой подать.
– Так пошли!
Мы миновали почтовую контору, пересекли Палмер-сквер и оказались на Нассау, которую я перебежал, даже не взглянув по сторонам.
– Черт, Майки, ты о правилах перехода улицы что-нибудь слышал?
– Прости, мне необходимо выяснить кое-что, и как можно скорее.
Библиотека «Кресало» напоминала мрачный каменный собор, увенчанный огромной башней, заостренные контрфорсы которой взвивались с кровли в небо, подобно ракетам. Я остановился в проеме ее двери, обернулся к Стиву:
– Тут все есть?
Стив, с выражением, близким к отчаянию, покачал головой.
– Майки, – сказал он. – В кампусе больше одиннадцати миллионов книг, и большая их часть находится здесь.
И Стив, изобразив на лице мрачную покорность судьбе, распахнул дверь.
– История, – прошипел я ему, пока мы приближались к массивному столу в центре вестибюля. – Где у них современная история Европы?
– Думаю, нам стоит взять отсек, – ответил он.
– Взять что?
– Ну, сам знаешь, отсек…
Я, недоумевая, покачал головой.
– Да комнату же, – раздраженно сказал Стив, беря со стола листок бумаги, – персональный читальный зал. Отсек. У вас-то они как, черт дери, называются?
После получаса бюрократических проволочек, шепотливого обмена фразами, за которым следовали пробежки в хранилище, мы в одном из таких отсеков и оказались – в квадратной комнатушке со столом, креслом и симпатичными гравюрами – видами Принстона восемнадцатого столетия – на стенах. На столе передо мной лежали набранные нами двенадцать томов. Я сел, взял «Хронику мировой истории» и обратился к букве Г: «Гитлер».
Пусто.
– Тебе вовсе не обязательно сидеть здесь со мной, – сказал я Стиву.
– Ничего-ничего, – ответил Стив, усевшийся в углу на пол в позе лотоса и примостивший себе на колени альбом по военной истории, – посижу. Глядишь, и сам узнаю что-нибудь новое.
Возможно, он что-нибудь новое и узнал. Я был слишком занят, чтобы обращать на него какое-либо внимание.
Я обратился к Н, «Нацисты», и, наткнувшись несколько раз на новое для меня имя, вернулся к Г, «Глодер». Пальцы мои отлистывали назад страницу за страницей, мне нужно было понять, сколько места отведено в книге этому человеку. Семьдесят страниц, множество статей, каждая из которых вышла из-под пера отдельного историка. Самая первая именовалась «Хронологической биографией».
Глодер, Рудольф (1894–1966). Основатель и вождь Нацистской партии, рейхс-канцлер, воплощение духа Великого Германского Рейха начиная с 1928 и до его распада в 1963. Глава государства и Верховный главнокомандующий вооруженных сил, Фюрер немецкого народа. Родился в Байрейте, Бавария, 17 августа 1894, единственный сын профессионального гобоиста и преподавателя музыки Генриха Глодера (см.) и его второй жены Паулы фон Мейсснер-унд-Грот (см.); мать, считавшая, что вышла за человека, занимавшего в обществе более низкое, чем она, положение, внушила юному Рудольфу мысль о его аристократическом происхождении. О связях Паулы с немецкой и австрийской аристократиями написано немало (см.: «Gloder: the Nobleman», A. L. Parlange, Louisiana State University Press,[139] 1972; «Prince Rudolf?», Mouton and Grover, Toulane,[140] 1982), однако реальных свидетельств в пользу того, что они выходили за пределы, типичные для принадлежащей к среднему классу той поры баварской семьи, существует мало. В дальнейшей жизни, уже придя к власти, Глодер прилагал немалые усилия к тому, чтобы подчеркнуть заурядность лет, в которые складывалась его личность, намекая на годы бедности и невзгод, однако эти его утверждения не выдерживают сколько-нибудь серьезной проверки, как и последующие притязания Глодера на происхождение от Габсбургской династии.
Не существует никаких сомнений в том, что в годы отрочества Рудольф проявил значительную одаренность, показав себя искусным музыкантом, наездником, художником, спортсменом и фехтовальщиком. К четырнадцати он уже читал и писал на четырех языках, не считая обязательных для каждого ученика гимназии познаний в латыни и древнегреческом. Заслуживающие доверия воспоминания современников позволяют заключить, что он пользовался популярностью у товарищей и учителей, а документы, связанные с его поступлением в 1910, в возрасте шестнадцати лет, в Мюнхенскую военную академию, содержат яркие свидетельства того, какую высокую оценку давали ему все, кто его знал.
В 1914, в самом начале Первой мировой войны, Глодер вступил рядовым в 16-й Баварский резервный пехотный полк – поступок, сильно огорчивший мать Рудольфа и удививший многих его друзей. В собственном рассказе Глодера о его опыте военной поры («Kampfparolen», Munich,[141] 1923; «Fighting Words» trans. Hugo Ubermayer, London,[142] 1924), подлинном шедевре показной скромности и чарующей самоидеализации, утверждается, что он стремился сражаться плечом к плечу с простыми немцами. Не приходится сомневаться, однако, что поступи Глодер офицером в какой-либо из полков пофешенебельнее, а любой из них с удовольствием принял бы в свои ряды кадета, обладавшего такой внушительной подготовкой, он никогда не добился бы успеха столь беспримерного – головокружительной карьеры, позволившей ему подняться от рядового пехотинца до штабного майора, получив попутно, среди прочих наград, Железный крест 1-го класса, рыцарский, с дубовыми листьями и алмазами.
Я на миг опустил книгу и вперился взглядом в стену. 16-й Баварский резервный пехотный полк. Полк Листа. Полк Гитлера.
Германия, в которую Глодер возвратился в конце 1918, после подписанного 11 ноября перемирия, была страной, раздираемой политическими волнениями. Выступая в роли Vertrauensmann[143] полковника Карла Мейра из отдела пропаганды Баварской армии и получив предписание приглядывать за десятками правых и левых организаций, почти ежедневно возникавших в политическом вакууме, оставленном неудавшейся Мюнхенской революцией апреля 1919, Глодер в сентябре того же года посетил собрание крайней ультраправой фракции, Deutsche Arbeiterpartei, Немецкой рабочей партии, основанной и возглавляемой Антоном Дрекслером (см.), 36-летним инструментальщиком железнодорожной сортировочной станции. Глодер увидел в насчитывавшей менее пятидесяти членов ДАП с ее на первый взгляд противоречивой смесью антимарксистского социализма и антикапиталистического национализма в точности те ингредиенты, которые считал необходимыми для создания партии народного единства. В течение шести месяцев Глодер оборвал все официальные связи с Reichswehr,[144] уволился из пропагандистского отдела Мейра, вступил в ДАП, сместил ее «Национального председателя», агитатора «Общества Туле» Карла Харрера (см.), и, оттеснив самого Декслера, принял на себя всю полноту власти, как Führer, или вождь партии.
В 1921 он добавил к официальному названию ДАП слово Nationalsozialistisch.[145] Несмотря на ненависть к социализму и рабочим союзам, Глодер сознавал необходимость привлечения в свою партию простых рабочих, которые в противном случае могли бы увлечься марксизмом и большевизмом. Вследствие звучания произносимых по-немецки первых четырех букв ее названия, НСДАП быстро получила повсеместно принятое прозвище «Наци» и объявила Hakenkreuz, или свастику, своим единоличным символом – к немалому неудовольствию прочих правых группировок, которые еще с предыдущего столетия использовали ее в своих публикациях и на уличных знаменах.
Основными талантами, проявленными Глодером в те ранние дни партии, были таланты организатора и демагога. Тогдашние его соперники отмахивались от Глодера, прославившегося тем, что у него всегда имелась наготове едкая шутка, однако он обладал способностью обращать и такие обидные клички, как «Gloder, der ulkige Vogel»[146] или «Rudi der Clown»,[147] в оружие для риторических нападок на своих врагов. Нет, однако, никаких сомнений в том, что именно личное обаяние принесло ему немалое число друзей и породило приток новых, происходивших из всех слоев общества, членов партии, приток, обратившийся в начале 1920-х в подлинное наводнение. Наделенный от природы приятной внешностью, выправкой спортсмена и улыбкой кинозвезды, Глодер обладал и вошедшей в легенду способностью вызывать восхищение и доверие в тех, кто был по самой природе своей его политическими противниками. Представители промышленных и военных кругов верили ему, обыватели относились к нему с обожанием и завистью, а женщины всей Германии (и не только ее) открыто перед ним преклонялись.
Что касается организационной стороны дела, он разбил свою уже оперившуюся партию на секции, коим надлежало заниматься вопросами, которые Глодер считал насущными для ее дальнейшего роста, а когда настанет время – и для дальнейшего роста самой Германии.
Огромное значение для привлечения в партию новых членов имела пропаганда, и потому столь своевременным оказалось появление в ней Йозефа Геббельса (см.), воспитанного в строгих католических традициях и получившего хорошее образование уроженца Рейнской области, признанного из-за его изувеченных полиомиелитом ног непригодным к воинской службе. Страх перед тем, что в нем увидят «буржуазного интеллектуала», и чувство своей физической неполноценности подтолкнули Геббельса к созданию сентиментального мифа светловолосой нордической чистоты и мужественных спартанских добродетелей. Рудольф Глодер был для Геббельса физическим, духовным и интеллектуальным воплощением всех этих арийских идеалов, и с первой же их встречи значительный ораторский дар Геббельса и его прирожденная, современная хватка во всем, что касалось использования кинохроники и радио, были полностью отданы в распоряжение Фюрера.
Пропаганда являлась для Глодера средством достижения и сохранения политической власти, однако с ходом времени у него сложилось убеждение, что почти равное ей значение имеют научные и технические новшества. Проглотив свой врожденный антисемитизм, Глодер лез вон из кожи, обхаживая физиков Геттингенского университета и иных выдающихся научных центров, которые во всем, что касалось атомной и квантовой физики, шли на голову впереди аналогичных, находящихся за пределами Германии институтов. Глодер верил, пророчески, как выяснилось в дальнейшем, что лояльность научного сообщества имеет для будущего Германии важнейшее значение. Эта твердая вера шла вразрез с инстинктами таких идеологов, как Дитрих Эккарт, Альфред Розенберг и Юлиус Штрейхер (см., см., см.), и даже его близкого друга Геббельса, считавшего, подобно другим, что «еврейская наука» способна лишь замарать новую Германию. Дитрих Эккарт, строка из поэмы которого «Deutschland Erwache!»[148] стала первым лозунгом НСДАП, помог найти средства для приобретения «Völkischer Beobachter»,[149] официального органа НСДАП, однако поссорился с Глодером из-за того, что счел тактику вождя в отношении евреев слишком мягкой, отчего эти двое не разговаривали друг с другом до самой смерти Эккарта, наступившей в 1923 году. На похоронах Эккарта Глодер пожаловался Геббельсу на то, что Эккарт так и не сумел понять одного – напугать евреев слишком рано значило бы совершить тактическую ошибку. («An Anfang», Rudolf Gloder, Berlin,[150] 1932; «My Early Life», trans. Gottlob Blumenbach, New York,[151] 1933). Глодер готов был использовать антисемитизм в качестве лозунга, позволявшего объединить рабочих, однако не ценой утраты таких жизненно важных ресурсов, как еврейские ученые и банкиры. На тайных совещаниях, которые он в первые свои годы проводил с представителями еврейской общины, совещаниях, о которых не ведали даже самые доверенные его сторонники, Глодеру удалось убедить видных евреев в том, что антисемитизм его партии – это всего лишь публичная поза и что немецким евреям следует опасаться его в мере гораздо меньшей, нежели марксистов и прочих правых партий. В те ранние дни третьим пунктом политической программы Глодера была организация внутреннего кадрового состава партии, безжалостным руководителем которого стал Эрнст Рём[152] (см.), использовавший насильственные методы уличных боев для устрашения противников партии и разгона демонстраций левых. Эти незаконные отряды, состоявшие из бывших военных и неквалифицированных рабочих, вызывали у либеральных интеллектуалов той поры страх и презрение, однако Глодеру удавалось частным порядком дезавуировать и резко осуждать – перед теми, в ком он нуждался, – жесткие методы своей партии. Он поддерживал личную дружбу со многими писателями, учеными, интеллектуалами и промышленниками, которым нацизм представлялся чумой, и, по-видимому, смог убедить их в том, что тактика Рёма, второго в партии человека и личного заместителя Глодера, им же самим и назначенного, есть временное средство, цена, которую необходимо заплатить за победу над коммунизмом.
Глодер постоянно и помногу разъезжал по свету, посещая Францию, Британию, Россию и Соединенные Штаты и широко используя свою лингвистическую одаренность и обаятельные манеры. Хотя в течение этих четырех лет (1922–1925) партия нацистов и не выходила ни на какие выборы, она разрослась настолько, что стала третьей по численности партией Германии, уступая лишь социал-демократам (см.) и коммунистам, – реальной силой, с которой нельзя было не считаться. Поездки Глодера за границу, его красный аэроплан «Фоккер» (не отличающаяся особой тонкостью игра на повсеместной популярности барона фон Рихтгофена, на родство с которым он также впоследствии претендовал) должны были продемонстрировать и миру, и самой Германии, что он – разумный, цивилизованный человек, человек культурный, государственный деятель, заслуживающая доверия фигура мировой сцены. Тем иностранным политикам, которые его принимали (а таких было немало), Глодер говорил, что не поведет свою партию на выборы до тех пор, пока не увидит возможность изменить к лучшему условия Версальского мирного договора (см.). Это позволило ему обойти социал-демократов, наладить крепкие связи с политическими воротилами Европы и Америки и приобрести известность на международной арене в то время, когда Германия еще оставалась страной, почти полностью занятой лишь своими заботами, продолжавшей переживать позор военного поражения и навязанного ей мира. За эти годы странствий Глодер успел сняться в немом голливудском фильме, заработать репутацию оратора и острослова («The Public Speaker», Hal Roach,[153] 1924), поиграть в гольф с принцем Уэльским (см.), потанцевать с Джозефиной Бейкер[154] (см.), взобраться на Маттерхорн и обзавестись множеством друзей и союзников, оказавшихся чрезвычайно полезными в последующие годы.
В 1923 Глодер сумел остановить рвавшегося к власти Эриха Людендорфа (см.), который мечтал ликвидировать Веймарскую республику (см.), установив вместо нее военную хунту. В 1920 Людендорф, во время неудавшегося берлинского путча Каппа, уже пытался захватить власть, и Глодер не питал особого доверия к политической прозорливости ветерана-генерала. Еще меньше доверия вызывала у него крайняя форма направленной против масонов, иезуитов и иудаизма паранойи, проявлявшейся в заявлениях Людендорфа о том, что покушение на эрцгерцога Фердинанда (см.), равно как и военное поражение Германии в 1918 году, – это дело рук «наднациональных сил». Генерал заходил так далеко, что уверял, будто и Моцарт, и Шиллер были убиты «грандиозной Чека тайного наднационального общества». Глодер отдал приказ, согласно которому ни одному нацисту не следовало помогать Людендорфу в его новой попытке взять в свои руки бразды правления. Вполне вероятно, что именно он и предупредил веймарские власти в ноябре, когда Людендорф, возглавив армию из от силы двухсот своих сторонников, направился из «Бюргербраукеллер»[155] в центр Мюнхена, где его и арестовали за государственную измену.
Эту свою способность выжидать нужного момента Глодер еще раз продемонстрировал в 1928, вновь отказавшись допустить НСДАП к участию во всеобщих выборах. Он убедил высшее руководство партии в том, что ожидать ее победы на этих выборах не приходится и что, даже если она победит, экономические условия не будут для нее благоприятными. В жизни Германии наметились перемены к лучшему, и авторитет социал-демократов в обществе значительно вырос. НСДАП было куда удобнее проявить терпение и подождать.
Спустя всего несколько месяцев биржевой крах (см.) и начало Великой депрессии (см.) доказали проницательность этого политического суждения. Ялмар Шахт, Фриц Тиссен, Густав Крупп, Фридрих Флик (см., см., см., см.) и другие богатые промышленные магнаты Германии быстро уверились в неспособности социал-демократов справиться со столь беспрецедентным мировым экономическим спадом и начали перекачивать деньги в казну Нацистской партии Глодера, убедившись к этому времени, что только его одного отличает сочетание тонкого государственного ума и широкой общественной поддержки, необходимое для вывода Германии из штопора экономического кризиса.
К осени 1929, когда гиперинфляция стала галопирующей, а безработица достигла эпидемических размеров, выяснилось, что…
– Господи, Майки, ты долго еще? Испуганно дернувшись, я поднял взгляд на Стива:
– Сколько сейчас?
– Без самой малости шесть.
– Черт, я еще только начал. Могу я взять эти книги с собой?
Стив покачал головой:
– Только не справочники, не энциклопедии и тому подобное. Их выносить нельзя. Вот эти, думаю, можно…
Он подошел к столу и отобрал две книги поменьше. Учебники по европейской истории.
– Ладно, тогда возьму их, – сказал я, вставая и потягиваясь. – Ради бога, прости. Тебе, наверное, было та-а-ак скучно, Стив. Почему ты не ушел? Дорогу до Генри-Холла я теперь, пожалуй, и сам найду.
Стив сунул книги под мышку.
– Я тебя провожу, – сказал он.
– Нет, правда же, это не обязательно. Стив смущенно уставился в ковер:
– Дело в том, Майки…
– Да?
– Понимаешь, профессор Тейлор велел мне не спускать с тебя глаз.
– А, – сказал я. – Ну да. Понятно. Так он считает меня опасным?
– Может, он боится, что ты заблудишься. Ну, знаешь, влипнешь в какую-нибудь историю, сам себе навредишь.
Я кивнул:
– Да, не сладко тебе приходится. Извини.
– Слушай, ты не мог бы сделать мне одолжение? Перестать извиняться на каждом шагу?
– Это такая английская привычка, – сказал я. – Нам еще за столько всего нужно извиниться.
– Что верно, то верно.
Я уже открыл дверь в коридор, но тут Стив вдруг замер на месте:
– Черт! Только что пришло в голову. А почему непременно книги?
– Прости?
– Как насчет картов?
– Картов?
– Конечно, раз ты надумал заняться историей, так возьми карты.
– Не хочу показаться тебе идиотом, – сказал я, – но что это за чертовщина такая – карты?
Десять минут спустя мы вышли из здания библиотеки с двумя книгами и пачкой этих самых «картов», которую я нес под мышкой.
– Ладно, – сказал Стив. – Ты не хочешь объяснить мне, что происходит? Откуда вдруг такая потребность узнать все о Нацистской партии?
– Если бы я только мог, – ответил я. – Но ты же просто решишь, что я спятил.
Стив приостановился, подумал.
– Давай мы вот как сделаем. Видишь тот дом? Это студенческий центр «Лужайка Ректора». Заходим в него. Берем какую-нибудь пиццу, пончики, содовую – в общем, что захотим, и возвращаемся к тебе. А там ты мне расскажешь, что у тебя на уме. Договорились?
– Договорились, – сказал я.
В Генри-Холл я возвратился с чувством немалого облегчения. Вид людской толпы в «Ротонде» студенческого центра напомнил мне о моей неприкаянности, о том, насколько я здесь чужой. Особенности иноземной пищи, иноземные способы подавать ее, иноземные деньги, иноземные вскрики и оклики, иноземный смех, иноземные запахи и иноземный облик людей… они напирали со всех сторон, пока меня не пробрало желание завизжать. А жилище в Генри-Холле, показавшееся мне поутру таким чужим, ныне представлялось уютным и привычным, как пара стоптанных башмаков.
Мы свалили бурые пакеты с едой на стол у окна. Было еще светло, однако я, повозившись с ручкой жалюзи, добился, чтобы планки их сомкнулись, и включил свет. Такое уж чувство владело мной, чувство загнанности, потребность укрыться в норе.
Пока мы уплетали по куску пиццы каждый, я оглядывал стены.
– Вот эти люди, – сказал я, указав на один из плакатов. – Кто они, черт их возьми, такие?
– Ты шутишь?
– Нет, правда. Скажи мне.
– Это «Нью-йоркские янки», Майки. Ты при любой возможности гонял поездом на Пенсильванский вокзал, посмотреть их игру.
– Ага, а вот эти?
– «Мэндракс».
– «Мэндракс», – повторил я. – Музыкальная группа, так?
– Музыкальная группа.
– И они мне нравятся, верно? Стив покивал, улыбаясь.
– На мой вкус, они похожи на самую унылую компанию старых пердунов, какую я когда-либо видел, – сказал я. – Ты уверен, что они мне нравятся?
– Уверен на все сто, – кивнул Стив. – Они ребята четкие.
– Ах, четкие? Ну, если они четкие, я от них должен с ума сходить. Я, видишь ли, люблю все четкое. А как насчет «Битлз»? Их я тоже люблю? «Роллинг стоунз»? «Лед Зеппелин»? Элтона Джона? «Блэр»? «Ойли-Мойли»? «Оазис»?
Увидев его пустое лицо, я даже рассмеялся от удовольствия.
– Господи, ну я тебя сейчас и удивлю, – хихикая, пообещал я. – Послушай-ка. Э-хэм! «Лишь вчера был я весел, был я жизни рад, теперь печалью я объят. О, как вчера вернуть назад!» Что скажешь?
– Фу! – отозвался уже успевший заткнуть уши Стив.
– Ну не знаю, мне кажется, гармонию уловить ты все же мог бы… Ладно, тогда как насчет вот этого? «Представь себе, что нет над нами рая…» Нет, ты прав, совершенно прав. Мне нужно сначала посидеть одному за синтезатором.
Я встал, прошелся вдоль стены.
– А это кто?
– Люк Уайт.
– Певец?
– Шел бы ты! Он кинозвезда.
– Хм, довольно милый, правда? Только почему я его повесил на мою стену?
– А вот это хотели бы узнать очень многие, – ответил Стив и залился густой краской.
Пока он пытался скрыть смущение, делая вид, будто его страшно заинтересовала начинка пончика, в голову мне вдруг стукнула мысль, давно уже зудевшая где-то в глубине сознания.
– М-м, Стив. Думаю, вопрос покажется тебе на редкость дурацким, однако скажи, я случайно не из этих, не из активных-пассивных?
Стив нахмурился.
– Активных и пассивных? Да, по-моему, бываешь иногда – то таким, то этаким. Конечно.
– Нет-нет, ты не понял. Я… ну, ты знаешь, вроде как… да знаешь же…
– Что?
– Ты знаешь! Я… голубой? Гей?
Стив побелел совершенно:
– Ты совсем охренел, Майки!
– Ну, не такой уж и странный вопрос, правда? Я хочу сказать… ты же понимаешь. Ты сам говорил, девушки у меня нет. Вот я и подумал, знаешь, плакаты эти… Я просто поинтересовался, вот и все.
– Господи, Майки. Ты спятил?
– Да нет, я знаю, что не был таким в Кемб… в моих воспоминаниях то есть. По крайней мере, я так думаю. Про себя. Знаешь… я был вполне нормальным. Дружил с девушкой, хотя, если честно, отношения у нас были довольно странные. Она была старше меня, все шло как у людей, мы жили вместе и так далее. Я хочу сказать, я любил ее и прочее, однако по временам немного завидовал Джеймсу и Дважды Эдди. И может быть, я все это время был… черт, я же просто спросил тебя, и только. Что тут такого?
Стив смотрел на банку «коки» так, словно в ней была скрыта вся тайна жизни.
– Что тут такого? – нерешительно повторил он. – Не стоит тебе так говорить, Майки. Наживешь серьезные неприятности.
– Неприятности? Послушать тебя, так это какое-то преступление. Я ведь всего-навсего спрашиваю, не принадлежу ли я или, может быть, принадлежал к… о господи! – Я умолк, от самого ритма этой маккартистской мантры во мне забрезжила жуткая мысль. – Так, значит, вот оно что? Это преступление!
Стив поднял на меня взгляд, и я почти готов был поверить, что в глазах его стоят слезы.
– Конечно, преступление, да еще и охеренное, задница ты этакая! Где ты, к чертям собачьим, жил до сих пор?
– Так в том-то и дело, Стив, – ответил я. – В том-то все и дело. Понимаешь, там, откуда я родом, это преступлением не считается.
– Ну конечно. Еще бы. На Марсе, к примеру, или в долине Большой Леденцовой горы, где на леденцовой лозе вызревает зефир и все прыгают, скачут и пекут для приезжих вишневые пироги.
Я не мог придумать, что мне ему сказать.
Стив прикончил «коку», большими пальцами смял баночку с боков и полез в карман за сигаретой.
Я тоже закурил, откашлялся; молчание было мне неприятно.
– В общем, я так понимаю, что мы никогда… то есть… мы с тобой…
Он ответил мне свирепым взглядом.
– Угу. Ответ, надо думать, отрицательный.
Стив склонился в кресле, уставился между коленей на ковер, длинные волосы его опали вниз, закрыв лицо.
Снова воцарилось молчание.
– Послушай, Стив, – начал я. – Если я скажу, что явился с Марса, ты сочтешь меня сумасшедшим, ведь так? Но предположим, просто предположим, что я происхожу из… других мест, столь же необычных, с культурой, полностью отличной от вашей?
Стив все так же молча разглядывал ковер.
– Ты же разумный человек, – продолжал я. – Ты должен признать – то, что, по-видимому, случилось со мной, объяснить трудно. То, как я говорю, это же не притворство, и ты это знаешь. Даже профессор Тейлор отметил это, а он-то англичанин подлинный. Хотя, если честно, он со своим англичанством малость перебирает. Ты видел, как я изменился у стены Палмер-сквер – в секунду, даже в наносекунду обратясь из парня, которого ты знал, совершенно американского, изучающего философию, играющего в бейсбол, чистящего зубы ниткой, привычного старого Майки Янга, в кого-то совершенно другого. Внешне я от него не отличаюсь, зато отличаюсь внутренне. Ты не можешь это отрицать. Я знаю тысячи вещей, которых не знал раньше, однако тысячи вещей, которые я должен бы знать, мне не известны. Я не знаю, кто сейчас президент Соединенных Штатов, не знаю, где находится Хартфорд, штат Коннектикут, не знаю даже, уж если на то пошло, где расположен сам Коннектикут, – где-то справа, вот и все, что мне известно. До нынешнего утра я никогда в жизни не видел этого кампуса, и ты знаешь, что я не притворяюсь. Однако я могу порассказать тебе такие вещи из истории Европы до двадцатого года, которых я знать не мог бы, если бы не занимался ею всерьез. Сейчас я тебе докажу. Возьми вот эту книгу и спроси меня о любом факте. О каком угодно.
Стив неуверенно принял протянутую мной книгу.
– Ладно, может, тебе и известно много чего о Европе. Ну и что?
– Ты хорошо меня знаешь… ты думаешь, что хорошо меня знаешь. Взгляни на мои книжные полки, там нет ни одной книги по истории. Я занимался историей на первых двух курсах? Может быть, слушал какие-то лекции?
– Вроде бы нет…
– Правильно. Вот и проверь меня. Скажем, что-нибудь до девятьсот тридцатого.
Стив полистал книгу, выбрал страницу.
– Ну ладно, что такое Священный союз? Я улыбнулся.
– Сэр, пожалуйста, сэр, проще пареной репы, сэр! – воскликнул я, поднимая руку, точно школьник. – Священный союз – это название договора, сэр, договора, подписанного далеко не святой троицей… минутку, – русским царем, скорее всего это был Александр Первый, прусским Фридрихом Вильгельмом Третьим и императором Священной Римской империи Францем Вторым, хотя, конечно, он был просто-напросто старым добрым Францем Первым австрийским, не так ли? – подписанного после того, как Наполеону надрали задницу под Ватерлоо.
– Кто еще его подписал? – Стив не отрывал взгляда от страницы.
– Ну как же, сэр, Неаполь, сэр, Сардиния, сэр, Франция и Испания, сэр. Впоследствии договор подписала и ратифицировала Британия – принц-регент, Георг Четвертый, отец его к тому времени, понятное дело, окончательно ополоумел, к тому же Британия состояла в Четверном союзе, а это совсем другое дело. Да, и турецкий султан подписал тоже. Хотя, боюсь, имени султана мне не припомнить, если я вообще его когда-нибудь знал. И разумеется, Папа благословил этот союз великим благословением. Подписан же сей договор был в 1815-м. За дополнительные десять баллов и каникулы на Барбадосе я рискнул бы назвать и дату: двадцать шестое сентября. Я прав?
– Ладно, ладно… – Стив опять полистал книгу. – Как насчет… Бенджамина Дизраэли?
– Бенджамина Дизраэли? О нем я чего только не знаю! – Я уже просто пел, я попал в свою стихию и элегантно скользил по крепкому льду. – Родился в 1804-м, двадцать первого, если не ошибаюсь, декабря. Придумал фразу «смазанный салом столб», дабы описать свое восхождение из скромной еврейской семьи к посту премьер-министра великой викторианской Англии и Империи. Сын дилетанта-сефарда – литератора, историка и вообще милейшего человека по имени Исаак, в 1817-м окрестившего всю свою семью. Бен начал как помощник стряпчего, прогорел, неумело вложив деньги, и потому обратился в романиста и острослова, что позволило ему вести жизнь щеголя и подкрепить свои политические амбиции. Написал ряд книг, принадлежавших к направлению, которое называлось «молодым английским романом», в частности «Конингсби, или Молодое поколение» и «Сивилла, или Две нации». За несколько лет до их появления был с пятой своей попытки наконец-то избран в парламент, году, по-моему, в 1837-м. Противник вигов и утилитаристов, он составил себе громкое имя нападками на собственное правительство. Это ему принадлежит фраза «организованное ханжество», описывающая старания Роберта Пиля отменить «Хлебные законы». Став на многие годы предводителем партии, он был назначен при лорде Дерби канцлером казначейства и разработал Второй биль о реформе 1860-го, который распространял выборное право на домовладельцев представленных в парламенте городов. В 1868-м ненадолго стал премьер-министром. И в конце концов в 1874-м победил на выборах главнейшего своего соперника Уильяма Юарта Гладстона – то была первая победа консерваторов с 1841 года. Провел через парламент кучу социальных реформ, в том числе и связанных с профсоюзами, занял четыре миллиона фунтов стерлингов, чтобы купить для королевы Виктории Суэцкий канал, – королева была от него без ума, особенно после того, как он наделил ее новым официальным титулом: «императрица Индии». В 1878 году вернулся с Берлинского конгресса, провозгласив «почетный мир», – почти как Чемберлен после Мюнхена, впрочем, Чемберлена ты в этой книге, боюсь, не найдешь – в 1876-м стал первым графом Биконсфилдом, отвергнув перед тем звание герцога, умер в 1881-м, после того как в 1880-м его выставили из правительства. Девятнадцатого апреля, вот когда он умер, за восемь лет и один день до рождения Адольфа Гитлера, о котором ты также никогда не слышал. Его последователи именуют себя «Лигой подснежника» и по сей день выступают за «консерватизм единой нации». Жена звала его Диззи, то есть, сам понимаешь, Головокружительный, и славилась своей преданностью, отсутствием такта и общим умением ставить себя в нелепое положение. Однажды она ехала с ним в карете к Парламенту, пальцы ей с самого начала поездки защемило дверцей, однако она вытерпела жуткую боль, не сказав мужу ни слова, потому что не хотела отвлекать его от подготовки к важной речи. В другой раз она гуляла по парку с парой викторианских дам, которые, краснея, лепетали нечто о богатой оснастке голой мужской статуи. «Да ну, ерунда, – сказала она, – видели бы вы моего Диззи, когда он принимает ванну». Свои последние годы Дизраэли называл «анекдотическими». Что еще ты хочешь узнать? Стив не отрывался от книги.
– Назови мне другие его романы.
– Ничего себе, а ты не много хочешь, а? Ну-с, первый назывался как-то вроде «Дориана Грея». Разумеется, не так, но похоже. «Вивьен Грей»? Так?
Был еще один, «Молодой герцог», а последний – «Эндимион», это я знаю точно. Написан в 1880-м. И я почти уверен, что существовал еще роман с женским именем в заглавии… Генриетта, по-моему. «Генриетта Темпест», так, примерно?
– На самом деле «Генриетта Темпл», – сказал, закрывая книгу, Стив. – Хорошо, историю ты знаешь. И что же?
– Вот ты мне и скажи, – ответил я. – Сходится это с тем, что тебе обо мне известно? Давай-ка я назову тебе всех американских президентов нашего столетия.
– Ну, тоже мне великое дело. Это любой десятилетний школьник может.
– А ты послушай, – сказал я. – Уильям Мак-кинли (убит в 1901-м), Тедди Рузвельт, Уильям Говард Тафт, Вудро Вильсон, Уоррен Г. Гардинг, Калвин Кулидж, Герберт К. Гувер, ФДР, ФДР, ФДР,[156] Гарри С. Трумэн, Дуайт Д. Эйзенхауэр, снова Эйзенхауэр, Джон Ф. Кеннеди (убит в 1963-м), Линдон Б. Джонсон, Ричард М. Никсон, снова Никсон (ушел в отставку в 1974-м), Джеральд Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган, снова Рейган, Джордж Буш и, наконец, леди и джентльмены, сорок второй президент этих самых Соединенных Штатов, Билл Клинтон из Литтл-Рок, штат Арканзас. Ну что, хорош списочек?
На лице Стива застыло недоумение:
– Я вроде как сбился посередке.
– Еще бы ты не сбился – после ФДР, верно?
– Верно. Потом пошли имена, которых я никогда не слышал. И ты сказал, что Никсон ушел в отставку?
– А, так о Никсоне ты слышал?
– Да брось ты, Майки, не дури.
– Ричард Милхаус Никсон, Хитрый Дикки. С позором ушел в отставку в семьдесят четвертом, чтобы избежать импичмента.
– К твоему сведению, с 1966-го по 1972-й Ричард Никсон трижды был президентом.
– Понятно. Однако Кеннеди, Картер, Буш, ЛБД,[157] Клинтон… их имена тебе что-нибудь говорят?
– Моего младшего брата зовут Клинтоном, но он точно ни хрена не президент.
– Вот! Ты понял? – Я снова закурил и принялся расхаживать по комнате. – Все, что ты знаешь, отличается от того, что знаю я. Как это возможно?
– А выговор у тебя уже не такой, как вчера. В некоторых отношениях ты стал другим человеком. Я вижу. Но, Майки, это же только твоя голова. Все дело в ней.
– О, то есть удар по черепушке наделил меня достойным ученого знанием европейской истории, так? Плюс подробными сведениями о президентах Америки, о которых ты ни разу не слышал, а я могу два часа проговорить о них перед детектором лжи, и ни одна стрелка его не шелохнется. Это удар, что ли, наполнил мою голову фильмами, песнями и историями, о которых тебе ничего не известно? Сыграй это снова, Сэм. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Она тебя любит, да, да, да. Быть может, в тебе и есть сила, юный Скайуокер, но ты пока не Джедай. Люблю запах напалма поутру. Истина где-то рядом. Аста ла виста, беби. Поправка двадцать два. Отмыть Белый дом добела не удастся. Жестяной барабан. В чем тут дело, утреннее тело? Список Шиндлера. Бонд, Джеймс Бонд. Я – тоже берлинец. Над пропастью во ржи. Подхвати меня лучом, Скотти. Я вернусь. Пой, если ты рад тому, что гей, пой, если так тебе жить веселей. Сапожник, портной, солдат, шпион. Никогда в области человеческих конфликтов такое большое количество людей не было в долгу перед столь малым количеством. Малый шаг для человека, гигантский скачок для человечества. «Отсюда и в вечность». Не беспокойся о херне, с тобой «Секс Пистолс». Мост через реку Квай. Марлен Дитрих. Что толку сидеть в дому, точно хмырь, киснуть в своей дыре? Мир – это мир, он похож на сортир, топай-ка в кабаре… Грязная дюжина. Он идет домой, он приходит к нам, он приходит к нам – футбол… Орлиное гнездо. Я курил ее, но не затягивался. Читайте по моим губам, никаких новых налогов. Скуби-дуби-ду, ты где, твою мать? Вот тебе, получи!
Я умолк, чтобы перевести дух; мои усилия, взвинченность и красный перец, соединившись, покрыли меня испариной. По лицу Стива проносились наперегонки восторг, изумление, веселье, озадаченность и страх. Изумление обскакало всех на половину дистанции, но и прочие нажимали что было сил.
– Признай же, Стив, перед тобой проблема, решить которую разговорами о шишках и амнезии не удастся. Я пришел из каких-то других мест. – Я поерошил мои короткие волосы, чтобы они пропускали побольше остужающего пот воздуха. – Не думай, что я не понимаю, как дико все это звучит. Видит бог, я достаточно насмотрелся кино, чтобы знать, как трудно путешественнику во времени уломать чужих людей выслушать его. Обычно все заканчивается тем, что они сдают его куда следует.
– Путешественнику во времени? – Стив в полном отчаянии зажмурился. – О господи, Майки, тебе и впрямь нужна помощь. Не может же быть…
– Я не то хотел сказать.
– Позволь, я позвоню доку Бэллинджеру, – взмолился он. – Майки, я не знаю, в чем дело, но… ты мне небезразличен, я имею в виду, мне не безразлично то, что с тобой происходит. Я не хочу, чтобы ты помешался.
– Я понимаю, о чем ты, Стив, но, пожалуйста, просто выслушай меня, и все. Я не путешествовал во времени. То есть не в точном смысле этих слов. Дело, скорее, в том, что время… время путешествовало во мне. Нет, тоже неверно. Выслушай меня, хорошо? Просто выслушай. Я расскажу тебе историю. Считай, что это просто такой замысел, сюжет для фильма, что-то похожее, идет? Преклони, как говорится, ухо… без предубеждения. Выслушай без предубеждения. Перебивая меня, только если что-то покажется тебе непонятным. А когда выслушаешь до конца, решишь, как тебе поступить. Идет?
– Да, наверное.
– Хорошо, – сказал я. – Представь себе человека. Молодого. Англичанина. Примерно моих лет. Он проводит исследования, собираясь писать диссертацию по истории. В Англии, в университетском городке. Назовем его Кембриджем…
Проходит время. На западе медленно опускается солнце. Разного рода звуки проникают в комнату. Удары баскетбольного мяча о полы коридора. Скрип скользящих кроссовок. Музыка «кантри», которую кто-то слушает наверху. Хлопки дверей. Выкрики. Шлепки полотенец по телам. Плохо настроенная гитара по другую сторону коридора. Далекие колокола отбивают незаметно проносящиеся часы.
– …Пиццу, немного колы и совершенно отвратные пончики с джемом и вернулись в спальный корпус, в Генри-Холл. И тогда он решил рассказать своему новому другу, Стиву, все, что с ним произошло, рассказать правду, всю правду и ничего, кроме правды, и да поможет ему Бог. Конец.
Я остановился у письменного стола, потягиваясь. Снаружи опустилась темнота, в Генри-Холле воцарилось безмолвие.
Стив сидел на полу. Единственное движение, которое он себе время от времени позволял, состояло в том, чтобы наклонить сигарету и сунуть ее кончик в банку из-под «коки», которая к этому времени до того забилась окурками и табачным отстоем, что давно уже перестала отвечать шипением на каждую новую порцию горячего пепла.
– Чего я не понимаю, – сказал он наконец, – так это того, как получилось – если все, что ты рассказал, правда, – как вышло, что ты сохранил память о случившемся?
– Вот именно! – ответил я. – Я тоже этого уразуметь не могу! Посуди сам, если мое тело перенеслось сюда, каким же образом сознание-то все еще остается частью прежнего мира?
– Я думаю, – медленно произнес Стив, – думаю, если этот старичок, Цуккерман, создал искусственную квантовую сингулярность и тебя затянуло в горизонт событий, тогда, может быть… не знаю… – он беспомощно пожал плечами. – Черт, Майки, все, что ты рассказал, лишено для меня всякого смысла.
– Но ты веришь мне? Ведь веришь же, так? Он развел руки в стороны:
– Лучшего объяснения тому, как ты себя ведешь, я придумать не могу. Но ведь в теории такое могло происходить постоянно, ты это понимаешь? Может быть, и происходило уже множество раз. Мы этого знать не можем. Не исключено, что существуют тысячи двадцатых столетий. Миллион. И каждое завершается по-своему. Ты просто создал еще одно, собственное, и застрял в нем.
– Так-то оно так, – ответил я. – Но только я с присущей мне самонадеянностью полагал, будто создам кое-что получше. Думал, что, если Гитлер не появится на свет, у нашего века будет насчитываться меньше поводов для стыда. Наверное, мне следовало быть поумнее. Обстановка в Европе какой была, такой и осталась. В Германии по-прежнему сохранился вакуум, который нужно было чем-то заполнить. Пятьдесят лет готовых к употреблению антисемитизма с национализмом так никуда и не делись. Никуда не делись Версальский договор, биржевой крах, Великая депрессия. Но, во всяком случае, одно…
– Что?
– Да этот самый Рудольф Глодер, их фюрер. Я о том, что он-то, по крайней мере, оказался поприличнее Гитлера. Судя по тому, что я прочел о нем в той книге, он все-таки походил на здравомыслящего человека. Не было никаких лагерей смерти, «Циклона-Б», холокоста, вскипающей мономании, геноцида.
Стив, разминая затекшие ноги, медленно поднялся с пола.
– Ах, Майки, – печально произнес он. – Ах, Майки, ты не знаешь, о чем говоришь.
Я уставился на него:
– Что ты хочешь сказать?
– Этот твой Гитлер, чем он кончил?
– Самоубийством – когда русские подступили к Берлину с одной стороны, а американцы и англичане с другой. Застрелился, а тело его облили бензином и сожгли в саду Рейхсканцелярии. 30 апреля 1945-го.
– Думаю, – сказал, подходя к компьютеру, Стив, – тебе, пожалуй, пора заглянуть в кое-какие из картов.
Он выбрал из стопки, взятой нами в библиотеке, один – прямоугольную коробочку дюйма примерно три на четыре и в полдюйма толщиной, – сдвинул ее крышку и вытащил еще меньший прямоугольник черного пластика.
– Почему тебе просто не рассказать мне то, что я, по-твоему, должен знать?
– Я, в отличие от тебя, – ответил Стив, вставляя черный прямоугольник в щель под монитором, – не ученый-историк.
– Так это что, некое подобие видео? Или оно похоже на компакт-диск?
– Ни на что оно не похоже, – ответил Стив. – Это карт. Просто карт.
Я беспомощно уставился на стол:
– А где клавиатура? Стив покачал головой.
– Черт, Майки, по-твоему, это что – пианино долбаное? – Стив щелкнул переключателем монитора, и экран окрасился в оранжевый и черный цвета. – С начала будешь смотреть?
Он бросил мне коробку от карта. Я взглянул на название, отпечатанное жирными буквами немецкой готики поверх пламенеющей свастики.
Падение Европы
– Ах, дерьмо, – сказал я, ощущая, как у меня сводит от страха живот. – Да. С начала.
Стив приложил палец к экрану, появилось меню, синие буквы в больших черных квадратах. Из компьютера донеслось тихое жужжание, и почти сразу в динамиках, стоявших в углах комнаты, грянули оркестровые фанфары. Стив сдвинул вперед регулятор, музыка стала потише. Впрочем, кто-то уже колотил в стену, требуя, чтобы мы увернули распроэтакий звук.
Стив вручил мне что-то вроде наушников, подтянул мою руку к движку громкости.
– Дональдсон и Уэбб. Серия «Исто-ория ми-ира!», – провозгласил голос – тоном, каким объявляют на ринге титулы боксеров-тяжеловесов. – «Падение Европы».
Меню погасло, на экране горел набранный тем же готическим шрифтом заголовок.
Я опустился в кресло перед монитором.
Фильм, а это был фильм – правда, изображением можно было управлять, тыча пальцем в экран или в расположенные сбоку от экрана квадратики, позволявшие получать дополнительные сведения, – показался мне адресованным скорее школьнику, чем старшекурснику «Лиги Плюща»; впрочем, мне большего и не требовалось.
– Держи, – сказал Стив. – Приложение.
Пластмассовый корпус карта вмещал еще и глянцевый буклетик, в точности как коробочки с компакт-дисками. Стив вытащил его, отдал мне, и я, пока смотрел фильм, время от времени заглядывал в текст.
Дональдсон и Уэбб. Образовательные медиакартриджи
Серия 3.
История мира
Часть V. Падение Европы
Справочный указатель
Трек 1
Май 1932 Нацистская партия проходит в рейхстаг. Переговоры с Британией, Францией и Америкой относительно пересмотра условий Версальского договора. Пакт со Сталиным.
Трек 2
1933 – 34 Выпуск автомобиля «Дойчваген» с ротационным двигателем. Разработка миниатюрных электровакуумных ламп производит переворот в бурно развивающейся электронной промышленности Германии.
Трек 3
1935 – 36 Эдинбургский договор устанавливает взаимные торговые соглашения между Британской империей и Новым Рейхом. Лицензирование немецких технологических разработок в обмен на британские каучуковые концессии и использование восточных торговых путей. Президент Рузвельт и король Георг V присутствуют на Олимпийских играх в Берлине.
Трек 4
1937 Вводится всегерманская схема социального обеспечения и государственного страхования. Глодер получает Нобелевскую премию мира. Произносит в Лиге Наций речь «Современное государство».
Трек 5
1938, ч. 1 Четвертый съезд Нацистской партии: всеобщее потрясение, вызванное заявлением Глодера о том, что в Геттингенском институте создано оружие, использующее силу укрощенного атома. Германия бойкотирует Парижскую конференцию. Взрывы атомных бомб разрушают Москву и Ленинград, уничтожив Сталина и всех членов Политбюро. Немецкое вторжение в Советский Союз. Аннексия Польши, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Греции, Турции и Балтийских государств.
Трек 6
1938, ч. 2 Капитуляция стран Скандинавии, Бенилюкса, Франции и Соединенного Королевства. На первом съезде Великого Германского Рейха присутствуют король Великобритании Эдуард VIII, маршал Петен, Бенито Муссолини, генералиссимус Франко и другие главы государств. Договор об условиях сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Германия выступает посредником при заключении соглашения о разделе между Америкой и императорской Японией контроля над Тихим океаном. Британские владения в Индии, Австралии и Африке, по существу, переходят под контроль Германии. Канаде разрешается сохранить нейтралитет.
Трек 7
1939 Всех евреев принуждают покинуть, под наблюдением Великого Германского Рейха, страны их проживания и эмигрировать в новое Свободное Еврейское государство, созданное на территории, выделенной совместно Черногорией и Герцеговиной и управляемой рейхсминистром Гейдрихом. Протесты Америки игнорируются. Подавляется восстание в Британии, казнены около пяти тысяч человек, включая ведущих политиков и брата британского короля герцога Йоркского.
Трек 8
1940 – 41 Соединенные Штаты объявляют о создании собственной атомной бомбы. Состояние холодной войны между Великой Германией и Америкой. Все дипломатические контакты прерываются.
Трек 9
1942 Слухи о жестоком обращении с гражданами балканского Свободного Еврейского государства и их массовых убийствах приводят Америку на грань атомной войны с Великой Германией. Однако сведения о новых разработках в немецкой ракетной технике и электронной телеметрии вынуждают правительство Соединенных Штатов отступить. Жестоко подавляется восстание в России.
Трек 10
1943 По всей Новой Европе вводится единая система образования. Немецкий становится основным языком всех европейцев. Берлинское правительство узнает о тайной поддержке Америкой движения Сопротивления в Португалии, что порождает новую угрозу войны между Соединенными Штатами и Германией.
Трек 11
Благодарности. Авторские права. Примечания к курсу. Рекомендуемое чтение.
Как сказал мне впоследствии Стив, я просмотрел весь карт, разинув рот. Ему показалось, будто я ни разу не переменил позу, не шевельнул руками, не двинул ногами, не опустил плеч. По его словам, я словно находился в состоянии, близком к каталепсии. О том, что я еще жив и пребываю в сознании, свидетельствовали только мои глаза, перебегавшие с экрана на справочный указатель, который я держал в руках, и обратно на экран.
Когда все закончилось, Стив склонился над компьютером, щелкнул выключателем и положил ладонь мне на плечо. Карт выполз из компьютера, я смотрел в серую пустоту экрана.
– О господи, – произнес, а вернее, проскулил я. – Что я наделал? Что наделал?
– Эй, брось, – сказал, массируя мне плечи, Стив. – Это уже история. Все это.
– Стив, а что стало с евреями? Еврейское Свободное государство, оно еще существует?
– Послушай, все это происходило много лет назад. Теперь у Америки с Европой довольно приличные отношения. В Европе даже проводят свободные выборы. Ну, более-менее свободные.
– Ты не ответил на мой вопрос. Евреи, что с ними?
– Их больше нет. Во всяком случае, в Европе.
Внезапный громкий стук в дверь заставил Стива отдернуть руки от моих плеч и отпрыгнуть на середину комнаты. Я приподнял брови, и Стив покачал в ответ головой, недоумевая не меньше моего, кто бы, черт возьми, мог заявиться сюда в час ночи.
Стук повторился, на сей раз громче.
– Войдите! – крикнул я.
Вошли двое мужчин. Оба – в клетчатых рубашках с короткими рукавами, которые я уже видел днем, когда сидел со Стивом в «Алхимике и Барристере», а эти двое пререкались за соседним столиком над картами.
История естествознания
В тихом омуте
– Найдите мне карту этой местности, – попросил Кремер. – Геологическую карту. Новейшую.
Бауэр нацарапал несколько слов на бланке запроса и уложил его в маленькую латунную торпеду. Направляясь к стене, он спросил у Кремера, надолго ли тот собирается задержаться здесь нынче вечером.
Сгорбившийся над микроскопом Кремер ничего не ответил.
Бауэр вставил торпедку в трубу пневматической почты, плотно закрыл заглушку, послушал, как торпедка всасывается в систему трубопроводов и, погромыхивая, уходит по ней на первый этаж, в машинописное бюро. Взглянул на часы: тридцать четыре минуты шестого. Гартман, глава Отдела документации, уверял, будто любой из имеющихся в университете документов доставляется по запросу за пятнадцать минут. Он пообещал купить Бауэру целый литр светлого берлинского пива, если этот срок, которым Гартман так бахвалился, будет превышен хоть на секунду. Что ж, посмотрим, – в такой знойный августовский день большая кружка пива, а может, и стопочка малиновой настойки придутся очень кстати.
– Момент, Руфь, – сказал Бауэр, жестом подзывая лаборантку. – Будьте добры, позвоните моей жене и скажите, что я сегодня вечером опять задержусь допоздна.
Руфь кивнула и с чопорным видом направилась к телефону. Она не любила, когда с ней обращались как с секретаршей.
Бауэр возвратился к своему концу рабочего стола и принялся с неторопливой безнадежностью перебирать бумаги. Кремер, оторвавшись от микроскопа, щелкнул пальцами.
– Ну? Так где же она? – спросил он.
– Карта? Боже милостивый, Иоганн, дайте им время. Вы же попросили меня затребовать ее всего минуту назад.
– Как? Правда? Да, простите. – Кремер улыбнулся ему через стол, словно кающийся школьник. – Все же хорошо бы, они поторопились.
– Обнаружили что-нибудь?
Кремер, закрыв глаза, устало пощипал переносицу.
– Нет. Ничего.
– Уровни цинка и натрия проверили?
– Да, но они ничего не дают. Несколько выше среднего, однако ниже, чем здесь, у нас. Нам нужно искать нечто более серьезное, гораздо более серьезное.
– А что со следами метилоранжа?
– Это наверняка загрязнение. Внесенное, полагаю, врачом, с которого все и началось. Как его звали?
– Шенк. Хорст Шенк.
– Да, верно. Все это полное безумие, Дитрих. Если бы я не видел, как она действует на наших мышей, то решил бы, что нас разыгрывают.
Кремер вздохнул и снова приник к микроскопу.
– Доктор Бауэр? – Руфь протягивала ему телефонную трубку с таким выражением, точно та была заражена сибирской язвой. – Ваша жена просит вас подойти, пожелать мальчику спокойной ночи.
Взяв трубку, Бауэр несколько мгновений любовно и радостно вслушивался в быстрое дыхание сына.
– Акси? – наконец спросил он.
– Папа?
– Ты был сегодня хорошим мальчиком?
– Папа!
– Утром увидимся.
– Молоко.
– Ты сказал «молоко»? Хочешь молока?
– Молоко.
– Молока тебе даст мутти. Ты же понимаешь, по телефону я тебе дать молока не могу. Попроси молока у мутти.
Снова быстрое дыхание, затем долгое безмолвие.
– Акси? Ты здесь?
– Лиса.
– Лиса?
– Лиса, лиса, лиса, лиса.
Бауэр услышал стук брошенной трубки. После еще одной паузы в ухе его зазвучал голос Марты:
– Привет, милый. Мы видели сегодня лису. В парке. Теперь это его любимый зверек.
– А. Тогда понятно.
– По-моему, у него опять разболелось ухо. Он говорит «гадкое ухо» и похлопывает ладошкой по виску.
– Ничего серьезного, уверен. Завтра утром посмотрю.
– Ты до которого часа задержишься? Твоя евреечка-студентка мне ничего не сказала.
– Прости, милая. То, над чем я работаю. Это очень важно. И срочно.
– Я понимаю. Правда. Но ты постарайся вечером поесть, хорошо?
– Конечно. Ты же знаешь, нас здесь очень хорошо обеспечивают.
– Знаю. Любимцы Фюрера.
– До свидания, милая.
Бауэр положил трубку. Руфь неловко стояла посреди лаборатории, старательно вглядываясь в какой-то листок бумаги и всем своим видом показывая, что к разговору она не прислушивалась.
– Думаю, вы можете спокойно отправляться домой, фрейлейн Голдман. До конца дня мы с профессором Кремером вполне обойдемся без вас.
– Но я с большим удовольствием останусь, сударь.
– Нет-нет. Прошу вас. Абсолютно никакой необходимости.
Выходя, Руфь едва не столкнулась с запыхавшимся посыльным из Отдела документации. Взгляд на часы – и Бауэр понял, что этим вечером пиво ему снова придется покупать на собственные деньги.
– Ничего, – с отвращением промолвил Кремер. – Попросту ничего. В топографическом отношении это самая скучная, в геологическом – самая безликая, а в минералогическом – самая заурядная местность на всем белом свете.
– И даже не очень красивая, – согласился Бауэр. – Во всяком случае, для Австрии.
– Так что же происходит? Что, черт нас возьми совсем, происходит? – Кремер пристукнул чубуком своей трубки по карте. – Ведь это просто-напросто лишено смысла. Начисто.
– Быть может… – неуверенно произнес Бауэр. – Быть может, мы проглядели что-то очевидное. Вы всегда учили меня, что каждый сантиметр, на который мы удаляемся от ошибочного исходного принципа, уводит нас от истины на целый километр. Быть может, мы движемся в совершенно неверном направлении.
Кремер оторвал взгляд от карты:
– Объясните.
– Мы отчаянно ищем причину явления, которого не понимаем. Возможно, нам следовало бы заняться самим явлением.
Кремер неотрывно смотрел на него.
– Возможно, – медленно и неохотно растянув это слово, произнес он. – Но, Дитрих, у нас всего-навсего тридцать сантилитров. Ставки так высоки, Берлин давит на нас с такой силой. Мы не можем позволить себе роскошь зайти в тупик.
– Да ведь я об этом и говорю, Иоганн. Мы зашли в тупик. Давайте вернемся назад. В отправную точку.
Бауэр протянул руку к полке над рабочим столом и снял с нее папку, помеченную словом «Браунау».
История Америки
«Геттисбергская речь»
– Итак, Майк, скажите, что вам известно о Браунау.
Голос, произнесший эту просьбу, звучал мягко, заинтересованно и настоятельно, как если б его обладатель уговаривал меня продемонстрировать фокус, который поразит его близкого друга.
А я все гадал, что случилось со Стивом. Распорядительность и расторопность двух незваных гостей – они назвались Хаббардом и Брауном – не оставили мне времени на вопросы и жалобы. Не буду ли я так добр пройти с ними в машину? Она ждет у самого дома. Есть несколько вопросов, которые я могу помочь им разрешить. Это принесло бы большую пользу. Брать с собой ничего не надо, ну и волноваться, разумеется, тоже.
Меня усадили между Хаббардом и Брауном на заднее сиденье первого из двух длинных черных седанов, стоявших у двери Генри-Холла, и только когда машина тронулась, я сообразил, что Стива нигде не видно. Я повернулся, чтобы высмотреть в заднее окно – не едет ли он во втором автомобиле, однако Браун мягко, но твердо, совсем как школьный учитель эдвардианских времен, развернул мою голову лицом вперед.
Минут через двадцать машина свернула с шоссе на подъездную дорожку, ведущую к большому дому. Пока мы вылезали из нее, я успел разглядеть деревянную обшивку сложенного из клинкерного кирпича фронтона – он смахивал на задний план картины «Американская готика». Воздух был тих, пропитан ароматом сосен.
В доме меня провели в столовую и усадили за большой, поблескивающий, кленового дерева, стол, в самой середине длинной его стороны. Хаббард уселся напротив, а Браун встал у торца стола и начал возиться с кофейником, у которого, похоже, заклинило крышку.
– Вот же треклятая штука, – сказал он, в отчаянии пристукнув по кофейнику кулаком.
– Чарльз Уиннингер! – воскликнул я и тотчас пожалел, что не попридержал язык.
Хаббард заинтересованно склонился ко мне:
– Простите?
– Да так, пустяки, – сказал я. – Просто подумал вслух.
– Нет-нет. Прошу вас… – и Хаббард приглашающе развел ладони.
– Я вспомнил «Дестри снова в седле». Чарльз Уиннингер играет там человека по имени Уош, и тот все время повторяет «треклятое» то, «треклятое» это. Никогда прежде не слышал, чтобы кто-нибудь употреблял это словечко. Вот и все.
Хаббард глянул на Брауна, тот пожал плечами и покачал головой.
– Это кино, – пояснил я. – Во всяком случае, было таким когда-то. Но вы о нем, скорее всего, ни разу не слышали.
Хаббард записал в блокнот два слова: «Дестри» и «Уинингер», сопроводив их большими восклицательными знаками. Я подавил искушение поправить написание второго имени и уперся взглядом в сияющий, словно новехонький, стол. Было в нем, впрочем, нечто, подсказывавшее мне, что стол далеко не нов, просто им очень, очень редко пользовались.
– Однако вы так и не ответили на первый мой вопрос, не правда ли, Майк? Браунау. Скажите, что вам известно о Браунау.
– Почему вы решили, что я о нем вообще что-то знаю?
– А вы не знаете?
– Никогда об этом месте не слышал.
– Что же, уже начало. Вам известно, что это некое место. Не человек и не оттенок красного цвета. Начало неплохое.
Блин! В одну лужу я уже сел, не так ли?
– Да, может, и слышал где-то. В школе, например, на уроке географии… – И я неуклюже попытался придать этому предложению вид более американский: – Ну, в общем, сдается, я слышал его на географии, усекаете? Та к мне сдается.
Я внутренне поежился – с последней фразой получился небольшой перебор.
Хаббард, похоже, ничего странного не заметил, он просто продолжал мягко прощупывать меня:
– Вот как? То есть вы помните, где находится это Браунау?
– В Германии?
– Хорошо. У вас хорошо получается, Майк.
– Эй! Вам кофе как – черный или со сливками?
– Со сливками, пожалуйста, – ответил я, в первый раз оторвав взгляд от стола. Брауну все-таки удалось сладить с крышкой кофейника, теперь он разливал по крошечным чашкам густой черный кофе.
Наступило неловкое молчание, завершившееся вместе с неизбежной при раздаче чайных ложек и сахара сумятицей.
– А где Стив? – спросил я, оглядывая комнату. – Тоже здесь?
– Неподалеку, – ответил Хаббард, пробуя кофе.
– Я могу его увидеть?
– Отличный кофе, Дон.
Браун удовлетворенно кивнул, – похоже, он уже привык к комплиментам на этот счет.
– Я не хотел бы продолжать наш разговор, пока не увижу его. И не узнаю, в чем суть дела.
– Суть дела в том, Майк, что между вами, мной и мистером Брауном происходит небольшое совещание. Никаких поводов для беспокойства нет. Так вы сказали, что, по вашему мнению, Браунау находится в Германии?
– Ну, это звучит как немецкое слово, разве нет?
– Тогда давайте займемся другим немецким словом – Гитлер, хорошо? Что оно для вас означает? Гитлер?
Возможно, зрачки мои расширились, возможно, сузились. Возможно, у меня на миг перехватило дыхание. Возможно, изменился цвет лица. Я точно знаю, что попытался принять небрежный тон, и знаю, что попытка моя провалилась.
– Гитлер? – сказал я. – А где это?
Хаббард глянул на Брауна, тот кивнул и вытащил из нагрудного кармана хромированную коробочку. Аккуратно поместив ее на столе между мной и Хаббардом, Браун вернулся на свое место и застыл у торца стола, сцепив за спиной руки, – точь-в-точь служка на важной церемонии.
Я уставился на коробочку, словно ожидая, что она заговорит. И в общем-то оказался прав, потому что Хаббард нажал кнопку, и коробочка именно это и сделала.
Из нее доносился и всякий шум – шуршание целлофана, звяканье стекла, шипение спички, шелест далекого движения и прочие посторонние звуки, привычные на открытом месте, – однако, главным образом, коробочка говорила. И вот что она сказала – двумя голосами. Моим и Стива.
Я. Я знаю, ты решишь, будто у меня не все дома, однако я сейчас до того счастлив, что дальше и некуда.
СТИВ. Да? Это отчего же?
Я. Если бы я тебе рассказал, ты бы не понял.
СТИВ. А ты попробуй.
Я. Я счастлив оттого, что, когда я недавно спросил тебя про Адольфа Гитлера, ты ответил, что сроду о нем не слышал.
СТИВ. И это сделало тебя счастливым?
Я. Ты и понятия не имеешь, что это значит. Ты никогда не слышал таких имен, как Гитлер, или Шикльгрубер, или Пёльцль. Никогда не слышал о Браунау, никогда…
СТИВ. Браунау?
Я. Браунауна-Инне, Верхняя Австрия. Тебе это название ни о чем не говорит, а меня оно делает счастливейшим из живущих на свете людей.
СТИВ. Вот это круто.
Я. Ты никогда не слышал об Освенциме, он же Аушвиц, или Дахау. Никогда не слышал о Нацистской партии, никогда…
Хаббард снова щелкнул выключателем.
– Итак, кое-чего мы все же достигли. Браунау находится не в Германии, однако в том же регионе. В Австрии – и даже в Верхней Австрии. Это несколько сужает район наших поисков, вам так не кажется?
– Если вы все это время знали, что мне известно, где находится Браунау, – сказал я, – зачем было дурить мне голову?
– Ну-с, я, пожалуй, мог бы задать тот же вопрос немного иначе, Майки. Если вы все это время знали, где находится Браунау, зачем было дурить голову нам?
– Получается, что у нас пат, так?
Хаббард взглянул мне в глаза. Я взглянул в глаза Хаббарду, пытаясь различить в этих спокойных шоколадных омутах мотивы и намерения.
– А тут еще и Гитлер, – продолжал он. – Вам известно, что Гитлер – это никакое не название. Что это имя человека. «Адольф Гитлер», так вы сказали. И кто же он такой, Адольф Гитлер?
Я покачал головой.
– И как насчет Аушвица? Что это? Город, человек, сорт пива?
Я пожал плечами:
– Лучше вы сами скажите.
Глаза Хаббарда стали намного печальнее.
– Это плохой ответ, Майки, – сказал он. – Ужасный. Мы ждем от вас помощи. Ждем рассказа обо всем, что вам известно. В этом и состоит суть дела. А не в том, чтобы вы упражнялись в остроумии.
– А узнать мы хотим, – раздался куда более резкий голос Брауна, – всего лишь кто вы, черт побери, на самом деле такой.
Сердце мое начало гулко колотиться.
– Но вы же знаете, кто я такой. Я Майкл Янг. Вам это хорошо известно.
– Известно ли, Майки? – В голосе Хаббарда звучали теперь интонации философа, размышляющего над сутью вещей. – Действительно ли известно? Мы знаем, что вы обладаете внешностью Майкла Янга, однако знаем, как дважды два, что разговариваете вы отнюдь не как он. Мы знаем, как дважды два, что и ведете вы себя совершенно иначе. Так что же нам известно-то, а? Известно на самом деле?
– Почему бы вам не взять у меня отпечатки пальцев? Это бы вас успокоило.
– Отпечатки мы уже взяли, – сообщил Хаббард.
– И?
– Ответ вы наверняка знаете и сами, – мягко сказал Хаббард, – иначе не стали бы заводить об этом разговор, не правда ли?
– Так в чем тогда дело? Вы думаете, что мне пересадили на пальцы чужую кожу? Что я некая разновидность клона? Что именно?
Хаббард не ответил, он лишь раскрыл маленькую записную книжку и внимательно просмотрел несколько ее страниц.
– Как вы поладили с профессором Тейлором? – спросил он.
– Поладил? Не понимаю, о чем вы. Он, как и вы, задал мне кучу вопросов. Сказал, что тревожиться не о чем. Что мне придется пройти кое-какие обследования.
– Как вы полагаете, чем занимается здесь профессор Тейлор?
– Простите?
– Англичанин в Америке, это ведь довольно странно. Что, по-вашему, он здесь делает?
Вопрос заставил меня задуматься.
– Невозвращенец? – предположил я. – Европейский диссидент, что-то в этом роде?
– Невозвращенец, – попробовал слово на вкус Хаббард. – А как насчет вас? Вы тоже европейский невозвращенец?
– Я не европеец.
– Вы говорите, как европеец, Майки. И родители у вас европейцы.
Я в отчаянии свесил голову:
– Так кто я, по-вашему? Шпион?
– Это вы нам скажите.
Я изумленно уставился на обоих:
– Вы серьезно? Я хочу сказать, что же это за шпион такой – тратит массу усилий, чтобы научиться выдавать себя за самого что ни на есть американского студента, даже отпечатками его пальцев обзаводится, а после начинает разгуливать повсюду, громко изъясняясь на английский манер?
– Может быть, это такой шпион, который не знает, что он шпион, – сказал Браун.
– А это что должно значить?
– Это не значит ничего, – сказал Хаббард, бросив на Брауна неодобрительный взгляд.
– Послушайте, – сказал я, – если вы разговаривали со Стивом, разговаривали с профессором Тейлором, с доктором Бэллинджером, да с кем угодно, вы знаете, что прошлой ночью я ударился головой о стену и с тех пор не в себе. Только и всего. Небольшая потеря памяти, что-то непонятное с речью. Это чудно, но и не более того. Чудно.
– Тогда откуда же, Майки, – сказал Хаббард, – откуда взялись эти имена – Гитлер, Аушвиц, Пёльцль и Браунауна-Инне?
– Наверное, я их где-то услышал. Сам того не осознавая. И, по непонятной причине, удар по голове вытащил их на поверхность сознания. Я хочу сказать, чем уж они так страшно важны? Они же ничего не значат, верно? В них нет никакого смысла. Никто их, похоже, и не слыхал никогда.
– Это верно, Майки. Вне этой комнаты, во всех Соединенных Штатах Америки наберется, я думаю, не больше двенадцати человек, хотя бы раз в жизни слышавших эти имена. Я и сам не слышал их до того, как вы назвали их Стиву нынче днем, во дворике уютного бара на Уизерспун-стрит. Но, знаете, когда мы проиграли запись вашего с ним разговора кое-кому из наших друзей в Вашингтоне, те едва из штанов не повыскакивали. Вы можете в это поверить? Едва не повыскакивали из своих стодолларовых штанов.
– Но почему? – Я в недоумении взъерошил пальцами волосы. – Я не понимаю, почему эти имена могут хоть что-нибудь значить.
Хаббард навострил уши – на подъездной дорожке послышался рокот автомобильного двигателя.
– Извините, Майк. Я скоро вернусь, – сказал он, вставая.
Хаббард кивнул Брауну, вышел и закрыл за собой дверь, а несколько мгновений спустя я услышал, как отворилась входная дверь дома и из вестибюля донесся глухой бубнеж.
Оставшись наедине с Брауном, к разговорам, похоже, не очень склонным, я попытался сообразить, что же здесь происходит.
Профессор Тейлор. Все это должно быть как-то связано с ним. Если Европа и Соединенные Штаты находятся в состоянии «холодной войны», а судя по тому, что я здесь услышал, так оно, похоже, и есть, тогда Тейлор должен быть кем-то вроде проамериканского диссидента. Неким эквивалентом Солженицына или Гордиевского, сумевшим каким-то образом перебежать в Соединенные Штаты. Возможно, он время от времени подбрасывает кой-какие лакомые кусочки ЦРУ – вернее, организации, в которой состоят Хаббард и Браун. Может, Тейлор прослышал о странном старшекурснике, который принялся вдруг изъясняться на английский манер, а побеседовав с ним лично, счел его настолько подозрительным, что порекомендовал своим вашингтонским хозяевам приглядеться к Майклу Янгу.
Да, но как могло случиться, что их заинтересовало имя Гитлера? Я сцепил на затылке пальцы и ладонями сдавил голову, словно пытаясь заставить мозг заработать. Полная бессмыслица.
– Голова болит? – сочувственно поинтересовался Браун.
– Вроде того. – Я посмотрел на него. – Знаете, мигрень, которая начинается, когда вконец запутаешься.
– От вас требуется лишь одно – рассказать все, что вы знаете. А запутываться предоставьте нам… черт, это же наша работа.
– Занятно. – Меня удивило дружелюбие, прозвучавшее в его голосе. – А мне казалось, что вы здесь мистер Плохой.
– Прошу прощения?
– Ну, знаете, старинный метод допроса. Хороший коп и Плохой коп. Вот я и вбил себе в голову, что вы – Плохой.
Браун застенчиво улыбнулся.
– Экая чертовщина, сынок, – с карикатурным западным выговором произнес он. – Я вроде как надеялся, что мы оба ничего себе.
Дверь столовой отворилась, вошел Хаббард.
– Тут кое-кто приехал повидаться с вами, – сказал он и на шаг отступил от двери.
Средних лет женщина с мгновение простояла в дверном проеме, моргая от яркого света, а затем, раскинув руки, бросилась ко мне:
– Майки! Ох, Майки, милый!
У меня отвисла челюсть.
– Мама?
Она, клацая браслетами, приблизилась.
– Лапушка, мы просто заболели от беспокойства, едва обо всем услышали. Почему ты не позвонил?
Я обнял ее, мягкая, напудренная щека мамы прижалась к моей, я не стал разрывать нашего долгого объятия. Волосы ее были выкрашены в ярко-золотой цвет, аромат духов, густой, фруктовый, казался мне чужим, однако это точно была моя мать. Никаких вопросов. Я взглянул поверх ее плеча и увидел мужчину, медленно, прихрамывая, входившего в комнату.
– Господи, – прошептал я. – Отец, это ты? В последний раз я видел его, когда мне было десять. Он не был лысым, изнуренным болезнью, сутулым. Он был сильным, стройным, красивым – таким, каким умерший отец навсегда сохраняется в памяти ребенка.
Отец бросил на меня короткий взгляд.
– Здравствуй, сын, – сказал он и, повернувшись к Хаббарду, кивнул.
– Вы уверены, сэр? – спросил Хаббард. – Совершенно уверены?
– Вы полагаете, я могу не узнать собственного мальчика?
– Конечно, это Майк, – сказала, приглаживая мои волосы, мама. – Что случилось, лапа? Нам сказали, с тобой произошел несчастный случай. Почему ты не позвонил?
Говор их звучал, на мой слух, совершенно по-американски. Мне не хотелось, открыв рот, испугать их моим британским выговором. Я искал слова, которые могли бы прозвучать нейтрально. Слова, в которых было бы не слишком много «р» и «а».
– Голова, – шепотом сообщил я. – Ушибся.
– Ох, бедный мальчик! У врача был? Я мужественно кивнул.
– Мистер Хаббард, – говорил между тем отец. – Возможно, вы будете столь любезны, что объясните мне, почему вы решили, будто он может оказаться не моим сыном, и почему нас привезли среди ночи, на правительственной машине, в дом, один вид которого наводит меня на мысль, что здесь…
– Давайте присядем за стол и все обсудим, – сказал Хаббард, и мне померещилось, что в голосе его проступила почтительная нотка.
Мама ласково вглядывалась в мои глаза, продолжая гладить меня по голове – наверное, пыталась нащупать шишку.
– Хай, ма, – сказал я с наилучшим американским прононсом, на какой был способен.
«Ма» представлялось мне более подходящим, чем «мать», «мамочка» или «мама». Она улыбнулась, приложила к моим губам палец и повела меня к столу, словно престарелого инвалида.
Браун тем временем уже вернулся из примыкающей к столовой кухни, с очередным кофейником и круглым блюдом с печеньем.
Отец строго хмурился и с недоверием оглядывал комнату.
– Я полагаю, джентльмены, – произнес он, – что здесь достаточно подслушивающих устройств. Я хоть уже и не служу, однако из моего дела вы могли бы узнать, что в Вашингтоне у меня сохранились связи. В вашем, мистер Хаббард, вашингтонском департаменте. И я с радостью зафиксирую на ваших скрытых пленках мое неудовольствие и гнев, вызванные тем, как вы обращаетесь со мной и моей семьей. Что вы надеетесь получить от моего сына? Это целиком лежит за пределами моего понимания.
– Как раз к этому мы и хотели бы перейти, полковник Янг, – сказал, нервно облизнув губы, Хаббард.
Полковник Янг… Я снова вгляделся в отца. Мне казалось, что я различил в его речи нечто британское, не более чем намек, до самого конца сохранившийся у Кэри Гранта[158] и Рэя Милланда,[159] – подобие сочной протяжности, присутствующей и в интонациях аристократических уроженцев Новой Англии. Он выглядел больным, постаревшим, не думаю, что я узнал бы в нем человека с фотографий, среди которых вырос в гэмпширском доме мамы, или из любительского фильма, который она прокручивала на Рождество, когда тосковала особенно сильно.
– Прежде всего, – продолжал Хаббард, – я хотел бы спросить вас, сэр, и вас, мэм, говорят ли вам что-либо слова «Браунау», «Пёльцль», «Гитлер» и «Аушвиц»?
Отец на краткий миг поднял глаза к потолку.
– Совершенно ничего, – решительно произнес он. – Мэри?
Мама с извиняющимся видом покачала головой.
Хаббард предпринял еще одну попытку:
– Прошу вас, полковник, подумайте как следует. Возможно, когда вы еще жили в Англии? Может быть, вы слышали там эти имена? Или видели их написанными? Они пишутся вот так.
Он открыл записную книжку, протянул ее отцу, и тот внимательно вгляделся в ее страницу.
– Окончание «ау» нередко встречается в названиях городов Южной Германии и Австрии, – сказал отец, задумчиво, на манер Холмса, покивав. – Тальгау, Тургау, Пассау и так далее. Однако Браунау мне не знакомо. Гитлер решительно ни о чем не говорит. Как, боюсь, и Пёльцль. Аушвиц может относиться к Северо-Восточной Германии, к Польше даже. Мэри? – Он, минуя меня, пододвинул записную книжку к маме. Я отметил, что немецкие названия отец произносит безукоризненно.
Мама смотрела на написанные слова так, точно хотела, чтобы они хоть что-нибудь да значили, – ради меня.
– Простите, – сказала она. – Ни разу в жизни их не видела.
Хаббард взял со стола книжку, вздохнул.
– Вам, разумеется, известно, – произнес отец, – что когда в пятьдесят восьмом я попросил здесь убежища, то прошел доскональную проверку. На опросы ушло тогда больше полутора лет. С тех пор моя работа на американское правительство была отмечена благодарностями и наградами на самом высоком уровне. Надеюсь, моя лояльность сомнений у вас не вызывает?
– Нет, сэр, – с молящей интонацией ответил Хаббард. – Никаких, уверяю вас, никаких. Прошу вас, поверьте мне.
– Тогда, возможно, вы все же будете добры объяснить нам, в чем, собственно, дело?
– Майки, – сказал Хаббард. – Вы не могли бы оказать мне услугу?
– Какую?
– Совсем простую. Не могли бы вы процитировать «Геттисбергскую речь»?[160]
Я сглотнул:
– Простите?
– Ты спятил? – прошипел отец.
– «Геттисбергская речь», Майки, – не обращая на него внимания, повторил Хаббард. – Какими словами она начинается?
– Э-э…
«Геттисбергская речь»? Что-то такое насчет «восьми десятков и десяти лет» всплыло в моем сознании, и еще я вспомнил, что в ней содержится знаменитое «из народа, для народа и созданное народом», но это было и все, что я знал. Как соединяются эти куски, оставалось для меня полной загадкой. Меня угнетало пугающее чувство, что «Геттисбергская речь» – это одна из тех вещей, которые, предположительно, знает любой американец. Вроде текста «Звездного знамени» и значения слов «средний балл».[161]
– Ну же, лапушка, – подбодрила меня мама, – продекламируй ее, как декламировал всегда. У Майкла замечательный голос, – уведомила она всех присутствующих.
– У меня нелады с памятью… – хрипло произнес я. – Знаете, с тех пор, как…
– Это ничего, Майк, – сказал Хаббард. – Собственно говоря, если хотите, можете просто ее зачитать. Вон она висит на стене у меня за спиной. Видите?
И точно, над головой его висел забранный в светлую деревянную рамку длинный текст, отпечатанный на ноздреватом картоне, – первые слова «ВОСЕМЬ ДЕСЯТКОВ» были набраны декоративными черными буквами. Я понимал – Хаббарда интересует вовсе не то, помню я речь или не помню, но произношение, с которым я стану ее читать, и впечатление, которое оно произведет на моих родителей.
Ну и черт с ним, подумал я и приступил к чтению. Я декламировал речь без притворства, без каких-либо стараний воспроизвести американские гласные и модуляции. Даже на собственный мой слух, я, целый день не слышавший вокруг себя ничего, кроме американской речи, до ужаса походил на Хью Гранта, однако какого дьявола…
– «Восемьдесят семь лет тому назад наши отцы создали на этом континенте новую нацию, основанную в духе свободы и верную принципам, что все люди сотворены равными. Теперь мы вовлечены в великую гражданскую войну, которая докажет, сможет ли долго выдержать эта нация или любая другая нация, таким образом рожденная и преданная той же идее. Мы встретились на великом поле битвы этой войны. Мы пришли сюда для того, чтобы освятить часть этого поля как место последнего успокоения для тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы эта нация могла жить. Этим мы лишь достойным образом выполняем свой долг. Но мы не можем в полном значении ни открыть, ни освятить, ни почтить эту землю. Храбрые люди, живые и мертвые, которые сражались здесь, уже освятили ее, и не в нашей слабой власти что-нибудь добавить…»
– Хорошо, – сказал Хаббард. – Этого достаточно, Майк. Спасибо.
Он повернулся, чтобы взглянуть на маму, которая, округлив глаза, смотрела на меня, точно на привидение.
– Майк… милый! – вымолвила она, прижимая к губам ладонь. – Прочти как следует! Как раньше. Как на парадах Четвертого июля. Прочти как следует, лапа.
– Прости, мама, – сказал я. – Вот так я теперь звучу. Таков мой выговор. Таков я.
Отец тоже смотрел на меня во все глаза.
– Если ты так представляешь себя шутку, – произнес он наконец, – то позволь тебе сказать, что…
– Какие уж там шутки, сэр, – отозвался я. – Никаких шуток.
Слегка успокоившийся Хаббард щелкнул переключателем коробочки, и в комнате вновь зазвучал наш разговор в «Алхимике и Барристере».
Отец, слушая, хмурился все сильнее. Встревоженный, непонимающий взгляд мамы перебегал с него на меня и обратно.
– Гитлер, Пёльцль, Браунау… – Хаббард, выключив запись, медленно повторил три слова. – Вы сказали нам, полковник и миссис Янг, что эти слова ничего для вас не значат. Но, судя по разговору, который мы только что прослушали, они немало значат для вашего сына, вам так не кажется?
Отец указал пальцем на коробочку:
– Кому принадлежал второй голос?
– Студенту третьего курса Стиву Бернсу, специальность – история науки. У нас на него ничего нет, не считая подозрений в гомосексуализме.
– Гомосексуализме? – Глаза мамы округлились от ужаса. – Если все дело в этом, так позвольте уверить вас, мистер Хуберт…
– Хаббард, мэм.
– Как бы вас ни звали, позвольте вас уверить, что мой сын не гомосексуалист! Ни в малой мере.
– Разумеется, нет, миссис Янг. Поверьте, это вовсе не то, что мы думаем. Нас интересует сказанное вашим сыном. Гитлер, Пёльцль, Браунау…
– Вы то и дело повторяете эти слова, – резко произнес отец. – Что, черт возьми, в них такого уж важного? Разве не ясно, что мой сын болен? Ему нужен врачебный уход, а не… не эта инквизиция, детская чушь из романов плаща и кинжала.
– Вы по-прежнему совершенно уверены, что это ваш сын?
– Конечно, уверен! Сколько раз должен я повторять это?
– Несмотря на его выговор?
– Не будьте смешным. Мы же вам сказали. Да я узнал бы Майкла, даже если бы он обрился наголо, отрастил бороду и говорил лишь на суахили.
Хаббард поднял перед собой ладони.
– Да, но вы же понимаете, как раз поэтому все дело и представляется нам столь любопытным.
– Дело? Дело? У нас что, Лиссабонский инцидент? Мальчик ударился головой, лишился памяти и заговорил с чужим акцентом. Это повод для медицинского обследования, а не для параноидальных ночных допросов. Ладно, – отец начал подниматься, – если вам больше нечего сказать, мы хотели бы забрать Майкла домой.
Браун, прохаживавшийся за спиной Хаббарда взад-вперед, наклонился и прошептал тому на ухо несколько слов. Хаббард выслушал, прошептал в ответ короткий вопрос и кивнул. Что-то в этой мимической сцене уведомило меня, к некоторому моему удивлению, что главный-то у них, оказывается, Браун.
– Полковник Янг. Сэр, – сказал Хаббард. – Боюсь, это пока невозможно. Мне нужно, чтобы вы задержались еще и выслушали меня.
– Я считаю, что услышал вполне достаточно…
– Это не займет много времени, сэр. Быть может, миссис Янг согласится подождать немного в соседней комнате?
– Я останусь здесь! – порозовев от гнева, заявила мама.
– То, что я собираюсь сообщить, секретно, мэм. Боюсь, я не вправе позволить вам остаться.
– Хорошо, а как же Майкл?
– У нас есть основания считать, что ваш сын этой информацией уже располагает. Потому-то мы и собрались здесь сегодня вечером.
– Вы хотите сказать – сегодня утром! – ядовито откликнулась мама, после чего неохотно встала и направилась к двери.
На пороге она оглянулась. Отец успокаивающе кивнул ей, и мама, расправив плечи, покинула комнату. Когда за ней закрылась дверь, я услышал женский голос, учтиво интересующийся, не голодна ли она.
– Прошу нас простить, полковник Янг, сэр. Когда вы услышите то, что мы собираемся вам рассказать, я уверен, вы поймете необходимость подобной предосторожности.
– Да, да, – покивал отец.
– Хоть вы и оставили ваш прежний пост, сэр, вы, конечно, поймете меня, если я скажу «секретность первой степени». Вам эти слова знакомы?
– Сынок, вот здесь, – отец выпятил грудь и похлопал по ней, – скрыты такие секреты, от которых у вас, ребята, кишки бы горлом пошли.
– Нисколько в этом не сомневаюсь, сэр. – Хаббард повернулся ко мне, взгляд его был теперь отсутствующим, а сам он словно произносил заученное заклинание. – А вы, Майкл? Вы понимаете, что ничто из сказанного мной в этой комнате никогда не должно быть повторено за ее пределами?
Я кивнул и нервно вытер ладони о шорты.
– И готовы принести соответствующую клятву?
– Конечно.
Хаббард нагнулся, словно подбирая упавшую салфетку, впрочем, когда он выпрямился, в руках его оказалась маленькая черная Библия. Он мягко вручил ее мне.
Я взглянул на отца, мне нужен был кто-то, с кем можно было разделить комическую нелепость происходящего, однако вид у отца был до чрезвычайности серьезный.
– Пожалуйста, Майкл, возьмите книгу в правую руку.
Я взял. На обложке из черной пупырчатой кожи красовалась оттисненная золотом Печать президента Соединенных Штатов. Приподняв на полдюйма обложку, я увидел, что никакая это не Библия.
– Повторяйте за мной. Я, Майкл Янг…
– Я, Майкл Янг…
– Торжественно клянусь…
– Торжественно клянусь…
– На Конституции Соединенных Штатов Америки…
– На Конституции Соединенных Штатов Америки…
– Что буду крепко хранить в себе…
– Что буду крепко хранить в себе…
– Все доверенные мне сведения…
– Все доверенные мне сведения…
– Касающиеся безопасности моей страны…
– Касающиеся безопасности моей страны…
– И никогда, ни словом, ни делом и никакими иными способами не выдам…
– И никогда, ни словом, ни делом и никакими иными способами не выдам…
– Того, что откроют мне…
– Того, что откроют мне…
– Должностные лица правительства Соединенных Штатов…
– Должностные лица правительства Соединенных Штатов…
– И да поможет мне Бог.
– И да поможет мне Бог.
– Ладно. – Хаббард забрал у меня книгу. – Вы хорошо понимаете суть принесенной вами клятвы?
– Думаю, да.
– Если у нас появится повод считать, что вы пересказали кому бы то ни было из находящихся сейчас за пределами этой комнаты то, что вам предстоит услышать, вам могут предъявить обвинение в тяжком преступлении. Преступление это именуется государственной изменой, а максимальная кара за него – смерть.
– Да, я все хорошо понял, – сказал я.
– Что же, прекрасно. – Хаббард взглянул на Брауна: – Дон, наверное, дальше лучше говорить вам?
Браун, так ни разу и не присевший, кивнул и принялся разливать кофе, на блюдце каждой чашки он пристроил по печеньицу – большие кругляшки, покрытые шоколадной стружкой, вроде тех, какими заедали свое молоко веснушчатые, стриженные «ежиком» американские дети из фильмов пятидесятых годов.
– История, которую я собираюсь вам рассказать, – заговорил, обнося нас чашками, Браун, – началась давным-давно, в 1889-м, в австрийском городке Браунауна-Инне. Сейчас Браунау – скучный провинциальный городишко, скучным и провинциальным он был и в то время. В нем никогда и ничего не происходило. Жизнь тянулась себе и тянулась – рождения, браки, смерти, рождения, браки, смерти. Местные жители ходили по кругу – рынок, трактир, церковь, – ну и разумеется, судачили друг о друге.
Семейная история
Воды смерти
– Пересуды, – объявил Уиншип, пристукнув кофейной чашкой по столику, – вот и все, из чего состоит этот город. Огромный гипермарт слухов.
– Ну а ты чего ждал? – спросил Аксель, стирая салфеткой колледжа шоколадную пену с усов.
– Да ничего, и все же слухи слухам рознь. Я, разговаривая со студентом, мимоходом роняю слово и не успеваю опомниться, как декан факультета уже мечет громы и молнии, предрекая нам всем бюджетную погибель. Я вовсе не говорил, что Сорбонна нас обойдет. Я просто сказал, что Патрик Дюрок, скорее всего, будет первым.
– Ты и вправду так думаешь?
– Вообще говоря, это возможно, – ответил Уиншип. – А если честно, какая разница? Существует, знаешь ли, такая штука, как широкое научное сообщество.
Аксель негромко фыркнул:
– Ты что же, веришь в это? Действительно веришь?
– Ну, Берлину совершенно неважно, кто будет первым, так? У нас все-таки Европа, не Америка.
Однако бюджетное начальство, ох уж это мне бюджетное начальство. Можно подумать, будто на кону стоит судьба цивилизации.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что и в самом деле уверовал во внутреннее соревнование? – в пародийном ужасе осведомился Аксель.
– Ну да, тебе-то хорошо. Твоя работа настолько «важна», что тебе дают под нее любые деньги. Кстати, как она продвигается? Подобрался к чему-нибудь или, как я слышал, у вас там пока одни только пи-эр-квадраты по небесам разбросаны?
– Ты же знаешь, Джереми, я не могу говорить об этом, – мягко ответил Аксель.
– А какой смысл говорить вообще о чем-то? – Уиншип с трудом поднялся. – Ладно, пора на пашню. Ты не в лабораторию? Я бы с удовольствием проехался.
– Извини за неучтивость, но у меня сегодня мирный преподавательский день в колледже.
– Ну и хрен с тобой, – сказал Уиншип по-английски.
– Я этот язык понимаю, – улыбнулся Аксель.
Они расстались за дверью профессорской.
Аксель постоял немного, втягивая носом ласковый весенний воздух, а затем неторопливо направился к сторожке привратника.
– С добрым утром, Билл.
– С добрым утром, профессор Бауэр.
– Лето близится.
– Всему свой срок, сэр. Всему свой срок.
Аксель неуверенно взглянул на свой почтовый ящик. Как и всегда, забит бесполезными брошюрами и напоминаниями. В другой раз, он очистит его в другой раз.
– Так вы получили сообщение, сэр? Аксель обернулся к Биллу:
– Сообщение? Какое сообщение?
– Телеформу. С пометкой «спешно». Молодой Генри заглядывал к вам, да не застал.
– Я был на ланче.
– Наверное, Генри сунул ее в прорезь на вашей двери. Ну ничего, у меня есть офсетная копия.
– А, спасибо.
– Видите, из Германии, – сказал Билл, протягивая желтый конверт. – Из самого Берлина, – прибавил он с мечтательной интонацией, в которой смешались благоговение и любопытство.
Аксель нащупал в кармане очки для чтения и надорвал конверт.
Профессору Акселю Бауэру
Колледж Св. Матфея
Кембридж
АНГЛИЯ
Дорогой профессор Бауэр!
С сожалением сообщаем, что Ваш отец, фрей-герр Дитрих Бауэр, очень серьезно болен. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы ему было у нас как можно удобнее, однако мой долг состоит в том, чтобы известить Вас, что он пробудет с нами всего неделю, и это самое большее. Он выразил настоятельное желание повидаться с Вами, и, если Вы в состоянии уладить этот вопрос сВашим начальством, я бы очень советовала Вам приехать сюда как можно скорее.
С дружеским приветом,
Роза Мендель
(директор)
До Флюгхафена Аксель добрался уже совершенно вымотанным. Самолет, «Мессершмитт Пфайль-6», был набит бизнесменами, чьи отглаженные костюмы и нелепая заботливость, с какой они относились к своим портативным компьютерам, внушали ему чувство собственной убогости и неуместности. Да и стюардессы, казалось Акселю, тоже обращались с ним так, точно видели в нем существо низшего порядка. А, ладно, дни уважения к ученым миновали. Ныне Европа ценила коммерцию, и бизнесмены, пользуясь достижениями науки и техники, беззастенчиво пожинали плоды и вкушали почести.
Почести! Лишь к середине полета Аксель, размышлявший о шумном, бесцеремонном новом мире, окружавшем его, сообразил вдруг, что вскоре ему предстоит неизбежным образом унаследовать баронство отца. Фрейгерр Аксель Бауэр. Смешно.
Возможно, это и объясняло чрезвычайную обходительность и готовность помочь, кои проявило университетское начальство, когда он испросил недельный отпуск по семейным обстоятельствам. Где-то в его досье наверняка указано, что он – сын героя Рейха, героя Великой Германии. Никого теперь эта рыцарственная дребедень в духе Глодера особо не волновала, однако в мире осталось еще достаточно сентименталистов и снобов, чтобы настоящий, живой, всамделишный барон Рейха мог рассчитывать на особое к себе отношение. По малой мере, на приличный столик в ресторане. И может быть, когда он выправит себе новые документы и визитные карточки, вот эти же самые стюардессы начнут относиться к нему с большей услужливостью и учтивостью…
Власти Лондона и Берлина также выказали необычайную готовность пойти ему навстречу – особенно если учесть высокую секретность проекта, над которым он с коллегами работал в Кембридже. Как правило, властям не нравилось, когда неженатые, работающие в секретной области мужчины отправлялись в разъезды, пусть даже и по Европе. Мужчины семейные, оставлявшие дома жену и детей, у властей озабоченности не вызывали. И тем не менее все документы Акселя были оформлены уважительно и быстро.
От своего отеля на Курфюрстендам он с немалым удобством доехал до места на такси – новехоньком «ДВ-электрик». Германия, отметил Аксель, по-прежнему получает новые модели первой, какова бы ни была провозглашаемая ею государственная политика, – впрочем, пока глаза Акселя восхищенно взирали в окно на Тиргартен, на статуи, павильоны и башни, воздвигнутые к вящей славе Глодера, мысли его были заняты умирающим стариком, которого ему предстояло увидеть. Отцом, о котором он знал так мало. После того как в шестидесятых умерла мать, Аксель обменялся с ним всего двумя письмами. И только. Даже рождественских открыток и тех они друг другу не слали. Больницей в Ванзее управляла сдержанная, распорядительная молодая дама, напомнившая Акселю, когда он увидел ее стоявшей в вестибюле под писанным маслом портретом Глодера, архетипы Немецкой Женственности из музыкальных шоу и фильмов пятидесятых годов.
– Я не задержу вас надолго, герр профессор, – сказала она. – Вы человек науки и не захотите, чтобы я внушала вам ложные надежды. У вашего отца рак печени. И боюсь, он слишком стар, чтобы хоть в какой-то мере рассчитывать на успешную трансплантацию.
Бауэр кивнул. Сколько, собственно говоря, лет отцу? Восемьдесят девять? Девяносто? Как ужасно, что он не способен это припомнить.
– А как у него с головой, фрау директор?
– С головой все хорошо. Превосходно. Услышав о вашем скором приезде, он стал намного спокойнее. Будьте добры, следуйте за мной.
Стук их каблуков по мраморным плитам отдавался эхом в вестибюле. Они шли сводчатым коридором, одну стену которого занимало сплошное застекленное окно, выходившее на большую, тянувшуюся к озеру лужайку. Аксель увидел стариков и старух, которых катали по солнышку в креслах накрахмаленные санитарки.
– Ваш дом, – сказал он, обводя вокруг рукой, – похоже, не стеснен в средствах.
– Наш дом предназначен исключительно для героев Рейха, – с гордостью ответила фрау Мендель. – От этого поколения осталось не так уж и много людей. Обломки истории. Не знаю, во что он обратится, когда уйдет последний из них. Вы понимаете, надеюсь, что все расходы, связанные с похоронами вашего отца, будут оплачены?
– То есть похороны предстоят государственные? Она покачала головой – и да и нет.
– Официально это государственные похороны. Натурально. Однако в наши дни… – Фрау Мендель, словно извиняясь, развела руками.
– Нет-нет, все в порядке, – заверил ее Аксель. – Я и сам предпочел бы что-нибудь немноголюдное. Правда.
– Ну вот, – сказала фрау Мендель, останавливаясь перед большой, с колоннами по сторонам, бледно-зеленой дверью. – Здесь фрейгерр и живет.
Она трижды быстро стукнула в дверь костяшкой среднего пальца и, не дожидаясь ответа, вошла.
Отец Акселя сидел в кресле-каталке – обмякнув и свесив на грудь голову. Он крепко спал.
Аксель понял, что никогда бы не узнал его, никогда, даже за тысячу лет. Сохранившийся в памяти Акселя подвижный мужчина в белом халате обратился в прототип Старца. Стариковская желтая кожа, стариковские тощие ноги, стариковский мокрый рот, стариковское дыхание и стариковские пряди волос – и все это наполняло комнату стариковским запахом. Даже солнце, вливавшееся сюда через окна, непостижимым образом обращалось в стариковское солнце – яркое, сварливое тепло, какое встречаешь только в домах престарелых.
Фрау Мендель тронула Старца за плечо:
– Фрейгерр, фрейгерр! Ваш сын приехал. Здесь Аксель.
Голова Старца медленно приподнялась, и Аксель увидел водянистые глаза отца. Да, вот их он, пожалуй, узнать еще смог бы. Зрачки почти заплыли желтоватой жировой тканью, в которую превратились райки, однако сквозь эти затуманенные кобальтовые кружки проглядывала сущность, знакомая Акселю, – сущность его отца.
– Здравствуй, папа! – сказал он и с изумлением ощутил, как на собственные его глаза навернулись слезы.
– Молоко.
– Молоко?
– Молоко!
– Молоко? Ты хочешь молока? – Аксель непонимающе повернулся к фрау Мендель.
– Это он просыпается. Обычно после дневного сна он выпивает стакан теплого молока.
– Папа, это я, Аксель. Аксель, твой сын. Аксель смотрел, как туман в глазах отца начинает рассеиваться.
– Аксель. Ты здесь.
Голос был хрипл и неясен, и все-таки Аксель узнал его и сразу же перенесся в Мюнстер, в дом своего детства. Ошеломляющее чувство любви охватило его, любви, ошеломленной собственной силой, ошеломленной, быть может, тем сильнее, что она и не ведала о собственном существовании.
На ладонь его опустилась, похлопывая, другая ладонь, холодная.
– Спасибо, что приехал. Ты слишком добр.
– Ерунда, при чем тут доброта. Для меня это радость. Радость.
– Нет-нет. Это доброта. Я попросил бы тебя вывезти меня наружу. В парк.
Фрау Мендель утвердительно кивнула и придерживала дверь, пока Аксель разворачивал кресло и выкатывал отца в коридор.
– Вы просто поезжайте до конца коридора, там повернете налево и через дверь попадете на пандус, ведущий в парк. Если что-то понадобится, на подлокотнике кресла есть кнопка.
Аксель попытался было завести разговор о красотах парка и озера, однако отец оборвал его:
– Вон туда, Аксель. Вези меня туда. За ливанский кедр, к озеру, там будет тропинка, по которой никто не ходит.
Аксель, как ему и было велено, покатил отца по лужайке, мимо дерева. Он обменивался кивками с санитарками и любящими родственниками, их было немало вокруг, и все занимались примерно тем же, чем он. Какой-то старик в пижаме сидел на скамейке, разговаривая сам с собой; к пижамной куртке, с веселым изумлением отметил Аксель, было приколото больше десятка наград.
– Туда, туда! Та м безлюдно, – произнес отец. Он кренился вперед, словно пытаясь ускорить ход кресла.
Аксель повез его в указанном направлении – по тропинке, ведшей к проему в многоцветной живой изгороди. За проемом их поджидал маленький цветник в форме подковы.
– Разверни кресло кругом, лицом ко входу, – попросил отец. – Вот так, и садись на скамью. Теперь, если кто появится, мы его увидим.
– Солнце не слишком печет? Может, мне сбегать за шляпой?
– Бог с ним, с солнцем. Я умираю. Уверен, тебе сказали об этом. А зачем умирающему шляпа?
Аксель кивнул. Чего уж теперь лукавить?
– Знаешь, когда я умру, ты унаследуешь мой титул.
– Я об этом особенно не думал, папа.
– Лгун! Поспорить готов, ты уж годы как почти ни о чем другом и не думаешь. Так вот, я хочу рассказать тебе, что он означает.
– Это знак отличия за заслуги перед Рейхом.
– Да-да. Но я не об этом. У тебя есть хоть какие-то представления о том, за что Фюрер удостоил меня подобной чести, а?
– Нет, папа.
– И ни у кого их нет, все, кто знал это, умерли, и секрет мой умер с ними. Но, раз уж мне предстоит оставить тебе эту честь, будет лишь правильно, если я расскажу тебе ее историю, не так ли? Земель к титулу не прилагается, только история. Поэтому я хочу, чтобы ты посидел со мной и послушал. Ты уже научился спокойно сидеть на месте?
– Думаю, да, папа.
– Хорошо. Не дашь мне сигарету?
– Я курю только трубку, папа, а она осталась в отеле, в моем багаже.
– Да? А я рассчитывал на сигарету.
– Хочешь, я схожу, поищу?
– Нет-нет. Сиди, не так уж оно и важно. В моем возрасте удовольствие порождается созерцанием, не действием. Зато на спинке кресла, в столике, ты найдешь бутылку шнапса.
– Ты хочешь сказать, в кармане?
– Ну конечно. В кармане, я так и сказал. Неважно, подумал Аксель. «Tasche»[162] и «Tisch»[163] слова довольно похожие. Если это и есть та степень старческого слабоумия, коей ему следует ожидать под самый конец, тогда, возможно, одряхление не так уж и страшно.
Он нашарил бутылку, свинтил с нее крышку, отдал шнапс отцу, и тот, основательно отхлебнув, отчего глаза его наполнились слезами, вернул бутылку Акселю.
– Сиди спокойно и слушай. Ничего не говори, просто слушай. История, которую я собираюсь тебе рассказать, известна очень немногим на свете людям. Это великая тайна. Великая. Понимаешь?
Аксель кивнул.
– Все началось в городке Браунауна-Инне, в Австрии, ровно сто лет назад. Ты слышал о Браунау?
Аксель покачал головой.
– Ха! Вот именно. И никто не слышал. Не сомневаюсь, сейчас он – такая же безликая дыра, какой был тогда, неотличимая, в сущности, от любого другого пыльного городишки, стоявшего в той части империи Габсбургов. Браунау был скучным провинциальным городком, таков он, я уверен, и ныне. В нем никогда ничего не происходило. Жизнь тянулась себе и тянулась – рождения, браки, смерти, рождения, браки, смерти. История обходила его стороной.
Однако сто лет назад молодой врач, работавший в этом городке, совершил открытие, поразительное открытие, которому предстояло изменить весь мир. Он, врач то есть, разумеется, не имел об этом ни малейшего понятия. Звали его, к слову сказать, Хорстом Шенком. Ты должен понять, что выдающимся ученым он не был, просто начинал свой жизненный путь семейным врачом маленького городка – преисполненным, вне всяких сомнений, идей и надежд, как оно и полагалось в тот век, однако в научном отношении, уверяю тебя, ничего собой не представлявшим. Второразрядный ум, да и то еще в лучшем случае. Подобно многим людям его пошиба и поколения, он вел исчерпывающий, скрупулезный дневник, в котором описывал свою медицинскую практику, – чтение, по большей части, на редкость тягостное. Итак, перед нами скучный молодой врач, живущий в скучном городишке, что стоит в скучном углу мира. А вот сделанное им открытие скучным отнюдь не было, ни в малой мере.
В один из дней 1889 года к нему пришла на прием молодая женщина, вся красная от смущения и расстройства. Звали ее, дай-ка подумать… Боже милостивый, а ведь когда-то я знал эту часть дневника Шенка наизусть, слово в слово… Гитлер! Да, так, Клара Гитлер, урожденная Плотсл или что-то такое. Фрау Гитлер заявилась к герру доктору Шенку потому, что ей с мужем никак не удавалось зачать ребенка. Поначалу доктор решил, что ничего особенного тут нет. Муж, Алоиз, мелкий таможенный служащий пятидесяти четырех лет, почти вдвое превосходил Клару годами. Клара уже родила одного за другим трех малышей, однако все они умерли в младенчестве. У Алоиза же имелась куча детей от других его любовных связей, и, возможно, он просто достиг пределов периода плодовитости, понимаешь? Или, может быть, череда неудачных родов, перенесенных его женой, попортила что-то в ее утробе. Не исключено также, отмечает Шенк в своем дневнике, что слухи о том, будто чета эта состоит на самом деле из дяди с племянницей, верны, а все мы знаем, какими опасностями чреваты союзы столь близких кровных родственников. Однако фрау Гитлер отчаянно хотелось заиметь ребенка, и она умоляла доктора о помощи. Тот обследовал ее, ничего дурного не обнаружил, если не считать следов от побоев – дела, опять-таки, привычного в тех краях и в те времена, – и потому предложил ей не оставлять стараний, занес все подробности в дневник и думать о ней забыл. Добрый доктор, впрочем, изрядно удивился, когда дня два спустя еще одна молодая женщина, фрау Леона Гартман, пришла к нему с рассказом об обстоятельствах весьма схожих. Эта была матерью двух здоровых девчушек и вот уж год как пыталась заодно с мужем обзавестись еще одним дитятей, но безуспешно. Так вот, оказалось, что Гартманы живут на одной улице с Гитлерами. Шенк отметил это совпадение в дневнике, никакого особого значения, впрочем, ему не придав. Однако под конец следующей недели к нему явились уже две женщины сразу, фрау Мария Стейниц и фрау Клаудиа Манн, и обе с жалобами на то, что им не удается зачать. И жили обе на той же самой улице.
Совпадение, все это не иначе как совпадение, решил Шенк, тем более что на следующий же день он принимал на этой улице роды и мамаша без каких-либо затруднений произвела на свет здорового мальчика – ни осложнений, ничего. А всего через дом от нее проживала еще одна радостно и основательно беременная мать семейства. Не следует забывать, что Австрия была в ту пору страной католической, да и времена стояли такие, что слов «планирование семьи» никто отродясь не слышал. Значит – просто одно из странных совпадений, с которыми доктора нередко сталкиваются в их повседневной практике. Никаким значением, никакой важностью не обладающее. Ну не повезло этим пустопорожним бабам, и только.
И лишь покидая дом роженицы, Шенк взглянул на дома напротив, и ему вдруг ударило в голову, что все приходившие к нему женщины живут на одной стороне улицы.
Шенк, разумеется, обследовал их с той основательностью, на какую был способен, и не нашел ничего, что лежало бы на поверхности, что могло объяснить странную, локализованную вспышку бесплодия.
Вскоре оказалось, однако, что никакой нужды и дальше возиться с женщинами нет. Проведя день в размышлениях, Шенк уговорил одного из мужей, Отто Стейница, своего, кстати сказать, двоюродного брата, предоставить ему образчик семени. Образчик был исследован под микроскопом. Тут-то и выяснилось, что сперматозоиды в нем отсутствуют намертво. Шенк попросил других мужчин с той же, западной, стороны улицы дать ему свои образчики. Кое-кто из них ответил гневным отказом, однако у согласившихся семенная жидкость была совершенно стерильной. Шенк проверил мужчин с другой стороны улицы и обнаружил, что их сперма вполне нормальна. Что ты об этом думаешь?
Аксель, которому были неприятны ликование потирающего ладони отца и довольное похмыкивание, с которым тот рассказывал эту историю, пожал плечами.
– Почва, я полагаю. Возможно, вода. Некоторые спермициды…
– Точно! До этого мог бы додуматься и ребенок. Даже нашему герою, недалекому доктору Шенку, хватило ума, чтобы понять – разгадку следует искать на одном из этих двух направлений. Наиболее очевидным объяснением, и верным, как вскоре выяснилось, был источник водоснабжения. Шенк установил, что магистральная труба водопровода разделяется в самом начале улицы, питая по отдельности две цистерны, западную и восточную. Домовладельцы вручную откачивали воду насосами, расположенными в огородах за их домами.
Шенк немедля взял образцы воды с обеих сторон улицы, опробовал их на свиньях, а затем, сильно встревоженный, обратился к медицинским властям Инсбрука. В дневнике его имеется на редкость смешная запись, переполненная взволнованными эвфемизмами девятнадцатого столетия и посвященная сложностям, коими сопровождались попытки склонить хряков дать семя на исследование. В конце концов, бедняга же не был ветеринаром, а? Еще шнапса, пожалуйста.
Аксель, дивясь вульгарности старшего поколения, протянул отцу бутылку. Поколение Основателей, так они себя называли. У них не было времени на сладкоречивое жеманство молодежи. «Язык подлинного наци не обернут в мягкие шелка», – говаривал Глодер. Естественно, когда дело не шло о женском обществе… там уважение и обходительность – это все.
– Итак, – старик слизнул с губ шнапс, – вот что у нас имеется. Хозяйства западной стороны забирали, начиная с того дня, воду у своих восточных, здоровых соседей. Спустя несколько лет их подключили к прямой подаче воды, и больше никто об этой проблеме не слышал, ни единого нового случая мужского бесплодия зарегистрировано не было. Однако Шенк записал в дневнике, что ни один из пораженных бесплодием мужчин так от него и не избавился. Все они остались стерильными до конца своих дней.
Инсбрукские власти доложили о случившемся в Вену. Ведущие венские умы – эпидемиологи, патологи, гистологи, химики, биологи, геологи, минерологи, ботаники – все они анализировали образчики воды, однако никто ничего необычного в ней не обнаружил, не смог отыскать вещество, способное причинить подобный ущерб. Микроскопические количества воды испытывали на животных, и у всех самцов млекопитающих наблюдался одинаковый стерилизующий эффект.
– Поразительно! – воскликнул Аксель, в котором окончательно проснулся ученый.
– Еще бы! Поразительно и совершенно беспрецедентно. Ни до того, ни после подобных случаев нигде в мире отмечено не было.
– Я никогда не слышал об этом и не читал. Ведь наверняка же…
– Разумеется, не слышал. Все происходило в Австро-Венгерской империи, и, дабы не сеять панику и не пробуждать похотливого интереса, никаких публикаций на эту тему допущено не было. Шенку не позволили написать статью об эпидемии – запрет, который безмерно его уязвил, поскольку уничтожил его мечты о врачебной славе и всемирной известности. Шенк бесконечно стенает по этому поводу в своем дневнике.
Итак, медицинская загадка. Далеко не самая странная в истории науки, но все же необычная и интригующая. Многие годы об удивительной инфекции, загрязнившей воду Браунау, ничего больше не слышали. Пришла и завершилась Первая мировая война, за ней последовало крушение империи Габсбургов. И наконец, в 1937-м, более чем через пятьдесят лет после того, как Клара Гитлер нанесла ему свой первый плаксивый визит, Шенк умирает. Ему удалось сохранить три пятидесятилитровые бутыли «Воды Браунау» – все, что осталось от его исходных образчиков. Он завещал их, вместе с дневником, своей медицинской школе в Инсбруке, Австрия. Должен тебе напомнить, что в тот же самый год Австрия стала частью Великого Германского Рейха.
Только что созданное Рейхсминистерство науки немедленно изъяло дневник и образцы «Воды Браунау» и укрыло их под плотной завесой секретности. Ученые набрасывались на бутыли со странной водой, точно львы на антилоп. Они анализировали их, тестировали, бомбардировали радиацией, крутили в центрифугах, вибрировали в вибраторах, конденсировали в конденсаторах, выпаривали в выпарных аппаратах, смешивали, кипятили, высушивали, вымораживали – делали все, что могли, лишь бы раскрыть волнующую тайну.
Фюрер, видишь ли, сознавал значение «Воды Браунау» для безопасности Рейха. Блестящие сотрудники Геттингенского института измыслили для него бомбу, однако та могла и не взорваться. Ему нужны были какие-то запасные варианты. Если большевизм не удастся уничтожить одним способом, не исключено, это можно будет сделать другим. Так работал его ум.
Что ж, как все мы знаем, Геттинген в конце концов соорудил что от него требовалось, бомба появилась – прощай, Москва, до встречи, Ленинград. Безопасность Рейха была обеспечена, Европа обрела свободу. Такова официальная история.
Однако тем временем в Мюнстере два человека, двое блестящих ученых, продолжали биться над чертовой «Водой Браунау». Ими были, разумеется, твой крестный отец Иоганн Кремер и я, твой достойный родитель. Нам дали доступ к результатам всех прежних исследований, ко всему, от начальных дневников Шенка до последних анализов этой способной привести в отчаяние жидкости. Дневник ты найдешь в заднем столике моего кресла. В заднем кармане, в заднем кармане кресла. Достань его.
Аксель достал дневник – старую тетрадь в кожаном, покрытом пятнами переплете, обмахрившемся по краям, с медной застежкой.
– Это том, охватывающий годы с 1886-го по 1901-й. Чтение, по большей части, безумно нудное. Отныне он принадлежит тебе. Никто не знает, что я хранил его все эти годы. Теперь храни ты. Храни.
– Сохраню, – заверил отца Аксель. Он уловил в голосе старика истерические нотки, и нотки эти ему не понравились.
– В конечном итоге я, а не Кремер раскрыл тайну «Воды Браунау». Разумеется, мы работали на пару, он был моим руководителем, однако выделить и синтезировать спермицидную компоненту удалось мне. С органическими веществами, присутствовавшими в цистерне, непонятным, но естественным образом произошло то, что теперь называют аномальной генетической мутацией, – эта наука пребывала тогда в младенческих пеленках. Воздействие на мужской организм происходило на уровне столь глубоком – в человеческом гене, – что в неспособности предыдущего поколения врачей понять, как все это работает, ничего удивительного не было. Я и сам смог вполне уяснить это лишь гораздо, гораздо позже. И все-таки мне удалось синтезировать активный агент, и это самое главное. Блестящая была работа, блестящая! Я на годы опередил мое время.
Аксель не отрывал взгляда от отца, от яркого света, сиявшего в его водянистых глазах, от подергивающихся на коленях ладоней, от их костяшек, елозивших под кожей, сквозь которую просвечивал каждый желтоватый сустав, каждая вмятинка.
– Фюрер пришел в восторг. В экстаз. Разумеется, я встречался с ним и раньше. Он лично приезжал в Мюнстер на открытие Института передовых медицинских исследований и произнес одну из своих великих речей о природе и науке. Но тогда я просто стоял в длинной очереди и лишь обменялся с ним рукопожатием. А на этот раз… о, на этот! Нам предоставили автомобиль, длинный черный «ДВ 2с», помнишь их? Нас отвезли в Берлин, в самую Рейхсканцелярию, и мы провели четыре часа в обществе Фюрера, рейхсминистра Гиммлера и рейхсминистра Гейдриха. Они трое и я с Кре-мером. Представь! А после – обед с музыкой, с танцами. Невероятный день! Возможно, ты помнишь, как я возвратился домой? Я привез подарки и подписанную Фюрером фотографию.
Вот это Аксель помнил.
«Акселю Бауэру – расти и стань таким же замечательным человеком, как твой отец! Рудольф Глодер».
Где-то она у него еще хранится. Наверное, в одном из кембриджских сундуков.
Аксель помнил и то, как он стоял утром на спинке дивана, прижавшись лицом к оконному стеклу, дожидаясь возвращения отца. Он помнил летевший по улице длинный черный лимузин с флажком на каждом переднем крыле. Игравшие на улице дети, помнил он, замирали и вглядывались, роняя футбольные мячи, привставая на педалях велосипедов. Он помнил, как проворно выскочил из машины водитель, чтобы открыть дверцу для папы. Помнил улыбки, объятия, счастье, наполнявшее весь дом еще недели спустя, пока они не покинули Мюнстер навсегда.
– Фюрер поручил нам великое дело, Акси. Он хотел, чтобы мы с Кремером наладили промышленный синтез «Воды Браунау». Хотел, чтобы мы построили в каком-нибудь укромном месте небольшой завод. Мы выбрали маленький, стоявший в стороне от больших дорог польский городок, Аушвиц. «Воду Браунау» надлежало, разумеется, изготавливать в величайшей тайне и со сверхчеловеческой тщательностью. Каждую бутыль нумеровали, запечатывали парафином и ставили на строжайший учет. Их предстояло использовать для решения великой задачи, величайшей из всех, что встали перед нами после того, как Россия потерпела поражение и обратилась в часть Рейха, после того, как Европа, освободившись от большевизма, обрела стабильность. «Воду Браунау» предстояло, по словам Фюрера, использовать для того, чтобы очистить Рейх, подобно тому, как Геракл очистил Авгиевы конюшни. Смыть с Европы всю грязь. За участие в этом историческом свершении я и получил в 1949-м баронский титул. Его унаследуешь ты, Аксель. Титул этот скоро станет твоим. Фрейгерр Бауэр, уничтоживший целую расу людей. Да простит меня Бог, сынок. Да простит он всех нас. И да смилостивится надо мной Иисус Христос.
Десять минут спустя Аксель нажал на правом подлокотнике кресла красную кнопку и медленно прошел через проем в зеленой изгороди. И увидел бегущую к нему по лужайке женщину в белом.
– Что-нибудь случилось, сударь?
– Мой отец… не могу нащупать пульс. Боюсь, он скончался.
Официальная история
Разговаривая во сне
– Бауэр умер в 1989-м, в берлинском доме престарелых, – сказал Браун. – Кремер, старший партнер по их маленькому производственному предприятию, откинул копыта пятнадцатью годами раньше, а где, никто точно не знает. Теперь вы, возможно, захотите спросить, откуда нам все это известно. «Господи, ну и шустрые, видать, агенты у этих ребят», – вот что вы, наверное, думаете. Увы, это не так. Сведения мы получили благодаря перешедшему на нашу сторону сыну профессора Бауэра, Акселю. Если бы не он, ни черта бы мы не узнали.
Я окунул в остывший кофе последнее шоколадное печеньице.
Отец не отрывал взгляда от своих ладоней, которые он аккуратно уложил перед собой на столе. Глаза Хаббарда были закрыты. В мою сторону никто не смотрел, но я все равно старался, чтобы на лице моем не выразилось ничего, свидетельствующего о мучительной, бушевавшей во мне буре.
– И это подводит нас практически к концу всей истории, – сказал Браун, отворачиваясь к окну и глядя сквозь щелку в толстых бархатных портьерах на светлеющее небо. – Два года назад Аксель решился прийти к американскому консульству в Венеции, Италия, и нажать на кнопку звонка. В город этот он попал как участник Европейского физического конгресса, представлявший на нем Кемб… представлявший институт, в котором в то время работал, а какой именно, для нас с вами не существенно… Он попросил, чтобы мы помогли ему перебраться сюда. Работал он в области, очень и очень интересовавшей наше научное сообщество, и потому оценивался нами, независимо от его прошлого, на вес золота. Однако причину, по которой он решил переметнуться к нам, составляло чувство вины. Он не мог смириться с открытием, что приходится сыном человеку, который стер евреев с лица Европы. И после того как мы втайне вывезли его из Италии и доставили в Соединенные Штаты, он вывалил нам всю эту историю, перемежая свой рассказ горестными всхлипами и гневными выкриками в адрес ненавистного ему Рейха. Он показал нам сохраненный его отцом оригинал дневника австрийского доктора. Дневника хватило, чтобы убедить нас – все правда, вся эта мерзкая история, от начала и до конца.
Отец выпрямился, уставился в потолок:
– Но почему вы не объявили о ней официально? Почему сразу же не оповестили весь мир? Насколько я могу судить, одна лишь пропагандистская ее ценность была бы…
– Была бы чем, полковник? Это история. Прошлое. Сделанного не воротишь. Все, кто нес за это ответственность, насколько нам известно, мертвы. Европа изменилась. Изменились наши отношения с ней. Что произошло бы, оповести мы об этом мир? Каждый из евреев Америки и Канады наверняка схватился бы за оружие. Каждый либерал и интеллектуал встал бы на их сторону, громогласно требуя возмездия. И что затем? Армагеддон? Либо он, либо малоприятная сдача едва ли не всех наших позиций. Кто выиграл бы в том или в другом случае? Все это уже история. Просто история, и ничто иное. Хоть и пахнет она так же мерзко, как «Черная дыра» Калькутты или Салемские процессы ведьм.
Отец коротко кивнул. Он старался сохранить бесстрастие, и все-таки я видел, как понурились его плечи, какая усталость появилась в его глазах. Полагаю, в нем было слишком много гордости, не позволявшей выразить какой ни на есть гнев по поводу хитросплетений Realpolitik, гордости, оставлявшей ему лишь что-то вроде покорного и усталого «ладно, очень хорошо, это ваш мир, вот вы и ваше поколение с ним и разбирайтесь».
– Итак, – сказал Браун. – Возвращаемся к самой любопытной части нашей маленькой истории. Сам я дневник австрийского доктора Хорста Шенка прочел. А вот мистеру Хаббарду сделать этого не довелось, верно, Том?
Хаббард покачал головой.
– Его прочел также директор нашего агентства. Аксель Бауэр ныне работает на нас – под новым именем и с сердцем, полным ненависти ко всему европейскому, – он доставил нам этот дневник и, как дважды два четыре, прочитал его тоже. Мы дали президенту Соединенных Штатов возможность заглянуть в опрятно отпечатанное резюме… черт, это был просто жест вежливости. Однако вице-президент об этой треклятой штуке и слыхом не слыхивал. И государственный секретарь тоже. Насколько мне известно, о существовании дневника Хорста Шенка осведомлены в нашей стране всего лишь двенадцать человек. Потому-то мы и хотим, чтобы вы, Майки, объяснили нам, как получилось, что во вчерашнем вашем разговоре со Стивом Бернсом вы придали такое значение тому самому заштатному городишке Браунауна-Инне, с которого все началось, как получилось, что вы упомянули имена Гитлер и Пёльцль, принадлежавшие первой супружеской чете, посетившей доктора Шенка аж в 1889 году? И Аушвицу, в котором Кремер и Бауэр оказались в 1942-м? Как получилось, что вам стало известно все это? Полагаю, у нас есть право знать об этом. Вы меня понимаете?
Теперь уже все глаза были направлены на меня.
Что они, собственно, могут мне сделать? Худшее преступление, какое я, на их взгляд, совершил, сводится к тому, что я каким-то образом проведал о засекреченной информации. В то, что я, созданный невесть каким способом клон настоящего Майкла Янга, внедренный в Принстон для шпионажа, направленного против правительства Соединенных Штатов, они, разумеется, не верят. Не могут верить. Это немыслимо. До подлинной правды, еще более немыслимой, им не додуматься и за миллион миллионов лет. Ужаснейшая правда эта только теперь начала выставлять свою драконью голову из вихря бушевавших во мне эмоций. И ужаснейшая правда эта состояла в том, что именно я, Майкл Янг, заразил воду в Браунау. Что именно я, Майкл Янг, и оказался геноцидом. Им было бы легче поверить в то, что я – андроид из другой галактики или наделенный паранормальной силой шаман, которому дневник Хорста Шенка явился во сне. Во что угодно, кроме правды.
Однако рассказать Хаббарду или Брауну о том, что меня гложет, я не мог. А глодало меня то, что сами же они мне и рассказали. То, что они рассказали мне о Лео, или Акселе, или как там он нынче зовется.
Сделанное нами – и сделанное, как я теперь понимал, скорее из желания избавить Лео от горестного наследства вины, чем из какого-либо альтруизма или высших соображений человечности, – сделанное нами не разжало щупальцев истории, столь безжалостно сжимавших его в мире более раннем. Нет, теперь эти щупальца сдавливали ему горло сильнее, чем прежде: теперь им удалось уничтожить целый народ, целый мир.
А я? Для Киану Янга, доктора хилософии, это была-таки чертовски Большая Среда.[164] Серфер истории, балансирующий на гребне волны вчерашнего дня. Летящий по валам никого не ждущего времени. Почему я вообще согласился помочь Лео? Из самоуверенности? Из желания почувствовать себя значительной фигурой? Нет, решил я, все было намного проще. По глупости. По обычной, незатейливой глупости. Может быть, с малой примесью ее милейшей сестрицы – наивности. А то и трусости. Мир, в котором я жил, слишком пугал меня, так почему ж было не сотворить другой?
– Мы ждем, Майки. – Хаббард легонько пристукнул карандашом по столу.
Я набрал воздуха в грудь.
Мне предстояло сыграть в сложную игру, однако я уже вроде бы свыкся с путями истории. Научился видеть ее насквозь.
И почему-то знал, что так оно все быть и должно.
– Понимаете, я вот думал об этом, думал, – и, сдается мне, я с ним знаком.
Браун наставил на меня благодушный взгляд:
– С кем именно, ковбой?
– Да с этим мужиком, про которого вы толковали. То есть не то чтобы знаком. Но я его видел.
Отец нетерпеливо прихлопнул ладонью по столу:
– С каким еще «мужиком», Майкл? Изъясняйся понятнее.
– С Акселем Баумом, или как там его.
– С Бауэром? С Акселем Бауэром? Вы думаете, что знакомы с ним? – Хаббарду не удалось скрыть волнение.
– Ну, это мог быть и не он, – не без сомнения произнес я. – Да только придумать другое объяснение у меня не получается.
– Когда вы с ним познакомились?
– Где?
Оба разом – Хаббард и Браун. Я украдкой сглотнул. Вот сейчас мне и предстоит либо выиграть, либо проиграть. И я решил, что глядеть в глаза Хаббарда мне будет немного легче.
– Когда? Точно не помню. С пару недель назад. В поезде. Я ехал в Нью-Йорк. А он сидел напротив. Ну то есть, наверное, это был он. Он же, я так понимаю, живет где-то на Западном побережье…
Сколь ни противен мне этот жест, я вполне мог бы повторить ликующее «Да!» Макколея Калкина, да еще и кулак торжествующе в воздух выбросить. Потому что я видел, ясно видел по выражению, по отсутствию выражения в глазах Хаббарда, что попал в самую точку. Лео поселили здесь. В Принстоне.
Я мог встретить его в нью-йоркском поезде. Это не выходило за пределы возможного.
– Вы хотите сказать, что разговаривали с Акселем Бауэром в поезде, шедшем из Принстона в Нью-Йорк?
– Нет, вовсе нет. Насколько я помню, мы с ним не обменялись ни словом. Он всю дорогу проспал. Просто… н у, в общем, он говорил.
Брови Брауна взлетели вверх.
– Я понимаю, это смахивает на бред, – продолжал я, – но только я слушал его как зачарованный. Никогда до того не видел человека, разговаривающего во сне. Нас было всего двое, никто больше рядом не сидел, понимаете? Мне все это показалось клевым.
– Клевым?
– Ой, извините, это такой новый жаргон. Мне это показалось потрясным. Я подумал, что, может, смогу как-то использовать услышанное. Я же философией занимаюсь и так далее. Поэтому кой-какие его слова я записал.
Я чувствовал, что Хаббарда так и подмывает взглянуть на Брауна, а Браун не хочет, чтобы тот поворачивался к нему и вообще выказывал какие-либо признаки слабости и колебаний.
– Так вот, возвратившись в тот вечер из университета домой, я попытался разобраться в записанных словах. Их оказалось много. «Мартиролог», к примеру, хотя, возможно, это было просто женское имя, какая-нибудь Марта Роллог. Еще он сказал «Мюнстер», знаете, как сыр называется. Наци, Гитлер. Только я почти уверен, что Гитлера он называл Адольфом, не так, как вы. Алоизом? Я запомнил Адольфа, хотя, естественно, точно ничего сказать не могу, он же спал, понимаете? Да и находились мы в движущемся поезде. Потом еще Перлцль. Что-то похожее. Браунауна-Инне, его он назвал несколько раз. «Что произошло в Браунауна-Инне, Верхняя Австрия?» Сдается, потому я и решил, что это название города. Он раз за разом повторял этот вопрос. А еще одно слово показалось мне похожим на «Шикельгрубер», но оно вам явно ничего не говорит, так что, наверное, я неправильно его записал. И он произнес еще одно имя из упомянутых вами. Кремер? Только он назвал его полностью: Иоганн Пауль Кремер, тут я совершенно уверен. И Аушвиц. А еще Дахау, вроде бы так, но, кажется, и оно для вас ничего не значит. В общем, я выписал все эти слова столбиком и попробовал соорудить из них рассказ. Я к тому, что очевидно же было, он – немец. Старый. Некоторые из названий были английскими. То есть по-настоящему, по-английски английскими. Кембриджский университет. Колледж Святого Матфея. Двор Боярышника. Сторожка привратника. Королевский парад. И всякое такое. Для меня-то они были пустыми звуками, и все же я попытался сочинить про него историю, что-то вроде рассказа о давнем беженце времен нацизма. Меня оно по-настоящему захватило, я несколько дней только об этом старикане и думал. Глаза его, в них было что-то жуткое. Мороз по коже. Я думал, может, у меня получится рассказ про него, а то и сценарий. Знаете, как человек начинает сходить с ума от безумных идей, которые втемяшились ему в голову. Я решил сделать его немецким нацистом, перебравшимся на жительство в Англию, но хранящим какую-то тайну, которой он стыдится. Ну и начал почитывать кое-что о том, куда он мог переселиться и чем заниматься. Знаете, брал в библиотеке книги про Кембридж, который в Англии, всякие такие штуки. А прошлой ночью загулял с ребятами, приложился башкой об стену, и с ней, с башкой то есть, произошло что-то чудное. Все следующее утро я расхаживал по городу так, будто жил наполовину в реальном мире, а наполовину в выдуманном. Самые элементарные вещи забыл, ту же «Геттисбергскую речь», господи, куда уж дальше? И в то же время ясно помнил все эти прибамбасы, как будто они были реальнее реального мира, ну и выговор у меня малость разладился.
Я покачал головой, дивясь случившемуся, словно бы все еще просыпаясь.
Отец наклонился ко мне, взял за руку.
– Ради бога, Майкл. Сколько раз тебе повторять, говори ты по-человечески. Откуда эти вечные «прибамбасы», «чудные», «клевые», «мужики»? Ты же принстонец, неужели тебе трудно составить связное предложение на пристойном английском языке?
– С моим мальчишкой то же самое, – сказал Хаббард. – А он учится в Гарварде.
– Учится в Гарварде и при этом разговаривать умеет? – неверяще переспросил я. – Вы, наверное, очень гордитесь им, сэр.
Напряжение несколько разрядилось, я чувствовал это.
Лео улизнул из кембриджского Св. Матфея в Венецию. Из Венеции в Вашингтон. Теперь он здесь, в Принстоне. Я был уверен в этом так же, как в собственном существовании.
Ведь возможно же, наверняка возможно, что он успел в прошлом месяце съездить в Нью-Йорк? Память я потерял, и это оправдывает любые пробелы в ней. Хаббарду с Брауном придется здорово попотеть, доказывая, что я – отъявленный враль. Они могут держать меня на подозрении, однако какую опасность я представляю?
– А зачем вы ездили в Нью-Йорк, Майки? Я пожал плечами:
– Ха, зачем же еще? На «Янки» посмотреть.
– Вы болеете за «Янки»?
– Видели бы вы его комнату, – сказал отец. – У него и простыни-то в черно-белую полосу.
– Да? А я вот болею за «Бруклинских пролаз».
– Кто-то же и за них болеть должен, – заметил я.
Впервые за долгое уже время рот открыл Браун:
– Тот человек в поезде. Вы сказали, что вас испугали его глаза.
– Просто-напросто поразили, ей-богу.
– Странно, однако, – сказал Браун, – что на кого-то могут так подействовать глаза спящего человека.
– Так ведь когда мы до Нью-Йорка добрались, он проснулся, – ответил я, лихорадочно пытаясь припомнить, что там говорил Стив. Не Грэнд-централ, вокзал был другой. Блин, как же он назывался-то? Ха! Поймал. – Когда поезд остановился на Пенсильванском, этот человек поднялся, и я увидел глаза. И знаете, после его, ну, вроде как монолога, еще и…
– Так очков на нем, выходит, не было? – не без удивления спросил Браун.
– Никаких, – убежденно ответил я. – Хотя, если подумать…
Я прищурился, словно пытаясь воссоздать в уме всю сцену.
– Если подумать, что-то такое из нагрудного кармана у него торчало. Может, и очки. Да, я почти уверен в этом.
– И какого же цвета были эти замечательные глаза?
– Самые синие, какие только представить можно. Они выглядели много моложе его лица, понимаете, о чем я? Настоящая, пронзительная кобальтовая синева.
– А борода у него была белая или просто седая?
Борода! Дважды блин…
Вот это уже проблема. В Кембридже он бороду носил, однако то было в другой жизни. Тогда он звался Лео Цуккерманом и жил с той личностью, какую оставил ему отец. С еврейской, и Лео целиком и полностью ей соответствовал. А вот стал бы он отращивать бороду здесь? Пожилых бородатых людей я видел в Принстоне всего ничего. И конечно, ему нужно было как можно лучше слиться с новым окружением. С другой стороны, если в Германии он брился, то здесь, в Соединенных Штатах, мог, сменив личность, и бороду отпустить. Положение было не из легких.
– Совсем простой вопрос, друг мой, – сказал Браун. – Была ли его борода белой или седой?
– Ну, так-то оно так, вопрос и вправду простой, – ответил я, наморщив, словно бы в замешательстве, лоб. – Но, понимаете, я пытаюсь понять, расставляете ли вы мне ловушку, думая, что я вру, или человек, о котором мы говорим, действительно носил бороду в то время, когда вы с ним встречались, и тут у нас просто небольшая путаница. Потому что тот старикан был выбрит дочиста. Волосы, те, да, были серебристыми, соль с перцем, так это, сдается мне, называется. И вот примерно здесь – поредевшими.
– И если мы покажем вам фотографии нескольких людей, вы сможете его узнать?
– В любое время, – ответил я, ощущая, как ко мне возвращается уверенность. – Это лицо я никогда не забуду.
Впервые за всю ночь Браун сел за стол.
– Ну что же, сынок, – сказал он. – Должен признаться, я и представить не мог, что именно от тебя услышу. Как ты, наверное, уже догадался, нам сообщил о тебе профессор Саймон Тейлор. Сказал, что тут происходит нечто подозрительное, возможно заслуживающее нашего внимания. Вчера после полудня мы взяли на себя смелость присоединиться к тебе и немного походить за тобой по городу. А уж когда я услышал, как ты поминаешь Гитлеров, Браунауна-Инне и прочее, да еще и прилюдно, я, уж ты мне поверь, чуть не выпрыгнул из моих чертовых слаксов. Мне казалось попросту невероятным, чтобы студент узнал откуда-то эти имена и остался, однако ж, человеком, которому можно доверять, человеком, который играет по правилам. Но, похоже, твое объяснение – единственное, какое имеет смысл. Ты услышал, как старик говорит во сне. Наверное, мне следовало самому до этого додуматься. Как говаривал Шерлок Холмс, когда отбросишь все невозможное, то и останется правда, какой бы невероятной она ни казалась.
Теперь и для Хаббарда настал черед подняться из-за стола. Он раздернул шторы, и в комнату хлынул свет зари, такой белый, что у меня заломило в глазах. Отец тоже встал, не без труда.
– Так мы можем наконец забрать сына домой?
– Вы можете делать все, что считаете нужным, полковник. Мне очень жаль, что мы отняли у вас столько времени. Однако вы слышали то, что я должен был вам рассказать, и понимаете – дело заслуживало проверки.
– Я понимаю.
– И вы понимаете, Майки, какую клятву принесли, не так ли?
Я кивнул, тоже встал, потянулся. От холодного воздуха ляжки у меня покрылись гусиной кожей. Неужели на мне все те же дурацкие хлопчатобумажные шорты, в которые я влез прошлым утром?
Внезапно в голове трепыхнулась мысль.
– Да, а все-таки, что со Стивом? – спросил я. – Что вы с ним сделали?
– Сделали? Да ничего мы с ним не сделали, Майки. Он уж несколько часов как вернулся к себе в общежитие.
– Знаете, вы здорово заблуждаетесь на его счет, – сказал я. – Я про эти подозрения, про гомосексуализм. Не знаю, откуда они взялись, но это неправда. Просто неправда.
Глаза Брауна немного расширились.
– Нет? Что ж, спасибо за информацию, Майки. – Он неторопливо покивал мне, и я почувствовал, как меня вновь продрало холодком, впрочем, Браун уже поворотился к моему отцу. – Вы непременно хотите сразу отправиться домой, полковник? Мы сняли для вас номер в «Харчевне павлина», это на Байярд-лейн, – хорошее место, очень уютное, – может, вам будет удобнее отправиться туда?
Я быстро повернулся к отцу:
– Отличная мысль, папа, сэр… – Черт, как я к нему обращаюсь-то? – Поедем туда, позавтракаем. Все лучше, чем тащиться до самого Коннектикута.
О нет, Принстон я покидать не собирался. Не раньше, чем отыщу Бауэра. Цуккермана. Как бы он теперь ни назывался. И где бы ни был.
Тайная история
Одинокая жизнь
– Да, вот это я называю уютом, – произнесла мама, когда мы, поскрипывая половицами, вошли в маленький вестибюль «Харчевни павлина».
– Очень похоже на английскую гостиницу, – одобрительно кивнул отец.
Английская гостиница, подумал я. Ну наверное.
Выкрашенные в белый цвет ступени привели нас на открытую веранду – из тех, на которых сидят в креслах-качалках опрятные старушки с вязаньем, пока внуки их прячут по устроенным под половицами тайникам свои коллекции бейсбольных открыток. В этом доме не было ни пластика, ни дымчатых стекол, ни нейлоновых ковров, ни псевдоколониальной плетеной мебели, ни фасонистых разводов краски или трафаретных узоров на стенах, ни бледно-зеленых якобы ситцев, ни непременного набора гравюр в ясеневых рамках, ни визга принтера за стойкой портье, ни кремовой пластмассовой решетки, перегораживающей вход в закрытый бар, ни перестука орешков, засасываемых пылесосами, ни кислых запахов, оставленных вчерашней кубинской вечеринкой, ни тягостной атмосферы прогорающего заведения с минимальным штатом, облаченным в униформу из синтетики, – нет, лишь приятный сумрак, домашний уют и непринужденные, без претензий, отдающие Бабушкой Моузес[165] изящество и элегантность.
– А когда ты в последний раз был в английской гостинице? – спросил я у отца.
Тот пробурчал нечто уклончивое, и мы проследовали из вестибюля в столовую. Быть может, при нацистской гегемонии все гостиницы Англии так и остались усадьбами в духе Агаты Кристи или оживленными пансионами на манер Маргарет Локвуд.[166] Хотя в этом я почему-то сомневался.
Завтрак оказался превосходным. Никакого тебе кленового сиропа, чтобы поливать им бекон и знаменитые блинчики, но огромные, пышные горячие оладьи, поблескивающие глазурью плюшки, кувшинчики с соком, вместительные фарфоровые чашки кофе и большая тарелка с фруктами. В английской гостинице ее назвали бы «Блюдом свежих фруктов», здесь же женщина, которая принесла завтрак, – судя по виду ее, она запросто могла оказаться владелицей «Харчевни» – поставила тарелку на стол и просто сказала: «А вот вам и фрукты». Мне это понравилось.
Я впился зубами в оладью, и скрытая в ней большая черничина, о присутствии коей я не подозревал, лопнула, оросив мой язык соком.
– М-м, – промычал я. – Не думал, что так проголодался.
– Еще бы, лапушка. Давай, налегай, – сказала мама, разрезая пополам виноградину и двумя пальцами забрасывая одну половинку в рот. Не знаю почему, но выглядело это так, точно руки ее обтянуты перчатками.
– Молодой человек, что доставил нас сюда, – сказал отец, расправляясь с плюшкой, которую венчала сверху похожая на яичный желток половинка абрикоса, – заедет за нами в шесть. Так что мы сможем превосходнейшим образом выспаться перед дорогой домой.
– Да, насчет дома, – сказал я. – Пожалуй, я все-таки останусь здесь.
Мама уронила на тарелку нож и испуганно уставилась на меня:
– Милый!
– Нет, ну правда, – сказал я. – Память у меня с каждой минутой проясняется. Я должен… н у, знаете, работать. Наверстывать упущенное.
– Но ты же еще нездоров. Тебе нужен отдых. И память твоя дома будет проясняться не хуже, чем здесь. Даже лучше. Подумай, как обрадовалась бы Белла, увидев тебя. Ты смог бы прогуляться с ней по всем вашим любимым местам.
Белла? Это что-то новенькое.
– Я напишу ей, – сказал я, похлопав маму по руке. – Она все поймет.
Мама отдернула, точно ужаленная, руку и тоненько вскрикнула:
– Лапа! Вот видишь, ты до сих пор не в себе.
– Да правда, мам. Со мной все в порядке. Честно.
– У тебя все по-прежнему путается в голове. Писать письма собаке… это же ненормально, милый, согласись.
Опля.
– Я просто пошутил, мам, только и всего. Хотел тебя подразнить.
– О. – Мама немного успокоилась. – Ну, тогда это попросту глупо.
Мы говорили странно приглушенными голосами, обычными для обедающих в ресторанах семей, которые ведут беседы так, точно каждое второе слово в них – «рак». Усилия, потребные для этого, начинали меня утомлять.
– Послушай, – сказал я нормальным голосом, прозвучавшим громогласным воплем. – Я должен остаться. До конца семестра всего лишь несколько недель.
Отец оторвался от газеты:
– Он дело говорит, Мэри.
– У меня же не горячка или еще что. Если я что-то забуду, Стив мне напомнит.
Отец нахмурился.
– Кто такой этот Стив Бернс? – спросил он. – Не помню, чтобы ты упоминал о нем раньше.
– Ну, не Стив, так Скотт, или Ронни, или Тодд… да любой из ребят.
– Тодд Уильямс очень милый молодой человек, – сказала мама. – Помнишь его сестру, Эмили? Ты ходил с ней на танцы, когда Уильямсы жили в Бриджпорте.
– Да. Конечно. Приятные люди. Вот Скотт обо мне и позаботится.
– Ладно, решать, разумеется, тебе, – сказал отец. Он наклонился ко мне, понизил голос: – Насколько я знаю этих ребят из правительства, они продолжат интересоваться тобой.
– Ты хочешь сказать, они мне не поверили?
– Не говори глупостей. Я хочу сказать только одно, сынок. Они будут все проверять. Каждую мелочь. Это очень дотошные люди. А дело, однажды открытое, так навсегда открытым и остается. Поэтому просто помни, что говорить тебе обо всем этом ни с кем не следует, не то наживешь неприятности.
Я кивнул:
– Никто на последнюю оладью не претендует?
Шагая по кампусу, я впервые ощущал себя в Принстоне совершенно одиноким. Я не знал, где живет Стив, не знал, где его общежитие, в каких местах он бывает, как взяться за поиски. Мне пришло в голову, что Стива события прошлой ночи могли напугать настолько, что он постарается держаться от меня как можно дальше. Возможно, делать то, что я собираюсь сделать, мне предстоит в одиночку.
С родителями я расстался, весело помахав им на прощанье, у «Харчевни павлина», и теперь в кармане моем понемногу сминались пятьсот долларов новенькими хрустящими купюрами.
– Понимаешь, никак не вспомню код, который нужно набрать, чтобы из стены вылезли деньги, – объяснил я отцу. – Начисто вылетел из головы.
Отец с удивительной легкостью отбарабанил его. Возможно, мы богаты… не исключено, что жизнь в этой Америке, с ее «Харчевнями павлинов», состоятельными отцами и собаками по кличке Белла, не так уж и плоха.
Хотя что-то… что-то тут было такое, не нравившееся мне. Отчасти оно состояло из сказанного о Стиве, отчасти из возникшего у меня почти с самого начала ощущения: чего-то тут не хватает. Все было «четко» и «потрясно», никаких тебе «чуваков», никто не знал слова «клево». Отовсюду только и слышалось, что «черт», «Иисусе» и «проклятье», и это не походило на Америку, какую я знал по фильмам. Но опять-таки, может, так и принято выражаться в «Лиге Плюща». Принстон, подозревал я, городок навряд ли типичный. И все же было в нем что-то… что-то неправильное.
Я услышал за спиной тарахтенье мотора и отступил в сторону, пропуская садовый трактор. Пожилой водитель благодарно отсалютовал мне, притормозил и соскочил на землю, чтобы забросить в прицепчик длинный рукав шланга.
– Эй, привет, Майки! – На плечо мне легла рука.
– О, хай, – ответил я. Это был Скотт. Или, может быть, Тодд. А то и Ронни. Кто-то из этой троицы.
– Ну как ты, англичанишка?
– А, в порядке, – ответил я. – В полном порядке. Мне намного лучше. Возвращаюсь в американцы.
– Правда? Говоришь ты все еще как английский король.
– Да знаю. – Я вздохнул. – Но ничего, память возвращается. Док Бэллинджер сказал, это займет несколько дней.
– Так чего, мяч-то гонять выйдешь?
– Прости? А, мяч. Нет, боюсь, мне сейчас не до бейсбола. – Я содрогнулся от одной мысли о нем. – Фигово, я понимаю, но ничего не попишешь.
– Черт, Майки. Выбрал же ты время… эй, глаза протри! – Скотт, или Тодд, или кем он был, отскочил в сторону – мимо нас, пыхтя, проследовал все тот же трактор. На мой взгляд, угроза столкновения отсутствовала, однако он все равно разозлился. – Ну ты! – рявкнул он.
Водитель притормозил и испуганно оглянулся на Тодда/Скотта/Ронни:
– Я, сэр?
– Да, ты, болван! Какого дьявола ты не смотришь, куда прешь?
– Прошу прощения, сэр. Мне показалось, места достаточно.
– Так вот, в следующий раз открывай свои негритянские зенки пошире, слышишь, болван?
– Да, сэр. Прошу прощения, сэр.
Сцену эту я наблюдал в остолбенении. До меня наконец дошло, чего не хватало в городе, и я чувствовал себя идиотом, чувствовал вину за то, что не понял этого сразу.
Все студенты, каких я встречал, были белыми. Все до единого. Белыми, точно лик позора. Трактор покатил дальше.
– Кретины! – Скотт/Ронни/Тодд сплюнул на дорожку. – Никакого уважения к людям.
– Зато тебя оно переполняет, – сказал я.
– Что ты?
– Уважение к людям, – сказал я. – Ты переполнен им.
– А, ну да, – кивнул он. – Конечно, я-то людей уважаю. Так, Майки, ты что нынче делать собираешься?
– Да надо бы позаниматься, наверстать упущенное, – ответил я, в горле у меня было совсем сухо. – Может, попозже увидимся.
– Ясное дело. Ну, пока, дружище.
– А, кстати, – окликнул я его, окончательно уяснив, что мне снова необходим Стив, необходим позарез, понравится ему это или нет. – Я начисто забыл, где живет Стив.
– Бернс? В Диккинсоне.
– Ах да, в Диккинсоне. Конечно.
– Ты только поосторожнее с ним, Майки. Сам знаешь, что о нем говорят. – Скотт/Тодд/Ронни выставил вперед бедра и откинул назад голову – поза поникшей лилии.
– Да ну, куча дерьма все это, – сказал я. – Он гуляет с Джо-Бет. Знаешь ее, официантка из «ПД»?
– Точно? Ни хрена себе, это же потрясная телка. Ладно, пока, приятель, пока, корешок.
Как правило, мне требуется немалое время, чтобы кого-нибудь невзлюбить. Однако Ронни/Тодд/Скотт, решил я, – мудак, полный и окончательный.
Хотя, возможно… Возможно, думал я, пока блуждал по трем разным указанным мне путям к Диккинсон-Холлу, возможно, мудак-то как раз я. Если бы Америка не была столько лет на ножах с Европой, возможно, Тодд/Ронни/Скотт вырос бы совсем другим человеком. Это я сделал его таким.
Впрочем, о чем я? Все дело в генах. Гены, гены и ничего, кроме генов. Я хочу сказать, возьмите отца Лео, Дитриха Бауэра. Сукин сын, который в одном мире появляется в Аушвице, чтобы помочь стереть евреев с лица земли, и сукин сын, который появляется в Аушвице, чтобы помочь стереть евреев с лица земли, – в другом. А собственный его сын остается в обоих мирах порядочным человеком, хоть и склонным принимать слишком близко к сердцу вину отца.
Однако этак у нас получается сплошная предопределенность, как ее ни препарируй. Воля истории или воля ДНК. А где же воля человека? Быть может, я найду в моем жилище, в Генри-Холле, философические заметки, кои помогут мне выбраться из этого мыслительного лабиринта. Пока же вот он, Диккинсон.
Из здания как раз выходил, обнимая руками стопку книг, рыжеволосый студент.
– Бернс? Идите по коридору. Сто пятая. Это слева.
– Оу, мучос грациас, чувак.
– Простите?
– Да нет, это так, – сказал я. – Выражение благодарности, принадлежащее к другой эпохе.
– О… понятно. Ну тогда – пожалуйста.
Стив открыл дверь, протер заспанные глаза.
– И что? – спросил я. – Не хочешь пригласить меня войти?
– Господи, – сказал он, впуская меня. – А я-то надеялся, что все было сном.
Вся комната была заклеена плакатами. Портрет Дюка Эллингтона – так он, выходит, все-таки одолел разрывный поток истории, с радостью подумал я, уже кое-что, – и скопище девиц. Крупных, грудастых, блондинистых, тип Памелы Андерсон: холодные, полуприкрытые глаза и такое обилие румян, что хватило бы на перекраску Белого дома в красный цвет.
– М-м, – я переводил взгляд с плаката на плакат, – по-моему, леди слишком много обещают.[167]
– Послушай, Майк, – сказал Стив, затягивая пояс халата, – давай договоримся сразу. Кончай с этим, ладно? У меня и так неприятностей хватает.
– Неприятностей? Что значит «неприятностей»? Он покачал головой.
– Что они сказали тебе этой ночью?
– Да ничего. – Стив прошаркал к кофеварке. – Ничего они мне не сказали. Просто роняли намеки, вот и все. Они слышали, что у меня «психологические проблемы», что я завожу «странных друзей». Видимо, так они себе представляют дружеское предостережение.
– Прости, – сказал я. – Нет, правда, прости. Я не хотел втягивать тебя в эту неразбериху. Я не знал… не знал, на что похожа Америка.
– Да вот на это самое. Таков наш мир. Кофе хочешь?
– Спасибо. Знаешь, – сказал я, – там, откуда я прибыл, есть такая штука, политическая корректность.
– Она и тут имеется.
– Нет, у нас она означает, что ты наживаешь неприятности, если не предоставляешь равных прав женщинам, калекам, людям любого этнического происхождения, черным, азиатам, латиноамериканцам, американским индейцам, кому угодно, и, разумеется, геям. То есть лесбиянкам и… ну, знаешь, додикам, или как они тут у вас называются. Если тебя хотя бы заподозрят, что ты оскорбительно или нетерпимо обращаешься с ними или просто относишься свысока к любой из этих групп, ты можешь лишиться работы, попасть под суд… вообще обращаешься в прокаженного.
– Ты надо мной издеваешься, что ли?
– Нет-нет. Все правда. Гомосексуалисты зовутся геями, устраивают марши, гей-парады, фестивали Марди Гра, и целые улицы и кварталы городов отведены под магазины геев, бары геев, рестораны геев, банки геев, геевских страховых брокеров, там все геевское. На самом-то деле все несколько сложнее, потому что они опять стали использовать слово «педик», так же как черные начали говорить о себе «ниггеры»… это называется «припасть к корням», что-то в таком роде. На Гавайях геи могут даже в браки вступать. Существует, разумеется, и ответная реакция правых. Либералы считают, что с дискриминацией еще отнюдь не покончено, библейские проповедники – что все зашло слишком далеко и политическая корректность есть антиамериканская скверна.
– Ты – ангел, сошедший с небес, так? И рассказываешь о рае.
– Какой, к лешему, рай. – Я вспомнил о преступности, СПИДе, расовой ненависти, терроризме, о вспышках ярости в дорожных пробках, о стрельбе из проезжающих машин, военных формированиях, фундаменталистах, разливаемой в океане нефти, сопляках с кокаиновой зависимостью – о полном наборе наших прелестей. – Я говорю всего лишь о мире, который знаю. Там далеко не рай, поверь мне.
– Знаешь, Майки, я сварю тебе кофе, ты выпьешь его и уйдешь. Мне нужно заниматься. Я живу здесь, в моей, реальной Америке. Единственной, какая есть. Закончу университет, подыщу себе жену, работу и стану жить своей жизнью, идет? Так уж все устроено.
– И тебе этого хочется?
– Дело не в том, чего мне хочется, Майк, дело в том, что такова жизнь.
– Ты хочешь уверить меня, что все здесь вот так и живут? Стандартными нуклеарными семьями?
– О, разумеется, существуют гетто для гомиков, извращенцев, либералов и коммунистов, и живут они там как свиньи. Думаешь, мне не терпится к ним присоединиться?
– Стив. Скажи, считаешь ли ты, что можешь мне доверять?
Он поднял на меня глаза, в которых ясно читались старания сдержать слезы.
– Доверять? Черт, да я тебя даже не знаю.
– Нет, но раньше-то ты меня знал. Когда я был американцем и мы дружили. Я все еще тот же человек, которого ты знал в то время.
– Да я тебя и тогда не знал, Майки. Почти совсем. Вернее, ты почти совсем не знал меня.
– О чем ты? Мы же были друзьями. Стив покачал головой:
– Я соврал. Друзьями мы никогда не были. Ночь в «А и Б» стала первой в твоем обществе. Конечно, я встречал тебя в кампусе. И часто ходил по нему за тобой без твоего ведома. Бейсбол я терпеть не могу, однако все твои игры видел. А в тот вечер я услышал, как ты говоришь кому-то, что собираешься в «Клио», послушать дебаты, ну и пошел тоже. Сидел там прямо за тобой. Потом тебе, Тодду со Скоттом и твоим дружкам-спортсменам стало скучно, и вы отправились в «А и Б», а я увязался за вами. Сидел совсем рядом, пока вы пили, и в итоге оказался в вашей компании.
Кофеварка шипела и плевалась – я подошел к ней, налил две чашки. Машинка, отметил я, произведена компанией «Крупс». Есть же на свете и неизменные сущности.
– Потом ты начал чудить, – сказал Стив. – Друзья твои перетрухали, остался только я, чтобы дотащить тебя до кровати и убедиться, что с тобой все путем. А когда я наутро вернулся, то понял – с тобой точно что-то произошло. Глаза стали другими.
Он подошел к письменному столу, вытянул ящик, вернулся с альбомом. Отдал альбом мне, а сам уселся с чашкой в кресло.
– Понимаешь, я довольно хорошо знаю твое лицо, – говорил он, пока я просматривал фотографии. – Если кто-то и мог заметить в тебе изменения, так это я.
Фотографий были сотни. Я, одиноко бредущий по кампусу. Я, смеющийся в компании Тодда, Скотта и Ронни. Я в бейсбольной форме, подающий, отбивающий, гневно взирающий на бэттера. Я в зимнем пальто, сгорбившийся под снегопадом. Я, гребущий на озере. Я, загорающий. Я, читающий на траве лужайки. Я, обнимающий за плечи девушку. Я, целующий девушку. Я – очень крупным планом, глядящий вперед, чуть в сторону от камеры, словно догадываясь, что за мной наблюдают. Я закрыл альбом.
– Ничего себе, – сказал я.
– Ну вот, теперь ты знаешь.
– Стив, мне так жаль.
– Жаль? А о чем тут жалеть?
– Ты, должно быть, очень несчастен. Очень одинок.
Он смотрел вниз, в чашку кофе.
– Ну, мне же нужно привыкать к необходимости довольствоваться лишь собственной компанией, верно? До конца моих дней. Та к что тут нового?
– Не знаю, может ли это тебя как-то утешить, – сказал я, – но на мой вкус, Скотт, Тодд и Ронни, как ни мало я с ними знаком, законченные мудаки.
Стив улыбнулся:
– Да, не правда ли?
– И я не верю, не верю, поскольку знаю себя, что я был здесь счастлив.
– Нет? Я так о тебе и думал. Мне все время казалось, что тебе чего-то не хватает. Конечно, я надеялся, что… – Он умолк.
Я пил кофе, меня переполняли сочувствие, тщеславие и кое-какие серьезные замыслы.
– А как в Англии? – спросил Стив. – Ты был счастлив там, в другом твоем мире?
– Не знаю. Думаю, что да. Полагаю… полагаю, мне было, как и тебе, немного тошно от мысли, что придется найти работу, жениться, где-то осесть, купить дом и так далее. Я как-то утратил ощущение смысла.
– А теперь ты смысл видишь?
– Смысл в том, что смысла не существует. Вот и весь смысл.
– Отлично. Слова философа старшего курса. Я присел на краешек письменного стола.
– А чего ты ждал? Я втянул тебя в эту кашу, а ты все равно полагал, будто у меня на все имеются ответы?
– То есть жизнь продолжается, правильно? А как быть с твоим миром фестивалей Марди Гра, равных прав и гавайских браков? Я дважды щелкаю пятками моих красных шлепанцев, загадываю желание и попадаю туда, так? Или натыкаюсь на волшебное место, где можно просунуть руку сквозь стену и просто перейти в вашу параллельную вселенную? Или ты хочешь сказать, что судьба велит мне сражаться за прекрасный новый мир братской любви, что я должен стать вождем повстанцев, отцом-основателем новой Америки, который поведет чад своих в землю обетованную? И тогда ты сможешь исчезнуть в облачке дыма? Такой у нас будет уговор?
– Нет, Стив, – ответил я, – не такой. Если ты выслушаешь меня, я расскажу тебе, какой у нас может быть уговор.
Я рассказал. Он выслушал. За уговором дело не стало.
История кино
Афера
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
ОБЩИЙ ПЛАН ДИККИНСОН-ХОЛЛА, ПРИНСТОНСКИЙ КАМПУС – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
Камера по диагонали НАЕЗЖАЕТ на окно второго этажа и проникает внутрь Диккинсон-Холла.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КОМНАТЫ СТИВА В ДИККИНСОН-ХОЛЛЕ – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
СТИВ, держа в руке маленькую, закатанную в пластик карточку, дает подробные наставления МАЙКЛУ, который внимательно его слушает.
СТИВ. Так вот, это библиотечная карточка. Помнишь, как мы в прошлый раз книги брали? Все то же самое. Вот тут твой студенческий номер. Заучи его назубок, ладно? Каждый студент знает свой номер, и если ты станешь все время заглядывать в карточку, это будет выглядеть подозрительно.
МАЙКЛ кивает. СТИВ протягивает ему пакет для покупок.
Ты уверен, что помнишь, как работать с картом? Все, как я тебе показывал. В общем-то, просто.
МАЙКЛ. Все, как ты мне показывал.
СТИВ. Так, теперь план кампуса. Большую часть приметных зданий ты уже знаешь. Вот квартирка. Твоя, в Генри. Хорошо… (Тоном куда более серьезным.) Я понимаю, это может показаться нелепым, но с этой минуты, где бы мы ни встретились, мы ничего такого обсуждать не будем, разве что в «ПД» или «А и Б». Эти мужики, с которыми мы вчера познакомились…
МАЙКЛ (потрясенный). Ты думаешь, они могли подсадить в наши комнаты жучков?
СТИВ (потрясенный еще сильнее). Слушай, мы, может, и не похожи на идеальное государство, но здесь все-таки не нацистская Германия. Бактериологического оружия у нас не производят.
МАЙКЛ. Да нет, не те жучки, другие! Подслушивающие! Знаешь, перехват телефонных разговоров и так далее.
СТИВ. А, понял. Правильно. Да, я сказал бы, что это возможно, вот и все.
МАЙКЛ. Старший Брат жив и отлично себя чувствует.
СТИВ. Ты о чем?
МАЙКЛ. О Старшем Брате. «Старший Брат смотрит на тебя». Это из романа Джорджа Оруэлла, который никогда не был написан.
СТИВ. Того самого Джорджа Оруэлла?
СТИВ отходит к письменному столу, собирает бумаги, фотокамеру.
МАЙКЛ. Ты о нем слышал?
СТИВ. Шутишь? Да каждому подростку Америки приходится продираться сквозь «Падение тьмы».
МАЙКЛ. «Падение тьмы»? Когда он ее написал?
СТИВ (укладывая камеру в синюю нейлоновую сумку). Ну, в конце тридцатых, по-моему. Это такой шедевр свободного мира. Оруэлла расстреляли в 39-м, во время Британского восстания. У меня где-то лежит экземпляр, возьми, почитай.
МАЙКЛ. Спасибо. А я перескажу тебе «1984-й» и «Скотный двор». У тебя от них крышу снесет.
СТИВ (выражение ему понравилось). Крышу снесет? Потрясно.
СТИВ вытягивает из нейлоновой сумки провод, пропускает его под рубашкой, сквозь рукав. На конце провода – маленькое устройство, которое он прячет в левую ладонь. Нам видны крошечные переключатели, ряд крошечных красных световых индикаторов.
МАЙКЛ с удивлением наблюдает за происходящим, он ничего не понимает. СТИВ кивком указывает ему на сумку.
Загляни туда.
МАЙКЛ наклоняется.
ДРУГОЙ РАКУРС:
Изнутри сумки камера показывает нам КРУПНЫЙ ПЛАН приближающегося лица МАЙКЛА, тот с любопытством вглядывается.
НАЗАД к ладони СТИВА, проворно щелкающего переключателями: красные индикаторы вспыхивают.
НАЗАД к КРУПНОМУ ПЛАНУ пытливого лица МАЙКЛА, которое теперь ОТЪЕЗЖАЕТ на СРЕДНИЙ ПЛАН. Контрастность изображения меняется, а следом…
Лицо МАЙКЛА неожиданно ЗАСТЫВАЕТ.
НАЗАД к торжествующе ухмыляющемуся СТИВУ.
Вот и еще один Майкл Янг для моей коллекции.
МАЙКЛ. Ах ты пронырливый сукин сын…
СТИВ. Ага, хотя, сдается, это одно из преимуществ жизни грустного, одинокого педераста. Он быстро выучивается на шпиона.
СТИВ весело подмигивает, подхватывает сумку, открывает дверь, пропуская МАЙКЛА.
Мы задерживаемся на все еще улыбающемся лице СТИВА, МАЙКЛ проходит мимо. Взгляд СТИВА провожает покидающего комнату МАЙКЛА, улыбка исчезает.
Ее сменяет выражение голода и отчаяния.
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
ОБЩИЙ ПЛАН БИБЛИОТЕКИ «КРЕСАЛО», ПРИНСТОН – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
МУЗЫКА.
Установочный план библиотеки «Кресало», камера спускается на кране от высокой башни.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР БИБЛИОТЕКИ «КРЕСАЛО», ПРИНСТОН – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
МАЙКЛ несет по коридору стопу книг. Подходит к двери, на которой значится: КОПИРОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
МАЙКЛ входит. Здесь только один человек, ПОЖИЛОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, сгорбившийся над аппаратом, одним из десятка таких же устройств, заполняющих комнату.
МАЙКЛ (победно). Хай!
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ криво улыбается ему через плечо и возвращается к своему занятию.
МАЙКЛ пожимает плечами и отходит к самому дальнему от брюзги-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ аппарату.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ ИНСТИТУТА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ, ПРИНСТОН – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
МУЗЫКА продолжается.
СТИВ сидит, прислонившись спиной к стволу большого каштана, синяя нейлоновая сумка лежит рядом с ним на земле.
На коленях СТИВА – блокнот для зарисовок, к которому мы и ПЕРЕХОДИМ.
Довольно приличный набросок бронзовой статуи «Триумф Науки», стоящей перед зданием Института квантовой механики.
СТИВ притворяется, будто рисует: взгляд его перебегает со статуи на блокнот и обратно.
Череда КАДРОВ, на которых:
ЛИЦО СТИВА, каким оно видится со стороны статуи…
С наблюдательного пункта СТИВА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СТУДЕНТЫ, входящие в здание и выходящие из него…
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ЛЕВОЙ РУКИ СТИВА: управляет маленьким пультом…
СИНЯЯ НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА, в боку ее маленькое отверстие, за которым мы различаем блеск объектива.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР БИБЛИОТЕКИ «КРЕСАЛО», КОПИРОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
МУЗЫКА продолжается.
МАЙКЛ стоит перед копировальной машиной, разглядывая ее, – машина его немного пугает. Она похожа на сканер, однако дизайн и общий вид клавиатуры для него решительно непривычны. Он открывает первую в стопке книгу. Мы видим ее титульный лист. Чарльз В. Флуд. «Глодер: Ранние годы». Яркая оранжевая наклейка в верхнем правом углу суперобложки гласит: «КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО».
МАЙКЛ перелистывает книгу до середины – скоростное чтение блоков текста. Он переворачивает книгу, окидывает взглядом корешок, проводит по нему сверху вниз большим пальцем. МАЙКЛА озадачивает, что палец ничего не ощущает.
Следом он ОБЛОЖКОЙ ВВЕРХ вставляет книгу в небольшую прорезь на аппарате, книгу сразу же плотно прихватывает зажим. Аппарат негромко гудит, книга уплывает в прорезь.
Дисплей на передней панели запрашивает: «Введите студенческий номер».
МАЙКЛ вводит номер.
На дисплее появляются слова: «Добро пожаловать, Майкл Д. Янг».
МАЙКЛ улыбается.
Приветствие сменяется запросом: «№№ страниц? 1=ВСЕ. 2=ДИАПАЗОН».
МАЙКЛ вводит: «2».
Дисплей запрашивает: «Диапазон?»
МАЙКЛ вводит: «1 – 140».
Дисплей: «Вставьте карт».
МАЙКЛ достает из сумки маленький черный карт, вставляет его в порт под главной панелью дисплея.
Аппарат начинает негромко жужжать, на дисплее появляется надпись: «Идет копирование, пожалуйста, подождите».
МАЙКЛ перебирает другие книги из пачки; мы видим обложки: А. Л. Парланж. «Глодер: аристократ»; Маутон и Гловер. «Принц Рудольф?»; «“Kampfparolen” Глодера: Новый перевод с комментариями», А. К. Спирман. Все книги снабжены той же оранжевой биркой: «КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО».
Аппарат издает гудочек, карт выходит наружу. МАЙКЛ бросает взгляд на дисплей, там значится: «Копирование завершено: удалите карт». МАЙКЛ удаляет.
Дисплей сообщает: «Скопированные данные будут стерты 29/06/96». МАЙКЛ пишет на бирке карта: «Глодер: Ранние годы» – и начинает готовить к копированию следующую книгу.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ ИНСТИТУТА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ, ПРИНСТОН – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
МУЗЫКА продолжается.
СТИВ по-прежнему мирно сидит под каштаном, притворяясь, будто рисует.
Мы видим нейлоновую сумку.
Видим левую руку СТИВА.
НАЕЗД на скрытый в сумке объектив.
МУЗЫКА усиливается, близится кульминация.
ДАЛЕЕ МОНТАЖ КАДРОВ – В КАЖДОМ ДВИЖУТСЯ И ЗАСТЫВАЮТ ЛЮДИ, ВХОДЯЩИЕ В ЗДАНИЕ И ПОКИДАЮЩИЕ ЕГО:
ДВЕ СМЕЮЩИЕСЯ, ОБНИМАЮЩИЕ ДРУГ ДРУЖКУ ЗА ПЛЕЧИ ЖЕНЩИНЫ;
СТУДЕНТ, ПОПРАВЛЯЮЩИЙ НА ТУПОВАТОЙ ФИЗИОНОМИИ ОЧКИ;
НЕВОЗМУТИМЫЙ СТАРИК В ТЕМНЫХ ОЧКАХ; ПОЖИЛОЙ ПРОФЕССОР С ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ КОПНОЙ ВОЛОС; ЧЕТВЕРКА МОЛОДЫХ СТУДЕНТОВ С МОРОЖЕНЫМ; СТАРИК, В ПРОФИЛЬ, БЕСЕДУЮЩИЙ С ЖЕНЩИНОЙ; ЕЩЕ ОДИН ТУПОВАТЫЙ СТУДЕНТ, ПОХОЖИЙ НА ПУГЛИВОГО КРОЛИКА. Внезапно -
Огромный большой ПАЛЕЦ появляется в КАДРЕ и сдвигает последнюю фотографию, показывая нам предыдущую: СТАРИК, В ПРОФИЛЬ, БЕСЕДУЮЩИЙ С ЖЕНЩИНОЙ.
МАЙКЛ (невидимый) (взволнованно шепчет). Вот он!
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР БЛИННОЙ «ПД», НАССАУ-СТРИТ – ВЕЧЕР
МАЙКЛ и СТИВ сидят за столиком у окна «ПД». Перед МАЙКЛОМ лежит пачка фотографий. Он вытаскивает одну.
МАЙКЛ. Борода, слава тебе господи, исчезла, – но это он, точно.
СТИВ берет фотографии, укладывает их в папку. Озирается.
Людей в заведении не так уж и много. За ближайшим столиком сидят ДВОЕ СТУДЕНТОВ, парень и девушка, они держатся за руки и явно безучастны ко всему окружающему. Похоже, опасности нет.
СТИВ. Ладно. Завтра выясню, где он живет. А как твои успехи в библиотеке?
МАЙКЛ. Все сделано. Пара пустяков.
СТИВ. Да?
МАЙКЛ. Легко и просто. До смешного.
СТИВ. Разумеется. Теперь надо научить тебя пользоваться «Пудом». Пойдем к тебе, я все покажу. Только помни… обо всем этом ни слова.
Приближается официантка ДЖО-БЕТ.
Приветик, Джо-Бет.
ДЖО-БЕТ. Я тебе покажу «приветик», поганец.
СТИВ (ошарашенно). Извини?
ДЖО-БЕТ. Так мы, значит, встречаемся, да? Впервые об этом слышу. Ты что, поклонник черного юмора?
МАЙКЛ (сглатывая). Эм-м… э…
СТИВ. О чем ты?
ДЖО-БЕТ. Какого дьявола, Стив Бернс, ты наплел Ронни Кэйну, будто мы с тобой встречаемся?
СТИВ. Что?
МАЙКЛ. О, нет… это я виноват… понимаете…
СТИВ и ДЖО-БЕТ удивленно смотрят на него.
(В замешательстве.) Понимаете, Джо-Бет, это я рассказал Ронни Кэйну, до чего Стив вас обожает. Ну, знаете, как он старается набраться храбрости, чтобы пригласить вас куда-нибудь. А Ронни, похоже, не так все понял…
ДЖО-БЕТ (со смущенной улыбкой). Да? Так чего ж ты мне-то не сказал, Стив? (Игриво шлепает его папкой с меню.) Если честно, ребята вы вроде как умные, а в женщинах ни фига не понимаете…
СТИВ силится улыбнуться. Он покраснел, и это вполне можно принять за подтверждение питаемых им чувств.
Конечно, я пойду с тобой куда хочешь, Стив. Ты такой милый.
МАЙКЛ (весело толкает Стива локтем). Ну! Видишь! Что я тебе говорил?
ДЖО-БЕТ. Так что…
СТИВ. Э-э…
ДЖО-БЕТ. В «Притании» как раз показывают классное кино…
КРУПНЫЙ ПЛАН СТИВА, он в полнейшем замешательстве.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН ПРИНСТОНСКОГО КАМПУСА – НОЧЬ
СТИВ. Господи Боже, Майки… МАЙКЛ. Прости. Все дело в этом болване, в Ронни. Понимаешь, он вел себя как последняя сволочь. Намеки всякие на твой счет отпускал, да еще и самым убогим, неотесанным манером… ну, я и… и…
СТИВ. И сказал ему, будто я встречаюсь с Джо-Бет.
МАЙКЛ. Да. По крайности, этот паразит заткнулся…
СТИВ. А какого хрена мне-то теперь делать? Придется в пятницу вечером тащиться с ней в кино.
МАЙКЛ. Да брось, не будь таким занудой. Можно подумать, ты в кино никогда не был.
СТИВ. Ага, а если она обниматься полезет? Нам же полагается потом пойти куда-нибудь и…
МАЙКЛ. Ну не вырвет же тебя, если она положит голову тебе на плечо? Брось! Хорошая девушка.
СТИВ. Ты так ничего и не понял? Просто не понял. Это же нечестно по отношению к ней. Неправильно.
МАЙКЛ. Ладно, ладно. Давай сделаем так. Пойду я. Скажу, что ты приболел. Напишешь ей записку, и я пойду вместо тебя.
СТИВ (страдальчески). Замечательно. А после вы вернетесь к тебе и потрахаетесь, так?
МАЙКЛ. Не знаю. Может быть. Господи, ну прости! Я думал, что оказываю тебе услугу.
СТИВ. Ага, но только когда опять захочешь оказать мне услугу, сначала спроси разрешения, ладно?
МАЙКЛ. Всего-то неделю потерпеть осталось или около того. Может, даже несколько дней, если Лео занимается тем, чем он, как я думаю, занимается. Все, пришли.
Он окидывает взглядом заросший плющом ложноготический фасад Генри-Холла.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРКИ МАЙКЛА, ГЕНРИ-ХОЛЛ – НОЧЬ
МАЙКЛ и СТИВ сидят перед компьютером. СТИВ прикладывает палец к экрану. Интонации у обоих довольно фальшивые – на случай, если в комнате присутствуют подслушивающие устройства.
СТИВ. Господи, Майки. Все-таки странно, что ты не можешь вспомнить, как пользоваться системой.
МАЙКЛ. Я знаю. Уж больно медленно все ко мне возвращается. Но я, правда, признателен тебе за помощь.
Дурацкая официальность этих речей заставляет их обменяться ухмылками шкодливых школьников.
СТИВ. Да ладно, чего там. Давай заглянем в твои рабочие файлы, идет?
По краю экрана расположено некоторое число постоянно присутствующих на нем графических значков; в центре его изображены страницы. СТИВ нажимает на значок, появляется множество желтоватых папок с надписями на каждой.
МАЙКЛ. То есть это что-то вроде Интернета, так?
СТИВ. Не понял.
МАЙКЛ. Мой компьютер подключен к другим компьютерам сети?
СТИВ. Правильно. Только это не компьютер, Майки. Это «Пуд».
МАЙКЛ. Э-э… «Пуд»?
СТИВ. Персональное устройство доступа. Компьютеры далеко отсюда, на другом краю кампуса. А «Пуд» просто позволяет тебе обращаться к собственным твоим документам.
МАЙКЛ. Ага. «Пуд». Понял. Да, конечно. Только печатать-то на нем как?
СТИВ. А зачем тебе печатать?
МАЙКЛ. Ну, как-то я с ним работать должен. Знаешь, текстовой редактор, письма, статьи и все такое.
СТИВ. Ты просто разговариваешь с ним.
МАЙКЛ. А, ну да. Разговариваю. И он узнает мой голос?
СТИВ. Естественно, узнает.
МАЙКЛ. Тогда почему он не выводит на экран то, что я говорю?
СТИВ, рассмеявшись, игриво хлопает МАЙКЛА по плечу.
СТИВ. А ты на речевой глиф нажми, олух.
Теперь перед нами экран. В верхнем левом углу его расположен значок речи, называемый «Речевым глифом».
Когда нажимаешь на речевой глиф, он высвечивается, видишь? И все, что ты произносишь – команда, текст, – появляется на экране. Потом ты касаешься его еще раз и можешь говорить что угодно, записи не будет. Ладно, я вижу, тут есть твои рабочие документы. Ты вел заметки о Гегеле, верно? Ну вот, притронься к речевому глифу и скажи «Выведи заметки о Гегеле» или «Выведи мои заметки по Гегелю», что-нибудь в этом роде. Если заметок больше одной, он выдаст меню, а ты ткнешь пальцем в то, что тебе нужно, – все очень просто.
МАЙКЛ (встревоженно). А как же чудной говор, который ко мне пристал? Английский акцент?
СТИВ. С ним сложностей не будет.
МАЙКЛ склоняется к экрану, прикасается к речевому глифу, глиф вспыхивает.
МАЙКЛ (говорит в экран: очень громко и отчетливо). Выведи мои заметки по Гегелю.
Ничего не происходит. СТИВ стукает пальцем по речевому глифу, отключая его.
СТИВ. Постой, постой. Не надо кричать. Говори нормально.
МАЙКЛ еще раз касается речевого глифа. Тот снова высвечивается.
МАЙКЛ (небрежным тоном). Выведи мои заметки по Гегелю.
Сбоку на экране открывается подобие окошка с изображением папки – разрешение очень высокое, – на обложке значится: «ЗАМЕТКИ ПО ГЕГЕЛЮ», от этой надписи уходит вниз оглавление: «Биография», «Диалектика», «Гегель и Ницше» и прочее.
Оу, вот клево!
СТИВ. Хорошо, теперь жми сюда…
МАЙКЛ прикасается к слову «Диалектика». На экране возникает изящная страница с набранным сглаженным шрифтом, очень четким и внятным текстом. Это перечень записей о Гегеле и диалектике.
Отлично, теперь, если хочешь что-нибудь изменить, нажми вот здесь. Потом коснешься речевого глифа и наговоришь, что тебе требуется. Тут не запутаешься.
МАЙКЛ смотрит на текст.
ТЕКСТ: Первая дедукция выводит идеи Ничто и Становления из идеи Бытия. Мы начинаем с Бытия, поскольку идеи более общей не существует. Прилагаемое ко всему сущему, Бытие представляется исполненным значения. И все же идея Бытия, поскольку она не проводит никаких различений, выявляет свою пустоту, обращаясь в собственную противоположность, в Ничто. Однако последующий переход Ничто в Бытие – это и есть то, что мы мыслим как Становление. Таким образом, мы получили первые три из 272 категорий Гегеля.
МАЙКЛ. Это все я написал?
СТИВ. А кто же еще?
МАЙКЛ. Ничего себе. Так я гений!
МАЙКЛ тянется к компьютеру, тычет пальцем в первое предложение: «Первая дедукция выводит идеи Ничто и Становления из идеи Бытия», нажимает на речевой глиф и произносит:
Это едва ли не самая наиклевейшая хреновина, какую я видел в жизни.
Первое предложение мгновенно заменяется на «Это едва ли не самая наиклевейшая хреновина, какую я видел в жизни».
Оу! Блеск! Полный блеск!
ТЕКСТ снова меняется: «Это едва ли не самая наиклевейшая хреновина, какую я видел в жизни. Оу! Блеск! Полный блеск!»
СТИВ, рассмеявшись, прикасается к экрану.
СТИВ. Ты забыл отключить речевой глиф.
МАЙКЛ. А как он запятые расставляет?
СТИВ. Не всегда правильно. Однако во флексиях, паузах и прочем разбирается неплохо. (Вспомнив, что их, возможно, подслушивают.) Ты уверен, что ничего этого не помнишь?
МАЙКЛ. О. Да. Конечно. Кое-что в памяти всплывает. Почти все. Просто я забыл, насколько это клево. Как четко сделано. Знаешь, действительно четко. Вот только зачем эта…
Он указывает на панельку с надписью «Двойная превосходная».
СТИВ. А это у него «самая наиклевейшая» сомнения вызывает – двойная превосходная степень.
МАЙКЛ (в изумлении покачивает головой). Ну и ну!
СТИВ. Еще бы.
МАЙКЛ. Ладно. Хорошо. Предположим, я взял в библиотеке книгу и перегрузил ее на один из этих…
СТИВ. Ты хочешь сказать – скачал ее на карт?
МАЙКЛ. Да. Скачал на карт.
СТИВ неторопливо извлекает карты из сумки МАЙКЛА. На них – сделанные рукой МАЙКЛА надписи: «Глодер: Ранние годы» и тому подобное.
СТИВ. Все, что тебе нужно, это вставить карт…
Сует карт в прорезь под экраном.
И на экране появится глиф.
Действительно, мы видим, что так оно и происходит. На экране возникает значок в виде карта.
Ты притрагиваешься к глифу и… сезам-бальзам!
Глиф разрастается до размеров экрана, теперь на нем появляются превосходно воспроизведенные страницы книги «Глодер: Ранние годы».
Чтобы перелистывать страницы, нужно прикасаться вот к этим стрелкам, видишь? Или включить речевой глиф и назвать номер нужной страницы.
МАЙКЛ. И я могу пользоваться текстом, переносить его, вставлять в мои документы?
СТИВ. Конечно. То, что хранится на карте, через две недели сотрется само собой. А любые данные, какие ты переносишь в свой текст, автоматически снабжаются сноской со ссылкой на авторские права и помещаются в библиографию, расположенную в конце документа. Чтобы не было жульничества, понимаешь? Нарушения авторских прав и тому подобного.
МАЙКЛ. Да, но где она находится, вся моя работа? Я хочу сказать – физически?
СТИВ. Черт, чего не знаю, того не знаю. Сдается, где-то в компьютерных лабораториях.
МАЙКЛ. Ладно, а допустим, я пишу письмо домой или что-то личное, дневник и так далее?
СТИВ. Если коснешься глифа приватности, вот он, никто, кроме тебя, прочитать их не сможет.
МАЙКЛ. Отлично. Стало быть, теперь я могу приняться за работу. Писать эссе, делать задания… а как это распечатывать?
СТИВ. Просто скачиваешь все на карт и идешь с ним в какую-нибудь печатню. По одной из них есть в каждом здании колледжа, в любом общежитии. Пустяк дело.
МАЙКЛ. До чего же все клево. Всегда понимал, что «Windows 95» – полное дерьмо, и все же…
СТИВ. Извини?
МАЙКЛ. Ничего, ничего. Давно все это существует? То есть я, похоже, забыл…
СТИВ. Вот это? Ну, эта штуковина древняя. Копия европейской системы семидесятых. Видел бы ты, что сейчас на подходе. Тут есть один перебежчик из Германии, Краузе, Кай Краузе. Он с собой такое притащил, что у тебя голова кругом пойдет. Мне как-то показали в компьютерной лаборатории демонстрационный образец. (Смотрит на экран.) Ладно, значит, если тебе нужно отправить сообщение, делаешь так.
СТИВ касается расположенного у края экрана глифа сообщения. Страницы текста немедленно сжимаются в точку, оставляя после себя новое изображение – череду очень красивых глифов.
Тронь речевой глиф и назови свое имя.
МАЙКЛ (прикасаясь к речевому глифу). Майкл Янг.
На экране появляются сразу два Майкла Янга. СТИВ отключает речевой глиф.
СТИВ. Ого, у тебя появился двойник. Ты – вот этот, «Янг, Майкл Д.». Второй малый – просто Янг, Майкл, без инициала. К тому же он первокурсник. Видишь? Рядом с именем стоит год поступления.
СТИВ притрагивается к имени ЯНГ, МАЙКЛ Д. Высвечивается маленькая панелька.
МАЙКЛ. Вот он я! Генри-Холл, 303! А это что за значки?
СТИВ. Глифы, это все глифы, Майки. Вот этот открывает информационное окно, этот позволяет послать голосовой вызов, этот для пейджинга, этот – чтобы оставить сообщение на чьем-нибудь «Пуде».
МАЙКЛ. Вроде е-мейла? Электронная почта, что-то такое?
СТИВ. Флэш-почта. Ты можешь послать либо голосовое сообщение, либо текстовое. А с помощью этого звонят по телефону.
МАЙКЛ касается телефонного глифа. Стоящий рядом с экраном телефон сразу начинает звонить.
МАЙКЛ. Иисусе!
СТИВ. Мои поздравления, ты только что позвонил самому себе. Таким же манером можешь позвонить и мне – любому, кто живет в кампусе. Захочешь, поговоришь с человеком, захочешь – оставишь ему записку.
МАЙКЛ берет со стола телефонный аппарат, разглядывает его. Аппарат не похож ни на один, когда-либо им виденный. Провода отсутствуют, однако отсутствует и сходство с большинством мобильников. Это скорее помесь телефона с пейджером.
СТИВ снова притрагивается к телефонному глифу, звонки обрываются.
Это твой мобильный «компуд». Теперь показываю, как посылать флэш-почту.
СТИВ кладет «компуд» на стол, касается речевого глифа. Оборачивается к МАЙКЛУ и делает ему знак – говори.
МАЙКЛ (в терминал). Здорово, Майки, ну как оно, ничего? Приятно было повидаться с тобой вчера. Ты как насчет сгонять на той неделе на «Янки»? До скорого. С любовью, Майки.
СТИВ снова притрагивается к речевому глифу, отключая его, затем нажимает на глиф мгновенной почты – окошко на экране исчезает.
Компьютер издает приятный, мурлыкающий звук, на экране вспыхивает новое окно: «Поступила флэш-почта…» МАЙКЛ пристукивает по глифу флэш-почты, раскрывается окно, в нем значится: «МАЙКЛА ЯНГА ОЖИДАЕТ ФЛЭШ-ПОЧТА ОТ МАЙКЛА ЯНГА». В динамиках, стоящих по сторонам от экрана, звучит отчетливый голос МАЙКЛА.
ДИНАМИКИ. Здорово, Майки, ну как оно, ничего? Приятно было повидаться с тобой вчера. Ты как насчет сгонять на той неделе на «Янки»? До скорого. С любовью, Майки.
МАЙКЛ (благоговейно). Мать-перемать честная!
СТИВ (пожимая плечами). Ну вот. Урок окончен.
Дальнейший их разговор предназначается для скрытых подслушивающих устройств.
МАЙКЛ (вставая и потягиваясь). Господи, Стив. Не знаю, как мне тебя и благодарить.
СТИВ (тоже вставая). Да будет тебе, благодарить меня не за что. Зато теперь-то уж ты от работы не отвертишься.
Они стоят лицом друг к другу. СТИВ смотрит МАЙКЛУ в глаза.
МАЙКЛ (смущенно). Ну… СТИВ (ему тоже несколько не по себе). Хорошо. Ладно, тогда я, наверное…
МАЙКЛ, к собственному удивлению, притягивает СТИВА к себе. Кладет ему на щеку ладонь.
СТИВ, неспособный пошевелиться, во все глаза смотрит на МАЙКЛА. Ладонь на его щеке словно провод под током.
МАЙКЛ (почти неслышно шепчет). Я серьезно, правда… спасибо.
Он наклоняется, целует СТИВА в губы.
СТИВ, охватив МАЙКЛА за шею, крепко прижимает к себе его голову.
Внезапно МАЙКЛ прерывает поцелуй, отталкивает СТИВА, подходит к двери, распахивает ее.
(Отчетливо произносит.) Ладно, Стив. Спокойной ночи.
СТИВ (разочарованный, уязвленный). Да, правильно… конечно. Спокойной ночи.
МАЙКЛ мгновенно, со стуком, закрывает дверь, лишая СТИВА возможности выйти. Прикладывает палец к губам.
СТИВ понимает его мгновенно. Он улыбается, лучезарно и облегченно. В глазах его нет ничего, кроме чистой любви и радости.
Они обнимаются.
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
ОБЩИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ – ПОД ВЕЧЕР
СТИВ снова сидит под каштаном, к стволу которого прислонен велосипед. Он читает. Бросает взгляд на вход в здание. Никого. Стив зевает, смотрит в небо. Вид у него удовлетворенный, мечтательный.
Он тянется к нейлоновой сумке, достает «ком-пуд», похожий на тот, что мы видели в комнате МАЙКЛА: сочетание телефона и пейджера.
СТИВ, улыбаясь сам себе, стучит по клавишам.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРКИ МАЙКЛА – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
МАЙКЛ сидит за «Пудом», быстро и теперь уже уверенно перебирая глифы.
На экране одно за другим возникают окошки, разрастаясь, сокращаясь и смешиваясь. Мы видим, как подсвечиваются и перемещаются большие куски текста. В них множество раз встречается имя «Глодер».
Внезапно на экране появляется, сопровождаясь МУРЛЫКАЮЩИМ ЗВУКОМ, панелька: «Поступила флэш-почта…»
МАЙКЛ, удивленный, прикасается к ней.
Открывается окно: «Флэш-почта от С. Бернса, Диккинсон-Холл, 105».
МАЙКЛ читает текст.
СООБЩЕНИЕ: Ты такой клевый… ЦЦЦ
МАЙКЛ улыбается, закрывает окно. Пробегает пальцами по экрану.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
СТИВ внезапно вскакивает, смотрит на вход.
Мы видим – его глазами – выходящего из здания ЛЕО – будем по-прежнему называть его так – с кейсом в руке.
СТИВ взбирается на велосипед, опускает книгу в нейлоновую сумку и забрасывает сумку через плечо.
ДРУГОЙ РАКУРС:
ЛЕО шагает к автомобильной парковке, на заднем плане виден описывающий ленивые круги СТИВ.
ЛЕО усаживается в машину, небольшую, темно-синюю, с открывающимся верхом, кладет кейс на пассажирское сиденье.
ПЕРЕХОД К:
ЛЕО выезжает из парковки, СТИВ, яростно крутя педали, следует за ним.
ПЕРЕХОД К:
СТИВ, согнувшись над рулем, не отрывает глаз от машины впереди.
Внезапно мы слышим доносящееся из его сумки БИП-БИП-БИП.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН НАССАУ-СТРИТ, ПРИНСТОН – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
ЛЕО, влившийся в поток тянущихся к западу машин, стоит, постукивая пальцами по рулю, на красном свете. Через две машины от него замер, небрежно привалясь к счетчику парковки, СТИВ.
СТИВ, поглядывая на машину ЛЕО, достает из сумки «компуд», нажимает кнопку. Мы видим сообщение.
СООБЩЕНИЕ: Сам ты сволочной, приставучий, клевый-преклевый пижон… ЦЦЦ
СТИВ улыбается от уха до уха. Потом быстро поднимает взгляд. Светофор переключился на зеленый, машины приходят в движение.
Так и держа «компуд» в руке, СТИВ устремляется следом за ними.
По счастью, в Принстоне час пик.
Машин на дороге достаточно, чтобы СТИВУ удавалось не упускать ЛЕО из виду.
ЛЕО едет по Нассау на запад, потом сворачивает налево. СТИВ следует за ним.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРКИ МАЙКЛА, ГЕНРИ-ХОЛЛ – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
МАЙКЛ по-прежнему занят работой. Появляется СООБЩЕНИЕ: «Карт полон!»
МАЙКЛ вынимает карт, заменяет его другим.
Пока он надписывает заполненный карт, терминал издает еще один МУРЛЫКАЮЩИЙ ЗВУК. «Поступила флэш-почта…»
МАЙКЛ прикасается к экрану, читает текст.
СООБЩЕНИЕ: БА-БАХ! ЛОГОВО НАЙДЕНО…
ЦЦЦ
P. S.: «СВОЛОЧНОЙ» ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
МАЙКЛ улыбается, тычет пальцем в экран.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН МЕРСЕР-СТРИТ, ПРИНСТОН – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
СТИВ стоит напротив дома, велосипед его прислонен к стволу дерева.
Мы видим припаркованный сбоку от дома темно-синий автомобиль и номер на входной двери – 22.
Снова звучит зуммер.
СТИВ вытаскивает устройство связи.
СООБЩЕНИЕ: Чисто сработано! Мне нужно много чего напечатать. «А и Б», 7.00? P. S.: «Сволочной» – лучше некуда. ЦЦЦ
СТИВ нажимает на кнопку «компуда» и весело вспрыгивает на велосипед.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ГЕНРИ-ХОЛЛА – НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СПУСТЯ
МАЙКЛ, прижимая к груди сумку, выходит из своей двери. Запирает ее, идет по коридору.
Сбегает по лестнице, перепрыгивая по пять ступенек за раз, выскакивает в вестибюль. Приближается к двери с табличкой «Печатная», входит внутрь.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР «ПЕЧАТНОЙ», ГЕНРИ-ХОЛЛ – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
МАЙКЛ, он здесь один, подходит к большому принтеру, нажимает кнопку на его передней панели. Появляется запрос: «Студенческий номер?»
МАЙКЛ вводит свой номер. Новое сообщение: «Здравствуйте, Майкл Д. Янг. Пожалуйста, вставьте карт…»
МАЙКЛ вынимает из сумки несколько картов, перебирает их, вставляет первый. Следующий запрос: «Число копий?»
МАЙКЛ нажимает клавишу «1». Запрос: «Способ подборки? 1=СВОБОДНАЯ 2=ПРОБИВКА 3=ПАПКИ».
МАЙКЛ на мгновение задумывается. Оглядывается вокруг, видит на полке над принтером подносик, наполненный зелеными тесемками для брошюровки. Нажимает на панели управления «2».
Сообщение: «Идет печать. Пожалуйста, подождите». Слышно, как гудит принтер, как один лист бумаги за другим снимается со стопы, втягивается в машину и проходит по роликам.
МАЙКЛ отступает к стулу, достает из сумки книгу. Мы видим обложку: Джордж Оруэлл. «Падение тьмы». МАЙКЛ приступает к чтению.
МУЗЫКА.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР ГЕНРИ-ХОЛЛА, «ПЕЧАТНАЯ» – УСКОРЕННАЯ СЪЕМКА
Последовательность кадров:
Из панели управления принтера выщелкивается карт, на дисплее появляется: «Следующий карт».
МАЙКЛ вскакивает со стула, кладет на него книгу, берет следующий карт, вставляет его в принтер.
Возвращается к стулу.
Панель управления выбрасывает карт.
МАЙКЛ вставляет новый: изображение ГАСНЕТ – выбрасывается новый карт. Двойная, тройная экспозиция: МАЙКЛ, встающий, садящийся, вставляющий карт, карт выбрасывается.
Звучит зуммер принтера.
КРУПНЫЙ ПЛАН дисплея.
МУЗЫКА СМОЛКАЕТ.
На дисплее значится: «224 страницы. С вашего счета снято 25.00 долларов. Спасибо, Майкл Д. Янг».
МАЙКЛ стоит, глупо вперясь взглядом в экран. А где же распечатка?
Он обходит вокруг принтера. На задней панели – литая пластмассовая рукоять.
МАЙКЛ опасливо отводит ее вверх.
Мы видим высокую стопку страниц, опрятно уложенных, выровненных, с круглыми отверстиями в верхнем левом углу каждой.
На самой верхней значится:
Из Байрейта в Мюнхен: Корни власти.
Майкл Д. Янг
Под этим – отпечатанный в сепиевых тонах, сделанный на рубеже двадцатого века снимок очень молодого Рудольфа Глодера.
МАЙКЛ любовно взирает на манускрипт.
МАЙКЛ (чуть слышно). Das Meisterwerk!
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН «АЛХИМИКА И БАРРИСТЕРА», ПРИНСТОН – НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ
МАЙКЛ и СТИВ, сидя за столиком в ближнем к улице углу двора, потягивают пиво. Столики, стоящие по сторонам от них, пусты. МАЙКЛ окидывает взглядом остальные.
СТИВ. Эй, ты только в паранойю не впадай. Уж больно вид у тебя от этого подозрительный делается.
МАЙКЛ. Мерсер-стрит, 22. Ты уверен?
СТИВ. Конечно, уверен. Я тебе покажу по карте. Найти проще простого. Как твоя распечатка?
МАЙКЛ поднимает с пола сумку, открывает ее.
СТИВ заглядывает внутрь.
Господи, неужели это ты сам столько накатал?
МАЙКЛ. Там сплошные повторы. Он увидит только два десятка начальных страниц. Уж об этом я позабочусь.
СТИВ. Ты у нас босс, тебе решать.
Некоторое время они потягивают пиво. Внезапно МАЙКЛ вскакивает.
МАЙКЛ. Черт! Сегодня же пятница. Джо-Бет!
СТИВ мрачно кивает.
СТИВ. Знаю. Я обдумал это, все в порядке.
МАЙКЛ. «Ты это обдумал, все в порядке». И как тебя понимать?
СТИВ. К ней пойду я. Без проблем.
МАЙКЛ. Ты отправишься на свидание с ней?
СТИВ. Угу. Отправлюсь.
МАЙКЛ. А если она… ну, ты понимаешь… воспримет все близко к сердцу?
СТИВ. Как-нибудь справлюсь.
МАЙКЛ некоторое время размышляет над услышанным.
МАЙКЛ. Выходит, теперь моя очередь ревновать.
СТИВ тронут.
СТИВ. Брось. Ты говоришь это, чтобы порадовать меня.
МАЙКЛ. Ты полагаешь?
СТИВ не знает – верить ему или не верить.
СТИВ. Давай еще по пиву. Мне бы не повредило. Для храбрости.
МАЙКЛ. Слушай, ну не укусит же она тебя, сам знаешь. Может, тебе даже понравится. Девушка хорошая. Бывают вещи и похуже.
СТИВ (вставая). Это точно.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН НАССАУ-СТРИТ – НОЧЬ
СТИВ, теперь он в пиджаке и при галстуке, медленно идет по улице. Приближается к блинной «ПД». Заглядывает в окно. Почти ничего не видно. СТИВ дважды сглатывает, поправляет галстук и заходит внутрь.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР БЛИННОЙ «ПД» – НОЧЬ
ДЖО-БЕТ вешает в шкафчик свой рабочий костюм. Услышав скрип двери, оборачивается.
СТИВ (застенчиво). Привет, Джо-Бет.
ДЖО-БЕТ (смущенно). А, Стив. Привет! Послушай, м-м… я пыталась с тобой связаться… но…
СТИВ. Что-нибудь случилось?
Сидевший за столиком спиной к ним МУЖЧИНА встает, поворачивается. Это РОННИ.
РОННИ. Случился я…
СТИВ (удивленно смотрит на него). Ронни?
РОННИ (самодовольно пожимает плечами). Извини, друг. Но знаешь, как говорят. В любви и на войне все средства хороши, понимаешь, о чем я?
СТИВ. О… ты насчет того, что вы с?… Да, понимаю.
ДЖО-БЕТ. Стив, мне правда очень жаль. Правда. Просто Ронни и я. Мы…
СТИВ (выставляет вперед ладонь). Эй. Не надо. Правда. Все в порядке. Я понимаю. Вполне. Вполне понимаю. Честно. Поверь мне.
РОННИ, широко улыбаясь, подходит к нему.
РОННИ. Эй. Держи, Стив. Давай по-мужски.
СТИВ стискивает и пару раз встряхивает ладонь РОННИ. Серьезные мужские дела.
СТИВ. Конечно. Все в порядке. Я… ладно, еще увидимся. Приятного вам вечера, слышите? Сходите в кино или… ну, сами знаете… все что угодно…
СТИВ пятится, изо всех сил стараясь изобразить на лице и горькое разочарование, и великодушие потерпевшего поражение человека, даром что ощущает он лишь ликование с облегчением.
ПЕРЕХОД К:
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРКИ МАЙКЛА, СПАЛЬНЯ, ГЕНРИ-ХОЛЛ – НОЧЬ
МАЙКЛ, лежа в постели, читает «Падение тьмы». Услышав, как открывается дверь, настороженно садится.
Дверь спальни распахивается, на пороге стоит СТИВ.
МАЙКЛ удивленно смотрит на него, потом переводит взгляд на часы. Всего лишь десять.
МАЙКЛ беззвучно, одними губами, спрашивает: «Как кино?»
СТИВ медленно покачивает головой, сбрасывает обувь.
Так же беззвучно сообщает: «Ронни».
МАЙКЛ включает на полную громкость приемник у кровати. Спальню наполняет музыка кантри.
МАЙКЛ (под музыку). Ты сказал «Ронни»?
СТИВ. Надо отдать ему должное, он быстро ее окрутил.
МАЙКЛ. То есть тебя бортанули? Поматросили и бросили? Дали от ворот поворот? Вот уж не думал, что у Джо-Бет такой плохой вкус.
СТИВ улыбается, присаживается на кровать, ерошит МАЙКЛУ волосы.
СТИВ (ему явно по душе это слово). Какой же ты клевый…
Тянется к радио и выключает его.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН МЕРСЕР-СТРИТ, ПРИНСТОН – РАННЕЕ УТРО
Камера ОТЪЕЗЖАЕТ от дома номер 22, у которого так и стоит синяя машина ЛЕО.
Мы видим улицу, прекрасную в раннем свете. Пение птиц, солнечные пятна на тротуаре, идиллическое летнее утро.
МАЙКЛ, прислонясь к дереву, сидит на велосипеде. В руках у него сумка, он перебирает страницы рукописи.
Около двадцати первых лежат свободно, остальные накрепко стянуты тесьмой.
Услышав шум, он смотрит вдоль улицы на 22-й номер.
Дверь открывается, выходит, держа под мышкой кейс, ЛЕО.
МАЙКЛ замирает, потом пристраивает сумку на плечо и сгибается над рулем, готовый рвануть с места.
ЛЕО включает двигатель своей машины, щелкает рычажком приемника.
Разливается МУЗЫКА. «Героическая» Бетховена.
Напевая себе под нос, ЛЕО коротко взглядывает в зеркальце заднего обзора и медленно, задом, сдает машину по подъездной дорожке.
ДРУГОЙ РАКУРС:
МАЙКЛ, согнувшись, держась поближе к деревьям, с силой крутит педали.
ДРУГОЙ РАКУРС:
Со стороны подъездной дорожки неторопливо появляется багажник автомобиля.
ДРУГОЙ РАКУРС:
ЛЕО громко подпевает Бетховену.
ДРУГОЙ РАКУРС: более ШИРОКИЙ, СВЕРХУ, – велосипед МАЙКЛА несется прямо на багажник.
ДРУГОЙ РАКУРС:
ЛЕО поет уже во всю мочь; машина начинает двигаться быстрее и…
ТРАХ! БАХ!
Переднее колесо МАЙКЛА врезается в синий металл машины ЛЕО.
В воздух взлетают СТРАНИЦЫ.
ЛЕО, перепуганный, бьет по тормозам. Вокруг его головы порхают залетевшие в машину страницы.
ЛЕО выключает двигатель, МУЗЫКА стихает.
ЛЕО (выскакивая из машины). О мой бог. Мой бог!
МАЙКЛ картинно раскинулся на земле. Основная часть рукописи так и осталась в сумке.
ЛЕО подходит к нему, испуганно наклоняется. Он говорит с сильным немецким акцентом, в котором отсутствует даже намек на американские интонации.
У вас все цело? О, лишь бы у вас все было цело! Я не заметил вас. Просто не увидел. Простите меня, простите.
МАЙКЛ (вставая). Оу – все путем, сэр. Кости на месте. Ффух!
Отряхивается.
ЛЕО. Вы уверены? У вас нигде не болит?
МАЙКЛ. Смотреть надо было, куда лечу. Сам виноват. Еще и ехал не по той стороне улицы… о, Иисусе, моя работа!
МАЙКЛ в ужасе смотрит на разбросанные вокруг машины и залетевшие в нее листы.
ЛЕО. Я все соберу. Соберу, не беспокойтесь. Прошу вас, не двигайтесь.
МАЙКЛ заглядывает в сумку.
МАЙКЛ. Большая часть еще здесь. Черт! Я уж решил, что мне кранты.
ЛЕО, перемещаясь вприпрыжку, собирает лежащие в машине и у бордюра страницы.
ЛЕО. Ну вот. Они не пострадали. Они…
Он умолкает. Увидел титульный лист. МАЙКЛ невинно взирает на него.
МАЙКЛ. Они там все, сэр? Сдается, мне стоит… (Заглядывает в сумку.) Страницы с первой по двадцать четвертую.
ЛЕО перебирает, пересчитывая, страницы. МАЙКЛ внимательно вглядывается в его лицо.
ЛЕО (с любопытством, но и с настороженностью). Здесь все. Так вы изучаете историю?
МАЙКЛ. Я? О нет, сэр. Философию.
ЛЕО. Философию? Однако название вашей работы, оно…
МАЙКЛ. Да, правильно! Видите ли, это рассуждение о зле.
ЛЕО. О зле? Рассуждение о зле?
МАЙКЛ. Ага. Курсовая по этике. Я исследовал первые годы жизни Рудольфа Глодера. Выяснил кучу подробностей из его детства. Об этом времени написано совсем мало. Вы бы удивились, узнав, что я обнаружил. Насчет его матери, рождения. Насчет всего. У меня есть теория, что… о, простите, сэр. Я нагоняю на вас скуку.
ЛЕО. Нет-нет. Ничуть. Скуку? Нет.
МАЙКЛ протягивает руку.
МАЙКЛ. Так можно я возьму их, сэр?
ЛЕО (отсутствующе). Виноват?
МАЙКЛ. Страницы?
ЛЕО. А, да. Конечно. Вот. Прошу прощения. (Отдает страницы, Майкл прячет их в сумку.) Просто дело в том, что выглядит это как-то непонятно. Юноша ваших лет… в этой стране. В Америке.
МАЙКЛ. Сэр?
ЛЕО. То, что вы ломаете голову над подобной темой. Что вы можете знать о зле?
МАЙКЛ. Ну, сдается, мы все о нем что-то да знаем, сэр. Я хочу сказать, достаточно лишь газету открыть, правда? Преступность. Детоубийства. Коррупция. А в истории? Бомбардировки Москвы и Ленинграда. Эс-Е-Гэ. И…
ЛЕО. Виноват? Есиге? Что за есиге?
МАЙКЛ. Эс-Е-Гэ, сэр. Свободное Еврейское государство.
ЛЕО. Ах да, конечно. Эс-Е-Гэ, понимаю. А что вам о нем известно?
МАЙКЛ (пожимая плечами). Да, наверное, то же, что и всем прочим. Всякие ходили слухи. Но, знаете…
ЛЕО (кивая). Да. Слухов всегда хватает.
МАЙКЛ. Ну что же. Простите, что налетел на вас, сэр… сдается, мне лучше двигать…
МАЙКЛ горестно оглядывает переднее колесо велосипеда – покривившееся, со спущенной шиной и торчащими в стороны спицами.
ЛЕО. Двигать? Господи, да о чем вы? Вам нужно зайти в дом, почиститься. Я отправлю ваш велосипед в починку.
МАЙКЛ. О, в этом нет никакой необходимости, сэр…
ЛЕО. Нет-нет. Я настаиваю. Пожалуйста. А после я вас… как это называется? Вы же куда-то направлялись.
МАЙКЛ. Подбросите.
ЛЕО (удивленный). Подброшу? Это ведь, кажется, английское выражение, нет?
Опля…
МАЙКЛ (торопливо). Мы тоже иногда говорим «подбросить». Или «подкинуть».
ЛЕО. Да-да. «Подкинуть». Это я и имел в виду. Куда более по-американски. Я подкину тебя до центра, парднер. Однако сначала вы должны привести себя в порядок. Прошу вас.
МАЙКЛ подбирает велосипед, прислоняет его к изгороди. Они идут по дорожке – МАЙКЛ браво прихрамывает – к парадной двери дома.
ДРУГОЙ РАКУРС:
ЛЕО и МАЙКЛ, снятые ДЛИННОФОКУСНЫМ ОБЪЕКТИВОМ, отчего изображение слегка расплывается, входят в дом, дверь закрывается.
ДРУГОЙ РАКУРС:
СТИВ, примостившись на дереве, смотрит в видоискатель камеры, к которой теперь привинчен длинный телеобъектив.
СТИВ опускает камеру и, откинувшись в развилке дерева, болтает ногами. Похоже, все идет по плану.
Что-то привлекает его внимание. Он снова выпрямляется, подносит камеру к глазу.
ДРУГОЙ РАКУРС:
ВИД СКВОЗЬ КАМЕРУ СТИВА. Перед нами вереница машин, выстроившихся вдоль Мерсер-стрит.
Мы проезжаемся по ней глазами, останавливаемся, возвращаемся назад, к БОРДОВОМУ СЕДАНУ, стоящему капотом к нам. Стекло водительского окна седана опущено, нам виден торчащий из него локоть. Рука распрямляется, стряхивает на мостовую сигаретный пепел.
Ветровое стекло машины отражает слишком много света, не позволяя различить лицо сидящего за рулем человека.
ДРУГОЙ РАКУРС:
СТИВ роется в синей нейлоновой сумке и от спешки едва не срывается с дерева.
Восстановив равновесие, он выуживает из сумки серебристую коробку, открывает ее. Вынимает стеклянный кружок, подносит его к свету, глядит сквозь него.
Протирает стекло извлеченным из коробки кусочком шелка. Закрывает коробку, возвращает ее в сумку и, обвив для надежности одной рукой ветку, аккуратно крепит стеклянный кружок к телеобъективу. И снова поднимает камеру к глазу.
ДРУГОЙ РАКУРС:
ВИД СКВОЗЬ КАМЕРУ СТИВА. Мы опять движемся вдоль ряда машин. На этот раз поляризационный фильтр позволяет нам заглядывать в сверкающие отраженным светом ветровые стекла. Мы останавливаемся на БОРДОВОМ СЕДАНЕ.
СТИВ (невидимый). Ах, дерьмо небесное…
Сидящий за рулем мужчина СТИВУ знаком. Это ХАББАРД.
ПЕРЕХОД К:
СТИВ роняет камеру, и та повисает у него на груди. Он снова открывает сумку и лихорадочно роется в ней, отыскивая «компуд».
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН МЕРСЕР-СТРИТ, ПРИНСТОН – РАННЕЕ УТРО
МАЙКЛ в кухне, стоит, утвердив одну ногу на столе. ЛЕО поворачивается от раковины, держа в руке пропитанный водой клочок хлопковой ткани. Промокает им ободранное колено МАЙКЛА.
МАЙКЛ чуть морщится.
ЛЕО (обеспокоенно). Больно?
МАЙКЛ. Нет-нет. Все в порядке. Немного щиплет, и только. Я чувствую себя мальчиком из «Посредника».[168]
ЛЕО. Виноват?
МАЙКЛ. Это кино такое. Там мальчик, соскальзывая со скирды, рассекает колено, а Алан Бейтс промывает его, совсем как вы сейчас.
ЛЕО. Никогда этого фильма не видел.
МАЙКЛ. Ну да. Думаю, не видели. Простите, мне следовало представиться. Я Майкл Янг.
ЛЕО. Рад знакомству, Майкл. А моя фамилия – Франклин. Честер Франклин.[169]
МАЙКЛ (подавляя смешок). Правда? Ну что же, рад знакомству, мистер Франклин. (Протягивает руку.)
ЛЕО (пожимая ее). Мое имя кажется вам забавным?
МАЙКЛ (поспешно). Нет! Извините, пожалуйста. Просто… ну, знаете…
ЛЕО подходит к корзинке для мусора, бросает в нее тряпицу.
ЛЕО. Вы правы. Разумеется, имя не настоящее.
МАЙКЛ. Да мне-то что! Это не мое дело, мистер Франклин. Или правильнее – доктор Франклин?
ЛЕО. Профессор Франклин. Но прошу вас, зовите меня Честером.
МАЙКЛ. Идет, Честер. А меня народ кличет «Майки».
ЛЕО. Так скажите, э-э… Майки. Написанная вами работа представляется мне весьма…
Слова ЛЕО прерывает громкое гудение зуммера.
МАЙКЛ. Ну вот. Мой «компуд». Вы не против?
ЛЕО. Прошу вас…
Сумка МАЙКЛА стоит рядом с ним на кухонном столе. Повернувшись спиной к ЛЕО, он вытаскивает «компуд», смотрит на экран. Затем на секунду закрывает глаза, торопливо размышляя.
Поворачивается к ЛЕО.
МАЙКЛ (громко). Господи, как вы любезны, что позволили мне привести себя в порядок, Честер.
Произнося это, он подходит к большому блокноту с желтыми листами, берет лежащую рядом с ним ручку. Начинает с лихорадочной поспешностью писать, ручка так и порхает над страницей.
(Громко, не переставая писать). Знаете, какой я разиня? Уже в третий раз за эту неделю слетаю с велосипеда.
ЛЕО. Уверен, это была не ваша вина…
МАЙКЛ (перебивая его). Друзья говорят, что мне лучше пересесть на трехколесный. Видели такие? Может, так будет и безопаснее. А хороший у вас дом, Честер. И улочка тихая. Я-то в общежитии живу. Вы любите бейсбол, Честер?
ЛЕО (несколько озадаченный его болтовней). Ну, я…
МАЙКЛ. Для меня бейсбол – вся жизнь. Я ем бейсбол, пью бейсбол и сплю с бейсболом. Попробуйте как-нибудь сходить на матч. Это игра, в которую ангелы играют в раю. Вам, я думаю, футбол должен нравиться, так? У нас здесь в него, считай, не играют. Есть, правда, американский футбол, никогда не видели? И еще баскетбол. Правда, чтобы дотягиваться до самой корзины, рост нужен немалый, понимаете? А у меня, сдается, в лучшем случае средний, мне всегда хотелось быть повыше. Но, сами понимаете, хотеть – одно, а иметь – другое.
Изрекая эту премудрость, МАЙКЛ вырывает из блокнота верхний листок и протягивает ЛЕО. МАЙКЛ – лицо его говорит: дело очень важное – подносит листок к самым глазам ЛЕО. ЛЕО, недоумевая, вытаскивает очки, читает.
Мы тоже читаем записку, глазами ЛЕО. Она написана крупными, печатными, прописными буквами.
ЗАПИСКА: Верьте мне. За нами следят. Я знаю – вы Аксель Бауэр. Я друг. Я могу помочь. Я знаю о вашем отце, о Кремере, Браунау и Аушвице. Вы должны верить мне. Я могу вам помочь.
МАЙКЛ прикладывает палец к губам.
МАЙКЛ (громко). Ого! Времени-то! Черт, мне пора. Так вы меня подкинете?
ЛЕО лишь молча стоит на месте, его бьет едва приметная дрожь.
МАЙКЛ несколько раз с силой кивает. ЛЕО, вздрогнув, выходит из оцепенения.
ЛЕО. Э? Подкинуть? Да, конечно. Разумеется.
МАЙКЛ (небрежно и громко). Пожалуй, мы могли бы засунуть мой велик назад, если вас не смущает, что на сиденье попадет немного грязи.
ЛЕО встряхивает головой, до него доходит: нужно что-то ответить, этого ждут подслушивающие устройства.
ЛЕО (еще громче, чем МАЙКЛ). Нет! Ничего страшного. Подумаешь, грязь.
МАЙКЛ слегка подмигивает и, улыбаясь, качает головой. Он берет совершенно ошарашенного, потрясенного ЛЕО за плечо и ведет в прихожую. Однако по пути его посещает новая мысль.
МАЙКЛ бегом возвращается на кухню, к желтому блокноту. Вырывает несколько верхних страниц, потом еще несколько. Какого черта? МАЙКЛ выдирает штук тридцать сразу и все их уносит с собой.
МАЙКЛ (присоединяясь в прихожей к ЛЕО). Ну так. Стало быть, делаем ноги. Оборот, может, и не из лучших, но вы меня понимаете, да?
ЛЕО (по-прежнему слишком громко). Да. Я вас понимаю. Делаем ноги! Ха-ха! Очень забавно.
Направляются к выходной двери.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН МЕРСЕР-СТРИТ – ВРЕМЯ ТО ЖЕ СРЕДНИЙ ПЛАН ЛЕО и МАЙКЛА, запихивающих велосипед на заднее сиденье и усаживающихся на передние.
ДРУГОЙ РАКУРС:
СТИВ на дереве, наблюдает за улицей.
Машина задним ходом скатывается с подъездной дорожки. ЛЕО снова приходится ударить по педали тормоза, поскольку мимо проносится еще один велосипедист.
ПЕРЕХОД К:
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
ЛЕО. Мой бог! Опять!
МАЙКЛ (глядя назад). Порядок. Чисто. Можно ехать.
ПЕРЕХОД К:
ВИД СКВОЗЬ КАМЕРУ СТИВА.
Синяя машина ЛЕО сдает назад, разворачивается и уезжает по улице.
Мы ПЕРЕВОДИМ ВЗГЛЯД на БОРДОВЫЙ СЕДАН – из окна вылетает окурок, машина трогается, следует за ЛЕО.
ПЕРЕХОД К:
СТИВ опускает камеру, лицо у него встревоженное.
ПЕРЕХОД К:
ОБЩИЙ ПЛАН УЛИЦ ПРИНСТОНА – УТРО
Машина ЛЕО выезжает на Нассау.
ПЕРЕХОД К:
ВНУТРИ МАШИНЫ ЛЕО – ВРЕМЯ ТО ЖЕ
ЛЕО выглядит напуганным до смерти, машина плохо слушается его.
МАЙКЛ. Если сможете подвезти меня до Университетской площади, будет отлично.
ЛЕО. Прошу вас, скажите мне, что…
МАЙКЛ прерывает ЛЕО, кладя ему на плечо ладонь. ЛЕО поворачивается к нему. МАЙКЛ указывает на приборную доску машины, потом себе на уши. ЛЕО понимает. Даже машина может прослушиваться.
МАЙКЛУ приходит в голову мысль. Он включает радио. Громовая МУЗЫКА: вступление к третьему действию «Лоэнгрина», рев фанфар.
МАЙКЛ (перекрикивая музыку). Извините, Аксель, но осторожность нам не повредит.
ЛЕО. Кто вы? Как узнали мое имя? Мой бог! Я понял! Это вы! Тот самый!
МАЙКЛ (недоуменно хмурится). То есть?
ЛЕО. Вы тот студент из поезда, так? Они сказали мне, что я разговаривал во сне. Дали лекарство, которое избавляет от этого. Вы тот студент, который слышал, как я разговаривал в поезде.
МАЙКЛ. А… Ну да. Послушайте, я должен извиниться перед вами. Я просто наплел им про ваши разговоры во сне. Это неправда. Я никогда не ехал в одном с вами поезде. И уверен, что вы не разговариваете во сне. Понимаете, мне нужно было как-то объяснить, откуда я столько о вас знаю. И я в тот раз ничего другого придумать не смог.
ЛЕО (в ужасе). Вы англичанин! У вас английский выговор! На кого вы работаете? Я немедленно останавливаю машину!
Автомобиль заносит. Визжат тормоза. Сзади летят гудки клаксонов.
МАЙКЛ (отчаянно стараясь вывернуть руль). Нет! Ради бога, езжайте дальше! За нами почти наверняка следят.
ЛЕО. Следят? Следят? Но кто?
МАЙКЛ. Вам знакомы Хаббард и Браун?
ЛЕО. Да, знакомы.
МАЙКЛ. Хаббард наблюдал сегодня за вашим домом.
ЛЕО. Но Хаббард мой друг! А вы… Вы работаете на Европу. Вы нацист!
МАЙКЛ (стараясь перекричать музыку). Нет! Прошу вас, поверьте мне. Я не нацист. Послушайте, я кое-что знаю. Такое, что следует знать и вам. Если я не ошибаюсь, вы пытаетесь построить машину.
ЛЕО. Машину? Какую машину?
МАЙКЛ. Генератор искусственной квантовой сингулярности. Способный создать окно в прошлое. Вас терзает вина вашего отца. Завод, построенный им в Аушвице для производства «Воды Браунау». Возможно, вы хотите отправить что-то в прошлое. Быть может, что-то, способное разрушить фабрику. Или помешать рождению Рудольфа Глодера. Однако я знаю, что вам действительно следует сделать. Знаю ответ.(Оглядывается по сторонам.) Остановитесь вон там, у рынка.
Машина сворачивает на Университетскую площадь. Тем временем вступление к третьему действию «Лоэнгрина» сменяется следующим за ним «Свадебным маршем».
ЛЕО под визг тормозов останавливает машину у рынка «Уова». Рядом с рынком виднеется вывеска велосипедного магазина – «ВЕЛОРАМА».
Мне известен секрет «Воды Браунау». Известно, откуда она взялась. Я знаю, кто больше ста лет назад влил ее в цистерну. Поверьте мне. Я знаю.
ПРОХОЖИЙ (кричит). Эй!
ЛЕО подскакивает на сиденье. ПРОХОЖИЙ заглядывает в машину.
(Кричит, перекрывая музыку.) Поздравляю со свадьбой, братцы, но, может, увернете немного звук, а?
МАЙКЛ отмахивается от него.
МАЙКЛ (кричит в ухо ЛЕО). Озеро. Вест-Виндзор. Сегодня вечером. В восемь. Пожалуйста! Я друг. Поверьте. Только убедитесь в отсутствии слежки. За вами поедет мой друг. Он будет одет в красное.
ПРОХОЖИЙ просовывает руку в машину и убавляет громкость.
ПРОХОЖИЙ. Засранцы!
ПРОХОЖИЙ выпрямляется и, как то и подобает его имени и природе, проходит.
МАЙКЛ (вслед ему). Извини, друг. (К ЛЕО: поддельно нормальным тоном.) Ладно, спасибо, что подкинули, Честер. Очень приятно было познакомиться с вами. Надеюсь, все у вас пойдет путем. Вы бы, правда, посмотрели как-нибудь матч.
МАЙКЛ вылезает из машины, стаскивает с заднего сиденья велосипед, поворачивается к «Велораме».
ЛЕО сидит, незряче глядя перед собой.
Ну, всего, Честер. Я так ПОНИМАЮ, вам лучше поспешить, верно?
ЛЕО оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на МАЙКЛА, глаза его полны сомнения и тревоги.
МАЙКЛ произносит одними губами: «Верьте мне», взмахивает на прощанье рукой и идет к магазину.
На заднем плане мы видим капот остановившегося за углом БОРДОВОГО СЕДАНА. Он не едет за ЛЕО. Когда МАЙКЛ входит в магазин, СЕДАН так и остается стоять на месте.
ЗАТЕМНЕНИЕ
Как творить историю
Крысы
Лучше бы стояла зима. Зимой в Принстоне, если верить Стиву, холодно. Случается, температура падает и ниже двадцати. Сейчас повсюду лежал бы снег со льдом, путь до Виндзора оказался бы трудным, скверным и опасным. Но хоть темно было бы. Благословенная, роскошная темнота, в которой я, крутя педали, мог бы видеть фары едущей за мной машины, и эта роскошь искупала бы любые телесные неудобства.
С другой стороны, думал я, в четвертый раз покидая дорогу и укрываясь вместе с велосипедом за деревом, в распоряжении Хаббарда с Брауном может иметься какая угодно аппаратура ночного видения, так что светло ли, темно ли – им это без разницы.
Я проторчал за деревом пятнадцать минут, прежде чем вытянуть велик назад, на шоссе, и снова двинуться на ю г.
Вест-Виндзор лежит всего-то в миле с хвостиком от Принстона, однако мы со Стивом решили отвести на дорогу четыре часа. Для пущей надежности.
Я заглянул за изгородь и наконец увидел то, что искал, – поворот налево, к озеру.
Где-то, по какой-то другой дороге ехал – во всяком случае, я молился об этом – Лео, совершая такое же вот опасливое путешествие, а за ним на расстоянии следовал Стив.
А может быть, Лео сидит сейчас за поблескивающим кленовым столом, под рамочкой с «Геттисбергской речью», и рассказывает Хаббарду с Брауном о странном утре, проведенном им в обществе загадочного англичанина, у которого точно такие же отпечатки пальцев, как у Майкла Д. Янга, и при этом ему известны вещи, коих Майклу Д. Янгу знать не положено.
Если так, они уже должны были взяться за Стива, тем более что последние три часа мой «ком-пуд» безмолвствовал. Ни сигналов тревоги, ни изменений в плане.
Теперь-то до меня дошло – с большим запозданием, – что было б куда разумнее договориться со Стивом, чтобы он позванивал мне каждый час, сообщая, что происходит, – тогда я хоть знал бы: все спокойно. Я обругал себя за несообразительность. Молчание «компуда» не говорило мне решительно ни о чем. Я прикинул, не позвонить ли самому, хотя бы для того, чтобы успокоить разгулявшееся воображение. Однако решил, что не стоит – составил план, так держись его. Вдруг Стив сейчас в таком месте, где неожиданное гудение зуммера способно выдать его, да еще и в самый неподходящий момент. В устройстве «компудов» я разбирался не настолько, чтобы знать, отключается ли в нем зуммер, прослеживаются ли вызовы. Не исключено, подумал я, что Стив как раз потому и не предложил поддерживать связь между нами – из опасений, что нас вычислят. Я же никакого понятия не имею – вдруг Хаббард и Браун сидят сейчас в фургончике со сканером и ждут лишь мгновения, когда заработают наши «компуды», чтобы выследить нас.
Хотелось бы знать, хорошо ли справляется с такими делами Лео? В Венеции он сумел удрать с конференции и добраться до американского консульства. Стало быть, кое-какой смекалки не лишен.
Я вспомнил то, что сказал ему о Стиве. «За вами поедет мой друг. Он будет одет в красное». Как только Лео доберется до озера, Стив присоединится к нему и приведет ко мне. Таков был план.
А что, если Хаббард или кто-то из его людей тоже, по кошмарному совпадению, облачится в красное?
Если, если, если. Мало ли какие «если» могут случиться. Не надо забивать себе этим голову. От меня требуется одно – следовать моей части плана и надеяться на лучшее.
Я весь взмок, и меня осаждали комары и мошкара, суетившиеся у озера, будто хулиганье на уличных углах. Теперь я шел, катя велик, по узкой тропке, огибавшей северную оконечность озера. До меня доносился гул машин – в миле к югу отсюда проходила Первая автострада; с середины озера несся плеск весел – там с поразительной прытью летела гребная восьмерка, а над спокойной водой отчетливо слышался лисий лай.
Неожиданное движение в кустах, слева, заставило меня замереть. Я стоял, не двигаясь, сердце билось в груди, будто птица в клетке.
И внезапно на тропу передо мной выскочила, едва не врезавшись в переднее колесо моей новехонькой «Велорамы», крыса – здоровенная, как выдра, со шкурой, исполосованной стекшей водой. Я невольно вскрикнул, и крыса, ополоумев от ужаса, взвилась бочком в воздух, точно потерявший управление гоночный автомобиль, – она явно перепугалась куда сильней моего. Дважды перекувыркнувшись, крыса приземлилась на лапки и чесанула обратно в подрост, – к спине ее прилипли листья, сучки и камушки, напоминавшие изображения тотемов на свадебном платье мексиканской невесты.
– Крысы, – произнес я голосом Индианы Джонса. – Ненавижу крыс.
Поспешая к месту встречи, я увидел и услышал их еще немало.
Может, это и не крысы вовсе, думал я. Может, сурки или гоферы. Не то чтобы я хорошо представлял себе, кто такие сурки и гоферы. Я и узнал-то о них лишь из фильмов с Биллом Мюрреем – «День сурка» и «Гольф-клуб». Сурок и гофер, это, случаем, не одно и то же? Хотя существуют же еще какие-то американские грызуны, ведь так? Нутрии. Коипу. Не исключено, что это были коипу. А то и опоссумы.
Впрочем, кем бы эти твари ни были, возненавидел я их всеми печенками и старался, продвигаясь вперед, производить побольше шума – просто чтобы уведомить их о моем присутствии.
Минут еще через двадцать я наконец добрался до развилки. Тропа, уходившая направо, вилась, следуя береговой линии, левая уходила во владения крыс, гоферов, коипу, опоссумов и сурков. Шлепая себя по загривку, как исследователь джунглей, я пошел по левой.
После двухсот ярдов пути, проведенного в борьбе с низко нависшей листвой не пойми чего, передо мной открылась поляна. Я увидел высокую березу, а рядом с ней огромный, заросший мхом пень, о котором говорил Стив. На пень я и уселся, дымя как нанятой, чтобы не подпустить к себе комарье и коитусов.
Вонь там стояла отвратительная – гораздо хуже тех гнилостных болотных испарений, которыми обычно попахивает у воды. Я чувствовал, как все съеденное мной начинает проситься наружу. Съеденное – читай ланч. Сигаретный дым нисколько не помогал: насекомых он не отпугивал и гнусной вони не забивал тоже. Задыхаясь, я соскочил с пня, почти не способный дышать. Отошел в сторонку – стало намного легче. Похоже, смрад исходил из какого-то места.
Прижав к лицу носовой платок, я опасливо возвратился к пню, над которым так и клубился комариный туман. Затем осторожно заглянул за пень, и меня незамедлительно вырвало.
В высокой траве лежали две дохлые крысы, приникнув друг к дружке, крепко зажмурясь – ни дать ни взять спящие дети, – мех их кишел белыми, извивавшимися червями величиною не больше запятой. Извергнутая мной жижа, подумал я, отирая рот, станет еще одним лакомством для сообщества озлобленных насекомых, завладевших, похоже, этой частью леса.
Я привалился к самому дальнему от пня, какое сумел отыскать, дереву и погрузился в размышления о низменности природы.
На шее и на руках у меня уже вспухали жгучие красные бугорки. То были вовсе не следы от укусов насекомых, скорее результат какой-то аллергической реакции. В детстве со мной приключались слабые приступы сенной лихорадки. Я полагал, что давно перерос ее, однако здесь приозерная жизнь, с ее пыльцой, лишайниками, крысами, букашками, травами, семенами и спорами, была столь насыщенна, что, похоже, аллергены буквально клубились в воздухе. Я чувствовал, как легкие сжимаются и сипят, а глаза набухают, будто почки алтея.
Я закурил очередную сигарету. Затягиваться мне, по причине астматического удушья, не удавалось, однако в синтетической стерильности этой вкрадчивой городской отравы присутствовало нечто утешительное. Надо было коврик притащить. Не шерстяной или хлопковый, нет, никакой натуральной органики – нейлоновый или полиэфирный. Он стал бы плотом цивилизации в этих ползучих Саргассах.
Издергался, вконец издергался. Я взглянул на часы.
Уже скоро, уже совсем скоро. Через пять минут я выясню, поверил ли мне Лео. И вправду ли…
О БОЖЕ, НОГИ ГОРЯТ!
Что я сделал? Подпалил долбаной сигаретой долбаное дерево?
Визжа от боли, я принялся лупить себя по ногам.
Ни язычков пламени, ни облачков дыма нигде не наблюдалось. Когда слезы, брызнувшие из моих глаз, унялись настолько, что я обрел способность хоть что-то различать, мне стало ясно: никакой огонь ног моих не пожирает.
Всего-навсего муравьи.
Их были сотни, мерзавцев. Тысячи. Ноги ниже колен выглядели так, точно я натянул на них длинные носки особо плотной муравьиной вязки.
Я лихорадочно пытался согнать изуверов, вопя, лягаясь и брыкаясь, как обезумевший бык.
Та к я приплясывал, удаляясь от дерева, и тут на плечо мне легла человеческая ладонь, едва не вытряхнув из меня последние остатки разума.
Издав колоссальный вопль, я двинул кулаком назад, за плечо. Ни по чему, кроме воздуха, кулак не попал, что, как вскоре выяснилось, было и к лучшему.
– Майки, что с тобой?
Негромкий, мягкий голос Стива немного привел меня в чувство.
– Муравьи, – взвизгнул я, поворачиваясь и упадая в его объятия. – Муравьи, комары, крысы. Все сразу. Ох, Стив, ну какого хрена ты выбрал такое место?
Он ласково отстранил меня. За плечом его я увидел испуганное лицо Лео.
– Муравьи-воры, – сообщил, стараясь остаться серьезным, Стив. – Прости. Пожалуй, мне следовало предупредить тебя, чтобы ты был с ними поосторожней.
– Воры? – переспросил я. – Ядовитые?
– Нет, просто немного кусачие. Пойдем. Ты присядешь, а я тебя отряхну.
– Немного кусачие? Немного? Стив смел с меня остатки муравьев.
– Вообще-то твари они дьявольски хитрые. Знаешь, что они делают? Взбираются по ногам, но сразу ничего не предпринимают. Ждут сигнала от самого главного, а тогда уж кусают все разом, этакая массированная атака. Понимаешь, если бы первый из них, едва добравшись до твоей ноги, тут же тебя и цапнул, ты бы это почувствовал и согнал всех остальных, не дав им времени тоже попировать. Очень умно. Надо отдать эволюции должное. Я тут прихватил с собой кое-что. Похоже, ты и с сумахом пообщался.
– С сумахом?
– Ага. – Стив начал втирать прохладную мазь в мои ноги, руки и шею. – Дрянная штука, верно?
– Извините, – обратился я к Лео, когда тот, помаргивая, точно сова, нервно приблизился к нам. – Вы, наверное, решили, что у меня истерика. А я просто не привык к американской природе. Я ее больше по кино знаю. Вот уж не думал, что она настолько похожа на темное сердце амазонских джунглей. Моя ошибка.
Лео беспокойно озирался по сторонам, словно и он гадал о том, какие ужасы таятся в этих лесах.
Следующая реплика Стива большого облегчения нам не принесла.
– Надеюсь, здесь хоть липовые зудни не водятся.
– Липовые зудни? – спросил я, ощутив новый прилив ужаса. – Это еще что за хреновина?
– Тебе об этом лучше не знать, дружок. Поверь мне.
– О господи, – простонал я.
Стив навинтил крышечку на тюбик с мазью и весело, на манер разбитной медицинской сестры, шлепнул меня по бедру.
– Ладно. Так лучше?
Мазь немного уняла боль, однако ноги горели по-прежнему.
– Немного, – пробормотал я. Времени на жалобы не было. Слишком многое предстояло сделать. Я, постанывая, поднялся. – Главное – вы здесь.
– Конечно, здесь, – отозвался Стив.
– За вами не следили?
Лео решительно покачал головой.
– Не следили, – сказал он.
– Все прошло как по маслу, – подтвердил Стив, выглядевший в своих ярко-красных футболке и шортах как отдыхающий на приморском курорте юный подручный Мефистофеля.
– А теперь, – сказал Лео, – возможно, вы будете настолько добры, что объясните мне смысл происходящего? Кто вы. Зачем устроили эту встречу. Откуда так много обо мне знаете.
– Я расскажу вам все, сэр, – ответил я. – Даю слово. Но сначала мне нужно кое-что у вас выяснить. Я должен попросить вас, чтобы вы подтвердили одну мою догадку.
Присутствовала в моем плане одна деталь, которую я так до конца и не продумал. Наверное, надеялся, что Лео выдаст какую-нибудь идею. Конечно, так бы оно и вышло. И все же, когда уж стемнело и мы собрались распрощаться и вернуться, каждый своим путем, в Принстон, я вдруг испустил вопль великой радости, ибо вдохновение наградило меня своим трепетным поцелуем.
– О черт, что, опять муравьи? – спросил Стив.
– Нет, – ответил я, – не муравьи. Идея. Нет у кого-нибудь сумки или пакета?
– Вроде этой? – Стив поднял повыше свою синюю нейлоновую сумку.
– Нет, не хочется ее гробить. Сойдет и что-нибудь поскромнее. Скажем, пакет из магазина. Лучше бы пластиковый. Или коробка.
– У меня дома полным-полно коробок и сумок, – сказал Лео.
– Боюсь, от них нам пользы не будет. Мне нужно что-то здесь и сейчас.
– Для чего?
Стив покопался в сумке:
– Эй, вот это сгодится?
И он протянул мне серебристую коробку величиной примерно в половину обувной.
– Отлично, – ответил я. – А что это такое?
– Я держу в ней фильтры и объективы.
Он щелкнул запором и показал мне внутренность коробки.
– М-м, – с сомнением протянул я, – тут перегородки.
– Они легко вынимаются. Смотри.
Он повытаскивал из коробки объективы с фильтрами, а затем и мягкую решеточку.
– Блеск. Просто блеск. Гораздо лучше сумки. А если повезет, она окажется и почти герметичной. Теперь, Стив, – я положил руку ему на плечо, – ты как – не очень брезглив?
Стив удивленно наморщил лоб.
– Да вроде бы не очень, – ответил он. – А что?
– Видишь ли, – сказал я, – вон за тем пнем лежат две дохлые крысы. Но только, предупреждаю, они кишат червями и зверски воняют.
Пять часов спустя мы со Стивом встретились у статуи «Триумф Науки», чтобы дождаться Лео.
– Он ведь на подходе, верно? – спросил я. – Я хочу сказать – он придет?
– Обещал прийти, – ответил Стив. – Придет.
– Почему ты так спокоен? Как можешь ты быть столь дьявольски спокойным? Я вот никакого покоя не ощущаю. Места себе не нахожу. А ты… ты весь день был совершенно невозмутимым. Почему это? Почему ты спокоен? Я же не спокоен. Ни капельки.
– Перестань ты меня разыгрывать, – ухмыльнулся Стив.
– Да ты пойми, все может обернуться катастрофой. Начаться сызнова. Я могу очнуться в иракской тюремной камере или в сибирском ГУЛАГе. Господи, может, мне так и придется возиться со всем этим до скончания века, как Летучему голландцу или Скотту Бакуле в «Квантовом скачке». И даже без сомнительной помощи Дина Стоквелла.
– Не понимаю, о чем ты толкуешь, – сказал Стив, – но ты, главное, не теряй веры, дружок. Хуже этого мир, в котором ты очухаешься, все равно не будет.
– Да ну? – откликнулся я. – Не уверен, что твой мир настолько уж хуже моего.
– Судя по тому, что ты мне рассказывал, намного.
– Да, но я не рассказал тебе о «Майкрософте», Руперте Мердоке, фундаменталистах, сопляках-кокаинщиках, вооруженных «Узи». Не рассказал о лотереях, коровьем бешенстве и шоу Ларри Кинга. Может, нам лучше плюнуть на все?
– Ты просто запаниковал, и только. Зато рассказал о политической корректности, о кварталах геев, рок-н-ролле, фильмах Клинта Иствуда, о детях, которые, беседуя с отцами, говорят не «сэр», а «хер» и «так не пойдет, мужик», о танцевальных клубах, где все подогреваются «экстази». Я хочу увидеть хоть что-то из этого. Хочу стать клевым.
– На самом-то деле от этой дряни не столько разогреваешься, сколько сгораешь.
– Все равно. Я хочу носить чудную одежду, отрастить длинные волосы и не платить за это штраф в колледже и не лаяться с родителями. Здесь, если ты хочешь этого, тебя загоняют в гетто, а полиция устраивает облавы и то и дело тебя достигает.
– Достает, – поправил я. – Это называется «достает». Знаешь, мне кажется, что я внушил тебе ложные представления о моем мире. Он мало похож на вечный праздник. «Экстази» там вне закона, и никто своих родителей «херами» в лицо не называет. Во всяком случае, никто из белых людей среднего класса.
– Да? Хорошо, но позволь мне выяснить это самостоятельно, идет? Дай мне шанс произносить такие слова и жить такой жизнью. А то получается, что ты лишаешь меня этого права.
– М-м, – с сомнением протянул я. – Я просто гадаю, а ну как…
– И потом, – перебил меня Стив, – мы все время говорим о настоящем. А есть еще история. Думаешь, тебе удастся просто взять да и махнуть на нее рукой?
– Хорошо, хорошо! Я знаю, что паникую. И все же, вдруг что-то пойдет не так?
– Все уже пошло не так, нет? А мы это дело поправим.
– Однако на этот раз я могу, очнувшись, ничего не вспомнить.
– И какая разница? Ну не будешь ты ничего знать, и всех делов.
– А ты? Допустим, ты, с твоим теперешним сознанием, попадешь в другую страну. Говоришь ты не как все, о стране ничего не знаешь, совершенно как я здесь. Тебя же примут за чокнутого. Господи, а если ты даже языка этой страны знать не будешь?
– Придется рискнуть.
– Нет. – Я схватил Стива за руку. – Иисусе, как хорошо, что я об этом подумал. Нечего тебе в той комнате делать. Пока все будет происходить, к ней и приближаться-то не стоит. Тогда с тобой хоть не случится того, что случилось со мной.
– Черт, Майки! Не говори так! Мы вместе все это затеяли.
– Нет, Стив. Ты должен…
– Да что же вы так шумите-то! – Из темноты с сердитым шипением выступил Лео. – Хотите, чтобы весь Принстон знал, где мы?
– Майки вбил себе в голову, что мне нельзя идти с вами, – пожаловался Стив, точно ребенок, которого не пускают на праздник. – Скажите ему, что мне можно.
Я доложил мои доводы Лео. Прежде чем высказаться, он тщательно их обдумал.
– Думаю, Майки прав, – наконец сказал он. – Если вас затянет в горизонт событий и вы сохраните нынешнюю личность, это может сильно осложнить вашу дальнейшую жизнь. Мы не вправе так рисковать.
– Но…
– Нет. На мой взгляд, покинув нас, вы окажете нам куда большую услугу, – решительно заявил Лео. – Вы и так нам уже очень помогли.
Чтобы уговорить Стива, потребовалось десять минут препирательств и льстивых уговоров.
– Мне правда жаль, – сказал я, когда он обиженно вручил мне серебристую коробку из-под оптики. – Но ты же понимаешь…
– Да-да, – ответил он. – Понимаю. Я протянул ему руку.
– Не грусти, – сказал я. – В конце концов, все может и не сработать. Вполне может случиться, что часа через два мы обнаружим – в этом мире эта штука вообще не действует. И я застряну здесь навсегда.
Стив принял мою руку.
– Может быть. Но скорее всего, я никогда больше тебя не увижу и…
– И что?
– Ты был добр ко мне, Майки. Я понимаю, к этому все и сводилось. К твоей доброте. Но в последние несколько дней ты сделал меня счастливее, чем я был когда-либо. За всю мою жизнь. И может быть, счастливее, чем буду когда-либо. В каком угодно из миров.
– Что значит «к этому все и сводилось»? И при чем тут доброта? Ты мне нравишься, Стив. Ты же должен знать это.
– Да. Я тебе нравлюсь. Но там, в Англии, ты обзаведешься подружкой.
– Сомневаюсь. У меня и была-то всего одна, да и та меня бросила. А вот ты, когда здесь все образуется, заведешь друга. Десятки друзей. Сотни. Столько, сколько осилишь. Даже больше. Такой красавчик, как ты… Да они тебе проходу давать не будут… как говорится.
– Вот только тебя среди них не окажется, верно?
– Джентльмены, прошу вас! – вмешался Лео, слушавший нас со все нараставшим нетерпением. – Уже начинает светать. Нас могут увидеть.
Стив крепко обнял меня и ушел в темноту.
– Он очень привязан ко мне, – пояснил я Лео.
– Очки необходимы мне только для чтения, – немного туманно ответил Лео. – Крысы при вас?
– Угу, – подтвердил я и показал ему коробку. Пока он набирал код на замке входной двери,
мысли мои обратились к той ночи у Лабораторий Кавендиша, когда я летел к Лео на велосипеде под звездами Кембриджа, а в карманах моих лежали оранжевые пилюльки.
Лео молча провел меня к лифтам, чье глухое гудение казалось в мертвой тишине немыслимо громким. Некоторое время мы шли по лабиринту коридоров третьего этажа и наконец остановились у какой-то двери.
– Откуда, к черту, взялся Честер Франклин? – прошептал я, указывая на дверную табличку с именем.
– Это была идея Хаббарда, – ответил Лео, когда дверь со щелчком растворилась.
Внутри было темно, как в погребе. Я стоял, не смея пошевелиться, слушая, как Лео возится со шторами. Наконец щелкнул выключатель, и я смог оглядеться.
Лео жестом укротителя морских львов указал мне на табурет.
– Садитесь, – сказал он. – И пожалуйста, ни слова, не отвлекайте меня.
Я сидел, в послушном молчании наблюдая за ним.
Здесь тоже имелся УТО, вернее, машина, отчасти смахивающая на УТО, каким я его помнил.
Только у этой кожух был белым, чуть отливавшим, точно утиные яйца, в голубизну. Впрочем, такой оттенок могли создавать и потолочные лампы, в свете которых все казалось чуточку синеватым.
У этой машины мышь отсутствовала, зато из бока ее торчал леденцом на палочке джойстик. Экран был побольше, клавиатуры – ни слуху ни духу. Вместо кабелей-спагетти из тыльной стороны машины тянулись прозрачные пластиковые трубки, похожие на те, что используются при внутривенных вливаниях.
Мне вдруг явилась страшная мысль, от которой у меня даже во рту пересохло.
А что, если нацисты упразднили Гринвичский меридиан?
Когда мы обговаривали все в лесу, Лео не спросил меня о координатах Браунау.
Первая его идея, возникшая года четыре назад, сводилась, как я, знавший моего Лео, совершенно правильно догадался, к тому, чтобы каким-нибудь способом уничтожить отцовский заводик в Аушвице. Потом он сообразил, что этого может не хватить, и стал обдумывать покушение на Рудольфа Глодера. Как это покушение произвести, Лео толком не представлял, но, хоть душа его и не лежала к убийству, прикидывал, не переправить ли ему бомбу на один из первых нацистских съездов. Впрочем, и в этом варианте слишком многое не поддавалось учету, поэтому Лео начал помышлять о том, чтобы послать «Воду Браунау» в Байрейт и тем предотвратить рождение Глодера. Ему представлялось, что такой ход не лишен уместной иронии. Загвоздка заключалась лишь в том, что никакой «Воды Браунау» более не существовало. То есть где-то она существовать и могла, но где, Лео не знал, а спросить не решался. Затем он услышал от кембриджского коллеги, что в Принстоне ведутся работы по созданию противозачаточных препаратов. В Европе работы такого рода были запрещены из соображений «нравственности» – ханжество, не лишенное жутковатого юмора, пониманием коего Лео не смел ни с кем поделиться. Итак, Лео – как всегда логичный и одержимый одной-единственной мыслью – решил переметнуться в Соединенные Штаты. Он был все тем же Лео, сомневаться не приходилось. С тем же давящим бременем наследственной вины, с той же фанатической уверенностью, что он может и должен искупить содеянное его отцом.
Однако, когда он обосновался в Принстоне, выяснилось, что преследовать здесь свои личные цели дело весьма затруднительное. Правительство считало, что ему надлежит работать над созданием квантового оружия, которое дало бы Америке шанс получить наконец решающий перевес над Европой. Задавать в подобных обстоятельствах разного рода вопросы о противозачаточных средствах было бы весьма опрометчиво. Лео надеялся найти в Соединенных Штатах академическую свободу, в которой было отказано ученым Европы. И здорово ошибся. Все оказалось иначе – секретность и скрытность были здесь даже больше, чем в Кембридже.
И тут появился я. И теперь мы с ним приготовлялись к тому, чтобы улучшить мир, обеспечив жизнь и благополучие Адольфа Гитлера.
Поначалу моя идея насчет крыс его насмешила. Стива тоже. Уж больно глупой она им показалась.
– Но тут же есть прямой смысл! – убеждал их я. – Что бы вы сделали, накачав поутру воды и обнаружив, что в ней полно червей, кусков дохлых животных, да и воняет она точно клоака? Пить вы ее наверняка бы не стали. Всю цистерну пришлось бы опорожнить и продезинфицировать. О чем вообще говорить!
И, поскольку ничего лучшего они предложить не смогли, крысы перекочевали в коробку для оптики – гниющие тушки едва не распались на куски, когда Стив, давясь рвотой, попытался сгрести их двумя картонками.
Лео отобрал картонки у Стива и сам закончил работу. По части небрезгливости нам до него было далеко.
Я наблюдал, как Лео работает: ярко-синие глаза перебегают с одной части созданной им машины на другую, длинные пальцы перебирают кнопки и рычажки, все его неспокойное тело подрагивает от невероятной сосредоточенности.
Ощутив мой взгляд, Лео повернулся ко мне.
– Все идет как надо, – прошептал он.
– Насчет Браунау, – сказал я. – Вам же понадобятся координаты. А я боюсь, что…
– Полагаете, я их не знаю?
– Сорок семь градусов тринадцать минут двадцать восемь секунд северной широты, десять градусов пятьдесят две минуты тридцать одна секунда восточной долготы. Он кивнул.
– Память у вас хорошая. Взгляните. Мы уже там.
– Я помню и еще кое-что, – сообщил я. – Вы как-то сказали мне, что в этой жизни ты – либо мышь, либо крыса. Крыса творит добро или зло, изменяя то, что ее окружает, мышь же творит добро или зло, не делая ничего.
Лео перевел взгляд на серебристую коробку.
– Высказывание весьма уместное, – отметил он. – Ну-с, если вы готовы. Пора.
Торчащие из аппарата трубки озарялись торопливыми вспышками красного света. На экране переливались, свиваясь клубком, яркие краски.
– Что это? – спросил я. – Браунау?
– Первое июня. Четыре утра.
– В прошлый раз краски были другими.
– Они ничего не значат, – слегка презрительным тоном, какой ученые приберегают для туповатых неспециалистов, сказал Лео. – Краски будут такими, какие вы зададите сами.
– А что там краснеет, в тех трубках?
– Данные, – ответил он, и на сей раз в голосе его проступили удивление и тревога. – По трубкам идут данные. А что, в прошлый раз было иначе?
– Почти так же, – заверил я его. – Кабели из машины выходили другие, только и всего.
– И как они выглядели?
– Ну, они не были прозрачными. Данные передавались по медным проводам.
– По медным? – изумился Лео. – Как в допотопных телефонах? Но это же примитив.
– Так ведь он работал, верно? – сказал я, вставая, что было не совсем логично, на защиту моего мира.
Лео снова взглянул на экран.
– Неужели так просто? – спросил он. – Я нажимаю вот здесь – и никакой фабрички отец в Аушвице не строит?
Палец его поглаживал маленькую черную кнопку под экраном.
Я не стал говорить Лео, что отец его и в прежнем мире побывал в Аушвице. Лео только огорчится, узнав, что, как бы он ни изменял историю, отец его, похоже, обречен на то, чтобы руководить зверским истреблением евреев.
Лео отвернулся от экрана, вытащил из кармана две белые маски. Одну он пристроил себе на лицо, завязав за ушами тесемки, другую вручил мне. Я нацепил ее, в нос и легкие шибанула такая волна ментола, что из глаз моих хлынули слезы. Я увидел, что и Лео тоже плачет. Сморгнув слезы, он ткнул пальцем в коробку для оптики.
Я открыл защелку, поднял крышку, не без усилия сглотнул и заглянул внутрь.
Огромное, трепещущее крыльями, долгоногое насекомое вылетело из нее и ударило меня в глаз.
Взыв от испуга, я уронил крышку.
– Тише! – прошипел Лео. – Это же не волк. И он, сердито нахмурясь, протянул мне два куска картона.
Отведя голову в сторону, чтобы успеть увернуться от новых летающих тварей, я снова приподнял крышку.
Летающих тварей в коробке, похоже, больше не имелось. Разве что блохи, однако ничего сравнимого по размерам с тем, первым, жутким созданием. Нет, большинство тех, кто населял этот ящик Пандоры, относилось к разряду ползучих. И последние несколько часов твари эти были сильно заняты: они плодились и размножались. В коробке взбухала и опадала содрогавшаяся жизнь. О том, чтобы вытаскивать это разваливающееся месиво двумя кусками картона, нечего было и думать.
– Наверное… – сказал я, голос мой прозвучал из-под маски низко и глухо, – наверное, самое лучшее – просто вывалить все это, как по-вашему?
Лео заглянул в коробку, молча кивнул и указал на подобие церковной купели. В ее верхушку, похожую на чашу или тазик, мне и надлежало переместить останки сгнивших крыс. От низа купели к машине тянулись пульсирующие трубки, по которым бежали данные.
Лео махнул мне рукой – действуй, и я, задержав дыхание, вывалил содержимое коробки в тазик.
Жуткий смрад пробивался даже сквозь пропитанную ментолом маску. Отвернув голову, я постучал коробкой о край чаши и услышал, как шлепнулись в нее остатки гниющей плоти, – ни дать ни взять жидкая кашица, которую расплюхивает по мискам сестра-хозяйка работного дома. Заглянув в коробку, я увидел, что часть ее содержимого так и осталась в ней, налипнув по углам.
– У вас не найдется чем отскрести остальное? – спросил я.
Лео слез с табурета, торопливо огляделся и шагнул к угловому столику, заметив на нем кофейную кружку.
Отдав ее мне, он стоял, наблюдая, как я отскребаю коробку.
– Так-так-так. И что же за треклятая дьявольщина тут происходит?
Я в ужасе обернулся. Кофейная кружка и коробка, выпав из моих рук, грохнулись об пол.
В дверном проеме стояли Хаббард с Брауном. Каждый держал в руке по пистолету.
– Ну-с, никому не двигаться, – приказал, входя в комнату, Браун. – Я хочу понять, что… Иисус Христос задроченный!
Ладонь его взлетела ко рту, он отшатнулся, давясь. Я увидел, как сквозь пальцы Брауна просачивается рвота.
Вонь добралась и до Хаббарда – тот потянул из кармана носовой платок. Я глянул на Лео: он не отрывал глаз от черной кнопки под экраном – до нее от нас было ярдов десять. По экрану продолжали прокатываться красочные облака. Все было готово.
Я сделал шажок влево, к машине.
– О нет, – произнес, протягивая платок Брауну, Хаббард. – Ни шагу.
Он поднял руку с пистолетом на уровень плеча и прицелился мне в голову.
Браун отер рот и, все еще держа платок у губ, сверлил нас полным гнева и отвращения взглядом. Я понимал, что по какой-то причине порыв сквернословия, коего он себе обычно не позволял, разозлил его куда сильнее, чем приступ рвоты. Я еще при первой нашей встрече учуял за его личиной вкрадчивого ковбоя качества совсем иного толка. Не сомневаюсь, подчиненные Брауна превозносят его до небес как потрясающего оригинала, подобие Гэри Купера. Правда, Гэри Купер никогда таких слов, как «Иисус Христос задроченный», не произносил. Во всяком случае, в тех фильмах, что видел я.
– Не знаю, – заговорил сквозь платок Браун, – с каким тошнотворным извращением мы тут столкнулись, но я, черт побери, намерен это выяснить. Вы, оба, стойте на месте, слышите? И не произносите ни слова. Только кивайте или качайте головами, понятно?
Мы с Лео в унисон кивнули.
– Хорошие мальчики. Итак. В этой комнате есть еще маски?
Лео кивнул.
– Где они?
Лео указал себе на карман.
– Очень хорошо. Вы лезете в карман, осторожно и медленно, и бросаете маски мне, идет?
Лео покачал головой и поднял вверх палец.
– А это что значит? Хотите сказать, что слюнявчик у вас только один?
Лео кивнул. Я понял – он прихватил с собой маску и для Стива, полагая, что в миг нашего триумфа тот будет рядом с нами.
– Черт. Ну ладно. Тогда бросаете одну.
Лео так и сделал. Хаббард ловко поймал маску и передал Брауну, а Браун вернул ему наполненный рвотой платок.
Браун, пристроив маску на лицо и прижав пистолет к бедру, вошел наконец в комнату.
– Держите этих ребят на прицеле, – через плечо бросил он Хаббарду.
Хаббард, устало кивнув, привалился к дверному косяку. Смрад донимал беднягу, а второго носового платка у него не имелось.
Это перемещение Хаббарда позволило мне увидеть за его спиной Стива – тот замер в темноте еще одного дверного проема, ровно напротив нашей комнаты.
Взглянуть на Лео, чтобы выяснить, заметил ли Стива и он, я не смел. Браун медленно подступал к нам, подозрительно обшаривая комнату глазами.
Он подошел уже достаточно близко, чтобы обнаружить чашу с крысами, червями, личинками и прочими ползучими ужасами.
– Проклятье! – выдавил он. – Что за чертовню вы тут развели?
Я еще раз скосился на Хаббарда – он, стараясь не дышать, наблюдал за Брауном. Я медленно перевел взгляд на Стива. Стив смотрел на меня – бледный, испуганный. Я переглотнул и заговорил, настолько громко и отчетливо, насколько позволяла маска:
– Это всего лишь эксперимент.
– Как-как? – переспросил Браун. – Эксперимент? И что же это за мерзостный, богопротивный, варварский эксперимент, а, мальчик? Можете мне ответить?
– Все, что вам нужно сделать, это нажать вон ту черную кнопку. Видите, под экраном? Черная кнопка. Сразу все и узнаете.
– Ну уж нет, сынок. Никто здесь ничего нажимать не будет, пока я не услышу хоть какие-то объяснения.
Я бросил взгляд на Стива – тот уже выпрямился. Чтобы Стив начал действовать, требовался какой-то отвлекающий маневр.
– Объяснения?! – взревел я. – Объяснения? Вон они, ваши объяснения… там! – И я ткнул пальцем в дальний угол комнаты.
Жалкий, вообще-то говоря, приемчик. Я к тому, что об этом фокусе можно прочесть в первой попавшейся книжке. Другое дело, что книжки мне, как видно, попадались все больше хорошие, а сам этот фокус, если бы он не срабатывал хоть изредка, наверняка выкинули бы из их переизданий.
Не скажу, что на сей раз фокус сработал образцово. То есть сработать-то он сработал, но не до конца. Браун смотрел в указанном направлении лишь долю секунды, однако хватило и ее. В ту же самую долю секунды Стив, благослови его Бог, выскочил из мрака, отшвырнул Хаббарда в сторону и метнулся к экрану, распластавшись в прыжке.
И в этот же самый миг Браун развернулся и выстрелил.
Я услышал, как пискнул Лео, услышал, как Хаббард, не сумевший сохранить равновесие, врезался в книжный шкаф. Увидел, как из шеи Стива летят, забрызгивая стену, кровь и кусочки хрящей. Увидел струйку дыма над дулом Браунова пистолета. Увидел, как Браун, да сгноит Господь его душу, поднимает, на манер подлого, гнусного бандита, каким он и был, дуло к губам, чтобы сдуть дымок. Маска, естественно, помешала этому, так что звука, обычно сопровождающего подобный жест – негромкого, торжествующего присвиста, – не последовало.
И, читатель, я увидел еще кое-что. Я увидел, как занесенная в замахе рука Стива упала на черную кнопку под экраном и вдавила ее с силой десятка мужчин, и клянусь, и буду клясться до моего последнего часа, что, когда я бросился вперед, чтобы подхватить его падающее тело, улыбка – сияющая улыбка, обращенная ко мне и только ко мне одному, – освещала его лицо, пока он не отвалился назад и не умер у меня на руках.
Эпилог
Горизонт событий
– Оно попросту не способно ничему научиться, верно?
– Ну все как на прошлой неделе.
– В следующий раз ничего, кроме пива.
– Ты бы все-таки поддерживал его, Джейми.
– Я? С какой радости? Он же весь обтрухался.
– Не говори так, дорогой, это некрасиво.
– А где та девушка, с которой он был на прошлой неделе? Почему, интересно, она нам не помогает?
– О, так ты не знаешь?
– Чего?
– Она его бросила.
– В чем дело?
– Внемлите!
– Подпорки выбиты – вперед. Смотрите-ка, оно живет, пошел, пошел, взметая пыль, скользит его тяжелый киль.
– На поэзию потянуло, Эдди?
– Почему же и нет?
– Ладно, что мы с этим-то делать будем?
– М-м. Ни одно такси его, такого изгвазданного, не возьмет, правильно?
– Где я?
– В Каире, Пиппи.
– При дворе Клеопатры.
– Состоишь у меня в камердинерах.
– О нет, только не это. Не Каир.
– Ну тогда в Париже. В будуаре мадам Помпадур.
– Дважды Эдди?
– Да, Пип, что тебе, мой сладкий?
– Это ты?
– Это я.
– Скажи мне только одно.
– Все что угодно, бесценный мой, все что угодно.
– Ты голубой?
– О господи, на сей раз у него точно крыша съехала.
– Заткнись, Джейми. Да, Пиппи, голубой, как небо, спасибо, что спросил.
– Слава богу…
– Эдди, клянусь. Если ты попробуешь воспользоваться его состоянием…
– Чш-ш. Смотри, он отключился, окончательно и бесповоротно. Вырубился вмертвую, бедный ягненочек.
– Вот же засранец. Ладно, пожалуй, я все же попробую дотащить его до дому.
– Мы попробуем, большое спасибо, что так мило меня попросил.
– Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне?
– Нет, не хочу, но могу, если тебе сильно захочется.
– С добрым утром, Билл.
– С добрым утром, мистер Янг, сэр.
– Тут у меня письмо в почтовом ящике. К профессору Цуккерману.
– Оставьте мне, сэр. Я прослежу, чтобы профессор его получил.
– Да ладно. Мне все равно нужно его повидать. Я тогда и остальную его почту прихвачу.
– Очень хорошо, сэр.
– Да, не правда ли? Чудо как хорошо.
Я пересек лужайку, решив, что будет Билл кричать, чтобы я сошел с травы, или не будет – это мне теперь по тамтаму.
На втором этаже распахнулось окно, над лужайкой поплыли сразу два голоса:
– Ну и ну!
– Какие мы нынче утром веселые.
– Особенно если учесть, в каком состоянии они пребывали вчера.
– Привет, ребята, – сказал я, махнув им рукой. – Лихо мы вчера погудели.
– Можно подумать, он хоть что-нибудь помнит.
– Это кто-то из вас дотащил меня до дому и уложил?
– Мы оба.
– Спасибо. Простите, что так надрызгался. До встречи.
Я взлетел по лестнице к квартире Лео и бодро стукнул в дверь.
– Войдите!
Лео стоял у шахматного столика, вглядываясь в позицию и подергивая себя за бороду. Увидев меня, он удивленно заморгал.
– Профессор Цуккерман?
– Да.
– Э-э, мое имя Янг, Майкл Янг. Мы с вами соседи.
– Разве доктор Бармби переехал?
– Нет, соседи по почтовым ящикам. Янг, Цуккерман. Алфавитное соседство.
– А, да. Понимаю. Конечно.
– Ваш переполнен, и кое-какая почта попала в мой, вот я и подумал…
– Дорогой мой юный друг, вы очень добры. Боюсь, я прискорбнейшим образом пренебрегаю очисткой моего почтового ящика.
– О, не страшно. Мне это не составило никакого труда.
Лео принял от меня стопку почты. Я быстро пробежался глазами по комнате: ноутбук, книги по холокосту, у шахматной доски – кружка с шоколадом.
– Вы производите впечатление человека кофейного, – сказал он. – Не желаете чашечку?
– Большое спасибо, – ответил я, – но мне нужно бежать. Хм, – я взглянул на доску, – у вас белые или черные?
– Черные, – ответил Лео.
– Тогда вы проигрываете, – сказал я.
– Я ужасно играю в шахматы. Друзья посмеиваются надо мной.
– Как клево. А я ни черта не смыслю в физике.
– Вам известно, чем я занимаюсь? – удивился он.
– Да нет, просто ляпнул наугад.
– А вы что изучаете? Я улыбнулся:
– Я знаю, вид у меня слишком молодой, но вообще-то я заканчиваю диссертацию. По истории.
– По истории? Вон оно что? И какой же период?
– Да так, никакой в особенности.
Он окинул меня быстрым взглядом, словно заподозрив, что я пытаюсь провернуть некий студенческий розыгрыш.
– Вы, наверное, сочтете меня нахалом, – сказал я. – Но не позволите дать вам совет? Существует нечто, что вам совершенно необходимо сделать.
– Что именно? – Брови Лео изумленно полезли вверх. – Что мне совершенно необходимо сделать?
Я взглянул в эти синие глаза и… нет, подумал я. Не с глазу на глаз. И не все сначала. Может быть, отправлю ему письмо в ближайшие дни. Анонимное.
– Возьмите эту пешку, – сказал я, указывая на доску. – Иначе конь поставит вам вилку и вы потеряете качество на размене. Ладно, простите, что потревожил. Возможно, еще увидимся.
Я доехал на велосипеде до торговой улочки, именуемой Кингз-Пэрейд. Проснувшись поутру, я обнаружил, что еды в доме практически не осталось.
– Ах да, еще одно, – обратился я к хозяйке расположенной напротив Корпуса[170] продуктовой лавки. – У вас не найдется кленового сиропа?
– На второй полке, милый. Прямо над «Брэнстоном».
– Прекрасно, – сказал я. – Уж больно он, знаете, хорош с беконом.
Следом я решил заглянуть заодно уж и в музыкальный магазин. Вот-вот должен был выйти последний альбом «Ойли-Мойли».
– «Ойли-Мойли»? Сроду о них не слышал.
– Не смешите меня, – сказал я. – Я же покупал у вас их альбомы. «Ойли-Мойли». Знаете, Пит Браун, Джефф Уэбб. Бросьте, это одна из величайших групп мира.
– Вы сказали, Пит Броун? Могу дать вам Джеймса Броуна.
– Да не О-У… А-У! Браун. Пишется как название электробритвы.
– Впервые о нем слышу.
Магазин я покинул, пыхтя от злости. Придется вернуться, когда за прилавком появится кто-нибудь помозговитей.
Однако, пока я переходил улицу, в памяти моей кое-что всплыло. Одна статейка из журнала.
Отец Питера Брауна родился в Австрии, стране Моцарта и Шуберта. Может быть, по этой причине некоторые из пишущих о классической музыке критиков впадают от его песен в такую ярость, что выставляют себя полными козлами, проводя параллели между кое-какими темами «Открытой шири» и «Зимним путем» Шуберта.
Одна из пациенток доктора Шенка носила фамилию Браун.
Только не говорите мне, не говорите, что я воспрепятствовал созданию «Ойли-Мойли». Это было бы слишком жестоко.
Впрочем, тут нет никакого смысла. Ведь все же сработало. Все сработало. Я возвратился туда, откуда мы начали. Воду эту никто не пил. Гитлер появился на свет. Я видел книги на полках Лео. И дважды Эдди там, где ему следует быть.
Навстречу мне топал пижонистый типчик с маленькой козлиной бородкой, какую и я когда-то пытался отпустить.
– Прошу прощения, – сказал я.
– Да?
– Как вам нравится «Ойли-Мойли»?
– «Ойли-Мойли»?
– Вот именно. Что вы о них думаете?
– Извини, приятель… – Он покачал головой и потопал дальше.
Я предпринял еще пару попыток, хотя по-настоящему ни на что уже не надеялся. «Ойли-Мойли» нет больше. Стерты с лица земли.
И я поворотил назад, к Святому Матфею, и с каждым моим шагом весна уходила от меня все дальше.
В воротах я столкнулся с доктором Фрейзер-Стюартом.
– Ага! – вскричал он. – А вот и юный Янг. Так-так-так. Ну-с, и что же у нас с диссертацией?
– Диссертацией?
– Оскорбите мою шляпу, прокляните носки и назовите штаны дураками, но только не изображайте такую вот невинность, юноша. Вы же обещали принести мне сегодня переработанный вариант.
– А, верно, – ответил я. – Да, конечно. Еще бы. Он у меня дома, в Ньюнеме. Я как раз собираюсь туда, сделать распечатку.
– Сделать распечатку? Неужто вся наша страна успела обратиться в Америку? Что ж, очень хорошо. Идите и сделайте распечатку. Жду вас после полудня. Но только без сенсуалистской околесицы, если вы будете столь любезны.
Вернувшись в Ньюнем, я, после изначально обреченных на неудачу поисков дисков и кассет с музыкой «Ойли-Мойли», соорудил себе завтрак из поджаренного бекона, не самых лучших на свете шотландских оладий и яичницы (пустяк дело), облив все четвертью пинты вермонтского кленового сиропа.
Затем, удовлетворенно отрыгивая эту счастливую комбинацию вкусовых ощущений, перешел в кабинет и включил компьютер.
«Das Meisterwerk» пребывал на месте. С исправлениями. Все честь по чести. Я начал было читать его, но после второго абзаца на меня навалилась такая отчаянная скука, что я сдался. Ту т мне пришла в голову новая мысль, и я полез в сеть.
Установив связь, я набрал http://www.princeton.edu и поискал на начальной странице указатель студентов. Затем, наткнувшись на нечто, именующее себя «спайготом», попал с его помощью на страницу http:// www.princeton.edu/-spigot/pguide/students.html.
Я поискал на ней Бернсов, однако, если не считать мало мне интересного списка библиотечных книг о шотландском поэте, ничего не нашел.
Джейн тоже отсутствовала, хотя, с другой стороны, она-то навряд ли уже успела по-настоящему там обосноваться. Я прервал связь и немного посидел, размышляя; ощущение одиночества, опустошенности одолевало меня.
На стене над своей головой я видел череду книг, которые использовал для диссертации. Бесконечные исследования нацизма, научные журналы Австро-Венгрии девятнадцатого столетия, толстое, ощетинившееся закладками издание «Mein Kampf». С обложки написанной Аланом Булло-ком биографии на меня смотрело лицо Адольфа Гитлера.
Я же смотрел на него.
– Так или этак, mein милый Fьhrer, – сказал я ему, – я позволил тебе жить. И в кого меня это обратило? И так или этак, благодаря тебе Рудольф Глодер остался в безвестности. Что ты с ним сделал? Погиб ли он в «Ночь длинных ножей»? Был ли рядом с тобой на том собрании крошечной Немецкой рабочей партии в задней комнате мюнхенской пивной? Собирался ли выступить, когда ты вскочил на ноги и похитил его перуны? Ушел ли оттуда обманутым в своих честолюбивых надеждах? Может, ты с ним и вовсе знаком не был. Хотя, постой, вы же служили в Первую мировую в одном полку, верно? Может, ты исхитрился каким-то образом спровадить его на тот свет. Может, все дело в этом. Но если бы ты знал, если б имел хоть малейшее представление о том, с какой ненавистью произносится по всему миру твое имя, как бы ты к этому отнесся? Рассмеялся бы? Или запротестовал? Не показывают ли тебе в аду телепрограммы, принуждая смотреть, как история изничтожает тебя? Не заставляют ли смотреть фильмы и читать книги, в которых все твои идеи, вся твоя слава выглядят вульгарной, омерзительной бессмыслицей, чем они на деле и были? Или ты ждешь, ждешь, когда еще один из вас поднимется наверх, точно рвота к горлу? Меня тошнит от тебя. Тошнит от никогда не существовавшего Глодера. Тошнит от всей вашей оравы. Тошнит от истории. История – поганая штука. Поганая.
Я положил книгу обложкой вниз и снял телефонную трубку.
– Будьте добры, мне нужен номер международной справочной.
Сказать по правде, Джейн, услышав мой голос, от радости не заплясала. Но с другой стороны, и не рассердилась. Просто осталась такой, какой была всегда – немного скучающей, немного насмешливой.
– Тебе, конечно, и в голову не пришло, что здесь сейчас шесть утра, верно?
– О черт. Извини, лапа. Забыл начисто. Я перезвоню попозже?
– Ну, раз уж я все равно проснулась, могу и поговорить. Полагаю, номер ты вытряс из Дональда, так?
– Нет-нет. Дональд стоял стеной. Он жизнь готов отдать, лишь бы тебя защитить. Да ты и сама знаешь. Номер я выяснил сам.
– О. Какие мы умные Пипики.
– Так что, по душе тебе там?
– Ты позвонил, только чтобы спросить об этом?
– Я соскучился по тебе, вот и все. Мне одиноко.
– Ох, Пип, не грузи ты меня, ладно? Не по телефону.
– Извини. Нет, я, собственно, позвонил, чтобы попросить тебя об услуге.
– А, так дело в деньгах?
– Деньгах? Нет, конечно, при чем тут деньги! И когда я вообще просил у тебя денег?
– Тебе как, в хронологическом порядке изложить или по порядку убывания сумм?
– Ладно, ладно, ладно. Нет, я хочу, чтобы ты отыскала для меня одного студента.
– Ты хочешь чего?
– Его зовут Стив Бернс. Думаю, он живет в Диккинсон-Хаузе, однако на сайте университета его имени нет. Завтракает он, как правило, в блинной «ПД» на Нассау, а по временам заглядывает в «А и Б», пропустить стаканчик «Сэма Адамса».
– Пип, ты хочешь сказать, что знаешь Принстон? Я думала, до твоей прошлогодней поездки в Австрию ты никуда дальше Инвернесса не выбирался.
– О, я много чего знаю, – небрежно сообщил я. – Ты бы поразилась, обнаружив, что именно. Да, и если сама попадешь в «ПД», передай от меня кое-что Джо-Бет. Она там официанткой работает. Скажи, что Ронни Скотт положил на нее глаз, так пусть она будет с ним поосторожнее. У него лобковых вшей без счета. Вши и член с гулькин нос. Не забудь уведомить ее об этом.
– Сколько ты выпил, Пип?
– Выпил? Я?
– Вчера же было «Воскресенье самоубийц», так? Неужто ты опять к «Серафимам»[171] таскался?
– Ну, может, и заглянул ненадолго…
– И выдул стакан пунша с водкой, а после заблевал всю лужайку, как на прошлой неделе. Немедленно ложись спать, Пип. Кстати, что с диссертацией? Закончил?
– Все сделано, – сказал я, и при этих словах рука моя потянулась над клавиатурой к мышке и отволокла «Meisterwerk» в корзину. – Все завершено и сделано, без сучки с задоринкой.
Я еще раз щелкнул мышью и нажал на кнопку «Очистить корзину».
Корзина содержит 1 файл, занимающий 956К дискового пространства. Вы действительно хотите его удалить?
– О да, – сказал я, щелкая на «Да». – Завершено и подписано.
– Ты пьян. Я тебе в другой раз позвоню. Только помни, Пип. Держись подальше от водки.
Я положил трубку, взглянул на экран.
Ладно. Так – значит, так. Если передумаю, найдется какой-нибудь олух-компьютерщик, который все восстановит.
Да только не похоже, что я передумаю.
Я снова снял трубку, набрал номер.
– Ангус Фрейзер-Стюарт.
– О, здравствуйте, доктор Фрейзер-Стюарт. Это Майкл Янг.
– Чем могу служить?
– Я насчет моей диссертации…
– Вы внесли исправления, о которых я вас просил?
– Видите ли, я понял, что вы были к ней несправедливы.
– Прошу прощения, сэр?
– Она еще у вас?
– Оригинал? Полагаю, да. Валяется где-то в столе. А почему мы спрашиваем?
– Да я вот подумал, не сильно ли вас затруднит достать мою диссертацию и взглянуть на нее еще раз?
Он неодобрительно фыркнул, бросил трубку, и я услышал, как выдвигаются ящики письменного стола, а где-то на заднем плане тенькает, тренькает и бренькает странноватая индонезийская музыка.
– Вот она, передо мной. Что нового я смогу в ней увидеть? Или на ее полях записаны симпатическими чернилами блестящие исторические озарения, которые только теперь и стали зримы? Что?
– Простите, мне следовало попросить вас об этом еще пару недель назад…
– О чем, юный Янг? Мое время, знаете ли, не так чтобы совсем лишено ценности.
– Если вы отсчитаете первые двадцать четыре страницы…
– Первые двадцать четыре… да. Готово. И что мне с ними сделать? Положить на музыку?
– Нет. Я хочу, чтобы вы свернули их в трубку, такую, знаете, плотную-плотную. И хочу, чтобы вы взяли эту трубку, засунули ее в вашу жирную, тщеславную, самодовольную задницу и продержали там с недельку. Думаю, так вам удастся оценить ее по достоинству. Приятного дня.
Я положил трубку и некоторое время просидел, хихикая.
Телефон звонил. И пусть его. Я работал с компьютером. Набирал тексты «Ойли-Мойли».
Может, мне удастся нажить состояние, занявшись рок-н-роллом? Не исключено. Ничто не исключено.
Минут через пятнадцать я встал и пошел бродить по дому, переходя из комнаты в комнату.
Этот маленький дом всегда нравился мне. И до Грантчестерских лугов с их высокими травами рукой подать, и от центра здешней жизни не очень далеко. Так я думал прежде. Но теперь дом представлялся мне удаленным на многие-многие мили – от всего на свете.
Или, может быть, это я удалился от всего на многие мили? Что со мной? Откуда эта пустая дыра в душе? Чего мне не хватает?
Я услышал, как открылась и захлопнулась крышка почтового ящика, услышал, как что-то шлепнулось на коврик у входной двери. И пошел посмотреть, что там.
Всего лишь «Кембридж ивнинг ньюс». Не забыть бы отказаться от доставки, напомнил я себе. Нечего деньги тратить.
Я подошел к кухонному столу и начал убирать с него остатки завтрака. Ну, и что же дальше? Жизнь, посвященная мытью тарелок после завтрака? Квартирка на одного человека? Посудомоечная машина, установленная на «экономную мойку», вакуумная затычка для винных бутылок, ночи точно в середине постели?
И вдруг в голове у меня заплясал маленький гоблин.
Нет… невозможно. Я потряс головой.
Гоблин, не обратив на это никакого внимания, продолжал выделывать коленца.
Послушай, сказал я себе. Я вовсе не собираюсь тешить этого бесенка, занимаясь проверкой. Это невозможно. Невозможно. И точка.
Острые каблучки гоблина начали причинять мне боль.
А, ладно, черт с ним. Сейчас я тебе покажу. Пустое это дело. Пустое.
Громко топая, злясь на себя за уступчивость, я направился в прихожую. Наклонился, поднял газету и вернулся на кухню.
Ну и ничего, сказал я. Совершенно ничего в ней не будет.
Я положил газету на стол, все еще не решаясь заглянуть в нее. Но надо же как-то угомонить этого дурацкого, настырного гоблина.
В «АДДЕНБРУК» ПОСТУПИЛА ЖЕРТВА АМНЕЗИИ
Вот ей же ей, не понимаю, зачем я в это ввязываюсь, сказал я себе. Ну сам посуди, ведь безнадежно же. Наверняка какой-то старый пропойца надумал получить на ночь постель. И почему я должен…
Вчера ночью в больницу «Адденбрук» привезли студента колледжа Сент-Джонз. Кембриджские полицейские заметили его перед рассветом бродившим по рыночной площади в состоянии полного замешательства. Студент оказался совершенно трезвым, однако ничего о себе не помнил. Проверка на наркотики дала отрицательный результат. Уникальная особенность этого случая состоит в том, что студент (имя, до того, как удастся связаться с его семьей, не разглашается), обучающийся на последнем курсе колледжа Сент-Джонз и происходящий из Йоркшира, изъясняется, по словам одного из тех, кто его наблюдает, «с безупречнейшим американским акцентом». Представитель «Адденбрука» сообщил этим утром…
Я метнулся к телефонному справочнику. – Больница «Адденбрук»?
– Студент! – бездыханно вымолвил я. – Студент, поступивший прошлой ночью. С амнезией. Мне нужно с ним поговорить.
– Вы его друг?
– Да, – ответил я. – Близкий друг.
– Сейчас соединю…
– Отделение «Баттеруорт».
– Студент, – повторил я. – Можно мне поговорить с ним? Тот, что с амнезией.
– Вы его друг?
– Да! – Я уже почти кричал. – Я его лучший друг!
– Ваше имя, пожалуйста?
– Янг. Так могу я с ним поговорить?
– Боюсь, он уже несколько часов как выписался.
– Что?
– И если вы действительно его лучший друг и увидитесь с ним, не могли бы вы убедить его вернуться? Ему необходим уход. Вы можете позвонить по…
Дальше я слушать не стал. Я схватил ключи и понесся к прихожей.
Все же настолько просто. Я знал – это именно то, что мне требовалось.
Настолько просто. Весь ревущий смерч истории стянулся воронкой в одну-единственную точку, повисшую, как заостренный до невероятия карандаш, над страницей настоящего. И точка эта была так проста.
Любовь. Ничего другого просто-напросто и не существует. Вся ярость и бешенство, неистовство и завихрения смерча, втянувшего в себя столько надежд, разметавшего в стороны столько жизней, свелись, в самой сердцевине его, к этому мигу, к настоящему, к любви.
Я вспомнил историю, когда-то рассказанную мне Лео. Об отце и сыне, уже под самый конец попавших в Освенцим. Как ни скуден был их паек, они договорились, что будут съедать лишь половину того, что им выдавали. А остальное – копить и прятать где-нибудь до времени, которое, как они понимали, уже близко, до времени «марша смерти» в Германию.
Однажды вечером сын вернулся с работ, и отец подозвал его к себе.
– Сын мой, – сказал он. – Я сделал нечто ужасное. Еда, которую мы копили…
– Что с ней? – испуганно спросил сын.
– Вчера тут появились двое новеньких. Им как-то удалось протащить с собой молитвенник. Они отдали его мне в обмен на еду.
И знаете, что сделал сын? Прижал отца к себе и заплакал от любви. И в эту ночь, пришедшуюся на Пасху, отец с сыном читали молитвы и весь их барак праздновал седер.
Не знаю, почему это вспомнилось мне, пока я бежал к прихожей. Я мог бы припомнить рассказы и о том, как сыновья убивали отцов ради глотка воды. Отнюдь не каждая из полных смысла историй оказывается выжимающим слезу, пропитанным верой повествованием о доброте, сияющей во мраке.
Но эта история напомнила мне о той точке. Простой точке, к которой клонится, вопреки всей ее жестокости, вопреки себе самой, история.
Настоящее. Любовь. И ничего больше не существует.
В прошлом она была для меня забавой, не более. Но это уже история. Возможно, ее не хватит надолго, возможно, она обернется ничем. Но это уже будущее.
Настоящее. Любовь.
Я открыл дверь и почти уж выскочил из дому, когда раздался телефонный звонок.
Секунд десять я простоял в нерешительности.
Звонить могли из больницы. У них же должен быть определитель, вот они и перезванивают. Ответить?
А вдруг это он, уже отыскавший мой номер? Не такое и хитрое дело. Это может быть он… должен быть он.
Я полетел в кабинет, сцапал трубку.
– Да? – задыхаясь, выпалил я. – Это ты?
– Безусловно и разумеется, я, – ответил Фрейзер-Стюарт.
– А, да пошел бы ты и поимел сам себя в шоколаде! – с отвращением взревел я и грохнул трубкой об аппарат.
– В шоколаде? – переспросил голос за моей спиной. – Какой ты все-таки чудной, Майки.
Я резко повернулся. Он выглядел побледневшим, усталым. Волосы, разумеется, стали длиннее, а на подбородке, отметил я, проступили очертания будущей эспаньолки.
– Дверь была открыта, – словно извиняясь, сказал он.
Я молча смотрел на него.
– Ну, Майки? Может, скажешь чего?
Осторожно я приблизился к нему, страшась, что он может в любое мгновение сгинуть, что волна, принесшая его ко мне, откатится и утянет его с собой.
– Ну, и где твой Марди Гра? – спросил он. – Где книжные магазины? Чего мы ждем? Дай мне немного «экстази» и пойдем куда-нибудь, потанцуем.
Благодарности
Настоящим историкам, разумеется, известно, что Ганс Менд, Эрнст Шмидт, Игнац Вестенкиршнер, Гуго Гутман и прочие, – что все они во время Первой мировой сражались на Западном фронте плечом к плечу с ефрейтором Гитлером. Выдуман только Рудольф Глодер. Полковник Балиганд и все остальные реальны. Подробности жизни и карьеры доктора СС Бауэра имеют основой таковые же его действительно существовавшего учителя доктора Иоганна Пауля Кремера, который был пленен англичанами и вел в те три месяца, что проработал в Освенциме, дневник. Страшные выдержки из него можно прочесть в поразительном, пугающем изложении взглядов Ханны Арендт на «банальность зла» – в ее книге «Такие были времена».
Появление Глодера в Deutsche Arbeiterpartei в точности отвечает судьбоносному посещению Адольфом Гитлером (12 сентября 1919) мюнхенской пивной Штернеккера, где он услышал тех же ораторов, которых слышит в романе Глодер, и вскочил, в тот же самый миг, на ноги, чтобы обратиться к горстке собравшихся там людей, которым предстояло стать зародышем Национал-социалистской партии.
Библиографии здесь не место, однако я все же порекомендовал бы каждому академический труд профессора Алана Буллока «Гитлер: Исследование тирании», блестящую книгу Даниэла Голдхагена «Добровольные палачи Гитлера», равно как и уже упомянутую «Такие были времена».
Если я, описывая Принстон, в котором провел пару лет назад три счастливых месяца, впал в какие-либо географические или технические ошибки, мне остается лишь сослаться на довольно шаткое оправдание, сводящееся к тому, что Принстон, описанный в «Как творить историю», принадлежит к альтернативной реальности.
Я, как и всегда, благодарен моему другу и издателю Сью Фристоун из «Хатчинсон», Энтони Гоффу, Лоррен Гамильтон и, опять-таки как всегда, двум Джо и коллеге.