
Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя (1863—1935).
Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.
Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.
И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.
Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.
Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.
В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.
Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.
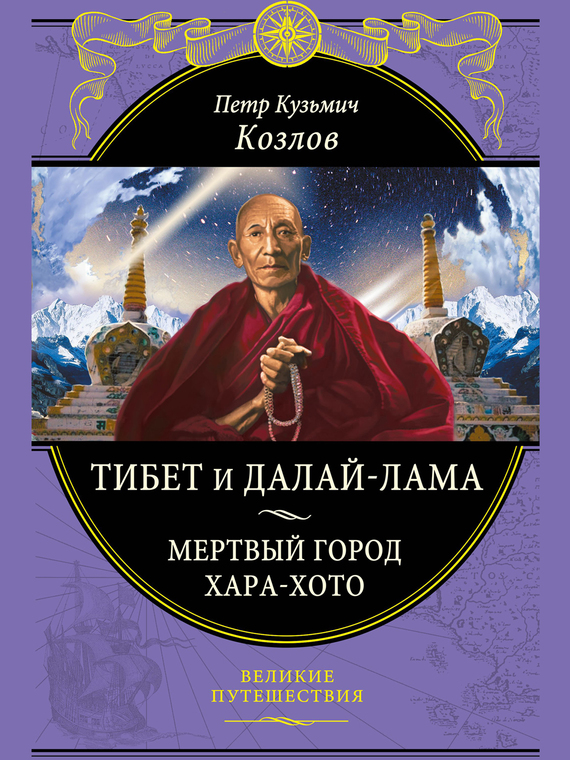


А. И. Андреев. Биографический очерк
Для меня нет лучше жизни, чем во время путешествия.
Выдающийся путешественник Петр Кузьмич Козлов (1863–1935) принадлежит к блестящей плеяде путешественников-исследователей Центральной Азии второй половины XIX – начала XX века. Ученик и последователь Н. М. Пржевальского, он целиком посвятил свою жизнь научному освоению обширных территорий азиатского материка, малоизученных или совсем неизвестных географической науке того времени.
П. К. Козлов родился в бедной малограмотной семье в городе Духовщина на Смоленщине. Окончив городское шестиклассное училище, он собирался поступить в Виленский учительский институт, однако педагоги (среди которых был известный в будущем деятель просвещения В. П. Вахтеров) не смогли выхлопотать ему казенную стипендию. Петру Козлову пришлось устроиться работать в контору местного винокуренного завода в поселке Слобода (ныне город Пржевальск, Смоленской области). Случайная встреча с Н. М. Пржевальским в 1882 г. в Слободе, где находилось имение прославленного путешественника, круто изменила жизнь деревенского юноши.
Н. М. Пржевальский увидел в юном Петре Козлове родственную душу и предложил участвовать в своей IV Центральноазиатской (II Тибетской) экспедиции. Для этого Козлову пришлось сдать экзамен за курс Смоленского реального училища и поступить вольноопределяющимся в армию, поскольку Н. М. Пржевальский комплектовал свои экспедиции исключительно из военнослужащих. «Пржевальский явился моим великим отцом: он воспитывал, учил и руководил общей и частной подготовкой к путешествию», – вспоминал позднее Козлов. Под непосредственным руководством Н. М. Пржевальского юноша приобрел необходимые для дальних странствий знания и практические навыки, в частности обучился искусству препаратора. В дальнейшем, работая рядом с Н. М. Пржевальским, П. К. Козлов сформировался как профессиональный путешественник-исследователь, овладел его экстенсивно-описательным методом «маршрутной рекогносцировки» и успешно использовал в своей исследовательской деятельности.
«Из этого двухлетнего, первого для меня путешествия, я возвратился иным человеком – Центральная Азия стала для меня целью жизни», – писал Козлов в кратком биографическом очерке. «Такое убеждение не поколебалось, наоборот, еще более укрепилось после тяжелых нравственных страданий, связанных с неожиданной смертью моего незабвенного учителя […]». Светлый образ Н. М. Пржевальского – Пшевы – вдохновлял Козлова всю его жизнь.

Другим учителем и покровителем Козлова долгие годы был знаменитый географ-путешественник, вице-председатель императорского Русского географического общества П. П. Семенов-Тян-Шанский, немало содействовавший его экспедиционной деятельности после смерти Н. М. Пржевальского.
С 1883 по 1926 гг. П. К. Козлов совершил шесть больших экспедиций в Монголию, Западный и Северный Китай и Восточный Тибет, три из которых возглавил лично[1]. Особенно ярко его талант как путешественника-натуралиста проявился во время первой самостоятельной Монголо-Камской экспедиции 1899–1901 гг. Ее научные результаты превзошли все ожидания – Козлов привез в Санкт-Петербург огромную и необычайно разнообразную естественно-историческую коллекцию, интересные этнографические сведения о кочевых племенах Тибета, ценнейшие данные по зоогеографии совершенно неизученных областей Центральной Азии. В результате этой экспедиции, прошедшей со съемкою более 10 000 км, были нанесены на карту крупнейшие хребты в Восточном и Центральном Тибете (хребет Русского географического общества, хребет Водораздел (бассейнов Хуан-хэ и Янцзы), хребет Рокхилла и др.). Исследования Козлова получили высокую оценку мирового научного сообщества. Снарядившее экспедицию ИРГО наградило путешественника за выдающийся вклад в изучение Центральной Азии своей высшей наградой – Константиновской золотой медалью.
Следующая экспедиция Козлова – Монголо-Сычуаньская (1907–1909) – прославила его уникальными археологическими находками, сделанными при раскопках «мертвого» города Хара-Хото на р. Эдзин-гол, в песках южной Гоби. В одной из культовых построек – субургане-реликварии, получившем название «знаменитый», П. К. Козлову посчастливилось найти богатейшую коллекцию, содержащую тысячи книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и икон, святыни из буддийских храмов и т. п. Материалы из «знаменитого» субургана позволили ученым восстановить историю забытого тангутского государства Си-Ся, просуществовавшего около 250 лет (982—1227 гг.) на территории современного северного Китая.
Открытие и сенсационные раскопки Хара-Хото получили большой резонанс в научном мире, что принесло Козлову высшие награды Итальянского и Лондонского географических обществ, премию им. П. А. Чихачева Французской Академии наук, а императорское Русское географическое общество и Венгерское географическое общество избрали его почетным членом, соответственно в 1910 и 1911 гг.

Еще одно важное событие в жизни Козлова этого периода – знакомство с духовным и светским правителем Тибета Далай-ламой ХIII. Их первая встреча произошла в 1905 г. в столице Внешней Монголии Урге, куда Далай-лама был вынужден бежать из-за вторжения в Тибет англичан. Капитан Козлов[2] приветствовал тибетского первосвященника и поднес ему подарки от имени Русского географического общества за гостеприимство, оказанное Монголо-Камской экспедиции в 1899–1901 гг., а также по поручению МИД и Главного штаба обсуждал возможность предоставления Россией помощи Тибету. Встреча Козлова с Далай-ламой, состоявшаяся в столь драматический для Тибета момент, положила начало их теплым дружеским отношениям, продолжавшимся долгие годы.
В 1909 г. путешественник нанес новый визит правителю Тибета – на этот раз в буддийском монастыре Гумбум (в провинции Амдо, в Восточном Тибете). Завязывание близких отношений с Далай-ламой и его приближенными имело не только важное политическое значение, с точки зрения укрепления русско-тибетских связей, но было весьма полезным и в личном плане, поскольку открывало перед пытливым исследователем двери в запретную для европейцев Лхасу.
Этим обстоятельством Козлов попытался воспользоваться в 1914 г., начав подготовку к новому большому путешествию. Экспедиция проектировалась как Монголо-Тибетская. Ее целью должно было стать дополнительное исследование развалин Хара-Хото и изучение Тибетского нагорья, главным образом бассейнов верхнего течения трех великих рек Азии: Янцзы, Меконга и Салуэна. В то же время Козлов втайне надеялся, что ему наконец-то удастся осуществить свою и своего учителя заветную мечту – побывать в Лхасе. Но в его планы неожиданно вмешалась мировая война. В результате полковник Генштаба П. К. Козлов отправился на Юго-Западный фронт, где некоторое время исполнял должность коменданта городов Тарнов и Яссы. А затем в 1915 г. его командировали в Монголию во главе особой правительственной экспедиции («Монголэкс»), занимавшейся закупками скота для нужд действующей армии.

Октябрьскую революцию Козлов воспринял неоднозначно, но от сотрудничества с большевиками не отказался. Не последнюю роль в этом сыграла его востребованность новой властью. Уже в ноябре 1917 г. Российская академия наук назначает Козлова комиссаром в знаменитый крымский акклиматизационный зоопарк-заповедник Аскания-Нова. Такое назначение не было случайным: хорошо знакомый с самим зоопарком и его основателем Ф. Э. Фальц-Фейном, Козлов еще до войны энергично выступал за скорейшую национализацию этого уникального уголка природы. И в новых политических условиях он продолжил борьбу за сохранение зоопарка от разграбления и уничтожения, итогом которой стал декрет правительства советской Украины о «сбережении» Аскании-Нова в апреле 1919 г.
С окончанием гражданской войны появилась надежда на возобновление исследовательской деятельности, на новое путешествие в любимую Центральную Азию. 22 августа 1922 г. Козлов выступил с докладом в Совете Русского географического общества и поднял вопрос о возрождении несостоявшейся Монголо-Тибетской экспедиции на тех же основаниях и с той же программой научных исследований, какая была предложена Обществу в 1914 г. Руководство общества горячо поддержало планы Козлова, рассчитывая с помощью новой большой экспедиции поднять престиж Общества и возродить его былую славу главного организатора экспедиционных исследований внутри и за пределами России.
Сразу же после своего заседания Совет РГО направил в Совнарком РСФСР ходатайство о разрешении провести 2–3 годичную экспедицию в Монголию и Тибет. В письме руководителей Общества эта экспедиция была представлена как нечто совершенно исключительное, «единственное в своем роде предприятие», «важнейший географический подвиг». При этом подчеркивалось, что от нее ожидают не только «блестящих результатов в научном отношении» – экспедиция Козлова может, кроме того, иметь и «немаловажные практические результаты, завязав новые, более тесные сношения с народностями Центральной Азии».
Такое разрешение было получено без особого труда. 26 января 1923 г. проект экспедиции был рассмотрен Временным Комитетом науки при Госплане, который постановил «отпустить 50 тыс. рублей в серебряных ланах и 50 тыс. в золотом исчислении советскими знаками на оборудование экспедиции Козлова в Тибет».
Политическая обстановка того времени – обострение англо-советских отношений – не позволила, однако, П. К. Козлову совершить путешествие в Тибет, который в то время находился в сфере английского влияния. Научная программа уже утвержденной экспедиции была радикально пересмотрена – П. К. Козлов отказался от поездки в далекий Тибет, сосредоточив свои усилия на исследовании сопредельной с СССР Монголии. И здесь ему вновь сопутствовала удача. В 1924–1925 гг. экспедиция произвела раскопки древних могильных курганов к северу от Урги (совр. Улан-Батор) в горах Ноин-ула. Раскопки эти принесли сенсацию – в курганах было найдено большое количество прекрасно сохранившихся предметов: ткани, войлочные ковры с изображениями мифических животных, женские косы, седла, изделия из бронзы, монеты, керамика и многое другое. Впоследствии ученые установили, что погребения принадлежат гуннам Ханьской эпохи III–I веков до н. э.
Летом 1925 г. по завершении раскопок, экспедиция разделилась на две партии: одна, под руководством С. А. Глаголева, направилась в Монгольский Алтай и оттуда в Хара-Хото для дополнительных раскопок и снятия плана городища; другая, которой руководил сам Козлов, выступила в направлении Южного Хангая. Вырвавшись наконец-то на «светлый научный простор Азии», Козлов ведет интенсивную археологическую разведку, занимается маршрутной съемкой, пополняет ботаническую и зоологическую коллекции. Около пяти месяцев его отряд находился в предгорьях Хангая на юге Монголии. Здесь ученый затеял новые раскопки в урочище Олун-сумэ на месте развалин древнего монастыря, принесшие немало новых ценных находок. Заключительный этап экспедиции (весна-лето 1926 г.) – это палеонтологические раскопки вблизи реки Холт, орнитологические наблюдения на озере Орок-нор, которыми руководила жена путешественника Е. В. Козлова, посещение Хара-Хото на Эдзин-голе.
Подводя итоги трехлетней деятельности Монголо-Тибетской экспедиции, следует сказать, что своим научным достижениям она обязана не только П. К. Козлову, ее организатору и руководителю, но и его молодым, энергичным и, безусловно, талантливым спутникам. Особенно большой вклад в работу экспедиции внесли Е. В. Козлова, Н. В. Павлов и С. А. Кондратьев. Первая исключительно плодотворно занималась орнитологическими исследованиями, которые были продолжены в последующие годы и завершились публикацией сводного труда: «Птицы Юго-западного Забайкалья, Северной Монголии и Гоби» (Л., 1930). Заслуживают упоминания и работы Н. В. Павлова, связанные с изучением флоры высокогорного Хангая. Наконец С. А. Кондратьев, руководивший раскопками первого ноин-улинского кургана, принесшего наиболее ценные находки, и в то же время с большим успехом занимавшийся собиранием и изучением музыкального монгольского фольклора. Эти оба направления в его исследовательской деятельности также оставили след в науке.
Экспедиция П. К. Козлова в Монголию в 1923–1926 гг. оказалась его последним центральноазиатским путешествием. Несмотря на громкий успех ноин-улинских раскопок, исследователь все же испытывал немалое разочарование, оттого что не сумел выполнить своей основной задачи, завещанной ему великим Н. М. Пржевальским – побывать в наиболее недоступных частях центрального Тибета, прежде всего в Лхасе.
П. К. Козлов провел в путешествиях в общей сложности почти 17 лет. Необычайно суровые климатические условия азиатских высокогорий и пустынь не могли не отразиться на его здоровье. Физические силы были на исходе, но неутомимый исследователь продолжал вести активный образ жизни – часто выступал с лекциями, писал статьи, участвовал в работе РГО и Академии наук. В 1928 г. АН Украинской ССР избрала его своим действительным членом.

В начале 1930-х Козлов поселился в деревне Стречно, в 60 км от Старой Руссы, в глуши новгородских лесов. Здесь, вдали от суетной городской жизни, он мог спокойно работать в тесном общении с природой. Часто ходил в лес, на охоту. В середине 1934 г., однако, его состояние заметно ухудшилось в связи с серьезным сердечным недугом. П. К. Козлов умер в ночь с 26 на 27 сентября 1935 г., находясь в санатории в Старом Петергофе. Похоронили его в Ленинграде на Смоленском лютеранском кладбище.
Научное наследие П. К. Козлова необычайно обширно и до сих пор еще не освоено полностью учеными. Оно включает в себя его экспедиционные отчеты, статьи и книги, путевые дневники и сохранившуюся огромную переписку с коллегами и друзьями, картографические и фотографические материалы. В то же время это и новые названия на географических картах, и открытые ученым-путешественником новые виды представителей животного царства, а также уникальные богатейшие коллекции – археологические, этнографические, естественно-исторические и другие, хранящиеся ныне в лучших музейных собраниях Санкт-Петербурга – в Эрмитаже, в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамере), Зоологическом, Ботаническом музеях и Институте восточных рукописей РАН.


ТИБЕТ И ДАЛАЙ-ЛАМА
Введение
Без знанья нет и созерцанья; Без созерцанья знанья нет: В ком созерцанье, свет и знанье, Тому преград к нирване нет.
Тибет – высокий и заветный край – привлекает внимание европейцев-путешественников малоизвестностью своей оригинальной природы и едва ли не более всего замкнутостью своих главных центров и монастырей, в особенности Лхасы – столицы Тибета, резиденции буддийского первосвященника Далай-ламы.
В запретную дверь Тибета тщетно стучались Пржевальский, Кэри, Литльдэль, Бонвало с принцем Орлеан, Свен Гедин и другие путешественники. Тем не менее, все они должны были уступить фанатизму тибетского народа и с болью в сердце повернуть в иную сторону.
Мой учитель Н. М. Пржевальский особенно настойчиво стремился в сердце Тибета и в свое третье путешествие, стоя у цели его, вынужден был сказать (на решение важных сановников Тибета не пропускать русских в Лхасу): «Пусть другой, более счастливый путешественник, докончит недоконченное мною в Азии. С моей стороны сделано все, что возможно было сделать». В этих простых, искренних словах великого путешественника передавалось завещание его последователям.
Таким образом, европейские исследователи не проникали в центральный Тибет, под которым, как известно, подразумеваются две провинции: Уй и Цзан. На их долю выпадали другие части Тибета, с которыми они в значительной степени и познакомили свет. Однако несмотря на то что центральный Тибет после 1845 года европейцами не посещался, по крайней мере в главных его частях, тем не менее, литература о нем растет, и ученый мир знает о Тибете весьма многое. Тибет ежегодно посещается русскоподданными бурятами и калмыками вот уже непрерывно свыше сорока лет. Многие из этих паломников вели свои записки или составляли воспоминания о Тибете.
Кроме русских, изучением центрального Тибета усердно занимались англичане, командируя из Индии пандитов – обученных съемке и описательной географии индусов, из трудов которых наибольшего внимания заслуживает книга Сарат Чандра-Даса. Впрочем, работы последнего Лондонское географическое общество не публиковывало до тех пор, пока не проник в Лхасу наш соотечественник Г. Ц. Цыбиков, в 1899 году, в качестве образованного паломника. С тех пор у России и Англии проявляются еще большие стремления попасть в заветную страну, и в то время, когда первая вела войну с Японией, вторая, в 1904 году снарядила дипломатическую, или, вернее, военную экспедицию в Лхасу.
Движение английского военного отряда в глубь Тибета, ряд стычек и избиение тибетцев англичанами у «источников хрустального глаза» вынудило главу Тибета поспешно искать спасения на севере, в Монголии.

Монголия и Китай приютили буддийского владыку на целых четыре года, прежде нежели политические события позволили Далай-ламе завязать лучшие отношения с Россией и последним китайским императором и отправиться домой в Лхасу. По дороге в Тибет Далай-лама довольно долго отдыхал в одном из больших амдоских монастырей – Гумбуме, родине знаменитого реформатора буддизма Цзоихавы, последователем учения которого, между прочим, является и сам тибетский первосвященник.
Во время моей Монголо-Сычуаньской экспедиции, весною в 1909-м году, я посетил вторично хорошо известный мне монастырь Гумбум, где в течение двух недель имел возможность ежедневно видеть, беседовать и изучать Далай-ламу, с которым я уже был знаком по Урге 1905 года, выражая ему тогда приветствие от Русского географического общества.
После второй встречи с Далай-ламой я имел основание мечтать о выполнении самого главного из заветов моего учителя – посещении Лхасы. Но судьба устроила иначе. Разгорелась европейская война, и меня не пустили. До сего времени я не могу понять, каким доводом мотивировало мою задержку бывшее старое правительство? Что я мог представить собою здесь или даже на войне со своими спутниками в количестве двадцати с небольшим человек? Я глубоко верил только в один исход[3]: отправиться в Тибет, использовать время, отпущенные средства, превосходное снаряжение и новое доверие Географического общества. Тот состав экспедиции, горевший нетерпением отправиться в путешествие, по моему мнению, стоял на высоте задачи и мог добыть много нового, интересного. Все мои спутники были один другого лучше: ведь я их выбирал более строго, нежели выбирают невест.
Первый раз в моей жизни судьба не пощадила меня, а может быть, и пощадила. Ожидая лучших дней, я составил отчет о Монголо-Сычуаньской экспедиции; к сожалению, еще не успел его напечатать. Я очень истомился, проживая вне активной деятельности в родной для меня тибетской атмосфере, и благосклонный читатель поймет мое желание взяться за перо и чуть-чуть забыться в беседе с ним о Тибете, Лхасе и о том Тибетском первосвященнике, которого я много, много раз видел и слышал.
Вместе с тем в этот труд вложена и основная мысль: «Как установить сношения России с Тибетом?»

Очерк тибетской природы
Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны, ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном нагорье, наполняющем южную половину центральной части этого континента и известном под именем Тибета. Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собою, в форме неправильной трапеции, грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся, столовидную массу, поднятую над уровнем моря, за исключением лишь немногих окраин, на страшную высоту от 13 до 15000 футов. И на этом гигантском пьедестале громоздятся, сверх того, обширные горные хребты, правда, относительно невысокие внутри страны, но за то на ее окраинах развивающиеся самыми могучими формами диких альпов. Словно стерегут здесь эти великаны труднодоступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату и в большей части еще совершенно неведомых для науки.
Тибетское нагорье, где покоятся колыбели рек Инда, Брамапутры, Салуена, Меконга, Голубой, Желтой, раскинулось, действительно, на громадное пространство. Доступное приблизительно в средней своей части в направлении от извилины Брамапутры на Куку-нор влиянию юго-западного муссона Индийского океана, оно в этом районе летом богато атмосферными осадками. Далее на запад нагорье еще более возвышается, выравнивается, сухость климата постепенно увеличивается, и травянистый покров высокого плато сменяется щебне-галечной пустыней, справедливо называемой «мертвой землей». По мере же удаления от помянутой климатической диагонали на восток и юг, по мере того, как реки, стремящиеся в эти стороны, вырастают в могучие водные артерии, нагорье Тибета все больше и больше размывается, переходя последовательно в горно-альпийскую страну.
Долины рек, мрачные ущелья и теснины чередуются здесь с водораздельными гребнями гор. Дороги или тропы то спускаются вниз, то ведут вновь на страшные относительные и абсолютные высоты. Мягкость и суровость климата, пышные и жалкие растительные зоны, жилища людей и безжизненные вершины величественных хребтов часто сменяются пред глазами путешественника. У ног его развертываются или чудные панорамы гор, или кругозор до крайности стесняется скалистыми боками ущелья, куда путник спускается из-за облачной выси; внизу он слышит неумолкаемый шум по большей части голубых пенящихся вод, тогда как наверху тишина нарушается лишь завыванием ветра и бури.

В северной части Тибета расстилается высокое холодное плато. Спокойный, мягко-волнистый рельеф, прикрытый характерной травянистой растительностью, изобилует оригинальными представителями животного царства: дикими яками, антилопами оронго и ада, дикими ослами и другими, приспособленными к разреженному воздуху и климатическим невзгодам копытными. Рядом с травоядными, на соседних глинистых увалах, во множестве населенных пищухами (Lagomys ladacensis), бродят тибетские медведи (Ursus lagomyiarius) не только в одиночку, но нередко и компанией в два-три пищухоеда. Окраска шерсти тибетского медведя сильно варьирует: от черного до чалого и ярко-светлого, чтобы не сказать белого.
На речках и озерах летом держится много плавающих и голенастых пернатых; среди первых наибольшего внимания заслуживает индийский гусь (Anser indicus)[4], а среди вторых – черношейный журавль (Grus nigricollis), открытый Н. М. Пржевальским.
Кочевники-тибетцы, появляющиеся здесь лишь изредка в виде охотников, золотоискателей или просто грабителей-разбойников, не нарушают привольной жизни млекопитающих. Путешественнику в этих местах нужно быть крайне осмотрительным, чтобы не подвергнуть себя неприятной случайности.
В летнее время, в рассматриваемой части тибетского нагорья, погода характеризуется преобладающей облачностью, обилием атмосферных осадков, выпадающих в виде снежной крупы, снега и дождя. Ночной minimum температуры частенько ниже нуля. Однако, не смотря на все это, местная флора, веками приспособленная к борьбе за существование, произрастает сравнительно успешно и в теплые солнечные проблески ласкает взор своими яркими колерами.
В другие времена года погода на севере тибетского нагорья выражается господствующими с запада сильными бурями, в особенности весною, кроме того, соответственно низкой температурой, несмотря на столь южное положение страны, и крайнею сухостью атмосферы; результатом этой сухости воздуха является почти полное отсутствие снега в долинах даже зимою, когда иначе было бы невозможно существование здесь многочисленных стад диких млекопитающих.
В южной части тибетского нагорья характер местности круто изменяется: к голубой выси неба поднимаются скалистые цепи гор, между которыми глубоко залегает лабиринт ущелий со стремительно бегущими по ним ручьями и речками. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже ель, древовидный можжевельник, ива; на дно, к берегам рек сбегают дикий абрикос, яблони, красная и белая рябины; все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах манят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, Saussurea, мытников, камнеломок и других.
В глубоких, словно спрятанных в высоких горах, ущельях водятся красивые пестрые леопарды, рыси, несколько видов более мелких кошек (некоторые из них забегают и в долины), медведи, волки, лисицы, большие летяги, хорьки, зайцы, мелкие грызуны, олени, мускусная кабарга, китайский козел (Nemorhoedus) и, наконец, обезьяны (Macacus vestitus), живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с человеком.
Что касается пернатого царства, то среди последнего замечено еще большее богатство и разнообразие. Особенно резко бросаются в глаза белые ушастые фазаны (Crossoptilon thibetanum)[5], зеленые всэре (Ithaginis geoffroyi), купдыки (Tetraophasis szechenyi), рябчики (Tetrastes severzowi), несколько видов дятлов и порядочное количество мелких птичек из отряда воробьиных. В поясе скал и россыпей по утрам и вечерам раздается звонкий свист горной индейки, или улара (Alegaloperdix Ihibetanus).
В ясную теплую погоду в красивых уголках южного Тибета натуралист одновременно услаждает и взор, и слух. Свободно и гордо расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба снежные грифы[6] и орлы невольно приковывают глаз; пение мелких пташек, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо.
Летом погода в южном Тибете непостоянная: то ярко светит солнце, то падает дождь; иногда неделями густые свинцовые облака окутывают горы почти до их подошвы. Выглянувшее солнце жжет немилосердно в разреженной атмосфере.
Лучшее время – сухое, ясное – наступает осенью.
Зима сравнительно мягкая, малоснежная. Значительные реки не знают ледяного покрова, хотя второстепенные реченки и ручьи в декабре и январе бывают прочно скованы льдом. Редко падающий снег или тает по мере своего падения, или же испаряется к вечеру следующего дня; словом, южные скаты гор всегда свободны от этого осадка, и только северные склоны или верхний пояс гор чаще покрываются слоем снега, хотя и не столь значительным по толщине. Вслед за выпавшим снегом атмосфера, и без того прозрачная, еще более проясняется, а небо принимает густую синеву, особенно перед закатом солнца. По ночам планеты и звезды ярко блестят.
В конце февраля температура быстро повышается: горные ручьи журчат, франколины и кундыки токуют, ягнятники бородатые поднимаются на страшную высоту и там ликуют, потрясая воздух своими весенними голосами.

Административное деление
Территория с тибетским населением, подвластная с начала XVII-го столетия Дай-цинам и известная ныне под именем Тибет, пользовалась вначале полною автономиею под верховным управлением Далай-ламы и разделялась на четыре провинции: У (Уй), Цан (Цзан), Кам и Нгарн (Корсум). Однако с течением времени Дай-цины, следуя своей общей политике в отношении инородцев, стали постепенно, почти незаметно для самих тибетцев, усиливать свою власть над их территорией, причем часть ее подчинили надзору властей соседних провинций Собственного Китая, для наблюдения же над более отдаленными от последнего землями назначили в Лхасу своего постоянного представителя – амбаня. Вместе с тем принимались меры к ослаблению власти Далай-ламы и к устранению его от действительного участия в управлении. Кроме того, другие высшие иерархи Тибета стали претендовать на верховную власть над разными областями в ущерб правам Далай-ламы, и китайское правительство отнеслось к подобным притязаниям довольно благосклонно.
В настоящее время территория, населенная тибетцами и входившая в состав Китая, делится на ряд почти независимых друг от друга владений, которые в порядке подчинения центральному правительству распадаются на три следующие группы:
Северо-восточная часть указанной территории, включая сюда Куку-нор[7] и Амдо, населенная, кроме тибетских кочевых поселений, еще и монголами, подчинена ведению Сининского цинцайя.
Юго-восточный угол включен в состав китайской провинции Сы-чуань и подчинен непосредственно генерал-губернатору последней. Важнейшими городами здесь являются: Батан, Литан и Да-цзян-лу.
Вся остальная часть рассматриваемой территории, значительно превосходящая по своим размерам две других и составляющая Собственный Тибет, до последнего времени закрытый для иностранцев, находилась под надзором лхаского резидента. Доныне в памяти народа, по-видимому, утверждает В. Л. Котвич, крепко держится деление Собственного Тибета на четыре отмеченные выше провинции, но в административном отношении это историческое деление уже утратило в значительной степени практическое значение. В действительности он является в настоящее время разделенным на несколько автономных владений, установить точные границы которых не представляется, однако, возможным в виду существования спорных областей.

Главную часть этих владений составляют земли, признающие над собою власть Далай-ламы; общую численность подведомственного ему населения французский путешественник Дютрейль де Ренс определяет в 1½ миллиона душ, в том числе триста тысяч монахов. Центром этого владения является провинция У, или Уй, но в состав его входят области и других провинций, и вообще Далай-ламское правительство не упускает случая к расширению своей власти.
Затем следует область, подчиненная второму тибетскому святителю, перерожденцу будды Амитабы – «будды Беспредельного света» – Банчэнь-ринбочэ, пребывающему в монастыре Даший-лхунбо близ г. Шихацзэ. Ему подчиняется до ста тысяч человек, проживающих преимущественно в провинции Цан; но его авторитет распространяется и на другие местности, как, например, Амдо, где он назначает настоятелей монастырей племени н’голок.
Глава секты сакья, имеющий резиденцию в монастыре того же имени, пользуется правами по управлению последователями этой секты. Равным образом и приверженцы старой религии – бон-по, живущие главным образом в области Чжядэ, в провинции Кам, не признают над собою власти буддийских иерархов, образуя автономные владения.
Сам-яй является первым по времени своего основания монастырем Тибета. По преданию, он основан в 811 году ханом Тисрон-дэвцзаном при помощи известного проповедника буддизма Кадма-Самбавы, именуемого тибетцами чаще Ловбон-чэньбо или Ловбон-Бадма-чжуннай.
Все эти многочисленные владения Собственного Тибета объединялись между собою общею зависимостью от лхаского резидента. Кроме того, повторяю, влияние и могущество желтошапочной буддийской секты гэ-луг-па здесь настолько велико, что ее глава Далай-лама распространял, а теперь еще больше распространяет свой авторитет, как духовный, так и политический, на всю территорию, населенную тибетцами.
Сношения Тибета с соседними странами при описанных выше топографических его особенностях представляют громадные трудности, и главную из них составляет отсутствие удобных путей сообщения.
То, что разумеется в Тибете под именем лам – дорога или даже чжа-лам – большая дорога, представляет на деле узкую тропинку, идущую по глубоким лощинам или ущельям, пересеченным местами бурными потоками, очень трудно, а подчас и вовсе не переходимыми вброд; мосты же на подобных потоках попадаются сравнительно очень редко. Часто дорога идет по крутым утесам, достигающим 15—16000 футов абсолютной высоты с обледенелыми или снежными склонами. Иногда дорога узкою лентою вьется по карнизу скал, нависших над пропастью, и загромождена камнями или, наоборот, изрезана рытвинами так, что два завьюченных быка или яка едва могут пройти рядом.
Для таких дорог лучшим животным является тибетский як. Благодаря устойчивости ног, як проходит по самым опасным местам. Як неприхотлив в корме и всегда довольствуется, сравнительно небольшим количеством тибетских жестких трав – «шириков». Отрицательными качествами яка являются лень и упрямство, вследствие чего он годится лишь для небольших переходов; кроме того, его нельзя употреблять для перевозки тяжелых и, в особенности, хрупких предметов, так как яки в группе не идут вереницей, как ходят верблюды или лошади, а следуют обыкновенно беспорядочной толпой, теснясь и беспрестанно толкая друг друга. В горах яки идут медленно, в долине же вдвое быстрее, тем не менее лошадь осиливает в один день два яковых перехода. Ввиду этого туземцы нередко предпочитают лошадей, в крайнем случае – хайныков, то есть помесей яка с коровою, которые довольно послушны, сильны, имеют обыкновение следовать гусем, но которые и ценятся раза в три-четыре дороже яка.

Население Тибета
Численность населения Тибета определяется около четырех миллионов, причем на центральный Тибет приходится значительно свыше миллиона.
Тибетцы делятся на кочевых и оседлых.
Кочевые тибетцы имеют рост средний, реже большой, сложение плотное, коренастое, глаза большие, но не всегда косые, черные; нос не сплюснутый, иногда даже орлиный; скулы обыкновенно не слишком выдаются; уши средней величины; волосы черные, грубые, длинные, спадающие на плечи; подстригаются эти волосы лишь на лбу, чтобы не лезли в глаза; усы и борода почти не растут, притом, вероятно, их выщипывают; зубы отличные белые, хотя встречаются и уродливо-посаженные; череп в общем более удлиненный, нежели округлый; цвет кожи грязно-светло-коричневый, чему отчасти способствует и то, что тело никогда не моется. Тибетцы издают сильный противный запах, более резкий и иной, нежели у монголов, которые также не отличаются благовонием.
Что же касается до оседлых тибетцев, то они крупнее ростом, значительно благообразнее и чище кочевников, в особенности среди достаточного класса, в котором можно встретить довольно приличных молодых мужчин и грациозных, стройных, румяных девушек; еще более интересными представляются дети с живыми блестящими черными глазенками и густыми, часто вьющимися, хотя и коротко подстриженными у мальчиков кудрями.
Одежда кочевого населения, как мужчин так и женщин, состоит из овчинной нагольной шубы и шерстяного халата; последний надевается только в летнее время, да и то не всеми и не всегда; в главном же употреблении первый костюм, который мужчины, подобрав высоко, подпоясывают таким образом, что вокруг верхней части туловища образуется нечто вроде большого мешка, куда складывается чашка, запасы курительного или нюхательного табаку и проч.
Тибетки же поднимают свои длинные шубы или халаты при опоясывании лишь настолько, чтобы они не очень затрудняли движения и не касались земли. И мужчины, и женщины привешивают к поясному ремню «гирок» – связки ключей; мужчины, кроме того, – огниво, печать, нож, а спереди носят заткнутую за пояс саблю.
Со штанами знакомы лишь немногие тибетцы. Сапоги же из цветной шерстяной ткани, с подошвою из сыромятной кожи носят все.
Большинство тибетцев-простолюдинов никогда не чешут своих длинных волос, отчего шевелюра нередко походит на плотно-сбитые пряди хвоста яка, и голова обыкновенно остается совершенно непокрытою не только летом, но и зимою. Иногда же тибетцы одевают на голову войлочную, с белой матерчатой покрышкой шляпу, которая имеет высокую тулью и широкие поля; иногда на головах тибетцев встречаются и целые лисьи шкурки, снятые мешком и связанные у головы и хвоста
Чиновники, как равно и многие из состоятельных обитателей Тибета, в особенности молодежь, довольно внимательно относятся к своим волосам, расчесывая их большим деревянным гребнем и заплетая в целый ряд тонких косиц, сходящихся на затылке в одну большую общую косу, которая украшается солидным кольцом слоновой кости и несколькими обыкновенной величины серебряными кольцами со вставленными в них цветными камнями. Имеющие подобную косу тибетцы обматывают ею голову таким образом, что украшения косы ложатся выше лба в виде кокошника.
Только женщины заплетают свои волосы в тонкие многочисленные косицы, которые за спиною разделяются на две равные части, скрепленные посредине и по концам нитками стеклянных бус. На верху головы к волосам тибетки прикрепляют куски янтаря и коралла, которые располагают на голове в виде венка из цветов, причем в центре его помещают небольшую искусственную серебряную или медную раковину.
При одинаково длинных волосах, одинаково подстригаемых только над глазами, а еще больше одинаковыми косицами у висков, мужчины нередко походят на женщин, тем более что усы и борода плохо растут у тибетцев, которые к тому же на досуге, постоянно выдергивают эту растительность по одному волоску специальными щипцами, носимыми при поясном ремне вместе с ножом, ключами, печатью и прочими мелкими принадлежностями.
На шее тибетцы и тибетки носят ожерелье из цветных камней, а к ожерелью привешивают амулеты и ладонки, или «гау», сделанные из серебра или меди. Очень немногие женщины носят на своих, большею частью грязных, руках серебряные кольца и браслеты, а в ушах серьги; такие же серьги, но более массивные и тяжелые, носят и мужчины, обыкновенно в левом ухе.
Курящие тибетцы имеют при себе огниво и металлическую трубку с длинным деревянным чубуком и каменным или стеклянным мундштуком, хранимую за пазухой в мешочке с табаком.
Тибетские пастухи неизменно бывают вооружены пращой, саблей и кнутом. Сабля – вечная спутница тибетца – носится в видах всегдашней готовности постоять за себя; праща же и кнут – как средство для управления скотом. Тибетцы – большие мастера в метании камней из пращи, которая, между прочим, входит в состав вооружения тибетских воинов низшего разряда; часто приходилось наблюдать, как пастухи перебрасываются друг с другом речной галькой с одного ската гор на другой через ущелье. Быстро пролетающие камни свистят подобно пулям, и мне кажется, что этот-то самый звук и заставляет животных быть послушными воле пастухов. Иногда пастухи на большие расстояния перекликаются своими звонкими, высокими голосами или в одиночестве упражняются игрой на местных дудочках.
Кроме сабли, тибетцы располагают и другим холодным оружием – пикой, а из огнестрельного – фитильным ружьем с сошками.
Как женщины гордятся своими бусами и янтарем, так одинаково, если не больше, гордятся мужчины своими воинскими доспехами, в особенности ружьем и саблей, на украшение которых серебром и цветными камнями тратится немало денег. Боевым видом, молодечеством, удалью в Тибете, как и вообще в Центральной Азии, главным образом и оценивается достоинство людей, способных быть начальниками. Резвые кони с хорошим звонким убранством уже издали привлекают внимание придорожного населения или встречного каравана. Пестрый – темно-красный, синий, желтый – наряд очень красит гордых тибетских всадников, в особенности чиновников, перед которыми, как и перед каждым повелительным словом «пэм-бу», местные простолюдины смиренно и низко склоняют головы.
Жилищем для кочевого тибетца служит черная шерстяная палатка – «банаг», формой представляющая несколько удлиненный квадрат. Сверху вдоль всей палатки находится отверстие, одновременно служащее и окном, и для выхода дыма. Земляной пол в палатке никогда ничем не покрывается, а потому очень грязен, в особенности в дождливое время. Люди спят в палатке либо прямо на земле, либо подостлав под себя войлоки.

Палатки тибетцев располагаются большими или меньшими группами то в долинах, то в ущельях гор и непременно на покатости. В сухую, ясную, теплую погоду кочевник и его не знающие крова стада чувствуют себя превосходно; другое дело в холодное ненастье или в зимний снежный шторм. Впрочем, обитатели Тибета – большие мастера выбирать наиболее подходящие места для каждого отдельного времени года. Зимою они сосредоточиваются на дне глубоких долин, по мере же наступления весны и развития свежей растительности радостно стремятся в горы выше и выше – до границы альпийских лугов; затем снова постепенно спускаются в нижние зоны, и так из года в год.
Несколько иначе и по-своему лучше живут оседлые тибетцы, устраивающие постоянные жилища из тонких, реже толстых, бревен или просто из жердей и ветвей, обмазывая стены толстым слоем глины. Изредка тибетские дома возводятся и из дикого камня в два или три этажа, с галереями, балконами и крепостными стенками с башенками над воротами. Нижний этаж дома тибетца служит исключительно для загона скота, а остальные – для жилья самих хозяев и склада их домашнего скарба; тут же всегда хранится на подвешенных жердях необмолоченый хлеб и сено. Хлеб молотят на плоской кровле нижнего этажа, который для этой цели строится значительно шире верхних. Сама молотьба производится деревянными цепами, напоминающими наши. Заготовленное на зиму сено свивается в длинные жгуты и вешается на изгороди и на ветви ближайших к дому высоких деревьев.
Относительно пищи: как кочующие, так и оседлые тибетцы довольствуются преимущественно продуктами молочного хозяйства с значительным прибавлением дзамбы – сухой муки – и кирпичного чая. Оседлые тибетцы едят также репу в печеном виде, но мясом лакомятся очень редко, нисколько притом не брезгая животными, задавленными зверем. Тибетцы едят мясо не только впросырь, но даже и в совершенно сыром виде.
За отсутствием каких бы то ни было овощей, кроме репы, тибетцы копают корешки «джюмы» – гусиной лапчатки (Potentilla anserina), которая растет в изобилии в долинах речек. В сухом виде этот продукт сохраняется прекрасно; в Тибете мы лично также охотно питались им, и мне с товарищами неоднократно приходила мысль: почему бы у нас в России, где это растение также обыкновенно, не сделать попытку добывать и заготовлять корешки Potentilla anserina, в подспорье к ржаному хлебу, в особенности в период голодовок.
Из горячительных напитков в Тибете известно вино «чан», или «чун», приготовляемое туземцами из распаренного голосемянного ячменя, а из сластей – нечто вроде нашего сахарного песка и так называемый «прром», т. е. мучнисто-медовая твердая масса в виде маленьких хлебцев, привозимая торговцами из Сычуани. Высшее духовенство и чиновники предлагают гостям вместе с прочим угощением и это лакомство.
Занятие кочевых тибетцев заключается главным образом, конечно, в скотоводстве; многие зажиточные «бок-ба» обладают огромными стадами яков, баранов, понемногу держат также лошадей, хайныков (помесь яка с коровою) и коз. Тибетские лошади, сильные и выносливые, ценятся довольно дорого, несмотря на свой небольшой рост и некрасивые стати; хорошими иноходцами тибетцы также гордятся, как и лучшим оружием. Как и в Монголии, здесь лошадь служит исключительно для верховой езды. В качестве же вьючного животного является неизменный як, который в жизни тибетца вообще играет такую же важную роль, какую у монголов верблюд.
Оседлые тибетцы держат немного скота и засевают свои небольшие поля ячменем, реже пшеницей, произрастающей не выше 11000 футов над морем, а крохотные огороды – только репой.
И кочевые, и оседлые тибетцы по отношению к труду вообще такие же лентяи, как и монголы. И здесь мужской элемент при каждом удобном случае норовит составить компанию для праздных разговоров. В лучшем случае тибетцы едут на охоту или на грабеж. Домашние же работы ложатся на женщин. В то время как женщина в течение дня трудится, что называется, не покладая рук, мужчина скучает от бездействия и идет к ней на помощь только тогда, когда женщина физически не в состоянии с чем-либо справиться. В качестве носильщика багажа или проводницы чиновника на расстоянии 15–20 и более верст является также женщина. Не надо забывать, что все эти работы исполняются в разреженной атмосфере, на 12—15000 футов над морем. Верхом на лошади тибетка так же ловка, как и тибетец; поймать из табуна любую лошадь, ухватиться рукою за гриву и, быстро вспрыгнув на спину неоседланного животного, лихо нестись в желаемом направлении – в привычке каждой молодой тибетки; справиться с упрямым яком при вьючке или развьючке – также.
Как и везде, в Тибете имеются болезненные отпрыски человечества – нищие, в большинстве случаев поражающие своей худобой, грязью и рубищем. Одни нищие просят подаяние молча или произнося что-либо шепотом, другие вполголоса с поклонами, иные громко взывают к божествам, некоторые же одевают на головы маски, изображающие животных или зверей, и пляшут перед жилищами; иные нищие ходят с нищенским атрибутом, называемым «дулдуй». Орудие это есть достояние таких нищих, которые состоят под непосредственным покровительством монастырей. Каждый тибетец может пожертвовать на убранство дулдуя, что пожелает: один дает монету, другой раковину, третий четки, иной кольца, бусы и проч. Нищие с дулдуем громко поют или просто кричат, произнося отрывки из первоначальной истории жизни Будды, чем дают возможность последователям буддизма лишний раз вспомнить о том, что и их первый учитель имел такой же образ, как и они, проповедуя свое учение.
В марте месяце в Тибете приступают одновременно и к вспахиванию поля, и к обсеиванью его зерном. Из земледельческих орудий тибетцы знакомы только с одной примитивной деревянной сохой с железным сошником парной или одиночной запряжки; пашут здесь на быках – яках или хайныках, реже на лошадях.
Интересно, что в период весенних земледельческих работ в каждом селении раздаются звонкие голоса детей, хором взывающих к Богу о ниспослании на землю хороших урожаев.
В конце августа приступают к уборке хлеба; при жатве употребляют нечто вроде нашего серпа; сжатый хлеб почти тотчас же свозят к жилищам и, по мере просушки его или обмолачивают, или складывают под навес.
Для перемола зерна имеются ручные и водяные мельницы.
В наиболее красивых, приветливых и вместе с тем уютных уголках Тибета устроены кумирни или монастыри, а при этих последних нередко и управления начальников, и дома их приближенных. При монастырях же проживают и торговцы со складами своих товаров, словом, монастыри играют роль общественных и религиозных центров и заменяют собою города, которых здесь вовсе нет.
Грамотность в Тибете, как в былые времена и у нас на Руси, доступна лишь духовному классу, который составляет десять-двадцать, а то и больше процентов всего населения.
К светочу религиозных знаний тибетский темный народ обращается во всех более или менее важных случаях жизни.
Дороги, пересекающие Тибет, повторяю, исключительно вьючные, пролегают не только по долинам рек и речек, но и через разделяющие их хребты и горы. В области оседлого населения через горные ручьи и речки устроены мосты; в районе же кочевых обитателей переправы производятся вброд. Для переправы через главные реки Тибета служат оригинальные лодки, похожие на кузов саней. Деревянный остов тибетской лодки, связанный из нескольких обручей, прикрепленных к деревянной раме, обтягивается шкурой яка; при спуске на воду швы ее каждый раз смазываются салом. Переезд лодки сопровождается громким гиканьем, подобным тому, какое издают тибетцы при их атаках на неприятеля.

Главные, или большие дороги, которые связывают Сычуань с Лхасой, постоянно оживлены бычачьими караванами, везущими в столицу Тибета сычуаньский чай, шелк и проч. и вывозящими обратно шерсть, маральи рога, мускус, тибетские сукна ткани, предметы культа и немногое другое.
Вдоль всяких дорог во многих местах сложены из сланцевых плит более или менее длинные валы «мэньдоп», или «мани»; также часто можно видеть высеченную огромными буквами на отшлифованных самою природою выступах скал мистическую формулу «ом-ма-ни-па-дмэ-хум», что значит: «о, ты, сокровище на лотосе!»[8], а иногда далее и поясное изображение самих божеств буддийского пантеона.
На перевалах, как и в других местах Центральной Азии, сооружены «обо», а по горным ручьям – хурдэ – молитвенные мельницы, приводимые во вращательное движение, подобно мельничным жерновам.
Среди обитателей Центральной Азии вместо денег, как их представляют себе европейцы, вращается ямбовое китайское серебро в больших и малых слитках, а также изредка и медные круглые монеты «чохи» с отверстием посредине.
В Тибете же в ходу преимущественно индийская серебряная монета, рупия, которая чеканится англичанами в Калькутте и которую главным образом признают тибетцы. В центральном Тибете нередки тибетские серебряные монеты «дхамха», фабрикуемые в Лхасе. В Каме, или восточном Тибете эти монеты встречаются редко; еще реже непальские.
Во многих местах Тибета вообще и в верхнем бассейне Желтой реки и Янцзы-Цзяна в частности тибетцы копают золото, применяя в работе самый примитивный способ и пользуясь самыми грубыми инструментами[9].
Нравственные качества тибетцев – лень, грубость, лицемерие, корысть в связи с ханжеством и суеверием. Тибетцы лукавы, вороваты; они никогда не могут удержаться от соблазна воспользоваться чужою собственностью. Барантачество развито очень сильно. Все эти отрицательные стороны наиболее присущи тибетскому кочевому населению, среди же оседлых тибетцев нередки и порядочные люди с более мягким характером и некоторым понятием о гостеприимстве. На языке таких людей еще понятна пословица: «как в тенистой глубокой воде рыбы больше, так и у хорошего человека больше друзей».
Общей характерной чертой тибетцев служит, между прочим, крайняя подозрительность, недоверие, основанные на применении народом древнего обычая избавления от ненавистного и преграждающего дорогу человека при посредстве яда, секретно вводимого в еду и питье, обыкновенно в местное вино. В силу этого тибетец решается вступить в дружбу не иначе, как только исполнив известный обряд «братанья», основанный на обмене гау и принесений клятвы перед бурханами.
В целях поддержания внутреннего порядка и гарантии безопасности извне тибетцы, хотя и не имеют постоянного войска[10], как мы его понимаем, но, тем не менее, по первому требованию своих начальников скоро выставляют необходимый по численности конный отряд в полном боевом снаряжении[11] и походной готовности. Предводителями отрядов назначаются испытанные в боях хошунные начальники, которые бывают вооружены лучше других.
Тибетцы по-своему смелы и воинственны. Они счастливы, когда располагают хорошим конем и отличным вооружением. Превосходные неутомимые наездники, тибетцы имеют привычку подтягивать стремена так высоко, что верхняя часть ноги – бедро – лежит у них совершенно горизонтально.
Летом, как только лошади успевают откормиться, тибетцы организуют партии для воровских набегов в соседние или отдаленные хошуны. Чаще воруют в чужих округах, причем предметом самого воровства является скот, до баранов включительно. Нередко воровство переходит в открытый разбой. Уворованную и доставленную на место добычу делят приблизительно таким образом: половину из всего награбленного отдают в пользу своего хошунного начальника, а из остального – одна половина поступает предводителю партии, а другая – всем остальным ее членам.
Общий процент смертности в Тибете невелик, не считая, конечно, неизбежных периодических повальных болезней, как, например, оспа, случающихся сравнительно редко; тем не менее, прирост населения в этой стране крайне ограниченный, что надо приписать главным образом существованию в Тибете полиандрии и присутствию многочисленного класса безбрачного духовенства с одной стороны и междоусобным войнам с другой.

Столица Тибета – Лхаса и ее ближайшие монастыри
Самый интересный город по представлению европейцев и самый «идеальный» по представлению самих тибетцев – Лхаса – очаровывает путника издали, когда он впервые с ближайших предгорий видит лхаскую долину, окаймляющие ее горные цепи, а главное – Поталу[12] и храм медицины, расположенные на отдельных горках, по преданию, привезенных на вьюках из Индии.
После тяжелой монотонной дороги Лхаса с дворцом Далай-ламы и массою храмов, ярко блестящих на солнце золочеными кровлями и ганчжирами, действительно производит сильное и вместе с тем обаятельное впечатление. Дивное сочетание долины и божественных холмов – Марбо-ри и Чжагбо-ри, прозрачных голубых небес и яркого солнца, оригинальных построек и красных, золотых и белых красок порождает живую сказку.
Недаром буддисты при первом взгляде на Лхасу, на Поталу падают в исступлении на колени и со слезами умиления приковываются к «святому святых» горячим молящим взором.
Основание Лхасы, по данным Г. Ц. Цыбикова, относится ко времени хана Срон-цзан-гамбо, жившего в VII веке по Р. X. Рассказывают, что этот хан в числе своих жен имел царевен непальскую и китайскую, которые привезли с собою по статуе будды Шакьямуни, для которых и были построены храмы в Лхасе, а сам он поселился на горе Марбо-ри, где ныне красуется дворец Далай-ламы.
Круговая дорога «лингор», по которой паломники совершают молитвенные обходы столицы Тибета пешком растяжными поклонами, равняется почти двенадцати верстам.
Столь любимые тибетцами сады, или парки придают Лхасе красивый вид, в особенности поздней весною или летом.
Абсолютная высота Лхаской долины определяется около 11000 футов.
Центром столицы-города служит храм, где покоится большая статуя будды. Храм этот – квадратный дом в три этажа с четырьмя золочеными крышами китайского стиля. В среднем помещении восточной стены отведено место главному объекту поклонения – статуе будды Шакья-муни под роскошным балдахином. Сама статуя из бронзы отличается от общеизвестных изображений индийского мудреца своими головными и грудными украшениями из кованого золота и драгоценных камней, в особенности бирюзы, изготовленных и надетых на нее знаменитым реформатором буддизма – Цзонхавой.
Лицо этой статуи со времен того же Цзонхавы красится золотым порошком.
«Не все божества пользуются одинаковым почетом, и посетитель сразу может отличить более чтимых. Так, в середине северной стены находится комната с большим числом светильников, среди коих находятся четыре-пять золотых лампад и большие каменные с прислуживающими при них ламами. В этой комнате помещена весьма чтимая статуя десятиликого Арьябало, или Авалокитешвары, по-тибетски Туг-чжэ-чэн-бо «Великомилосердный», или чжан-рай-сиг «Видящий глазами», перерожденцами которого считаются Далай-ламы.
Статую эту, по преданию, слепили из смеси разных благовонных трав по приказу царя Срон-цзан-гамбо и поместили в ней также сандальную статую того же Авалокитешвары, привезенную из Индии. К этому присовокупляют еще предание, что в год железной собаки, т. е. в 650 году нашей эры, сам царь с двумя супругами, непальской и китайской царевнами, слился с этой статуей, проникнув во внутрь ея».
Довольно большим почетом пользуется еще и статуя Бал-лхамо – покровительница женщин.
Благодетельной силе последней приписывается облегчение родов тибетских женщин вообще и лхаских в частности.
«Обстоятельство это, – говорит Г. Ц. Цыбиков, – замеченное и нами, должно, без сомнения, объяснять вообще закаленностью тибетской женщины, в особенности принадлежащей к простому классу».
Другая малая статуя будды помещается в особом храме в северной части города, и называется «Чжоворамочэ». Как храм, так и изображение по своим размерам и украшениям уступают первым. Замечается также разница в меньшем чествовании молящимися.
Украшением Лхасы также служат дворцы знатных хутухт, или гэгэнов, занимавших должность тибетских ханов. Эти дворцы с известным штатом лам, представляют собою небольшие монастыри, которых внутри города считается четыре – Тай-чжяй-лин, Шидэ-лин, Цэмо-лин и Мэру-лин, а вне города – к юго-западу – расположен пятый дворец Гун-дэ-лин, принадлежащий хутухтам Дацаг или Дагца.

Домов частных владельцев очень немного, и они находятся преимущественно на окраинах.
И над всеми этими зданиями, в некотором отдалении к западу, царит дворец Далай-ламы, Потала, построенный на скалистой горе.
«Дворец этот, – говорит Г. Ц. Цыбиков[13], – вне всякого сомнения, является самым замечательным зданием не только Лхасы, но и всего Тибета. Полное название его Ду-цзин-ньибий-побран Потала, что в переводе значит «Потала, дворец второго кормчего».
Начало этому дворцу, по преданию, было положено Срон-цзан-ханом, но он заново отделан с добавлением главной центральной части, называемой «побран-марбо» – красный дворец, во время пятого знаменитого Далай-ламы Агван Ловсан-чжямцо его советником – дэ-бой Санчжяй-чжямцо. Дворец – это замок, в постройке которого тибетские архитекторы проявили все свое инженерное искусство. В длину дворец простирается около двухсот саженей; станет более понятным, если мы возьмем в сравнение здание Петроградского университета, которое имеет всего сто двадцать пять саженей в длину. В вышину же по лицевой стороне дворец имеет десять этажей.
В так называемом красном дворце имеются покои самого Далай-ламы, который в хорошую погоду очень часто поднимается на самую высокую плоскую кровлю, откуда открываются далекие красивые виды во все стороны. В этом же дворце хранятся самые высокие ценности как Тибета, так и Далай-ламы, равно в нем находится и золотой субурган – надгробие пятого Далай-ламы – около четырех саженей высоты. Здесь же ютится и община монахов в пятьсот человек, составляющая «Намчжал-дацан». В обязанности этих дворцовых лам лежит богослужение о долгоденствии и благоденствии Далай-ламы.
Внутри дворцовой стены, у подошвы горы с юга, находятся монетный двор, здание суда, тюрьма и проч.
На берегу реки Уй расположен летний дворец Далай-ламы Норбулинха.
Медицинский дацан, едва ли не единственный в центральном Тибете, красуется на горе Чжагбо-ри. Он представляет собою небольшое здание, где в комнате у задней стены указывают статуи разных божеств (сделанные из коралла, бирюзы, малахита, белого сандала) и другие святыни, связанные с именами знаменитых врачей индийско-тибетской медицины. Теперь особенно почитается здесь тибетский врач Ютог-гонбо.
Этот дацан основан или коренным образом реформирован знаменитым пятым Далай-ламой. Штат духовенства состоит из шестидесяти человек, специально прикомандированных по одному человеку из разных монастырей. Они получают содержание из казны Далай-ламы и живут в домах, построенных на этой же горе, подле дацана. Монахи эти и составляют студентов факультета. Заведует ими хамбо – лейб-медик Далай-ламы.
Помимо всего этого, в столице Тибета имеется два дацана, изучающих «мистицизм», с духовенством свыше тысячи человек.
Светское население Лхасы едва ли превышает 10000 человек, причем две трети составляют женщины. Несмотря на это, столица Тибета производит впечатление многолюдного города, что надо приписать, с одной стороны, соседству двух больших монастырей, с другой – огромному наплыву сюда паломников. По этой же причине, а еще и по сосредоточиванию здесь центрального управления Тибетом – Лхаса является значительным торговым пунктом, а также посредницей в торговле Индии с Западным Тибетом и Китая – с Восточным.
Большую славу Лхасы, между прочим, составляют три главнейших соседних монастыря Тибета: Сэра, Брабун[14] и Галдан, известные под общим именем Сэ-нбра-гэ-сум, с количеством монахов до двадцати тысяч человек. Все эти монастыри принадлежат одной господствующей секте Цзонхавы и основаны при его жизни в начале XV века.
Верховным настоятелем этих монастырей, конечно, считается Далай-лама.
Монастыри в отдельности имеют свой устав, свои земельные угодья, тем не менее, Брайбун выделяется своим значением уже только потому, что из среды этого монастыря возвысились Далай-ламы, которых вскоре судьба поставила во главе духовного и светского правления над центральным Тибетом.
Независимо от сего, каждый из этих монастырей известен чем-либо особенно; так, монастырь Брайбун знаменит своими прорицателями, Сэра – ритодами или кельями аскетов и Галдан – разными чудесными остатками.
Культ прорицателей или оракулов основан в свою очередь на культе «чойчжонов» – хранителей ученья. В роли защитника религии чойчжоны или их прорицатели играют огромную роль как в жизни отдельных частных лиц, так и монастырских общин до верховного управления Тибетом включительно. Прорицатели – это своего рода цензора – критики.
«Ритоды, которыми окружен по преимуществу монастырь Сэра, – суть отдельные кельи ушедших от мира и углубившихся в созерцание аскетов-монахов». Созерцание есть одно из шести «средств» для достижения святости. Начало его основывается на том, как Гаутама, удалившись от царской роскоши, искал истины. Позднейшие аскеты избирали местом таких созерцаний глухие уголки в лесной чаще или в скалах, в пещерах.
Чудесные реликвии, которыми славится Галдан, показывают нам, насколько знаменитый Цзонхава завладел умом своих последователей. Часто мечтая о своем божественном учителе, ученики чертили и высекали на скалах его образ и изображения будд, покровительствующих ему. С течением времени все эти признаки и памятники под известным воздействием суеверия стали приниматься за чудесные реликвии, и каждый паломник стал с благоговением прикладываться к ним.
Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех монастырей.
Основателем монастыря Сэра считается Шакчжя-ешей, известный у своих почитателей под именем Чжямчэнь-чойрчжэ. С малых лет он был посвящен в монахи и отличался мягким, кротким характером. Когда в Тибете прославился Дзонхава, Шакчжя-ешей поступил к нему в ученики и экономы. Из сильного благоговения перед великим реформатором он сделался послушным исполнителем его воли.
Стоило Цзонхаве пожелать, чтобы Шакчжя-ешей построил особый монастырь для изучения «тарни» – заклинания, как он и изъявил согласие и вскоре положил основание монастырю Сэра – обиталищу Великой колесницы, или Махаяны.
«Монастырь Сэра, – пишет Г. Ц. Цыбиков[15], – лежит верстах в четырех на север от Лхасы у подошвы гор. В нем три золоченых крыши, и из Лхасы Сэра представляет довольно красивый вид.
Главнейшей святыней этого монастыря можно считать статую одиннадцатиликого Чжан-рай-сига – Авалокитешвары, про которую существует следующее предание.
„В давнее время монахиня Балмо посетила местопребывание Манджушри и, взяв у него сию статую, улетела. Затем прилетела с этой статуей в местность Пабон-ха, где спрятала ее в одной пещере. В то время, когда настоятелем Сэра был некто Чжялцань-санбо, один пастух, пася своих коз, заметил, что одна из них вошла в ту пещеру, и чтобы выгнать ее оттуда, он бросил камень, который ударился в пещере о какой-то звонкий предмет. Удивленный пастух заглянул в пещеру и заметил лежащую на спине статую. Удивление пастуха еще более увеличилось, когда он увидел подле нее лужу козьего молока, и сама статуя заговорила человеческим голосом. Пораженный чудом, пастух побежал к настоятелю Сэра, Чжялцань-санбо, который тотчас пошел в указанную пещеру и перенес статую в свой монастырь, где она находится в дацане Чжеба”.
Этот Чжялцань-санбо считается перерожденцем упомянутой монахини Балмо и жил с 1402 по 1469 год.
Число монахов, или лам в Сэра – около пяти тысяч.
Если Галдан знаменит своими чудесными реликвиями, а Брабун – прорицателями, то Сэра, повторяю, славен своими ритодами, что в буквальном переводе значит „горная цепь”, но понимается теперь как уединенная келья лам-отшельников в горах. Ища удаления от мирской суеты, знаменитые аскеты ставили свои кельи на скалах высоких гор и там предавались созерцанию. Со временем усердие набожных почитателей стало накоплять в скромных кельях богатство и учеников. Обычай отыскивать перерожденца всякого выдающегося ламы обратил эти кельи в дворцы и поместья перерожденцев, каковыми и являются они в настоящее время.

Самым древним и самым известным ритодом считается Пабон-ха, находящийся верстах в трех на северо-запад от Сэра и принадлежащий Далай-ламе.
Здесь на природной скале стоит дворец Далай-ламы, в котором чтится статуя Чжан-рай-сига. Предание говорит, что этот дворец-храм был построен ханом Срон-цзан-гамбо и имел девять этажей, но известный гонитель буддизма, царь Ландарма, разрушил верхние этажи, оставив только два нижних. Набожные приходят сюда для 3333 круговращений вокруг этого дворца, на что требуется от десяти до пятнадцати дней самой усердной ходьбы. Вероятно, это число имеет какое-нибудь символическое значение.
Саженях в двухстах-трехстах на восток от Сэра находится большая каменная глыба, которая, по преданию, сама прилетела из Индии. На этом камне разрезают трупы для отдачи их на съедение грифам и бородатым ягнятникам. Так как этот камень считается священным, то всякий стремится быть разрезанным на нем, но такая завидная доля достается лишь более зажиточным, так как она сопряжена со значительными расходами как по перенесению трупа, так и по плате, вносимой в виде вознаграждения местным монахам за чтение похоронных молитв. Кроме того, верят, что если живой человек нагой поваляется на этом выпачканном трупами камне, то его жизнь продлится.
Второй знаменитый ритод, Сэра-чойдэн, стоит над монастырем Сэра на уступе северной горы. Он известен тем, что здесь часто живал Цзонхава и проповедывал свое учение. Тут до сих пор сохранился желтый домик позади дугана дацана Чжюд. В нем на стене находится рисованное изображение Цзонхавы с двумя его любимыми учениками.
Монастырь Брабун, являющийся в настоящее время самым большим из желтошапочных монастырей центрального Тибета, лежит верстах в шести-семи на запад от Лхасы у южной подошвы горы Гэндэл. Находясь под защитой скалистого горного мыса, на значительной высоте, будучи построен амфитеатром и имея по обеим сторонам сады, он издали представляет довольно красивый вид, но по мере приближения этот вид исчезает, и, наконец, вы вступаете в узкие, устланные камнем улицы, по сторонам которых возвышаются многоэтажные дома.
Основателем Брабуна считается ученик и последователь Цзонхавы Даший-балдан, известный более под названием Чжамыш-чойрчжэ (1379–1448). Учился он сначала в Цзэтане, Санпу и Чжормолуне, но затем перешел к Цзонхаве в только что основанный им монастырь Галдан. Увидев блестящие способности, проявленные сим сравнительно молодым ламой, Цзон-хава сразу решил расположить его к себе и подарил ему раковину, добытую, по преданию, из скалы. Вскоре он посоветовал Даший-балдану построить монастырь и, если верить словам биографа Цзонхавы, сказал ему, что основанный им монастырь превзойдет Галдан. По этому совету или, может быть, потому, что, согласно преданию, он не сходился в некоторых религиозных вопросах со своим учителем, Даший-балдан в 1416 году основал монастырь Брабун, или Балдан-Брабун, как он значится в литературе.
Самые важные святыни, как вообще в ламаитских монастырях, – замечает Г. Ц. Цыбиков, – связаны, конечно, с именем основателя». Так, в здешнем доме большого собрания, цокчэн-дугане, находится статуя Майтреи, имеющая в вышину свыше пяти саженей.
Между прочим, Брабун служит усыпальницей трех Далай-лам – второго, третьего и четвертого. Часть останков третьего Далай-ламы, Соднам-чжямцо, вложена в субурган, на устройство которого затрачено немало денег.
Что касается расположения главных зданий монастыря, то в центре, немного ближе к западному краю, стоит громадное здание с золоченой крышей, являющееся домом для большого собрания, т. е. цокчэн-дуган, а на юго-западном краю монастыря – дворец Далай-ламы, называемый Галдан-побран. Рядом с последним, уже вне монастырской черты, находится дворец Даший-кансар, построенный, как говорят, шестым Далай-ламой для его светской жизни.
По отношению к учебной части, все духовенство монастыря распределяется по дацанам, коих прежде было семь, а ныне – только четыре, в трех из которых изучают богословские науки – цаннид, а в четвертом – тантры.
Штат лам в Брабуне определяется в десять тысяч человек, которые полностью собираются лишь в самых торжественных случаях или при раздаче денег.
Остается сказать о монастыре Галдане.
Про основание монастыря Галдана в биографии Цзонхавы сказано, что тотчас после окончания лхаского монлама – торжественного богослужения, учрежденного в 1409 году, Цзонхава с своими последователями отправился на гору Брог-ри – уединенная – и, исследовав ее, нашел, что все приметы земли и неба весьма хороши и что это, поистине, место с признаками полного распространения и исполнения проповеди, а также необходимых богатств. Затем старшим из своих учеников Цзонхава указал места для постройки монастырских зданий, что последние и выполнили в точности в том же году.
Основанный таким образом монастырь Галдан[16] находится верстах в двадцати пяти – тридцати на восток от Лхасы. Монастырские здания построены на южной стороне горы полукругом и амфитеатром доходят до самой вершины. С юго-востока монастырь еще более живописен от присутствия красивых скал и мелкого леса, растущего вдоль скалистого оврага.
Главной святыней монастыря, без сомнения, признается так называемый сэрдон-чэмо – золотое надгробие, или золотая ступа – субурган с прахом великого Цзонхавы. Субурган находится в лучшем из здешних зданий, окрашенном в коричневый цвет с небольшой золоченой крышей. После смерти Цзонхавы, в 1419 году старшие из учеников, как сказано в биографии его, стали совещаться, сжечь ли его прах или оставить нетронутым. Рассудив, что если оставить нетронутым, то он, как будто сам, действительно будет жить, и будет велика польза как для продолжения учения, так и для многих живых существ, решили воздавать почести, оставив прах в целости. Тут же из серебра количеством более восемнадцати тибетских мер, поднесенных отдельными учениками из набожности, соорудили субурган, украсили его орнаментами из разных драгоценностей – камней, серег, гау, китайских табакерок, раковин, вставленных в чеканку.
Над этим субурганом в 1420 году построили большое сумэ; прах же вложили в гробницу из сандального дерева, перенесли из дворца и поместили в бумба[17] субургана, лицом на северо-восток и в сидячем положении.
Впоследствии пятидесятый настоятель Галдана, или сорок девятый наместник Цзопхавы, бжябралский Гэндунь-нунцог сделал всему субургану облицовку из чистого кованого золота, почему субурган сделался словно золотым, и его теперь действительно называют «большой золотой субурган». По правую сторону от него находится субурган первого наместника Цзонхавы, Чжялцаб-дарма-ринь-чэна, а по левую второго его наместника Хайдуб-гэлэг-балсана.
Число монахов в Галдане доходит до двух тысяч.
«Как монастырь, основанный Цзонхавой, Галдан полон предметами почитания, связанными c именем великого основателя желтошапочного ламаизма и его главных сподвижников.
Так, „горлам” – круговая дорога монастыря – полна разными объектами почитания для набожных. На юго-западной стороне монастыря вам показывают ключ-колодец, который, по преданию, явился от указания Цзонхавою на это место пальцем, когда монахи страдали от недостатка воды. Далее на скалах и камнях указывают следы шапки, четок, локтей, колен, пальцев и пр. Цзонхавы, также углубление в скале, откуда Цзонхава добыл раковину, спрятанную еще при жизни будды Шакьямуни; изображения Цзонхавы, рисованные на скале указательными пальцами Чжялцаба и Аайдуба, указывают домик, где жил в простой обстановке Цзонхава, и маленькую часовню, где на плите самостоятельно выступило изображение троицы «Ригсум-гоньбо», т. е. Чжямьяна, Чагдора и Чжян-рай-сига[18].
На восточной стороне обходящему монастырь может броситься в глаза золотой чжялцань – победный знак на скале, а внизу изображение Цзонхавы с его двумя учениками, ниже которого нарисован громадный Дамчжан-чойчжял. Из этой скалы, как говорят, нынешний Далай-лама достал клад, состоявший из шапки и других вещей Цзонхавы, который он поместил в особый ящик у гробницы последнего. Набожные верующие с благоговением, превосходящим удивление, прикладываются ко всем этим реликвиям, но на человека, смотрящего более хладнокровно, они могут произвести впечатление работ художников, да притом не особенно искусных»[19].
В заключение о монастыре Галдане можно сказать, что он расположен на значительной абсолютной высоте, вероятно, много превосходящей высоту 12000—13000 футов, так как наш «Буддист-паломник» провел две ночи в Галдане без сна «вследствие сильной одышки и гнета, лишь только начинал засыпать».

Тибетский Далай-лама и мое двукратное свидание с буддийским первосвященником – в Урге и Лумбуме
Теперь о самом фокусе сил Тибета – о Далай-ламе, являющемся в настоящее время верховным правителем Тибета как в духовном, так и в светском отношениях.
Далай-ламы считаются, как то и замечено выше, перерожденцами бодисатвы Авалокитешвары, или по-тибетски Пагпа Чжан-рай-сиг.
Почитатели культа перерожденцев любят относить их происхождение к отдаленнейшим временам, например, к эпохе жизни Будды. Так и в данном случае первым воплощенцем считают бодисатву Пагпа Чжан-рай-сига, ближайшего ученика Будды.
По сказаниям тибетских сочинений, составленных в более позднее время, первые тридцать семь перерожденцев появлялись в Индии то царями – покровителями религии, то учеными-просветителями. В первый раз в Тибете появился тридцать восьмой перерожденец хан-Няти-цзаньбо, живший в III веке до Р. X. Затем перерожденцами его являются знаменитые цари Тибета, известные покровительством буддизму, как то: 40-м Срон-цзан-гамбо, 41-м Тисрон-дэвцзан (802–845), 42-м Адагти-Рал (866–902), а также знаменитые ученые: 45-м Бром-доньба, 46-м Сачжя (Сакьяский) Гуньга-Нин-бо и т. д.
Духовное значение Далай-ламы получили во время ламы Гэндунь-чжямцо, настоятеля Брабунского монастыря, жившего с 1475 по 1542 год. Он был одновременно настоятелем двух монастырей – Брабун и Сэра – и при жизни своей приобрел такую известность, что его стали считать перерожденцем известного основателя монастыря Даший-лхунбо, Гэндунь-дуба. Но обычай отыскивать перерожденцев в младенчестве начинается уже после смерти его. И один начальник замка объявил своего сына его перерожденцем. Это, по-видимому, первый пример провозглашения перерожденца и предоставления ему прав предшественника. Сему перерожденцу, обожаемому чуть ли не с колыбели, суждено было быть приглашенным к монгольскому Алтан-хану, который дал ему титул Вачира-дара-Далай-лама, подтвержденный и минским императором Китая.
Впрочем, значение Далай-ламы и Тибета вообще первое время не было особенно велико, чем объясняется признание четвертым перерожденцем сына монгольского князя, который, правда, был убит на 28-м году жизни в Тибете. Монголы говорят, что тибетцы убили его из племенной ненависти, даже распоров живот, т. е. способом убиения монголами баранов.
Следующему его перерожденцу Агван-Ловсан-чжямцо, именуемому ныне просто А-ба-ченьбо, т. е. «пятым – великим», удалось приобрести светскую власть, которая первое время все же была лишь номинальна. Этот Далай-лама в союзе с первым баньчэнем, не задумался пригласить на свою родину монгольское оружие, только бы победить ненавистных светских правителей. Хотя им и удалось этого достигнуть, но в дела Тибета стали вмешиваться и монгольские князья, признававшие верховную власть манджурской династии или же боровшиеся за свою самостоятельность.

После смерти пятого Далай-ламы в течение почти сорока лет Далай-ламы делаются предлогом политических интриг разных властолюбцев, пока ряд исторических событий не уничтожил в Тибете власть монгольских и туземных князей, и пока, наконец, в 1751 году, не было признано за Далай-ламой преобладающее влияние (как духовное, так и светское).
Избрание Далай-ламы до 1822 года, года выбора десятого перерожденца, основывалось на предсказаниях высших лам и определений прорицателей, что равносильно выбору влиятельных лиц, но при выборе десятого перерожденца впервые было применено в практике установленное при императоре Цянь-луне метание жребия посредством так называемой сэрбум, или золотой урны. Оно состоит в том, что имена трех кандидатов, определенных прежним порядком, пишутся на отдельных билетиках, которые потом кладутся в золотую урну; последняя ставится перед большой статуей Чжово-Шакьямуни, и возле нее совершаются депутатами от монастырей богослужения о правильном определении перерожденца. Далее она переносится в Поталу, во дворец Далай-ламы, и здесь перед дощечкой с именем императора в присутствии высших правителей Тибета и депутации от главнейших монастырей манджурский амбань посредством двух палочек, заменяющих у китайцев вилки, вытаскивает один из билетиков. Чье имя написано на этом билетике, тот и возводится на Далай-ламский престол.
Избрание перерожденца обыкновенно приветствуется китайским богдоханом торжественной присылкой высшего духовного или светского лица, хранящего императорскую духовную печать. Означенное лицо привозит художественно исполненные из золота или драгоценных камней письменные знаки, означающие имя и титул перерожденца.
После этого счастливый или несчастный ребенок с большими почестями переносится во дворец.
С этих пор ему воздается долженствующий почет и к нему стекаются поклонники. При этом с самых ранних лет его начинают обучать грамоте под руководством специального учителя – иондзинь, выбираемого из наиобразованнейших знатных лам. Затем ему дают чисто богословское образование.
Для практических диспутов приставляются по одному ученому ламе из всех богословских факультетов трех главных монастырей.
По окончании курса учения он получает высшую ученую степень по богословию по тому же порядку, как и другие ламы, но, конечно, с обильной раздачей денег монастырям и более осторожными вопросами к нему со стороны членов диспута – ученых лам, назначенных наперед.
После сего, с 21-летнего возраста, Далай-лама вступает в полную самостоятельность. Но надо помнить, что начиная с 1806 года, сменилось пять Далай-лам. Современный, по счету тринадцатый Далай-лама, Тубтэн Гьяцо, родился в 1876 году, и, следовательно, теперь, в 1919 году, ему 43 года.
Двадцатилетним юношею Далай-лама кончил курс богословских наук и получил высшую ученую степень лхарамба. Прохождение наук происходило под руководством его старшего учителя или так называемого иондзинь-риньбочэ, что значит «драгоценный учитель» по имени: Лобсан-цултим Чжямба-чжямцо, известного более под именем «пурбу-чжогского перерожденца Чжямба-риньбочэ», который умер в 1901-м году, достигнув глубокой старости. Для упражнений Далай-ламы в цаннидских диспутах к нему были приставлены от семи богословских академий монастырей Брабуна, Сэра и Галдана по одному цань-шаб-хамбо, в число коих от гоманского дацана Брабуна вошел наш забайкалец Агван Доржиев, которому сильно покровительствовал вышеназванный нурбу-чжогский перерожденец.
Вступив в зрелый возраст свыше двадцати лет тому назад, Далай-лама открыто повел борьбу с своим регентом – знатнейшим из тибетских хутухт – дэмо и из нее вышел победителем, чем, без сомнения, избежал участи своих четырех предшественников, погибших в раннем возрасте часто вследствие насильственной смерти, причиняемой регентами и представителями других партий, старающимися остаться подольше у власти.
Нынешний Далай-лама обвинил дэмо-хутухту в составлении заклинаний против его жизни, конфисковал его громадное имущество, а самого его посадил под строгий домашний арест в отдельной комнате, где дэмо-хутухта оказался задушенным осенью 1900 года.

«Летом 1900 года, – пишет Г. Ц. Цыбиков[20], – происходило первое путешествие Далай-ламы по знаменитым монастырям южного Уя (Лхоха). Путешествие это было роковым для его предшественника, так как во время его он был отравлен. Так и на этот раз думали, что еще могут найтись сторонники низверженного хутухты, и Далай-лама сделается жертвой борьбы, но он благополучно совершил путешествие, хотя в монастыре Сам-яй ему пришлось перенести натуральную оспу, свирепствовавшую тогда во всем центральном Тибете».
Далай-лама объявил себя верховным правителем Тибета и вскоре стал искать пути для завязания знакомства и дружбы с Россией.
Для Тибета надолго останется памятным 1904 год; чужеземцы с войском пришли в Лхасу, и Далай-лама покинул свою столицу, чтобы не видеть врага. Энергичный, властный вице-король Индии, лорд Керзон, улучил удобную минуту, когда единственная держава, которая могла поддержать Тибет, – Россия – оказалась занята войною, и наглядно доказал Тибету настойчивое, а следовательно, и победоносное упорство английской политики[21].
Начальство над политическо-военной миссией, конвоируемой трехтысячным отрядом, до горной артиллерии включительно было возложено на путешественника и знатока Центральной Азии полковника Иенгхесбенда, ближайшее же ведение войсками и вообще военная часть вверялись генералу Макдональду.
О самом походе англичан в Тибет в свое время писалось немало, при экспедиции состояли специальные корреспонденты, которые, как вскоре выяснилось, были очень односторонними и крайне сдержанными, в особенности там, где приходилось характеризовать отрицательные качества английских войск, например насилие, изредка проявляемое, впрочем, над беззащитными тибетцами. Главные члены экспедиции, перенося невзгоды зимы и разреженного воздуха, понимали трудности похода и смотрели на многое в отряде сквозь пальцы, боясь несвоевременными репрессиями возбудить недовольство в британских поисках. Словом, освещение истории военной экспедиции англичан в Тибете – одностороннее.
После длительного горного похода, после тяжелых невзгод и лишений ожидание увидеть столицу Тибета дошло у англичан до высшей степени напряжения. За каждым поворотом, за каждым мысом они были уверены, что увидят этот священный город буддистов. Они спешили идти и ускоряли подъем с одной вершины на другую в надежде поскорей увидеть давно желанный и таинственный земной алтарь живого божества. Передовые патрули кавалерии по своем возвращении усиленно расспрашивались.
Наконец, 2 августа, обогнув последний мыс, английская военная экспедиция увидела золотые крыши Поталы-Лхасы, блестевшие с далекого расстояния, а на следующий день уже расположилась лагерем вблизи самого дворца тибетского первосвященника.
«Здесь, в приятной долине, – пишет г. Иенгхесбенд, – в долине, прекрасно обработанной и богато орошенной, под укрытием снеговых цепей гор находится таинственный, запрещенный город, которого ни один еще находящийся в живых европеец не видел до сих пор. Для многих, предполагавших вследствие этой изолированности Лхасы, что она должна была быть чем-то вроде города из области сновидений, было, смею сказать, большое разочарование: в конце концов Лхаса была построена все так же людьми, а не феями; ее улицы не были вымощены золотом, а двери отделаны жемчугом. Улицы Лхасы были страшно грязны, а жители менее всех мною виденных до сих пор людей походили на волшебников.
Но Потала – дворец Великого ламы, – был действительно внушительным, массивным и очень основательно построенным из камня. Господствующее положение Далай-ламского дворца на горе особенно живописно выделяло его над общим городом, расположенным у его подножья. Множество домов в городе было также хорошо и солидно построено и окружено тенистыми деревьями. Дворец на возвышении и удивительный город у его подножья были бы поразительны повсюду, но расположенные в этой прекрасной долине, в самой глубине гор, они производили еще большее впечатление, с чем соглашались почти все мои спутники.
Тибетские храмы с наружной стороны солидны и массивны, хотя и не совсем красивы. Внутри же они очаровательны и оригинальны, а иногда даже забавны и смешны. У некоторых членов миссии осталось впечатление о громадных бесстрашных фигурах Будды, вечно-спокойно и неподвижно смотрящих вниз, о стенах, разрисованных смешными демонами и драконами, об интересно украшенных деревянных колоннах и крышах, об общей грязи и нечистоте и о бесчисленных чашках с маслом, горящим днем и ночью, как горят свечи в римско-католических церквах перед изображениями святых».

Договор с тибетцами был подписан скорее, чем англичане могли ожидать, и они начали приготовляться к отъезду в Индию. Тибетцы были очень счастливы, по-видимому, удовлетворительным окончанием дела. Ни одно лицо не было ответственным; каждый имел свое слово, и если какое-нибудь порицание могло упасть на чью-либо голову, то оно должно было падать на все одинаково. «Но в глубине сердец, – говорит полковник Иенгхесбенд, – тибетцы знали вполне хорошо, что они отделались замечательно дешево».
В утро отъезда англичан заместитель Далай-ламы – Ти-Рим-бочэ – пришел в их лагерь и подарил изображение Будды начальнику миссии г. Уайту, а также и генералу Макдональду. Временный правитель благодарил за сбережение монастырей и храмов и, поднося полковнику Иенгхесбенду «Будду на алмазном престоле», сказал: «Когда тибетцы смотрят на изображение Будды, то они отстраняют от себя все мысли о борьбе и спорах и думают только о мире, и я надеюсь, что вы, когда будете смотреть на него, будете благосклонно думать о Тибете».
Как бы там ни было, но насильственное вторжение англичан в Тибет есть совершившийся факт, как совершилось и еще более грустное явление, даже по признанию самих англичан, – это бойня при Гуру, или у «источников хрустального глаза», где из пятисот тибетцев, предварительно погасивших фитили у своих примитивных ружей, в живых осталось двести человек, спасшихся бегством[22].
Последнее обстоятельство, в связи с живым представлением Далай-ламы о манере англичан в Индии захватывать в заложники правителей страны и вручать им договоры для личной подписи, принудило главу буддийской церкви секретно оставить Лхасу и быстро направиться в Монголию, в соседство русской границы.
Двадцать шестого июля 1904 года[23] в два часа ночи Далай-лама оставил Лхасу в сообществе лишь самых нужных и преданных лиц: Агван-Доржиева, сонбон-хамбо, или так называемого «дядьки», чотбон-хамбо, эмчи-хамбо (врача) и восьми человек прислуги. Участники небывалого путешествия были верхом на лошадях и запаслись всем необходимым только впоследствии с присоединением к ним других участников каравана.
Первые дни Далай-лама ехал, соблюдая incognito, но затем, около Нак-чю, он уже не скрывал себя перед народом. Последний, предчувствуя недоброе, повергся в уныние и горько плакал. В Нак-чю была сделана продолжительная, в пять – семь дней, остановка, в течение которой удалось запастись всем необходимым более обстоятельно на предстоявшую трудную, пустынную и малолюдную дорогу.
Из Нак-чю же Далай-лама послал в Лхасу дополнительные распоряжения. Следует заметить, что лучшие драгоценности Поталы, или Далай-ламского дворца, были своевременно вывезены и спрятаны в укромных местах.
Дальнейший переезд до Цайдама, по высокому нагорью Тибета, был исполнен без дневок и крайне утомил Далай-ламу. Насколько было возможно, Агван-Доржиев старался облегчить путь его святейшества, уезжая вперед квартирьером и приготовляя в людных пунктах подводы, продовольствие и проч. Народ, прослышав о путешествии главы буддийской церкви, быстро группировался в известных молитвенных центрах, где происходило торжественное богослужение в присутствии Далай-ламы и куда единоверцы щедро несли дары местной природы, стараясь всячески выразить верховному правителю Тибета их полную готовность служить ему на всем дальнейшем пути.
Монголия со своими песками на юге и каменистой пустыней в центре произвела на Далай-ламу сильное впечатление. Он очень интересовался ее оригинальной природой – растительным и животным миром[24].
Таким образом, осенью 1904 года в Монголии случилось замечательное событие: в эту страну прибыл Далай-лама и в северной ее части, в Урге, – своего рода монгольской Лхасе – расположился на долгое пребывание.
Странно, однако, что местные китайско-монгольские власти с богдо-гэгэном во главе на основании приказа из Пекина «по поводу приезда Далай-ламы в Ургу не проявлять излишнего восторга» не в меру поусердствовали, в особенности богдо-гэгэн, который даже не выразил основных правил благопристойности и не встретил Далай-ламу; мало этого, он вскоре за тем позволил себе не принять трон главы буддийской церкви в одном из подведомственных ему ургинских монастырей.
С течением времени у Далай-ламы и богдо-гэгэна отношения все более и более обострялись. Недовольство ургинского хутухты не знало своих пределов, потому, главным образом, что народ – монголы, буряты, калмыки – неудержимо стремился на поклонение Далай-ламе и наводнил собою Богдо-курень и ее окрестности. Престиж Далай-ламы не ослабевал, наоборот, усиливался, поднимался; монастырь Гандан, где приютился его святейшество, приобрел большую популярность. Жизнь в Урге забила ключом. Храмы денно и нощно призывали молящихся. Все только и говорили о великом Далай-ламе и о тибетцах; местные представители, казалось, утратили большой интерес.
Со своей стороны, верховный правитель Тибета больше, нежели прежде, интересовался соседним государством, Россией, с которой так или иначе вошел в соприкосновение через посредство российского местного консульства. Излишне говорить, до какого напряжения дошло внимание всех тех лиц, которым близки и более всех других понятны интересы Тибета и которые следили за каждым шагом английской военной экспедиции, скорбя душой за беззащитных тибетцев.
Весною 1905 года, Русское географическое общество возложило на меня приятную обязанность – быть его представителем в Урге для принесения приветствия и подарков правителю Тибета и для выражения благодарности за гостеприимство, оказанное русским путешественникам в Тибете.
Радостно приняв предложение Географического Общества, я энергично стал готовиться в знакомую дорогу. Мне долгое время не верилось, что я опять увижу родные картины центральноазиатской природы: красивый Байкал, синеющие горы Забайкалья и просторные, убегающие за горизонт, долины Монголии. Моему воображению продолжали рисоваться травянистые степи Куку-нора, стальная блестящая поверхность этого величественного бассейна, а за ним чрез Южно-кукунорский хребет и снеговые цепи Тибета.
Мысль далеко уносилась по пространству и по времени.
В таких мечтах и грезах я благополучно проследовал сначала до отечественной границы – городка Кяхты, а затем и до столицы Монголии – Урги.
Урга привольно раскинулась в обширной долине Толы и издали производит гораздо лучшее впечатление, нежели вблизи, впрочем, это общая характеристика почти всех населенных пунктов Азии, хотя Урга своею ужасною грязью, вероятно, превосходит все, по крайней мере все, виденное мною. Здесь человеческой лени потворствуют собаки, которые являются даровыми и единственными санитарами.
Но что дивно, хорошо и необычайно красиво и вечно молодо, и здорово в Урге, так это девственная гора Богдо-ула, почитаемая монголами за святую, с чудным лесом, ревниво оберегаемым со всем его животным царством заботами монастыря или, точнее, монастырей. Последних здесь два – Гандан, в котором нашел себе приют Далай-лама, и Майтреи.
Между монастырями вклинились своими национальными постройками русские и китайские торговые колонии. Немного выше по долине реки находятся управление и цитадель с незначительным гарнизоном. Еще восточнее расположено русское консульство, за которым невдалеке стоит торговый городок Китая – Майма-чен.
Опрятнее и живописнее прочих расположена новая резиденция ургинского богдо-гэгэна, симпатизирующего русской архитектуре домов и вообще многому русскому, применяющемуся в своей домашней обстановке ко вкусу русского зажиточного класса людей. Его деревянный двухэтажный дом скопирован с дома русского консульства; говорят, и внутри он обставлен предметами европейской роскоши.
Я остановился, согласно желанию Далай-ламы, в близком соседстве с монастырем Гандан.
Первое мое свидание с тибетским первосвященником состоялось первого июля в три часа дня. Я отправился в тележке, запряженной одиночкой, в сопровождении своих двух спутников, Телешова и Афутина, ехавших верхом. У монастыря перед главным входом толпилось множество паломников.
Здесь меня встретили: Дылыков, хоринский бурят, почетный Зайсан, состоявший при Далай-ламе переводчиком с монгольского на русский язык, а также и в качестве чиновника особых поручений, и двое – трое тибетцев, приближенных к Далай-ламе.
Войдя в монастырский двор и миновав несколько юрт и дверей, я очутился у Далай-ламского флигеля, а минуту спустя и у самого Далай-ламы, торжественно восседавшего на троне против легкой сетчатой двери. Лицо великого перерожденца было задумчиво-спокойно, чего, вероятно, нельзя было сказать относительно меня, находившегося несколько в возбужденном состоянии: ведь я стоял лицом к лицу с самим правителем Тибета, с самим Далай-ламой! Не верилось, что моя заветная мечта, взлелеянная в течение многих лет, наконец исполнилась, хотя исполнилась отчасти: я всегда мечтал сначала увидеть таинственную Лхасу, столицу Тибета, затем уже ее верховного правителя. Случилось наоборот: не видя Лхасы, я встретился с Далай-ламой, я говорил с ним.
Я невольно впился глазами в лицо великого перерожденца и с жадностью следил за всеми его движеньями. Подойдя к нему, я возложил на его руки светлый шелковый хадак[25], на что в ответ одновременно получил от Далай-ламы его хадак, голубой и тоже шелковый, очень длинный, роскошный. Почтительно, по-европейски кланяясь главе буддийской церкви и произнося приветствие от имени Русского географического общества, я вслед за этим подал знак моим спутникам приблизиться с почетными подарками и передать их в присутствии Далай-ламы его свите – министрам и секретарям.
Далай-лама приветливо улыбнулся и сделал указание поставить подарки вблизи его обычного места, затем, пригласив меня сесть на заранее приготовленный стул, стал держать по-тибетски ответную речь. Голос его был приятный, тихий, ровный; говорил Далай-лама спокойно, плавно, последовательно. Его тибетскую речь переводил на монгольский язык один из его секретарей, Кончун-сойбон, несколько лет перед этим проживший в Урге; с монгольского же языка на русский переводил Дылыков. После обычных приветственных слов: «Как вы доехали до Урги, как себя чувствуете после дороги?» и проч., Далай-лама начал благодарить Русское географическое общество, его главных представителей, а также и лиц других учреждений, способствовавших осуществлению моей поездки в Ургу. «Я уже имею удовольствие знать Русское географическое общество, – говорил Далай-лама, – оно вторично выражает мне знак своего внимания и благорасположения; вы же лично для меня интересны как человек, много путешествовавший по моей стране!»
В заключение Далай-лама сказал, что он, со своей стороны, будет просить меня, при моем отъезде в Петербург не отказать принять нечто для Географического общества. В промежутках между речью Далай-лама часто смотрел мне прямо в глаза, и каждый раз, когда наши взгляды встречались, он слегка, соблюдая достоинство, улыбался.
Вся его свита стояла в почтительной позе и говорила, кроме лиц переводивших, шепотом. Кончун-сойбон, выслушивая речь от Далай-ламы или переводя ему ответную, стоял перед правителем Тибета с опущенной вниз головою, наклоненным туловищем и самый разговор произносил вполголоса, словораздельно.

В виде угощения передо мною стояли чай и сласти. Далай-лама также спросил себе чаю, и ему была налита чашка и подана на золотом оригинальном блюдце, закрытая золотой массивной крышкой.
В течение всего времени, пока шли обычные разговоры, лицо Далай-ламы хранило величавое спокойствие, но, как только вопрос коснулся англичан, их военной экспедиции в Тибет, оно тотчас переменилось – покрылось грустью, глаза опустились и голос стал нервно обрываться.
При прощании я пожелал правителю Тибета полного успеха его благим стремлениям, на что Далай-лама приятно улыбнулся и вручил мне второй хадак с бронзово-золоченым изображением «Будды на алмазном престоле», заметив, что «мы будем часто видеться».
Обратно я направился тем же путем.
Этот день был для меня счастливейшим из всех дней, проведенных когда-либо в Азии.
В течение двух летних месяцев, прожитых мною в Урге, мне удалось познакомиться со всем двором Далай-ламы. Правитель Тибета любезно позволил моему сотруднику, Н. Я. Кожевникову, срисовать с себя несколько портретов, мне же лично сфотографировать как его флигель, так равно и лиц, сопутствовавших ему в поездке до Урги.
Сам Далай-лама не разрешил снять с себя фотографический портрет.
Как то и замечено выше, настоящий Далай-лама – есть тринадцатый перерожденец бодисатвы Авалокитешвары. В то время он являл собою молодого тридцатилетнего красивого тибетца с темными глазами, с лицом, слегка попорченным оспой и носившим следы великой озабоченности, подавленности. Его душевное спокойствие было сильно нарушено политикой англичан; в нем замечались нервность, раздражительность.
Спал Далай-лама немного: вставал с утренней зарей, ложился в полночь, а то и позже. Весь день у него был наполнен занятиями светскими и религиозными. Его помещение заключалось в небольшом красивом монастырском флигеле, разделенном на два этажа. В верхнем этаже у Далай-ламы был рабочий кабинет и спальня, в нижнем – приемная.
Весь штат при нем исчислялся в пятьдесят человек тибетцев, наполовину принадлежавших к чиновничьему духовному званию. Днем почти безотлучно при нем состояли два министра и столько же секретарей; ночью – дядька сойбон-хамбо, и два – три молодых тибетца в качестве приближенных слуг-охранителей. Двор свой Далай-лама держал в большой строгости.
Будучи отличным проповедником, мыслителем, говорят, даже глубоким философом в области буддийской философии, глава буддийской церкви в то же время по отношению к светским делам, – незаменимый дипломат, заботящийся о благе народа.
Ему не достает лишь европейской утонченности.
Со времени вступления на престол верховный правитель Тибета уже успел ознаменовать свою деятельность следующими отрадными явлениями: отменой смертной казни, обузданием чиновничьего произвола, устранением злоупотреблений китайских властей, обиравших тибетцев, поднятием народного просвещения и проч.
Надо полагать, что только одни выдающиеся умственные способности помогли Далай-ламе избежать вышеупомянутой превратности судьбы.
Бывая у Далай-ламы почти ежедневно и проводя в его обществе по нескольку часов кряду, я вынес много-много интересного и поучительного.
Теперь надо было собираться в Петербург.
Откланиваясь Далай-ламе, последний вручил мне для передачи Географическому обществу маленький дар, состоящий из собрания очень интересных предметов буддийского культа; причем правитель Тибета извинялся за скромный и неполный подарок, так как Далай-лама, находясь на чужбине, не может выполнить своего желания в надлежащей мере, но непременно приведет его в исполнение по возвращении в Лхасу, свободный вход в которую с этого времени он обеспечивает для русских, желающих проникнуть в Тибет с научными или коммерческими целями.
Меня же лично, трогательно напутствуя, Далай-лама одарил двумя чудными изображениями: Буддой на алмазном престоле и Майтреи, причем заметил, чтобы я с ними никогда не расставался, в особенности с Майтреи, как с богом-покровителем путешествующих.
Проведя лето в Урге, Далай-лама осенью переехал в Ван-курень, отстоящий в пяти переходах к северо-западу от столицы Монголии и служащий в то же время ставкой местного хошунного князя Хандо-вана.
Здесь Далай-лама вел себя очень просто, по-походному. «Даже можно было заметить, – говорит Б. Б. Барадин[26], – что он испытывал большое нравственное удовольствие в этой свободной, простой, походной обстановке, на время вырвавшись из замуравленной придворной атмосферы своего таинственного Лхаского дворца – Поталы».
В обыкновенные дни Далай-лама одевал желтый ламский халхасский костюм; в торжественных же случаях – темно-коричневый монашеский, тибетского покроя.
И здесь Далай-лама вставал обыкновенно очень рано, часов в пять, а заткм до девяти-десяти часов проводил время в утренних молитвах, после чего пил чай и кушал небольшой завтрак. После завтрака он принимал доклады своих приближенных. В полдень обедал. Нужно заметить, что тибетский стол вообще гораздо сложнее и разнообразнее, нежели стол кочевых монголов, довольствующихся исключительно мясной пищей и молочными продуктами.
Послеобеденное время Далай-лама проводил у себя дома или иногда выходил пешком на коро, т. е. молитвенный обход монастыря, как простой паломник. Это, конечно, служило ему в то же время и прогулкой. По большей части Далай-лама ходил в сопровождении двух-трех человек прислуги или же в обществе своих ближайших лиц, причем он шел один, а его приближенные – на некотором расстоянии впереди и сзади.
Далай-лама иногда посещал здешнего ученого старца Дандар-Аграмбу для религиозных бесед как обыкновенный гость. Раза два-три он заглянул и в юрту Хандо-вана, однажды даже не предупредив об этом хозяина, в сопровождении двух лиц. Это обстоятельство произвело страшный переполох в застигнутой врасплох княжеской семье. Далай-лама успокоил всех, посидел несколько минут, милостиво поговорил с членами княжеской семьи, употребляя при этом немного известных ему монгольских слов.
Обычно же Далай-ламу можно только изредка видеть при торжественном благословении народа, когда соблюдается строгий этикет.
Вечером после молитвы буддийский первосвященник проводил время в чтении, и отходил ко сну около двенадцати часов ночи, что возвещалось, как и в Урге, протяжными монотонными звуками духовного концерта.
Прошло довольно много времени, прежде нежели Далай-лама оставил Монголию и переехал в Собственный Китай, в монастырь У-тай, отстоящий в трехстах верстах на юго-запад от Пекина. Из этого монастыря Далай-лама несколько раз выезжал в столицу Китая по делам первостепенной важности своей страны. Тибетский первосвященник старался установить и действительно установил наилучшие отношения с китайским императором Гуань-сю, который старался помочь ему упрочить свое положение не только в провинциях Уй и Цзан, но и вообще в Тибете.
Пребывание Далай-ламы в Пекине особенно тяготило его, потому, главным образом, что он должен был вести замкнутую жизнь, во многом стеснять себя; с другой же стороны, его бесконечно утомляли всякого рода посетители, в особенности представители дипломатических миссий в Пекине, старавшиеся во что бы то ни стало представиться Тибетскому владыке. Правда, такого рода общение расширяло горизонт Далай-ламы и приучало его, что называется, владеть собою при официальных приемах у себя европейцев. Пытливый, любознательный, он обо многом говорил, ко всему прислушивался и быстро усваивал главное.
Наконец осенью 1908 года все тибетские дела были окончены. Китай и Россия сделали все, чтобы обеспечить Далай-ламе не только свободный проезд на всем огромном протяжении до Лхасы, но и спокойное пребывание в столице Тибета. Правитель последнего с легкостью в сердце оставил Пекин и со своим большим эскортом направился к юго-западу на перерез Собственного Китая, в Амдо, в один из главнейших монастырей этой страны – Гумбум.
Здесь предполагался значительный отдых до наступления теплой весны, чтобы в лучшее время года осилить наитруднейшую часть пути по тибетскому нагорью.
Как раз в этот период пребывания Далай-ламы в Гумбуме я с экспедицией Географического общества возвращался из глубины амдоского нагорья, и в то время, когда мой громоздкий караван направился из Лаврана[27] в Лань-чжоу-фу, я с переводчиком Полютовым налегке свернул к северо-западу от того же Лаврана и через несколько дней форсированного марша прибыл также в Гумбум (в двадцатых числах февраля).
Монастырь Кумбум, или Гумбум был основан около пятисот лет тому назад. Основание ему положил богдо-гэгэн, который затем совершил паломничество в Тибет, в Лхасу, где и остался на постоянное пребывание, основанный же им монастырь поступил в ведение гэгжэна-Ачжи, считающего себя в наше время в пятом перерождении. В двенадцати гумбумских храмах, говорят, находятся шестьдесят три гэгэна-перерожденца, ведающих монастырской братией в две слишком тысячи человек. Наиглавнейших храмов четыре, которые были спасены от дунганского[28] разгрома монастырскими силами – молодыми фанатичными ламами, отлично сражавшимися с оружием в руках с дерзким неприятелем.
Древние солидные храмы снаружи роскошно блестят золочеными кровлями и ганчжирами, внутри же они богато обставлены историческими бурханами лучшего монгольского, тибетского и даже индийского изготовления.
Особенно пышен и чтим храм «Золотой субурган» (субурган – надгробие), перед которым молящиеся простираются ниц и движением своих рук и ног, со временем, в дощатом полу паперти сделали большие углубления, в которые свободно помещаются передние части ступни с пальцами, и скользят руки при земных растяжных поклонах.
Предание гласит, что на месте «Золотого субургана» в 1357 году родился великий Цзонхава, и что здесь была пролита кровь от его пупка. Спустя три года на этом самом месте стало расти сандальное дерево – «цан-дан», на листьях которого были видны изображения божеств. Ныне это дерево, именуемое «сэрдон-чэнмо», т. е. большое золотое дерево, находится внутри субургана, занимая его пустоту.
В хорошем виде поддерживается и большой соборный храм, вмещающий до пяти тысяч молящихся. При вступлении на его паперть меня поразил вид семи основательных плетей, развешанных по стене, причем наиболее внушительная из них была украшена голубым хадаком. Эти плети, как передавали мне местные обитатели и старейшие из лам Гумбума, только и поддерживают должный уставный порядок монастыря среди монашествующей молодежи.
Красив и богат также храм, стоящий рядом с восьмью белыми субурганами, по преданию построенный на месте спрятанного в землю последа ребенка, а впоследствии знаменитого реформатора буддизма Цзонхавы.
В Гумбуме Далай-лама остановился в особняке богатого тибетца, на западной окраине монастыря, на скате «западных высот», откуда открывался вид почти на весь Гумбум и на отдаленные цепи гор, замыкавшие горизонт с юга. Как и все солидные тибетские дома этот дом был обнесен высокой глинобитной стеной, с парадным входом, охраняемым тибетскими парными часовыми.
Придя в Гумбум 22 февраля[29], я расположился в доме отсутствовавшего знатного гэгэна Ачжя и поспешил дать знать о себе Далай-ламской канцелярии, которая не замедлила поставить меня в известность, что на следующий день мне уже назначена аудиенция у его святейшества.
Как и прежде в Урге, так и теперь здесь, первое мое свидание с Далай-ламой носило официальный характер. Прежде всего сопровождать меня в Далай-ламский лавран – духовный покой – явился нарядный тибетец-чиновник со свитой в три человека, в сообществе с которыми я и Полютов направились пешком, медленно поднимаясь в гору. Через четверть часа мы уже были у цели: миновали парных часовых, отдавших мне честь, и вошли во двор, застланный каменными плитами. Едва мы сделали несколько шагов по направлению высокого лаврана, как по ступеням его широкой лестницы навстречу нам спустился молодой человек по имени Намган, коротко остриженный, в красных одеждах, и, изящно поклонившись, предложил нам подняться на верх дома.
Здесь, очевидно, нас ожидали, так как на столиках стояло угощение в виде хлебцев, печений, сахара и других китайских сластей. Едва мы сели каждый за свой столик по чинам, как нам подали чаю, откушав которого, мы проследовали еще через ряд комнат, прежде нежели вошли в приемную к самому Далай-ламе. И здесь приемная правителя Тибета напоминала буддийскую молельню, в которой на почетном месте, словно на престоле, восседал тибетский первосвященник в нарядном одеянии. Подойдя к Далай-ламе и почтительно поклонившись, мы обменялись хадаками. Затем Далай-лама улыбнулся и подал мне руку чисто по-европейски.

После взаимных приветствий и осведомлении о дороге мы перешли к беседе о моем путешествии. Правитель Тибета очень интересовался нашим плаванием в прошлом году по озеру Куку-нору, но еще больше, кажется, развалинами Хара-Хото и всем тем, что нами было там найдено.
«Теперь мы уже с вами встречаемся второй раз», – заметил Далай-лама, – наше первое свидание было в Урге около четырех лет тому назад. Когда же и где мы встретимся вновь?. Я надеюсь, что вы приедете ко мне в Лхасу, где для вас, путешественника-исследователя, найдется много интересного и поучительного. Приезжайте, я вас прошу, надеюсь, не будете жалеть потраченного времени на такое большое путешествие. Вы объездили много стран, много видели и много написали. Но самое главное еще впереди – я буду ждать вас в Лхасу. А потом вы сделаете не одну, а несколько экскурсий по радиусам от столицы Тибета, где имеются дикие девственные уголки как в отношении природы, так равно и населения. Мне самому, – продолжает Далай-лама, – будет весьма приятно и интересно видеть вас после таких поездок и ознакомиться с вашими съемками, сборами коллекций, фотографическими видами и типами и лично выслушать ваш доклад о путешествии. У меня имеется большое желание перевести на тибетский язык труды по Тибету европейских путешественников. Ваше живое слово мои секретари должны будут занести в первую очередь и тем самым положить начало историко-географическим трудам по центральному Тибету».
В заключение Далай-лама сказал: «Не торопитесь с отъездом, ибо вам никто не будет указывать в этом отношении и ни от кого другого, как только от вас самих, будет зависеть, выехать раньше или позже на несколько дней. Мы будем видеться ежедневно, мне необходимо о многом поговорить с вами».
Во время наших разговоров мы пили чай, наливаемый из общего большого серебряного чайника. Во всем чувствовалась приятная непринужденность, объяснить которую можно было обоюдным искренним желанием свидеться.
После первого часового с лишком свидания я ушел от Далай-ламы с самым восторженным впечатлением. По дороге домой меня неотвязно преследовала мысль: какая перемена произошла в тибетском первосвященнике за те три – четыре года, что мы не виделись? Как и прежде, то же умное, сосредоточенное лицо, но временам та же очаровательная улыбка, те же планомерность и последовательность в разговоре, но вместе с тем что-то было новое, необъяснимое. Вот это-то новое, необъяснимое и продолжало меня интриговать до тех пор, пока я не нашел к нему объяснения. Период времени, который мы не виделись, Далай-лама жил исключительно походной жизнью и все время общался с новыми для него людьми, оставлявшими в нем, как во впечатлительном человеке, те или другие особенности, в совокупности наложившие на него этот своеобразный отпечаток.
На следующий день я прибыл к Далай-ламе с утра; теперь исчезла всякая официальность: я видел тибетского первосвященника в самой простой, симпатичной обстановке. Мне было разрешено обойти все Далай-ламские помещения, видеть его рабочий кабинет, говорить с его министрами, приближенными. Среди последних, к моему большому огорчению, не было видно моего хорошего приятеля, Копчун-сойбона, как оказывается, заболевшего и отставшего по дороге из Пекина в Гумбум. Придворный врач эмчи-хамбо, видимо, был очень рад нашей встрече; он несколько раз говорил мне, что начиная с Пекина и до самого Гумбума везде по дороге он старался навести обо мне справки и теперь от души доволен встрече со старым знакомым. Глядя друг другу в глаза, мы пожимали один другому руку!
Теперь среди обстановки Далай-ламы то и дело попадались европейские предметы. В одной из комнат висело на стенах до семи всевозможных лучших биноклей, в другой – отмечено почти столько же фотографических аппаратов, состоявших в ведении секретаря Далай-ламы, знакомого нам Намгана.
Далай-лама очень интересовался фотографией вообще и просил меня обучить Намгана разным фотографическим приемам: снимкам, проявлению и печатанию, равно уменью обращаться со всякими большими и малыми, простыми и сложными аппаратами.
Несколько дней мы усердно занимались фотографией как практически, так и теоретически. Намган старался заносить в свою памятную книжку все мои наставления. Нашей общей работы снимки представлялись самому Далай-ламе, от которого мы получали похвалу и поощрение. Помню хорошо, как однажды мы были сконфужены и в то же время умилены любезностью и внимательностью Далай-ламы, подобравшего на террасе трубочки наших давным-давно высохших отпечатков и переданных его святейшеством нам при встрече. Действительно, мы увлеклись всякого рода занятиями в проявительной комнате и пробыли там гораздо дольше, нежели предполагали, а поэтому разложенные для просушки оттиски, уже высохли, свернулись в трубочки и движимые ветром, вероятно, укатились бы далеко за террасу, если бы прогуливавшийся Далай-лама не подобрал их.
После занятий фотографией я обыкновенно беседовал с приближенными Далай-ламы или бывал приглашаем к нему самому, где запросто, просиживал подолгу. Как-то раз Далай-лама спросил меня, часто ли я получаю письма из России, когда получил известие в последний раз и какие в Европе новости? Случайно по приезде в Гумбум я на другой же день имел удовольствие, благодаря заботам сининских властей, получить ряд писем и газет, в которых самою большою новостью отмечалось Мессинское землетрясение, где между прочим итальянцы воздавали честь и славу русским морякам, с самозабвением спасавшим несчастных жителей и их имущество. Живое описание подобного стихийного бедствия поразило тибетского владыку.
Беседуя на эту тему, Далай-лама пригласил меня в свою библиотеку и подал мне большой немецкий географический атлас с просьбой указать на нем место катастрофы в Италии. Перелистывая затем, атлас, я во многих местах его видел пометки, сделанные чернилами или, точнее, тушью на тибетском языке. Оказывается, это перевод географических названий. Такой же заметкой снабжено было и место землетрясения в Италии.
Иногда я и мой спутник Намган гуляли в окрестностях Гумбума, поднимаясь на высшие точки и делая всякого рода дополнительные снимки, а затем, по возвращении в лавран, опять возились с проявлением и печатанием. Однажды, просматривая оттиски фотографий, разложенные на террасе, я невольно взглянул вниз на портик храма и увидел, как Далай-лама благословлял молящихся. Благословение это заключалось в том, что тибетский первосвященник маленьким молитвенным флажком касался головы тибетцев или монголов, подходивших поочередно. Кстати сказать, молящихся по случаю пребывания Далай-ламы в Гумбуме было великое множество.
Обычно принято, если Далай-лама гуляет у себя по кровле или на террасе, то все служащие, равно все проходящие мимо, не должны останавливаться и глазеть, а стараться как можно скорее, незаметным образом скрыться.
Из дома-лаврана Далай-ламы, парящего над всем монастырем, открывался дивный вид на отдаленные южные цепи гор, откуда, по направлению к наблюдателю сбегают лучшие альпийские пастбища для многочисленных здешних стад баранов или другого скота.
Как и банчэнь-ринбочэ, Далай-ламе нравятся красивые лошади. В его походном хозяйстве в Гумбуме было до семи пар изящных корейских лошадок, прекрасно подобранных по статьям и мастям. Среди Далай-ламских лошадей вообще я наблюдал и другого рода лошадь – крупную, округлую, с неимоверно длинными хвостом и гривой – лошадь, которая, как говорят, не несет никакой работы и считается как нечто священное.
Далай-лама очень любит природу и для него большое удовольствие, скажу больше – потребность, обозревать самые высокие горные хребты и вершины, по которым скользят ярким светом первый и последний приветственные лучи дневного светила. Он – стоящий выше всех миллионов его последователей – стремится углубиться в сокровенные тайны мироздания, чтобы легче постичь смысл земного существования человека.
И здесь Далай-лама вел скромную и уединенную жизнь: вставал рано, ложился поздно, в полночь, когда придворный духовный оркестр слегка будил монастырскую жуткую тишину, внося в нее сказочную, ласкавшую душу гармонию. Я всегда старался дождаться этой приятной минуты на кровле дома и с умиленным сердцем радовался, как ребенок, первым звукам тибетской симфонии, уносившим меня далеко-далеко от действительности.
Таким образом в ежедневных общениях с Далай-ламой с этим фокусом сил тибетского народа, время пребывания в Гумбуме пролетело быстро и незаметно.
При расставании Далай-лама произнес следующее: «Спасибо вам за ваш приезд ко мне – вы дали мне возможность послушать вас и получить много ответов на мои пытливые вопросы. Передайте России чувства моего восхищения и признательности к этой великой и богатой стране. Надеюсь, что Россия будет поддерживать с Тибетом лучшие дружеские отношения и впредь также будет присылать ко мне своих путешественников-исследователей для более широкого ознакомления как с моей горной природой, так и с моим многочисленным населением».
Последнее прощание было самое трогательное; сам собою этикет отошел в сторону. Я понял душу Далай-ламы и поверил в искренность его милого приглашения в Лхасу!

Монголия и Тибет провозгласили независимость
Гранича между собою территориально, Тибет и Монголия с давних пор находились в постоянных сношениях. От Тибета к кочевникам монголам перешла вся своеобразная культура, какая у них имеется. Тибетцы составили для монголов их письменность, тибетцы сообщили им в настоящее время исповедуемую обоими народами религию – северный буддизм, или ламаизм. Вся политическая и духовная жизнь монголов основана на ламаизме, как и вся почти их обыденная жизнь выработана именно под непосредственным влиянием ламаизма. Лишь в области внешней культуры монголы брали крупицу, падающую от стола Китая. В то же время и Тибет, и Монголия тяготились опекой Китая и всеми силами старались от нее освободиться. Наконец желанный час настал.
В 1912 году Монголия и Тибет выдворили китайцев и провозгласили свою независимость. Монголии удалось сбросить иго китайцев очень легко, что же касается Тибета, то последний, прежде чем освободиться от жестоких управителей, выдержал настоящую войну. Освобожденные народы протянули друг другу руку, заключили союз и стали взывать к покровительству сильных и более справедливых соседей: Монголия – к покровительству и защите России, Тибет – Англии.
Россия по отношению к Монголии все усилия направляла к тому, чтобы заручиться обязательством китайского правительства уважать самобытный строй этой страны. Русское правительство указало китайцам три условия, которые, по его мнению, явились бы гарантиями неприкосновенности этого строя, а именно: отказ китайского правительства от введения в этой стране китайской администрации, расквартирования там китайских войск и от колонизации китайцами ее земель.
Китайское правительство не пожелало, однако, войти в обсуждение сделанных ему русским правительством предложений, а образовавшееся в Урге правительство не изъявляло намерения примириться с последовавшею в Китае заменою императорской власти республиканским образом правления.
Возник таким образом вопрос о том, какими правами русская торговля и русские подданные пользуются в Монголии, где власть Китая фактически заменена властью ургинского правительства.

Ввиду вышеизложенного, в сентябре 1912 года, в Ургу был командирован И. Я. Коростовец, бывший посланник в Пекине, с поручением выяснить те условия, которыми должны определяться отношения России к фактически автономному монгольскому правительству и торговые права русских подданных на той территории, на которую распространяется власть названного правительства. Результатом переговоров И. Я. Коростовца с монгольским правительством было подписание им в Урге, 21 октября 1912 года соглашения с монгольскими уполномоченными, в силу которого русское правительство обещает монголам свою поддержку для сохранения провозглашенной ими автономии, выражающейся в праве не допускать на свою территорию китайскую администрацию, содержать свое национальное войско, не допуская ввода китайских войск, и не допускать колонизации монгольских земель китайцами. Со своей стороны монгольское правительство обязывается не заключать договоров, нарушающих эти начала, и предоставить русским подданным в Монголии пользоваться прежними правами.
На первых порах Халха, или Внутренняя Монголия избрала своим верховным вождем Чжэ-бцзуи-дамба-хутухту на правах владетельного хана с приданием ему в помощь из халчаских князей пяти министров: внутренних дел, финансов, военного, юстиции и министра иностранных дел. Вслед за подписанием в Урге союзного договора монгольское правительство командировало в Петроград министра иностранных дел, светлейшего князя Ландо Дорджи, для выражения Русскому правительству дружественных чувств Монголии. В Петрограде многие статьи договора были подвергнуты всестороннему обсуждению и более твердо закреплены.
Таким образом, Монголия спокойно могла приступить к намеченным реформам и организации фактических средств к основательной защите страны.
Что же происходило в означенное время в Тибете – этой, до сих пор изолированной от европейцев, стране?.
На основании англо-русского соглашения 1907 года Англия обеспечила себе возможность экономического внедрения в Тибет, но ее отношение к стране отнюдь не имело характера политического протектората. Со своей стороны Россия согласилась сохранять неприкосновенность Тибета и свято соблюдала это обязательство. События осложнились агрессивной политикой Китая, влияние которого оказалось значительно сильнее, чем это предполагали. Как известно, пекинское правительство отправило в Лхасу войско, и Далай-лама вынужден был оставить свою столицу.
Два китайских отряда – восточный, численностью в одну тычу солдат, и западный – в две тысячи – долгое время громили Тибет. Многие монастыри, в особенности в восточном Тибете – Каме, были сожжены, богатства разграблены, население перебито, женщины изнасилованы; наибольшие зверства учинены по отношению к ламам, защитникам храмов. Лхаса и ее знаменитые монастыри, в особенности монастырь Сэра, также не пощажены. Золотые кровли храмов прострелены, святыни поруганы, дворец тибетских царей разобран по камням, из которых китайские солдаты построили казармы. Шелковые образа служили украшением седел, округленные бурханы – снарядами для пушек, художественные переплеты книг – подошвами для обуви. Не перечесть варварств дикарей-китайцев. Последние, вероятно, действовали так еще и потому, что, повторяю, в Тибете не было ни одного европейца, голос которого мог быть всегда услышан Европой.
Но китайская революция опять изменила положение вещей.
Тибетцы воспрянули духом. На призыв Далай-ламы, словно по мановению волшебного жезла, восстал весь Тибет. Несмотря на отсутствие скорострельного оружия и мало-мальски организованного войска (в настоящее время и то и другое отчасти имеется), одною силою духа китайцы были сломлены. Caмое воинственное, лихое племя в Тибете – Лоло или Иоми, в деле освобождения центрального Тибета от китайских войск покрыло себя воинственною славою. По выдворении китайцев народ обратился с мольбою к Далай-ламе принять общее управление страною в его священные руки. Далай-лама не колеблясь согласился и по торжественном въезде в Лхасу, твердо вступил в роль верховного правителя Тибета.
Внешними знаками Далай-ламского достоинства, помимо золотой печати, служат желтые носилки, желтый зонт и опахало из перьев хвоста павлина. Эти знаки употребляются при парадных шествиях, а при второстепенных – допускается и езда верхом, только с желтым зонтом, символизирующим солнечный круг.

Заключение
Из предыдущего явствует, что Россия, близко соприкасаясь с Монголией, систематически изучала эту страну и сблизилась с ней не только на почве торговых, но и политических интересов, послуживших России поводом в нужный момент поддержать Монголию в достижении ею прав на самостоятельное существование. Давая России возможность вывозить сырье и скот, Монголия в обмен получала от России предметы повседневного употребления, как то: посуду – медную, жестяную, эмалированную, затем железо, чугун, юфть, мануфактуру, ножи, ножницы и другие товары. И чем более Россия давала и будет продолжать давать Монголии таких товаров, тем русский рубль занимал и должен будет занимать в Монголии господствующее положение.
Что касается Тибета, то последний из подражания Монголии в трудные минуты обращал свой взор только к России: командировал посольства, посылал учащуюся молодежь для занятия в специальных технических школах, словом выказывал России симпатии. Русское географическое общество через своих членов-путешественников хорошо осведомлено о Тибете, чувствует его симпатию и верит в искренность приглашения его сотрудников в столицу Тибета Лхасу для научной работы, для исследования природы и человека в Тибете.


МОНГОЛИЯ И АМДО И МЕРТВЫЙ ГОРОД ХАРА-ХОТО
Посвящается светлой памяти Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского
Вступление
…Твоя весна еще впереди,
а для меня уже близится осень.
(Пржевальский)
Душу номада[30] даль зовет.
Путешественнику оседлая жизнь, что вольной птице клетка. Лишь только пройдут первые порывы радости по возвращении на родину, как опять обстановка цивилизованной жизни со всей своей обыденностью становится тяжелой. Таинственный голос дали будит душу, властно зовет ее снова к себе. Воображение рисует картины прошлого, живо проносящиеся непрерывною чередою. Сколько раз я был действительно счастлив, стоя лицом к лицу с дикой грандиозной природой Азии; сколько раз поднимался на крайнюю абсолютную и относительную высоту; сколько раз душою и сердцем чувствовал обаяние красот величественных горных хребтов. Не перечесть счастливых минут, не запомнить прелестных уголков, где приходилось жить среди диких скал и лесов, среди шума и гула ручьев и водопадов, производящих в горах волшебную гармонию; и не в силах удержаться, чтобы еще раз не посмотреть на этот храм природы, полный живых чарующих звуков, полный лазоревого блеска днем и бесконечного разнообразия звездных миров ночью. Со времен глубокой древности торжественное величие природы подчиняло себе внимание человека.
Этого маленького признания достаточно, чтобы понять мою радость, мое восхищение по поводу новой Монголо-Сычуаньской[31] экспедиции, вверенной мне Русским географическим обществом осенью 1907 г.
Основные средства на эту экспедицию – тридцать тысяч рублей – были отпущены из сумм государственного казначейства. Кроме того, почти все участники экспедиции в большей или меньшей степени были удовлетворены содержанием за время командировки по месту службы.
Задача двухлетней Монголо-Сычуаньской экспедиции состояла, во-первых, в попутном исследовании Средней и Южной Монголии, во-вторых, в дополнительном изучении Куку-норской области, с озером Куку-нор включительно, и, в-третьих, в достижении северо-западной Сычуани и сборах естественно-исторических коллекций этой интересной страны.
В состав экспедиции вошли, кроме меня – руководителя, в качестве моих ближайших сотрудников: геолог Московского университета Александр Александрович Чернов, топограф Петр Яковлевич Напалков и собиратель растений и насекомых Сергей Сильверстович Четыркин.

Во главе конвоя численностью в десять человек, по-прежнему стоял мой неизменный спутник – гренадер Гавриил Иванов. Из прежних же спутников-забайкальцев в роли охотников и препараторов были: заслуженные казаки-урядники – Пантелей Телешов, Арья Мадаев; в роли же новичков-спутников: из гренадер – Влас Демиденко, Мартын Давыденков (впоследствии наблюдатель на метеорологической станции в Алаша) и Матвей Санакоев; из забайкальских казаков – Ефим Полютов (переводчик китайского языка), Буянта Мадаев, Гамбожап Бадмажапов (сопровождавший меня в поездке к Далай-ламе в Ургу в 1905 г.) и Бабасан Содбоев. Персонал экспедиции, следовательно, состоял из четырнадцати человек.
Китайские паспорта на трех членов экспедиции были получены от Пекинского правительства через посредство Российской дипломатической миссии при богдохане.
Много пришлось похлопотать со всякого рода снаряжением и в Петербурге, и в Москве, и на границе, кладя в основу уроки незабвенного учителя Н. М. Пржевальского и внося свои личные дополнения. В общем, и на этот раз мы были снаряжены во всех отношениях почти так же обстоятельно, как и в предыдущую тибетскую экспедицию. Выражение «почти» исключает экстраординарные подарки, которыми мы теперь не располагали, но которые служили украшением внешней стороны моего предыдущего путешествия в Тибет.
В тайнике души я лелеял заветные мысли найти в пустыне Монголии развалины города, на Куку-норе – обитаемый остров, в Сычуани – богатейшую флору и фауну. Роскошная природа Сычуани, ее бамбуковые заросли, оригинальные медведи, обезьяны, а главное – чудные лофофоры (Lophophorus lhuysi), о которых до последних дней восторженно мечтал Н. М. Пржевальский, – манили к себе не переставая.
Восемнадцатого октября[32] я распрощался с Петербургом. На Николаевском вокзале[33] собрался кружок друзей и знакомых. Лица, тесно связанные с Географическим обществом или Академией наук вселяли, с одной стороны, бодрость, энергию, с другой же – напоминали громадную ответственность, которую я принимал на себя.
В Москве в течение трехнедельного пребывания удалось не только покончить с вопросами дополнительного снаряжения, но даже немного и отдохнуть. Досадовал я на запоздалое выступление, происшедшее, впрочем, не по моей вине, но делать было нечего. Энергия и беззаветная преданность делу все побеждали. К тому же мои юные спутники только и говорили о путешествии, горя нетерпением скорее начать его.
Десятого ноября экспедиция в половинном наличном составе оставила Москву. Путешественники удобно расположились в классном вагоне, снаряжение – рядом, в багажном. На перроне собрался многочисленный кружок провожающих. Почтенные профессора перемешались с молодежью, мужской персонал с дамским. Всех объединила далекая Азия и мысль сказать отъезжавшим «до свидания». Тяжелы были минуты расставания. Локомотив запыхтел, колеса загрохотали. Все кончено здесь, а там… там – два года новой жизни, полной тревог, лишений, а также и заманчивой новизны.
Быстро прокатили мы по России, несколько медленнее Сибирью. Самым живописным местом на пути по отечеству по-прежнему оставался Урал, приковывавший путешественников к окнам в течение целого дня. Глаз не в силах оторваться от живых картин природы, меняющихся, словно в калейдоскопе. Роскошный служебный вагон, предоставленный в распоряжение экспедиции от Самары до Златоуста, еще более способствовал силе прекрасного впечатления. Большие окна вагона иногда открывали нам целые уральские панорамы, в особенности в южной части горизонта, нередко блестевшего отраженными полосками румяной зари.
После Урала моих спутников больше всего занимали огромные железнодорожные мосты, издали казавшиеся гигантским кружевом, переброшенным через широкие многоводные реки Сибири. Проходя по таким мостам, поезд замедляет ход, колеса характерно отсчитывают рельсы; внизу стремительно несутся холодные волны. За мостом опять мелькают прежние виды с кустами, лугами и перелесками.
Вот, наконец, и Иркутск, и его прозрачная холодная красавица Ангара, слегка прикрытая туманом. Морозы крепчали, в воздухе летали «белые мухи», сибиряки кутались в меховые одеяния. Здесь мы были встречены топографом П. Я. Напалковым и казаками Бадмажаповым и Содбоевым.
Иркутск – исторический центр Сибири. В Иркутске экспедиции предстояло прожить несколько дней, которые мелькнули незаметно. Высшие представители края и города Иркутска и члены Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества самым предупредительным образом содействовали скорому и успешному проведению в жизнь всех очередных вопросов экспедиции, с которыми я обратился к своим старым и новым знакомым.
Верхнеудинск был последней станцией железной дороги, с которой мы расставались на все время нашего странствования. К югу отсюда уже повеяло степным простором – показались номады: буряты, монголы, пестро одетые ламы. Местный буддийский епископ – хамбо-лама Иролтуев – приветствовал меня хадаком – платом счастья и теплой речью, которая заканчивалась дорогим для меня напутствованием: «Вы, прирожденный путешественник, вновь вступаете в страну с населением, которое исповедует кроткий буддизм, буддийскую религию, насчитывающую в своих рядах сотни миллионов последователей. Буддийская страна любит вас, как, вероятно, и вы ее любите, и на этот раз она непременно подарит вам что-нибудь замечательное! Это мое глубокое убеждение!».
Лихая тройка, а местами и четверка, быстро катила меня и моего спутника Чернова сначала по Селенге и ее правому притоку Чикою, а затем наперерез более или менее мощной гористой местности, широко расстилавшейся к югу. В этом направлении резко выражался крупный масштаб, по которому построена вообще природа Азии. Горные цепи, россыпи, одинокие скалы привлекали внимание Чернова и служили темой нашего разговора. На вершинах перевалов мы останавливались, чтобы подольше полюбоваться широкой горной панорамой.
Тяжелый транспорт экспедиции следовал на проходных под конвоем гренадер и казаков, к которым присматривался ветеран Иванов и поучал их уму-разуму.

Монголия. открытие Хара-Хото 1908 г.
Глава первая. По северной Монголии
Исходный пункт путешествия. – Кяхта. – Облава на коз. – Зимний праздник и выступление нашего каравана. – Порядок следования. – Мороз крепчает. – Новый 1908 год. – Хребет Манхадай. – Долина Хары и следы китайской колонизации. – Дальнейший путь. – Впечатление на перевале Тологойту, гора Богдо-ола. – Урга[34]. – Богдо-гэгэн. Российское консульство. Маститый консул Я. П. Шишмарев. – Отправление транспорта в Алаша[35]. – Монгольский праздник Цаган-сар[36]
Второго декабря я прибыл наконец на границу Китая, в знакомый городок Кяхту, где нашел хороший приют в доме общественного собрания. В этом самом доме неоднократно проживал и мой учитель Пржевальский до и после своих путешествий. Все прежнее быстро воскресало в памяти.
Гостеприимные кяхтинцы, в особенности Молчановы, Собенниковы, Лушниковы, Швецовы, окружили нас дружеским вниманием. Все наперебой старались оказать экспедиции свои услуги. Время бежало быстро. Дни проходили в работе по снаряжению каравана, вечера – у знакомых или на заседании местного отделения Географического общества, праздники – на охотах-облавах за дикими козами. По части охот кяхтинцы сильно избалованы: монгольские угодья и обилие зверей придают этой забаве иногда сказочный характер.
Чудный декабрьский день. Ранним морозным утром несколько троек в тарантасах катят по мягкой пыльной дороге. На востоке золотится заря, на юге темно-синее небо сливается с серыми облаками, прикрывающими вершины отдаленных холмов. Кое-где по скатам гор белеет снег. Плотнее закутываешься в меховое одеяние, мысли даешь широкий простор. Много раз забудешься грезами, прежде нежели достигнешь охотничьего табора и заслышишь голоса монголов-загонщиков. Заждавшийся егерь Калашников уже успел развести «веселый» костер. Проходит несколько минут, охотники усаживаются на оседланных лошадей и в полчаса времени занимают стрелковую позицию. Мертвая тишина в лесу сразу нарушается: трубит рог, кричат загонщики; там и сям перелетают потревоженные птицы, в кустах мелькают испуганные зайцы. Бац… бац… справа загремели выстрелы; немного дальше еще и еще, затем все смолкло, первый загон окончился. В результате – две козы и лисица.
Теперь загонщики остались на использованной стрелками позиции, а стрелки помчались в карьер на новую. Таким образом до завтрака было устроено четыре загона; за это время мне не пришлось сделать ни одного выстрела, хотя однажды козы и мелькнули в отдаленных кустах, дав возможность лишь полюбоваться их грациозными прыжками.
«День выдался на славу», – справедливо заметил кто-то из охотников. Действительно, перевалив за полдень, солнце ощутимо пригревало; отдыхавшие стрелки не встали с мест до призывного голоса Калашникова, но как только призыв раздался, охотники взгромоздились на лошадей и поскакали на линию. Теперь характер местности был несколько иной: вместо сплошного елового леса тянулись жидкие поросли берез. Кое-где точками мелькали тетерева-косачи, легко снимавшиеся при нашем к ним приближении.
Опять стоим на номерах. Подле меня пронеслось несколько стаек мелких птичек: синиц, чечеток. Далеко протрубил рог, цепь всадников-монголов оживилась, побежали козы. По сторонам уже палят. В волнении переступаешь с ноги на ногу, крепче сжимаешь ружье. На встречном горизонте то и дело показываются звери[37]. Вот несется маленькая группа коз прямо на меня. Большой гуран или козел высоко отделяется от земли. Еще минута-другая, и звери уже приблизились: раздались один за другим выстрелы, и – о, радость! – два козла упали на расстоянии пятнадцати шагов друг от друга. Такие счастливые минуты долго памятны охотнику. Несколько позже стихла пальба. Снова стали обнаруживаться процессии синичек, и снова громко застучал по стволу березы дятел; из соседних кустов то и дело выскакивали беляки и несмелыми прыжками прорывались через цепь охотников.
Еще несколько загонов, и зимний день погасает. На землю ложатся сумерки. Мы быстро катим в сибирских тарантасах, любуясь звездным небом Монголии, а мысли еще быстрее сменяют одна другую. Обвеваемый грезами далекой родины, невольно предвкушаешь скорую счастливую странническую жизнь.
Помимо диких коз, для коллекции удалось застрелить еще несколько птичек. Уже с первых дней прибытия на границу препараторы экскурсировали в окрестностях Кяхты, собирая наиболее интересные образцы местной фауны.
Вначале я предполагал закончить снаряжение экспедиции к двадцатым числам декабря, чтобы таким образом до праздника Рождества Христова выступить в путь. Оказалось, что этого нельзя было сделать по нескольким мотивам, главным из которых был отказ переводчика китайского языка от участия в экспедиции; пришлось искать другого. Вообще говоря, только при полном содействии кяхтинцев – представителей города – нам удалось начать наше путешествие еще в 1907 году: мы выступили 28 декабря.
К этому времени экспедиция сделала все, но, как и водится в праздничный период, члены ее непроизводительно потратили несколько дней. Наши друзья Молчановы не преминули пригласить нас на елку, с которой мы получили приятные и полезные в дороге подарки. Кроме того, хлебосольные кяхтинцы снабдили нас вкусною снедью, что очень важно, в особенности в начале азиатского путешествия, когда сразу приходится расставаться со всеми удобствами цивилизованной жизни и переходить на тяжелые условия жизни номада.
День выступления в путешествие мне особенно памятен. Утро холодное, ветреное; небо покрыто слоистыми облаками. Мы все на ногах еще задолго до рассвета: все прибирается, все укладывается. После утреннего чаепития это «все» выносится наружу, в просторный двор. Вьючный багаж расположен в три линии, поэшелонно. Вскоре приводятся верблюды, начинается вьючка. Толпа зевак кольцом обступила двор, любители-фотографы с разных сторон направляют свои камеры. Голоса людей и крик верблюдов смешивались в неприятное целое, нисколько не похожее на обычную картину путешествия, когда все делается быстро, заученно, красиво, когда не услышишь ни орания верблюда, ни лишнего слова отряда.
«Готово!» – озабоченно заявил фельдфебель. «Счастливый путь!» – ответил я моему неизменному спутнику, вожаку каравана, и через несколько минут, вытянувшись вдоль улицы, караван ходко зашагал вперед. Одетые по-дорожному, члены экспедиции свернули к В. Н. Молчанову, позавтракали в кругу его симпатичной семьи; поблагодарили за внимание и быстро понеслись за караваном, который извивался длинной вереницей по китайской земле. Приятно было смотреть, в каком строгом, красивом порядке шли верблюды русской экспедиции, и еще приятнее сознавать, что это был первый день путешествия. Не верилось, что оно уже началось. Мое сердце переполнилось великою радостью. Чувствовал ли дух моего великого учителя, что в такую торжественную минуту я призывал его благословение?
Мороз крепчал, спустились на землю сумерки, по небу разлилась чудная заря. Оставив за собою китайский торговый городок Майма-чен и вступив в Монголию, экспедиция приютилась при урочище Гилян-нор[38]. Удивительная тишина стояла кругом. В тишине и в необычайной красоте яркокого звездного неба Монголии глубже познаешь величие беспредельной вселенной. Еще час-другой – и бивак экспедиции уже спал крепким сном, доверяясь бдительности часового.

На другой день погода изменилась – подул холодный пронизывающий ветер, в долину спустились облака, посыпавшие ее снегом. Мы скоро поднялись с ночлега и продолжали двигаться в прежнем южном направлении. Наш гость, студент И. А. Молчанов[39], имевший страстное желание путешествовать с нами, со слезами на глазах сказал нам: «До свидания!». Напрасно славный юноша оглядывался назад – резвый иноходец быстро уносил его туда, куда мы мысленно посылали наш прощальный привет. До самого вечера бушевал ветер, обдавая нас и в пути, и на месте хлопьями снега. Последующие дни несли также мало утешения, но мы продолжали двигаться с большим и большим успехом, оставляя станцию за станцией или, как здесь говорят, уртон за уртоном.
Надо заметить, что в Монголии или в Застенном Китае вообще передвижение так называемым почтовым способом происходит несколько иначе, нежели у нас в России. Монгольские станции, по крайней мере станции по кяхтинско-ургинскому тракту, устроены таким образом: вдоль дороги в известных пунктах, по большей части в жилых урочищах, располагаются пять-шесть юрт с монголами-ямщиками, не знающими иного занятия, кроме ямщины. Ямщина – повинность, в данном случае отправляемая четырьмя хошунами: Тушетуханским, Сайннойонским, Цицинванским и Балдынцзасакским. Над ургинским трактом, состоящим из одиннадцати станций и протянувшимся на 335 верст расстояния, ведет наблюдение чиновник с красным шариком на шляпе. Каждая станция, в свою очередь, имеет смотрителя – цзан-гина – и его помощника.
Монгольская почтовая станция снабжена несколькими десятками, а то и сотней лошадей при восьми или десяти ямщиках. По мере надобности и люди и лошади заменяются или пополняются вышеуказанными хошунами; впрочем, такое правило касается только лошадей. Должности смотрителя и ямщиков станций обыкновенно переходят по наследству. Мне указывали на ряд тех и других станционных служащих, переходящих из поколения в поколение.
Эти монголы других повинностей не несут.
По особому соглашению с нашими представителями Кяхты и Урги монгольская почта охотно перевозит не только все свои или китайские грузы, но и русские. В первую очередь следуют казенная и частная корреспонденции, посылки и проч.; во вторую – проезжающие по казенному или частному предписанию. Легкая и тяжелая корреспонденция или, как здесь говорят, «почта» передвигается на вьюках при помощи верблюдов; передвижение же людей происходит верхом на лошадях за исключением больших чиновников или купцов, которые нередко следуют в экипаже.
Европейский экипаж монголы-ямщики везут своеобразным способом, а именно: два или четыре всадника подхватывают доннур[40] и по команде «вперед!» быстро мчат экипажи от одной станции до другой. В зависимости от чина и положения проезжающего назначается больший или меньший эскорт, большая или меньшая кавалькада. В то время, когда одни ямщики тащат тарантас, другие скачут с ними рядом, часто сменяя друг друга на ходу. Дикое зрелище представляет собою передвижение важного сановника, когда вы еще издали видите большой столб пыли и массу людей, быстро несущихся на вас. Ни канавы, ни камни, ни другие встречающиеся на пути препятствия – ничего не смущает номадов-ямщиков, ничто не замедляет движения, и они весь перегон катят в карьер. В таком случае принято щедро платить «на чай», примерно три, пять и более наших серебряных рублей на каждой станции.
Благодаря кяхтинскому пограничному комиссару, покойному П. Е. Генке, своевременно снесшемуся с китайско-монгольским управлением, персонал экспедиции хорошо проследовал на монгольских почтовых лошадях верхом и в большинстве случаев шагом, в сопровождении багажа экспедиции, везомого на верблюдах, специально нанятых экспедицией у монголов-подрядчиков.
В качестве ямщиков или подводчиков – монголы незаменимые слуги: добросовестные, трудолюбивые, выносливые. Еще более они хороши при исполнении обязанностей гонцов или курьеров, когда выпадает случай на ретивых лошадях проскакать большое расстояние. Монгол – прекрасный наездник, к тому же он имеет острое зрение, привычен к седлу и климатическим невзгодам, словом он истый номад. Свою монотонную далекую дорогу монгол разнообразит молитвой, песней, табаком и чаем. Молится он у перевалов, поет по долинам, а курит и отдыхает за чашкой чая, в любой попутной юрте.
Наш караван, следовавший поэшелонно, занимал порядочное расстояние. Я ехал впереди, капитан Напалков сзади; геолог экспедиции согласовал свое движение с производством специальных наблюдений, как равно и препараторы, порою отстававшие от каравана или отъезжавшие в сторону, охотясь за зверями или птицами.
Вставали мы до зари. С зарею снимались биваком и шли до следующего ночлега, часто в продолжение целого дня. Позавтракав ранним утром, обедали поздним вечером, а затем укладывались спать. Благодаря обилию дров на пути, походная железная печь согревала нашу юрту и давала возможность хорошо отдохнуть. Морозы продолжали усиливаться, снега становилось больше; всюду, кругом, была настоящая зимняя картина. Почти от самой Кяхты до Ибицыка снег шел не переставая, мешая наблюдать за горными складками; и только в последние два дня старого года небо очистилось и во время восхода и заката солнца наряжалось в румяный пурпур. На заре нового года воздух был особенно прозрачен и охладился до –47,3°С. Такого мороза я еще, кажется, никогда и нигде не наблюдал. К счастью, было абсолютно тихо.
Горные вьюрки (Leucosticte giglioli) и серые куропатки (Perdix daurica) ютились у монгольских жилищ, держась многочисленными стаями по темной, разрыхленной скотом, земной поверхности. Наиболее доверчивыми к человеку были куропатки, которые, словно домашние птицы, подбегали к людям, хватая на лету выбрасываемые ими зерна. Днем на солнце куропатки резвились, валялись в пыли, хлопая крыльями. Порою их скрипучие звуки одни только и нарушали царившее безмолвие. Впрочем, среди этих птиц иногда происходила большая тревога, когда неожиданно налетал их грозный враг – сокол (Gennaia milvipes mllvipes [Falco cherrug]). Этот гордый хищник появляется с быстротою стрелы и, схватив одну из куропаток, так же быстро исчезал, таща ее в когтях до ближайшего пригорка, где он с жадностью уничтожал свою добычу. Из других птиц чаще попадались на глаза: в лесу – тетерева-косачи, группами усаживающиеся на березах; сойки, а вдоль опушек, по оврагам – очень нарядные, розовые сибирские снегири (Uragus sibiricus).
День нового 1908 года экспедиция провела частью в пути, частью на месте, в урочище Шара-хада[41] – «Желтая скала» (сложенная из осадочных пород, заключающих любопытные палеозойские окаменелости). Здесь я поздравил лейб-гренадеров – всех трех – с производством в унтер-офицеры, пожелав им новых успехов в дальнейшем путешествии. Для моих новичков-спутников казалось странным, что начатый год придется целиком провести в глубине Центральной Азии, и что в течение не только этого года, но и всего вообще времени путешествия не суждено ни посылать, ни получать писем в той мере, в какой каждый из них привык это делать, будучи дома. Под домом мы теперь подразумевали отечество, которое с каждым переходом становилось от нас все дальше и дальше.
Испортившаяся было вначале погода вскоре вновь исправилась. Прозрачный воздух открывал широкие снеговые дали, блестевшие огненно-золотистой окраской, наиболее эффектной на вершинах гор или холмов. Морозная тишина клала на все свой характерный отпечаток. Наш караван был наряжен в серебристый иней и, дрожа от стужи, успешно совершал дневные переходы.
За Шара-хада к югу путь преграждался довольно высоким хребтом Манхадай, казавшимся особенно внушительным по причине глубокого снега, на белом фоне которого резко выделялась зона древесной растительности. Благодаря обилию того же снега, обычную дорогу через Манхадай нам пришлось оставить в стороне, заменив ее зимней, более кружной, но зато несколько пониженной и наименее каменистой, проходящей через перевал Сэпсул-дабан, поднятый над морем на 4 500 футов [1360 м]. Подъем на этот хребет очень крутой, но он не представляет больших затруднений, так как дорога хорошо разделана, к тому же она постоянно оживлена проходящими караванами, утаптывающими путь.
Как и на всех перевалах Центральной Азии вообще, так и здесь устроено «обо», священное сооружение, сложенное преимущественно из камней, характеризующих ближайшие горные породы, и сухих древесных ветвей с нанизанными на них бараньими лопатками и лоскутками материи, исписанными «мани»[42]. На перевале нас застало яркое солнечное утро, но несмотря на это, воздух был крайне холодный и пронизывал до костей; с соседних берез то и дело слетали вниз косачи и зарывались в рыхлом снеге. Вблизи пробежала группа робких козуль, за которыми зимою охота малоуспешна. Мы поэтому предпочитали стрелять птиц и пополнили орнитологическую коллекцию следующими интересными экземплярами: ястребиным сирином, уральской неясытью и другими.
Южное подножье хребта Манхадай окаймлено долиною речки Хара, вдоль которой там и сям виднеются китайские фермы, – попытка Китая колонизировать Монголию. В целях слияния с местною народностью китайское правительство раз навсегда запретило китайцам вывозить своих жен за пределы собственно Китая; со своей стороны, будучи слишком склонными к семейной жизни, они обзаводятся семьей всюду, куда бы только их ни забросила судьба. Таким образом Северную Монголию китайцы планомерно заселяют, сливаясь с халхасцами точно так же, как они уже отчасти слились с юго-восточными монголами, в большинстве случаев утратившими свой первоначальный облик.
Среди китайских глиняных фанз выделялся один бревенчатый русский домик Калмыкова, куда, продрогшие от стужи, мы заехали погреться. В этом доме оказались одни женщины, которые тотчас позаботились накормить нас горячим завтраком и напоить чаем. Они были очень удивлены, что мы зимою решились начать путешествие. На мой вопрос: «А где же ваши хозяева?» – женщины ответили: «В Кяхте, уехали за продовольствием и кое-какими товарами, да вот вернутся нескоро, они у нас не такие, как вы, не поедут в такой клящий (очень сильный) мороз».
Кое-где на дальнейшем пути мы отметили еще несколько однотипных русских домов, стоявших по большей части с заколоченными окнами. Впоследствии выяснилось, что эти постройки были плодом неудачной затеи Бадмаева, откуда за ними и сохранилось название – бадмаевские.

В той же долине Хара нас навестил монгольский чиновник – заведующий кяхтинско-ургинским трактом, чтобы осведомиться о нашем здоровье и благополучии.
За долиной Хара местность продолжала нести горный характер. Монгольские уртоны – станции – располагались высоко, в области скал и хвойного леса; дорога описывала гигантскую волну, в особенности на сокращенных тропинках, доступных лишь для легковой езды всадников. Караваны же двигались более удлиненным путем, следующим по извилинам, у подножья отрогов. Особенно высоко была расположена ночевка при урочище Хунцыл, открывавшем широкий горизонт к западу. Мои сотрудники экскурсировали еще выше и с восторгом отзывались о той панораме, которая представлялась на открытой им полуокружности. «Очень хорошо было, – говорил А. А. Чернов, – наблюдать такое огромное скопление гор, развертывавшихся во всех направлениях, но уступающих в высоте тому массиву, на котором я находился. Яркая вечерняя заря еще более усиливала впечатление».
В Хунцыле, между прочим, мы встретили одного из учеников ургинской школы переводчиков – Кандакова, сообщившего мне, что местное консульство с нетерпением ожидает экспедицию и обеспокоено ее участью из-за небывалых морозов, стоящих день в день и задержавших всех путников в дороге.
Пятого января около двух-трех часов дня, следуя в пути, мне удалось наблюдать halo вокруг солнца, напомнившее мне аналогичное явление в Центральной Гоби, отмеченное восемнадцатого декабря 1899 г.
До Урги оставалось еще четыре перехода, и мы твердо решили выполнить их в ближайшие четыре дня. Мороз не ослабевал, наоборот, казалось, еще более усиливался. Особенно памятным в этом отношении для экспедиции был день седьмого января, когда каждый из нас ознобил какую-либо часть лица, несмотря на широкие меховые шапки. При –26… –28° и встречном ветре холод был жесток и мучителен. Я уверен, что мы его никогда не забудем, как одинаково не забудем и значения слов «клящий» мороз и «садкий» ветер. Неделю тому назад мы сравнительно легко перенесли в пути мороз –47,3°, но тогда было тихо, абсолютно тихо, и та минимальная температура не оставила в нас никаких тяжелых воспоминаний.
Вообще говоря, днем на солнце, в особенности в период его кульминации, температура воздуха значительно повышается, становится очень приятно, невольно клонит в сон. На ближайших вершинах снеговой покров блестит и искрится, в воздухе несется веселый крик горных клушиц, там и сям в голубой выси гордо пролетают орлы-беркуты, привлекающие внимание сарычей.
По мере приближения к Урге, в отряде возрастало желание скорее попасть в этот священный город буддистов. Поэтому, с последнего ночлега Куй-аюши, пользуясь светом луны, экспедиция снялась очень рано, до зари.
Я всегда следовал впереди и несколько быстрее каравана, который тем больше отставал, чем труднее была дорога. На этот раз предстояло чуть ни с места подниматься на перевал Тологойту, имеющий около 5500 футов [свыше 1600 м] над морем, и естественно, что, когда я был на вершине, караван еще только вползал на подошву хребта. Меня неудержимо тянуло молитвенное обо, открывавшее вид на священную девственную гору Урги, жемчужину Монголии – Богдо-ула! Увидев ее, я невольно пришел в восхищение и подумал: «Который уже раз я вижу тебя и любуюсь тобой, бесконечно долго смотрю на твою таинственную строгую красоту, на твой горделивый девственный наряд.
Ты все прежняя – задумчивая, молчаливая, прикрываешься сизой дымкой и двумя-тремя нежными тонкоперистыми облачками, стройно проносящимися над твоей могучей головой. Ламы ургинских монастырей свято охраняют твой чудный покров, свято чтут завет мудрейшего китайского императора Канси и не менее мудрого, второго из ургинских хутухт – Ундур-гэгэна[43]. Самой неограниченной свободой пользуются твои лесные обитатели – звери и птицы. С каким умилением и назидательностью посмотрели бы на тебя все те европейцы, которым так дороги и милы памятники чистой природы».
Измерив вновь барометрически высоту перевала, мы начали спускаться. Ветер опять пронизывал нас своей несносной стужей. Теперь уж начали попадаться навстречу конные монголы или длинные вереницы монгольских скрипучих телег, везомых меланхоличными быками. Подле дороги чаще и чаще группировались юрты и толпилось немало нарядных лам и чиновников, в карьер скакавших в ту или другую сторону. Мы тоже продвигались быстрее прежнего, и в наблюдениях всякого рода время бежало незаметно. Вот показалась и долина Толы, и змееобразная дорога, огибающая с северо-запада подножье Богдо-ула, дорога, по которой предстоит экспедиции отправиться в пустыню. Стали попадаться второстепенные обо, жалкие жилища нищих, а вот и собаки-людоеды, у самой дороги пожирающие труп, выброшенный по указанию буддийских монахов.
Вправо, к западу, тянулись постройки монастыря Гаядан, где еще так недавно пребывал тибетский Далай-лама. Влево, к северо-востоку, расположен другой большой ургинский монастырь, основанный в честь бога Майтреи – покровителя скотоводов. Все минувшее оживилось в памяти с поразительной ясностью.
Тем временем траншееобразная дорога привела нас к окраине города и базара. Из монгольских жилищ поднимался густой дым, который на известной высоте превращался в серое облако, стлавшееся вдоль течения Толы. Еще несколько минут – и мы среди городского шума и гама, среди широкой улицы, заполненной пестрой толпой монголов, китайцев, русских, лам и простолюдинов, мужчин и женщин, взрослых и малых. Крик верблюдов, ржание коней, грызня собак – все это смешивалось с разными голосами людей и ужасно поражало пришельца, только что оставившего тихую мототонную дорогу.
За базаром мы были радушно встречены казаками консульского конвоя, проводившими экспедицию в самое нарядное здание Урги – здание русского консульства. Слева виднелись казармы китайского гарнизона, китайский ямунь – управление; справа – новейшие постройки небольших храмов и домов приближенных ургинского хутухты. Но меня больше всего по-прежнему занимала все та же нарядная гора Богдо-ула, открывшаяся всей своей северной стороной, засыпанной глубоким снегом. Как раз на Богдо-ула смотрит и фасад консульства, в окна которого бьет яркий свет монгольского солнца.
Сверх ожидания в консульстве нам не приготовили общей квартиры, отдельного небольшого дома, некогда занимаемого командиром отряда, на который мы рассчитывали, а решили отряд наш разделить на группы и приютить среди консульского персонала, чем доставили бы и гостям и хозяевам различного рода неудобства. Пришлось отстаивать домелунксенский[44] домик, а отстояв, тотчас согревать его непрерывной усиленной топкой. На первых порах температура в нашем помещении была немногим выше наружной –17°С, но к вечеру она уже поднялась до –6,5°С, а к 12 часам ночи – ко времени нашего сна – до 0°С. Мы себя чувствовали хорошо: устраивались, прибирались; огонь в печах весело пылал, дрова трещали. Незаметным образом в окна были вставлены вторые рамы, и к утру мы уже имели признаки тепла, доведенного в течение нескольких дней, при прежней интенсивной топке до 8–9°С, что нам казалось вполне достаточным и даже нормальным перед выступлением в дальнейший путь.

Домелунксенский домик имел четыре комнаты, из которых я и мои сотрудники заняли две, а остальные две были предоставлены отряду. С первого дня я открыл барометры, установил прочие инструменты и стал приводить в порядок дневник и журнальные записи. Товарищи также сидели за письменными работами или экскурсировали в окрестностях. Препараторы приготовили несколько десятков шкурок птиц, грызунов, добытых частью по дороге и привезенных в замороженном виде, частью на месте, в Урге, частью – вблизи, по долине Толы.
Урга – священная столица Монголии – сосредоточивает в себе административный, культурный и духовно-религиозный центр жизни монголов. Всякий монгол, как бы далеко от Урги ни лежало его кочевье, стремится хотя бы один раз в жизни побывать в великой Да-курэ, как часто называют Ургу номады, чтобы поклониться ее храмам и безгрешному перерожденцу – хутухте.
В настоящее время несколько расшатанное здоровье богдо-гэгэна не позволяет ему так часто, как прежде, выходить к своему народу, и аудиенции его иногда ограничиваются только краткими свиданиями с монгольскими князьями и другими знатными, богатыми посетителями.
Современный богдо-гэгэн является восьмым перерожденцем Чжэ-эцзун-дамба хутухты. Чжэ-бцзун-дамба почитается буддистами воплощением знаменитого проповедника буддизма в Индии и Тибете – Таранаты (1573–1635). Имя богдо-гэгэна вообще, как всякого важного лица в частности, по обычаю буддистов, не может быть известно при его жизни и обнародуется только после его смерти.
Избрание нового перерожденца Чжэ-бцзун-дамба хутухты, по словам тибетцев, производится каждый раз следующим образом. По сообщении в Тибет о смерти хутухты, банчень-ринбочэ – перерожденец будды Амитабы, «будды Беспредельного света», и Далай-лама назначают имена двенадцати мальчиков, рожденных приблизительно в одно время, и приказывают представить их в Лхасу, в Поталаский монастырь. Здесь дети подвергаются обследованиям ученых лам, которые по мере исследования постепенно отстраняют обладающих меньшими признаками физического существа будды; так остаются, наконец, три мальчика, которые и признаются собственно перерожденцами[45].
Оставленные по исследованию лам три кандидата подвергаются окончательному избранию в Потале. Оно совершается в присутствии Далай-ламы, банчень-ринбочэ и дэмо-хутухты[46]. Имена мальчиков пишутся на трех отдельных бумажках и кладутся в золотую урну – сэрбум, откуда по совершении богослужения и молитв вынимают одну из этих бумажечек: имя, написанное на ней, и определяет перерожденца, долженствующего быть отправленным в Монголию. Назначение трех кандидатов обусловливается тем, что всякий бодисатва перерождается отдельно тремя частями: духом, словом и телом.
Для препровождения в Монголию избирается перерожденец духа, остальные два мальчика, признаваемые перерожденцами слова и тела, принимают также духовное звание: они живут обыкновенно в Тибете, пользуются почетом и иногда занимают места настоятелей монастырей, основанных Таранатою, а иногда состоят просто в числе братии этих монастырей.
Что касается хутухты, долженствующего ехать в Монголию, то он также принимает от Далай-ламы посвящение в духовное звание и затем, прослушав от него наставление о священном писании, отправляется обыкновенно в один из монастырей, основанных также Таранатою и находящихся в Тибетской провинции Цзан. Здесь он проводит от трех до пяти лет в изучении священных книг и богослужениях, одним словом, живет до тех пор, пока не приедут за ним в Лхасу послы из Монголии.
Переезд хутухты из Тибета в Монголию совершается с особым торжеством. Для приглашения его необходимо следуют от шабинского ведомства[47] и от каждого из четырех монгольских аймаков – округов, на которые делится Северная Монголия, или Халха, не менее как по двести человек и, таким образом, самое меньшее число отправляющихся за хутухтою в Тибет – тысяча человек, а иногда это число бывает и гораздо больше. Поезд хутухты всегда движется очень медленно, задерживаемый разного рода церемониями и встречами. На всем пути от Лхасы до Урги богдо-гэгэна сопровождают тибетские и монгольские войска.
Со вступлением хутухты в пределы Халхи сопровождающая его толпа народа более и более увеличивается, потому что халхасцы, приставшие к процессии, провожают хутухту по большей части до Урги; наконец, и из самой Урги выходят встречать люди на пространство десяти – пятнадцати ночевок.
По прибытии в Ургу богдо-гэгэн первую ночь проводит в своем летнем дворце на берегу Толы, а отсюда на другой день в желтых носилках его переносят в самый город. Для входа сюда хутухты на этот раз всегда отделываются особые триумфальные ворота на юго-западной стороне города; эти ворота увешиваются хадаками, шелковыми материями и украшаются золотом и серебром.
Вступив в Да-курэ, хутухта вносится сначала в барун-орго (войлочная юрта), где его встречает Тушету-хан как старейший из родственников Чжэ-бцзун-дамба-хутухты, а потом богдо-гэгэна переносят в Цокчэн-сумэ. Здесь его встречают высшие светские власти Да-курэ, а в прежнее время тут же совершалась от лица китайского императора передача богдо-гэгэну власти и символов ее, состоящих в золотой печати и грамоте на владение ею, писанной на золотом листе.
Далее жизнь богдо-гэгэна проходит неведомо для обыкновенных смертных, в глубине его дворца. В глазах буддистов все деяния хутухты имеют, конечно, чудесный характер и совершаются единственно для пользы одушевленных существ.
По смерти богдо-гэгэна тело его бальзамируют. Операцию эту производят ламы обыкновенно месяца три или даже больше. Труп они не анатомируют, а, усадив в должную позу, натирают его разного рода благовониями и спиртуозными жидкостями, потом обмазывают составом из соли и других веществ. В этом состоянии труп пребывает обыкновенно месяца два, одним словом, до тех пор, пока совершенно не высохнет. Тогда от него отделяют соляной состав; части тела, свободные от одежд, и прежде всего лицо, покрывают позолотою; поверх позолоты на лице трупа разрисовывают брови, усы и губы, но глаза оставляют закрытыми. В этом виде труп богдо-гэгэна называется «шарил»; его сажают в серебряный субурган и с торжественным богослужением ставят в храме, после чего воздают ему божеские почести.
В настоящее время резиденция хутухты расположена за пределами города, недалеко от правого берега реки Толы, и выходит фасадом на священную гору Богдо-ула. За высокой белой оградой скромного дворца, напоминающего в общих чертах старое здание русского консульства, виднеется несколько кумирен, в которых живут приближенные к Богдо-гэгэну ламы.
Как истый буддист, хутухта покровительствует всем животным вообще, любит лошадей, собак и даже имеет у себя небольшой зоологический сад, в котором содержатся исключительно парнокопытные: олени, маралы, козули и немногие другие.
Урга – монгольская Лхаса – растет и развивается. Торговая русская колония расширяется, увеличивая оборот с каждым годом. Ныне в Урге насчитывается до пятисот русских семейств. Престиж нашей родины поддерживается на должной высоте. Заезжие русские чувствуют себя в Северной Монголии так же спокойно, как и на родине. Представитель отечественных интересов, маститый Яков Парфеньевич Шишмарев, продолжал неустанно работать, стремясь к еще большему сближению и объединению русских с монголами.
Небезынтересно привести небольшую заметку о Я. П. Шишмареве – одном из основателей русского консульства в Урге и первом его консуле, прослужившем России почти полвека.
Покойный Я. П. Шишмарев – сибиряк, начал свою службу на родине в то горячее время, когда Восточной Сибирью управлял знаменитый Н. Н. Муравьев-Амурский. Одною из выдающихся заслуг этого великого государственного человека было, между прочим, уменье выбирать себе сотрудников, от высших до низших. В числе таких избранников был и молодой человек, незаметный тогда чиновник Шишмарев, выдвинутый за свои способности и прилежание.
Я. П. Шишмарев родился 14 сентября 1833 г. в городе Троицкосавске, Забайкальской области. Первоначальное образование получил в своем родном городе в русско-монгольской школе и шестнадцати лет поступил на службу. До 1855 г. он служил в разных троицкосавских канцеляриях и, вследствие предположения назначить его в число светских членов пекинской духовной миссии, начал изучать маньчжурский и китайский языки у ориенталиста К. Г. Крымского, командированного министерством иностранных дел в Кяхту для заведывания русско-китайской школой и преподавания в ней.
В 1855 г. Я. П. Шишмарев был в первый раз командирован в экспедицию на Амур в звании переводчика монгольского и маньчжурского языков. С этого времени в течение пяти лет он непрерывно разъезжал по Амуру по поручению графа. Вернувшись с Амура в Иркутск через Аян, в следующем 1856 г. Я. П. Шишмарев вновь отправляется на Амур, чтобы сопровождать третью амурскую экспедицию до города Айгуни, а в 1858 г. состоит лично при Муравьеве-Амурском как во время самой поездки генерал-губернатора на Амур, так равно и при ведении им переговоров с китайцами о границе. По заключении Айгуйского договора[48], в силу которого к России был присоединен Уссурийский край, Я. П. Шишмарев отправляется на Уссури для участия в экспедиции по проведению новой границы.

Амурская деятельность Я. П. Шишмарева оканчивается дипломатической поездкой в Благовещенск в 1859 г. и новой, еще более дальней командировкой в Пекин в распоряжении чрезвычайного посла графа Н. П. Игнатьева, в особенно напряженный период англо-французской войны с Китаем и заключения пекинского договора[49]. Новый просвещенный начальник Шишмарева так же оценил его, как и его покровитель граф Муравьев-Амурский, и Я. П. вскоре после Пекина был награжден и назначен во вновь открытое в Урге русское консульство.
Почти с самого основания консульства, с 1861 г., с первых шагов его деятельности, Я. П. Шишмарев состоял в Урге консулом в различных оттенках этого звания – управляющим консульством, консулом и генеральным консулом. В течение этого периода он только иногда был отвлекаем от своего поста для исполнения особых поручений. Так, в 1881 г. Я. П. Шишмарев был назначен в Кульджу полномочным комиссаром по передаче Илийского края китайскому правительству, а в следующем году был командирован в Западную Монголию для изучения торговых вопросов и рассмотрения взаимных претензий русских и китайских подданных. Главная заслуга Я. П. Шишмарева перед Россией, правильно замечает Г. Н. Потанин, заключается в его служении интересам русской торговли в Монголии, оберегать которые ему суждено было в течение столь многих лет. Он же долгое время должен был стоять на страже наших торговых сношений на западной границе Маньчжурии.
Все отличия, до чина тайного советника и проч., Я. П. Шишмарев получил в лице представителя русского консульства в Монголии – в Урге. Как на свидетельство его постоянной популярности в монгольской среде, можно указать на подарок, давно полученный им от ургинского богдо-гэгэна, – чашу из сандального дерева. Получение такого подарка иноверцем – чуть не единственный случай в истории монголо-буддийской духовной обрядности.
За долговременное пребывание в Урге Я. П. Шишмарев изъездил Монголию, что называется, вдоль и поперек, в особенности ее северную часть. Некоторые географические факты были им сообщены впервые, как, например, существование снежных вершин в Хангае и в Восточном, или Монгольском Алтае. Его путевые заметки о Кэрулене долгое время были единственным источником для знакомства с этим районом Северной Монголии. Но в чем был особенно сведущ Я. П. Шишмарев, и что он хорошо знал – так это монголов, домашнюю жизнь монгольских князей, их взаимные отношения, управление Монголией, экономические условия, в каких живет низший класс, значение буддийского духовенства и, что наиболее важно для русских, – русскую торговлю, постоянным свидетелем роста которой он был в последние сорок – пятьдесят лет.
К сожалению, литературная деятельность Я. П. Шишмарева выразилась лишь немногими статьями, напечатанными в сибирских географических журналах, а именно: «Сведение о халхаских владениях», «Поездка из Урги на Онон» и «Сведения о дархатах-урянхах ведомства ургинского хутухты».
Многие центральноазиатские экспедиции и большинство путешественников, начиная со знаменитого Н. М. Пржевальского, перебывали в Урге и получали большее или меньшее содействие и присущее Я. П. Шишмареву русское гостеприимство.
Лично я был знаком с маститым консулом с 1883 г., со времени моего первого путешествия по Центральной Азии с покойным Пржевальским, имевшим с Шишмаревым самые наилучшие отношения. Об этом свидетельствуют и письма Н. М. Пржевальского к Шишмареву, любезно переданные Я. П. мне в полное распоряжение.
В Урге в русско-китайском банке мы теперь получили серебро в китайских и гамбургских слитках, необходимое экспедиции на всем ее караванном пути в глубине Центральной Азии. Здесь же пришлось приобрести порядочное количество цзамбы[50] – сухой ячменной или пшеничной муки и других предметов повседневного продовольствия. Казаки по обыкновению добыли двух походных сторожевых собак, которых они без труда выбрали из массы бродячих псов, промышлявших отбросами.
С первых дней прихода в Ургу нас донимали монголы-подводчики, желавшие доставить экспедицию в Монгольский Алтай; в числе таковых оказался и алашанец, долженствовавший в скором времени отправиться обратно в Дын-юань-ин. За алашанца я ухватился в первую голову и, что называется, обеими руками, потому что, во-первых, он имел лучшую рекомендацию от моего спутника Бадмажапова, проживавшего в это время в городе Дын-юань-ине в качестве представителя русской торговой фирмы в Южной Монголии – «Собенников и бр. Молчановы», во-вторых, алашанец-подводчик брался доставить в Дын-юань-ин двадцать наших самых тяжеловесных вьюков, необходимых нам только впоследствии, и, в-третьих, давал облегченному каравану большую подвижность в выполнении круговой экскурсии через низовье Зцзин-гола, долиною Гойцзо в тот же Дын-юань-ин.
С алашанцем мы очень скоро сговорились и семнадцатого января отправили наш транспорт под наблюдением Четыркина и казака Буянты Мадаева. Этот караван последовал поперек Гоби в Дын-юань-ин, придерживаясь маршрута Н. М. Пржевальского.
Тем временем были подряжены и местные монголы для главного каравана, намеревавшегося оставить Ургу двадцать первого января. Однако против такого моего решения монголы энергично протестовали; дело в том, что как раз двадцатыми числами у монголов начинался большой праздник Цаган-сар – «Белый месяц», и они усиленно упрашивали меня день выступления каравана перенести на двадцать пятое. Делать было нечего, пришлось уступить номадам. В таких случаях участники экспедиции по большей части берутся за перо и пишут письма. Вообще говоря, я не люблю продолжительных остановок в городах, так как они отвлекают от прямых дел и вызывают наибольшую, иногда даже непроизводительную трату денег.
Таким образом в Урге нам пришлось провести более двух недель, которые, несмотря на монотонную жизнь, прошли довольно скоро. Все наши мысли невольно сосредоточивались на предстоявшем путешествии, и мы совершенно не замечали, как мелькал короткий день, сменяемый обыкновенно длительной холодной ночью. Несмотря на крайнюю стужу по вечерам, я долго, бывало, не мог оторваться от чудного зрелища, которое представляет из себя звездное небо. Здесь оно особенно ярко, и наблюдаемые в экспедиционные трубы небесные светила приводят человека в большое восхищение, в особенности Юпитер и его спутники. По окончании специальных наблюдений наша походная обсерватория несколько вечеров не убиралась, привлекая внимание местных обитателей и служа для наблюдения дивной красоты вселенной.
Монгольский праздник Цаган-сар внес в Ургу большое оживление. Перед зданием консульства с утра до вечера проносились кавалькады нарядных монголов и монголок. Явсегда любил смотреть на быстро мчавшихся номадов, на их оригинальную посадку. В центре города сновало еще больше народа, прибывшего из окрестных мест с принесением поздравлений хутухте и главным чиновникам. Везде развевались флаги, мелькали разноцветные фонари и раздавалась трескотня хлопушек и бомбочек. Торговля стихла, лавки закрылись, но зато двери всех буддийских храмов стояли настежь, призывая к молитве.
Наши проводники сдержали слово и явились вовремя. Пора и в дальнейший путь.

Глава вторая. От Урги до монгольского Алтая
Беглый взгляд на Монголию и ее обитателей. – Оставление Урги. – Долина Шархай-хундэ. – Ее животная жизнь. – Млекопитающие и птицы. – Впечатления походной жизни. – Первая дневка. – Озеро Тухум-нор. – Характеристика дальнейшего пути. – Монастырь Тугурюгин-догын; его музыкальные инструменты. – Долина Онгиин-гол. – Во владениях Тушету-хана; монастырь Хошун-хит; внешний вид последнего; белые субурганы. – Несколько слов о духовенстве Северной Монголии. – Китайцы-торговцы. – Происшествие в глубине пустыни. – Вид на Гурбун-сайхан; ключ Тала-хашата[51].
Прежде чем начать рассказ о путешествии внутрь Монголии, бросим беглый взгляд на природу всей этой страны и ее обитателей. На нашем пути с севера от Кяхты тотчас начинается Монголия, сначала степная, далее горная с более или менее массивными хребтами, еще очень богатыми растительным и животным миром. А там и Урга – духовный и административный центр, за которым физиономия монгольской природы резко изменяется, горный рельеф сглаживается, растительный покров беднеет, население редеет, в особенности южнее гор, составляющих восточное продолжение Монгольского, или Гобийского Алтая. Здесь уже настоящая пустыня – Гоби, развертывающаяся то в виде гладкой песчано-каменистой скатерти, то в виде складок мягких и скалистых холмов, по вершинам которых в вечерние часы картинно играют отблески заката. Наконец Южная Монголия, почти целиком представляющая собою море сыпучих песков, по большей части грядовых меридиальных барханов, нередко поднимающихся в высоту до сотни и более футов.
Коренное население Монголии, монголы, также видоизменено, с одной стороны, физическими условиями природы, с другой – большим или меньшим воздействием своих родовых князей или китайцев. В Северной Монголии путешественник наблюдает номадов, еще гордящихся своими традиционными удалью, молодечеством, щегольством пестрых нарядов, бойкими иноходцами, их убранством, своею лихостью, ловкостью езды; эти монголы невольно заставляют наблюдателя мысленно переноситься к давно минувшим временам, ктем временам, когда они имели собственную историю. Сохранению монголами славных традиций былого способствует в значительной степени ургинский иерарх – богдо-гэгэн и владетельные управители хошунов – монгольские князья, с которыми китайцы поступают учтиво, стараясь расположить их ко двору богдохана.
Монголы центральной части страны значительно уступают богатством и нарядами своим северным соседям, но зато нередко превосходят в этом отношении южных обитателей, которые как с внешней, так и с внутренней стороны все более и более приближаются к китайцам, забывая свою национальную жизнь и отрекаясь от родового быта. В общем, с нашей точки зрения, жизненная обстановка монгола бедна и незавидна, как беден и его внутренний мир; хотя монгол и отличается от соседних кочевников тем, что достиг сравнительно более высокого умственного развития, имеет собственные письмена, печатные законы, изучает тибетскую грамоту.
День двадцать пятого января 1908 г. для экспедиции может считаться знаменательным. В этот день мы надолго распрощались с родными людьми, с родною речью, с родной обстановкой. Впереди лежало все новое, чуждое – и природа, и люди. Утро серое, холодное, ветреное. Консульский двор заполнен верблюдами, лошадьми, багажом экспедиции. Вместе с гренадерами и казаками хлопочут монголы. Местный кружок соотечественников пришел проводить нас. Больше всего меня тронули дети – ученики и ученицы консульской школы, от имени которых учительница М. П. Ткаченко передала экспедиции пожелание успехов в деле обогащения науки новыми открытиями.
Пока мы прощались, головной эшелон Иванова уже открыл движение; за ним направился второй, третий. Путешествие началось. Вскоре караван вытянулся красивой линией и еще большими, нежели прежде, шагами стал отмерять расстояние. В открытой долине ветер свирепствовал пуще прежнего: мы ежились и очень часто оставляли седла, чтобы на ходу согреться. Встречные монголы приветливо прощались с нами: сжимая на груди руки, они произносили: «Жуйтуя-байна!», что значит «очень холодно!».
Несмотря на успешное движение, мы очень долго тащились долиною Толы, прежде нежели ее оставить, прежде нежели перевалить Гонгын-дабан, окончательно скрывший Толу от наших взоров. Прямо перед нами широко расстилалась степная полоса и лишь на востоке продолжали тянуться отроги богдо-олского массива, темневшие богатою зарослью леса. Через некоторое время и они скрылись. Мы вступили во внутренний центральноазиатский бассейн и на другой день весь большой переход подвигались вдоль обширной долины Шархай-хундэ, блестевшей яркой желтизной пышного дэрэсуна[52] (Lasiagrostis splendens). Там и сям группировались юрты кочевников, а в окрестности юрт – их многочисленные стада, нередко по соседству со стадами монгольских цзеренов (Antilope gutturosa [Procapra gutturosa]), хорошо распознающих мирного человека от охотника. На мой вопрос к проводникам: «чьи это табуны коней и стада верблюдов и баранов»? – они ответили: «все это принадлежит хутухте и монастырям».
Богатая долина Шархай-хундэ в то же время изобилует пищухами (Lagomys ogotona [Ochotona daurica]), за которыми охотятся зимующие в Монголии сарычи, большие и малые сокола (Gennaia et Tinnunculus [Falco и Cerchneis]), обычно сидящие по вершинам холмов вдоль дороги. В этой местности мы добыли интересного большого хорька, которого долгое время преследовал черный ворон (Corvus corax), бросавшийся на зверька с криком сверху; хорек сгибал спину, рычал и вообще яростно защищался.
Ежедневно наблюдая только монголов и их кочевье, мы скоро освоились и со своей походной обстановкой: верблюдами, лошадьми, юртой, и со своим главным занятием – передвижением. Иначе говоря, своим образом жизни мы напоминали номадов и чувствовали себя очень хорошо. С вечера в нашем походном жилище всегда бывало маленькое тепло, но ночью, в особенности же перед зарей, когда мы обыкновенно вставали, становилось ужасно холодно. Во время одевания, которое совершалось очень быстро, только и стучишь бывало зубами, только и слышишь: бррр, бррр, бррр! Затем, наскоро проглотив по чашке-другой горячего чая с противным месивом «цзамба», мы отправлялись в путь. В дороге время бежало быстро, как быстро, незаметно проходили и целые дни. После же четырех-пяти дней или переходов устраивалась дневка, считавшаяся всеми нами за большой праздник.
Первая такая дневка была устроена неподалеку от высокой конусообразной горы Хайрхан рядом со стойбищем владельца наших наемных верблюдов – состоятельного монгола Церен Доржиева. Последний оказался весьма доброжелательным и сговорчивым вообще, а в частности, по отношению к вопросу о расширении нашего маршрута, о большем уклонении его на юго-запад с целью не входившего сначала в нашу программу посещения озера Тухум-нор и прилежащего к нему на юге района, до нас еще не изученного географами. На память о русских Доржиев и его жена получили от экспедиции кое-какие подарки.
С каждым днем экспедиция приближалась к заветному югу, с каждым следующим днем уменьшалось количество снега и становилось теплее на солнце. Ночью по-прежнему бывало очень морозно; по-прежнему звездное небо ярко мигало и искрилось и по-прежнему очаровывало своей красотой.
Кругом тихо: ни один звук не нарушает торжественности степного простора, лишь по небу мелькнет падучая звезда и исчезнет вблизи горизонта.
Дальнейший путь к озеру Тухум-нор пролегал среди невысоких гор, среди горных складок Сонин-хангай – с одной стороны и Орцик, Онгон-монгол и Тангыт-тот – с другой, по перевалу Улэн-дабан, имеющему около 4 650 футов [1417 м]над морем. Преобладающей горной породой здесь был розовый гранит, прикрытый мощным пластом галечника с богатой степной растительностью, по которой, насколько хватал глаз, паслись стада тех же баранов. У одного из попутных холмов с крутым обнажением выветреного гранита держалось много канюков или сарычей (Archibuteo hemiptiopus [Buteo hemilasius]), не выносивших появления более сильного хищника – орла, нередко пролетавшего вдоль тех же гор или холмов.
В лазурной выси кружились бурые грифы (Vultur monachus [Aegypius monachus]), которых вскоре мы обнаружили на трупе лошади. Могучие хищные птицы издавали громкий клекот и отчаянно дрались из-за добычи. В такое время легче всего подойти незамеченным к грифам на расстояние выстрела. В этом же районе впервые нынче, мы наблюдали массовое скопление пустынников (Syrrhaptes paradoxus), выдававших свое присутствие преимущественно по утрам, когда больдуруки с шумом бури пролетали в ту или другую сторону. Скорость их полета поистине изумительна. Рядом с больдуруками нередко встречались огромные стаи различных жаворонков (Otocorys [Eremophila], Melanoeorypha, Alaudula [Calandrella]), кормившихся по травянистым лощинам, почти совершенно свободным от снега.

Благодаря необычайной прозрачности воздуха, путешественник здесь часто обманывается в определении расстояний, значительно сокращая их против действительности. Подобные ошибки еще более увеличиваются, когда наблюдатель находится на возвышении, а перед ним расстилаются долины, по которым нередко играет мираж – «злой дух пустыни», строящий из отдаленных высот фантастические сооружения, тонущие в дрожащем озеровидном пространстве. Так было с нами на пути к озеру Тухум-нор, которое с окраинных холмов казалось очень близко, а на самом деле потребовалось несколько часов, чтобы дойти до него, при этом сама долина из ровной и гладкой, каковой представлялась издали, превратилась в пересеченную поперечными оврагами местность, сильно утомившую наш караван.
На северо-восточном берегу Тухум-нора приютился монастырь Тухумын-догын, подле которого экспедиция и расположилась лагерем.
В зимнее время Тухум-нор представляет жалкую безводную белую площадь, почти не отличимую от общего вида долины, прикрытой тонкой пеленой снега. Размеры озера незначительны: шесть верст в длину и четыре в ширину. С запада в Тухум-нор впадает единственная речка – Джергалантэ. Берега озера плоские, низменные, за исключением небольшой полосы, где они слегка возвышаются. Дно илистое, солончаковое. Береговая растительность бедна и выражается караганой, дэрэсуном, несколькими видами солянок и немногими другими, типичными для страны формами.
По словам монголов, в весенне-летнее время Тухум-нор наполняется водой, на поверхности которой держится порядочное количество птиц – уток, гусей, турпанов, а по берегам – куликов, цапель, журавлей и чаек. Теперь же мы здесь встретили белую полярную сову, державшуюся крайне строго, темного сарыча, орла-беркута, а из мелких – одних лишь жаворонков. Что же касается млекопитающих, то помимо отмеченных выше цзеренов, здесь обыкновенны: волки, устраивающие по ночам неприятные концерты, затем лисицы, зайцы и несколько видов более мелких грызунов.
Местный небольшой заяц (Lepus tolai) очень многочисленен и настолько привык к добродетели монгола, что ютится рядом с его жилищем, словно собака. Зато косой смертельно трусит крылатых хищников – орлов, питающихся исключительно зайцами. В Северной Монголии я неоднократно был свидетелем интересных сцен у царственного хищника с трусливым зайцем. Косой улепетывает, что называется, вовсю, орел плавным полетом гонится за зайцем и, как только хочет схватит его, заяц делает отчаянный прыжок, часто через спину орла, и был таков. Горный хищник вновь стремится к намеченной жертве, вновь нападает, заяц вновь повторяет невероятный прыжок. В конце концов косой бывает схвачен и достается орлу на обед, обыкновенно отправляемый вблизи, на каком-либо возвышении.
Благодаря прозрачности неба, мне удалось астрономически определить положение Тухумын-догына. Весь вечер в морозном воздухе падали изящные снежные звездочки, и луна была опоясана красивым радужным кольцом.
При монастыре Тухумын-догыне мы намеревались устроить дневку, но подводчики сильно воспротивились, ссылаясь на бескормицу, которая может тяжело отозваться на лошадях. Поэтому утром на следующий день, караван наш обычным порядком направился в путь, за исключением меня и А. А. Чернова, решивших еще с вечера провести на озере час-другой, чтобы познакомиться с характером его обнаженного дна, по которому можно было проехать на лошадях. Результатом этих наблюдений и послужила вышеприведенная заметка о Тухум-норе.
На протяжении двух переходов маршрут экспедиции шел строго к югу, затем уклонился к юго-юго-западу и держался этого направления вплоть до северного подножья гор Гурбун-сайхан. Общий характер местности гористый, в особенности в северной половине маршрута, тогда как в южной преобладают открытые долины, по главным из которых пролегают большие караванные дороги из Северо-западной Монголии в Куку-Хото[53]. Поверхность гор, холмов, долин, словом, все говорит в пользу стихийной деятельности бурь и ветров, видоизменяющих рельеф Внутренней Монголии. Масса обломочного материала, по мере удаления от материнской породы мельчает, перетирается; более мелкие частицы щебня уносятся еще дальше, обтачивая на пути отдельные мелкие гальки, представляющие иногда типичные трехгранники, реже – четырехгранники.
Выходы наиболее твердых горных пород своею полировкой тоже напоминают о деятельности ветра, хотя в таких случаях чаще бросается в глаза предохранительная корка пустынного загара[54], повсюду покрывающая и изверженные, и древние породы. Как капли вод, зародившихся высоко в ледниках, в своем поступательном движении стремятся на дно долин, скопляясь в реки или озера, так и горные песчинки, подхваченные ветром, несутся вниз и в совокупности создают целое море барханов. На большем своем внутреннем протяжении страна однообразна, скучна, монотонна; еще более она удручает путешественника во время бури, поднимающей с земли тучи тончайшей пыли, омрачающей воздух. Все живое прячется, голоса замирают и лишь один только ветер неистово ревет и свистит, наводя ужас на суеверных номадов.
При таком состоянии воздуха в связи с поразительным однообразием пустынного ландшафта, здесь нелегко разобраться в дороге даже привычному человеку. Поэтому на ближайших вершинах гор или на попутных возвышениях, равно и на всяком характерном повороте, у монголов из камней сложены указатели, по которым проезжий может ориентироваться, подобно тому, как в лучшую погоду он руководится общим направлением своего пути по расположению командующих массивов, по их оригинальным очертаниям, улавливаемым иногда на большие, в несколько десятков верст расстояния. Ведь каждый или почти каждый перевал открывает новые виды, новые картины; одни горы приближаются, другие уходят за противоположный горизонт. С книжкою и буссолью в руках в течение всего перехода непрерывно следишь, непрерывно отмечаешь всякий заслуживающий внимания предмет, всякое характерное явление.
Нередко один и тот же массив приходится наблюдать в течение нескольких дней, нескольких переходов и по нему ориентировать свою съемку. Подобное явление всего чаще случается, если таковые массивы лежат у самой дороги, когда сначала вы к ним приближаетесь, затем равняетесь с ними и, наконец, оставляете их в тылу вашего маршрута. Подтверждение сказанного мы увидели на второй или третий день движения от Тухум-нора, где с вершин поперечных высот нам открылся широкий горизонт: на впереди лежащем юге темнели гребни Дэлгэр-хангая, на оставленном севере – знакомые читателю Сонин-хангай, Орцык и другие. Как увидим ниже, мы приблизимся вплотную к Дэлгэр-хангаю, и в то же самое время в полуденном направлении покажется новый поперечный хребет.
На дальнейшем пути общий характер местности оставался прежним. Те же горные кряжи, те же бесконечные простые и сложные по очертаниям высоты[55] или залегающие между высотами котловины иногда с ключами или с колодцами, подле которых непременно ютится человек, и где вам предстоит расположиться биваком на ночь. По-прежнему маршрут пролегал в виде прямой линии, и засечки, или азимуты направления приходилось брать с места ночлега на соседний предмет следующей такой же остановки.
День за днем экспедиция продвигалась к югу, день за днем монгольское солнце прибавляло тепловой энергии, чаще и звонче раздавалось пение жаворонков. Воздух опять прозрачен: по сторонам убегают синие дали. На утренней заре, пятого февраля удалось наблюдать интересное явление: с одной стороны всходило солнце, с другой скрывалась луна; был момент, когда на востоке и западе, на зубцах гор красовались оба светила. Впечатления от гармонического сочетания торжественной тишины и величия картины пустыни я никогда не забуду. Счастлив путешественник, живущий целые годы лицом к лицу с чистой девственной природой и имеющий возможность наблюдать ее разнообразные картины.
Во время движения каравана всякое явление так или иначе привлекает внимание: за всем следишь, все отмечаешь, и время проходит быстро, незаметно. K тому же зимние короткие дни, можно сказать, целиком уходят на передвижение. С окончанием перехода оканчивается и дневная деятельность каравана. В ожидании позднего обеда члены экспедиции работают над дневником, приводят свои наблюдения в порядок, но после обеда и записи вечернего метеорологического наблюдения тотчас укладываются спать. Наши же люди отходили ко сну еще раньше, но зато они и раньше вставали. В зимнее время особенно тяжелой бывала служба конвоя, изо дня в день по ночам несшего сторожевую службу, разделенную на две смены. Таким образом, приходилось стоять на морозном воздухе пять часов кряду, что очень и очень нелегко. Только русские гренадеры и казаки могли выносить все трудности и лишения зимнего похода, чем всегда вызывали у нас – своих старших товарищей, любовь и уважение. Отряд, или конвой экспедиции трудился в одном отношении, мы – в другом, и в общем понемногу все выполняли одну сложную, ответственную задачу.


Наутро восьмого февраля, разразился сильный ветер, замаскировавший земную поверхность снегом и если бы не часто расставленные обообразные указатели дороги, ни за что невозможно было бы пройти, не сбившись с должного направления. Мы шли весь день, до тех пор пока не сгустились сумерки, и благополучно устроились на ночевку в урочище Хашагэн-гол. Ветер крепчал и к ночи перешел в настоящую бурю, прекратившуюся лишь к утру следующего дня, когда температура воздуха понизилась до –26… –27°С.
В тот же бурный день мы пересекли верхнюю куку-Хотоскую дорогу, вблизи монастыря Тугурюгин-догын. Монастырь этот построен с разрешения китайцев на добровольные приношения хорчинцев, то есть монголов, обслуживающих куку-Хотоскую почтовую дорогу. Главными мастерами являлись китайцы, оставившие о себе память в виде башневидных печей, в которых выжигался кирпич.
Во время движения нашего каравана вблизи Тугурюгин-догына из этого монастыря неслись звуки больших труб и барабана.
Что касается вообще музыкальных инструментов в буддийских храмах, то они делятся на четыре категории: потрясаемые, ударные, духовые и струнные; последние, впрочем, отменены.
В числе инструментов первой категории стоят колокольчик и дамару – род небольшого барабанчика-колотушки. Дамару представляет собою пустой деревянный цилиндр, отверстия которого обтягиваются кожей; посреди цилиндра на особом ремешке привязываются два шарика, которые при быстром поворачивании цилиндра ударяют по натянутой на нем коже и производят звук вроде барабанной дроби.
Ко второй категории принадлежит кэнгэргэ – турецкий плоский барабан, деревянные берестовые стенки которого обыкновенно имеют в вышину около пяти вершков, окрашиваются в красную краску и украшаются изображением пяти или семи взаимно переплетающихся драконов. На эти стенки барабана без посредства обручей натягивается козья кожа, выделанная наподобие пергамента, размером аршина в полтора и более в поперечном диаметре. Такой барабан укрепляется на подставке, в него ударяют особою, выгнутою палочкой, называемою докур. Докур состоит из рукоятки, оканчивающейся резным изображением головы Матара – мифического животного; в рот этого Матара вкладывается выгнутая часть докура, которою и ударяют в барабан. Кроме барабана во вторую категорию входят еще медные тарелки и тарелочки.
В числе третьей категории музыкальных инструментов в буддийских монастырях находятся дун-буре, бишкур, ганлин и, наконец, буре. Дун-буре – это есть обыкновенная морская раковина, звук которой подобен рогу. Употребление раковины как инструмента при богослужениях буддисты относят ко временам Шакьямуни. «В биографии Цзонхавы[56] – реформатора буддизма – рассказывается, – говорит проф. Позднеев[57], – что однажды царь драконов поднес Шакьямуни белую раковину, которую потом ученики Будды употребляли вместо буре – трубы для призвания к богослужениям в летнее время. Потом Будда приказал Мутгальвани – старейшему ученику – отправиться встрану краснолицых тибетцев и спрятать эту раковину под горою Дурихту, причем якобы предсказал, что она будет найдена Цзонхавою, что и действительно случилось при постройке Галдан-хита».
В этом монастыре помянутая раковина хранится и доныне как чудотворная святыня.
Бишкур – это музыкальный инструмент, звуки которого походят на звук свирели. Бишкур состоит из трех отдельных частей: средняя делается из крепкого дерева или рога, а обе конечные – из меди; длиною он бывает несколько больше трех четвертей аршина. Время введения бишкура в церковное употребление монгольские ламы относят к периоду пребывания Чжу-адиши в Тибете и рассказывают, что когда этот проповедник буддизма прибыл из Индии в Тибет, то, не находя здесь многого из того, что почиталось священным в Индии, он задумал удовлетворить свои обрядовые религиозные требования каким бы то ни было образом. Так, например, здесь не оказалось священной птицы Галандага и дерева Галбиварас, употребляемого для курений. Для подражания голосу первой он, говорят, и изобрел бишкур, а взамен второго приготовил красные курительные свечи. Замечательно, что во время игры на бишкуре перед играющим всегда зажигают красные курительные свечи. Ганлин – духовой инструмент, состоящий также из трех частей, причем средняя часть делается из берцовой человеческой кости, а две конечные – из серебра.
Передняя часть ганлина обыкновенно бывает несколько сжатою и на одной из своих сторон имеет два отверстия, носящие название ачжинай морин хамырыйн нухэ, т. е. лошадиные ноздри. Звуки ганлина долженствуют напоминать собою ржание мифического коня ачжинай морин, который переносит верующих из этого мира в блаженные обители Сукавати. Буре – большая медная труба приблизительно в сажень длиною и ухэр-буре – такая же медная труба длиною сажени в две с половиною; рычание ее включает лишь самые низкие басовые ноты и производит потрясающее действие на нервы. О происхождении этих трех последних духовых инструментов рассказывается, что когда Падма-Самбаву, буддийского вероучителя, пригласили в Урджан[58],то он отказался идти туда по той причине, что (в Индии) он не мог слышать ржания ачжинай морин, а во-вторых, – рычания небесных слонов. Индийские поклонники Падма-Самбавы, непременно желавшие видеть у себя этого святителя, изобрели тогда ганлин для подражания ржанию лошади и буре – для подражания реву слона.
На следующем за монастырем Тугурюгин-догын переходе поперечно залегавшие горные кряжи Боин-гэче открыли нам обширный горизонт к югу. Вблизи, слева, резко выступали горы Дэлгэр-хангай, справа – Ахыр, а между ними извивалось каменистое русло, скрывавшееся в том же полуденном направлении. Неизмеримо дальше – насколько только хватал глаз – вырисовывался силуэт восточной оконечности Монгольского Алтая – Гурбун-сайхана, к которому мы так стремились. Местность по-прежнему носила пустынный характер.
Спустившись в долину, мы ускоренно проследовали расстояние, отделявшее окраину гор от Онгиин-гола, и на береговой террасе последнего, вблизи монастыря Хошун-хит, устроились биваком.
Несмотря на свое значительное протяжение – до ста пятидесяти верст – Онгиин-гол в феврале месяце стоял без воды. На этот случай прибрежные обитатели роют колодцы, которые, обыкновенно, не глубоки: пять – семь, редко более, футов [1,5–2 м]и с хорошей пресной водой. Впрочем, вдоль речки встречаются нередко богатые родники, выдающие свое присутствие издали блестящей ледяной поверхностью.
Речка Онгиин-гол берет начало в Хангае, в юго-восточной окраине этих гор; в верхнем и среднем течениях она стремительно несется на юго-восток, а в нижнем – прямо к югу, впадая в озеро Улан-нор. В осмотренном нами нижнем течении долина Онгиин-гола занимает в ширину от полутора до двух верст, с каменистым руслом, извивающимся то посредине, то у одного из боков, в большинстве случаев обставленных высокими, до семидесяти футов [до 20 м], обрывами.
Невысокие береговые террасы Онгиин-гола местами покрыты низкорослым тальником (Salix), местами серебристым дэрэсуном (Lasiagrostis splendens); возвышенные же – хармыком (Nitraria Schoberi) и другими колючими кустарниками. Замечено вообще, что лучшая растительность по Онгиин-голу сосредоточивается там, где долину сжимают горные массивы, и наоборот – большая пустынность сопровождает речку в открытой равнине. Животная жизнь та же, что и прежде. Из зверей мы наблюдали волков, лисиц, монгольских цзеренов, зайцев и мелких грызунов; а по части птиц – прежних больших и малых соколов, сарычей, сыча, черного ворона, изредка орла-беркута, впервые отмеченную ныне в окрестностях Хошун-хит пустынную сойку (Podoces hendersoni), рогатых жаворонков (Otocorys), вьюрков, больдуруков и немногих других.
Северная караванная дорога пересекает Онгиин-гол у монастыря и на всем дальнейшем протяжении к югу идет вдоль правого берега до крутого заворота речки на запад, где дорога вновь пересекает Онгиин-гол и вступает в северные отпрыски системы Монгольского Алтая.
По внешнему виду Хошун-хит довольно богатый, красивый монастырь с целым рядом белых субурганов-надгробий[59], расположенных севернее храмов, за исключением главного субургана с изваянием будды внутри, стоящего вблизи и выделяющегося своим шпицем с изображениями луны, солнца и пламенеющего огня премудрости – нада. С южной стороны храмов прилегает красивая китайской архитектуры башня с крепостной вышкой, с которой ламы любуются окрестностями.
Постоянный состав этого монастыря исчисляется в двести монахов, а в период летних хуралов – до пятисот. В наше пребывание настоятель монастыря шанцзотба отсутствовал; его заменял энергичный, строгий да-лама, явившийся ко мне с визитом и сообщивший немало интересных сведений. До появления да-ламы наш лагерь осаждался назойливыми ламами, пристававшими со всевозможными просьбами. С приходом же к нам да-ламы, с его громким возгласом: «Ламы, по местам! Это не китайский торговый караван!» – ламы в страхе быстро исчезли, попрятались и, как мыши, из-за углов показывали свои бритые головы.
Да-ламу мы угостили «обычным» чаем, за которым, между прочим, наш гость деликатным образом осведомился, заплатила ли Россия Японии контрибуцию? Получив должный ответ, словоохотливый монах заметил: «На какие же средства Япония будет устраиваться и обновляться, ведь она все свои сбережения истратила на войну? У России же, и денег и прочих богатств еще очень много. Все наши предания говорят о неисчислимых богатствах Российского государства хотя бы потому, что главные источники рек, питающих драгоценное озеро Байкал, так сказать, источники наших монгольских богатств, сплавляются по рекам, уходят вниз во владения России». Призывный звук раковины на молитву прекратил мою беседу с монахом, отправившимся участвовать в вечернем богослужении.
Если Хошун-хит богат снаружи, то внутри он еще несравненно богаче как по отношению библиотеки, так и по отношению металлических и писанных бурханов – изображений божеств или вообще всей обстановки храмов.
С разрешения да-ламы мы могли не только осмотреть храмы, но даже и присутствовать при отправлении ламами утреннего хурала, который продолжался несколько часов, с перерывом. Во время перерыва ламы выходили подышать воздухом, а молодежь, кроме того, порезвиться, побегать. Наше присутствие вначале смущало лам, но спустя некоторое время они освоились и, почтительно приблизившись, вступили с нами в разговор, интересуясь нашею внешностью и одеянием, но, кажется, больше всего вопросом: куда мы следуем – в Лавран или Лхасу?
С их точки зрения, большому богатому каравану, каким они, очевидно, считали наш караван, другой дороги, как в один из знаменитых указанных центров, нет. Со своей стороны, при постоянных встречах с ламами я невольно поражался количеству духовенства в Центральной Азии вообще, хотя в Тибете его еще того больше.
«Если под духовенством Северной Монголии разуметь всех лиц, принявших духовное звание и священные обеты, – пишет профессор Позднеев[60], – то оно составит такой многочисленный класс в Халхе, что охватит более пяти восьмых всего халхаского народа. Явление это, кажущееся поразительным на первый взгляд, обусловливается до некоторой степени самим учением буддизма. Дело в том, что Будда Шакьямуни всегда признавал единственным средством для спасения полное отречение человека от мира, презрение ко всему мирскому и исключительную деятельность человека на пользу духа. Таким образом, по основному и первоначальному учению Будды, все его последователи должны были быть отшельниками – аскетами».

Пост и молитва, воздержание от всякой угоды плоти остались основными требованиями религии, и притом, чем более примет человек обетов воздержания, тем вероятнее его спасение, ибо ни одна из добродетелей не может сравниться с добродетелью обетов. «Добродетель от поднесения драгоценностей победителям врагов не стоит и одной сотой, даже тысячной части против добродетели единого соблюдения поста».
Самое учение Будды разделяется на три части: высшее, среднее и низшее. Изучать то или другое учение и, следовательно, усваивать его себе человек может только после принятия соответствующих обетов; не приняв же посвящения, читать священные книги почитается греховным. Это положение, всецело соблюдаемое у современных монголо-буддистов, служит одной из главных причин, по которым монголы принимают на себя духовное звание и посвящают ему своих детей еще в младенчестве. Не будучи посвящен, ребенок не имеет права читать священных книг, а, следовательно, не только приготовляться к высшим ступеням священства, но и знать основательно правила своей религии.
Возникающее отсюда чрезмерное увеличение монашества в Халхе[61] должно было бы, по-видимому, отразиться на благосостоянии этой страны и вызвать собою ограничение со стороны китайского правительства, тем более что последнее искони держалось правила об освобождении духовенства от всякого рода податей, повинностей и налогов. Но китайцы являются довольно своеобразными по своей политике: по-прежнему не чинят притеснений духовенству, лишь бы ламы имели у себя грамоты на духовное звание.
Ни селений, ни городов, по нашим понятиям, в Монголии нет; здесь их заменяют монастыри, являющиеся не только средоточием богослужений, но часто и общественных и торговых центров и центров управлений. Монастыри устраиваются в лучших, удобных, обыкновенно живописных местностях, преимущественно в долинах рек, горах и проч., иногда по соседству друг с другом. В данном случае, например, верстах в восьми вверх по течению, по словам монголов, красуются еще два небольших монастыря, расположенные почти один против другого на обоих берегах Онгиин-гола.
Еще издали, подъезжая к монастырю, можно любоваться красивыми, разноцветными, иногда богато раззолоченными крышами храмов, макушками ступ; реют разные флаги, мелодично звонят колокольчики. То окруженные, то нет стеной, монастыри представляют собою нагромождения маленьких двориков с кельями монахов, разбитые на улицы и переулки с возвышающимися посередине или сбоку храмами, часовнями, чайтьями, дворцами перерожденцев и старших лам. Храмы, по большей части оригинальной тибетской архитектуры, представляются особо величественными и прекрасными, особенно если стоят на зеленых лужайках; около них чистота, тишина, только мелодично позвякивают привешенные к узорчатым крышам колокольчики, шуршат флаги, да разносится запах курительных свечей.
Внутри храмов таинственный полумрак, дым курений, масса свешивающихся сверху икон, покровов, балдахинов, шарфов, различных украшений; вдали алтари, статуи Будд и бодхисатв, иногда колоссальной величины, иногда высокохудожественной работы, перед ними мерцают лампады. Во время богослужений ламы сидят рядами и хором читают или поют слова гимнов, играет струнный оркестр. Рано утром раздается заунывный протяжный звук раковины, в которую дуют, как в трубу; из разных концов, из маленьких двориков появляются желтые и красные фигуры монахов, идущих медленно, важно, перебирая четки; они тихо обходят вокруг храма, совершают круговращение и длинной лентой пробираются в широко открытые врата храма, которые представляются черной пастью.
Вот они расселись по своим местам и уставщик низким-низким басом начинает петь хвалебный гимн Победоносному Будде; начинается обычное ежедневное богослужение. Но в другое время бывают в буддийских монастырях и пышные торжественные богослужения, с возжжением тысяч светильников, с грандиозными ярко-красочными процессиями. Совершаются на особо приготовленных площадках постановки мистических танцев, так называемых «дам», которые, в случае хорошего исполнения, всегда вызывали восторг видевших их европейцев искусством сочетания красок, действа и ритма танца с музыкой и ритмом всего обряда. Совершаются и более сложные и таинственные тантрийские обряды, присутствовать на которых могут только одни посвященные[62].
При Хошун-хите имеется небольшой торговый центр в виде китайской колонии в десять – двенадцать человек, приютившихся в семи юртах, наполовину занятых товарами, наполовину отведенных под жилье. Китайцы снабжают монголов не только предметами первой необходимости, но и шелковыми материями, и всевозможными бусами, равно серебряными с цветными камнями серьгами, кольцами, браслетами и мн. др. Взамен же всего этого они получают сырье, пушнину, а также и домашних животных, в особенности баранов, которых часто китайцы держат годами на даровых монгольских пастбищах.
Китайские торговцы – своего рода пауки, оцепившие страну номадов сложной сетью паутины. Монгол, положительно, ставит свое существование в зависимость от китайца – и в дороге, и дома. В дороге монголу нужны деньги, дома – чай, табак, далемба[63], бязь и проч., всем этим, по первому требованию китаец наделяет состоятельного монгола, предъявляя ему раз в год требование на сырье и пушнину или на баранов.
Хошун-хитские китайцы, к которым мы достаточно присмотрелись, проживали неподалеку от нашего лагеря.
Первый день пребывания при Хошун-хите стояла отличная ясная погода, давшая возможность произвести ряд астрономических работ для определения географических координат этого пункта; абсолютная же высота местности выяснилась из ряда барометрических отсчетов, записанных в течение двух дней, в установленное время. Скажу вкратце, что монастырь Хошун-хит расположен на 4100 футов [1250 м]выше уровня моря или, говоря иначе, ниже Урги на 250 футов [около 70 м].
Со второй трети февраля весенние проблески тепла давали о себе знать чаще и чаще. Песнь жаворонков (Otocorys) стала звонче и продолжительнее; порою эти птички, сцепившись коготками, ожесточенно дрались; сколько мне приходилось наблюдать, вступали в бой исключительно самцы, вероятно, из-за своих подруг. Сарычи также проявляли возбужденность, поднимаясь высоко и оглашая прозрачный воздух ликующими звуками.
Приближаясь к Монгольскому Алтаю, мы обнаруживали большую, нежели прежде, интенсивную деятельность выветривания, сказывавшуюся как на покровах массивов, так и на обломочном материале, гальке, в множестве залегавшей на поверхности долин или ущелий. В зависимости от формы и твердости гальки, от большей или меньшей крупности гравия или песка, округляющего и шлифующего эту гальку, в зависимости, наконец, от времени воздействия атмосферных агентов и песка на означенные горные породы, эти последние перетираются, сглаживаются, обтачиваются и часто видоизменяются до уродливых или, наоборот, красивых фантастических форм.
Во время движения по такой местности много раз остановишься, поднимешь тот или другой камешек, полюбуешься им, прочтешь на нем направление господствующих ветров, затем или возьмешь в карман, или выбросишь. На столике, обыкновенно, геологические образцы, как равно образцы и других отделов естествознания, складывались в группы. Обточенная, отшлифованная, с затейливыми очертаниями галька часто привлекала внимание даже наших гренадер и казаков, набиравших ее целыми карманами и приносивших к нам в палатку. Таким образом по части выветривания, шлифования и пустынного загара удалось собрать самые типичные, характерные экземпляры, в целом составившие значительную коллекцию. В последние дни экспедиция двигалась особенно успешно, так как следовала большими переходами. Казалось, вид на вершины Гурбунсайхан придавал отряду новые силы. Пятнадцатого февраля мы уже прибыли в урочище Шовангын-хундэ, в соседство горы Унэгэтэ, окаймленной саксаулом[64], послужившим для нашего лагеря отличным топливом. С ближайших холмов неслись голоса скалистых куропаток (Caccabis chukar), нарушавших тишину монотонной темно-серой пустыни.
Наш приход сюда совпал со временем, когда ожидали чиновников-китайцев, долженствовавших прибыть из Улясутая в роли судей над провинившимся монголом. Тем не менее, при встрече с нами местные старшины тотчас собрались и любезно предложили экспедиции воспользоваться выставленными для китайцев юртами. Так как о следовании через этот район нашей экспедиции старшине также было сообщено, то мы с удовольствием воспользовались уртоном и очень быстро устроились биваком. Вечером у костра за чашкой чая словоохотливый старшина поведал нам историю уголовного преступления, в свое время вызвавшего переполох среди незлобивых монголов. В этом самом урочище год тому назад произошло следующее. В обратную нашему направлению сторону проезжала партия, человек восемь монголов, расположившихся, как и мы теперь, на ночлег.
Сидя вокруг костра, путники мирно беседовали, как вдруг один из них возвысил голос и стал наступать на товарища, молодого монгола, очень остроумно подшутившего над первым. И на этот раз глупый обиженный собеседник принужден был выслушать еще большее глумление, отчего рассвирепел самым ужасным образом и незаметно исчез. Прочие монголы сильно смеялись, молодой парень был героем вечера. Не прошло и нескольких минут, как задорный монгол возвратился с палкою в руках и, приблизившись сзади, со всего размаха ударил парня по голове. Удар был так силен, что молодой монгол умер на месте. Товарищи пришли в ужас и с проклятьем схватили убийцу. Последний, видимо, сильно струсил и вопил, что никогда не собирался убить человека, а лишь только хотел сделать ему больно, чтобы он, «мальчишка», не позволял себе в будущем спорить и смеяться над старшими.
Под покровом ночи монголы долго обсуждали свое положение, наконец, завьючив на верблюда труп, отвезли его в ближайшие холмы и похоронили в песок. Наутро, как ни в чем не бывало, компания монголов отправилась своею дорогою. Со мною по-прежнему продолжал следовать и монгол-чиновник, который все видел и который обо всем поведал в управлении Тушету-хана. Вот тут-то и арестовали как самого убийцу, так и его спутников, и передали дело в законные руки китайцев, которых ожидали сюда – на место преступления.

Зная монголов вообще, не трудно догадаться, какой печалью должна была отразиться весть о приезде китайских судей, грозившем, как всегда в таких случаях, тяжело отозваться на кармане обитателей Монголии, которые, строго говоря, довольно миролюбивы и очень далеки отуголовных преступлений. Если же подобное явление все-таки имеет в Монголии место, то оно совершается или нечаянно или же, как теперь, в минуту страшного гнева и раздражения.
Лежавшие к югу от Унэгэтэ высоты открыли нам еще более контрастный силуэт Гурбун-сайхан, протянувшийся в поперечном направлении. Между этими высотами и хребтом «Три отличных» (Гурбун-сайхан) раскинулась обширная долина, пересеченная холмами, грядами и вклинившимися между ними второстепенными котловинами с ясно выраженными бортами, выделявшимися красным оттенком. По дну котловин залегали бугристые, одетые саксауловою зарослью пески, приютившие монголов, пасших так называемых «богдоханских», или императорских верблюдов числом свыше тысячи голов.
От этих монголов мы должны были принять угощение в виде кирпичного чая, приправленного верблюжьим молоком. Пустынные обитатели были хорошо осведомлены о Балдын-цзасакском хошуне, кочевавшем в области впереди лежащих гор Монгольского Алтая; знали они также и самого управителя, Балдын-цзасака, слывущего в окрестности за хорошего, славного старика. Здесь же мы случайно встретили и одного из обитателей указанного хошуна, богатого монгола, следовавшего в Ургу и давшего нам практический совет: держаться его свежих следов, ведущих в то именно ущелье, по которому нам предстояло подняться на перевал Улэн-дабан.
Среди песков и зарослей саксаула в полдень было очень тепло. Открытая и освещенная солнцем поверхность песка нагрелась до +16°С.
Саксаульные воробьи (Passer ammodendri stoliczkae) громко щебетали, а одинокий серый сорокопут (Lanius mollis [Lanius exeubitor]) отлично пел; заметив наше присутствие, эта умная птица смолкла и улетела, не пустив к себе в меру выстрела. Из других пернатых в этой местности мы по-прежнему много наблюдали больдуруков (Syrrhaptes paradoxus), а из млекопитающих впервые здесь встретили антилопу хара-сульту (Gazella subgutturosa) и крупную песчанку (Gerbillus giganteus [Rhombomys opimus – большая песчанка]), выдававшую себя громким писком.
Из наиболее глубокой котловины по затейливо обдутым красным хан-хайским отложениям[65] мы поднялись на хрящеватую возвышенность, на которой резко выражена кукухотосская дорога. По этой дороге мы прошли несколько верст и расположились биваком у прекрасного ключа Тала-хашата. Воображаю, как хорошо должно быть здесь летом, каким уютным уголком для путешественников представляется тогда этот богатый родник, с шумом расплывающийся серебристыми лентами по скату, одетому изумрудным лугом. Рядом со случайным человеком тут хорошо устраиваются пролетные и гнездящиеся птички и во множестве летают разноцветные бабочки, или украдкою по утрам и вечерам пробираются на водопой осторожные, легкие газели.
Даже и теперь здесь чувствовалось некоторое оживление и уютность, даже и теперь ключевой скат был свободен ото льда, сплошною корой залегавшего по озеровидной равнине. Ключ выбегал из земли сильной струей, чистейшей, как кристалл воды, с температурой +1,4°С, весело журчавшей по крутизне ската.
От Тала-хашата открывается широкий вид на Монгольский Алтай, на хорошо знакомый мне еще по предыдущему путешествию массив Арца-богдо, с его характерными воронкообразными вершинами. Туда как раз и убегала большая извилистая дорога, в соседстве которой залегает колодец Чацеринги-худук – астрономический пункт Монголо-Камской экспедиции. Теперь по этой дороге тащился большой торговый караван, везший в Куку-Хото кожи, шерсть и другое сырье. Китайские верблюды выглядели страшно измученными, усталыми; не в лучшем виде были и проводники монголы, жаловавшиеся на стужу и бескормицу, из-за которых они лишились до десяти вьючных животных. Сравнительно с китайскими, наши верблюды считались хорошими, и мы совершенно безбоязненно смотрели на впереди лежащие горы.

Глава третья. Горы Гурбун-сайхан, ставка Балдын-цзасаба и следование к Эцзин-голу
Характеристика пути через горы Гурбун-сайхан: северный склон, перевал Улэн-дабан и южный склон. – Приветствие от Балдын-цзасака и наш лагерь в соседстве со ставкой этого монгольского князя. – Первое знакомство. – Частые свидания, переговоры о дороге на Эцзин-гол и о развалинах Хара-Хото[66]. – Экскурсия вглубь Цзун-сайхана. Бедность животной жизни. – Сборы в пустыню. – Горы Шара-хада. – Урочище Буктэ. – Безотрадная пустыня и первое впечатление при виде озера Сого-нор.
Величественный массив Гурбун-сайхан[67], к которому мы теперь приближались, состоит как бы из трех отдельных хребтов: западного – Барун-сайхан, среднего – Дунду-сайхан и восточного – Цзун-сайхан, расположенных на одном общем обширном и высоко поднятом пьедестале. В. А. Обручев, который в свое время также обратил серьезное внимание на такое резкое деление рассматриваемого массива в вертикальном направлении, справедливо полагает, что вертикальное простирание пьедестала над прилегающими долинами превосходит относительную высоту самого хребта, лежащего на этом пьедестале.
По мере приближения к Гурбун-сайхану горы вырастали; все яснее и ярче белел снег, покрывавший северные склоны Дунду-сайхана в их верхнем и среднем поясах. Передовые цепи – Аргалинтэ и Халга, продолжением которых на востоке служили отдельные вершины Буйлусэн, Дэн и Хучжар, заслоняли собою некоторые части главного массива и суживали горизонт. Растянувшись длинной вереницей по ковыльной щебневой степи предгорья, наш караван особенно выделялся на золотистом фоне пышной густой травянистой растительности. Эти прекрасные пастбища привлекали к себе не только монголов с их табунами лошадей, рогатого скота и баранов, но также и диких обитателей степей, быстрых, грациозных цаган-цзере (Gazella gutturosa) и хара-сульт (Gazella subgutturosa), которых мы во множестве наблюдали на нашем пути. Живя в постоянном соседстве с домашним скотом мирных кочевников, эти прелестные животные мало боятся людей, а потому держатся не очень строго и нередко позволяют любоваться собою, подпуская в меру хорошего выстрела. Таким образом без особого труда нами был добыт отличный экземпляр молодого самца Gazella gutturosa.
Пользуясь близостью стойбища должностного лица монгольской власти тусалакчи-цзасака, я на время оставил караван и заехал к нему с тем, чтобы заручиться местным проводником. Несмотря на то что сам тусалакчи находился в отсутствии – в Пекине, я был очень любезно принят его супругой, которая обещала всякое содействие и действительно в тот же вечер прислала нам проводника.
Дальнейший путь пересекал пригурбун-сайханскую степь, напомнившую мне, между прочим, по своему общему характеру степи Куку-нора; пройдя ее, экспедиция расположилась на ночлег в урочище Цаган-иргэ-буцэ с расчетом на следующий день перевалить хребет и спуститься в ставку монгольского князя Балдын-цзасака, где мы намеревались устроить довольно продолжительную остановку.
Упорно преследовавший нас в течение значительного периода времени резкий юго-западный ветер дул и на этот раз, но, по обыкновению, к вечеру стих. Омрачавшая воздух тонкая пыль была отброшена в долину, на прозрачном небе заиграла дивная заря. Зори Центральной Монголии вообще отличаются необыкновенной тихой прелестью. Чистый воздух способствует тому, что нежные переливы тонов выступают как-то особенно рельефно и создают неподражаемую по своему художеству картину. Долго, бывало, стоишь недвижимо и молча смотришь в сторону тускнеющего заката; краски ежеминутно меняются, переходя от пурпурных к розовым и фиолетовым. Небо постепенно становится темнее, глубже, и одна за другою загораются звезды, сначала первой, затем средней и малой величины. Луна украдкою выглядывает из-за отдаленных, резких по очертаниям вершин гобийских высот. Природа земная засыпает, а небесная открывает свое заманчивое величественное царство.
На следующее утро, восемнадцатого февраля, мы выступили в дорогу с особенным подъемом духа, так как все были осведомлены, что остался лишь один переход до приятного, заслуженного отдыха на южных склонах Монгольского Алтая. Вид приближавшихся гор невольно радовал глаз. Теперь уже ясно выступали отдельные скалы, расщелины, альпийские луга. Еще несколько верст, и экспедиция вступила в узкое извилистое, отчасти засыпанное снегом ущелье, которое должно было привести нас к перевалу. Чем выше мы поднимались, тем круче и каменистее становилась тропинка. Внизу под нами на луговой террасе виднелись кэрэксуры (древние могилы) в виде каменных пирамид, по дну ущелья бежал, монотонно журча, ручей, а кругом стояла невозмутимая мертвенная тишина. Редкие кочевья монголов жались в пазухах гор, по унылым утесам держались одни красноклювые клушицы (Graculus graculus [Pyrrhocorax pyrrhocorax]), да кое-где вспархивали альпийские вьюрки (Montifringilla alpicola).
Перевал Улэн-дабан[68] расположен в западной части Дунду-сайхана и, как все перевалы не только в Монголии, но и вообще в Центральной Азии, увенчан обо. Вблизи обо на плоской, занесенной снегом вершине перевала мы были встречены вестовым монголом, который должен был указать экспедиции точное местонахождение ставки Балдын-цзасака. Здесь же мы произвели барометрическое определение абсолютной высоты Улэн-дабана, выразившееся в 7985 футах [2436 м], а затем стали осторожно спускаться к югу, где Гурбун-сайхан обрывается особенно крутыми и высокими утесами. Вблизи нас гордо, без взмаха крыльев, парил бурый гриф (Vultur monachus [Aegypius monachus]), а внизу, в стесненной части ущелья, с подтянутыми к туловищу крыльями стрелою пронесся мощный сокол типа Gennaia [Falco].
Оставив ущелье, мы переменили курс на восток и стали продвигаться вдоль южного подножья скалистых гребней массива, пересекая многочисленные узкие овраги и лога, которые предательски скрывали расстояние. Лучший монастырь балдын-цзасакских владений, Хошун-хит, приютился на правой береговой террасе глубокой балки. Когда мы проходили мимо, ленивые, апатичные ламы оставили свое убежище и поднимались на приветливые горные скалы, чтобы погреться на теплом весеннем солнышке. Обширная котловина, примыкающая к южным склонам Барун– и Дунду-сайхана, была покрыта сплошным снегом и ограничивалась на далеком южном горизонте плоскими горами Ихэ– и Бага-аргалинтэ.
Наши усталые верблюды тащились вперед очень медленно, все мы с нетерпением ожидали, когда, наконец, покажется ставка местного управителя. Вдруг совершенно неожиданно, словно из земли, вынырнули два всадника: один из них был участник экспедиции – казак Бадмажапов, командированный мною еще с перевала вперед с приветствием монгольскому князю, а другой – чиновник Балдын-цзасака, привезший мне поклон своего начальника вместе с голубым хадаком и приглашением на чашку чая. Через несколько минут, обогнав усталый караван, мы вступили в урочище Уголцзин-тологой, где на приветливом лугу уже стояли две юрты и голубая палатка, предусмотрительно приготовленные для участников экспедиции. Это видимое внимание к нам – путешественникам – и доклад Бадмажапова искренне порадовали меня, и я с особенным удовольствием отправился пить чай к гостеприимному Балдын-цзасаку.
Состоящая из четырех юрт княжеская ставка была расположена восточнее, в расстоянии почти версты от нас, в небольшой лощине и несколько скрыта от глаз. У первой, предназначенной для гостей юрты нас любезно встретили чиновники, которые тотчас по входе в юрту усадили меня на почетное место; перед моим мягким сиденьем из ковровых подушек незаметным образом появился маленький столик с угощением – чашкой монгольского (с молоком и маслом) кирпичного чая и целым блюдом превкусных хлебных лепешек, сахара и изюма. Вскоре показался и радушный хозяин, прифранченный парадным одеянием.
Маленького роста, с приятным, открытым, не лишенным некоторого благородства лицом и живой общительной речью, добродушный старичок Балдын-цзасак с первой встречи возбудил во мне чувство самой искренней симпатии. Обменявшись приветствиями, князь стал расспрашивать меня о ходе путешествия, о страннической жизни, о нашей родине и припомнил, как в мое предыдущее путешествие мы с ним заочно переговаривались через посредство его чиновников и моего незаменимого, тогда юного спутника Цокто Гармаевича Бадмажапова. Приближение каравана к месту лагеря прервало нашу дружескую беседу и, распрощавшись со своим новым приятным знакомым, я поспешил навстречу первому подходившему эшелону.
К вечеру того же дня князю были посланы подарки.

С первого дня расположения нашего бивака при урочище Уголцзин-тологой мы наладили барометрические и другие регулярные метеорологические наблюдения, наметили ряд необходимых астрономических определений и желательных геологических и зоологических экскурсий в горы. Все, казалось, благоприятствовало нам, ощущалось лишь маленькое неудобство от отсутствия воды, которую приходилось заменять талым снегом, залежавшимся под тенью горных выступов, и малого количества дров. Абсолютная высота Уголцзин-тологоя выразилась в 6160 футов [1878 м]. Весна постепенно, как бы боязливо, вступала в свои права: ночная минимальная температура до конца февраля упорно держалась от –15 до –12°С, первый раз днем[69] в тени, записано было показание термометра выше нуля (+0,8°С) только 27 февраля[70].
Горы Цзун-сайхае заметно темнели, освобождаясь от снежного покрова, который уже почти исчез в примыкающей к ним с юга котловине Устын-тала. В пасмурные дни снежные тучи убеляли морщины прилежащих гор, но этот свежий снег обыкновенно скоро испарялся. Воздух, вообще говоря, был крайне сух. В самом конце февраля в ущельи ближайших гор, в колодце, нами были обнаружены креветы, державшие себя весьма оживленно. Но больше всего чувствовалось приближение весны на утренних зорях, в особенности в тихую ясную погоду, когда до слуха долетал отрадный голос ушастого жаворонка (Otocorys brandti).
Первые два-три дня нашего пребывания в Уголцзин-тологое мы были почти исключительно заняты переговорами с князем относительно предстоявшего пути к Эцзин-голу. И князь, и его два советника старались убедить меня, что в указанном направлении нет дорог, что тут только пустыня – то каменистая, то песчаная, что даже самые лучшие верблюды едва ли будут в состоянии дойти до Эцзин-гола. В дальнейшем следовании экспедиции от Эцзин-гола на Алаша-ямунь, по словам Балдын-цзасака, нам придется иметь дело с Торгоут-бэйлэ. Во владения же этого последнего, в конце концов, взялся доставить экспедицию мой приятель, кстати сказать, за высокую плату.
Когда вопрос о нашем дальнейшем пути был таким образом решен положительно, и даже назначено первое марта как день выступления каравана в дорогу, Балдын-цзасак не преминул спросить меня: «Почему вам во что бы то ни стало желательно идти именно на Эцзин-гол, а не прямо в Алаша-ямунь, куда и дорога хорошая, и времени потребуется меньше, а потому меньше трудов и лишений и меньше материальных издержек; вероятно, – добавляет князь, – на Эцзин-голе у вас предвидится какой-нибудь большой интерес?!» – «Да, – ответил я Балдын-цзасаку, – вы правы: там имеются очень любопытные развалины старинного города!» – «А вы откуда это знаете? – вопрошает мой собеседник. – «Из книг наших путешественников и из писем моих друзей, – отвечаю я. – «Вон оно что, – глубокомысленно протянул князь. – Я слышал о Хара-Хото от моих людей; они бывали там; ведь действительно существует город, обнесенный стенами, но он постепенно засыпается песком.
Говорили мне, что там на развалинах бывают торгоуты и копают, и ищут скрытых богатств. Слышал я, что будто бы кое-кто и находил кое-что. Вот пойдете, увидите, а может быть, что-либо замечательное и сами найдете. Вы, русские, все знаете, и только вам под силу такие работы. Мне кажется, торгоуты не станут препятствовать вашей дороге на развалины, как не будут препятствовать и самим раскопкам; хотя должен заметить, что до сих пор никто, подобно вам, не был там, и торгоуты до последнего времени тщательно скрывают Хара-Хото и старинный путь через этот город в Алаша-ямунь». «Пожалуйста, – в заключение сказал Балдын-цзасак, – не говорите, что я вам сообщил о развалинах, а просто заявите, что «сам знаю» и что строго спросил у Балдын-цзасака проводников и верблюдов для того, чтобы прибыть в ставку Торгоут-бэйлэ». Наши улыбающиеся взгляды встретились, я привстал и крепко пожал обе руки моего приятеля.
Теперь я более, нежели прежде, лелеял мечту не только попасть на развалины, но и поработать на них, и при счастьи успешными находками древностей порадовать Географическое общество – тех из моих друзей, которым перед отъездом в путешествие я доверил мой затаенный план.
С моим соседом Балдын-цзасаком я виделся ежедневно; он познакомил меня со своей семьей, которая состояла из жены – очень представительной монголки с крупными, но приятными чертами лица, трех сыновей и трех дочерей. Два старших сына – болезненные, слабые молодые люди – служили ламами; один – при княжеском хошунном монастыре, другой – в Урге; младший их брат Цюльтум – красивый, здоровый, лихой монгол, произведенный китайским правительством в дворянское достоинство, был мне особенно симпатичен. Бывая часто на экспедиционном биваке, старый князь особенно интересовался нашим вооружением и не скрывал страстного желания приобрести револьвер и винтовку Бердана.
Оружие, вообще говоря, – страсть номадов. За оружие номады готовы пожертвовать почти всем из своего неприхотливого достояния. Когда я подарил Балдын-цзасаку револьвер и пообещал подарить еще и желанную винтовку, с условием, однако, чтобы он уступил мне его старинное монгольское ружье, старик так обрадовался, что забыл свое нездоровье, на которое он до тех пор сетовал, глаза его заискрились, он схватил сначала одно, затем другое из моих ружей и стал ими прицеливаться, а потом всячески упражняться; устав двигаться, князь присел, не выпуская ружей, и начал их словно ласкать, нежно проводя рукою по стволам. На мой вопрос к Балдын-цзасаку: «Каковы наши ружья?» – князь улыбнулся, поднял вверх большой палец правой руки, как знак высшей похвалы. В заключение моему приятелю была показана русская стрельба из ружей и револьверов: князь и его свита пришли в дикий восторг!
Жизнь на нашем биваке проходила в непрерывных занятиях; закончив деловые разговоры с Балдын-цзасаком и произведя астрономические наблюдения, мы занялись сортировкой и укладыванием коллекций, три ящика которых вместе с отчетами и письмами были отправлены на родину.
Очень часто среди рабочего дня нас осаждали родные и близкие монгольского князя, а то и просто соседи. Всех этих местных обитателей привлекал наш незаменимый в путешествии музыкальный инструмент – граммофон. В этом случае номады превращались в восторженных любопытных детей. Они смеялись, стремились залезть головою в рупор, спрашивали, кто поет, и особенно восхищались пластинками, где слышался лай собак и пение петуха! Много раз просили воспроизвести подражание ржания лошади, мычание или крик верблюда, блеяние барана и проч. Оперные вещи им совсем не нравились, но исполнение русских хоровых песен с аккомпанементом гармоники или пластинки, передававшие военные марши и проч., также вызывали бурную радость.
За все наше десятидневное пребывание в урочище Уголцзин-тологой, нам только однажды удалось совершить экскурсию вглубь соседних гор. Скалистая часть Цзун-сайхана, куда мы отправились с геологом А. А. Черновым и двумя препараторами, в своих наиболее выдающихся частях, как например, вершина Хайрхан, подымалась до 8200 футов [2500 м] над уровнем моря и характеризовалась крупными галечными ущельями, в которых все же находила себе место травянистая и полукустарниковая растительность, предпочитавшая вообще мягкие скаты и террасовидные части долин, обеспечивавшие прокормление многочисленных стад Балдын-цзасака. По сухим руслам рек во многих местах имелись колодцы с отличной родниковой водой.
Представляя, таким образом, прекрасные пастбища, горы Цзун-сайхан отличались умеренным и, скорее, даже прохладным климатом в летние месяцы, и давали возможность как диким, так и домашним животным спасаться от изнуряющей жары, царящей летом в соседней Гоби. В смысле зоологических коллекций наша экскурсия оказалась крайне неудовлетворительной; из зверей мы видели, да и то на порядочном расстоянии, лишь волка и антилоп (Gazella sudgutturosa) и добыли интересную скалистую пищуху (Lagomys). Из птиц же наблюдали прежних бурых грифов (Vultur monachus [Aegypius monachus]), соколов (Hierofalco et Tinnunculus [Cerchneis]), альпийских вьюрков (Montifringilla alpicola), филина (Bubo), который взлетел с горного ската и вскоре скрылся из глаз, но добыть удалось только завирушку (Spermolegus fulvescens [Prunella fulvescens]). Зато геолог, как всегда, был щедро вознагражден обстоятельным сбором пород, слагающих восточную часть массива Гурбун-сайхан.
В ближайшей окрестности нашей стоянки по части пернатых было также бедно по количеству особей и по разнообразию их. Самым обыкновенным посетителем экспедиционного бивака был черный ворон (Corvus corax), который неделимой парой появлялся с утра, проводил с нами весь день, а на ночь улетал в ближайшие горы; затем маленькое оживление вносили вьюрки (Montifringilla alpicola et Pyrgilauda davidiana) да саксаульная сойка (Podoces hendersoni). Крупные соколы и орлы, а также быстрокрылые больдуруки (Syrrhaptes paradoxus) показывались только на далеком расстоянии; хотя, впрочем, больдуруков мы нередко чувствовали, находясь и внутри юрты или палатки, так как эти птицы пустыни свое присутствие обнаруживали резким шумом крыльев или оригинальным звонким голосом.
Между тем время летело быстро; близился конец февраля, этого бурного, холодного месяца. По нашим наблюдениям, тихие дни встречались в виде исключения, обыкновенно же дули стойкие западные, с большим или меньшим уклонением к северу или югу, ветры, приносившие с собою тучи пыли, которая иногда, надолго омрачала атмосферу. Случалось, однако, и так, что новыми, более сильными порывами та же пыль уносилась вдоль гор. Во время монгольской, или гобийской бури положительно негде укрыться: ветер легко пронизывает войлочные жилища. Животная жизнь тоже замирает – все прячется, все затихает и, помимо шума бури, ничего не слышно кругом. Зато после бури наступает абсолютная тишина и следующий затем день на редкость хороший: солнце начинает сразу чувствительно пригревать; снег быстро испаряется; почуяв тепло, жаворонки (Qtocorys brandti [Eremophila alpestris Brandti]) поднимаются в небесную высь, и песня их звучит по-весеннему.
С приближением конца февраля приближался и день выступления каравана в дальнейший путь. Люди отряда, с фельдфебелем Ивановым во главе, энергично заканчивали ремонт походных принадлежностей и заготовку сухого бараньего мяса[71], так как, по словам монголов, впереди лежащая дорога до Эцзин-гола пролегала по пустынной и безлюдной местности. В свою очередь и мы, члены экспедиции, заканчивали отчеты и последние письма; словом, все приводилось в походный порядок. Накануне снятия бивака мы все положили последние камни – булыжники на вершину большого обо, сооруженного экспедицией в ставке Балдын-цзасака. Эта каменная пирамида должна была отмечать собою точное местонахождение астрономического пункта, нанесенного на карту путешественниками, а кроме того – напоминать монголам о продолжительной стоянке экспедиции Русского географического общества.
Холодным пасмурным утром первого марта мы снялись лагерем и в сопровождении симпатичного князя и его свиты направились на юго-юго-запад. Небольшая покатость вскоре привела караван в самую низкую часть прилежащей долины, к колодцу Бартан-худук. Здесь снега не было и в помине; температура воды в колодце в 1 час дня выразилась +0,2°С; в воздухе слышалось отрадное пение маленьких жаворонков (Pseudalaudula pispoletta Seebohmi [Calandrella rufescens]). Отсюда Балдын-цзасак должен был возвратиться к своему стойбищу, откочевавшему в соседние горы. Старик дружественно расстался с нами и на прощанье успел шепнуть мне на ухо: «Прощай, я уверен, что ты попадешь в Хара-Хото и найдешь в нем немало интересного». Еще несколько минут – и мой приятель исчез из вида: степные лошади вихрем понесли обратно ловких монгольских наездников.
Благодаря выдавшейся чистоте и прозрачности воздуха даль открывалась на большое расстояние. В полуденном направлении синели складки гор и пестрели дэрэсуном долины. Кочевники все еще жались к горам под защиту их циркообразных, обращенных к югу выемок.
Постепенно поднимаясь из впадины Бартан-худук, экспедиция в первый день своего следования втянулась в горы Аргалинтэ, сложенные из красных порфиритов и крупнозернистых гранитов, имеющих западно-восточное простирание, а во второй день пересекла названные горы и остановилась на замерзшем или, точнее, обледенелом ключе Нюдун-булык.
Отсюда мы совершили две небольшие охотничьи экскурсии в ближайшую горную группу Шара-хада в надежде добыть горных козлов (Сарга sibirica), что нам, к сожалению, не удалось. Осторожные звери не давали возможности подойти к себе в меру выстрела, а крутизна склонов и сопряженная с этим трудность хождения по острым камням создавали крайне неблагоприятные условия для успешного скрадывания. Один раз с биноклем в руках мне удалось всласть налюбоваться на красивых животных, проходивших вдали от меня у подошвы горы в таком последовательном порядке: впереди шла старая самка, за нею целой линией вытянулась молодежь, а в арьергарде замыкал движение старый опытный самец. Все звери, видимо, чутко прислушивались и присматривались к окружающему.
Несмотря на дальность отделявшего нас пространства, я не только стоял неподвижно, но даже старался не дышать, чтобы не нарушить цельности и естественности этой картинки дикой животной жизни. Вероятно, эта же самая компания горных козлов нами была вспугнута в первый день приезда на охоту, когда мы еще следовали вперед, к месту охотничьего лагеря. Козлы находились на выступе доминирующей вершины и, увидев нашу кавалькаду, смертельно испугались, пустились наутек и никогда потом не удалось нам подойти к ним незамеченными. Из птиц во время своей экскурсии, кроме красноклювых клушиц (Graculus graculus [Pyrrhoco rax pyrrocorax]), бурых грифов (Vultur rnonachus [Aegypius monachus]), соколов типа Tirmunculus [Cerchneis] и одинокой рыжебрюхой горихвостки (Ruticilla erythrogastra [Phoenicurus erythrogastra]), я не видел ничего.
С вершины Шара-хада открывался чудный широкий вид на все стороны. На юг далеко убегала пустынная равнина, постепенно исчезавшая в туманной дымке; с севера горизонт обступали горы, из которых резко выделялась группа Гурбун-сайхан, красиво и контрастно отливавшая нежно-белым свежевыпавшим снегом. Отсюда наиболее величественным казался пьедестал гор, тогда как самая ось хребта или его гребень представлялись соответственно очень малыми; в этом, впрочем, как я уже и заметил выше, заключается характерная особенность восточной, или гобийской части Монгольского Алтая.
К закату солнца третьего марта мы расположились биваком в урочище Хара-обо, несколько южнее большой дороги, к Куку-Хото[72] через Цзурумтай и Цохоныншили. Этой ночью я наблюдал на небе оригинальное красивое явление радужного пояса вокруг луны; с севера дул легкий ветерок, по-видимому, не достигавший высших слоев разреженной атмосферы, так как тонкие перистые облачка тянулись с юга.
Дальнейший наш путь пошел в юго-западном направлении, на пересечение крайне пустынной, жалкой щебнегалечной местности, перерезаемой грядами холмов или горок – с одной стороны, и сухими руслами между ними – с другой. На этой безотрадной поверхности земли повсюду валялись образцы многогранников, источенных и отшлифованных действием ветра и песка. Единственно, что отрадно оживляло грустный пейзаж, – это антилопы хара-сульты (Gazella subgutturosa), которых мы за один переход видели не менее сотни голов. Изредка также высоко в небе кружил или даже пролетал над нашим караваном, а то и просто опускался на землю вблизи монгольских стойбищ гриф-монах (Vultur monachus [Aegypius monachus]), имеющий в размахе крыльев свыше сажени.
Постепенно продвигаясь вниз по слабо выраженной покатости, мы вскоре стали встречать холмы то желтой, то красноватой глины, с обрывистыми скатами, выраставшие в мираже до огромных размеров; у подножья этих обрывов часто располагались колодцы, на одном из которых, Амын-усу, или Буктэ, экспедиция приютилась биваком. Стоянка выдалась отличной: корм для животных не оставлял желать ничего лучшего, вода также; вблизи самого лагеря протянулась полоса песчаных бугров с густыми зарослями саксаула, дававшими прекрасные дрова.
Весеннее тепло надвигалось заметно: на солнечных пригревах начали показываться первые жуки-долгоносики и пауки; в саксауловых зарослях местные воробьи (Passer ammodendri stoliczkae) оживленно чирикали, слышались голоса чечеток (Aegiothus linaria linaria [Acanthis flammea]), а в воздухе звонко раздавалась песнь хохлатого жаворонка (Galerida cristata leautungensis). Грызуны-песчанки, преимущественно крупные (Gerbillus giganteus [Rhombomys opimus]), то и дело с писком выскакивали из своих глубоких норок и, став на задние лапки, с любопытством взирали на окружающее. Живущие настоящими отшельниками, вблизи колодца, бедняки монголы специально занимаются ловлей этих грызунов, которых употребляют в пищу, уверяя, что их мясо гораздо нежнее бараньего. При помощи примитивных деревянных капканов искусный ловец может наловить в течение дня до тридцати маленьких зверьков. Получая таким легким путем подспорье в мясном довольствии, эти монголы, так же, как и алашанцы, умеют добывать себе без особых усилий и зерновой хлеб – сульхир (Agriophillum gobicum). В долине, прилежащей к урочищу Буктэ, растет довольно много сульхира, и я часто наблюдал уже обмолоченные копны этого пустынного растения, причем на месте оставалась одна лишь мякина.
За Буктэ местность вновь стала волнистой. Мы миновали саксауловую заросль, которая довольно порядочно мешала свободному движению, цепляясь за платье и обдавая соленой пылью, и вступили в самую низкую часть котловины. Здесь, среди пологих холмов, на песчаном грунте ясно обрисовывались следы хуланов (Asinus kiang [Equus hemionus]), заглядывающих в эти места с Эцзин-гола, где они, по словам монголов, довольно обыкновенны.
Теперь, как и прежде, мираж – этот злой дух пустыни – из отдаленных высот и горок возводит постройки самых причудливых, самых фантастических очертаний. Досаднее всего бывало смотреть в пустыне на обманчивые дрожащие озера, постепенно удалявшиеся от усталого, жаждущего путника.
Кое-где песчано-галечные русла сопровождались рядами корявых пустынных тополей (Populus euphratica), на которых усаживались обособленные пары черных ворон (Corone corone) и одиночка-галочка (Coloeus neglectus), которая между прочим была отмечена мною в урочище Баг-мото, или «Аллея деревьев», где мы расположились на ночь.
Встретивший нас на стоянке у колодца резкий юго-западный ветер сильно раскачивал старые развесистые деревья, осенявшие наше войлочное жилище, и создавал тот знакомый и давно неслыханный шум леса, по которому быстро соокучивается привычное ухо, в особенности во время путешествия в столь пустынной местности, как центральная Гоби. К вечеру, когда буря утихла, мы ясно услышали крик ушастой совы (Asio otus), а наутро, отправившись на охоту с двумя препараторами, я добыл пять отличных экземпляров этой довольно интересной птицы. Не лишне отметить, что совы держались компанией более десяти особей и что яркий солнечный свет, по-видимому, их не особенно беспокоил. Из прочих наблюдаемых или добытых здесь пернатых можно отметить: сычика (Athene bactriana), сорокопута (Lanius mollis [Lanius excubitor]) и жаворонка (Pseudalaudula [Calandrella]), звонко распевавшего свои весенние песни. В сухом каменистом русле П. Я. Напалковым были откопаны первые в этом году жуки.

Вблизи нашего бивуака проживали монголы, имевшие очень хороших верблюдов. В загородках из саксауловых деревьев ютились верблюжата, только что появившиеся на свет. Я с большим интересом следил за тем, с какою нежностью и любовью относились к этим косматым неуклюжим животным молоденькие девушки. Они с удивительною ласкою гладили верблюжат, а иногда даже, притянув доверчивую мордочку к губам, целовали их в самый нос.
Из дружеской беседы с соседними монголами я между прочим узнал, что намеченная мною дорога на Сого-нор через урочище Шиль-бис очень пустынна, длинна и менее интересна, чем другая – прямая и более короткая, на Торцо. После тщательного обсуждения мы решили избрать второй путь, в надежде скорее прибыть к Сого-нору и лишний день провести в близком теперь уже к нам, но пока все еще таинственном городе Хара-Хото.
В последующие дни, с седьмого по двенадцатое марта, экспедиции пришлось следовать по самой безотрадной, дикой пустыне. Бесконечной чередой сменяли друг друга лога, небольшие горные кряжи, долины.
От урочища Ихэ-гун мы пошли по большой караванной дороге, ведшей прямо к Сого-нору. К северу от этой дороги тянулась обширная равнина, замкнутая на горизонте массивом Ноин-богдо, отличавшимся зубчатым профилем; на юге, вдоль горизонта, возвышался горный кряж Хонгоржэ, к восточному крылу которого направлялись приходящие с севера сухие русла.
Ввиду того, что на нашем пути колодцы встречались чрезвычайно редко, нам пришлось несколько изменить порядок передвижения; переночевав у воды, мы теперь обыкновенно выступали довольно поздно – около полудня – и шли до заката солнца. Наутро, с зарею, снова снимались лагерем и таким образом только к обеду, то есть через сутки, вновь отдыхали у отрадного ключа. Эти послеобеденные, пустынные, безводные переходы были крайне утомительны, тем более, что весна и наступавшее тепло все сильнее и сильнее давали себя чувствовать. Стали появляться мухи, жуки; по земле кое-где ползали пауки, а одиннадцатого марта мы отметили и первую ящерицу из рода Phrynocephalus. Иногда встречное солнце томительно расслабляло нас. По сторонам ни зверя, ни птички – все абсолютно тихо и мертво, только ветер свободно гуляет на просторе, поднимая порою пыльные вихри.
Вообще, я должен отметить, что путь от Гурбун-сайхана до озера Сого-нора, или низовья Эцзин-гюла, на всем своем протяжении довольно пустынен и безотраден. Вода попадается только в сухих галечных руслах, выступая на поверхность земли в виде колодцев; водоносный горизонт проходит на глубине пяти-семи футов [1,5–2 м]. Из растительных форм преобладают саксаул, постепенно заменяющийся тамариксом, полукустарники и жесткие пустынные травы, охотно поедаемые только верблюдами. По моему мнению, это единственные животные, которые выдерживают знойный климат и скудность растительной пищи здешних мест.
Под вечер одиннадцатого марта, когда караван экспедиции особенно успешно шагал по слегка наклоненной к Сого-нору центрально-монгольской равнине, покрытой сплошной галькой, мы с удовольствием вперяли свой взор в серебристую полосу ближайшей к нам береговой части озера. При догоравших солнечных лучах, ярко скользивших по лону вод, в бинокль отлично виднелись стаи птиц, темной сеткой пролетавшие над открытой частью бассейна. Забывались усталость, голод и та пустыня, среди которой мы все еще находились. Какое-то особенное, высокое чувство охватывало всю вашу душу, вас самих и неудержимо влекло к месту, где жизнь весенней природы била ключом. Мы шли до сгущенных сумерек и остановились в виду Сого-нора, все еще ярко выделявшегося среди общего серого фона окрестностей. Показался наконец и своего рода маяк в пустыне – Боро-обо, сложенный на высоком северном берегу озера. Тихо спустилась на землю весенняя ночь. Небо зажглось блестящими звездами.
На следующий день нетерпение наше попасть на Сого-нор еще более увеличилось. Теперь ясно различались на горизонте нежно-белые или серебристые вереницы пролетавших цапель, лебедей или обособленно сидящих на воде чаек и крачек. Еще ближе – и мы заслышали голоса птиц, но само озеро уже понемногу стало скрываться береговыми увалами. Вот наперерез нашего пути, быстро пронеслось стадо газелей (Gazella subgutturosa), испугавших диких ослов, или хуланов (Asinus kiang [Equus hemionus]), в свою очередь карьером умчавшихся в сторону пустыни. С последней придорожной высоты открылась широкая полоса золотистых прибрежных камышей, среди которых привольно паслись табуны торгоутских лошадей. Наш караван, вероятно, заставил обратить на себя внимание: к одному из табунов с западной стороны подъехали два вооруженных всадника.

Глава четвертая. Низовья Эдзин-гола и развалины Хара-Хото
Весенний пролет птиц на Сого-норе. – Общая характеристика этого озера и низовья Эцзин-гола[73]. – Урочище Торой-онцэ. – Животная жизнь прилежащей долины. – Хошун Торгоут-бэйлэ; современный управитель Даши. – Открытие Хара-Хото, археологические находки и местное предание о гибели этого города. – Обмен визитами с Торгоут-бэйлэ на Эцзин-голе. – Последние дни и ночевка в Хара-Хото.
Итак, в разгар весеннего пролета птиц экспедиция вступила в бассейн Эцзин-гола и при урочище Торцо, в непосредственной близости двух пресных озерков, окаймленных высокими буграми, расположилась биваком. Наши озерки привлекли птиц, хотя и были открыты лишь наполовину, наполовину же еще были затянуты посиневшим ледяным покровом, который энергично таял, в особенности днем, на солнце, когда южный склон соседнего песчаного бархана нагревался до +40°С и выше. Между самим Сого-нором, также имевшим открытую воду только в ближайшем к нам юго-восточном заливе, и нашим лагерем залегал обширный высокий камыш; этот камыш скрывал массу второстепенных озерков, на одном из которых, а именно – отстоявшем от нас верстах в трех и простиравшемся до двух верст в окружности, мы сосредоточили свои охоты и весенние наблюдения над местной природой.
Необходимо заметить, что из Торцо прежде всего мы отправили своего переводчика в ставку Торгоут-бэйлэ, чтобы завязать сношение с этим князем, от которого в большой степени зависела успешность нашего дальнейшего движения к Хара-Хото. Сами же тем временем занялись наблюдением весеннего пролета и весенней жизни птиц, проходившей одинаково оживленно как на Сого-норе, так и на более близком, отмеченном выше, скрытом в камыше озерке. Последнее своей кипучей жизнью оживило и нас. Я всегда с большим удовольствием посещал это озерко, оно будило во мне лучшие воспоминания моего самого первого путешествия в общении с незабвенным Пржевальским и невольно переносило на берега Лобнора.
Как бывало на Лобноре, так и здесь, бредешь тихонько по камышу; среди однообразной тишины слышится какое-то жужжание, временами переходящее в шум или гул. Это ликуют птицы. Иногда ясно и раздельно доносятся возбужденные голоса уток. На горизонте везде трепещут и колышатся живые линии пернатых странников – то темные, то серебристо-белые, то сероватые. Изредка раздаются благозвучные музыкальные ноты, создающиеся лебединым полетом и неописуемо чарующие слух. Вот, наконец, с вершины холма открылась поверхность воды. Словно хлопья снега, вьются в воздухе черноголовые чайки (Chroicocephalus riclibundus [Larus ridibundus]). Всюду пестрят всевозможных оттенков утки, нырки, светлые крохали, темные бакланы; кулики совершенно отсутствуют, только одна пигалица-чибис с пиканьем носится своим шатающимся полетом. Многие гуси лежат, иные беззаботно стоят или ходят и кормятся. Подле гусей спокойно плавают лебеди, ловко полуныряя за пищей, словно утки. Насколько хватает вооруженный биноклем глаз – всюду бесконечное количество плавающих пернатых.
Выстрел всегда вызывает невообразимый переполох. Шум и крики удваиваются, а то и утраиваются; воздух темнеет и буквально кишит тучами испуганных прилетных гостей, несущихся по всем направлениям. Над убитой подругой долго вьются сотни других родственных ей птиц. Но вот солнце постепенно склоняется к горизонту, оживление на озере пропадает, лишь вблизи слышится мелодичное трещание камышовой стренатки и тонко-серебристая трель усатой синицы (Panurus biarmicus russicus). Вдали вьются коршуны, а вблизи описывает широкие круги орлан-белохвост. Там, над мелким камышом, плавно, беззвучно, словно дозором, пролетает коричневый лунь. Где-то глухо гукнет выпь, и опять все тихо.
Медленно возвращаешься на бивак, где уже весело горит костер и собравшиеся к огоньку товарищи оживленно рассказывают друг другу об экскурсиях и переживаниях весеннего дня.
В общем могу сказать, что юго-восточная часть Сого-нора, его темно-голубые полыньи, высокий камыш, скрытые в нем более мелкие озерки, обилие пернатых странников, пролетавших вереницами над серым запыленным горизонтом и положительно заглушавших своим всевозможным криком ближайшую окрестность, – все это вместе действительно живо напоминало мне весну, проведенную с экспедицией Н. М. Пржевальского на берегах Лобнора. Как тогда, так и теперь меня поражало то необычайное оживление, которое вносилось птичьим базаром. И там, и здесь меня одинаково притягивал к себе этот базар и заставлял целыми часами смотреть, любоваться на него. Глазам не верилось, что по соседству с вами, в каких-нибудь ста шагах, а нередко и гораздо ближе беззаботно плавают и резвятся, перелетая с места на место, стаи гусей, уток, лебедей, бакланов, турпанов, цапель, чаек и многих других. Все эти птицы живут, радуются, хлопочут для одной и той же цели – размножения. В разгаре перелета, даже ночью, лежа в палатке лагеря, чувствуешь повышенную энергию пернатых: то с резким шумом крыльев быстро проносятся над биваком утки, то с высоты неба раздаются голоса гусей, журавлей, то иногда среди ночной тишины гармонично льются чарующие звуки музыкального лебедя.
По показаниям, весьма достоверным, местных торгоутов и на основании наших личных предположений, началом весеннего пролета можно считать последнюю треть февраля месяца; время же, в которое мы пришли в низовье Эцзин-гола, – самым обильным, или валовым пролетом, в особенности по отношению к отмеченным выше плавающим птицам.
Двенадцатого марта, то есть в первый день наблюдений пролета птиц в бассейне Эцзин-гола, замечены: гуси серые (Anser anser), которые стая за стаей неслись к северу, хотя во множестве отдыхали и на местных озерках; в таком же большом количестве держались и чайки черноголовые (Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus]); значительно реже давали о себе знать лебеди (Cygnus cygnus), турпаны (Casarca casarca [Casarca ferruginea]), гоголи (Clangula clangula), уткй-нырки (Fuligula); что же касается до уток-крякв и уток-шилохвостей (Anas boschas et Dafua acuta [Anas platyrhyncha et Anas acuta]), то они были в числе преобладающих по количеству пролетных пернатых. В тот же день нередко показывалась на глаза чибис-пигалица (Vaneilus vanellus), да кое-где по вершинам бугров или кустарников довольно крепко сидели сорокопуты (Otomela isabellina [Lanius cristatus]), а у самого лагеря экспедиции с камышинки на камышинку или вершинку кустарничка то и дело перемещались чекканы (Saxicola pleschanca [Oenanthe pleschanca]).
Тринадцатого марта по-прежнему летели гуси, утки, а из вновь появившихся были: цапля серая (Ardea cinerea), орлан белохвост (Haliaetus albicilla), коршун черноухий (Milvus melanotis [Milvus migrans lineatus]) и чеккан соловый (Saxicola isabellina [Oenanthe isabellina]).
В ночь с тринадцатого на четырнадцатое марта особенно много летело с юга на север гусей, уток, лебедей, журавлей и, вероятно, других, молчаливо совершавших свой далекий путь, тогда как указанные птицы выдавали себя голосом. Днем четырнадцатого марта на наш бивак волнистым полетом прибыла белая плиска (Motacilla alba baicalensis), а через небольшой промежуток их стало немало: птички прилетали то парочками, то целыми процессиями. Каждый новый пролетный гость привлекал наше внимание. Под вечер на соседнем озерке появился крохаль-луток (Mergus albellus).
Пятнадцатого марта среди уток, крякв и шилохвостей ярко выделялись красавицы пеганки (Tadorna tadorna), а также утки широконоски (Spatula clypeata [Anas clypeata]), нырки красноклювые (Fuligula rufina) и бакланы (Phalacroeorax earbo). В этот же день периодически много тянуло на север уже отмеченных выше серых цапель.
Шестнадцатого марта утром на наших озерках плавали: лысуха (Fulica atra), нырец-чомга (Podiceps cristatus) и немногие другие, упомянутые ранее. Из вновь прилетевших был только чеккан черногорлый (Saxicola deserti atrigularis [Oenanthe deserti atrogulatris]), прибавивший маленькое оживление в нашем лагере.
На следующий день – семнадцатого марта – экспедиция уже перекочевала на Эцзин-гол, в урочище Торой-онцэ. Здесь в вышине неба ликовали сарычи (Archibuteo hemiptilopus [Butteo hemilasius]), потрясая воздух звонким клекотом.
Восемнадцатого марта впервые выдал себя характерным свистом кроншнеп большой (Numenis arquatus), который на следующий за тем день ютился на отмели речки и прилежащей к берегу луговине; невдалеке важно расхаживала пара черных аистов (Ciconia nigra).
Двадцатого марта над биваком экспедиции кружилось до десятка коршунов черноухих, зорко высматривавших кухонные отбросы и в известный момент стремительным налетом схватывавшие их. Через день – двадцать второго марта – оригинально гукала выпь (Botaurus stellaris).
Двадцать четвертого марта[74] вдоль долины пронесся лебедь кликун (Cygnus musicus [Cygnus cygnus]), огласивший тихий воздух дивной мелодией.
Таковы в общих чертах наши скромные наблюдения частичного весеннего пролета птиц и пробуждения весенней жизни в низовьях Эцзин-гола.
Озеро Сого-нор простирается в окружности до пятидесяти верст. Его юго-восточное прибрежье, с которым нам удалось больше познакомиться, имеет низменный характер; почва, сырая и топкая у самой воды, по мере удаления от береговой линии озера несколько повышается и становится суше; здесь залегают глинисто-лёссовые наслоения, постепенно сменяющиеся песками и песчаными барханами.
Сого-нор расположен в наиболее глубокой котловине центрально-гобийской пустыни – на 2750 футов [838 м] над уровнем моря. Цвет водной поверхности его крайне изменчив, в зависимости от освещения и расстояния, на котором приходится быть наблюдателю. В общем, преобладающих тонов два: зеленоватый, который получается с близкого расстояния, и темно-голубой – издалека. Вкус воды – слегка соленый и при нужде она вполне пригодна для питья. В озере имеется один лишь вид рыбы – карась (Carassius carassius auratus [Carassius auratus]), судя, по крайней мере, по нашим наблюдениям и образцам ихтиологической фауны. (Определить рыб, привезенных экспедицией, любезно взял на себя труд профессор Л. С. Берг.) Весьма любопытно, что до сего времени во внутреннем центральноазиатском бассейне карась вообще не наблюдался и никем из путешественников добыт не был.
По сведениям, полученным на месте от торгоутов, большое береговое пространство Сого-нора на юго-востоке[75], занятое теперь сплошь высоким камышом, четыре года тому назад представляло из себя открытый юго-восточный залив озера, или, точнее, его продолжение в глубь материка. В те времена и восточный рукав Эцзин-гола – Мунунгин-гол – был сравнительно более богат водою; сейчас избыток воды вместо этого рукава направился по другому – Морин-голу, впадающему в соленое озеро Гашун-нор. Нужно заметить, что русла центральноазиатских пустынных рек, вообще говоря, довольно неустойчивы, а потому и довольно нередко меняют свое положение.
И в бассейне Тарима[76], его нижнего течения, и здесь мощные речные отложения покрывают площадь на значительных пространствах. Имеются несомненные данные не только о перемещении вод в рукавах, но и о передвижениях нижних частей русел, вызываемых перенакоплением речных осадков в одних руслах и усиленным размывом в других. Тонкие речные песчано-глинистые осадки, оставленные реками при перемещениях их вод или при передвижениях их русел, дают богатый материал для эоловых образований.
Наличие этих свойств пустынных рек, как в эцзингольской системе, так и в системе Тарима, еще более сближает характер этих бассейнов и создает почти неотличимое сходство. Как здесь, так и там встречаются почти одни и те же представители растительного и животного мира. Как здесь, так и там воздух до крайности сух и вечно наполнен тончайшей лёссовой или солено-лессовой пылью, горизонты так же коротки и так же бледен диск дневного светила.
Четыре дня, проведенные при озере Сого-норе среди ликующей весенней природы, промелькнули незаметно.
Посланный к торгоут-бэйлэ казак Бадмажапов возвратился с положительным результатом: принявший сначала очень надменный вид монгольский, или торгоутский князь вскоре изменил политику, поручил своему полицейскому проводнику доставить экспедицию в соседство его ставки Даши-обо, на левом берегу Морин-гола и пообещал полное содействие по переходу Алашанской пустыни и по достижению развалин Хара-Хото.
Надо было торопиться с выступлением. Шестнадцатого марта я пошел последний раз взглянуть на ближайшее к нашему биваку озерко, уже совершенно освободившееся ото льда. Вода значительно прибыла; на тихой голубой ее поверхности под лучами утреннего солнца беззвучно скользили лысухи, утки-кряквы и нырки; посередине озерка беззаботно плавал одинокий нырец-чомга.
Так как Мунунгин-гол своим разливом мог помешать нашему движению, мы на время оставили его долину и направились рядом с полосой высоких песчаных барханов, и следовали к урочищу Торой-онцэ вдоль сухого рукава реки, несшего следы пребывания довольно большого количества воды; там и сям замечались остатки древних плотин и мельниц.
Достигавшие восьмидесяти и даже ста футов [до 30 м] в высоту, песчаные барханы залегали по соседству с долиной реки, имея преобладающее направление – меридиальное. Некоторые из барханов стояли отдельно, некоторые извивались змеей, характеризуясь самыми причудливыми очертаниями, среди которых выделялись конусы с равнобокими скатами, указывающими на постоянную периодичность господствующих западного и восточного ветров. Во время нашего движения поднялся сильный восточно-юго-восточный ветер, оживлявший пески: отдельные вершины песчаных холмов стали куриться, словно вулканы – песок взвивался кверху и падал обратно столбом; ветер передувал песок с крутой стороны бархана на пологую и нес его дальше, к щебневой равнине. Скоро ветер перешел в бурю. Окрестности заволокло густою пылью, омрачившей воздух и сократившей горизонт до полуверсты. По равнине потянулись длинные песчаные полосы, напомнившие нашу поземку. Периодически встречные порывы бури спирали дыхание, песок слепил глаза, не давая возможности ступить шагу; не только мелкий песок, но даже и крупные песчаные зерна высоко взлетали на воздух и до чувствительной боли хлестали в лицо сидящих верхом на верблюде. С гребней придорожных барханов песок сдувало массами и видоизменяло их второстепенные очертания.
Потеряв среди пыльного тумана настоящее направление, наш проводник слегка сбился с пути, но общими усилиями нам все же удалось довольно скоро добраться до колодца Омук-тала, миновав по дороге развалины башни Атца-цончжи, сложенной из сырца-кирпича с тростником и служившей во времена Хара-Хото, вероятно, своего рода сигнализационным пунктом. На следующий день, семнадцатого марта, мы прибыли в урочище Торой-онцэ, которое было отмечено для нашей стоянки самим князем Торгоут-бэйлэ.
Берущая начало в снеговых полях величественного Нань-шаня река Эцзин-гол стремительно несется к северу, борясь с горячим дыханием пустыни почти на протяжении пятисот верст, прежде нежели окончательно погибнет, разбившись на многочисленные рукава, воды которых собираются в двух бассейнах: восточном – меньшем, проточном, почти пресном Сого-норе и западном – раза в три-четыре большем, нежели Сого-нор, замкнутом соленом Гашун-норе. Главнейшими рукавами Эцзин-гола являются: многоводный Морин-гол, впадающий в Гашун-нор, и весьма бедный водою Ихэ-гол, в свою очередь делящийся еще на несколько рукавов, самый восточный из которых – Мунунгин-гол, и заканчивающийся в Сого-норе. Такое распределение воды в низовьях Эцзин-гола не имеет, по-видимому, постоянного характера; из данных, приведенных В. А. Обручевым, а затем и А. Н. Казнаковым, видно, что в те времена, наоборот, Ихэ-гол, т. е. «Большая река», оправдывал свое название: имел значительно большее количество воды, нежели Морин-гол. По сравнительным данным путешественников и показаниям туземцев можно заключить, что на протяжении известного исторического времени перемещение водных артерий нижнего Эцзин-гола происходит с востока на запад.

Урочище Торой-онцэ, где нам предстояло прожить некоторое время, расположено на правом, более высоком берегу Мунунгин-гола. Эта река, постоянно менявшая свой уровень, в наше время достигала семидесяти – восьмидесяти [до 25 м], а местами и ста футов ширины [30 м] при двух-трех футах глубины [0,6–0,9 м] и плавно, но довольно стремительно катила свои мутные илистые воды, по которым изредка скользили небольшие стекловидные льдинки. Тихие монотонные берега мало отражали на себе весеннее настроение природы; правда, по бортам берегов начал зеленеть камыш, да кое-где на отмелях виднелись пролетные странники, как, например, стайка больших кроншнепов или пара черных аистов. В тихие ясные проблески, отдыхая от надоедливых западных и восточных бурь, мы наблюдали за парой нарядных фазанов (Phasianus satscheuensis [Phasianus eolchicus satscheuensis]), ютившихся неподалеку от бивака. Изредка мимо нас вдоль течения реки тянулись гуси, лебеди, крикливые чайки, а над лагерем почти постоянно кружились коршуны, издавая свой переливчатый свист и стремглав бросаясь на куски развешанного казаками для высушки мяса. Зато и казнили же их наши препараторы за такую дерзость. По вечерам слышалась приятная песенка местной певуньи, небольшой юркой кустарницы – Rhopophilus pekinensis albosuper-ciliaris.
Из оседлых птиц в низовьях Эцзин-гола мы наблюдали, помимо отмеченных выше, усатых синиц (Panurus biarmicus russicus), камышовых стренаток (Cynchramus pyrrhuloides [Emberiza pyrrhuioides]), сорок (Pica pica bactriana [Pica pica]), ворону черную (Corone corone [Corvus corone]), галочку (Coloeus neglectus), соек саксаульных (Podoces hendersoni), одиночек черных воронов (Corvus corax), воробьев (Passer ammodendri stoliczkae), хохлатых жаворонков, (Galerida cristata leauhmgensis), а из зимующих: сарычей, луней, сорокопутов (Lanius), рыжебрюхую краенохвостку (Ruticilla erythrogastra [Phoenicurus erythrogastra]) и немногих других. Что же касается до маммологической фауны, то в этом отношении долине Эцзин-гола свойственны: антилопа хара-сульта, волки, лисицы, дикие кошки, рысь, различающаяся у туземцев по оттенкам шерсти: красноватым, сероватым и темным, заяц, песчанки и другие более мелкие грызуны.
Вблизи нашей стоянки жителей было немного, как немного их было и по долине Эцзин-гола, в ее среднем и нижнем течении – всего в количестве ста тридцати – ста пятидесяти юрт или семейств. Монголы-торгоуты пришли сюда из Чжунгарии[77], с Кобук-сайря, около четырехсот пятидесяти лет тому назад, когда еще девственные эцзин-гольские берега были покрыты непроходимыми чащами леса, который торгоуты жгли в течение первых трех лет, чтобы образовать свободные площади для пастбищ. Торгоуты и до сих пор сохраняют родственные и дружеские связи со своими кобук-сайрскими родичами и пользуются всяким случаем, чтобы попутно завернуть друг к другу в гости; при этом часто путешествующий торгоут оставляет своих усталых животных отъедаться на кормах гостеприимных друзей до своего обратного следования, а сам взамен на время получает свежих верблюдов и лошадей.
Хошун управляется родовым князем третьей степени, бэйлэ, имеющим главную ставку в системе западного рукава реки Морин-гол, отстоящую верстах в десяти от нашего лагеря. Ближайшим помощником и советчиком управителя является престарелый мэрэн-цзангэ-Цыдэн-Дагво, женатый на молодой двадцатишестилетней дочери бэйлэ и совмещающий в себе одном почти всю несложную администрацию торгоут-бэйлэ. Два-три маленьких чиновника составляют канцелярию управления.
Известный под именем Даши, настоящий бэйлэ состоит десятым управителем со времени переселения торгоутов. Он наследовал не отцу, а старшему брату, говорят, скоропостижно умершему не без греха младшего брата, честолюбивого, скупого, жестокого человека, ставшего таким образом главою хошуна.
Вот к этому-то торгоут-бэйлэ и был снова командирован Бадмажапов тотчас по прибытии нашем в урочище Торой-онцэ. Князь очень любезно принял мой хадак и прислал нам для временного пользования юрту, палатку и людей для услуг, обещая насколько возможно облегчить наш путь до Хара-Хото и далее в Алаша-ямунь. Радости моей не было конца. Если говорить откровенно, я не переставал интересоваться Хара-Хото, едва лишь узнал об этих развалинах из лучшей книги нашего покойного путешественника Г. Н. Потанина[78], который пишет: «Из памятников древности (торгоуты) упоминают развалины города Эргэ-хара-бурюк, которые находятся в одном дне пути к востоку от Кунделен-гола, т. е. от самого восточного рукава Едзина; тут, говорят, виден небольшой кэрим, т. е. стены небольшого города, но вокруг много следов домов, которые засыпаны песком.
Разрывая песок, находят серебряные вещи. В окрестностях кэрима большие сыпучие пески, и воды близко нет». В мое Монголо-Камское путешествие в 1900 году А. Н. Казнаков, исследуя низовье Эцзин-гола с его озерами, между прочим, пытался также путем расспросных сведений добиться дополнительных данных о Хара-Хото. Напрасно: туземцы в один голос отрицали существование каких бы то ни было развалин в окрестности, замечая: «Вы, русские, хотите знать больше нас даже о наших местах». Еще раньше моей Монголо-Камской экспедиции вслед за Г. Н. Потаниным, по долине Эцзин-гола проследовал В. А. Обручев, с которым я беседовал по поводу выше приведенной заметки Потанина о Хара-Хото незадолго до своего отправления в Монголо-Сычуаньское путешествие. От В. А. Обручева торгоуты скрыли существование Хара-Хото и возможность проникновения в Алаша по кратчайшей дороге, принудив его сделать огромный крюк, чтобы пересечь владения алаша-цин-вана на северо-востоке, а не на северо-западе, как того желал наш талантливый геолог[79].
В настоящее путешествие, начиная с Балдын-цзасака, я не переставал систематически расспрашивать попутных туземцев о мертвом городе и почти всегда получал более или менее согласные положительные сведения, без особых противоречий. Сами по себе местные жители обнаруживали очень мало интереса к безмолвным развалинам древнего пепелища и совсем не занимались поисками археологических предметов; даже мое предложение высокой платы за каждую добытую вещь в Хара-Хото не могло побудить туземцев начать раскопки, и я замечал, что многие, видимо, боялись даже близко подходить к развалинам и считали это место небезопасным.
Мысли о Хара-Хото поэтому приковывали целиком наше внимание и наше воображение. Сколько думалось и чувствовалось по этому поводу еще в Петербурге, в Москве и, наконец, в Монголии – у Балдын-цзасака. Сколько мечталось о Хара-Хото и его таинственных недрах! Теперь, наконец, мы были уже совсем недалеко от нашей цели и в любой момент могли снарядить туда легкую поездку.
В первый раз мы отправились в Хара-Хото девятнадцатого марта сравнительно налегке, захватив с собою лишь запас воды, немного продовольствия и инструменты для работ, и пробыли там около недели. Со мною ехали, кроме А. А. Чернова и П. Я. Напалкова, еще двое спутников – ветеран Иванов и Мадаев; остальные участники экспедиции остались в Торой-онцэ вместе с караваном. Нашу маленькую компанию сопровождал отличный проводник торгоут-бэйлэ – Бата, много раз бывавший в мертвом городе и немало слышавший рассказов о нем из уст отца и других стариков – туземцев. Он повел нас кратчайшею дорогою в юго-восточном направлении; Хара-Хото отстоял от нашей стоянки в двадцати верстах. Вскоре за растительной полосой Мунунгин-гола потянулась пустыня, частью равнинная с оголенными блестящими площадями, частью пересеченная более или менее высокими холмами, поросшими тамариксом и саксаулом.
С половины пути уже начали попадаться следы земледельческой, или оседлой культуры – жернова, признаки оросительных канав, черепки глиняной и фарфоровой посуды и проч. Но нас больше всего занимали глинобитные постройки, в особенности субурганы, расположенные по одному, по два, по пять вдоль дороги, исстари проходящей к Хара-Хото, этому памятнику прошлого, засыпаемому песком пустыни. По мере приближения к заветной цели волнение наше все увеличивалось, все росло. За три версты мы пересекли древнее сухое русло с валявшимися по нему сухими, обточенными песком и ветром стволами деревьев, нередко засыпанными тем же песком, точь-в-точь как я наблюдал в окрестности Лобнора при пересечении старинного мертвого русла Конче-дарьи[80]. На возвышении берега реки стояли развалины цитадели Актан-Хото, где, по преданию, когда-то размещался кавалерийский отряд – стража Хара-Хото. По сторонам высохшего русла раньше залегали, по-видимому, культурные долины с земледельческим населением.
Вот, наконец, показался и сам город Хара-Хото, расположенный на низкой террасе из грубозернистых твердых хан-хайских песчаников; над северо-западным углом крепости возвышался главный птицеобразный субурган из ряда меньших, соседних, устроенных также на стене и рядом со стеною вне крепости. По мере приближения к городу черепков посуды стало попадаться больше, вид на город заслонился высокими песчаными буграми; но вот мы поднялись на террасу, и нашим глазам представился Хара-Хото во всей внешней прелести.
Наблюдателя, едущего с западной стороны Хара-Хото, занимает небольшая постройка с широким куполообразным верхом, расположенная в некотором отдалении от юго-западного угла крепости, напоминающая собою нечто вроде мусульманского молитвенного здания – мечети. Еще несколько минут – и мы вошли вовнутрь мертвого города, в западные его ворота, устроенные по диагонали с другими последними воротами в восточной стене города. Здесь мы встретили квадратный пустырь – сторона квадрата равняется одной трети версты, – пересеченный высокими и низкими, широкими и узкими развалинами построек, поднимающихся над массою всевозможного мусора, включая сюда и возвышение с черепками глиняной посуды. Там и сям стояли субурганы; не менее резко выделялись и основания храмов, сложенные из тяжелого, прочнообожженного кирпича. Невольно мы прониклись чувством предстоявшего интереса, чем будем вознаграждены в счастьи и трудах своих по отношению к наблюдениям и раскопкам всего того, что теперь нас окружало.
Наш лагерь приютился в середине крепости подле развалин большого двухэтажного глинобитного здания, к которому с южной стороны примыкал храм, разрушенный также до основания. Не прошло и часа времени с прихода экспедиции, как внутренность мертвой крепости ожила: в одной стороне копали, в другой измеряли и чертили, в третьей и четвертой сновали по поверхности развалин. На бивак прибежала пустынная птичка – сойка (Podoces hendersoni) и, усевшись на ветку саксаула, громко затрещала; ей нежно откликнулся хороший певец пустыни – чеккан-отшельник; где-то прозвучал голос песчанки. И здесь, на этих мертвых развалинах, несмотря на безводие, нет абсолютного отсутствия жизни. Вследствие того же безводия мы должны были привезти с собою все наши сосуды, наполненные водою, причем этот питьевой продукт нужно было беречь в целях пребывания на развалинах возможно долгий срок. В интересных занятиях время бежало быстро, неуловимо. Полуясный, серенький и обыкновенно ветреный день скоро сменялся тихою ясною ночью, налагавшею на развалины суровый, мрачный отпечаток. Усталые, мы также скоро засыпали; немногие из нас с вечера, впрочем, еще развлекались неприятным голосом сыча, зловеще кричавшего с вершины главного субургана.
Абсолютная высота Хара-Хото определилась в 2854 фута [870 м], географические же координаты: широта 41°45' 43˝, долгота от Гринвича 101°5' 14,85˝.
Высота глинобитных стен крепости Хара-Хото – см. план – три-четыре сажени при толщине у основания две-три сажени и около одной-полутора сажен у вершины. Следы бойниц заметны в немногих местах. При ведении раскопок кое-где в стенах обнаружены и следы заплат или вставок. В северной стене проделана брешь, размером согласованная с ростом и более или менее свободным движением кавалериста-воина.

Вся внутренняя часть крепости была разбита на правильные кварталы и проходы; так называемая Торговая или Главная улица и прилежащие к ней второстепенные составляли ряды мелких глинобитных домишек, прикрытых в основе сплошной твердой коркой; больших зажиточных домов вообще мало. Стоило, бывало, только копнуть какой-нибудь закругленный холм, под которым угадывался дом, как под сухой землей тотчас обнаруживалась солома, циновки, деревянные устои и проч., свидетельствовавшие о том, что крыша давно обрушилась внутрь жилища. Многие кумирни и другие помещения были разрушены до основания и имели вид плоских, закругленных возвышенностей, увенчанных песком, гравием и массою больших и малых одно– и многоцветных глиняных и фарфоровых черепков посуды, вперемешку с кусочками чугунных и железных изделий; медных обломков было очень мало, еще реже попадались серебряные.
Фундамент кумирен был обыкновенно прочно, красиво выложен квадратным или полуквадратным обожженным кирпичом[81] – образцы находятся в коллекции: полуквадратный – в восемнадцать фунтов [7 кг] весом, квадратный – в тридцать шесть [14,5 кг] [последний не взят]; стены кумирен – сырцовые из более легкого по весу и прочности и меньшего по размерам кирпича, поставленного вертикально или положенного горизонтально; крыши – из выпуклой черепицы с фигурной китайской оторочкой по основанию и краям. Фанзы – лавки – обогатили экспедицию черепками фарфора [из которого впоследствии этнографический отдел Русского музея искусно собрал чашки и вазы], разнообразными предметами обихода, торговли; тут же чаще попадались монеты-чохи, ассигнации, а изредка и предметы культа.
Некоторые из развалин, как, например, развалины № 1 – см. план – или таковые, сосредоточенные в юго-восточном углу крепости, где, по всей вероятности, помещался гарнизон, не в пример прочим высоко поднимались над землей. Сам начальник гарнизона помещался, надо полагать, у северо-западных субурганов, у угловых стен. Судя по развалинам, это помещение, вероятно, некогда выделялось величиной и техникой и в этом отношении скорее походило на кумиренные постройки. Здесь, в северо-западном углу крепости, пожалуй, было удобнее всего жить владыке Хара-Хото; отсюда был устроен ступенчатый вход на вершину стены, к субурганам, с которых открывался широкий горизонт на прилежащие окрестности.
Все наши исследования, все наши раскопки в Хара-Хото велись с особенной тщательностью, с особой любовью. Каждый новый предмет, найденный в недрах земли или на ее поверхности, вызывал всеобщую радость. Я никогда не забуду того чувства восхищения, которое наполнило мою душу, когда после нескольких ударов и гребков лопатою на развалинах № 1 я обнаружил буддийский образок, писанный на полотне с размерами 0,081 × 0,067 м.
«Он изображает буддийского монаха, по-видимому, одного из индийских учителей, так как хронологически исключены тибетские учителя, из которых могли бы быть приняты в расчет только столь древние, как Ми-ла-рай-ба или учитель его Мар-ба Падмасамбхава. Конечно, может быть, мы имеем дело и с местным учителем. Несмотря на то что образ сильно стерся, контуры рисунка в общем вполне ясны и переданы на прилагаемом рисунке, снятом калькою Н. М. Березовским вполне точно. Точно так же можно определить почти без ошибки и все тона красок на оригинале, хотя он несомненно немного выцвел».
«В настоящем образке прежде всего бросается в глаза, что он по целому ряду подробностей чрезвычайно напоминает бенгальские буддийские миниатюры, прекрасные образцы которых есть уже для XI–XII веков. Та же закругленность форм, трактовка нимбов, цветочки, разбросанные на фоне»[82].
Помимо этого образка, в развалинах № 1 были найдены еще тяжелые, грубые металлические чашечки и обрывки рукописей письма Си-Ся. Конечно, интереснее всего казались нам рукописи как исторические документы своего рода, в этом смысле самую богатую и ценную находку дал субурган А – см. план, – в котором были найдены три книги, до тридцати тетрадей с оригинальным письмом Си-Ся, лучший по сохранности и яркости красок типичный образ на полотне «Явление Амитабхи» и образ китайского типа на шелке. При дальнейших раскопках на глубине были обнаружены мелкие фигурки, большая, слегка улыбающаяся красивая маска и ряд других головок и масок. Маска представляет голову будды, позолоченную, с темно-синими волосами. Несколько скошенные глаза указывают на внеиндийскую технику, хотя в остальном строго выдержан канон. Кроме того найдены деревянные дощечки с изображением будд и проч. и маленький китайский каменный бурханчик.
Субурган В подарил нам несколько экземпляров стекловидных глаз, выпадавших из глиняных, уничтоженных, вероятно, временем статуй. Тут же поднят и глаз из горного хрусталя или топаза, красиво отшлифованный, и найдены нигде больше не замеченные большие плоские цаца[83].
Крепостные субурганы вблизи дома Хара-цзянь-цзюня в основании были наполнены массою цаца, как и большинство субурганов, расположенных группами вблизи северо-западного угла крепости.
Развалины № 3 в свое время, по предположению торгоутов, были обитаемы мусульманами, мечеть которых расположена вне крепостных стен у юго-западного угла. Здесь найдены листки персидских рукописей; по заключению академика С. Ф. Ольденбурга, «особенно любопытна одна из них – отрывок из знаменитого сборника рассказов «Семи мудрецов», так называемого Китаб-и-Синдбад».
Позднейшие раскопки в этом месте дали еще и мусульманские рукописи, и художественный переплет, рисунок которого исполнен Н. М. Березовским. Краевой бордюр его имеет ряд аналогий в орнаментах Дун-хуана позднетанских и сунских. Плетенки внутри указывают на многочисленные аналогии (и китайские, и индийские). Две полоски носят характер мусульманский и более типично – персидский. «Мы имеем, – замечает С. Ф. Ольденбург, – по всей вероятности, работу XIII века».
Внутристенная поверхность площади Хара-Хото, вообще, больше всего заполнена черепками посуды всевозможных величин, качеств и форм; очень любопытна глиняная посуда огромных размеров с оригинальными рисунками, служившая, вероятно, для хранения напитков, а может быть, одного, самого необходимого напитка – воды. На поверхности земли мы находим монеты – чохи[84], бусы, кусочки нефрита и всевозможную мелочь, словом, все то, что ныне хранится из находок в Хара-Хото в этнографическом отделе Русского музея.
Пески заметали Хара-Хото главным образом с севера. У северной и восточной стен, как внутри, так и извне крепости, нагромождения сыпучих песков достигали наибольших размеров. Достаточно сказать, что не только люди, но даже верблюды могли свободно взбираться на северо-восточный угол и вершину западной стены, а в некоторых местах можно было с такою же легкостью и спускаться вовнутрь города. Разделенный на правильные улицы пригород примыкает с восточной стороны к самой стене крепости и разделяется уходящей к востоку в Боро-Хото дорогой на две части: северную и южную.

В давно минувшие времена Хара-Хото, по всей вероятности, с юга и севера омывался двумя рукавами речек, соединявшихся затем в северном направлении в одно общее русло, которое, в свою очередь, терялось в солончаковой котловине на севере.
В течение нескольких дней, проведенных на развалинах Хара-Хото, в общем итоге экспедиция обогатилась всевозможными предметами: книгами, письменами, бумагами, металлическими денежными знаками, женскими украшениями, кое-чем из домашней утвари и обихода, образцами буддийского культа и проч.; переведя в количественное отношение, мы собрали археологический материал, наполнивший десять посылочных пудовых ящиков, приготовленных затем к отправлению в Русское географическое общество и Академию наук.
Кроме того, пользуясь хорошим дружелюбным отношением к экспедиции торгоут-бэйлэ, я тотчас же отправил монгольской почтой в Ургу и далее в Петербург в нескольких параллельных пакетах известие о фактическом открытии Хара-Хото, находках в нем и приложил образцы письма и иконописи для скорейшего изучения и определения. Нас сильно занимал вопрос, когда существовал мертвый город и кто были его обитатели.
На вопрос, кто жил в Хара-Хото, современные обитатели – торгоуты – обыкновенно отвечали – «китайцы», но на наше возражение о несовместимости китайского населения с образцами буддийского культа, обнаруженными в развалинах города, они не умели ответить, сами смущаясь видимым противоречием. Одно только смело торгоуты утверждали, что их предки нашли Хара-Хото в том же виде, в каком он представился и нам, то есть город китайского типа с высокой глинобитной стеной, ориентированной по сторонам света, расположенный на острововидной террасе, некогда омываемой с двух сторон водами Эцзин-гола. Остаток вод уносился по желобообразному, извивающемуся в восточном, северо-восточном и, наконец, в северном направлении руслу в пустыню, в солончаково-песчаную котловину Ходан-хошу, лежащую на линии общей с нынешними бассейнами Сого-нор и Гашун-нор впадины. Место головы сухого мертвого русла реки отмечено урочищем Боток-беэрек.
Народное предание о Хара-Хото или Хара-байшэн, то есть «Черный город», или «Крепостной город», гласит следующее:
«Последний владетель города Хара-Хото – батыр Хара-цзянь-цзюнь, опираясь на свое непобедимое войско, намеревался отнять китайский престол у императора, вследствие чего китайское правительство принуждено было выслать против него значительный военный отряд. Целый ряд битв между императорскими войсками и войсками батыра Хара-цзянь-цзюня произошел к востоку от Хара-Хото, около современных северных алашанских границ, в горах Шарцза, и был неудачным для последнего. Имея перевес, императорские войска заставили противника отступить и, наконец, укрыться в последнем его убежище Хара-байшэн, который и обложили кругом. Долго ли продолжалась осада крепости – неизвестно; во всяком случае, крепость была взята не сразу. Не имея возможности взять Хара-Хото приступом, императорские войска решили лишить осажденный город воды, для чего реку Эцзин-гол, которая, как то и замечено выше, в то время протекала по сторонам города, отвели влево, на запад, запрудив прежнее русло мешками, наполненными песком. И поныне там еще сохранилась запруда эта в виде вала, в котором торгоуты еще недавно находили остатки мешков.
Лишенные речной воды, осажденные начали рыть колодец в северо-западном углу крепости, но, хотя прошли углублением около восьмидесяти чжан[85], воды все-таки не отыскали. Тогда батыр Хара-цзянь-цзюнь решил дать противнику последнее генеральное сражение, но на случай неудачи он уже заранее использовал выкопанный колодец, скрыв в нем все свои богатства, которых, по преданию, было не менее восьмидесяти арб, или телег, по двадцать – тридцать пудов [пуд = 16 кг]в каждой, – это одного серебра, не считая других ценностей, а потом умертвил двух своих жен, а также сына и дочь, дабы неприятель не надругался. Сделав означенные приготовления, батыр приказал пробить брешь[86] в северной стене, вблизи того места, где скрыл свои богатства. Образованной брешью во главе с войсками он устремился на неприятеля.
В этой решительной схватке Хара-цзянь-цзюнь погиб и сам, и его, до того времени считавшееся непобедимым войско. Взятый город императорские войска, по обыкновению, разорили до тла, но скрытых богатств не нашли. Говорят, что сокровища лежат там до сих пор, несмотря на то что китайцы соседних городов и местные монголы не раз пытались овладеть ими. Неудачи свои в этом предприятии они всецело приписывают заговору, устроенному самим Хара-цзянь-цзюнем; в действительность сильного заговора туземцы верят, в особенности после того, как в последний раз искатели клада вместо богатств отрыли двух больших змей, ярко блестевших красной и зеленой чешуями.
За интересным делом, за всякого рода наблюдениями время бежало очень быстро. Наконец настал и день предполагаемого отъезда; нам было жаль расставаться с «нашим Хара-Хото», как мы его теперь называли; мы успели познакомиться, свыкнуться с ним, сжиться с его скрытыми тайнами, понемногу открывавшимися нам; странно – между древним мертвым городом и нами как бы установилась необъяснимая внутренняя духовная связь.
После некоторого обсуждения я решил предложить А. А. Чернову остаться еще на двое суток в Хара-Хото, придав ему в помощь Мадаева, самому же мне нужно было спешить на важное свидание с торгоуг-бэйлэ.
Накануне отъезда из города за вечерним общим чаепитием я попросил балдынцзасакского проводника-ламу погадать нам о завтрашнем дне. Лама немедленно взял баранью лопатку, положил в огонь и, прокоптив ее дочерна, до появления трещин, снял и бережно положил возле себя; затем глубокомысленно, взяв лопатку в левую руку, правой стал водить стебельком вдоль трещин и пророчествовать: «Завтра начальнику предстоят две радости: первая – большая, вторая – поменьше; первая будет заключаться в богатой находке при раскопках, а последняя радость исполнится по дороге на главный бивак, когда начальник, охотясь, застрелит хорошего зверя». Не могу не отметить, что оба предсказания сбылись в точности. П. Я. Напалков и Арья Мадаев в субургане А обнаружили богатое собрание рукописей и чудный образ на полотне «Явление Амитабхи», а я, действительно, на пути к Торой-онцэ убил отличного рогатого хара-курюка.
По прибытии на главный бивак, где нас с большим нетерпением ожидали наши спутники, мы поспешили снарядить двух казаков с продовольствием и питьевой водой для наших хара-хотоских отшельников и занялись подготовлением к предстоящему трудному переходу пустыни, по направлению к Алаша-ямунь.
Ранним утром двадцать третьего марта к нам на бивак пожаловал сановный гость – Хагоучин-торгоут-Даши-бэйлэ, как выражался полностью титул торгоут-бэйлэ. Это был высокий, худощавый и совсем еще бодрый человек шестидесяти лет, с чисто китайской манерой обращения; вежливость его граничила с самоунижением, он все время извинялся за бедность и малонаселенность его владений и объяснял эти недостатки неоднократными магометанскими (дунгане) разгромами. Как бы не осмеливаясь противоречить мне ни в чем, бэйлэ на все мои вопросы старался дать положительный ответ и обещал по возможности облегчить следование экспедиции по новому, еще не изученному пути через Хара-Хото, Гойцзо и Дын-юань-ин к Желтой реке.
По окончании делового разговора мы стали забавлять бэйлэ граммофоном, а потом угостили его завтраком. Торгоут-бэйлэ засиделся у нас довольно долго: покуривая одну сигару за другою, он видимо наслаждался необычайным удовольствием. На прощанье я снял с нашего гостя фотографию, за что, в числе прочих подарков, поднес ему и свою карточку. Уезжая, бэйлэ дал понять, что будет очень польщен нашим ответным визитом. Из подарков он оставил на нашем биваке два – часы и музыкальный ящик – с просьбой обучить пользованию ими его подчиненного.
Весь следующий день прошел у нас в разнообразных занятиях – писались отчеты о содеянном, причем особенно подробно мы касались Хара-Хото; некоторые рукописи и образа, повторяю, тут же укладывались для отправки в Петербург. Возвратившийся из мертвого города накануне и привезший ценные дополнения к находкам геолог Чернов также составлял специальный отчет о своих работах. Слух в Торой-онцэ о какой-то европейской экспедиции, будто бы выступавшей из Урги по направлению Гурбун-сайхана, заставил нас особенно тщательно отнестись ко всем докладам, отправляемым в географическое общество и Академию наук[87].
Наутро двадцать пятого марта мы наконец собрались с визитом к торгоут-бэйлэ, ставка которого лежала недалеко от нашего бивака, между Морин-голом и Ихэ-голом, но отделялась от нас четырьмя многоводными рукавами Ихэ-гола. Между этими реками с грязной, мутной водой там и сям были устроены колодцы, существование которых обусловливалось непостоянством легко перемещающихся русел. Предупредительный хозяин заранее выслал нам лошадей и своего проводника, так как без знающего человека путешествие по долине Эцзин-гола среди бесконечных бугров и всевозможных зарослей было бы крайне затруднительно. Миновав кумиренку Бага-Даши-чойлэн, приютившуюся между средними рукавами Ихэ-гола, и благополучно совершив все переправы, кроме последней, где ввиду высокой воды и топкого илистого дна один из нас против воли принял холодную ванну, мы увидели наконец вдали княжескую ставку. Наш проводник Бата, как подчиненный, при виде ставки своего господина должен был слезть с лошади и идти пешком; мы же подъехали к самым коновязям и, оставив лошадей на попечение подоспевших слуг, направились к саду, огороженному частоколом, где среди тамариксовой рощицы симпатично стояли большие юрты бэйлэ.
Около одной из юрт толпилось много народу; какие-то нарядные женщины суетились, перебираясь из одного помещения в другое, украдкой взглядывая на нас; здесь же стоял сам князь с чиновниками, во всем своем парадном одеянии. Он принял нас очень любезно и все время, видимо, волновался: руки его дрожали, голос прерывался[88]. Справившись со смущением, бэйлэ очень радушно угостил нас превосходными пельменями и чаем, к которому подали чисто европейские услады: сахар, печенье, мармелад и проч. Мы уже давно так вкусно не ели, и все эти кушанья казались нам самыми изысканными лакомствами.

За все время моего визита разговор шел более или менее шаблонный; бэйлэ старался избегать интересной для нас темы о Хара-Хото и сказал только, что подчиненный ему народ представляет из себя некультурную массу степных дикарей, которые ничего не знают и науками не занимаются, «не то что вы, русские». «Впрочем, – заключил он, – я никому не мешаю производить раскопки в мертвом городе, но, кажется, до сих пор все попытки найти какой-либо «клад» не увенчались успехом». По этому поводу, между прочим, наш проводник заметил, что в юности он слышал от стариков о серебре и золоте, которые в большом количестве находили в развалинах Хара-Хото.
Во время нашего пребывания у бэйлэ у него гостила жена кобуксайрского вана с его цзахиракчи, сопровождавшего княгиню на богомолье в Гумбум. Паломница следовала обратно в Чжунгарию. Узнав от цзахиракчи, с которым я довольно много беседовал, что начальник русской экспедиции хорошо знает ее родину и очень симпатично о ней говорит, ванша прислала мне приветственный хадак и сожалела, что этикет не позволяет ей познакомиться со мною на чужой стороне, заочно пожелала мне счастливого пути и всякого успеха в моих начинаниях.
Из частных разговоров с приближенными бэйлэ я случайно узнал, каким тяжелым гнетом ложится на все торгоутское население «албанная» повинность, которой они обязаны всем проезжим чиновникам – китайцам. Стремясь всегда уклониться от этой повинности, торгоуты не постеснялись частично отказать в животных даже Далай-ламе, когда он со своей свитой проезжал через их хошун, но на этот раз они были наказаны. Своенравные тибетские чиновники пришли в неистовство и угрозами заставили торгоутов выполнить «албан», т. е. выставить известное количество подвод, оскорбив словами и действием адъютанта бэйлэ.
За нанятых животных для экспедиции торгоут-бэйлэ получил хорошие подарки и авансом плату и так был тронут, что прислал мне в благодарность двух отличных лошадей, которых, к сожалению, ввиду предстоявшего перехода через пустыню, я не мог принять. Князь некоторое время был в смущении, но, осведомившись о моем симпатичном отношении к буддийской религии, сам лично привез мне на бивак бурхана с хадаком и просил принять его на память.
Между тем тепло надвигалось с каждым днем; температура воды в Мунунгин-голе в 1 час дня достигала +8,9°С. Вблизи бивака парочка сорок начала уже хлопотать с постройкой гнезда. По-прежнему в порядочном количестве летели на далекий север лебеди, а изредка стайками в девять – двенадцать особей тянулись и большие кроншнепы. У самой реки все больше и больше пробивалась первая зелень камыша, но в общем растительность показывалась из земли довольно боязливо: ее развитию в значительной мере препятствовали западные и восточные бури или крепкие ветры, дувшие почти ежедневно.
Благодаря такому состоянию атмосферы, трудно было ожидать, чтобы в Алашанской пустыне, у порога которой мы стояли, рано началась изнурительная жара, а потому мы решили особенно не торопиться движением к югу, а лучше посвятить еще несколько дней дополнительным исследованиям нашего таинственного Хара-Хото. Ввиду этих соображений, я вновь отправил двадцать восьмого марта трех своих младших спутников в мертвый город, предоставив им в смысле раскопок полную свободу действий. Сам я с Черновым и Напалковым остался на один день в Торой-онцэ для того, чтобы не торопясь закончить письма и отчеты в географическое общество и Академию наук. Отчет геолога Чернова вместо маленькой заметки вылился в обстоятельную работу, которую он и доканчивал в течение всей последующей ночи.
Утром двадцать девятого марта мы выступили, держа направление почти строго на юг. Погода стояла хмурая и холодная. Упорный восточный ветер понижал температуру и омрачал воздух тучами песчаной пыли. Вот эти-то ветры в пустыне, дующие преимущественно с восточной или западной части горизонта, надвигают на Хара-Хото все бо́льшие и бо́льшие массы песка. Песок перегоняется по песчаным откосам через стены мертвого города и с каждым годом увеличивает свою толщу, скрывая те или другие богатства города – бо́льшие или меньшие остатки второстепенных развалин зданий храмов, субурганов и проч.
Пройдет десяток-другой лет, и будущий исследователь древнего города Хара-Хото найдет здесь иную картину – иное расположение песчаного покрова.
На полпути от Хара-Хото мы отметили развалины крепости с внутренним двором длиною в пятьдесят и шириною в шестьдесят шагов. Здесь, по преданию, ютились жившие вблизи древнего города земледельцы. Чем ближе мы подходили к Хара-Хото, тем больше манил и звал к себе наш тихий и сонный друг. Вот показались знакомые шпицы субурганов, венчающих северо-западный угол крепости. Поднявшись на террасу, я указал каравану направление на западные ворота города, а сам поехал более прямой тропинкой к северной бреши, за которой вскоре очутился у бивака наших археологов; сами же они находились в юго-восточном углу крепости, где над тремя усердно работавшими фигурами взвивался высокий столб пыли.
Арья Мадаев порадовал меня новыми интересными находками тяжелых металлических предметов, вроде овальной доски, стремени, новых монет и даже новых рукописей. Устроившись лагерем и попив чаю, мы все принялись за работу, причем каждому представлялась широкая инициатива. К вечеру энергия стала заметно ослабевать: предыдущие плодотворные раскопки избаловали нас и каждому невольно хотелось найти что-нибудь особенное, еще невиданное. Ночь быстро спустилась на вечно сонный, отживший город. Бивак скоро затих – все уснули. Мне как-то не спалось; я долго бродил по развалинам и думал о том, какая тайна скрыта в добытых рукописях, что откроют нам неведомые письмена?. Скоро ли удастся разгадать, кто были древние обитатели покинутого города. Грустно становилось мне при мысли, что назавтра в полдень мне суждено покинуть мое детище – Хара-Хото. Сколько радостных, восторженных минут я пережил здесь! Сколько новых прекрасных мыслей открыл мне мой молчаливый друг! Невольным образом он расширил горизонт моих знаний, указал чуждую мне до тех пор отрасль науки, к которой с этой минуты я должен направить всю пытливость своего ума.
На следующий день все члены экспедиции вновь разошлись по разным уголкам крепости. Юный казак Содбоев, исследуя южную стену, наткнулся на скрытую в ней комнату с куполообразным верхом. Комната была пуста, только на окне лежала одна-единственная монета. Забайкальцы своей компанией усердно рыли в ста шагах к северо-востоку от развалин № 1 и, вскрыв остатки древней постройки, обнаружили в ней несколько предметов: вачир, четки, чашечку, гирю, молоток и проч. Гренадер Санакоев работал вблизи субургана А, по всей вероятности, обставленного пристройками, заключавшими в себе большие глиняные изображения бурханов. Здесь Санакоеву удалось добыть маленького каменного китайского типа бурханчика, о котором упоминалось выше.
В то время как я укладывал последние находки, намереваясь вскоре снять бивак, принимавшие добровольное участие в работах монголы-ламы принесли мне целое собрание однообразных по виду, но различных по размерам китайских ассигнаций с красной правительственной печатью. Ассигнации эти общим свертком найдены были вблизи «Торговой» улицы, вне домов, под слоем сухой песчано-навозной почвы толщиной до полфута [15 см]. Приобщив и это повторное любопытное приобретение к прочим находкам, мы окончательно запаковали наши ящики, наполненные исключительно Хара-Хотоскими археологическими ценностями, и выступили в дальнейший путь.

Глава пятая. От Хара-Хото до Дын-юань-ина
Общая характеристика впереди лежащей пустыни. – Древний Хан-хай. – Урочище Боро-цончжи. – Долина Гойцзо – своего рода оазис в Монгольской пустыне. – Новый вид дикой кошки (Felis chutuchta [Felis ocreata]). – Местные, или попутные монголы. – Священное обо и целительный источник. – Дополнительные мысли о пустыне. – Прилежащие горы. – Пересечение маршрута моей Монголо-Камской экспедиции. – Китайские торговцы в пустыне. – Неожиданная встреча с посланцами Алаша-цин-вана.
Пребывание в самом центре Монгольской пустыни с целью изучения Эцзин-гола и весенней жизни при Сого-норе, а главное – открытие развалин Хара-Хото мелькнуло, как приятный сон. Перед нами встала во всей своей трудной и малопривлекательной форме Алашанская пустыня, простирающаяся на пятьсот шестьдесят верст к юго-востоку – это своего рода сухой песчано-каменистый океан, изборожденный волнами гряд и холмов, напоминающих морские волны. Нашему кораблю пустыни – верблюжьему каравану – суждено было «переплыть» древний Хан-хай в двадцать пять дней, считая в том числе и две невольные дневки, устроенные из-за пыльной и снежной бурь, и намеренно медленное передвижение, по пятнадцать-восемнадцать и шестнадцать верст в течение трех дней по оазису Гойцзо. Трудность пути вознаграждалась законченностью первой задачи экспедиции и новизною местности, по которой некогда пролегала оживленная дорога, связывающая тангутскую столицу Си-Ся[89] с западным Китаем, или городом Нин-ся – с одной стороны, и предстоящей стоянкой в Алаша-ямуне и экскурсиями в алашанских горах, о которых мы также мечтали с самого начала путешествия, – с другой.
Первый наш переход по пустыне лежал исключительно среди хан-хайских осадков. Дорога шла частью по поверхности ровных террас, усыпанных мелкой галькой, частью спускалась в песчаные впадины, местами с такырными площадками[90]. Интересно отметить, что свита грубозернистых или слюдисто-глинистых хан-хайских песчаников дислоцирована: на протяжении нескольких верст замечается пологое падение на восток-юго-восток и восток.
За сухим руслом, омывавшим когда-то Хара-Хото с юго-востока, мы поднялись на пустынную пестро-каменистую террасу, с которой, оглянувшись назад, видно сероватую, землистого цвета крепость, почти совершенно потонувшую в пыльной мгле. Оба берега упомянутого русла довольно крутые и обрывистые[91], местами поросли тамариксом и саксаулом, вокруг которых образовались порядочные холмы песочной пыли; эти растения имеют способность доставать влагу со значительной глубины и потому встречаются в пустыне всюду, где водный горизонт не слишком далек. Пройдя два-три лога, имевших меридиальное простирание, мы увидели на юго-восточном горизонте длинные островки хан-хайских отложений, на которых местами возвышались большие цончжи, эффектно игравшие в мираже. Цончжами в Южной Монголии называются глинобитные башни, отчасти напоминающие таковые, сооруженные современными китайцами в Восточном Туркестане[92]. Эти башни, или маяки пустыни служат придорожными знаками, указывающими направление древних торговых путей – продольных от Эцзин-гола к Желтой реке или, точнее, к Алаша-ямуню и поперечных от Гань-чжоу на север, в Халху или Да-курэ.
Вступив на исторический тракт, ведущий в Алаша или, точнее, в Дын-юань-ин, экспедиция поставила себе задачей его разностороннее исследование; местами эта древняя большая дорога ясно намечалась среди пустыни благодаря своему определенно выраженному хрящеватому грунту, местами же она совершенно терялась, исчезая в сыпучих песках.
Нашей первой остановкой после Хара-Хото было урочище Боро-цончжи, расположенное на характерном острововидном пьедестале красных хан-хайских отложений. Приближаясь к нему, мы отметили первую за эту весну змею типа стрела-змея, выползшую погреться на солнце; вспугнутая видом и криком моего верхового верблюда, она довольно быстро исчезла в своем скромном логовище и потому не попала в коллекцию. Тут же в песке нами была поймана маленькая ящерица.
В долине Боро-цончжи, где водоносный горизонт проходил всего на глубине двух-трех футов [до 1 м] и вода вообще очень чиста и приятна на вкус, залегают довольно хорошие пастбища; местами большие пространства сплошь заняты камышом, среди которого выделяются спорадически разбросанные корявые тограки. В кормных уголках равнины со своими юртами и скотом ютятся монголы, прикочевавшие из разных мест; здесь есть представители северных, северо-западных, восточных и юго-восточных соседних хошунов. По словам наших проводников, в данное время население Боро-цончжи еще очень незначительно, но в лучшую летнюю пору года оно увеличивается в несколько раз.
В течение всего дня тридцатого марта простояла ясная и приветливая погода; для этих мест воздух был необыкновенно прозрачен и тих. Несмотря на это обстоятельство пернатые совсем не давали о себе знать и только один пустынный чеккан (Saxicola deserti atrigularis), сидя на солнышке на ветке тограка, уныло выводил свою бесхитростную песню. В полдень – точнее в 1 час дня – в тени температура поднялась до +13,1°С, а на следующий день в то же время – до +19,3°С, ночью же было настолько холодно, что вода в ведре основательно замерзла, а в колодце образовалась тонкая ледяная корка; таково свойство континентального климата.

За кормною долиною Боро-цончжи[93], служащею, между прочим, границей владений торгоут-бэйлэ и алаша-цин-вана, снова началась пустыня. Мы вскоре вступили в полосу барханов, преимущественно грядовых, вытянутых в меридиональном направлении. В общем, барханы редко превышали пятнадцать – двадцать футов [5–7 м], но встречались среди них также, в особенности в южном направлении, отдельные гиганты, достигавшие двухсот – трехсот футов [70—100 м]. Западные наветренные склоны песчаных холмов были обыкновенно пологие и плотные, восточные же – крутые и рыхлые. Извиваясь красивыми складками, пески то размыкались в стороны, давая нам широкий простор, то снова сближались, сжимая нас в своих объятиях. Наш караван иногда попадал в длинные узкие лабиринты барханов и некоторое время блуждал по ним, отыскивая еле заметную тропинку, заметенную ветром. Среди песков кое-где виднелись обо, сложенные монголами на выдающихся по высоте местах из ветвей саксаула; в промежутках среди барханов изредка залегали оголенные блестящие площадки с налетами соли или расположенный волнами песок более значительной крупности, или, наконец, полулунные углубления, наполненные водой. В подобных местах, называемых нор, то есть «озеро», туземцы останавливаются на ночлег.
Преобладающими растительными формами в песках были камыш и саксаул, реже встречались тамарикс и оригинальное пальмообразное растение Cynomorium coccineum. Животная жизнь, которая всегда так радует глаз, была представлена очень бедно: больше всего встречалось мелких грызунов – песчанок и проч., зайцы попадались очень редко. Ящерицы почти все еще спали, змеи только начали просыпаться; одни жуки особенно энергично бегали взад и вперед, оживляя мертвые, согретые солнцем пески[94].
Из птиц мы встречали все еще пролетных гостей – серых гусей, белых плисок, садившихся иногда вблизи проходящего каравана, чекканов, седого луня и немногих других, стремившихся к северу; а из оседлых – саксаульных соек и пустынников, или больдуруков (Syrrhaptes paradoxus).
Пройдя семьдесят пять верст от Боро-цончжи по дороге, извивающейся то среди кустарниковых бугров, то по барханам, экспедиция пересекла небольшой участок пустыни и с последнего увала увидела широкую долину Гойцзо, убегавшую далеко на восток. Западный край долины отливал желтизной волновавшегося от ветра камыша, а на севере темным валом залегали высоты Хайрхан, их западная, средняя и восточная части, входящие в состав южной окраины горного поднятия Эргу-хара.
Представляющая собою восточное продолжение известной Центрально-Гобийской впадины, котловина Гойцзо расположена на высоте 2750 футов [840 м]над уровнем моря и простирается в широтном – с ЗСЗ на ВЮВ – направлении верст на восемьдесят, в то же самое время имея ширину от пятнадцати до тридцати верст. Вдоль северной и южной окраины котловины тянутся обрывы хан-хайских осадков, имеющих интересные затейливые очертания, напоминающие развалины городов, и обдутые, обточенные ветром и песком башни; при этом южные террасы ханхая засыпаны высокими песчаными барханами.
Центральная часть Гойцзо покрыта кустарниковыми буграми, между которыми расположены голые глинистые площадки или значительные пресноводные бассейны; глинистых площадок больше в западной части котловины, которая здесь является более ровной, так как песчаных бугров мало, а вместо них раскинулась песчаная степь, заросшая камышом. Несмотря на соседство бедной атмосферными осадками Центральной Гоби, долина Гойцзо отличается обилием влаги; здесь встречаются не только отдельные ключи, наполняющие значительные бассейны, но можно также наблюдать целые покатости, по которым непрерывно сочится вода, делая их топкими. Очень интересным является то обстоятельство, что водные источники выходят на поверхность земли большею частью не на самом дне общей котловины, а во второстепенных частных впадинах, расположенных у подошвы южных высот.
Богатство водою обусловливает в Гойцзо относительное обилие растительности и животной жизни и делает ее в глазах номадов прекрасным оазисом, притягивающим к себе одинаково как усталого после пустыни путешественника, так и кочевника-монгола.
Мы решили следовать вдоль южной окраины котловины Гойцзо, делая ежедневно лишь небольшие переходы для того, чтобы без особого утомления как можно подробнее изучить ее. Подъезжая к первому с запада колодцу Оролгэн-худук, мы подняли стайку больших, вероятно, пролетных дроф, которые тотчас улетели в северо-западном направлении. Душа радовалась, глядя на стаи многочисленных пернатых, отдыхавших на воде или вблизи озерок, на изящных одиночек хара-сульт и робких зайцев, часто выскакивавших из зарослей на открытые места.
День второго апреля был особенно ясный и теплый; мы остановились на берегу озерка вблизи монгольского стойбища Хашата. Лебеди, утки-чирки, обыкновенные журавли, серые цапли и другие пролетные странники нередко подлетали к воде и усаживались на берегу, нисколько не стесняясь нашим присутствием, или, прокричав раз-другой, уносились дальше. В тот же день вблизи бивака мы видели одинокую щеврицу (Anthus spinoletta blackistoni), белую плиску (Моtacilla leueopsis [Motacilla alba leueopsis]) и другую – ее желтую сестрицу (Budytes borealis [Budites citreola]), седого луня (Circus sp.) и постоянного нашего спутника – коршуна черноухого (Milvus melanotis). К вечеру, когда в природе все приутихло и взошла луна, красиво озарившая спящую долину, на душе стало еще приятнее и лучше. Несмотря на ночное время, всюду чувствовалась жизнь: на озерке изредка продолжали раздаваться голоса неугомонных турпанов и пролетных серых гусей; майские жуки с приятным жужжанием носились по воздуху, и лягушки по-весеннему налаживали свой оригинальный концерт. Лишь одни комары, которых благодаря влаге развелось множество, слегка нарушали прекрасное вечернее настроение. Температура воздуха днем держалась около +25°С, ночью же, как и раньше, она сильно опускалась, и нередко на соседних болотах вода покрывалась тонким стекловидным льдом.
В общем, я могу сказать, что долина Гойцзо со своими ключами и озерками, со своим высоким камышом, со своими скромными местными обитателями, ютившимися со скотом в камышовых зарослях, в небольшом размере, напомнила мне Цайдам.
Третьего апреля мы расположились лагерем в урочище Нор среди высокого, скрывавшего нас от взоров любопытных, камыша. Это была одна из самых отрадных стоянок. Как днем, так и ночью до нас долетали оживленные голоса гусей, уток и лебедей, хлопотавших на близких озерках; по утрам и вечерам нас услаждали пением усатые синицы и черногорлые дрозды, к которым изредка присоединялся отличный певец – серый сорокопут (Lanius grimmi [Lanitis excubitor]). Здесь мы ловили недавно появившихся жуков – водолюбов и других; здесь же, наконец, мне посчастливилось убить дикую кошку, или, по-местному, цогонда, которую я искал с самого Эцзин-гола и которая оказалась интересным новым видом (Felis chutuchta [Felis ocreata])[95].
Это хищное животное ютилось среди камышей в сухой части озерного прибрежья, и занималось, вероятно, охотой за птицами, пользуясь тем, что плавающие пернатые часто выходили на берег посушиться и отдохнуть; кошка держала себя очень доверчиво, не убегала при виде человека и пустилась наутек лишь тогда, когда мы почти вплотную подошли к тому тамариксовому кусту, под которым она скрылась. Цогонда была очень крепка, несмотря на рану: пробитая в лопатку, дробью номер второй, она нашла в себесилы пробежать сажень тридцать – сорок, прежде нежели упала мертвой. Помимо отличной шкуры и скелета, эта кошка подарила нашей коллекции три прелестных экземпляра немного недоразвитых детенышей, пестрых, словно тигрята, которых мы очень хорошо сохранили в спирту.
Внимательно осмотрев нашу добычу, проводник заметил: «присутствие около ушей белых пятен, помимо богатой густой шерсти, делает эту шкуру весьма редкостной и ценной».
Немного позднее на ближайшем озерке я подстрелил лебедя (Cygnus bewicki), плававшего рядом с серым, таким же, как и он, одиноким гусем; туземцы сообщили мне, что этот эребень, то есть лебедь, прилетал к ним из года в год и постоянно держался одиночкой среди других плавающих птиц.
На следующий день экспедиция перенесла свой лагерь на шестнадцать верст восточнее – в урочище Зуслэн – и расположилась у головы превосходного источника, выбегавшего из-под обрыва, где я произвел астрономическое определение для получения географических координат[96]. Место было сухое, травянистое, привольное. Вблизи тихо струилась серебристо-прозрачная студеная вода, дававшая начало богатому ручью. С вершины обрыва открывалась картина на прилежащие озера[97], за которыми в том же восточном и северном направлениях синел силуэт всех трех частей Хайрхана, расположенных от запада к востоку в такой последовательности: Хайрхан, Зуслэн-хайрхан (летний) и третий – Ходжэмыл-хайрхан. На крайнем отдаленном востоке горизонт замыкался более неясными очертаниями отдельных гор, превышавших Хайрхан. Вблизи, у берегов открытого озерка, держались не только знакомые нам птички: плиски, щеврицы, но также и вновь появившиеся и не отмеченные в этом году, как то: зуйки (Aegialites dubia [Charadrius dubius], какие-то большие кулики, по-видимому, типа Limosa, не подпускавшие к себе в меру выстрела, и удод-пустошка (Upupa epops).
Пользуясь теплом, прекрасной водой и обилием дров, мы здесь устроили генеральную стрижку и такое же генеральное мытье и стирку белья. Вообще говоря, в путешествии очень трудно уберечься от грязи и пыли, в особенности зимою, а в безводных пустынях и всегда. Тем не менее, нам все же удавалось держать себя сравнительно опрятно, а летом при наличии лучших условий и достатке воды даже чисто.
Во время движения экспедиции по долине Гойцзо нас постоянно навещали туземцы, от которых мы могли получать и получали разнообразные сведения. Таким образом мы узнали, что наш транспорт, отправленный из Урги прямым путем под наблюдением Четыркина, благополучно прибыл в Алаша-ямунь и по дороге имел двухдневный отдых вЦзагин-худуке. Местный старшина, или цзангин, сообщил мне кроме того, что из Алаша-ямуня получен строгий наказ немедленно уведомить алашанские власти о прибытии экспедиции в Гойцзо и движении ее к Дын-юань-ину.
Следуя дальше, в том же восточно-юго-восточном направлении, наш караван гигантской змеей извивался вдоль окраины сухой песчано-глинистой, местами галечной площади. Богатый ключевыми родниками горный скат становился круче; монгольские стойбища, а иногда и следы прежних кочевий чередовались друг с другом довольно часто. Дни делались более теплыми: теперь поверхность южного склона песчаного бархана на солнце в 1 час дня уже накалялась почти до +60°С.
В полдень пятого апреля незаметным образом мы очутились у исторического обо, отмечавшего собою голову целительного источника. Это древнее сооружение высится на холме и своим уступчатым деревянным срубом напоминает нашу часовню, с одной стороны, с другой же – как бы предохраняет истоки священного ручья от загрязнения. Искусственно устроенный посреди течения маленький бассейн служит для купанья туземцев, страдающих ревматизмом, желудочными и проч. недомоганиями и получающих здесь исцеление. Это обо ежегодно посещается окрестными монголами численностью до пятнадцати юрт, или семейств, которые служат живущим около него больным хурулам. Творя приличествующие молитвы, ламы сжигают пучки можжевельниковых веточек; возносящийся к небу дым от этого горения играет роль фимиама христианской церкви. Основание обо, говорят, было положено неким гэгэном в благодарность богу за неожиданную встречу в жаркой пустыне прекрасного оазиса Гойцзо с его настоящим живительным источником, при котором усталый от тяжелого путешествия буддийский святитель отдыхал несколько дней.
За историческим обо вскоре экспедиция оставила последнюю родниковую воду и вновь вступила в унылую безжизненную и безлюдную пустыню, заключившую нас в свои сухие горячие объятия до самого Алаша. Действительно, вокруг залегала типичная гобийская пустыня, известная у местных туземцев под названием Бадан-чжарэнг, не отпускавшая нас от себя в течение более нежели двухнедельного срока. По мере того как мы по ней двигались, пустыня эта характеризовалась ясно выраженными обнажениями красных и розовых гранитов и гнейсов; эти коренные породы иногда выступали на поверхность совершенно открыто, иногда бывали засыпаны большими массами темно-коричневого крупнозернистого песка, слагавшего высокие холмы, а в области развития хан-хайских осадков – скрывались под песками, перемешанными с гравием и щебнем. Вода здесь встречалась крайне редко и исключительно только колодезная.
Из растительности по-прежнему наиболее характерными представителями являлись: камыш, саксаул, тамарикс, который, между прочим, начал цвести с четвертого апреля, издавая тонкий аромат, затем – кендырь (Apocynum) и реже тограк, или корявый разнолистный тополь (Populus euphratica), растущий целыми аллеями вдоль галечных сухих русел. Голубое небо даже в безоблачные дни бывало обыкновенно недоступно для глаз, так как в воздухе постоянно стояла пыльная дымка, поднимавшаяся ежедневным ветром, часто переходившим в бурю. По таким пустыням, как настоящая или южно-монгольская, следует всегда путешествовать осенью или даже зимою, но ни в каком случае не летом. При этом нужно принять за строгое правило, иметь необходимый запас воды и прекрасного проводника, без которого среди однообразных барханов, постоянно меняющих форму и расположение в зависимости от направления ветров, очень легко заблудиться. Стоит только вспомнить описание путешествий в пустыне Центральной Азии Н. М. Пржевальского[98], чтобы еще более убедиться в справедливости сказанного. Пржевальский пережил немало трудных и ужасных часов в алашанских песках из-за дурного проводника.

По мере нашего удаления к юго-востоку местность начала повышаться, а грунт переходил в хрящеватый. Любопытно, между прочим, отметить, что по дороге от того же исторического обо к колодцу Цза-мын-худук имеется тограковая роща; с каким великим интересом мы следовали к этой заманчивой издали роще, до которой в течение полутора, даже двух часов не могли дойти, несмотря на кажущуюся из-за прозрачности воздуха, близость. и с каким великим разочарованием мы ее оставили. В роще и подле рощи не оказалось ни луга, ни мягкой почвы, ни воды, а имелись лишь голый, твердый, как камень, солено-глинистый грунт, напоминающий уродливо вспаханное поле, и следы обвалившегося и засыпанного землею колодца; к тому же, по словам проводника, здешняя вода никогда не была вполне пресной и содержала значительную примесь горечи.
За этой тограковой рощей нам открылась огромная площадь барханных и грядовых песков, среди которых все чаще и чаще попадались обточенные и отшлифованные песком и ветром камни.
На колодце Цзамын-худук, приютившемся у северной окраины высоких барханов, экспедиция вынуждена была простоять целые сутки по случаю сильной западно-юго-западной бури, прекратившейся лишь к вечеру шестого апреля. Пронесшаяся непогода совершенно уничтожила последние намеки на дорогу и сгладила все следы, сильно изменив рельеф крайне неустойчивой песчаной поверхности; температура несколько понизилась, пыль унеслась, и открылись широкие дали.
При этом колодце урывками мы наблюдали несколько видов птиц: саксаульную сойку, саксаульных воробьев, маленьких и больших сорокопутов (Otomela isabellina [Lanius isabellinus] et Lanius grimmi); из последних нам посчастливилось подстрелить в орнитологическую коллекцию экспедиции три отличных экземпляра. Здесь же была добыта и крупная песчанка (Gerbillus [Rhombomys opimus – большая песчанка]).
С тех пор как экспедиция еще раз вступила в пустынную часть Центральной Монголии, нам вновь пришлось перейти от обычных утренних переходов к послеобеденным, начиная от Гурбун-сайхана и до самого Дын-юань-ина, правда, с некоторыми перерывами; такие тяжелые безводные переходы преобладали, как всегда сильно утомляя участников экспедиции.
И раньше, и теперь – всегда я держался и держусь того мнения, что всякую пустыню следует переходить возможно скорее, не растрачивая чересчур драгоценных сил и энергии, необходимых путешественнику в далеких странствованиях. Однообразие и мертвенность дикой пустыни действуют самым удручающим образом на всякого человека и способны породить тоску, апатию и упадок духовной мощи в самых сильных натурах, беззаветно преданных делу изучения природы.
Итак, выступив с колодца Цзамын-худук по обыкновению после обеда, мы вскоре достигли небольшого обрыва хан-хайских отложений, выдававшихся возвышенным мысом среди низменного песчаного пространства и известных у туземцев под названием тэк, что в переводе означает «задвижка» или «запор». Отсюда открывался широкий необычайный вид: благодаря высокому стоянию дневного светила – в три-четыре часа дня – расположившиеся гигантскими пышными складками[99] на сбегавшей от юга к северу покатости пески особенно красиво пестрели серовато-желтой окраской. И здесь, судя по строению песчаных холмов, преобладающими ветрами оставались западные.
На северо-северо-западе темнели мрачные горы Эргу-хара, известные мне по предыдущему путешествию. Из общей горной группы выделялось несколько командующих вершин – Ханас, Куку-морито, Цаган-ула, Ихэ и многие другие. На северо-востоке чуть намечались неясные очертания еще более мощных горных складок, в нагромождениях которых трудно было разобраться; по крайней мере, наш довольно опытный проводник так и не мог назвать мне отдельных вершин этого расчлененного массива. Постепенно и медленно повышаясь, дорога вступила в слабо холмистую местность, рельеф которой разнообразился большими скоплениями летучих песков. Между бесконечными змееобразными гигантскими грядами, среди которых лавировал наш караван, виднелась темная или пестрая, блестевшая от пустынного загара крупная галька – продукт разрушения горных пород.
Обнажения красных растрескавшихся гранитов и гнейсов, выделявшиеся на поверхности заметными холмами, стали встречаться все чаще и чаще.
Мы остановились на ночевку в урочище Хая, где в летние месяцы, обыкновенно, проживают туземцы со своим скотом; воду здесь можно добывать сравнительно легко, так как в котловине у подножья одного из барханов, она стоит на глубине одного или двух футов [до 0,5 м]. Поставив палатку для старших членов экспедиции, младшие предпочли улечься под пологом неба, устроившись посередине бивака среди многочисленных вьюков. После пустынных безводных переходов мы, обыкновенно, никогда долго не беседуем между собою, а, попив чаю, скоро засыпаем мертвым сном, вверяясь бдительности часового. Кругом скоро воцаряется полнейшая тишина, и кажется, будто вся жизнь в пустыне замерла. Совершенно неожиданно ночью пронесся вихрь, опрокинувший офицерскую палатку; я, конечно, тотчас проснулся, но спавший невдалеке молодой спутник Бадмажапов, которого при своем падении палатка даже слегка накрыла, продолжал почивать мирным, безмятежным сном.
Весь следующий переход до урочища Элькэн-усунэ-худук мы следовали по маршруту моей Монголо-Камской экспедиции. Пески постепенно росли, обнажения розовых гранитов тоже увеличивались. Прекрасный колодезь – место кашей стоянки – был бережно прикрыт гагарой[100] и придавлен сверху тяжелыми ветвями саксаула, засыпанными, в свою очередь, толстым слоем песка. Эти меры предосторожности по отношению к колодцам в пустыне Монголии необходимы, иначе живительная влага была бы скоро засыпана мусором и погребена окончательно все тем же песком.
На этом колодце нас догнал геолог Чернов, отставший от нас с целью более подробного ознакомления с хан-хайскими отложениями окрестностей Цзамын-худука; он был очень доволен результатами своих работ и с присущей ему энергией принялся за изучение песков и выходов коренных пород, залегавших на нашем пути.
Немного позднее вслед за А. А. Черновым в наш лагерь прибыл монгольский чиновник, командированный своим начальством с южной дороги[101] для того, чтобы выяснить точный маршрут экспедиции. От этого алашанского посланца мы узнали более подробно о состоянии нашего ургииского транспорта, благополучно прибывшего в Дын-юань-ин, и о том, что Алаша-ямунь весьма хорошо относится к экспедиции. Обсудив свое положение, я решил следовать в урочище Табун-алдан – «Пять (ручных) саженей», где предположено было встретиться с людьми цин-вана, высказывавшего мне большую предупредительность и любезность.
Зоологическая часть экспедиции пополнилась здесь очень интересными образцами ящериц, среди которых особенно ценными являлись представители родов Phrynocephalus et Podarces (Eremias), как например, Eremias przewalskii [круглоголовка Пржевальского], которая за свою величину и яркую раскраску известна у туземцев под названием гюрьбюль-могой, что значит «ящерица-змея». Из птиц нами впервые были добыта пустынная славка (Sylwia nana), а из грызунов – заяц (Lepus gobicus [Lepus tolai gobicus]).
За Элькен-худуком мы стали пересекать второстепенные гряды, поднимаясь и опускаясь в лога, богатые гранитными обнажениями. В особенности памятен мне один песчаный холм, лежащий у берега лога, протянувшийся с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Весь этот холм, от основания до вершины, представлял из себя в сущности не что иное, как выход массивного гранита, постепенно засыпаемого песком. В настоящее время выступы его еще кое-где сохранились, но не подлежит сомнению, что с годами коренная порода сгладится, отшлифуется и закроется или занесется слоем песка, и тогда гранитный холм превратится в подобие настоящего песчаного бархана.
В укромных местах у каменных выступов нарядно красовался пышный кустарник – хату-хара, или желтоцветный шиповник, сплошь унизанный светлорозовыми цветами, на которых любили останавливаться мухи и шмели. Солнце пригревало довольно ощутимо: в 1 час дня в тени термометр показывал +24,7°С, ветер палил и омрачал даль. По песчаной поверхности во множестве бегали большие черные жуки (Carabus), за которыми я любил наблюдать. Однажды я видел, как целая компания этих блестящих жесткокрылых, забравшись в тихий уголок, гонялись друг за другом. Заметив в стороне какую-то странную сплоченную группу жуков, я стал ближе всматриваться в нее и вскоре понял, что несколько особей поедали своего собрата и уже изгрызли у него целый бок. Несчастный страдалец все еще старался спастись, и только мой приход избавил его от смерти, так как я разогнал его алчных соседей. Подошедший ко мне казак тоже заинтересовался этой картиной, но нашел, что с жуками нужно расправляться иначе: он взял одного из нападавших, убил его и, разорвав на части, бросил остальным; последние с жадностью накинулись на эту подачку и в миг уничтожили ее. Эти же самые жуки наносили и нам немалый вред, пока мы не изучили их нрав; посаженные для умерщвления в одну банку с циан-кали, с мухами, они жили гораздо дольше последних и успевали перед смертью наесться этими самыми мухами, среди которых попадались, конечно, ценные экземпляры.
Постепенно поднимаясь и достигнув 3 750 футов [1140 м] абс. высоты, дорога привела нас к высокому, двойному на вершине холму Холбо-цаган-тологой, за которым, спустившись по каменистому, засыпанному песком руслу, экспедиция остановилась на ночлег. К югу убегала долина, окаймленная каменистыми выходами. Северо-западный ветер с пяти-шести часов дня усилился и к вечеру перешел в настоящую бурю.
Прохладное тихое утро десятого апреля застало наш караван обычно мерно шагающим среди почти непрерывных обнажений кристаллических пород. Сначала выступали гнейсы, смятые в крутые складки с меняющимся простиранием; далее в поперечном направлении тянулись гряды розовых выветрелых гранитов.
В мелкогалечных сухих ущельях, окаймленных аллеями тограков, кое-где проживали кочевники, довольствуясь водою, добываемою здесь же из колодцев. В одном из таких ущелий мы встретили развалины кумирни, пустовавшей около десяти лет. Новые постройки буддийской молельни из глины уже воздвигались на новом красивом месте у южной окраины мелкосопочника. Обнесенный высокой глинобитной стеной, храм совершенно сливался с серым тоном горного холма, прикрывавшего приют богомольцев от господствующего северо-западного ветра.
Эта небольшая кумирня, называемая Шара-тологойнэн-сумэ, вмещает в себе до десяти лам, проживающих в ней преимущественно летом. В настоящее время здесь было тихо, мертво, пустынно.
Между развалинами и новыми постройками храма стоит священное обо, выстроенное над чудным источником. Воды этого живительного ключа при истоке заключены в особые продолговатые плоские гранитные бассейнчики, называемые туземцами Чюлун-онгэцу, что в переводе означает «Каменные лодки».

Неподалеку от обо мы наблюдали много типичных выветрелых гранитов в виде плитообразных отдельностей или котловин и ниш выдувания. Здесь лежали и отдельные обдутые, обглоданные бурями глыбы, и матрацы, и шарообразные округлые формы, покоившиеся на массивных пьедесталах. Сама по себе твердокаменная поверхность земли бывала чаще всего присыпана гравием и крупным или мелким песком.
Всюду, вблизи воды Чюлун-онгэцу во множестве виднелись следы диких баранов (Ovis) и боро-цзере или хара-сульты (Gazella subgutturosa), посещающих ежедневно этот водопой. Пресмыкающиеся и земноводные чаще и чаще обнаруживали свое существование. Из растительных форм описываемой местности свойственны: все тот же тограк, который тянулся в виде длинных аллей или располагался группами и реже в одиночку; в последнем случае стояли вековые великаны, преимущественно посередине сухих речных русел; а из кустарников – все тот же хату-хара, ласкавший глаз своими изящными светло-розовыми цветами, Reaumuria, Myricaria и Tamarix, отдававший путникам свой тонкий аромат; бледноголубые и сиреневые ирисы и желтая или белая лапчатка (Potentilla) довершали однообразные картины южномонгольской природы.
Как прежде, так и теперь мы продолжали наблюдать пролетных птиц. Изредка показывались гуси, степные курицы или дрофы, а из мелких – пустынные чекканы (Saxicola deserti atrigularis [Oenanthe deserti atrogularis], выдававшие себя чаще других. Длинные тонкие серые змеи оставляли свои норы и тянулись погреться на солнце; ящерицы в множестве резвились по песку, и чем было жарче, тем труднее их было изловить. Тут же озабоченно ползали жуки, преимущественно рода Carabus. В самое жаркое время на цветах хату-хара всегда можно было видеть мух, шмелей и других двукрылых, которых мы с успехом собирали в энтомологическую коллекцию экспедиции. Однажды подле хату-хара, будучи занят ловлей насекомых, я случайно наблюдал интересное «токование» пустынной славочки (Sylvia nana). Парочка этих славных птичек с оживлением и звонким криком прыгала среди серых кустиков, поднимая свои распущенные веерами хвостики; они, по-видимому, ухаживали друг за другом с большим увлечением, не замечая ничего вокруг себя. Я и казак вдвоем подошли к славкам почти вплотную, и они ничуть не прервали своей игры, так что мой спутник пробовал поймать их сачком для ловли насекомых.
В урочище Хара-бургу мы нашли одинокого китайца, который сначала очень испугался нашего неожиданного появления, но затем скоро оправился и показал нам свое несложное хозяйство; его убогая фанза делилась на две половины: одна представляла из себя жилую часть дома, другая – склад товаров, необходимых номадам для повседневного употребления и служивших предметом мены и торговли китайца с соседними монголами; в маленьком огородике, то и дело засыпаемом и уничтожаемом бурями, все-таки росли лук и чеснок, взлелеянные чисто китайским трудолюбием и терпением, а около фанзы разгуливали две курицы и петух.
К вечеру того же дня, десятого апреля, температура упала до +2,6°С, а ночью даже грянул порядочный мороз. Теперь перед нами расстилалась довольно большая котловина – Шара-цзагин-холэ, в которой собирались многочисленные сухие русла, пересеченные экспедицией на пути от Холбо-тологой. За котловиной, вытянутой от востоко-северо-востока на западо-юго-запад, поднималась скалистая гряда Нарин-хара, а из-за нее выступал высокий хребет Аргалинтэ. Мелкие поперечные высоты и гряды коренных изверженных пород сменялись долинами, покрытыми саксаулом; на дне Шара-цзагин-холэ залегала большая площадь твердой глины, блестевшей издали, словно поверхность озера.
Горы Нарин-хара достигают всего лишь четыреста – пятьсот футов [120–150 м]относительной высоты и известны больше не под одним, а многими названиями, которыми туземцы окрестили отдельные участки или вершины массива; так, например, на западе виднелась вершина Го, или Хо-ула, далее возвышался перевал Го-котэль, а проход, которым следовал наш караван, носил название Илисэн-котэль[102] и т. д.
Перевалив хребет, мы вновь вступили в обширную котловину и, дойдя до сухого русла, у колодца Табун-алдан[103] остановились на ночлег. Глубина пустого пространства колодца оказалась, по нашему измерению, в 1672 футов [5,3 м], а мощность водного слоя – в 22 ½ футов [6,8 м]. Поэтому можно предположить, что вдоль сухого русла, направляющегося на западо-юго-запад, имеется подземный сток. В стенках русла выступали небольшие обрывки хан-хайских песчаников и конгломератов.
По соседству с колодцем в нескольких глиняных фанзах проживали китайские торговцы, обстоятельно обосновавшиеся здесь и располагавшие значительным запасом меновых товаров, при знакомстве с которыми нам удалось за плату ямбовым серебром купить муку, крупы – просо, рис, китайские леденцы, прекрасную оберточную бумагу и даже несколько штук куриных яиц.
Еще по дороге к Табун-алдану мы были приятно удивлены любезным приветствием алаша-цин-вана, приславшего к нам навстречу двух чиновников с «хлебом-солью» и для оказания содействия в пути. Пока развьючивался караван, алашанцы успели поставить юрту и накрыть чайный столик полным угощением – до различных печений, сахара, леденцов включительно. Такая внимательная встреча в пустыне нам казалась необычной. Старший чиновник торжественно поднес мне княжеский хадак и визитную карточку китайского образца. За угощением чаем со сластями мне были дополнительно поданы письма, из которых я узнал, что представитель большой русской торговой фирмы «Собенников и братья Молчановы» Ц. Г. Бадмажапов – мой спутник по Монголии и Каму – приютил транспорт экспедиции и приготовил для всех ее участников помещение. Встреча чиновников Алаша-цин-вана и письма Ц. Г. Бадмажапова словно приблизили нас к давно жданному Дын-юань-ину. Из дальнейшего доклада чиновников выяснилось, что они напрасно прождали нас на южной дороге около сорока суток, но теперь очень рады состоявшейся встрече и просят меня лично написать Алаша-цин-вану о причинах нашего запоздалого прихода в Дын-юань-ин. Получив от меня хадак и визитную карточку для вручения монгольскому князю и письма для Ц. Г. Бадмажапова, один из чиновников укатил в Алаша-ямунь, а другой остался при экспедиции.
К вечеру одиннадцатого апреля, вновь стало свежо, а на восходе солнца – холодно, как зимою; вода, оставленная в колодце, промерзла за ночь на целый вершок.
Теперь наш караван значительно оживился и отчасти увеличился прибывшими монголами. Из прежних погонщиков кое-кого пришлось отпустить и заменить новыми. Сами мы, чувствуя приближение культурного центра, до которого, однако, все еще оставалось дней около десяти, казалось, также приободрились. По правде говоря, участники экспедиции несколько приутомились. Унылая мертвенность окружающего угнетала душу; почти всегда чувствовался недостаток в питьевой воде, а сухая, консервированная местным способом баранина скоро приедалась и становилась неприятной. Всем одинаково хотелось отдыха и свежей здоровой пищи. Дни и переходы тянулись как-то особенно медленно, и мы не могли дождаться конца самой трудной части путешествия.
Кругом все было также безотрадно и мертво[104].Пески и галечник по-прежнему составляли преобладающий покров земли, по которой лишь изредка ютились пустынные растения; еще реже разнообразили жалкую природу представители животной жизни.
Безжизненные, лишенные водных источников горы Аргалинтэ постепенно приближались. Они имели вид громадной рыбы, обращенной головой к западу, и представляли наивысший хребет на всем пути от Эцзин-гола до Алашанского хребта. Наша дорога все еще не принимала надлежащего юго-восточного курса и извивалась, значительно уклоняясь на восток. На северо-северо-западе из горной высоты Нарын-хара, являющейся, по словам проводника, одной из шести гряд, образующих вместе цепь широтного направления, выступали желто-красные обрывы с острыми вершинами под названием Цаган-эргэ-цончжи.
С вершины каждого нового перевала, с каждой новой значительной возвышенности открывалась одна и та же картина – пустыня, пустыня и пустыня, то каменистая, то песчаная с оттенком горных пород, слагающих соседние обнажения.
Между тем, по времени была уже весна, она давала себя чувствовать: бодрила дух и вселяла надежду на скорый приход в Дын-юань-ин, в близкое соседство красы и гордости южно-монгольского княжества Алаша – хребта Ала-шаня. Почти ежедневно я держал в руках «Монголию и страну тангутов» Н. М. Пржевальского и по его общим описаниям указанных гор намечал себе программу научного изучения меридионального хребта не только весной, но и летом.
Мои ближайшие товарищи также немало говорили об Алашанском хребте, его геологическом строении, характере диких ущелий, разнообразии растительной и животной жизни. Всех нас одинаково интересовала мысль: подняться на вершину хребта Ала-шаня, чтобы видеть безграничную пустыню на западе и блестящую водную ленту Желтой реки на востоке: полную безжизненность, с одной стороны, и оживление пышным китайским земледелием – с другой.

Глава шестая. От Хара-Хото до Дын-юань-ина (окончание)
Геологическое строение попутных гряд и холмов. – Влияние китайцев на монголов, на их внешний облик. – Трудность пути и утомление участников экспедиции. – Горы Баин-нуру[105]. – Снежный шторм. – Урочище Шара-бурду и встреча с Ц. Г. Бадмажаповым; письма и газеты. – Последний обильный змеями переход к Дын-юань-ину.
ОтТабун-алдана до урочища Мандал расстояние сорок верст, которые мы прошли в два перехода, с ночлегом в урочище Мото-обонэн-шили[106].Наш путь пролегал среди ярко выраженных хан-хайских осадков; по сторонам вздымались плоские холмы, прикрытые песком и гравием со щебнем, так что выходы коренных пород встречались очень редко, притом только по оврагам. Барханов здесь не было вовсе; песок образовывал или плоские и низкие скопления, или холмики-косы с кустарниковой растительностью. По сторонам, кое-где цвели сиреневые ирисы (Iris ensata), желтая лапчатка (Potentilla anserina) и мелкий белый подорожник (Plantago rnongolica). Из птиц видели только пустынную славочку (Sylvia nana) и заметили на песке следы большой дрофы. По мере приближения к урочищу Мандал щебень попадался чаще и в более крупных кусках; среди них встречалось особенно много порфиров, а также гнейсов и гранитов, вероятно, все это было в качестве обломочного материала хребта Аргалинтэ, который остался к югу от нашей дороги.
Утром в воскресение солнце всплыло над пыльным горизонтом в виде некрасивого бледного диска; стайка больдуруков промчалась над нами с быстротою ветра, жаворонки со звонким пением взмывали к небу, где неизмеримо выше парил орел-белокрыл. Внизу среди холмов кормились осторожные дрофы, а по камням бегали давно уже не наблюдавшиеся скалистые куропатки (Caccabis chukar pubescens [Alectoris graeca]). Нам предстояло пройти всего лишь пятнадцать верст, чтобы достигнуть превосходного колодца Мандал, куда мы стремились попасть как можно скорее. Караван экспедиции по-прежнему состоял исключительно из верблюдов. За время путешествия по пустыне все мы очень привыкли к этим животным и не ощущали какого-либо неудобства при верховой езде на наших двугорбых друзьях. Человек ко всему привыкает. Целые дни проводили мы в медленном однообразном передвижении, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Только по утрам, тотчас по выступлении с ночевки, мы любили некоторое время идти пешком для того, чтобы согреться и размять ноги. Но вот, наконец, и долгожданный колодец! Вблизи, на вершине оригинального древнего обо, сидел сорокопут (Lanius grimmi). где-то по соседству звонко пела пустынная славочка. Мне так хотелось сегодняшний день видеть во всем оживлении, и оно было. Бивак был разбит замечательно скоро, легко, непринужденно.
Чем дальше мы продвигались на юго-восток, тем меньше было песков, тем крепче становился грунт. Местность волновалась, вздымаясь низкими грядами или отдельными холмами. На восточном горизонте виднелись горки Бичиктэ. Вблизи, по сторонам, довольно часто пестрели сухие каменные русла с бо́льшим или меньшим насаждением тограков (Populus)[107].
В прилежащих к дороге сильно разрушенных грядах выступала свита кристаллических известняков и кварцитов.
В наблюдении за всем окружающим время проходит скорее, и караван достигает своей цели – остановки у воды. На этот раз мы остановились у Алтын-булыка[108], представляющего из себя родник, обложенный высокой круглой глиняной стенкой, под защитой которой рос густой камыш, скрывавший влагу от жара. В восточно-юго-восточной части стенки имелся сток воды на небольшую илистую площадку, служившую дном бассейнчика. В этом укромном уголке держались парочка щевриц (Anthus maculatus [Anthus hodgsoni]) и куличок песочник (Limonites damacensis), оживлявшие царившее кругом безмолвие.
Около Алтын-булыка вышеописанная свита известняков сменилась широтной полосой биотитовых гранитов, образовывавших выветрелые желтые выходы, издали принимавшие вид громадных хлебов; вблизи в них можно было различить большие ниши выдувания, наиболее развитые на северо-восточной и южной сторонах.
Сопровождавшие нас алашанцы по отношению к экспедиции проявляли постоянную заботу и неустанно следили за тем, главным образом, чтобы вовремя сменять усталых животных свежими; с этою целью они то и дело уезжали к ближайшим кочевьям туземцев, которые, в свою очередь, охотно посещали наш лагерь и казались нам при этом всегда оживленными, разговорчивыми, непринужденными. Местные монголы много переняли от своих соседей – китайцев; одежда, манера себя держать, народные песни – все это носит на себе отпечаток китайского влияния. Некоторые даже, говорят, научились курить опий. Имея обычно маленькие красивые ноги, алашанские монголки представляют из-за своего оригинального одеяния очень широкие фигуры с такими же широкими головами, прикрытыми, как водится, черными накидками. Серебряные и другие, преимущественно коралловые украшения у здешних модниц также совершенно отличны от типичных северомонгольских.
Между тем, с постоянным упорством нас продолжал донимать встречный ветер; поднимавшаяся в воздухе пыль способствовала большему нагреванию атмосферы и обусловливала тяжелую духоту. Пресмыкающиеся и земноводные все чаще и чаще давали о себе знать ежедневными появлениями.
Двигаясь от Алтын-булыка в юго-восточном направлении, экспедиция через двадцать верст прибыла в урочище Чан-ганзен, где нам удалось познакомиться с одним оригинальным монголом. Питая особенное пристрастие к сынам Небесной империи, номад изменил своим древним обычаям и привычкам и поселился в обширном, по-китайски распланированном доме, обставленном многочисленными пристройками. Этот дом, или, вернее, хутор, был очень удобно расположен около ключевой площадки с несколькими колодцами и приспособлениями для водопоя гуртов скота; все говорило за то, что в прежние времена окитаившийся монгол жил весьма зажиточно – по-помещичьи, но что теперь от большого скотоводческого хозяйства осталось у него весьма немного – всего лишь двести голов баранов да яманов [козлов]. Ко мне подошел с приветствием мальчуган лет десяти или двенадцати, одетый чисто по-китайски, и, глядя на его лицо и изысканные манеры, я не хотел верить, что это не китайчонок, а монголенок. Его мать – дородная, красивая некогда женщина – по своему типу скорее подходила к монголке: как женщина, в большом значении этого слова, она крепче удерживала на себе родное, самобытное.
При ключах, окаймленных песчаными холмами, увенчанными пустынными кустарниками, обыкновенно сновали щеврицы, бледно-розовые монгольские вьюрки (Bucanetes mongolicus) и больдуруки, прилетавшие напиться; горные ласточки (Biblis rupestris) тоже вились над водой; а изредка тут же парил и сарыч. Постепенно, вместе с теплом там и сям стали показываться скорпионы и новые, не отмеченные раньше формы жуков.
С вершины соседнего холма открывался вид на пересеченный волнистый уголок пустыни; песчано-щебневая степь осталась позади; из-под осыпей местами выступали мусковитовые гнейсы; встречавшийся около дороги песок сильно блестел от примеси мусковита, а за кустарниками и камнями наблюдались скопления одной лишь слюды.
За горой Тамсык[109] свита гнейсов сменилась гнейсо-гранитами, обнаруживавшими слоистость в широтном направлении. Желая подвигаться вперед как можно поскорее, мы старались делать не менее двадцати пяти – тридцати верст в день и на пятнадцатое апреля наметили своей стоянкой дальний колодец Дурбун-мото [в переводе «Четыре дерева»], окруженный четырьмя вековыми развесистыми хайлисами[110]. В широких разветвлениях древних великанов, скрываясь среди густой зелени, гнездились коршуны, соколы (Tinnunculus tinnunculus [Cerchneis tinnunculus]) и снова появившиеся на нашем горизонте сороки (Pica pica bactriana). Здесь же любил держаться и серый сорокопут (Lanius grimmi).
В полутора верстах к юго-востоку от колодца на возвышении стояло обо, знаменовавшее собою присутствие небольшой кумирни Цаган-обонэн-сумэ, насчитывавшей в своих стенах от десяти до двенадцати лам. Постройки скромной обители скрывались за пригорком, вздымавшимся с полуденной стороны.
В окрестностях Дурбун-мото мы видели целое поле оголенных гранитных выходов; крупнозернистые граниты были прорезаны жилами мелкозернистого гранита, причем эти жилы[111], мощностью до двух-трех футов [до 1 м], шли в различных направлениях.
При этом же колодце мы встретили монгола с двумя детьми, пасшими скот. Семья номадов ютилась в бедной палаточке у воды.
Впоследствии я нередко встречал таких отшельников пастухов-алашанцев, которые, отделившись от юрточного дома, откочевывали в те места, где уже пробивалась зелень, давая возможность скорее откормить исхудавших за зиму баранов и коз.
Время тянулось бесконечно медленно; несмотря на большие переходы, казалось, экспедиция никогда не достигнет Дын-юань-ина. Монотонная унылость окружающего не давала достаточной пищи уму, а поэтому физические лишения сказывались ощутительнее; настроение падало.
Как я уже говорил, пустыня накладывала свой мрачный отпечаток на все существо человека, так же, как радостная, ликующая природа лесистых гор с грохочущими ручьями, цветущими полянами и разнообразной животной жизнью окрыляла и вдохновляла душу.
Пока что глаз приятно отдыхал на отдаленных высотах, все яснее и яснее выступавших на юго-востоке. Это был скалистый хребет Баин-нуру, который нам предстояло пересечь в его западной половине и который в ясное, прозрачное состояние атмосферы хорошо виден из оазиса Дын-юань-ина. Все сухие русла, встречавшиеся при подъеме к перевалу Улан-хадан-шили[112], имели, приблизительно, одинаковое направление и сходились вместе с сухими руслами окрестностей горы Тамеык в большой впадине Чжэрэн, лежавшей верстах в пятидесяти на северо-восток от Дурбун-мото.
Сухая весною, эта впадина в дождливое время года наполняется водою, образуя соленые топи.
Баин-нуру тянется с северо-востока на юго-запад на протяжении сорока верст и поднимается на весьма незначительные, как абсолютную, так и относительную высоты. Эти горы сложены из гранитов и гранито-гнейсов, которые прорезаны жилами красного гранита; там, где можно уловить слоистость, простирание остается широтным или близким к широтному; в этом же направлении среди свиты тянутся широкие полосы красных гранитов.
По бокам каменистого русла, по которому наш караван углублялся в горы, отрадно зеленели изумрудные лужайки, увеличивавшиеся по мере подъема. Вскоре стали попадаться деревья-великаны хайлисы, стоявшие группами или в одиночку; на одном из таких великанов нами была добыта парочка красных вьюрков (Carpodacus pulcherrimus). В боковом ущелье Атун-худукэн-ама, в переводе «Ущелье водопоя лошадей» или «Вода, добываемая копытами табуна», мы действительно, заметили табун лошадей, мирно пасшийся вблизи ключевого источника. За хребтом продолжались мелкие разрушенные выходы гранитов и гнейсов.

В ночь на семнадцатое апреля разразилась буря, пришедшая с северо-запада и заставшая нас при пустынном колодце Цакэлдэктэ[113]-худук[114]. С прихода на стоянку мы поставили юрту под сенью могучих хайлисов, произраставших вдоль мелкого сухого русла. Некоторые из моих спутников занялись ловлей интересных мелких ящериц и откапыванием жуков-долгоносиков, которые все еще не следовали примеру Carabus’ов. Дневное, часовое, показание термометра дало +21,5°С; вечер был также очень приятный, и я с удовольствием некоторое время гулял по гранитным обнажениям. Устав в дороге, мы обычно после вечернего метеорологического наблюдения отходим ко сну. Скоро затихают последние разговоры. Позднее прочих умолкают монгольские голоса, и, наконец, весь бивак погружается в сон. Так было и при Цакэлдэктэ-худуке.
Но вдруг совершенно неожиданно, среди ночи меня разбудил сильный ветер, дувший мне прямо в голову и нахолодивший внутренность юрты. Оказывается, уже с полночи бушевал снежный шторм; но наша юрта, прикрепленная дежурным к ящикам и дереву, стояла крепко и хорошо защищала спящих, пока, наконец, наивысшим напряжением бури не поднялась войлочная дверь, впустившая холодную струю воздуха. По словам дежурного, при появлении бури порывы ветра были особенно сильными: камешки величиною в горошину неслись в воздухе и более острые из них пробивали полотно палатки. Участники экспедиции проснулись и уж до самого утра не сомкнули глаз. Юрта скрипела, стонала и дрожала под напором ветра; деревья тоскливо шумели; сквозь свист и завывание бури слышались слабые голоса монголов и стук молотка. Их палатку сорвало шквалом, и они теперь старались укрепить ее под защитой нашей юрты. Навстречу буре стоять было невозможно.
Наутро температура опустилась до –1,2°С; в воздухе продолжала нестись галька, смешанная со снегом, который местами навеял сугробики до двух футов [0,6 м] глубиною. К полудню снег перестал падать, его только переметало. Направление бури к вечеру сменилось на западное, и ее порывы стали стихать. Мельчайшая снежная пыль неслась почти не переставая и проникала в малейшие отверстия юрты, ровняя все, что было вокруг нас. Все мы забились по своим углам и, прикрывшись меховым одеянием, с грустью смотрели на снег, засыпавший пол, и столик-ящик, и ящик с хронометрами. По временам кто-нибудь из нас вставал и вычищал юрту, выбрасывая в значительном количестве накопившийся снег за дверь. В таком невеселом положении пришлось провести весь день семнадцатого апреля и часть ночи на восемнадцатое, когда температура упала до –7,0°С и буря, разбившись о западный склон Алашанского хребта, перешла в крепкий ветер.
Несчастные туземцы сильно пострадали от пустынного шторма. Недавно появившиеся на свет верблюжата, жеребята, телята, не говоря уже про барашков и козлят, частью погибли, а частью были искалечены. Ощипанные, остриженные и начавшие в Гоби рано линять взрослые верблюды тоже чувствовали себя неважно и жались под защиту наших жилищ. В Дын-юань-ине, как узнали впоследствии, поблекло все нежное: сирень отцвела в своем зародыше, мелкие прилетные пташки померзли.
Во время движения экспедиции восемнадцатого апреля мы встретили пару дроф, а затем над нашим караваном с страшной быстротою пронеслась стайка стрижей, направлявшихся к югу. Осторожные птицы торопились уйти от холода и снега, лежавшего повсюду на пути большими пятнами и портившего и без того тяжелую дорогу. Отражаясь от белой поверхности снега, солнечные лучи создавали необыкновенную яркость освещения, спасаясь от которой всем нам пришлось надеть очки, снабженные боковыми сетками.
Первое время за Цакэлдэктэ-худуком продолжались все те же выходы гранитов и гранито-гнейсов; на выдающихся гранях, в особенности в темносерых породах, замечалась полировка и сильный загар. Вскоре, затем, экспедиция вступила в обширную котловину, терявшуюся на горизонте; эта котловина была заполнена толщей хан-хайских осадков[115], образовавших размытые террасы. Среди последних, в урочище Цаган-булак протекали ключи, где вблизи болотца любили держаться кое-какие пернатые: турпаны, плиски, щеврицы, а по соседним пригоркам – хохлатые жаворонки (Galerida cristata Ieautungensis).
Наш лагерь устроился между ручьями ключевых вод: с запада протекала узкая прозрачная струя, а с востока тянулась тонкая болотистая полоса воды. Пользуясь тихим прозрачным воздухом, я произвел здесь – в Цаган-булыке – астрономическое определение географической широты[116]. Однако к одиннадцати часам ночи погода снова испортилась: небо заволокло тучами, поднялся западно-северо-западный ветер, и весь воздух наполнился пылью. Вскоре ветер изменился: принял северо-западное направление и перешел в бурю, которая на следующий день во время движения каравана еще более усилилась и, подталкивая в спину, способствовала нашему успешному ходу.
По мере приближения к горам Баин-ула[117] дорога спускалась по значительному уклону на дно котловины, самая низшая часть которой достигала 3 570 футов [1088 м] абсолютной высоты и имела песчано-солончаковую почву, насажденную буграми, образованными, как и везде в пройденной части монгольской пустыни, при помощи кустарников, а главное – песков, задерживаемых в своем движении теми же кустарниками, которые потом всегда венчают бугор или холм. Благодаря крепкому, затемнявшему атмосферу ветру, горы на долгое время скрывались в тучах пыли; лишь изредка слегка обрисовывались их изрезанные мягкие контуры. Кочевники встречались крайне редко.
Пройдя одинокий колодец, экспедиция начала подниматься на северную цепь хребта Баин-ула; на пьедестале этих гор, на протяжении верст пяти, тянулись выходы ярко-красных рыхлых хан-хайских песчаников; совершенно такой же окраски был и продукт разрушения этих песчаников – песок, устилавший поверхность пьедестала. Вообще говоря, горы Баин-ула простираются с северо-востока на юго-запад и сложены из свиты темно-серых биотитовых и роговообманковых гнейсов, переслаивающихся со светлыми гнейсами, хлоритовыми, бедными темными силикатами. Свита подверглась интенсивной складчатости, причем направление складок меняется быстро и в широких пределах – от широтного до меридионального.
Поднявшись на седловину северной цепи хребта – абсолютная высота седловины 4930 футов [1490 м], – мы увидели перед собою широкую лощину, замыкавшуюся южным отрогом тех же гор Баин-ула. В этой лощине при урочище Наксэн-дурульчжи у колодца экспедиция и ночевала; неподалеку от нашего лагеря держалась парочка журавлей красавок (Anthropoides virgo), турпаны (Gasarca casarca [Casarca ferrugenea]) и серый сорокопут.
Лишь только стало светать, наш караван уже был готов к выступлению; все, повторяю, утомились за долгие пустынные переходы и единодушно стремились к ближайшей цели – приветливому оазису Дын-юань-ину. В каждой темной точке, появлявшейся на горизонте, мы хотели видеть гонца, ехавшего к нам навстречу. Вопреки таким ожиданиям, внушительный Алашанский хребет все еще не открывался ни с вершины южной цепи Баин-ула, ни с долины, так как туманная пелена застилала горизонт. Всюду виднелись следы снежной бури: по скатам в затененных местах лежал пятнами снег, по логам и каменистым теснинам стояли воды. На этом переходе мы собрали порядочное количество экземпляров пестрых, довольно красивых ящериц (Phryncephalus versicolor [Ph. guttatus – круглоголовка-вертихвостка], Ph. przewalskii [круглоголовка Пржевальского] и Ph. putjatai).
Пройдя около восемнадцати верст в юго-юго-восточном направлении, экспедиция достигла небольшой кумирни Цаган-субурган, названной так по белому надгробию, красующемуся у северной стены храма.
В двух верстах к северу от Цаган-субургана за узкою полосою песков, протянувшихся к северо-востоку, при колодце Цзамын-худук пристроилась китайская лавка с составом в пятнадцать человек китайцев, эксплуатирующих простодушных монголов. Хитрые пронырливые китайцы-торгаши, словно пауки, везде расставили свои коммерческие сети, в которые ловко излавливают всякого проезжего с сырьем номада.
Только по выходе из урочища Уцзур-худук, то есть с предпоследней перед Дын-юань-ином ночевки, нашим глазам, наконец, открылся силуэт северной части Алашанского хребта. Радость тотчас отразилась на настроении моих усталых спутников, стремившихся елико возможно ускорить шаг изнуренных животных. Дорога извивалась широкой полосой по глинисто-песчаному, местами каменистому грунту и делалась все более и более наезженной. По мере спуска к Шара-бурду воздух становился теплее; с долины речки к нам залетали вестницы тепла и культуры – деревенская и береговая ласточки (Hirundo rustica et Cotile riparia [Riparia riparia]). Жуки и ящерицы во множестве сновали по сторонам. С ближайшего к речке Шара-бурду песчаного увала мы увидели подле дороги ключ Хошегу-булык, круто ниспадающий в северо-восточном направлении [к Шара-бурду] и несущий хорошую, годную для питья воду; здесь, по-видимому, всегда останавливаются проезжие, так как в Шара-бурду вода соленая и пользоваться ею не приходится.
Эта речка в месте нашей переправы имеет два рукава: северный, достигающий одной сажени ширины при глубине самой незначительной – едва прикрывающей илистое русло, и южный – более широкий и более (до полуфута) [0,5 м] глубокий. Ширина общего плеса превышает тридцать сажен. Истоки Шара-бурду находятся верстах в двадцати к юго-западу, где виднеются пашни китайцев и группы высоких тополей (Populus) и ивы (Salix). Самое ложе речки, по которому текла вода, довольно топко.
Переправившись на противоположный возвышенный правый берег речки, экспедиция была встречена Ц. Г. Бадмажаповым, в обществе которого мы приехали к торговцу-китайцу, где и расположились на краткий отдых. Быстро пробежали мы полученную корреспонденцию, а затем направились вдогонку каравана, успевшего пройти около четырех верст и разбить лагерь у колодца Хату-худук. В этот вечер мои спутники мало разговаривали между собою; каждый из них мысленно перенесся к родному очагу и жил своими личными интересами, забыв на время Центральную Азию, все трудности и лишения походной жизни и целиком отдавшись теплым интимным воспоминаниям. Вырезки из газет и самые газеты приблизили нас, лишенных долгое время всякого общения с культурным миром, к европейским событиям. К сожалению, отрадного я в них ничего не нашел: все тот же прежний полумрак, то же болезненное состояние царит на родине. Утром двадцать второго апреля чуть свет предстояло нам выступить к Дын-юань-ину, до которого оставалось все же тридцать шесть верст.

Экспедиция двигалась с большим подъемом; неутомимые верблюды шагали бодро; все – и люди, и животные – чувствовали, что отдых уже близок. По мере приближения к горам – отпрыскам Алашанского хребта – песчано-глинистые гряды возвышались, усыпанные галькою лога углублялись. Алашанский хребет все яснее и яснее выступал из-за пыльной дымки, постепенно открывая свое сложное строение и характерную расчлененность. Подножье массива выражалось плоскими холмообразными выступами, разделенными глубокими падями, залегавшими между ними. Устья ущелий резко намечались среди общей однообразно-желтой окраски пустыни своим темным размытым и обломочным материалом. К полудню караван остановился на два часа привалом в урочище Цзуха, за которым вскоре показались контуры стен и угловых башен крепости Дын-юань-ина; вблизи оазиса вздымались грандиозные холмы хан-хайских отложений.
На этом последнем переходе к Алаша-ямуню невольно обращает на себя внимание необычное обилие змей. Чаще всего приходится наблюдать самую обыкновенную для здешней местности серую большую тонкую змею (Taphrometopon lineolatum [стрела змея]), извивающуюся в три-четыре кольца у обрывов или быстро переползающую дорогу: реже, и даже очень редко, встречается другой вид – серовато-коричневатый, с темным ремнем по хребту и, наконец, третий вид – широкой, короткой, пестрой змеи, держащейся преимущественно у корней пустынных кустарников и невысоких холмиков. Ящериц здесь также очень много, в особенности плоскоголовых – Phrynocephalus [по-видимому – круглоголовка], тогда как узкоголовых. – Eremias (Е. multiocellata [глазчатая ящерка] и Е. argus [монгольская ящерка]) – мы встречали мало. Из птиц попался интересный дрозд (Oreocichla varia [Turdus dauma areus]), вероятно, пролетный, временно отдыхавший у пустынной дороги.
В трех верстах к северу от Дын-юань-ина, на вершине гряды красуется обо; еще через одну версту экспедицию встретили мои спутники Четыркин и Мадаев, два месяца тому назад вполне благополучно доставившие из Урги транспорт экспедиции. Все это время они жили на попечении Ц. Г. Бадмажапова, хорошо отдохнули и поправились. Мало этого, мы сами тотчас по приходе в оазис Дын-юань-ин также расположились под его гостеприимным кровом. Здесь можно было разобраться с накопившимся научным материалом, распределить и упаковать коллекции и привести в порядок журналы и наблюдения.
Сумерки незаметным образом спустились на землю. На темном небе изящным тонким серпом вырисовывалась молодая луна. Шум и трескотня близкого города вскоре умолкли, слышались лишь оригинальные звуки буддийских священных труб, раковин и барабанов, созывающих лам на молитву. Эта своеобразная музыка всегда бывала приятна моему слуху, в ней улавливалось нечто стройное, нечто гармонично слившееся со звуками природы – шелестом листьев, шумом леса и пением птиц. В девять с половиной часов вечера раздался обычный ежедневный пушечный выстрел, возвещавший время закрытия городских ворот.
Затем наступила ночная тишина. Усталые члены экспедиции скоро отошли ко сну. Но долго, долго не спалось мне: помимо моей воли картина за картиной проходили в моем воображении. Вспоминался самый ранний, давно минувший период первого посещения Алаша – оазиса и прилежащих гор. Еще живее вырисовывалось вторичное пребывание в этих местах осенью 1901 года, когда я с Тибетской экспедицией возвращался к родным пределам из далекого, богатого, очаровательного Кама[118]. В обоих случаях на первом плане картины появляется величавый облик истого, гениального путешественника Н. М. Пржевальского. Невольно чувствовалось, что образ дикой девственной природы Центральной Азии и чистый вдохновенный образ ее первого исследователя неразрывно слились в одно стройное целое, в одну общую живую гармонию.

Глава седьмая. Оазис Дын-юань-ин
Описание оазиса. – Наш визит к алаша-цин-вану. – Занятия членов экспедиции. – Первая экскурсия в горы. – Развитие весенней жизни. – Вид на хребет Ала-шань. – Ответный визит владетельного князя и парадный обед у этого сановника. – Экскурсия моих сотрудников. – Метеорологическая станция. – Почта. – Практическая стрельба.
Оазис Дын-юань-ин раскинулся на серых, с виду безжизненных высотах, разрывающих его на три части, среди сети небольших речек, ручейков и логов, орошенных ключевыми источниками. С западной стороны к оазису примыкает необъятная каменистая или песчаная пустыня с высокими барханами, с восточной – в меридиональном направлении – высится хребет Ала-шань, гордо поднимающийся к небу скалистой стеной. Множество дорог нитями сбегаются к культурному центру, отрадно зеленеющему в общих однообразных тонах окружающего. После пустыни Дын-юань-ин со своими великанами ильмами, тополями, пышными парками князей и хлебными полями показался нам чуть ли не райским уголком, хотя его нежному весеннему убранству был нанесен жестокий удар пролетевшим снежным штормом, о котором сообщалось в предыдущей главе: весь молодой блеск растительности поблек, листва деревьев потемнела, грозди сирени казались обожженными.
Огороды и поля оазиса были разделаны с удивительной тщательностью, всюду сквозила любовь к земле и уменье пользоваться дарами природы. Этими качествами оседлого народа так же, как и глинобитными жилищами, заменившими им юрты, монголы-алаша резко отличаются от своих северных и южных братьев. Почва оазиса весьма плодородна и подобно тому, как в Восточном Туркестане или Кашгарии, требует лишь обильной поливки.
Если более внимательно остановиться на растительности оазиса Дын-юань-ин, то мы заметим, кроме тополя (Populus alaschanica) и ильмов, гордо поднимающихся над постройками, еще очень много как древесных, так еще более кустарниковых или травянистых пород. В княжеских парках и садах более или менее обыкновенны: сосна (Pinus densata), ель (Picea Schrenkiana), вяз (Ulmus pumila), ясень (Fraxinus sinensis [Fraxinus chinensis]), можжевельник, хвойник, туя (Thuja orientalis [Biota orientalis]), несколько видов сирени; ива в оазисе встречается также часто вдоль речки и оросительных канав.
В садах – яблони, груши, сливы, вишни, смородина, крыжовник, малина и др., а на огородах и полях – ячмень, овсюк, гречиха, чечевица, конопля, лен, мак, картофель, лук (Allium fistulosum, А. oleraceum [Allium sp., A. oleraceum в Монголии и Тибете не встречается]), чеснок (Allium sativum), морковь, свекла, редька, горох, бобы, спаржа; там и сям отдает пряным запахом вика (Vicia sativa), равно посевная и хмелевидная люцерна (Medicago sativa, M. lupulina); у окраин и изгородей вьется ломонос (Clematis intricata); тут же подорожник (Plantago mongolica, Р. depressa), щавель (Rumex erispus), солодка (Glycirriza uralensis), астра (Aster altaicus), чертополох (Cirsium segetum), гусиная лапчатка (Potentilla anserina, P. multifida, P. bifurca), хвощ полевой (Equisetum arvense, E. ramosissimum), белена черная (Hyosciamus niger [Hyoscyamus niger]), лютик (Ranunculus plantagitnifolius [Ranunculus ruthenicus]), щетинник (Setaria viridis), горькая трава (Saussurea crassifolia).
Вообще же говоря, как в самом оазисе Дын-юань-ине, так и на его окраинах (высоких и низких местах) более или менее обыкновенны еще и следующие формы растительности: хармык (Nitraria Schoberi), Reaumuria songarica, ива плакучая (Salix babylonica), вьюнок (Convolvulus sagittatus [C. sagittifolius], С. Ammani), Sophora alopecuroudes, липучка (Echinospermum strictum [Lappula stricta]), кресс (Lepidium lauf olium, L. micranthum [L. apetalum]), триостренник (Triglochin maritimum [Triglochin maritima]), млечник морской (Glaux maritima), сугак (Lycium chinense), Oxygraphis cymbalariae, Oxytropis aciphylla, рдест, или водяная капуста (Potamogeton pectinatus), Mulgedium tataricum, чилига (Garagana tragacanthoides), солянка (Salsola collina), козелец (Scorzonera mongolica), белая лебеда (Chenopodium album), лох (Elaeagnus hortensis [Elaeagnus angustifolia]), амарант (Amaranthus paniculatus), полынка (Artemisia sacrorum), тысячеголовник (Vaccaria vulgaris [Vaccaria segetalis]), кишнец (Coriandrum sativum), щетинник (Setaria viridis), портулак (Portulaca olearacea), жеруха болотная (Nasturtium palustre) и проч. Одно-два озерка окаймлены камышом или тростником (Scirpus marffimus, Phragmites communis), а в самой воде виднеется водяная сосенка (Hippuris vulgaris).
В озерках живут лягушки (Rana amurensis [Rana chensinensis – азиатская лягушка]).
В северной части оазиса поднимаются высокие стены крепости с фланкирующими башнями не только по углам, но и посередине. Вершина весьма прочной глинобитной стены выложена обожженным кирпичом и увенчана каменным барьером с бойницами. Вдоль южной части крепости – вне ее – тянется основная линия торговых домов; приблизительно в середине этой улицы к городу подходит большая южная дорога, тоже заполненная в этом районе торговыми помещениями; она пролегает вдоль подножья массива Ала-шаня[119] и дальше к Нань-шаню.
Внутри крепости, рядом с дворцом цин-вана, стоит большой богатый монастырь Ямунь-хит, основанный в год Черной собаки[120], то есть приблизительно сто шестьдесят восемь лет тому назад, и исповедующий учение Цзонхавы.
Южная, или, правильнее, юго-западная, часть оазиса называется Маньчжурским подворьем. Здесь раньше жили братья цин-вана – Ши-е и Сан-е, ныне покойные, сумевшие устроить себе прелестные усадьбы. Широкая опрятная улица, по которой подобно ручью катится боковой прозрачный арык, осененный тополями, и тенистые сады князей были моими любимыми местами для прогулок. Особенно нравился мне парк князя Ши-е со своими вековыми деревьями, садовыми кустарниками, вывезенными заботливым хозяином из Китая, уютными красивыми беседками, гротами и чудной тополевой аллеей, ведущей от арочного входа в парк к дому. В настоящее время в этом уголке царила гробовая тишина. По местным обычаям, со смертью мужа вдова не может принимать гостей-мужчин, не может вообще устраивать приемов и увеселений. Лишь изредка собираются к ней приятельницы женщины, чтобы вместе поплакать и помянуть усопшего. Этот обычай, по-видимому, строго исполняется, так как при моих частых посещениях Маньчжурского подворья встречались одни только женщины да малые дети.

Здесь же, на окраине оазиса, имел некогда свое летнее пребывание покойный алаша-цин-ван; его дворец, представлявший сейчас запустелые развалины, омывался глубокими каналами, отделявшими княжеские постройки от других служб – театра, беседок, павильонов, и в целом напомнил собою богдоханские покои в миниатюре. Непосредственно к самому дворцу примыкала группа холмов, пересеченных логами, где был устроен зоологический сад; в прежнее время здесь разгуливали на свободе маралы, куку-яманы, аргали и прочие представители местного животного царства. Теперь все это как бы вымерло, а многое безвозвратно погибло во время дунганского восстания в 1869 году.
Каким-то чудовищным ураганом, уничтожавшим все на пути, пронеслись повстанцы дунгане[121] по провинции Ганьсу. Монголия, в особенности Южная, подверглась также беспощадному разгрому.
Вообще следует заметить, что в настоящее время город Дын-юань-ин, княжеский дворец и сама крепость, независимо от внешних причин, какой, например, явилось нашествие дунган, находятся в состоянии упадка. Все постройки давно не возобновлялись и нуждаются в капитальном ремонте. Древний вид крепости, монастырских построек и торговых улиц, между прочим, неизменно напоминал всем нам, членам экспедиции, план мертвого города Хара-Хото, с которым Дын-юань-ин, вероятно, имеет много общего.
Еще большее сходство с Хара-Хото нашел геолог экспедиции в своей первой поездке из Дын-юань-ина на хребет Ала-шань, при посещении им китайского города Нин-ся и его окрестных полей. «Теперь мы пошли к Нин-ся, – пишет А. А. Чернов[122], – в левой стороне от нас видна была большая башня (субурган) и кумирня, горевшая уже третий день. На полях производились различные работы. Мак частью уже отцвел, и китайцы собирали сок, надрезывая массивные коробочки. Посевы мака всегда занимали отдельные участки, еще издали выделявшиеся своей пестротой. Среди рисовых плантаций китайцы бродили по колено в воде, выдергивая какую-то траву. Встречались значительные площади, залитые водой и поросшие камышом. На них кипела своя жизнь: носились чайки, цапли, утки, стонала выпь, раздавались мелодичные голоса певчих птичек.
Вспомнив окрестности Хара-Хото в низовьях Эцзин-гола, я только теперь ясно представил себе условия существования заброшенного города: и там можно видеть следы такой же системы орошения, размеренные площади, остатки бывших на них построек. Вся жизнь была тесно связана со сложной сетью каналов и неминуемо должна была замереть, как только была нарушена главная водная артерия края.
По прибытии экспедиции в Дын-юань-ин, следуя всем правилам этикета, мы с Алаша-цин-ваном обменялись визитными карточками, после чего монгольский владетельный князь прислал ко мне своего второго сына Арью с приветствием. С своей стороны я отправил князю с семейством подарки, среди которых между прочим были: несколько часов, парча, коралловые браслеты, граммофон и проч.
Двадцать четвертого апреля, приведя себя в нарядный вид, члены экспедиции во главе со мною сели в княжеские тележки и, сопровождаемые конвоем гренадер и казаков, проследовали городом в старинное помещение алаша-вана. Всюду по пути виднелись вытянутые физиономии любопытных уличных зевак. Тяжело спустившись со ступеней крыльца, с двумя младшими сыновьями, князь встретил гостей на некотором расстоянии от своего жилища и, ласково улыбаясь, пригласил в приемную, где мы просидели около получаса. По выражению лица цин-вана и по той приветливости, с которой он беседовал с нами, можно было угадать, что он искренне рад нашему приезду и действительно от всей души готов служить всем, чем может. Я, конечно, прежде всего поблагодарил радушного хозяина за руку помощи, протянутую экспедиции в пустыне, на что князь любезно ответил, что надеется и впредь быть нам полезным.
Расспросив о пути следования и о наших дальнейших планах, местный управитель коснулся интересного вопроса о текущих событиях в Европе, а также о состоянии Русского государства; при этом он проявил большой такт и необыкновенную деликатность, боясь огорчить меня каким-нибудь неосторожным словом. Останавливаясь на мельчайших подробностях, ван вспомнил мое Монголо-Камское путешествие и отметил, что с тех пор у меня изменились эполеты. «Дослужился уже до отличий, виденных мною у Николая [Пржевальского]»[123], – задумчиво сказал князь, тихонько перебирая висюльки эполет своими безупречно чистыми тонкими пальцами. Переходя затем к моим товарищам по путешествию и узнав, что среди них есть геолог, любознательный ван и его сыновья напебой спешили показать ему различные табакерки и другие каменные изделия, спрашивая названия составлявших их горных пород. «Поедете в хребет Ала-шань, – заметил управитель, – узнайте есть ли там золото, серебро и драгоценные камни; покойный Николай [Пржевальский], показывая мне образцы камней, говорил, что в наших горах есть драгоценный красный камень, и предполагал в следующее путешествие привезти сюда геолога для более тщательного исследования наших горных богатств».
Алаша-цин-ван оказался вообще настолько культурным человеком во всех отношениях, что разговаривать с ним было не только интересно, но иногда даже поучительно. Имея представление о выгодах и благах хлебопашества, князь с помощью нашей со вниманием разбирал вопрос о том, каким образом извлечь из хребта Ала-шаня наибольшее количество влаги. При этом невольно напрашивался пример проведения скрытых под землей галерей, или кэризов[124], которыми с таким успехом пользуются в Восточном Туркестане, в Турфано-люкчунской котловине[125]. После приятной беседы с цин-ваном, во время которой ответственную роль драгомана нес испытанный в этом деле Ц. Г. Бадмажапов[126], мы прежним порядком вернулись к себе на окраину города и с удовольствием сбросили парадное одеяние, быстро облекшись в свое старое удобное дорожное платье. После пребывания в городе мы всегда чувствовали некоторое утомление – слишком непривычными для нас казались шум, сутолока и вообще многолюдство после тишины пустыни.
Благодаря порядочности, с которой держали себя представители русской торговой колонии в монгольском княжестве Алаша, престиж русского имени стоял высоко, и местные власти сочли своим приятным долгом озаботиться доставкой из Пекина еженедельной почты, вследствие чего и мы имели возможность также поддерживать с родиной довольно тесную связь. Первые дни пребывания в Дын-юань-ине промелькнули незаметно. На главном биваке работа не прерывалась ни на минуту – днем приводились в порядок дневники, сортировались коллекции, освежался спирт, исследовались ближайшие к крепости горные увалы, вычерчивались карты к отчетам. Периодически велись расспросы о близких и далеких окрестностях, приобретались этнографические коллекции. Мои младшие сотрудники – незаменимый Иванов и Полютов – сооружали будку для метеорологической станции, причем не мало хлопот было с лесом, который удалось добыть лишь с большим трудом и за дорогую цену. По вечерам производились астрономические определения географических координат.
Двадцать пятого апреля оба мои препаратора – Телешов и Мадаев, а также собиратель растений и насекомых Четыркин втроем снарядились в экскурсию и перекочевали в одно из ближайших ущелий западного склона хребта Ала-шаня. Тихое ущелье Субурган-гол встретило моих спутников приветливо. Несмотря на отсутствие ручьев и речек[127], придающих жизнь и обаятельную прелесть всяким горам, здесь среди леса водились маралы (Cervus) и порядочное количество птиц, за которыми наши охотники экскурсировали с увлечением. В первые две недели было добыто свыше двадцати видов [птиц], до тех пор не имевшихся в орнитологической коллекции экспедиции, и с любезного разрешения владетельного князя – три марала (Cervus asiaticus [Cervus elaphus sibiricus]). Живая, привычная в горах деятельность и новая свежая альпийская растительность давали полное удовлетворение.
Тем временем тепло надвигалось заметно. Бывало уже с раннего утра солнце греет ощутительно [температура в семь часов утра в тени +20°С]; в спокойном воздухе реют и щебечут ласточки, воркуют голуби, баботонят удоды. Иногда с резким визгом проносятся стрижи. А однажды пара больших дроф протянула над домом, в котором проживала экспедиция. Самые разнообразные мухи жужжа пролетают из стороны в сторону; изредка показываются и маленькие бабочки.
Так как возможно полное обследование природы Южной Монголии, именно той ее части, которая носит название Алаша, входило в специальные задания экспедиции, то А. П. Семенов-Тян-Шанский, обработавший по нашей просьбе значительную часть энтомологических сборов экспедиции, дает общую характеристику фауны Алаша на основании изучения свойственных ей жесткокрылых (жуков) и отчасти перепончатокрылых насекомых.
В тихие дни атмосфера становится удивительно прозрачной; хребет Ала-шань открывается во всех подробностях: видны вершины, ущелья, отдельные скалы и лес; издали резко отмечаются места падения пород, слагающих массив. Но все это – до первого движения воздуха. Лишь только поднимаются хотя бы слабый юго-западный или юго-восточный, сменяющие друг друга ветры, как с поверхности земли отделяется пыльная дымка, затмевающая все вокруг. В широко раскинувшейся по сторонам пустыне появляются высокие, тонкие, часто весьма затейливых очертаний вихри и кажется, что эта пустыня вот-вот надвинется и поглотит в своих знойных объятиях цветущий зеленый оазис.
В лучшее вечернее или утреннее время мы любили подниматься на соседнюю с домом высоту и любоваться очаровательной картиной гордых гор Ала-шаня, игравших мягкими переливами красок; по гребню искрились косые солнечные лучи, а над ущельями разливалась сизая дымка, медленно выползавшая на скаты. Особенно контрастно вырисовывалась тогда главная священная вершина Баин-сумбур, привлекавшая ежегодно летом, в июне или в июле, благочестивых монголов, собирая их к своему центральному обо с молитвой, жертвоприношениями и особыми торжественными богослужениями. В бинокль определенно намечалась лесная растительность среднего пояса священного массива и даже отдаленные альпийские луга.
По словам местных жителей, последние пять лет в монгольском княжестве Алаша царила большая засуха, что в соединении с общей скудностью воды и отсутствием порядочных рек и речек повлекло за собой неурожай хлебов. Лишенное главного жизненного подспорья, многочисленное население оазиса беднело, беднел постепенно и управитель, задолжавший со своими тремя хошунами пекинскому двору около трехсот тысяч лан серебра.
Месяц апрель близился к концу; сухость атмосферы продолжала оставаться крайнею, а потому пыль, поднимаемая западным ветром, постоянно наполняла воздух и увеличивала духоту. Тем не менее весенняя жизнь быстро развивалась. За мухами и жуками вскоре появились мелкие насекомоядные птички – славки, мухоловки, горихвостки, крапивники; попорченная морозом и снежным штормом зелень стала давать новые побеги.
На окраине оазиса почти под каждым опрокинутым камнем можно встретить двух-трех, а то и большую компанию скорпионов (Buthus eupeus mongolicus Bir.; subsp. nov.).
Первого мая в 1 час дня в тени термометр показывал уже +27,2°С, явились мелкие насекомоядные птички – славки, мухоловки, горихвостки.
Этот день ознаменовался для нас очень приятным событием: в первый раз за все путешествие русских алаша-цин-ван лично почтил экспедицию своим посещением, тогда как прежде и по отношению экспедиции Н. М. Пржевальского, и по отношению моей Монголо-Камской, или Тибетской, он ограничивался присылкою своих братьев или сыновей.
Как и следовало ожидать, пребывание экспедиции в людном центре сильно увеличило личные расходы путешественников. Всем невольно хотелось приобрести что-нибудь на память, все увлекались безделушками китайского или местного производства. С помощью Ц. Г. Бадмажапова и других алашанских друзей я собрал немало образцов буддийского культа, преимущественно металлических и писанных на полотне бурханов; не прошли мимо нас и исторические художественной работы бронзовые вазы или картины. Все это приобреталось от потомков тайчжи, дворян, частью за деньги, частью в обмен за лучшие личные предметы.
Шестого мая наша экспедиция в полном составе обедала у цин-вана. Князь принял нас, как всегда, радушно и учтиво: мы сразу прошли в парадную столовую, открывавшуюся окнами на сцену домашнего театра, а конвой остался в соседней комнате с чиновниками и сыновьями управителя.
Когда мы сели за стол, представление было уже в полном разгаре: на сцене фигурировала женщина-героиня[128], одержавшая несколько блестящих побед над воинственными соседями; актеры казались в ударе и с трогательной правдивостью изображали животрепещущие моменты военно-героической эпопеи, как, например, отъезд храброй женщины на войну, прощание ее с матерью и, наконец, доблестное возвращение на родину. Третий сын цин-вана, У-е, любитель искусства, не отходил от театра, давая все время советы и приказания, волнуясь за исход представления. Грим, костюмы, оригинальная китайская музыка – не оставляли желать ничего лучшего и особенно чаровали при эффектном вечернем освещении. Начавшийся на исходе дня вялый разговор с ваном к вечеру оживился; а когда стол разукрасился всевозможными яствами, тарелочками и чашечками – все увлеклись едой и театром, забыв всякую натянутость и строгость в обращении. Блюд подавали много – от тридцати до тридцати пяти, со включением пресловутых «ласточкиных гнезд». Больше всего по вкусу гостям пришелся все тот же неизменный баран – наша повседневная еда во время путешествия, великолепно приготовленный по-монгольски «на всякий случай». Последнее блюдо в счет не входило, но лучшим образам выручило и поддержало славу гостеприимного хозяина. Из питий нас угощали сначала довольно невкусной рисовой настойкой, а затем – отличным европейским шампанским.
Женщины вообще не присутствовали на обеде; им была отведена отдельная изолированная комната, откуда они все же имели возможность следить за исполнением пьесы. Князь на несколько минут выходил к экспедиционному отряду и оказал ему, по-местному, большую честь, выпив рюмку вина за здоровье чинов конвоя и пожелав им успеха в дальнейшем странствовании. Следуя обычаям страны, по окончании празднества мы послали актерам в благодарность слиток серебра; не забыли также и поваров; таким образом, в общей сложности обед у цин-вана нам стоил около пяти фунтов [2 кг] китайского серебра.
Торжество закончилось поздним вечером; мы шли обратно пешком, окруженные свитою с фонарями; по случаю большого приема у цин-вана ворота города оставались все время открытыми.

Работы экспедиции шли своим чередом: постройка метеорологической будки подходила к концу; толковый наблюдатель Давыденков, бывший сельский учитель, усиленно готовился к ответственной деятельности; мои старшие сотрудники Чернов и Напалков снаряжались в большой разъезд; им было поставленазадача – изучение хребта Ала-шаня на обоих его склонах, то есть на западном и восточном, с проложением маршрута до северной окраины гор, уже перешедших на правый берег Хуан-хэ. Прилежащая часть долины этой реки также входила в план работ моих спутников. Для ведения зоологических сборов и для услуг в пути я командировал с экскурсантами препаратора Мадаева и двух нижних чинов.
По отъезде товарищей я принялся за систематическую сортировку предметов, добытых в Хара-Хото; таким образом составилось десять ящиков (весом по одному пуду каждый), готовых к отправлению в Русское географическое общество. В свободное время я занимался фотографией, тщательно изучая аппарат и самолично проявляя снимки. При этих работах меня часто сопровождал молодой князь У-е, тоже увлекающийся фотографированием. Вообще говоря, сыновья цин-вана не забывали экспедицию, и я постоянно имел с ними общение. Старший сын и наследник Алаша Да-е, отсутствовавший в Лань-чжоу-фу, также посетил нас тотчас по своем возвращении и выразил мне самое искреннее расположение.
Он держал себя уже по-европейски, имел обычные белые, маленького формата визитные карточки и, принимая посетителей, усаживал их не на пол, а в мягкие кресла перед столом, покрытым бархатною скатертью. Сидя с этим культурным молодым человеком за чашкой чая и кушая печенье, я с удовольствием беседовал о всевозможных вопросах, касающихся Китая, России и в частности их «заброшенного уголка» – Алаша, в то же самое время наблюдая, как в противоположной женской половине дома мимо окон то и дело проходили маньчжурки, монголки и высокая миловидная супруга Да-е, все же скрывавшаяся от посторонних взоров.
Метеорологическая станция экспедиции начала регулярные наблюдения с пятнадцатого мая; все физические инструменты, в том числе и самопишущие приборы Ришара – барограф[129] и термограф[130] действовали надлежащим образом. Производя периодически поверочные астрономические определения, мне удалось между прочим найти точное месторасположение Дын-юаяь-ина, пользуясь несколькими удачными покрытиями звезд неосвещенным диском луны.
Почта по-прежнему баловала нас и приносила известие не только через Пекин, но изредка и через Ургу, где любезный Я. П. Шишмарев особенно наблюдал за скорейшей доставкой нашей корреспонденции.
Этим путем я получил письмо от известного хамбо-ламы Доржиева, искренно порадовавшего меня и невольно навеявшего на меня размышления о Далай-ламе. Сейчас тибетский первосвященник находился в Пекине или в монастыре У-тай, но осенью или зимою собирался отбыть в Амдо, в монастырь Гумбум, где в тайнике души я очень надеялся его встретить и действительно встретил, но об этом речь впереди.
В хорошие, ясные дни, когда солнце уже склонялось к закату и становилось прохладнее, мы нередко упражнялись в стрельбе из винтовок. В это путешествие я особенно серьезно смотрел на вопрос поднятия боеспособности экспедиционного отряда и добивался от своих молодцов-спутников безупречного попадания в цель, так как имелись весьма основательные причины опасаться нападения туземцев. Пользуясь неудачами, постигавшими русские войска во время японской войны, китайцы массами похищали и увозили к себе русские военные ружья, снабжая ими горные дикие племена, населявшие Нань-шань, а главным образом Амдоское нагорье. Воинственные обитатели гор и высоких степей в глубине Азии представляли теперь более грозную силу и при своих разбойничьих нападениях на экспедицию могли оказать значительное сопротивление горсточке русских исследователей, заброшенных вглубь азиатского материка. С этим грустным явлением необходимо было считаться. Кроме винтовок, я заодно упражнялся также в стрельбе из штуцера Ланкастера, некогда принадлежавшего Н. М. Пржевальскому, и получал прекрасные результаты. Наша стрельба привлекла любопытство местной публики, состоящей из монголов и китайцев, и часто вызывала с их стороны громкое восхищение по поводу отличных попаданий в цель.
По уходе моих спутников я обыкновенно еще долго оставался на вершине холма, господствовавшего над Дын-юань-ином. Теперь было самое лучшее время – солнце скрывалось за горизонт, небо наряжалось в блестящие тона и чувствовалась еще большая прохлада воздуха. Отсюда пустыня была видна на далекое расстояние, словно в морском просторе, тогда как ближайший ее край кругом обступал оазис. Со стороны города не долетало ни одного живого звука, не показывалось ни одного живого силуэта: селяне возвратились с полей и скрылись за свои непроницаемые стены.
Тем временем заря картинно разлилась над пустыней и еще картиннее отразилась на вершинах Алашанского хребта. Над ущельями по-прежнему сгустилась синяя дымка, медленно выползавшая на крутые скаты. Еще каких-нибудь полчаса – и летняя ночь спустилась на землю.

Глава восьмая. Хребет Ала-шань
Моя поездка в горы. – Следы периодической энергичной деятельности вод в горах. – Хребет Ала-шань; его флора и фауна. – Горный баран. – Ушастый фазан. – Монастыри Барун-хит и Цзун-хит. – Возвращение членов экспедиции. – Обед и вечер в обществе алаша-цин-вана. – Новые экскурсии моих помощников.
Проводя бо́льшую часть времени в Дын-юань-ине за разного рода занятиями, я всей душой рвался в горы, завидуя спутникам, экскурсировавшим сначала в соседнем ущельи рядом с первой стоянкой в Субурган-голе – Цзосто, где они собрали запоздавших пролетных птиц, а затем в ущельи Хотэн-гол.
При входе в Хотэнголское ущелье находится могила одной из жен нынешнего цин-вана – матери третьего сына – У-е – и двух ее детей, погребенных с нею рядом под насыпями. Место упокоения китайской принцессы обнесено глиняной оградой и украшено аллеей из горных елей. Вблизи, с севера, в самом устьи горного ущелья в скале имеется оригинальная обитель ламайского аскета, некогда проживавшего здесь. Дверь и клетчатое окно придают постройке сказочный характер.
В общей сложности в обоих ущельях мне удалось прожить вместе с экскурсантами около недели, но надежда на богатые сборы, к сожалению, не оправдалась.
Как отрадно, как радостно бывало вырваться из пыльных, грязных людных улиц города на простор, где свободно веет свежий ветерок, обдавая вас горной прохладой и ароматным запахом зелени. Вдали неясно вырисовывается хребет, растительность которого особенно гармонирует с окружающими серыми тонами скал. Заранее уже наметишь себе желанный уголок и стремительно несешься к нему на бойком монгольском иноходце.
Проводимые среди природы дни я всегда старался использовать в самых широких размерах, охотясь за зверями и птицами, пополняя зоологические сборы и определяя высоты седловин или вершин Ала-шаня. Самыми лучшими минутами для меня бывали те минуты, когда в полном одиночестве я сиживал где-либо на одной из вершин хребта, как это было при подъеме на Ала-шань по ущелью Хотэн-гол. По обе стороны, помню, уходили, словно морские дали, бесконечные волнистые увалы, окутанные пыльной дымкой. На западе тянулась песчаная пустыня, а на востоке тускло блестела водная лента Хуан-хэ.
К северу стояли громады отвесных известняковых или песчаниковых скал, контрастно выделяясь своими серо-желтыми оттенками, а к югу вдоль хребта открывался вид на его гребень, извивавшийся зеленою змеею в самых затейливых очертаниях. Подножья гор окаймляли мощные конгломераты, разрываемые в оригинальные балки живыми силами периодических вод, бегущих иногда по крутизнам Ала-шаня со страшною стремительностью. Хребет Ала-шань, кроме того, богат залежами превосходного каменного угля.
В состав хребта – его геологического строения вообще, помимо отмеченных известняков, песчаников и конгломератов, входят сланцы, фельзит, фельзитовый порфир, гранулит, гнейс и породы новейшего вулканического происхождения.
В геологическом отношении более подробно хребет Ала-шань описан геологами В. А. Обручевым[131] и А. А. Черновым[132].
Вблизи меня витали стрижи, а в отдалении парили бурые и снежные или гималайские грифы. Из глубины ущелья долетали голоса кукушки и голубого фазана (Grossoptilon auritum). В подобной обстановке, весь погруженный в созерцание мощной природы, я не замечал времени и мог просиживать часами.
Хребет Ала-шань[133], простираясь в направлении близком к меридиональному, выступает зубчатой стеной, украшенной лесом и ковром альпийских лугов, и отделяет выжженные равнины Ордоса от еще более бесплодной пустыни Алаша. Горы расположены конусообразно, быстро поднимаясь над пьедесталом, причем гребень массива достигает трехверстной высоты. Наивысшая, средняя часть хребта несет обыкновенно притупленные вершины, тогда как более низкие окраины выделяют скалы и пики, иногда напоминающие по форме китайские башни прежних отдаленных времен. Омывая с востока основную часть алашанского массива, река Хуан-хэ как бы разрывает его на две части и обособляет северное крыло гор, имеющее за рекою заметное уклонение на восток.
Глубокие ущелья с отвесными каменистыми склонами врезаются в гигантский вал хребта, образуя вместе с поперечными и продольными седловинами самые сложные сочетания. На дне этих ущелий, в особенности на западном, более многоводном склоне гор, наблюдаются ничтожные ключи и колодцы, большею частью с пресной водой, а иногда с примесью сероводорода. В огромном большинстве случаев ключи содержат лишь самое минимальное количество влаги и вскоре пересыхают; несмотря на это, в них нередко встречаются мелкие рыбки из рода Nemachilus [по-видимому, голец], возможность существования которых кажется действительно довольно загадочной, в особенности если принять во внимание, что во время продолжительной засухи ключи часто пересыхают совершенно[134]. Около воды имеются полянки свежей зелени и пашни и огороды китайцев, обнесенные глинобитными стенками, вероятно для защиты от монгольского скота.
Дорожа водою, туземцы окапывают ключи и ограждают их камнями, чтобы они не растекались по равнине; кроме того, выкапываются водоемы и пруды, из которых по мере надобности пускают воду, необходимую для поливки хлебов.
Как в самом княжестве Алаша, так и на территории Ордоса, с каждым годом растет экономическое порабощение монголов китайцами. Захватывая все лучшие участки земли не только в горах, но и в прилежащей с востока к горам части долины Желтой реки, устраивают образцовые хозяйства, окружают их целыми системами каналов искусственного орошения, а своих добродушных соседей – монголов – вытесняют в глубину бесплодной пустыни. Кроме земледелия, китайцы занимаются добычей каменного угля, зачастую присваивая каменноугольные залежи, принадлежащие алаша-цин-вану, и хищническим истреблением леса. На склонах хребта Ала-шаня нет теперь, кажется, такого ущелья, где бы не стояли группами фанзы, где бы не раздавался стук топора и не мелькали светлые пятна подрубленных стволов.
Промышленники проникают до самого верхнего пояса гор, не щадя ни одной породы деревьев, раз дерево достигло известного определенного возраста[135], и только недоступные дикие скалы сохраняют неприкосновенным переросшее дерево. Повсюду среди леса видны дороги, предательские тропинки, приводящие часто к головокружительным крутизнам, откуда сталкиваются в пропасть бревна и жерди. С более богатого растительностью западного склона хребта лес доставляется в Дын-юань-ин, с восточного – в Нин-ся. Если принять во внимание ежегодную, ничем не ограничиваемую убыль леса, то станет понятным, почему систематически пересыхают ключи и колодцы Ала-шаня, почему оазис Дын-юань-ин беднеет водою и почему, наконец, монгольскому населению в самом недалеком будущем грозит полное разорение.

Н. М. Пржевальский[136] также отмечает эксплуатацию китайцами лесных богатств Ала-шаня: «Целые сотни китайцев из г. Нин-ся занимались рубкою леса. Едва, едва мы могли отыскать небольшое ущелье, в котором не было дровосеков, и то лишь по неимению воды». Через двенадцать лет тот же путешественник писал: «Леса, которые покрывают собою средний пояс как западного, так и восточного склона Алашанского хребта, со времени усмирения дунганской смуты сильно истребляются китайцами и уже много поредели. Также усердно преследуются местными охотниками здешние звери – куку-яманы, кабарга и маралы. Словом, теперь Алашанский хребет был далеко не таким девственным, каким мы нашли его при первом посещении Ала-шаня в 1871 году. Тогда, благодаря разбоям дунган, эти горы целый десяток лет стояли безлюдными, леса росли спокойно, и звери в них множились привольно»[137].
Скудность водных источников и сухой климат Алаша заметно отражаются на растительной и животной жизни гор, представленной вообще довольно бедно[138]. По характеру растительности, преимущественно западного склона, Ала-шань можно разделить на три зоны: нижнюю, или подножье, со включением степных форм растительности, среднюю, или лесную и самую высшую – альпийскую.
Из деревьев нижней зоне свойственны: редкий корявый вяз (Ulmus pumila) и дикие слива и персик (Prunus tomentosa [Serasus tomentosa], Р. sibirica [Armeniaca sibirica] и Р. mongolica), а из кустарников: желтый шиповник и роза (Rosa pimpinellifolia, R. xanthina), золотарник (Сaragana pugmaea, С tragacanthoides var. villosa, C. jubata ver. seczuanica [C. jubata Poir.]), реже ягодный хвойник (Ephedra eqmsetina); ниже, у подножья, обильно растет колючий вьюнок (Convolvulus tragacanthoides), а также колючий острокильник (Oxytropis aciphylla).
Из трав в описываемой зоне преобладают: воронец (Polygonatum officinale), сибирский истод (Polygala sibirica), ревень (Rheum uninerve, R. racemiferum), чабер или богородская трава (Thymus serpyllum), Peganum nigellastum; дикий горький лук (Allium sp.) произрастает во всех зонах; ломонос (Clematis aethusifolia, С. sibirica и С. macropetala) капризно вьется по кустарникам, преимущественно в устьях ущелий; резуха (Androsace alashanica [А. alaschanica], А. septentrionalis, А. sempervivoides и А. maxima) лепится по скалам. Повыше, а иногда и здесь встречаются: первоцвет (Primula cortusoides), молочай (Euphorbia esula), Agropyrum cristatum, очиток (Sedum hybridum), ковыль (Stipa orientalis и S. inebrians), перловник (Melica scabrosa), кресс (Lepidium micranthum [L. apetalum]), козелец (Scorzonera carito, S. austriaca) и много других растений.
Вообще надо заметить, что наши наблюдения и сборы флоры и фауны хребта Ала-шаня главным образом, обнимают район ущелий Цзосто, Дартэнто, Ямата, Хотэн-гол и Субурган-гол по западному склону гор.
Лесная область – самая широкая, богатая и разнообразная; и здесь леса растут, главным образом на северных склонах ущелий. Древесных пород весьма мало: ель (Picea Schrenkiana), тополь (Popnlus Przewalskii), осина (Populus tremula) и низкорослая лоза, или ива (Salix sp.); к ним в небольшом количестве примешивается древовидный можжевельник (Juniperus pseudosabina), реже – белая береза (Betula alba), а на восточном склоне гор – сосна (Pinus sinensis). Из кустарников по западному склону Ала-шаня там и сям произрастают: барбарис (Berberis dubia), крушина (Rhamnus virgata [R. parvifolius]), белый и желтый курильский чай, или лапчатка (Potentilla glabra [Р. davurica], Р. anserina, Р. multifida, Р. subacaulis [Р. acaulis], Р. tenuifolia [Р. fruticosa], Р. daurica [Р. davurica], Р. fruticosa и Р. bifurca var. Moorcroftii), таволга (Spiraea mongolica и S. hypericifolia), лещина (Ostryopsis Davidiana), жимолость (Lonicera sp.) и стелющийся по скалам можжевельник (Juniperus rigida). Прелестная сирень (Syringa serrata [Syringa sp.]) ютится в лесных ущельях; там же, по горным склонам встречаются: Cotoneaster sp., смородина (Ribes pulchellum, R. alashaniea [Ribes sp.], малина (Rubus idaeus) и вьющееся Atragene alpina.
Из травянистых растений в лесных участках или в большем и меньшем отдалении от них весьма обыкновенны: фиалки (Viola pinnata [V. dissecta], V. collina, V. hirta, V. biflora и V. incisa), красная лилия (Lilium tenuifolium), красивый, с розовыми цветами мытник (Pedikularis sp.), василек (Centaurea monanthus), водосбор (Aquilegia viridiflora), мышьяк (Thermopsis lanceolata), Anemone nareissiflora, Scrophularia kansuensis, астрагал (Astragalus ochrias, A. membranaceus), чагеран (Hedysarum polymorphum), пышные Rhapomticum uniflorum Polygonatum sibiricum. В местах, наиболее влажных растут: кипрей (Epilobium augustifolium), валериана (Valeriana tangutica), желтый одуванчик (Taraxacum officinale и Т. dissectum), василистник (Thalictrum minus), вероника ключевая (Veronica anagallis), подорожник (Plantago depressa), заячий салат (Sonchus oleraceus), Physalis alkekengi, рдест курчавый (Potamogetoni crispus), Silene repens, Rubia cordifolia, Sanguisorba alpina.
Несколько повыше, по скатам, стелются полынки (Ariemisia vulgaris, А. frigida, А. sacrorum и А. pectinata), Sibbaldia adpressa, стручковый перец (Capsicum annuum), Piptanthus mongolicus, Cymbaria mongolica, кровохлебка (Sanguisorba officinalis), портулак (Portulaca oleracea), качим (Gypsophila acutifolia [G. Patriniil, G. acutifolia var. Gmelini [G. var. Gmelini), фасоль (Phaseolus nanus), кишнец огородный (Coriandrum sativum), молокан (Lactuca versicolor), котовик (Nepeta macrantha), крупка (Draba nemorosa var. leiocarpa) и гусиный лук (Plecostigma pauciflorum [Gagea pauciflora]). По скатам гор и берегам русел можно, найти касатик (Iris ensata), а у родников – осоку (Carex pediformis var. rhizina [С. pediformis С. А. М.]) и камыш (Scirpus maritimus).
Альпийскую зону начинают, помимо уже многих из отмеченных травянистых форм, еще и новые, как например, лютик (Ranunculus sp.), горечавка (Gentiana squarrosa, G. decumbens, G. macrophylla), живокость (Delphinium sp.), очень красивая гвоздика (Dianthus superbus), нарядная хохлатка (Corydalis adunca).
По мере поднятия даже приземистая кустарниковая растительность вовсе исчезает, за исключением колючей караганы, восходящей на самые главные вершины Ала-шаня. Зашедшие в альпийскую область травянистые виды обыкновенно превращаются в карликов и едва лишь поднимаются от земли.
В самом верху альпийской зоны найдены: Polygonufn Laxmanni, Saussurea pygmaea, Hesperis[139].
Что касается фауны млекопитающих и птиц хребта Ала-шаня, то она также не богата. За все время нашего пребывания в описываемых горах нами найдено около десяти видов млекопитающих. Из них первое место занимает краса и гордость Ала-шаня – марал (Cervus asiatieus), пользующийся покровительством владетельного князя, который воспретил охоту на благородного зверя. Марал держится преимущественно в хвойном лесу. Затем следуют: кабарга (Moschus mosehiferus), горный баран, или, как его называют монголы, куку-яман (Pseudois burrhel), держащийся во множестве в восточной, более скалистой части гор, и аргаля (Ovis darwini [Ovis ammon]), встречающийся исключительно в северной, безлесной части хребта[140].Из хищных здесь водятся: волк, лисица, хорьки, а из грызунов – заяц (Lepus gobicus [Lepus toiai gobicus]), суслик (Sipermophilus alashanicus [Citellus alachanicus]), пищуха (Lagomys rutilus [Ochotona rutila – красная пищуха]) и мышь (Mus chevrieri [Apodemus agrarius – полевая мышь]).
После того как с разрешения алаша-вана мы убили трех маралов, наши охоты сосредоточились почти исключительно на горных баранах, описанных Н. М. Пржевальским[141].
Орнитологическая фауна хребта Ала-шаня[142] собрана экспедицией по возможности полно и заключает в себе около пятидесяти видов, которые, однако, не в состоянии хоть сколько-нибудь заметно оживить горы, несущие вполне дикий альпийский характер. Здесь не то, что в Восточном Тибете или Каме, в особенности в бассейне Меконга, где каждое ущелье дышит жизнью, полно живых звуков пения птиц, полно журчания ручьев и речек, в высоких брызгах которых картинно отражаются маленькие радуги. Здесь в Ала-шане густые лесные заросли и окаймляющие ущелье скалы одинаково поражают наблюдателя своим безмолвием.
Иногда целыми часами тишина не нарушается никаким посторонним звуком. и стоит лишь закрыть глаза, как невольно вспоминается абсолютная тишина соседней песчаной пустыни. Тем с большим оживлением улавливает слух звонкие трели овсянок (Tisa variabilis [Emberiza spodocephala], Cia godlewskii), Corpodacus pulcherrimus, синиц (Periparus ater pekinensis [Parus ater pecinensis], Poecile affinis [Parus atricapillus affinis], Acredula calva [Aegithalos caudatus vinacea]), славочек (Sylvia curruca minula) и маленьких пеночек (Reguloides superciliosus superciliosus [Reguloides superciliosus], Oreopneuste fuscata [Phyllascopus fuscatus], Oreopneuste affinis [Phyllascopus fuseatus], Oreopneuste armandi [Phyllascopus armandi]); там и сям перемещаются с дерева или с одной скалы на другую краснохвостки (Ruticilla alaschanica [Phoenicurus alaschanica], Ruticilla aurorea [Phoenicurus aurorea]), дрозды (Turdus ruficollte, T. obscurus, Monticola saxatilis); при устьях ущелий можно встретить чекканов (Saxicola pleschanka [Oenanthe pleschanka], Saxicola isabellina [Oenanthe isabellina], хохлатых жаворонков (Galerida cristata lautungensis), Rhopotphilus pekinensis pekinensis, больших скалистых кэкэликов (Caccabis magna [Alectoris graeca magna]), а несколько повыше, в глубине ущелья по мелким кустарникам – даурских куропаток (Perdix dauriea).
По карнизам скал любят держаться каменные голуби (Columba rupestris), а в гуще леса – другие (Turtur Orientalis), иногда сиротливо, протяжно проворкует первый вид или уныло и глухо пробудит тишину второй. Невдалеке, на опушке леса, на высоком можжевельнике кормится дубонос (Mycerobas carneipes), издавая своеобразные звуки. Среди мрачных, угрюмых утесов вдруг на мгновенье появится, словно яркий цветок или бабочка, краснокрылый стенолаз (Tichodroma muraria), на которого я любил засматриваться, в особенности когда эта птичка у меня над головою перелетала поперек ущелья. По горным луговым скатам нижнего пояса кое-где ютились жаворонки (Otocorys brandt[Eremophila alpestris Brandti]); по мокрым лугам, у родников – плиски (Motacilla leucopsis [Motacilla alba leucopsis], Calobates boarula melanope, Budytes citreola), щеврицы (Anthus maculatus [Anthus hodgsoni]) и кулички (Aegialites dubia [Charadrius dubius]).
На высоких, часто, отдельно стоящих елях усаживались черные вороны (Corone macrorrhynchus japonensis [Corvus macrorrhynchus]), тогда как краеноклювые клушицы (Graculus graculus [Pyrrhocorax pyrrhocorax]) забирались в скалы верхнего пояса гор, где с криком стайками вились у ниспадавших каменных стен. Там же попадались и самые быстрые летуны – стрижи (Cypselus pacificus [Apus pacificus]), обыкновенно резким шумом оглашавшие тишину; рядом со стрижами, но чаще ниже их, спокойно реяли вдоль каменных карнизов горные ласточки (Biblis rupestris). По скалам среди леса выдавали себя завирушки (Spermolegus fulvescens [Prunella fulvescens]), а по опушкам хвойной заросли – поползни (Sitta villosa). В мае месяце из глубины леса оригинально неслось «ку-ку» серой кукушки. (Cuculus canorus), а в чаще кустарников раздавалось звонкое пение вертлявой темной птички Pterorrhinus davidi.
По кустам лозы на вершинах в одиночку сидели сорокопуты (Caudolanius tephronotus [Lanius tephronotus]), Otomela phoenicura [Lanius cristatus phoenicurus]); по соседним крутизнам, одетым колючей караганой, я нередко наблюдал мухоловок (Syphia albicilla [Muscieapa albicilla]). Ранним утром, едва вершины гор позолотятся ярким солнцем, как на фоне голубого неба выше гребня хребта кружат могучие грифы – бурый (Vultur monachus [Aegypius monachus]), снежный, или гималайский (Gyps himalayensis) и бородатый; ягнятник (Gypaеtus barbatus). Ко всем этим царственным птицам туземцы относятся с должным уважением и никогда их не стреляют. В заключение перечня птиц гор Ала-шаня можно указать на орла-беркута и большого сокола типа Gennaia, которые наблюдались нами только издали, но которые не попадали в нашу коллекцию; что же касается до сокола-пустельги (Tinnunculus timxunculus tinnmiculus [Cerchneis tinntmculus]) – этого широко распространенного хищника – то он, конечно, и здесь является самою обыкновенною птицею.
Но если бы вы вздумали спросить местного обитателя монгола, какая из птиц в хребте Ала-шань самая хорошая и интересная, то монгол ответил бы вам – «хара-такя», то есть «черная курица», или, по-нашему, голубой, или ушастый фазан (Crossoptilon auritum), за которым монголы так же усердно охотятся, как и за вышеописанным зверем – куку-яманом. Описываемый вид принадлежит к особому роду, отличающемуся отпрочих фазанов присутствием на задней части головы удлиненных пучков перьев. Ушастый фазан ростом гораздо больше обыкновенного фазана, имеет сильные ноги и большой крышевидный хвост, в котором четыре средних пера удлинены и рассучены. Общий цвет перьев тела свинцово-голубой; перья хвоста имеют стальной отлив и белое основание; удлиненные ушные перья и горло белого цвета; голые щеки, равно как и ноги, красные. Самка по оперению совершенно походит на самца, от которого отличается лишь отсутствием на ногах шпор и несколько меньшим общим размером.
Местопребыванием хара-таки служат горные леса, изобилующие скалами. Кормится голубой фазан исключительно растительною пищею и на жировке ходит мерным шагом, держа горизонтально свой великолепный хвост.
Поздней осенью и зимою описываемый вид держится небольшими обществами и, подобно прочим фазанам, садится на деревья. Ранней весною разбивается на пары, занимающие определенную область, в которой выводит молодых.
Гнездо, по словам монголов, делается из травы в густых зарослях, и в нем бывает от пяти до семи яиц.
Ранней весною, лишь только стаи разобьются на пары, самцы начинают токовать. Голос их чрезвычайно неприятный, напоминает крик павлина, только несколько тише и отрывистее; кроме того, описываемая птица изредка произносит особые глухие звуки, отчасти напоминающие голубиное воркованье; будучи же внезапно вспугнут, голубой фазан кричит весьма похоже на цесарку.
«Однако даже в период любви, – говорит Н. М. Пржевальский[143], – у описываемой птицы нет такого правильного токования, как у обыкновенных фазанов или тетеревов. Самец ушастого фазана кричит лишь изредка, с неопределенными промежутками, обыкновенно после того, как уже взойдет солнце, хотя иногда голос этой птицы слышится еще до рассвета или даже днем, около полудня».
Эта прекрасная и в высшей степени оригинальная птица терпит жестокое преследование от туземцев из-за своих длинных хвостовых перьев, идущих на украшение форменных шляп китайских чиновников. Будучи близко знакомы с нравом голубого фазана, местные охотники отлично подметили его привычку почти всегда переходить пешком через гребешки горных увалов; поэтому в определенных местах устраиваются заграждения из валежника и разного лома с одним лишь отверстием для прохода, где и ставится ловушка. Подойдя к вершине гребня, фазан начинает искать способ миновать препятствие, наконец находит предательский проход, вступает на прилаженную дощечку и, скользнув вниз остается висеть, крепко схваченный веревочной петлей за ноги. Багодаря такому нещадному истреблению, притом обладающие даром смышленности, ушастые фазаны держатся весьма строго, и охота на них в горах Ала-шаня представляет большие трудности.
По части насекомых в ущельях западного склона тех же Алашанских гор экспедицией произведены порядочные сборы.
В глубине массива Ала-шаня в скалистых живописных ущельях, прячутся два больших высокопочитаемых монголами буддийских монастыря: Барун-хит и Цзун-хит. Барун-хит, или Западный монастырь, отстоит от Дын-юань-ина верстах в тридцати к юго-востоку и лепится по скатам, у подножья расположенных полукругом горных отрогов Буту-дабан и Гурбун-ула, откуда стремительно вытекает быстрая, звонкая речка Ихэ-гол. По отвесным стенам скал пестрят высеченные и расписанные художником изображения божеств и молитвенных формул, что в соединении с большими и малыми храмами, которых всего семь, белыми субурганами и всякого рода обо и здесь вблизи, и вздымающимися по зеленым командующим вершинам вдали – производит оригинальное и приятное впечатление.

Но как ни великолепен, как ни красив, как ни знаменит Барун-хит, лучшим монастырем монгольского княжества Алаша все же считается Цзун-хит или Восточный монастырь, расположенный верстах в тридцати к северо-востоку от Дын-юань-ина среди лесистых, скалистых увалов, омываемых речками Намага-гол и Барун-гол. Чем дальше мы продвигались в своем пути к северо-востоку от оазиса, тем заметнее редел лес по склонам хребта Ала-шаня. По крутизнам и скалам верхнего пояса гор все чаще пестрели серые каменные россыпи, разрезавшие зеленые площади луга. Наконец, спустившись в бурую балку, обставленную мощными конгломератовыми берегами, инесколько раз переменив направление, следуя по извилистой дороге, я увидел большой храм, ярко блестевший белизною стен и золочеными ганчжирами, обо и многочисленные, развешанные на деревьях мани. Здесь лес снова приобрел прежнюю мощность и живописно одевал склоны прилежащих монастырских холмов.
Цзун-хит славится по всему княжеству своим порядком отправления церковных служб и строгими правилами, унаследованными еще от высокочтимого алаша-ламы Дандар-лхарамбо, сумевшего поставить монастырь на должную высоту. Кроме дел чисто религиозного характера, Дандар-лхарамбо занимался также литературным трудом: он написал лучшую грамматику монгольского языка и перевел немало тибетских книг на монгольский язык. Не только храмы, но и помещение лам в Цзун-хите очень симпатичны и опрятны: большие и просторные кельи безукоризненно чисты и обставлены комфортабельно. Золоченые и писаные бурханы и гау – шейные или грудные киотки для амулетов – занимают первое место. Из окон открываются прекрасные виды на зеленые лесные скаты, чередующиеся с серыми отвесными скалами.
Время моего пребывания в монастыре Цзун-хит совпало с праздником в честь бодисатвы, покровителя скотоводов, Майтрея. Тихое однообразное молитвенное настроение обители было нарушено приездом многочисленных богомольцев и различных торговцев-китайцев, почуявших легкую наживу среди праздничной толпы. Погода стояла отличная, солнце ярко блестело, отражаясь на золотых ганчжирах и кровлях; белые постройки монастырских храмов резко выступали на мягком зеленом фоне растительности; гулявшие по монастырю нарядные посетители дополняли отрадную картину торжества.
Сам праздник начался с утра следующего дня[144] длинным шествием лам (вроде православного крестного хода), которое растянулось по дну прилежащего ущелья и его береговым скатам. Каждый лама нес какой-либо атрибут церковной службы; в середине процессии покачивалась восседавшая на носилках фигура божества Майтреи; стройная музыка гармонировала с общим светлым и радостным настроением.
По окончании этой своеобразной церемонии – когда молящиеся сделали круг и достигли главного храма с другой стороны – они стали группироваться на площади под навесом; здесь в парадной палатке с балдахином помещалось большое металлическое изображение Майтреи; за этим центральным кумиром, спускаясь на лентах с церковной кровли до земли, висел в наклонном положении шелковый, шитый золотом образ того же чествуемого божества Майтреи.
Да-лама занял председательствующее место на возвышении, справа и слева, впереди него сели его помощники, которыми начинались длинные ряды второстепенных лам. Рядом с ламами разместились молящиеся, слева от бурханов – мужчины, группируясь около князя Арьи, справа – женщины, имея во главе княгиню.
Вначале служба походила на обряд освящения воды; затем, после молитвы о ниспослании богатств, ламы выстроились в ряд и стали подходить к молящимся, начиная с княжеской четы, поднося для прикладывания ко лбу различные реликвии. Тем временем к Майтреи подходили ламы-воины, в числе шести человек, с секирами в руках, с подобием масок на головах, проделывая перед божеством различные эволюции до плясок и помахивания секирами включительно. Одновременно трое лам-старцев вроде цаган-обогунов, стоя перед молящимися, поочередно читали нараспев молитвы и трижды ударяли в звонкий гонг. В заключение да-лама сошел с возвышения, одел китайские плисовые сапоги и направился к центральному Майтреи, трижды поклонился (растяжными поклонами) этому божеству и возложил хадак; этому примеру последовали князь, княгиня, а за ними и все прочие молящиеся. На этом торжественное богослужение и окончилось.
Кроме вышеописанного, особенно чтимого буддистами праздника Майтреи, у монголов в течение всего июня месяца совершалось немало молебствий, обращенных главным образом к богу-покровителю вод. От благосклонности этого божества зависело благосостояние туземцев, с надеждою взиравших на засеянные хлебом поля. К всеобщей радости, с первых чисел июня стали перепадать дожди, воздух очистился, зелень заметно посвежела. Летнее солнцестояние выразилось на этот раз не бурями-суховеями, как обыкновенно, а обильными атмосферными осадками. Надо полагать, что гребень Ала-шаня, достигая трехверстной абсолютной высоты, еще способен сгущать остатки водяных паров, прорывающихся через восточный Куэн-лунь в южную окраину Гоби, и бывают такие удачные годы, когда вследствие достаточного естественного орошения монголы-алаша собирают очень хороший урожай, и прилежащая к горам пустыня богата подножным кормом.
Между тем, главный бивак экспедиции при Дын-юань-ине вновь оживился: прибыли мои старшие сотрудники: капитан Напалков и геолог Чернов, благополучно совершившие свои исследования в области хребта Ала-шаня и долины Желтой реки. Начав экскурсию вместе, через десять дней они решили разделиться и составить два совершенно самостоятельных разъезда. Кропотливая и тщательная работа геолога требовала довольно продолжительного пребывания в каждом попутном ушельи, тогда как картограф, ведая более общей частью научного исследования, мог продвигаться гораздо быстрее, охватывая более обширный район, нежели его товарищ. В результате капитан Напалков прошел вдоль правого берега Хуан-хэ неподалеку от значащагося на последних картах озера Бо-му в Ордосе и путем расспросных сведений выяснил, что такого озера ныне не существует, что оно существовало шесть поколений тому назад, и окружность его равнялась расстоянию, которое можно проехать верхом на лошади в течение суток.
Ныне на месте прежнего Бо-му расстилается болотистая котловина с зарослью солянок, известная у местных обитателей под названием Сыртын-куку-нор. Проходом Тумур-ула – самым удобным в хребте Ала-шань – П. Я. Напалков возвратился в Дын-юань-ин, куда четыре дня спустя прибыл и А. А. Чернов. Маршрут геолога экспедиции естественным образом жался к горам и внедрялся в самые горы за Нин-ся включительно, где, ознакомившись с неисследованными до того времени горами Ордоса – Каптагери и Арбисо, направился наперерез того же хребта Ала-шань кратчайшим проходом[145] Шара-хотул (около 8350 футов [около 2540 м] абс. высоты) на главный бивак.
Последние дни июня месяца бежали быстро в работе по писанию отчетов, писем и упаковке собранных коллекций, из коих один геологический отдел занял восемнадцать пудовых ящиков[146]. У всех чувствовалось повышенное настроение. Теперь, покончив с исследованием Алаша и Ордоса и по возможности шире ознакомившись с общим характером соседнего хребта Ала-шань, мы мечтали о дальнейших работах в Нань-шане и Куку-норе.
Незадолго до отъезда экспедиции из Дын-юань-ина Ц. Г. Бадмажапов дал нам прощальный обед, на котором присутствовал также алаша-цин-ван и молодые князья, допущенные в виде исключения за общий стол с отцом. Угощение продолжалось на протяжении свыше четырех часов времени и удалось на славу. Гостеприимный хозяин предоставил гостям всевозможные деликатесы китайского кулинарного искусства и европейские вина. Шампанское лучшей марки занимало первое место. Когда уже совсем стемнело, мы всей компанией вышли погулять. С соседней высоты был пущен фейерверк. Полный эффект произвела пара сильных ракет, взвившихся на страшную высоту и пробудивших тишину могучим гулом, и рассыпавших снопы огненного дождя. В заключение прекрасно проведенного вечера я открыл цин-вану астрономическую трубу, в которую монгольский князь долго любовался луной и звездами.
Среди сборов в дорогу я выбрал свободное время и отправился к монгольскому князю с прощальным визитом. Ван принял меня со своими сыновьями – Арьей и У-е, как всегда, дружески и тепло; между прочим он расспрашивал о дальнейших планах экспедиции и о времени возвращения ее в его страну, в его резиденцию, где под покровительством алаша-вана оставался склад и метеорологическая станция экспедиции. Расставаясь по-приятельски, мы обменялись фотографическими карточками. На следующий день хозяин Алаша прислал мне в подарок прекрасного серого иноходца под богатым монгольским седлом, но от этого подарка, к сожалению, мне пришлось отказаться, находя изнеженную культурную лошадь мало подходящей для весьма трудной предстоящей дороги. Молодые князья доставили мне немало удовольствия, поднеся в свою очередь на память историческую китайскую чашечку, найденную при раскопках в Китае, современные принадлежности китайского письменного стола и альбом фотографий Дын-юань-ина.
Приблизилось время выступления экспедиции; для более успешной ее деятельности мы разделились на три группы. Первым оставил Дын-юань-ин топограф Напалков в сопровождении гренадера Санакоева и казака Мадаева. Целью этого разъезда я наметил исследование долины реки Тяо-цуй до города Гу-юань-чжоу и дальнейшего пути к Синину через Лань-чжоу-фу. В Синине мой сотрудник должен был ожидать возвращения экспедиции с Куку-нора. Помимо главной картографической работы, П. Я. Напалкову поручалось вести заметки этнографического характера и собирать насекомых.
Через три дня, то есть второго июля, мы проводили в далекий путь А. А. Чернова, которого сопровождали препаратор Арья Мадаев и гренадер Демиденко. Как намечалось еще в Петербурге, геологической экскурсии предстояло проложить новый путь по пустыне до Сого-Хото (Чжэнь-фань) и пересечь Нань-шань по диагонали Лян-чжоу – Куку-нор. На Куку-норе мы должны были встретиться.
Теперь оставалась очередь за мной, или за главным караваном, которому предстояло прежде всего опять окунуться в дикую песчаную пустыню, окаймляющую подножье Восточного Нань-шаня и его культурную полосу с китайским земледельческим населением с севера. На всем или почти на всем протяжении пустыни караван должен был следовать в юго-западном направлении, придерживаясь моего прежнего монголо-камского пути до Чагрынской степи. Отсюда через город Пинь-фань, поперек Нань-шаня в долину реки Синин-хэ; затем вверх по этой последней до города Синина и далее перевалом Шара-хотул в бассейн Куку-нора.

Куку-нор и Амдо 1908–1909 гг.
Глава девятая. Поперек восточного Нань-шаня, провинция Ганьсу
Мысли перед выступлением в дальнейший путь. – Лама Иши. – Дождь задержал караван до шестого июля. – Опять песчаная пустыня. – Урочище Ширигин-долон и пески Тэнгэри. – Южная граница Алаша. – Культурный характер местности. – Попутные китайские города и селения; граничащие с ними горы и долины. – Вид на Нань-шань. – Город Сун-шан-чен.
Уже за несколько дней до оставления Дын-юань-ина я мечтал о Куку-норе, восточном Нань-шане и Тэтунге. Куку-нор манил своим «сердцем» – островом, Нань-шань – богатством флоры и фауны, грозный Тэтунг – громадами скал и силою бурливого течения. Со времени первого путешествия Тэтунг очаровал меня своею дикой красотой, зажег сознательную страсть к путешествию и сблизил навсегда с Пржевальским. Воспоминание о Тэтунге воскрешает Пржевальского.
Едва мы проводили своих товарищей Чернова и Напалкова, как уже и нам подали свежих, откормленных верблюдов, которые в числе тридцати были заусловлены доставить главный караван на Куку-нор и обратно в Синин.
В роли старшего ответственного подводчика верблюдов явился все тот же прекрасный монгол-алашанец, который успешно доставил экспедиционный транспорт из Урги в Дын-юань-ин в самом начале путешествия. Теперь проводить нас на юг и познакомиться с нами прибыл и сам владелец этих верблюдов, первый богач в княжестве Алаша – лама Иши, район кочевок которого находится по соседству с монастырем Шарцзан-сумэ, то есть верстах в 230 к северо-западу от Дын-юань-ина.
Высоким ростом, атлетическим сложением, богатством своих одежд лама Иши производил должное впечатление на окружающих. Мне лично лама Иши очень понравился своим уменьем держать себя, а главное – спокойствием, положительностью и строгим выполнением данного слова. На прощанье местный крез, любимец алаша-цин-вана, взял с меня обещание на обратном пути остановиться на денек-другой в его владениях. «Надеюсь, – говорил лама Иши, – мои же верблюды свезут вас и к вашим родным пределам!».

К нашему общему огорчению, дождь не переставал лить в течение трех суток и задержал нас до шестого июля. В отдалении то и дело слышались громовые раскаты; воздух наполнился сыростью, температура понизилась до +15°С. Густые, серые, иногда свинцовой окраски облака окутывали горы и отчасти даже прилегающую равнину. Пятого июля к двум часам дня смиренно бежавшие в широких каменистых руслах ручейки превратились в грозные потоки, катившие высокие желтые мутные волны. Мосты не могли устоять против стихии и рухнули в воду, куда то и дело с шумом обрывались подмытые части крутых берегов. В своем разрушительном беге вода не щадила ничего на пути и уносила немало мелких животных, случайно ставших ее жертвами. Вблизи грандиозного зрелища собирались толпы китайцев и монголов, часами следившие за развитием бури. Под влиянием беспрерывных дождей и сырости Дын-юань-ин принял самый жалкий, опустошенный вид: по улицам стояла невылазная грязь, глиняные ограды и даже стены жилых помещений разваливались и, таким образом, открывали интимную сторону жизни туземцев.
Наконец в воскресенье шестого июля мы завьючили караван и, покинув город с его шумом и сутолокой, сразу окунулись в глубокую тишину пустыни. Первый небольшой переход до ключа Байшинтэ[147] экспедицию провожали русские отшельники в Южной Монголии – Ц. Г. Бадмажапов и его помощник Симухин, распрощавшиеся с нами надолго и пожелавшие в дорогу благополучия и успеха.
Приятный родник был окаймлен изумрудною зеленью, среди которой выделялись: Melilotus suaveolens, Convolvulus sagittatus, Statice aurea, Peganum harmala, Inula britannica, Lagochilus diacanthopyllus, Sorbaria sorbifolia, Chenopodium, Astragalus и Rheum.
Обмытый воздух сделался необычайно прозрачным и давал возможность, с одной стороны, любоваться яркой зеленью гор Ала-шаня, с другой – следить за широко расстилавшейся к западу песчаной равниной, скрывавшейся за горизонт. Маршрут экспедиции пересекал пустынный залив в юго-западном направлении, отрезая восточные мысы песков, простиравшихся к волнистым высотам левого прибрежья Желтой реки.
Первое время, следуя по окрайним холмам подножья соседней Дынь-юань-ину части хребта Ала-шаня, мы вскоре оставили колесную дорогу и вступили на караванный путь к Синину, где, проходя вдоль русла речки Ихэ-гол[148], с интересом наблюдали осыпи и обвалы – следы недавнего пребывания высокой воды. Наш караван состоял исключительно из верблюдов[149] (если не считать четырех верховых лошадей, на которых ехали члены экспедиции и препараторы), довольно успешно шагавших по раскаленной дневной жарой песчаной поверхности, которая в последнее ненастье порядочно зазеленела. У ног шныряли песчанки, ящерицы, ползали жуки, летали мухи, наполнявшие воздух обычным жужжанием; реже порхали бабочки.
Среди птиц ощущалась большая бедность: по мелким лужам дождевых вод держались одиночные турпаны, ходулочники, кряквы; по морскому песку перебегали серые кулички (Rhyacophilus glareola [Tringa glareola]) и зуйки (Cirrepidesmus alexandrinus [Charadrius alexandrinus]); там, где встречалась хоть какая-нибудь зелень, можно было наблюдать хохлатых и рогатых жаворонков (Galerida et Otocorys [Eremophila]), а однажды показались и журавли-красовки (Anthropoides virgo), кормившиеся ящерицами.
Из хищников нам удалось подметить лишь орла, неподвижно сидевшего на возвышении берега над узкой полосой воды, и быстрокрылого сокола, мчавшегося за не менее быстрокрылым больдуруком. Еще более, нежели птицами, бедна пустыня млекопитающими, дававшими о себе знать в виде призраков или силуэтов антилоп (Gazella subgutturosa), появлявшихся на гребнях горных грив или песчаных увалов. Кое-где общая монотонность нарушалась присутствием жилищ человека: на востоке, ближе к горам, жались редкие китайские фанзы, а на западе виднелись войлочные юрты монголов; кругом неизменно паслись жалкие стада баранов, верблюдов, а иногда и стада рогатого скота.
Томительно однообразно и тяжело передвижение в пустыне летом. Еще ночью чувствуешь себя удовлетворительно, но чуть блеснут лучи солнца, как начинается настоящий жар, притупляющий всякую энергию. Даже прославленные «корабли пустыни» и те тяжело бредут в жаркое время. Чаще и чаще посматриваешь на часы, напряженнее вглядываешься в даль, ищешь крохотного зеленого клочка, долженствующего приютить караван у колодца. Расстояния в пустыне очень обманчивы: со стоянки при урочище Байшинтэ мы ясно различали общие контуры придорожного обо Бомбото и недалекой казалась возвышенность Шангын-далай; но увалы сменялись увалами, открывались все новые пространства пустынной местности, испещренной выходами конгломератов и бурого песчаника, а намеченные пункты не приближались; только переночевав в урочище Тарбагай[150] и сделав еще трудный переход в сорок две версты, мы наконец достигли горки Шангын-далай, где оказался хороший колодец. В окрестности колодца, там и сям, можно видеть: Phragmites communis, Caragana Korshinskii, Stellaria gypsophiloides, Myricaria germanica и немногие другие растения.
В первой половине песков нас сопровождало знойное солнце, давшее почувствовать всю «прелесть» пустыни. Песок накалялся до +70°С, и через тонкую подошву сапог прожигал ноги; бедные собаки страдали пуще нас, несмотря на большую заботливость и предусмотрительность фельдфебеля Иванова, который через каждые полчаса отвязывал от вьюка корытце и бережно наливал Сигналу[151] воду. Собаки отлично знали это и к известному времени без зова подбегали к передовому эшелону, вопросительно глядя на Иванова. Между тем песчаные барханы громоздятся один на другой все выше. Верблюды натягивают бурундуки – поводья, тяжело дышат; вереница этих гигантов то поднимется на вершину бархана, то спустится к его основанию. По песчаной поверхности мягко ступает широкая лапа верблюда; ее своеобразный шорох едва слышен, будучи заглушаем тяжелым, учащенным дыханием животных.
Поднимешься на высокий бархан, и опять прежняя картина – всюду песок, песок и песок. Во рту давно пересохло: сухость пустынного воздуха крайняя.
Девятого июля, в мрачное томное утро, мы выступили особенно рано. Венера поднялась высоко, в теплом воздухе кружились тысячи насекомых, мелькали летучие мыши. Нам предстояло пересечь горы Дэрэстэнхотул, входящие, вероятно, в состав массива Лоцзы-шань, что по-китайски значит «Гора-мул». Подъем на перевал растянут на шесть верст. С вершины в юго-западном направлении, нам открылась долина, подернутая пыльной вуалью. В отдалении виднелись белые постройки монастыря Цокто-курэ; сыпучие пески обступали его со всех сторон, и только благодаря дождливой погоде с запада и юга блестели полоски болотистых вод, окаймленных зеленой полукустарниковой пустынной растительностью.
Караван остановился не доходя до монастыря, при колодце Баин-худук, где у пустой колоды, понуря головы, стояло несколько ослов, тщетно ожидавших утоления жажды. По соседству кочевали монголы со своими стадами, и близость этого населения сказывалась очень печальным явлением: монголы не умели содержать в чистоте единственный источник жизни – Баин-худук, издававший крайне неприятный запах вследствие обильного присутствия в нем выделений домашних животных.
При колодце Баин-худук мы нашли только Plantago mongolica и Reaumuria trigyna.
В сумерках в окрестности колодца прыгали резвые тушканчики (Dipus), которых гнали перед собой возвращавшиеся с пастьбы стада баранов.

Пески становились все более и более внушительными. Теперь грядовые барханы, расположенные в меридиональном направлении, заполнили собою весь видимый южный горизонт. Верблюды медленно шагали по рыхлому грунту, осиливая кроме того небольшой подъем; местами тропа пересекала пространства твердой землистой поверхности, где выступали обнажения светлого конгломерата, и движение несколько облегчалось. Лишь изредка ярко-желтый сыпучий песок расступался, давая место нешироким впадинам с жалкими лужами горько-соленой воды, окаймленной кустами хармыка и кое-какой травянистой растительностью.
В одной из таких долин, называемой Ширигин-долон[152],экспедиция отдыхала целые сутки; томимые жарой и жаждой, мы с жадностью уничтожали созревшие ягоды хармыка и по многу раз купались в одном из маленьких озерков, напрасно ища прохлады. Вместе с озерками появилась растительная и животная жизнь: помимо отмеченного Nitraria Schoben, здесь пышно произрастали: Scorzonera divaricata, Astragalus melilotoides, Echinops Gmelini, Myricaria platyphylla, Lactuca и Sisymbrium; а из животной жизни, в частности птиц, по водной поверхности привольно плавали турпаны, пеганки; по отмелям разгуливали кулички, улиты – черныш прудовый, стайки светлосерых зуйков, пестрозобых песочников и одинокая щеврица; в соседних камышах гнездился камышовый лунь (Circus spilonotus), а невдалеке парил мохноногий сарыч. В болотистых озерках были замечены головастики, вместе с лягушками (Rana amurensis [Rana chensinensis – азиатская лягушка]) поступившие в нашу коллекцию.
Вторую часть пустыни – пески Тэнгэри[153] – экспедиции посчастливилось перешагнуть в небольшое ненастье: с севера набежала мрачная грозная туча, полил дождь, и воздух приятно освежился.
По мере продвижения на юго-запад поперечные увалы увеличивались в размерах и на крайнем юго-востоке вырастали целые гряды горок, одну из которых мы назвали Хон-гор; по вершинам красовались обо из пестрых конгломератов, снабженные плитами с буддийскими молитвенными формулами – мани. Среди логов извивались еле заметные тропинки кочевников и реже – дороги; по словам проводников, одна из этих дорог вела от небольшого китайского города Дэрэсун-Хото на востоке к соленому бассейну Цаган-дабасу на западе. По сторонам часто приходилось наблюдать трупы домашних животных – верблюдов, лошадей и баранов, погибших от сильных ливней, понизивших температуру. По моим многочисленным наблюдениям, монголы, так же как и их скот, способны переносить самый палящий зной, но зато как те, так и другие легко заболевают от холода и сырости. Несмотря на недостаток влаги и бесплодие песков Тэнгэри, кочевники почти повсеместно, по крайней мере на нашем пути, держат наряду с верблюдами и лошадей. Этот факт вполне подтверждает мое убеждение, вынесенное еще из прошлого путешествия, об отсутствии в Монгольской пустыне больших безводных пространств.
Приближалась и южная граница сплошных сыпучих песков: действительно, оставался последний довольно солидный рукав пустыни Тэнгэри, и мы вне опасности; к тому же перепадавший почти ежедневно дождь поддерживал наши силы. Переночевав в тридцати верстах к юго-западу от Ширигин-долона под открытым небом, среди песчано-глинистых бугров, покрытых хармыком, экспедиция подошла к колодцу Ихэтунгун-худук, где следовало запастись водою для предстоящего перехода. Здесь, между прочим, была поймана степная гадюка (Coluver dione [Elaphe dione – узорчатый полоз]), отличавшаяся злобным нравом; эта хонин-могой, или «баранья змея», как ее называли монголы, часто кусает животных, в особенности баранов, после чего в течение полутора или двух недель места укусов болят и опухают. Недалеко от колодца, вдоль круто ниспадавших песчаных увалов, раскинулась отличная луговая долина; среди изумрудной зелени паслись стада монгольского скота.
Здесь удалось собрать следующие виды растительности: Piptanthus mongolieus, Tourneforua sibirica, Sipa splendens, Cynoglossum divaricatum, Eurotia ceratoides, Zygophyllum eurypterum, Glycyrrhiza uralensis и Prunus mongolica.
К вечеру, перед самым закатом, дневное светило вышло из-за туч и картинно осветило скаты и гребни барханов, по которым длинной вереницей шагал экспедиционный караван; с любой высшей точки ничего не было видно, кроме желтизны пустыни да чистого голубого полога неба[154]. Сумрак уже лег на землю, и слабый отблеск зари едва прорезал темноту, когда мы вышли из песков и на первой гладкой площадке в урочище Улан-сай разбили свой бивак. Местность резко изменила свой рельеф. Перед нами появились цепи холмов Ихэ-улынь, на западе вздымались горные гряды Аргалинтэ, а на востоке и юго-востоке теснились возвышенности, отделявшие от нас долину Желтой реки. Караван вступил в широкое русло, извивавшееся по песчано-глинистой открытой равнине Долонэгол, носившей следы недавней высокой воды. По берегам русла тотчас обнаружены: Anabasis aphylla, Reaumuria mongolica, Scutemaria scordiiolia, Caragana и Astragalus; немного пониже появились и Stipa splendens, и Ancathia igniaria, и Lepidium micranthum, и Echinops Turczaninovii, и Carex.
Весь следующий переход до урочища Цзаха-долон и далее мы ориентировались на седлообразную вершину Долонэ-обо, омываемую руслом того же названия – Долонэ-гол. Приятная облачная погода снова сменилась томительной жарой, и мы с особенным напряжением всматривались в отрадные силуэты хребта Ма-чань-шань, закрывавшего собою нижний пояс еще более массивных гор Лоу-ху-шань. Перед тем как выйти на большую нинсяскую дорогу, мы тщательно исследовали старинный субурган, имеющий около двух сажен высоты, монгольского типа, воздвигнутый в честь буддийского святителя баньчень-богдо или даже, как мне сообщали монголы, – Далай-ламы[155], по преданию, положившего начало этому пути. Говорят, что в память о великом паломнике ближайшим к его могиле пескам и дали подобающее название Тэн-гэри, то есть «Небесные». Неподалеку от селения Инпань-шуй, оставшегося на северо-востоке от нашей дороги, появились признаки китайской культуры; пользуясь дождливой погодой, трудолюбивые земледельцы силились вспахать и засеять прилежащие к горам части пустыни, до того никогда не видавшие сохи.
Рядом с ответственной границей залегала и условная, монголо-китайская, отмеченная двумя каменными памятникообразными знаками. Четырнадцатого июля экспедиция переступила эту границу и около развалин селения Тянь-лоба расположилась на ночлег. С закатом солнца воздух заметно посвежел, подул северо-западный ветер и в одном из своих бурных порывов сорвал нашу палатку. Шел холодный пронизывающий дождь, а укрыться было негде; по случаю сильного ветра палатку установить так и не удалось; мы закутались в брезенты и старались уснуть, но напрасно – дождевая струя, проникавшая к самому телу, не давала возможности забыться.

Селение Тянь-лоба[156] лежит в северо-восточном углу песчано-солончаковой равнины, имеющей на своей западной окраине соленый бассейн – озеро Янь-чэ. Сухой теплый климат и характерная пустынная растительность представляют отличные условия для жизни верблюдов, и китайцы окрестных деревень, как, например, Бай-тун-цзы, специально занимаются их разведением.
После сильного ночного ливня атмосфера к полудню прояснела, и вдали, на расстоянии двадцати пяти верст, у подножья Мачаншаньских гор, обозначились контуры высоких тополей и построек маленького пограничного городка Са-янь-цзынь; здесь когда-то была таможня, взимавшая пошлину с товаров, провозимых из Алаша и Лань-чжоу-фу.
Сейчас Са-янь-цзынь как бы замер, население его крайне бедно и не имеет даже хлеба; мы могли купить во всей округе лишь один пучок луку. Проживавший в городке с отрядом солдат китаец-чиновник очень любезно принял моего посланного и дал экспедиции свободный пропуск. На этот раз, благодаря уже наступившей темноте, мы избегли любопытной толпы, обыкновенно преследующей в китайских городах русские или вообще чужеземные караваны.
От Са-янь-цзыня по всему нашему пути шло земледельческое население, вплоть до городишки Шара-Хото, граничащего с перевалом того же имени, откуда начинается бассейн Куку-нора[157],дающий приволье номадам.
Горы Ма-чан-шань являли собою малоотрадную картину. Покрытый мощным слоем лёсса[158], этот хребет все же имеет лишь скудную растительность[159] и выглядит пустынным; недостаток влаги всюду дает себя чувствовать. Медленно осиливая подъем по крутому, местами узкому ущелью, минуя площади то коренных выходов, то песчанистой глины, мы пересекли едва заметные остатки исторического сооружения – Великой Китайской стены – и остановились на ночлег у речки Да-ша-хэ, вблизи селения Вань-цзы-цзынь.
Как у селения, так и по речке красовался тополь Пржевальского (Populus Przewalskii), затем ива (Salix), а из травянистых – осот полевой (Sonchus arvensis), полынь (Artemisia Sieversiana, А. annua), спорыш (Polygonum aviculare), кресс (Lepidium Iaüfolium), белена черная (Hyoscyamus niger), гусиная лапчатка (Potentilla anserina), просвирняк (Malva borealis [M. pusilla], ломонос (Olematis orientalis var. acutifolia [C. orientalis], подорожник (Plantago major), Licium chinense, Acroptilon picris, Oxygraphis cymbalariae, Anchusa и Salsola.
С приходом в горы мы имели возможность пользоваться прекрасной студеной водой ручьев и рек, забыв о пустыне и ее скудных горько-соленых источниках. Всего на расстоянии нескольких верст от пустыни, которая протянулась далеко к западу, расстилались обработанные поля, зеленели луга и довольно густо рассыпались китайские фанзы. Культура и пустыня, жизнь и смерть граничили здесь близко между собою и вызывали удивление путешественника.
С передовых южных холмов Ма-чан-шаня открылся довольно далекий горизонт: перед нами лежала широкая долина Годя-вопу-тан, преграждавшаяся на юге мощным Лоу-ху-шанем, на западе – второстепенными отпрысками соседних гор (Ма-чан-шань и Лоу-ху-шань), а на востоке вклинивавшимися высотами левого берега Хуан-хэ[160]. Небольшие культурные центры – города Куань-гоу-чен и Юн-тай-чен, равно как и мелкие селения, ютившиеся при устьях ущелий Лоу-ху-шаня, были также великолепно видны, несмотря на значительное расстояние. По всей долине встречались старые жилища, устроенные в лёссе, заброшенные поля и прочие следы культуры, свидетельствовавшие о пребывании в окрестностях многочисленного населения, занимавшегося почти исключительно земледелием. В настоящее время местность представлялась запустелой; немногие бедные жители, грязные и оборванные, производили самое неблагоприятное впечатление и отличались, по словам монголов, воровскими и даже разбойническими наклонностями.
Интенсивная жизнь в Годя-вопу-тан стала затихать уже давно; сильный удар мирному процветанию долины нанесло дунганское восстание, разорившее китайцев-земледельцев, а постоянная в последнее время засуха и безводие окончательно парализовали энергию уцелевших обитателей. Для сохранения драгоценной влаги аборигены прибегают к довольно оригинальному приему: вспаханное и засеянное поле устилается мелкими, величиною в небольшой кулак, камнями, добываемыми у закраин полей, где вследствие этого образуются глубокие ямы и целые подземные ходы; эти камни не позволяют дождевой воде быстро испаряться и держат землю в более прохладной температуре. По уборке хлеба, камень остается на использованном поле и служит уже как бы хранилищем влаги, слегка освежающим соседние участки.
Экспедиция проходила Годя-вопу-тан по диагонали с северо-запада на юго-восток, постепенно поднимаясь с 5485 футов [1672 м] абсолютной высоты. Из растений вдоль дороги, равно и полей, нами были собраны подорожник (Plantago depressa), салат (Lactuca versicolor), тмин (Antennaria Steetziana), люцерна (Medicago ruthenica var. alpina [Medicago rutenica]), горицвет (Adonis appenina [A. Sibiriens]), Peganum harmala, Phlomis mongolica, Cymbaria mongolica, лук (Allium tenue), резуха (Arabis Piasezkii [Andrasace Piasezkii]), лапчатка (Potentilla bifurca var. pusilla [Potentilla bifurca]), Taraxacum, Astragalus, Oxytropis, Pedicularis, Saussurea и Hedysarum.
По сторонам растянувшегося каравана выскакивали и быстро исчезали в норах суслики; маленькие песчанки выдавали свое присутствие характерным писком. Легкие антилопы (Gazella subgutturosa, G. przewalskii [Procapra przewalskii]) часто показывались на горизонте, играя и резвясь по утрам и отдыхая в самое жаркое время дня. В одном из попутных селений китайцы показывали нам парочку совсем ручных антилоп Пржевальского, взятых ими на воспитание при рождении и вскормленных коровьим молоком; грациозные животные безбоязненно держались по соседству с фанзами и позволяли любоваться собою; эти же приветливые китайцы говорили, что в диком состоянии Gazella przewalskii [Procapra przewalskii] очень строга в ранние утренние часы, а днем подпускает охотника гораздо ближе. Кроме антилоп и мелких грызунов, долину оживляли также некоторые птицы: небольшая серая сойка (Pseudopodoces hurniliis), красноклювые клушицы, перекликавшиеся постоянно мелодичным голосом, мохноногий сарыч и гордый красавец орел-беркут. Около полей нам удалось пополнить энтомологический сбор порядочным количеством интересных форм мух и жуков.
Семнадцатого июля экспедиция прибыла к северному подножью Лоу-ху-шаня, оставив городок Куань-гоу-чен несколько юго-восточнее. Этот хребет простирается с северо-запада на юго-восток и имеет вид довольно плоской гряды, круто обрывающейся к северу, врезаясь на большое расстояние своими отрогами в долину Годя-вопу-тан, и полого опускающейся к югу, быстро теряясь в высокой равнине Сун-шан-чена. В своей более высокой части Лоу-ху-шань, по моему мнению, приближается к высоте гребня Сумбур Алашанских гор. За исключением окрестностей седловин или перевалов[161]северный склон описываемого хребта покрыт лесом из ели с примесью ивы, жимолости, таволги, малины, смородины и немногих других; кустарников встречается все же очень мало; выше лесной зоны зеленеют альпийские луга[162].
В горах Лоу-ху-шаня наш гербарий пополнился следующими формами растительности: ломоносом (Clematis orientalis, С. aethusifolia), ковылем (Stipa inebrians, S. splendens, S. Bungeana), чечевицей (Ervum lens [Lens exulenta]), Ceratostigma plumbagiooides, Disophyila janthina, перловником (Melica scabrosa), Agropyrum cristatum, Bupleurum scorzo-nerifolium, Adenophora Potanini, крестовником (Senecio vulgaris), очитком (Sedurn hybridum), вьюнком (Convolvulus Ammani), Dracocephalum heterophyllum, горечавкой (Gentiana anaticola [Gentiana sp.]), звездчаткой (Stellaria gypsophilodes), молочаем (Euphorbia esula), астрой (Aster altaicus), качимом (Gypsophila acutifolia [Gypsophila Patrinii]), Cariopteris mongolica, Hedysarum polymorphum, Oxytropis, Seseli, Poa, Salsola, Salsodaceae и Anthriseus.
Зимою хребет засыпается глубоким снегом, остатки которого еще и сейчас белели на западных вершинах. По словам охотников, в Лоу-ху-шане держатся кабарга, козуля, волки, лисицы, но нам не посчастливилось увидеть ни одного из названных диких животных или зверей; только тарабаганы (Arctomys robustus [Martoma himalaiana robusta – Сычуаньский сурок]) развлекали нас, забавно играя друг с другом и нередко попадая вдобычу беркуту, неустанно облетающему дозором свои владения.
Большая голюндуньская дорога носит довольно оживленный характер; по ущелью северного склона группируются китайские селения: Гангу-коу, Ши-ва-цза, У-тан-шань и Голюн-дунь, причем каждое из них насчитывает всего от восьми до десяти домов. Китайцы занимаются земледелием и отчасти скотоводством, разводя преимущественно баранов; тщательно оберегая своих животных от воров, они запирают стада в особые помещения – крепостцы. Вблизи Голюн-дуня, в верхнем поясе горы, мы отметили очень красивые китайские молельни, живописно расположенные одна над другой.
С вершины Ло-ху-шаня мы последний раз с удовлетворением оглянулись на пройденную пустыню Алаша, окутанную по обыкновению желтовато-серой дымкой пыли. Впереди далеко в прозрачной атмосфере еиднелся величественный Нань-шань и его ближайшие к нам массивные отроги. Особенной грандиозностью и сложностью горных цепей Нань-шань поражал наблюдателя в западно-юго-западном направлении, – в направлении, в котором ютится монастырь Чортэнтан или Тон-тан-сы прижатый к скалам левого берега красавца Тэтунга.
Вслед за пустыней исчез и томительный зной, не стало пыли; с каждым днем мы чувствовали себя бодрее, появился вновь спокойный сон и хороший аппетит.
Выйдя на холмистое луговое плато, названное Н. М. Пржевальским Чагрынскою степью, экспедиция направилась к городу Сун-шан-чену, поднятому на 8750 футов [2667 м] над уровнем моря. С северной и южной сторон ничтожного по величине городка, однако окруженного двумя рядами крепостных глинобитных стен, протекали две быстрые, прозрачные речонки, орошавшие прекрасные окрестные пастбища; среди богатых трав паслись многочисленные стада баранов, коров, лошадей, принадлежавшие по большей части тангуту-гэгэну[163] Нян-чжику, построившему в юго-западном углу крепости хорошую кумирню.

Глава десятая. Поперек восточного Нань-шаня, провинция Ганьсу (окончание)
Привольная Чагрынская степь. – Ее животная жизнь. – Ущелье Фый-гу и лёссовые толщи. – Растительность верхнего пояса гор. – Пинь-фань. – Тэтунг-гол; общая характеристика его долины и гор. – Большая оживленная дорога. – Река Синин-хэ и путь экспедиции к городу Синину. Правый берег Синин-хэ. – Прилежащие сигнальные башни.
Чагрынская степь имеет хорошие пастбища, но все же бедна водою и в годы засухи не представляет удобств для жизни как оседлого населения, так и кочевников. 1908-й год был особенно богатым в смысле обилия атмосферных осадков, а потому и пейзаж степи разнообразился различными проявлениями жизни животных и человека. С вершины каждого следующего увала[164] открывались все новые и новые группы селений, многие из них разгромленные дунганами, многие исправленные и обитаемые; стада баранов и табуны лошадей бродили по степи, а около домашних животных нередко замечались также и дикари – Gazella przewalskii [Proeapra przewalskii], умевшие хорошо отличать и бояться нас, не обращая в то же самое время никакого внимания на присутствие туземцев. Баранов обыкновенно пасли китайцы, сопутствуемые целыми сворами собак, а за лошадьми присматривали ловкие, молодцеватые тангуты, почти всегда гарцовавшие на лихих иноходцах, гордясь своей посадкой, конем и хорошей образцовосодержимой винтовкой за спиною. Эти тангуты постоянно подъезжали к каравану и охотно знакомились с нами, с любопытством расспрашивая проводников о необыкновенных русских людях.
По мере продвижения на юго-запад массивные скалистые отроги Нань-шаня все яснее, все контрастнее вставали перед нашими глазами. Теперь экспедицию отделял от долины Пинь-фаня один лишь высокий хребет, который мы осилили в два перехода. Переночевав в ущельи Фый-гу, мы на целые сутки окунулись в горы. Нижний пояс хребта характеризовался большими скоплениями лёсса, так называемых лёссовых толщ, и вследствие бедности орошения в некоторых местах значительные площади были выжжены палящими лучами солнца. Как флора, так и фауна окрестностей перевала Фын-фый-лин[165] имела сходные черты с таковыми Нань-шаня. Из растений преобладали: репка (Cotyledon fimbriatus [С. firnbriata]), лапчатка, или курильский чай (Potentilla fruticosa et Р. daurica [Р. davurica]), одуванчик (Taraxacum sp.), курослеп (Anaphalis nubigena), астра (Aster sp.), два вида смолевки (Silene repens et S. aprica), затем – резуха (Androsace selten trionalis), шпорник (Delphinium mosoynense), крестовник (Senecio sp.), чертополох (Cirsium segetum), сурепица (Brassica campestris), вшивица, или мытник (Pedicularis sp.), аконит (Aconitum gymnaridrum et A. sp.), мордовник (Echinops Turczaninovi), ячмень (Hordeum pratense), шандра или конская мята (Marrubium ineisum), василистник (Thalictrum minus), гречиха (Poligdnum viviparum) и, наконец, перелеска (Anemone obtusiloba).
Внешний вид Пиньфанской долины, оживленной системою Чагрын-гола, в нижнем течении[166] именуемого речкою Пинь-фань-хэ, усыпанной разбросанными там и сям пашнями, селениями и стадами скота, очень приветлив и привлекателен. Китайцы, видимо, заботятся о подсадке деревьев, и могучие тополя и ивы служат украшением общего пейзажа.
Речка Чагрын-гол, или Пинь-фан-хэ берет начало из родников, выбегающих от вечно снеговых вершин Кулиан и Лиан-чжу – отстоявших от нашего маршрута к северо-западу в доминирующем к северу выступе Нань-шаня[167], который здесь образует восточную часть громадной, нигде не прерывающейся горной стены, огораживающей собою все нагорье Тибета к стороне южной Гоби и котловины Таримского бассейна. Эта гигантская ограда, принадлежащая системе Куэн-луня, несет по местностям различные названия и имеет различный физико-географический характер; хотя общий топографический ее склад одинаков на всем или почти на всем протяжении и представляет, подобно тому как для некоторых других хребтов Центральной Азии, только в большем масштабе, полное развитие дикого горного рельефа к стороне наиболее низкого абсолютного поднятия, наоборот, несравненно меньшее распространение тех же горных форм в противоположном склоне на более высокое плато.
В районе нашего пересечения Чагрын-гола или Пиньфанской речки, по вершинам правого берега, круто опускающегося к воде красными глинами, живописно выделяются постройки двух китайских пагод, или храмов: Тан-тан-мяо и Лун-ван-мяо. В последнем храме, посвященном богу вод, ежегодно возносятся особенно усердные молитвы о ниспослании источника существования – дождя.
По долине реки там и сям произрастают: василистник (Thalictrum minus), перелеска (Anemone rivularis), подмаренник (Galium verum var. leiocarpum [G. verum L.]), полынь (Artemisia sooparia), очанка (Euphrasia Kozlovi [Euphrasia sp.]), Odontites rubra, Myricari germanica и белолозник (Eurotia ceratoides), а по песчаному руслу – ильм (Ulmus pumila), тололь (Populus Simonii), донник (Melilotus suaveolens, M. lupulina [Medicago lupulina]), та же перелеска, другой василистник (Thalictrum petaloideum), кермек (Statiee aurea), Panzeria lanata, Chamaerrhodos sabulosa, Gypsophila, Potentilla и Mentha.
По низинам и отмелям долины речки, в особенности там, где залегала серая галька, экспедиция встретила оригинальных серых куликов – серпоклювов (Ibidorrhynchus struthersi), по соседству с которыми держались серые цапли и зуйки (Aegialites dubia [Charadrius dubius]), а несколько ближе к городу – полевые воробьи, стрижи, вороны, сороки, коршуны и сокол-чеглок (Hypotriochis subbuteo).
Без особого труда мы переправились вброд через речку и остановились лагерем под южною стеною самого города.
Город Пинь-фань основан, как говорят, около трехсот лет тому назад и окружен солидной крепостной стеной, облицованной кирпичом, с округлыми башнями по углам и массивными фланкирующими выступами, увенчанными изящными вычурными беседками по середине каждой стороны крепости. Население города состоит из торгового класса, земледельцев, чинов администрации и гарнизона, в рядах которого есть пехота, кавалерия и артиллерия – всего номинально в количестве пятисот человек; на самом же деле – вдвое меньше. Войска вооружены винтовками различных систем, а артиллерия имеет даже пять медных пушек, перевозимых лошадьми парной запряжки. Вне службы солдаты живут по домам и отправляют свои частные работы, но должны всегда быть готовы по первому требованию явиться к месту назначения. Пинь-фаньцы уверяли нас, что гарнизон сильно нуждается в средствах, так как денежное довольствие властями не высылается.
Время дневки в китайском городе пролетело незаметно; утро прошло в писании письма-отчета профессору Д. Н. Анучину в Москву, а после полудня мы с Четыркиным отправились купаться и в компании подростков-китайчат[168] с наслаждением поплавали и освежились в светлых водах спокойного рукава Чагрын-гола. Торговцы, пронюхав о богатом русском караване, весь день наводняли наш бивак, предлагая хлеб, зелень, дрова и даже бурханов. Золоченые изображения китайских и монгольских божеств расценивались ими очень дорого, в особенности статуэтки красного толка, или староверческие, якобы некогда украденные из монастыря Барун, или Цзун-хита монгольского княжества Алаша.
Двадцать второго июля в жаркое душное утро экспедиционный караван оставил Пинь-фань и направился в сторону Синина, избрав кружную западную с незначительными перевалами дорогу. Вообще следует заметить, что в восточном новом для меня пересечении Нань-шаня характер последнего значительно видоизменен в сравнении с его более западным районом, где не только средние, но и окраинные цепи богаты кристаллическими выходами в виде острых вершин, пиков или мощных скал, громоздящихся одна на другую в живописном чарующем глаз величии. Здесь же путешественник сравнительно легко поднимается на вершины перевалов, даже с верблюжьим караваном или в китайской телеге, запряженной лошадьми или мулами, так как везде преобладает лёсс, большей или меньшей мощностью прикрывающий главным образом хан-хайские песчаники, хан-хайские красные отложения и лишь в небольшом количестве известняки или кремнистые сланцы. Колесные дороги глубоко врезаны в лёссовые толщи и бороздят поверхность траншеями, в которых встречным путникам очень трудно, а местами даже и невозможно разъехаться.
Растительность в восточном Нань-шане и в частности в Северо-Тэтунгском хребте довольно жалкая: мы не нашли ни лесов, ни кустарников, ни даже альпийских лугов, о которых мечтали. Постоянные речки и ручьи отсутствовали, и местные жители пользовались исключительно колодцами, глубиною от десяти до пятнадцати саженей [от 20 до 30 м], откуда студеную (от 0,5°С) воду добывали при помощи воротов. Стада утоляли жажду в грязных, застоялых прудах, вырытых исключительно для этой цели.

Путь от Пинь-фаня к Синину довольно оживлен: обнесенные глиняными или каменными стенами селения, пашни и луга тянутся почти непрерывной чередой; благодаря изрядному количеству проезжающих, в ближайших к дороге населенных пунктах возникли настоящие постоялые дворы. Особенно памятно мне одно селение, Син-джан, у перевала Син-джанфолии[169], с хорошим, по всем правилам заезжим двором; кругом, на всем видимом пространстве, раскинулись по высотам поля, где уже приступали к уборке хлебов (преимущественно пшеницы и ячменя), а среди них красиво выделялась маленькая часовня Нан-нань-мяо, основанная семьсот лет назад подвижником хэшеном и посвященная богу плодородия[170]. С вершины перевала Северо-Тэтунгского хребта виднелись мягкие очертания Южно-Тэтунгских гор, а из-за них массивной стеною выступал хребет Нан-да-шань, простиравшийся вдоль течения правого берега реки Синин-хэ.
После полудня того же двадцать второго июля во время перехода нас застиг сильный град, вскоре сменившийся дождем; по ущелью побежал мгновенно образовавшийся мутный желтый поток, но очень скоро, с уменьшением дождя, стал убавляться, а с его прекращением – и пересыхать.
Из встречных нам чаще других попадались пешие тангуты и китайцы с женами и детьми, пробиравшиеся в Пинь-фань на заработок; нужда заставляла их проходить десятки верст среди мучительной жары и лёссовой пыли затем, чтобы получить несколько чох в награду за жнитье хлебов. Резкий контраст с этими нищими составляли колымаги и нарядные экипажи зажиточных китайцев, с важностью раскатывавшие в разных направлениях по своим делам. Во время дороги китайцы любят петь, и я не раз с удовольствием прислушивался к оригинальным мотивам, исполненным ими на высоких нотах.
Вскоре за селением Тан-фанза члены экспедиции могли уже различить в отдалении приятную культурную зелень долины Тэтунга, заключенной между горными скатами и ориентированной в прилежащем районе от северо-северо-запада на юго-юго-восток.
Красавец Тэтунг известен мне в нескольких местах своего течения; я знаком с его истоками[171], знаю его в среднем течении в окрестностях Чортэнтана, где он в своем диком стремительном беге мечется среди хмурых скал, теряясь на дне узкой расщелины, как гигантская стальная змея. «Нигде во всей Центральной Азии, – пишет Н. М. Пржевальский[172], – не встречали столь очаровательной местности, как по среднему течению Тэтунг-гола. Здесь прекрасные обширные леса с быстротекущими по ним в глубоких ущельях ручьями, роскошные альпийские луга, устланные летом ковром цветов, рядом с дикими, недоступными скалами и голыми каменными осыпями самого верхнего горного пояса, внизу же быстрый, извилистый Тэтунг, который шумно бурлит среди отвесных каменных громад – все это сочетается в таком грандиозном величии, местами в таких дивных, ласкающих взор формах, какие нелегко поддаются описанию. И еще сильнее чувствуется обаятельная прелесть этой чудной природы для путешественника, только что покинувшего утомительно-однообразные, безжизненные равнины Гоби».
Теперь я вижу моего мощного, непокорного друга в другой обстановке: с прибрежных возвышенностей открывается его извилистое то широкое, то узкое течение, местами разбивающееся на рукава; ложе реки достигает сорока – пятидесяти [80—100 м] и даже до ста сажен [200 м] от одного берега до другого и покоится в долине шириною от полу– до целой версты. Тэтунг по-прежнему стремится с удивительной быстротою, образуя волны и перекаты и создавая особенный приятный рокот. Сквозь прозрачную воду также пестрит каменистое дно, устланное окатанной, отшлифованной галькой. Но берега его лишены первобытной прелести: мягкие округлые террасы заняты культурою хлеба[173], всюду чувствуется присутствие человека, теснящегося к единственной водной артерии, откуда при помощи ирригационных каналов снабжаются влагой целые оазисы.
Ширину и уровень реки в июле месяце можно считать средними; период сильных ливней, следы которых в долине еще сохранились, миновал, а потому и переправа не представляла затруднений. Перевоз в урочище На-ба-цоань принадлежит китайскому правительству; его обслуживают китайские семьи, живущие этим промыслом из поколения в поколение, как бы отбывая известную повинность. Маленькое плоскодонное суденышко, нечто вроде баржи с наставленным верхом, поднимает одновременно до трех вьючных верблюдов в сопровождении от шести до десяти человек, причем за каждого верблюда взимается плата в семь фын (около десяти копеек). Несмотря на отсутствие перил, мы развьючили только самый ценный багаж, доверив остальное имущество нашим смирным животным. Через два часа экспедиция благополучно переправилась на правый берег реки, где и расположилась биваком. Воспользовавшись прозрачностью и приятностью воды, мы приняли по нескольку ванн, доставивших всем одинаково истинное наслаждение, а вечером я удачно произвел астрономическое определение широты и долготы данного урочища[174].
Поздней ночью мы были встревожены громким неестественным голосом женщины, оплакивавшей свою дочь, недавно погибшую в волнах Тэтунга, спасаясь от тирана-мужа. Теперь происходил суд, присудивший нечто в пользу пострадавшей. Плач и стенание несчастной матери долго оглашали мирную долину, невольно вселяя в душу невыразимую грусть. Мне не спалось.
Ближайшие к реке горы, украшенные по вершинам башнями-обо, выжжены горячим солнцем и имеют жалкую растительность; только вверх по течению, вдали, темнеют Ланченские альпы, в среднем поясе покрытые лесом. Чем восточнее, тем более и более сглаживаются горы, оставив все свое величие девственной красоты в западной части хребта. Давая приют и пищу человеку, Тэтунг вносит некоторое разнообразие и в царства растительное и животное.
По части растительности мы здесь нашли сравнительно очень немного, а именно: грецкий орех (Juglans regia), Pirus, бузину (Sambucus adnata), розу (Rosa), марену (Rubia cordifolia), крестовник (Senecio erucifolius), молочай (Euphorbia heliocopia), лютик (Ranunculus cbinensis), очанку (Odontites rubra [O. Serotina]), частуху (Alisma plantago), кипрей (Epilobium hirsutum), земляной миндаль (Cyperus fuscoater), ситник (Juncus mongolicus [Juncus sp.]), горошек (Vicia sativa), девясил (Inula britannica), василистник (Thalictrum simplex, T. minus), Solanum melongena, Paeonia Veitchii, Carthamus tinetorius, Hypecoum leptoearpum, Parrotia, Statice, Bieberstenia, Oenanthe, Erythraea, Epipactis и другие.
Что же касается до животной жизни, в частности до пернатых, то мы встретили здесь черного аиста, довольно много завирушек (Sperrnolegus fulvescens [Prunella fulvescens], Prunella rubeculoides), Emberiza, Rutucilla [Phoenicurus], Carpodacus и ласточку деревенскую.
По части энтомологических сборов, между прочим, нам удалось добыть здесь, по определению А. С. Скорикова, очень интересного шмеля (Bombus vasilievi).
Вместе с живительным Тэтунгом мы оставили свежий прохладный воздух и снова окунулись в сухой томительный жар, усугублявшийся в горах присутствием тончайшей лёссовой пыли.
В своей центральной, осевой части Южно-Тэтунгский хребет слагается из глинистых и кремнистых сланцев, сменяющихся на окраинах красными глинами, конгломератом. Эти породы прикрыты плодородным лёссом, дающим возможность очень часто превращать дикие горные склоны, перевал и самое плато в сплошное хлебное поле.
С перевала Бингоу-лин, так же бедного естественным растительным покровом, как и соседние горы, стал особенно ясно виден отдаленный хребет Нань-да-шань, выделявшийся своими прекрасными альпийскими лугами и темным лесом. На одной из западных конусообразных вершин возвышалось куполом насыпанное тангутами грандиозное обо. По лёссовым ущельям в укромных уголках держались бледно-красные вьюрки (Carpodacus stoliczkae [Carpodacus synoicus]), обогатившие наш орнитологический сбор тремя экземплярами; из объектов энтомологии мною были пойманы первые бабочки Parnassius, затем довольно много жуков и мух.
Окрестности вышеупомянутого перевала считаются у туземцев небезопасными; здесь запоздалые путники могут подвергнуться всяким неприятностям, вплоть до вооруженного нападения включительно. Во время вынужденной ночевки экспедиции на постоялом дворе селения Бин-гоу мы были потревожены очередным посещением грабителей, подкапывавших стену.
На этот раз разбойники очень скоро оставили нас в покое, так как слух о силе и вооружении русских смутил их, и они предпочли отправиться на промысел в более удобное место.
Спуск с Южно-Тэтунгских гор, заканчивающийся в долине реки Синин-хэ, идет среди лёссовых толщ по извивающейся выемке – дороге, делающей в крутых местах большие зигзаги и петли. В одном из таких узких и опасных мест нашему каравану «посчастливилось» встретиться с китайским чиновником, переезжавшим со всей семьей в Нин-ся, но благодаря принятым мерам предосторожности все обошлось благополучно, и мы хорошо разъехались с громоздким тележным обозом.
В четырех верстах от селения Бин-гоу, на обрыве, в глубине которого расстилаются широким амфитеатром поля, стоит китайский храм, посвященный знаменитому Гэсэр-хану. Осмотрев эту любопытную молельню, я сделал в дневнике маленький набросок, представляющийся в следующем виде: в центральной части храма на престоле красуется деревянное раскрашенное изображение хана; перед ним горят свечи. Справа от Гэсэр-хана стоит Цаган-обогун с книгою в руках, слева – такой же старец с хадаком. Рядом с этими фигурами поставлены – справа изображение воина с секирою, слева – такого же воина с мечом. В особых специальных помещениях, ближе к выходу, развешаны художественные изображения китайских философов, особенно поразившие меня по тщательности своего исполнения; кроме картин здесь имеются еще и обелиски с начертанной на них историей основания молельни, носящей двоякое название: Ма-ван и Ню-ван. Названия эти даны по именам двух животных (вроде коней), расположенных в стоячем положении, перед входом в храм.
Двадцать шестого июля экспедиция оставила последние отроги Тэтунгских гор и вышла на простор широкой долины реки Синин-хэ вблизи города Лова-чена.
Река Синин-хэ берет начало на северо-западе, в водоразделе Куку-нора и Желтой реки – внутреннего и внешнего бассейнов, следует затем юго-восточным курсом и через слияние с Тэтунгом и Чагрын-голом, или Пиньфаньской речкой впадает в Хуан-хэ. Падение дна рассматриваемой длины на всем своем протяжении весьма и весьма большое[175], а ширина ее сильно колеблется, будучи местами стеснена или сужена до десяти – двадцати сажен [20–40 м] береговыми скалами, сложенными из гнейсов и кристаллических сланцев. Вырываясь из узких ущелий-теснин, долина Синин-хэ образует расширение до двух-трех и даже четырех верст, обнаруживая песчаниковые отложения, прикрытые лёссом[176]. В таких привольных, плодородных уголках расположены важнейшие центры – города Донгэр, Синин, Нянь-бо-сянь и Лова-чен. Течение Синин-хэ, как и Тэтунга – стремительное и шумное, но вода ее не совсем прозрачна, а несколько красновата от растворенных частиц красной глины. Несмотря на лёссовую почву, береговая полоса бедна растительным покровом и украшена лишь искусственными древесными и кустарниковыми насаждениями вокруг многочисленных китайских деревень.
Маленький невзрачный «Вороний город» Лова-чен[177] протянулся небольшим островком среди безлесной плоской котловины, достигающей тридцати пяти верст в длину, при трех-четырех верстах ширины. Подошва гор южного, или правого берега реки сопровождается здесь террасой, поднимающейся над аллювиальным дном долины сажен на двадцать и состоящей из слоев гальки, перемежающейся с лёссом. По мнению Г. Н. Потанина, есть основание предполагать, что эта терраса, как и вся Ловаченская долина, некогда находилась под водою и представляла подобие большого проточного озера; вблизи города, на самой середине речного ложа, из воды поднимается скала до трех сажен [6 м] высотою, с отвесными боками; на вершине ее устроен китайский храм, не лишенный своеобразной прелести.
Всюду видно оживление: на хлебных и маковых полях копошится рабочий люд; вдоль реки по тракту Лань-чжоу-фу – Синин с раннего утра и до поздней ночи непрерывно движутся торговые караваны; над траншееобразной дорогой стоит сплошное облако пыли, вздымаемой лошадьми и мулами, везущими скрипучие арбы, побрякивая звонкими бубенчиками, до которых китайцы и тангуты большие охотники. Мимо длинных обозов с лихостью проносятся всадники-тангуты, гордящиеся так называемыми «гумбумскими» иноходцами, отличающимися следующими признаками: эти прекрасные кони невысокого роста, с короткой, сравнительно толстой шеей, спину и зад имеют правильной округлой формы, а высокие узкие копыта – на манер копыт у скакунов – превосходят по крепости копыта всех соседних пород лошадей.
По второстепенным рукавам реки шумят в своем непрерывном движении мельницы, перерабатывающие тут же собранный урожай. Прилежащие к мельницам берега протоков укреплены аллеями ив и тополей, а плотины сложены из речной гальки. План главного механизма машины чрезвычайно простой: над неподвижным нижним жерновом расположен другой жернов, приводимый в движение горизонтальным колесом, на которое с силою бьет вода, ниспадая под углом в тридцать градусов. Во внутреннем помещении мельницы вдоль стены против колеса проложены две жердочки, направляющие муку в два русла; мука ссыпается в парные сита[178],где встряхивается стоящими тут владельцами хлеба; при встряхивании сита ударяются друг о друга ближайшими концами и о жердочки – противоположными; таким образом чистая мука сразу отделяется от отрубей – и оба продукта в отдельных мешках увозятся хозяевами восвояси.

Следующим культурным центром на нашем пути к западу был городок Нянь-бо-сянь, окруженный солидной крепостной стеной; все постройки его имели грязный, старый вид, и только за оградами фанз на общем сером фоне отрадно оттенялись кипарисы, каштаны и другие садовые деревья, а также и огородная зелень. В висевших в воротах крепости клетках вместо обычных для китайских городов голов преступников красовались старые, изношенные туфли прежних славных правителей города. Население Нянь-бо-сяня невелико и имеет в своем составе кроме китайцев еще дунган, называющих себя «старыми дунганами», или ло-хой-хюй. Торговля города развита очень слабо.
Остановившись в одной версте кюго-востоку от крепостной стены, на берегу прозрачной, звонкой речки Су-ма-хэ, я командировал переводчика Полютова к начальнику города с приветствием и с просьбой дать экспедиции проводника. Мой посланный вскоре возвратился с благоприятным ответом и вручил мне визитную карточку китайского отца города. В течение всего дня нашей стоянки на Су-ма-хэ шел мелкий «осенний» дождь, продолжавшийся всю ночь до самой утренней зари; это нисколько не помешало нам поэкскурсировать в окрестностях бивака, где были отмечены синицы, вертишейки, плиски, сороки и добыты два дятла – зеленый (Gecinus guerini kogo) и мандаринский (Dendrocopus cabanisi cabanisi [Dryobates cabanisi]), а также красивая голубая сорока (Cyannopolius cyanus)[179].
В области рассматриваемого района, правый берег Синин-хэ морщится горными складками-ущельями[180], поросшими в своих устьях сплошной оазисной растительностью, обыкновенно сопровождающей довольно густое население; одно из ущелий – Лоба-гоу – замечательно своим порядочным для данных мест прудом (около двух десятин), а другое – Ганза-гоу – присутствием тангутского монастыря Чюн-тан-сы, насчитывающего до пятисот или даже шестисот лам; по соседству с этим монастырем, в теснине Лова-ся, находят золото, добываемое из песка, залегающего в аллювиальном русле[181].
Из Нянь-бо-сяня дорога проходит под скалами левого берега Синин-хэ и представляет лишь узкую тропу, где во время высокой воды караван подвергается опасности свалиться в реку; частые дожди в июле месяце как раз создали самые неблагоприятные условия для путешествия, и наша экспедиция лишь с большим трудом миновала узкую часть пути, проведя всех верблюдов поодиночке вдоль скалистой стены. Далее к западу тропа вывела нас снова на простор и пошла вдоль полей и бахчей. Дождь сменился ясной, жаркой погодой, и мы с особенным удовольствием утоляли томительную жажду превосходными дынями и арбузами.
Перед входом Синин-хэ в узкое ущелье, на левом берегу реки под нависшим утесом производилась починка дороги; туземцы работали усердно, но пользовались самыми примитивными средствами для выполнения своей задачи, а потому много труда пропадало даром. Спускаемые с высоты огромные камни лишь в редких случаях попадали на размытую дорогу и заполняли ее выбоины; гораздо чаще случалось, что они с шумом и грохотом катились вниз и исчезали в глубине реки. Пройдя мимо рабочих-китайцев, уже под вечер мы вскоре затем поймали довольно большую зеленоватую змею – щитомордника (Ancistrodon halys), стремившуюся на пересечение нашей дороги.
С севера горизонт заслонялся береговыми возвышенностями; обрывы красных конгломератов, покрытых лёссом, временами напоминали развалины старинных замков с колоннами; еще издали, верст за десять, мы любовались совершенно отвесным утесом темно-красного цвета, испещренным у своего основания белыми точками монастырских построек.
Древний буддийский монастырь Марцзан-лха, или по-китайски Пэй-ма-сы[182] стоит на выступе конгломератовой скалы; его узкий четырехэтажный, выдержанный по стилю храм прячется под такой неприступной кручей, что, кажется, только счастливый случай спасет святыню от грозной опасности обвала. Поверхность горы над кумирней и по бокам ее окрашена в белый цвет.
Поднявшись к монастырю по крутой тропинке, я сфотографировал очень интересное, большое, высеченное в скале изображение Будды. У самых дверей меня встретил престарелый лама и вежливо предложил войти во внутреннее помещение; где-то высоко над головою монотонно ворковали голуби и раздавалось карканье черного ворона; собака тревожно лаяла, зачуяв неведомого посетителя.
Из окон комнаты отшельника открылась дивная панорама на широкую речную долину и южные горы, принадлежащие к отрогам хребта Нань-да-шань; внизу, у их подножья, лепилось маленькое тангутское селение; жители его, по-видимому, занимались земледелием, так как на площадке посреди деревни были сложены скирды хлеба. По большой дороге в ту и другую сторону непрерывной лентой тянулись караваны, обозы, позвякивая неизменными бубенцами.
Стена красных конгломератов обрывается Марцзанским утесом и дает место довольно широкой долине Орголын с речкой того же имени, в вершинах которой, в десяти верстах к северу от Синин-хэ, на левом берегу ущелья «Желтого молока», красуется большой богатый тангутский монастырь желтого толка Ай-гу-ман-сы.
Последние «щеки» Синин-хэ сжимают реку в десяти верстах к востоку от Синина и образованы гнейсом и кристаллическими сланцами. Внутри теснины[183] сооружен довольно прочный китайский мост, поднимающий лишь вьючных животных и облегченные чиновничьи тележки; арбы через него переносятся в разобранном виде. Устройство моста весьма несложно: к прочным береговым каменным устоям прикрепляются бревна в виде ровной настилки; поверх первого ряда бревен накладывается второй, уже значительно выступающий в реку, затем прибавляется третий, четвертый ярус, пока, наконец, расстояние между двумя береговыми сооружениями не сузится до длины хорошего бревна; тогда середина моста, поднимающегося над водою до трех сажен, заполняется прочными перекладинами, прикрепляемыми к основе особыми рамками и клиньями. Настилка моста делается из поперечных досок. Подобное сооружение под тяжестью верблюдов трещит и, прогибаясь, качается, но все-таки способно выдержать солидный груз.
Перейдя через этот «замечательный» мост, экспедиция до самого Синина не покидала правого берега реки. Погода стояла по-прежнему теплая и мы с удовольствием купались в Синин-хэ; дожди перепадали изредка, а двадцать девятого июля разразилась даже гроза, шедшая от запада и закончившаяся мелким градом.
Миновав теснину Сяо-ся, мы отметили вблизи одинокой кумирни следы береговых устоев ныне исчезнувшего второго моста. Затем вскоре открылся вид на крепостные башни областного города. Чем ближе к Синину, тем оживленнее становился тракт. По вершинам береговых высот появились оригинальные башни, по преданию, служившие когда-то своего рода беспроволочным телеграфом. В известных случаях, зажигая на этих башнях костры, передавали условный знак с вершины на вершину и тем самым ставили китайское правительство в известность, в особенности о надвигавшихся воинственных ордах монголов или тибетцев.

Глава одиннадцатая. Город Синин и соседний монастырь Гумбум
Синин как административный и торговый центр. – Мое пребывание и свидание с властями города. – Предупредительность цин-цая. – Монастырь Гумбум в связи с историей реформатора буддизма Цзон-хавы. – Развитие и процветание Гумбума. – Главнейшие храмы и коллегии; Алтын-сумэ, или «Златоверхий храм» – гробница Цзонхавы. – Восемь субурганов. – Настоятель, гэгэны и простые ламы. – Порядок и дисциплина.
Синин – большой областной город с резиденцией китайского сановника цин-цая, ведающего не только номадами Куку-нора, но и номадами отдаленного Северо-восточного Тибета, описывался уже не раз моими предшественниками и мною; поэтому я скажу о нем лишь несколько слов: в настоящее время сам город быстро растет и так же, как и весь Сининский округ, становится все многолюднее и многолюднее. Бассейн верхней Синин-хэ весьма плодороден и служит житницей прилежащих областей Западного Китая. Чаще всего хлебные караваны следуют из Синина в вице-королевскую резиденцию – Лань-чжоу-фу.
Кроме хлебного экспорта, Синин сосредоточивает в себе также и меновую торговлю с кочевниками, приобретающими в обмен на свое сырье предметы первой необходимости, а иногда и предметы роскоши; дикие сыны степей и гор любят наряжаться в яркие цвета и охотно покупают красные, желтые и голубые или синие шелковые и бумажные ткани, а также различные серебряные украшения. Китайцы, как прирожденные торговцы, умеют быстро приспособляться к спросу, и у каждой фирмы заводятся свои потребители – монголы, тангуты или тибетцы, находящие у ловких купцов во время своего пребывания в городе, широкое гостеприимство. Как это ни странно – бедные разоряющиеся номады не менее выгодны китайским торговцам, чем обстоятельные, богатеющие; в то время как вторые оставляют в магазинах бо́льшую часть своих капиталов, первые несут на продажу все последнее достояние, порою заключающее в себе немало редких и дорогих предметов, в особенности по части пушнины, и отдают его за бесценок.
Кроме китайцев, в Синине занимаются мелкой торговлей пришлые сарты-кашгарцы[184], преимущественно поставляя шелковые материи, реже ковры или прекрасные цветные войлоки, иногда ловкие сартишки ухитряются сбывать тангутам ружья Бердана, не стесняясь спрашивать за них сто, сто пятьдесят или даже двести рублей.
Наш караван расположился лагерем в двух с половиною верстах к востоку от Синина, в предместье Цав-дя-цзай, на свободной от пашни площадке, к которой примыкало болотце и колодец. Ближайшее население отнеслось к экспедиции очень дружелюбно, да и вообще Синин побаловал нас своим вниманием. Воспользовавшись ранним прибытием на стоянку, я тотчас отправился в город и к трем часам дня уже отдыхал среди знакомых китайской фирмы Цань-тай-мао. Представитель фирмы, интеллигентный китаец Хабур-Хабур, особенно сердечно встретил меня, и я скоро забылся в приятном разговоре, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. В этот же день мой переводчик Полютов передал мои визитные карточки сининскому цин-цаю и четырем важнейшим чиновникам города – дао-таю, чжень-таю, фу-таю и сэ-таю.
Тридцать первого июля в десять часов утра я уже облачился в парадную форму и, сев в закрытую тележку, запряженную мулом, направился с намеченными накануне визитами. Прежде всего я посетил цин-цая. Высокий энергичный старик выглядел очень бодро и принял меня с обычной для китайских амбаней[185] корректностью. Осведомившись о том, где находятся указанные в цзунли-ямунском охранном листе мои помощники, цин-цай повел речь о дальнейших планах экспедиции и предполагаемом посещении озера Куку-нор. «Усердно прошу вас – говорил амбань, – не углубляйтесь далеко в дикие страны, не задерживайтесь долго на Куку-норе. Там живут лихие непокорные тангуты».
Приняв мою искреннюю благодарность за обещанное содействие, амбань поинтересовался узнать время нашего возвращения в Синин. Услыхав, что я не намереваюсь вернуться ранее одного или даже полутора месяцев и что в план моих работ входит исследование глубин альпийского бассейна, для чего у меня имеется лодка, цин-цай в изумлении даже вскочил с места, а затем овладев собою и сдерживая снисходительную улыбку, строго заметил: «Вам, вероятно, неизвестно, что вода в Куку-норе обладает особенным свойством: в ней тонут не только камни, но и деревянные предметы, так что вся ваша затея кончится очень печально – лодка погибнет на дне озера, а вам придется возвратиться ни с чем». Я снова повторил предупредительному старику свою благодарность от лица всей экспедиции и сказал, что в поступках своих буду, как всегда, руководствоваться чувством долга и желанием служить интересам отечества и географической науки.
Сининский дао-тай, или губернатор, еще более древний старик, чем цин-цай, в общих чертах повторил мне внушения, сделанные уже его начальником.
Чжень-тай – начальник гарнизона, молодой, жизнерадостный, красивый полковник заставил некоторое время ждать себя в приемной, за что впоследствии глубоко извинился, мотивируя свое замешательство незнанием времени, когда я прибуду. Этот сановник оказался любителем лошадей и изрядным стрелком, увлекавшимся разного рода оружием. Обо мне, как об исследователе Центральной Азии, он знал давно от своего брата, служащего в министерстве иностранных дел.
Заехав по дороге к гражданскому чиновнику – судье самому младшему – сэ-таю, я закончил свои визиты посещением фу-тая, принявшего меня необыкновенно радушно. «Я жду вас с девяти часов утра, – заметил фу-тай, – и терпение мое стало истощаться!». В дальнейших разговорах о тех же тангутах и других перипетиях путешествия мы оба с фу-таем почувствовали взаимную симпатию и, можно сказать прямо, подружились.
Месяц июль, в течение которого довольно часто перепадал дождь, закончился сильной грозой и ливнем, подтопившим наш лагерь, в особенности офицерскую палатку, стоявшую в ложбине. Подобного рода неожиданность – не из приятных.
Первого августа я распрощался с Синином и возвратился в восточное предместье этого города, в Цав-дя-цзай, где, пользуясь любезной предупредительностью цин-цая, обещавшего содействовать нашей переписке, тотчас принялся заготовлять небольшую почту в Россию.
Выступление каравана было намечено на второе августа, причем главный транспорт предполагалось отправить прямым трактом по заселенной китайцами долине Синин-хэ на Донгэр, а маленький разъезд со мною и одним казаком рассчитывал по пути в Донгэр посетить монастырь Гумбум.
Разведенная за последние дни дождем грязь достигала на улицах Синина значительной глубины и сильно тормозила движение верблюдов; только пройдя весь город до южных ворот, я вздохнул свободнее и, проводив караван до моста, через южный приток Синин-хэ – Нан-чан-хэ, – поехал к юго-юго-западу, вверх по долине названной речки. Дорога постепенно втянулась в извилистое ущелье; по гребням прилежащих гор стоял ряд обо, как бы отмечавший собою путь к буддийской святыне; по отлогим скатам холмов среди яркой зелени, пятнами пестрели созревшие хлеба; в полях кипела работа, там, кажется, собралось все население плодородной долины Нан-чан-хэ, оставив в деревнях лишь старых да малых. Вскоре за незначительным захудалым городишкой Сю-дя-цзай мы поднялись на маленький перевал через горный отрог и увидели монастырь Гумбум – «Мир Майтреи», или «Сто тысяч изображений».
Гумбум лежит на высоте 8855 футов [2700 м] над уровнем моря, в тридцати пяти верстах от Синина, в горах, сопровождающих с запада долину Нань-чуань-коу. Выбор места для основания обители объясняется историческим прошлым страны, тесно связанным с рождением и жизнью великого реформатора буддизма, основателя желтой секты – Цзонхавы. Об этом высокочтимом святом в хрониках монастыря сохранилось много преданий, из которых я приведу два наиболее, по моему мнению, достойных внимания.

Первая легенда гласит следующее: «У самого подножья гор, на том самом месте, где теперь стоит Гумбум, в середине XIV столетия жили тибетец Ломбо-Моке и его жена Шингтза Тсио – уроженцы Амдо. Невдалеке от ручья, бегущего в сторону Ло-цэра, находился колодезь, а рядом – небольшая молитвенная мельница, построенная этой боголюбивой четой. Бедные люди не имели никакого хозяйства, за исключением нескольких голов скота. Не было у них также и семьи, несмотря на то что они горячо молились будде, чтобы он послал им на утешение ребенка. Но вот однажды, когда Шингтза Тсио стояла над колодцем и черпала воду, вдруг увидела в глубине на зеркальной поверхности воды образ неизвестного ей мужчины и в ту же минуту почувствовала в себе зачатие. В том же, 1357 году Шингтза родила здорового сильного мальчика с длинными волосами и белой бородой. Ребенку дали имя Цзонхава, имя, принадлежавшее горе дикого лука, у подножья которой жили его родители.
Когда Цзонхаве исполнилось три года, мать остригла ему волосы и выбросила их за палатку просто на землю; на том самом месте вскоре появилось маленькое нежное растение, постепенно превратившееся в сильное дерево, на листьях которого с самого начала видна была надпись ом-ма-ни-па-дмэ-хум.
Цзонхава с раннего детства обнаружил замечательно острый ум и блестящие способности. Уже подростком он начал проявлять свою самостоятельность и любил уединяться в пустынные окрестности, предаваясь посту и созерцанию. Однажды мальчик познакомился с каким-то длинноносым ламою[186], пришедшим с далекого запада. Обладавший глубокими религиозно-философскими знаниями, лама этот обратил внимание на вдумчивого способного юношу и вскоре сделал его своим учеником и другом. Преподав Цзонхаве основы своих религиозных верований и посвятив его во все тайны религиозного культа Запада, незнакомец умер. С этого дня вдохновенный юноша стал всей душой стремиться на Запад, чтобы там, на родине своего незабвенного учителя, еще полнее воспринять новую веру.
На пути своего далекого странствования Цзонхава совершенно случайно забрел в Лхасу; здесь ему явился дух и внушил, что именно в этом городе ему нужно остановиться и проповедовать свою новую религию, так как отсюда ей суждено распространяться по всей стране. Цзонхаве удалось в самое короткое время привлечь к себе многочисленных друзей и последователей. Учение его нашло отклик даже при дворе самого Далай-ламы, и только тогда в Лхасе началась оппозиция. Решено было во что бы то ни стало избавиться от странствующего ламы, влияние которого с каждым днем росло и крепло. С этой целью, одевшись простым монахом, сам Далай-лама отправился к Цзонхаве на свидание и в личной беседе на религиозные темы путем ловко поставленных вопросов, хотел принудить великого реформатора к противоречию и сделать его всеобщим посмешищем.
Цзонхава принял незнакомого ламу очень холодно и, даже не взглянув на него, продолжал сидеть посередине своей палатки и усердно молиться. Далай-лама пробовал окликать его, задавал разные вопросы, но великий учитель, казалось, ничего не слышал и неутомимо перебирал свои четки. Вдруг Далай-лама невольно схватился за свою шею: он почувствовал укус маленького неприятного насекомого, тут же поймал его и нечаянно раздавил своими пальцами. Цзонхава тотчас поднял голову, грозно взглянул на монаха, в котором он давно узнал Далай-ламу, и начал громогласно упрекать его в попрании заповеди буддизма, запрещающего убивать каких бы то не было животных – во имя веры в переселение душ. «Этим поступком, – закончил реформатор, – ты сам произнес над собою суд!». Пристыженный и униженный Далай-лама направился к выходу, но в дверях палатки зацепился своей высокой шапкой за край полога и уронил ее. Это послужило тибетцам знаком, что прежняя, старая вера закончила свое существование и что теперь наступило время настоящей праведной религии, проповедуемой Цзонхавой.
Так оно и случилось: красная шапка, упавшая с головы Далай-ламы, заменилась желтой – символом «гелюгна» реформированной религии». Символ крови сменился символом солнца, энергией которого существует жизнь нашей планеты – Земли».
Второе сказание, записанное Рокхилем, рисует прошлое Цзонхавы несколько иначе.
«В 1360 году в амдоской области Тсонг, неподалеку от Гумбума, уодной женщины по имени Шинг-за-ху родился мальчик, которого она назвала Цзонхава. Впоследствии он был известен как Ти-Ринпоче – «Драгоценный господин». Когда ребенку исполнилось семь лет, мать остригла ему волосы и посвятила свое дитя церкви. Из волос мальчика, выброшенных за палатку, вскоре выросло знаменитое священное дерево. С шестнадцати лет юноша начал заниматься теологией, а в семнадцать лет, по совету своего учителя, отправился в Лхасу для усовершенствования своих знаний. Там Цзонхава всецело занялся изучением многочисленных буддийских сект, которым всегда давал свое толкование. Его взгляды и суждения привлекли массу последователей. Особенным успехом пользовалась его критическая оценка организации и дисциплины духовного сословия.
Поддерживаемый и ободряемый королем Тибета, Цзонхава в скором времени основал секту гэлуг-на и выстроил неподалеку от Лхасы «счастливый монастырь» под названием Галдан-гомба. Все разрастаясь, новая секта приобретала приверженцев не только в Тибете, но и в Монголии, а потому весьма вероятно, что еще в то время вблизи места рождения Цзонхавы был основан монастырь Гумбум, что значит «Сто тысяч бурханов[187]» или «изображений». Название это, вероятно, происходит от многочисленных изображений, появившихся на листьях священного дерева».
Китайцы всегда называли этот монастырь «монастырем Дагоба», упоминание о котором мы впервые встречаем у Orazio della Penna в XVIII столетии. Из русских путешественников, кроме Г. Н. Потанина, проведшего зиму 1885 года в Гумбуме, и М. Е. Грумм-Гржимайло, мимоходом заглянувшего на родину Цзонхавы, эту буддийскую святыню посетили буддисты паломники Г. Ц. Цыбиков и Б. Б. Барадийн[188].
Гумбум, или Кумбум – один из самых знаменитых и многолюдных монастырей Амдоского нагорья, основан около пятисот лет тому назад богдо-гэгэном. Положив начало буддийской святыне, богдо отправился паломничать в Тибет, в Цзу, откуда больше и не вернулся. Гумбумская община перешла в ведение гэгэна Ачжя, считающегося в настоящее время в пятом перерождении.
Причины дальнейшего развития и процветания Гумбума нужно искать в его удачном географическом положении, давшем ему возможность стать политическим и культурным центром всей северо-западной Ганьсу; привлекая к своим святыням многочисленных богомольцев, богатый монастырь сделался также средоточием торговых караванов, пересекавших означенную китайскую провинцию в направлениях на Ургу, Кашгар, Пекин и Сычуань.
Последователи секты «желтошапочников» оказывают Цзонхаве необычайное почтение. «Во всех уголках мира, – пишет Б. Я. Владимирцов[189], —где только распространилось его учение, в Тибете, в монгольской Гоби, в Забайкалье и Астраханских степях, в горах Тянь-шаня, везде Цзонхава чтится не только как глава, основатель нового вероисповедания, но как могучий, совершенный и милосердный бодисатва, как третий будда».
Хвалебный гимн ему, называемый по первым словам «мигцзема», знает наизусть каждый сколько-нибудь набожный ламаит; Цзонхава является для них близким и видимым образом совершенства, близким заступником и утешителем, к которому может прибегать страждущее человечество. Вот почему изображения Цзонхавы в виде статуй, икон, наполняют храмы, ступы, жилища тибетцев и монголов, вот почему носят его изображения на груди. В тяжелую минуту жизни тибетец и монгол-простолюдин обращается прежде всего к «своему» ламе, святому Цзонхаве, сколько раз на день монгол в минутном раздумьи произнесет: «Лама Цзунхув!». Ученым же монахам, испытанным в диалектике, сочинения Цзонхавы являются совершенными образцами по мысли, по форме, по языку. В начале зимы, приблизительно в первых числах декабря, ламаиты чтят день кончины своего наставника; везде и всюду, по всему пространству ламайского мира в эту ночь зажигаются светильники внутри и вне жилищ, и около самой бедной юрты, затерявшейся где-нибудь на отрогах Алтая, сияет в лютый мороз среди мертвой тишины пустыни яркая лампада в честь и память великого буддиста, который не только увлек умы, но и так близко подошел к сердцам «малых сих».
Гумбум словно прячется в горах, обступивших его амфитеатром; его исторические храмы с золотыми кровлями, белые субурганы и жилые помещения монахов раскинулись живописными группами по крутым склонам высот, расчлененных глубокими сухими оврагами; на дне этих оврагов вблизи колодцев с чистой прозрачной водой, растут стройные тополя, высоко, к самым берегам поднимая свои гордые вершины.
Бо́льшая часть зданий Гумбума носит на себе печать старины: на папертях некоторых храмов – Алтын-сумэ – видны углубления в деревянных настилах, происшедшие от постоянного коленопреклонения, от прикосновения к полу мозолистых рук и ног молящихся.
Но из всех святынь монастыря лишь один златоверхий храм сохранился в неприкосновенности, в своем первоначальном виде, остальные постройки в большей или меньшей степени пострадали при восстаниях дунган.
Растянувшиеся длинной линией по берегу одного из оврагов главнейшие храмы Гумбума[190] составляют северную обособленную окраину монастыря и делятся на два типа: обыкновенные кумирни-лхаканы, представляющие собственность важных гэгэнов и служащие только для молитвы, и храмы-школы, или коллегии, где ламы собираются для занятий по разным отделам буддизма. В Гумбуме четыре коллегии: первая – научная, вторая – медицинская, третья – факультет созерцания и четвертая – коллегия для изучения мистической научной литературы тантр.
В научной коллегии[191] в присутствии всех лам каждое утро бывает чтение сутр, сопровождающееся прениями. Сигналом к началу занятий служит трубный звук священных раковин; тотчас после призыва священники (или ламы) вносят сутры в зал, где в четыре ряда по обеим сторонам центрального кресла рассаживаются старшие ламы; младшие священники и прочие слушатели во всякую погоду располагаются на прилегающем к залу дворе. При входе лам с сутрами все присутствующие надевают свои желтые шапки; мирянам разрешается только присутствовать при этом чтении, отнюдь не принимая в нем активного участия.
После нескольких минут молчания находящиеся ближе всего к трону ученики начинают громким голосом читать сутры, причем вся аудитория тихо вторит им; между тем старшие ламы или сановники обступают докладчиков и по окончании чтения дают толкования прочитанному, после чего наступает временная тишина. Затем один из учеников встает, снимает шапку и тогу и, подойдя к какому-нибудь старшему ламе, начинает жестикулировать руками, горячо доказывая ему что-то; со своей стороны лама то возражает, то задает вопросы, и разгорается настоящий диспут. По окончании ученого спора победителю дается право взобраться на плечи побежденному, который должен один раз обнести его вокруг двора. Ламы научной коллегии играют в жизни Гумбума очень важную роль, и мнение их является решающим даже в делах управления. На обязанности этих лам лежит примирение рассерженных богов с провинившимися смертными, которых боги карают, ниспосылая на них разного рода насчастия.
Для выполнения этого обряда внутри монастыря собирается несколько лам и вырывают глубокую яму, куда при чтении покаянных молитв складывают деньги, одежду и другие приношения кающихся. Но этого мало. Почти все имущество грешника: верблюды, лошади, бараны и проч. раздается соседним кочевникам и китайцам, с жадностью ожидающим такого рода подачек. Через несколько дней ламы снова откапывают жертвы, зарытые в землю, причем все, кроме денег, сжигается, а деньги идут на нужды главного храма.
В одной из комнат здания научной коллегии хранится целая коллекция исторически ценных предметов; среди них выдающимся объектом нужно считать автопортрет Цзонхавы, писанный кровью и препровожденный из Лхасы в Амдо в виде подарка матери великого реформатора; легенда говорит, что в тот момент, когда мать Цзонхавы, получив этот ценный дар, взяла его в руки, портрет ожил и сказал ей, что Цзонхава жив, здоров и находится в Лхасе.
Изображения Цзонхавы, находящиеся в Гумбуме, в общих чертах характеризуются типичными особенностями: с обеих сторон великого реформатора подымаются лотосы – символ господства буддийской религии. Слева около цветка стоит меч, а справа лежит книга. Обе руки Цзонхава держит у груди, ладонями внутрь.

В той же коллекции[192] научной коллегии хранится еще одна любопытная фигура – глиняная статуэтка Мете-фудже; говорят, что через некоторое время по окончании лепки этой фигуры у нее чудесным образом выросли на голове волосы.
Следующим по значению факультетом является медицинский, где изучают способы лечения разных более или менее распространенных болезней. Ежегодно в конце лета студенты-медики отправляются в окрестные горы под названием Чогортан в экскурсию и под руководством своих лам-учителей занимаются сборами лекарственных растений. Захватив некоторый запас провианта и вооружившись топориками и палками с железными наконечниками, молодые люди весь день проводят за работой в горах и лишь к вечеру возвращаются в лагерь. После восьмидневного непрерывного сбора растений студентам дается пять дней на сортировку и классификацию гербария, впоследствии переходящего в собственность монастыря. Двухнедельная экскурсия заканчивается праздничным чаепитием со сластями. Собранные лекарственные растения частью представляются в монастырскую аптеку, где их подвергают огневой сушке и перетиранию в порошок, после чего лекарство хранится в маленьких пакетиках из красной бумаги с соответствующей надписью. Никаким химическим переработкам лекарственный порошок не подвергается. При недомоганиях ламы, по обычаю, заглянув в свой учебник, принимают приведенное на этот случай средство и терпеливо выжидают улучшения.
Пост главного руководителя – профессора медицинского факультета считается весьма почетным и представляется достойнейшему по заслугам (но, кажется, главным образом по общественному положению и связям) члену ученой корпорации монастыря. Избрание на этот пост лица сопровождается оригинальной церемонией. Стены церковного двора, по словам Ринхардта[193], были увешаны яркими фантастическими рисунками китайской работы; посередине стоял длинный узкий стол с многочисленными блюдами и металлическими сосудами самой разнообразной величины и формы, наполненными рисом, цзамбой, мукой, хлебом, маслом и прочими съедобными предметами. Все эти жертвы приносились в дар божеству в честь нового кандидата на председателя медицинской коллегии.
Любопытная толпа только что обступила жертвенный стол, с завистью глядя на вкусные блюда, предназначенные богам, как вдруг в дверях показалась блестящая процессия пятидесяти лам в красных и желтых одеждах со священными колокольчиками в руках; они прошли и уселись на мостовую. Вслед за ними степенной и ровной походкой проследовал виновник торжества, своего рода будда медицины, и опустился на особый деревянный трон, убранный красными и желтыми материями.
Этот лама был облачен в блестящие парадные одежды и высокую вышитую шапку, вполне гармонировавшие с торжественной обстановкой всего праздника.
Церемония началась оглушительным звоном шестидесяти колокольчиков, которым вторили низкие голоса лам, читавшие и певшие волшебные каббалистические молитвы. Непосредственно перед троном профессора медицины стояла большая урна, на дне которой горело яркое пламя. Из урны подымалось облако благовонного дыма. По данному знаку несколько лам сразу поднялись со своих мест и, взяв большими ложками часть жертвоприношений, стали бросать их в урну, сжигая таким образом дары в честь нового избранника.
В заключение ламы вылили в пламя небольшое количество священного масла и, рассевшись вновь по местам, стали петь прерванные молитвы.
В гумбумской коллегии созерцания, или тинг-ко, ламы занимаются изучением литературы по этому предмету, а кроме того, на их обязанности лежит служение панихид по усопшим и совершение самого обряда похорон.
Четвертая коллегия лам – тсу-на, или факультет изучения мистической литературы тантр, имеет очень строгий устав, и члены ее ведут аскетический образ жизни, подвергая свою грешную плоть различным истязаниям. По уставу тсу-на ламы могут спать только в скрюченном положении, пригнув колени к голове; ходить по улицам группами им не разрешается, а потому они следуют гуськом, в точности подражая друг другу в движениях. Таким образом, если один из идущих приостановился за нуждою, остальные обязаны сделать то же.
Старейшим храмом Гумбума считается Чжам-ин-гун-сук, построенный архитектором Сэр-чжямцо под наблюдением богдо-гэгэна – основателя. Следующий соборный храм – Цокчэн-дукан, вмещающий в себе до пяти тысяч молящихся, поразил меня своим душным, спертым воздухом; по-видимому, он никогда не проветривается, и я удивляюсь, как люди могут оставаться в нем дольше пяти минут. За Цокчэн-дуканом, ближе к горам, красуется богатая кумирня с золотой кровлей и необыкновенными стенами глазированного кирпича[194], это Алтын-сумэ-Цзу, хранящая, по преданию, под своим центральным золоченым субурганом прах Цзонхавы. Вдоль стен кумирни расставлены металлические и глиняные, вызолоченные и выкрашенные в краску бурханы, а над ними висят писанные золотисто-красные изображения тех же божеств. В библиотеке златоверхого храма, среди множества других книг, находится большой шестнадцатитомный труд самого Цзонхавы, называемый Цзунг-бум и изданный на китайской бумаге, тибетского формата. Цзунг-бум – одно из главных сочинений реформатора, которое по своему религиозно-философскому содержанию, на тему «как достичь совершенства», можно сблизить лишь с «Притчами Гаутама-Будды».
Во время моего пребывания в Гумбуме молящихся всюду было очень много, а перед Алтын-сумэ теснилась целая толпа лам, ожидавших очереди, чтобы занять место на паперти для совершения растяжных поклонов. Здесь именно и видны углубления, сделанные в дереве руками и коленями молящихся.
В непосредственной близости от Алтын-сумэ, рядом, стоит храм Чжюхын, известный большим золоченым изображением Цзонхавы, сидящим на престоле посередине молитвенного помещения. Между прочим, следует упомянуть, что в Гумбуме нет ни одной кумирни и ни одного здания вообще, где бы не красовалось большое или малое изображение реформатора буддизма; его бурханы, заключенные в гау – ладанки или киотки, можно встретить на груди у каждого монаха.
Спускаясь несколько вниз по краю оврага, наблюдатель видит два живописно расположенных храма Шабдэн-лхакан и Найчун-цзян-хан; в первом наиболее почитаемой святыней является дерево улан-цзан-дан, выросшее, по вере буддистов, на том месте, где были зарыты волосы Цзонхавы, остриженные при его посвящении в монахи. По другим версиям, здесь был зарыт послед Цзонхавы. Улан-цзан-дан – особый вид сирени[195], растет посередине небольшого [в шесть-семь сажень ширины] двора и поднимается из клумбы, одетой снаружи кирпичной стенкой; по сторонам двора есть еще несколько таких же клумб с отсадками священного дерева.
Монахи уверяют, что благочестивые люди, угодные будде, видят на сочных свежих листьях этой сирени таинственные очертания божественных знаков; каждый листок считается поэтому драгоценной реликвией и обладает, по представлению паломников, целебными свойствами[196]. Внимательно осматривая улан-цзан-дан со всех сторон, я не нашел никаких знаков на листьях, но все же не мог противостоять своей научной любознательности, если так можно выразиться, и, сорвав маленькую веточку дерева Цзонхавы, бережно спрятал ее в записную книжку для последующего определения[197]. Мой поступок вызвал некоторый протест со стороны привратника, но сопровождавший меня сининский переводчик скоро успокоил бдительного ламу, передав ему от меня кусочек серебра.
Во внутреннем помещении Шабден-лхакан, кроме обычных бурханов, удивленному взору посетителя представляются внушительные фигуры зверей или диких животных – тигра, леопарда, медведя, яманов, антилоп и другие. Исполненные довольно удачно, эти чучела пожертвованы местными тангутами как трофеи собственной охоты.
Соседний храм Найчун-цзан-хан, с темно-красными стенами и золотыми ганчжирами на крыше величественнее предыдущего. На этом храме красуется надпись из золотых китайских иероглифов: «Величественная добродетель блестяще правит». Найчун-цзан-хан как-то особенно оттеняется рядом из восьми белых, как снег, субурганов. История основания этих надгробий такова. Стараясь расширить свои владения, китайцы Ганьсуйской провинции начали посягать на исконные земли монастыря, но ламы[198] последнего с восемью гэгэнами во главе при поддержке кукунорских номадов энергично отстаивали свои права на землю; в конце концов в разбор этого спорного дела вмешалось китайское правительство, которому было доложено о якобы начавшемся бунте монахов. Богдохан командировал в Гумбум отряд войск под предводительством знаменитого по жестокости в те времена принца Нэн-гун-вана. Прибыв в Гумбум, решительный и строгий принц начал расследование дела и, убедившись, что главными виновниками недоразумений являются восемь гэгэнов, потребовал их к себе и сказал им: «Вы, мудрецы гэгэны, все знаете – что было, что есть и что будет; скажите же мне, когда вы должны умереть?». Испуганные и понявшие свою тяжкую участь святители ответили: «Завтра!» – «Нет, вы ошибаетесь! – грозно вскричал Нэн-гун-ван, – Вы умрете сегодня». И отдал приказ своим воинам тотчас отрубить им головы.
Трупы гэгэнов подвергли сожжению, а на месте их казни ламы монастыря воздвигли восемь субурганов, или надгробных памятников[199].
В пристройке-балконе к храму Шабдэн-лхакан, так же, как и в Найчун-цзан-хане, стоят чучела джара (Nemorhoedus) и двух диких яков, имеющих весьма свирепый вид: головы могучих животных опущены вниз, хвосты наподобие султанов подняты кверху, и вся поза их указывает на готовность поднять на рога первого встречного.
Визави главнейших святынь Гумбума[200], на противоположном скате оврага, огорожен небольшой участок лесостепи, служащий местом для прогулок лам. По установленному исстари обычаю, здесь монахи часто испытывают друг друга в знании догматов буддийской религии и с этой целью устраивают публичные диспуты. Издали подобные собрания производят довольно оригинальное впечатление: слышен громкий гул сотни молодых голосов, отвечающих нараспев на вопросы товарищей; иногда раздаются отдельные возгласы и дикие крики, не нарушающие в сущности общего порядка, но кажущиеся странными постороннему наблюдателю. Первый раз, когда мне пришлось невзначай подойти близко к саду диспутов, я был встревожен необычайным шумом и подумал, что с монахами случилось что-то неладное.

Кроме больших и малых кумирен, в Гумбуме имеются еще почитаемые буддистами субурганы, из которых в одном, очень большом, сделан арычный проход, другие два – поменьше, известны под названием Чортэн-чжат и Намжимын-цорчжэ; первый из них устроен в честь бодисатвы, дарующего жизнь, – Аюши.
Все постройки монастыря, так же как и кельи лам, содержатся в образцовом порядке; здания отличаются красотою и прочностью, в некоторых из них, как например в большой кухне, замечаются даже попытки настоящего благоустройства; в очаг гигантской центральной печи вделано три настоящих медных котла высотою до двух аршин и диаметром до трех аршин каждый; топка соломою или мелким кустарником производится снизу. Таким образом, варка чая или, что то же самое, варка пищи[201] на всю братию главнейшего храма или просто для паломников совершается при наименьшей затрате энергии. Общей опрятности Гумбума в значительной степени способствует горный рельеф местности, дающий возможность всем нечистотам, смываемым дождевыми водами, стекать в одно общее русло-овраг и уноситься далеко, к подножью гор. Особую уютность и привлекательность придают обители древесные насаждения, лужайки и цветники, разведенные на каждом свободном участке наиболее трудолюбивыми ламами.
В Гумбуме находится шестьдесят три гэгэна, ведающих всеми ламами, общее количество которых простирается до трех тысяч пятисот человек[202], причем племенной состав их определяется тремя национальностями – монгольской, тангутской и тибетской. Высшим лицом в управлении является ачжя-гэгэн; в помощь ему из представительнейших и разумнейших членов общины выбираются два лица – секретарь и ведающий светскими делами гэцкуй. Исполнительная власть и все сношения со светским начальством находятся в руках трех чиновников: да-ламы, сан-ламы и эмчи-ламы.
Представители светской власти – три чиновника и гэцкуй – заседают в особом здании «Управлении монастыря», или, по-местному, Рчжива, расположенном на набережной ближе к нижнему концу оврага.
Наблюдающий за благочинием обители гэцкуй раза два в месяц делает обход всех улиц и наводит порядок; ему сопутствуют обыкновенно ассистенты, имеющие в руках четырехгранные расписные трости, которыми они очень умело действуют, прогуливая их по спинам, плечам и рукам провинившихся лам. Кроме того, во многих храмах подле дверей для острастки гумбумской братии развешиваются нагайки, состоящие из солидного черного кожаного ремня, прикрепленного к деревянной рукоятке; возможно, что один вид этих внушительных плетей влияет на юношей воспитательным образом. Во всяком случае, можно сказать, что гумбумские ламы ведут правильный и строгий образ жизни, поддаваясь соблазну лишь в редких случаях. Одним из источников всяких искушений является соседняя, расположенная в ста саженях внизу, неопрятная и густонаселенная китайская слободка – Ло-сэр, куда ламам запрещено ходить, но где их иногда можно встретить в веселой компании.
Ежедневные отправления церковных служб и разных учений производятся в Гумбуме с удивительной точностью – во всем видно строгое соблюдение известного порядка, поддерживаемого твердой рукой властного начальника.
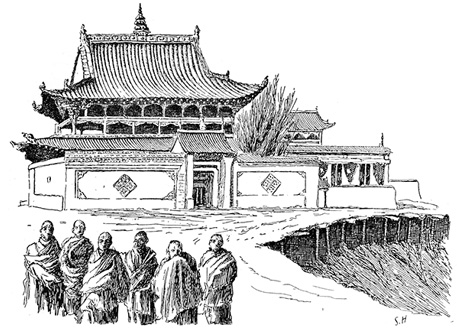
Глава двенадцатая. Монастырь Гумбум, город Донгэри дальнейший путь к озеру Куку-нор
Выгодное географическое положение Гумбума. – Многочисленные паломники, в особенности в период праздников. – Отъезд в Донгэр; новое знакомство с этим городом. – Тангуты и тангутки на базаре. – Приобретение этнографических предметов. – Оставление лишнего багажа. – Верховье Донгэр-хэ. – Перевал Шара-хотул. – Встреча с предводителем аймака Чамру и приход на Куку-нор.
Как высокопочитаемый буддистами религиозный центр, Гумбум собирает в свои храмы в известные праздники богомольцев, стекающихся со всей Центральной Азии; здесь можно встретить не только обитателей Южной Монголии и Куку-нора, но даже и обитателей Северной Монголии, с одной стороны, и обитателей Тибета – с другой. Многие караваны паломников на пути в священную Лхасу считают своим долгом сначала поклониться святыням, тесно связанным с именем Цзонхавы, а затем уже, отдохнув два-три месяца в гостеприимной обители, отправляться в дальнейший трудный путь.
Монастырь Гумбум из года в год богатеет; его многочисленные стада рогатого скота, преимущественно яков, равно баранов и табуны лошадей, увеличиваются за счет широких приношений окрестных номадов, которые, кроме того, дарят храмам золото, серебро, парчу, шелковые ткани, мускус, не говоря уже о массовом привозе монастырской братии продуктов: цзамбы, муки, масла, соли и проч. Кроме добровольных пожертвований, Гумбум, как и все монастыри Амдо и Кама, получает еще ежегодно большой доход милостыней. Десятки монахов периодически отправляются в окрестные кочевья за подаянием и, предлагая туземцам хадаки, бурханы и разные безделушки, получают взамен этого богатые дары природы. По натуре своей гостеприимный номад не в силах никогда отказать просящему ламе и тем самым нарушить благочиние патриархального быта центральноазиатца.
Праздников в Гумбуме довольно много[203], и они длятся больший или меньший срок – периодами; едва оканчивается один, как начинается другой. В феврале буддисты справляют праздник нового года или «торжество истинной религии над ересью», сопровождающийся попеременно танцами, музыкой, театральными представлениями, иллюминацией; миряне и духовенство неизбежно соперничают при этом в благочестии и распущенности.

К концу новогодних торжеств в Гумбум прибывают с разных концов Монголии и Тибета особенно много паломников, спешащих к празднику цветов или масла. Монастырь очень скоро переполняется богомольцами, которые за неимением мест бывают принуждены разбивать лагерь вне Гумбума, на склонах прилежащих высот. Окрестности монастыря в несколько дней совершенно перерождаются и принимают вид сплошной ставки, пестрящей почти исключительно черными палатками тангутов или тибетцев. Ржание лошадей, рев верблюдов, хрюканье яков, лай собак и гул людских голосов сливаются в какой-то неопределенный глухой шум, которому оригинально вторят звуки труб, гонгов и ритмическое пение монахов.
Так как мне лично не удалось ни теперь, ни впоследствии наблюдать праздник цветов или масла, то будет уместно рекомендовать описание его, сделанное в свое время Рокхилем[204].
Следующим большим праздником в Гумбуме нужно считать торжество воплощения будды Шакьямуни, которое длится целый месяц: с начала апреля до первых дней мая. Характерной чертой этого праздника является множество процессий, двигающихся по всем улицам с изображением будды.
С наступлением осени начинается четвертый праздник – торжество воды, имеющий характер искупления и очищения от грехов посредством купанья и питья чистой воды. Этот праздник продолжается около трех недель.
Двадцать пятого числа десятого месяца – день праздника ламп и вместе с тем памятный день смерти или переселения в небеса великого Цзонхавы. Вечером перед изображениями всех божеств зажигаются иллюминации, на всех плоских кровлях также горят фонари, и весь монастырь становится похожим на далекое небо, усеянное звездами. По сиянию и блеску огней ламы гадают, делая предсказания на будущий год.
Но одним из самых любимых народом праздников является праздник шапок, когда на два, а то и на три дня ворота монастыря открываются для женщин[205]. В течение этих нескольких дней каждый мужчина имеет право подойти к женщине, встреченной им в стенах монастыря, и отнять у нее головной убор, который она, по уговору, должна снова получить от него следующей ночью самолично.
Кроме главнейших вышеописанных праздников, в Гумбуме совершается еще целый ряд различных религиозных церемоний, из которых упомянем лишь только две – церемонию на благо путешественников всего мира и ночное молебствие лам.
Двадцать пятого числа каждого месяца монахи Гумбума собираются на соседней горе и, совершив молитвы, разбрасывают по ветру многочисленные бумажные фигурки скачущих лошадей, которые разлетаются далеко-далеко во все стороны. Эти лошади волею будды настигают в пустыне усталых и измученных путников, при встрече с которыми тотчас превращаются в живых коней и таким образом спасают странников от гибели.
Самой оригинальной и глубокой по впечатлению церемонией нужно, однако, считать ночное молебствие лам. Около девяти-десяти часов вечера торжественная тишина спящего монастыря вдруг нарушается пронзительными звуками труб, жалобными завываниями священных раковин и гонгов и звоном колокольчиков.
Все население монастыря от мала до велика собирается на крышах своих домов, где возжигают грандиозные костры. Густые клубы дыма несутся к небесам. Ламы в молитвенных позах, стоя и сидя с поникшими головами, безостановочно шепчут вечную молитву ом-ма-ни-па-дмэ-хум, а миряне также непрерывно вертят свои молитвенные колеса – хурдэ. Многочисленные красные фонари, прикрепленные к длинным шестам, тихо покачиваются и феерически освещают оригинальные группы молящихся.
После полуночи эта ночная церемония внезапно обрывается всеобщим нечеловеческим воплем, который способен наполнить душу каждого непривычного посетителя каким-то непонятным чувством ужаса. Фонари и лампы в то же мгновение гаснут, и повсюду водворяется прежняя тишина и еще более глубокий мрак.
Цель этого странного обряда заключается в том, чтобы как можно дальше отогнать злых духов, которые в прежние времена причиняли большие неприятности мирным монахам, насылая на них болезни, мор и многие другие бедствия. В течение многих лет ламы были бессильны помочь своему несчастью, и только сравнительно недавно один из благочестивых служителей будды придумал вышеописанную церемонию, которая оказалась гибельной для злых духов.
Шестого августа, в день рождения Русского географического общества[206], наш маленький разъезд оставил Гумбум довольно рано, избрав западно-северо-западный курс на Донгэр.
Следуя вначале наперерез мягких холмов, а затем долиною, занятой полями хлеба, где работало все взрослое туземное население, я с особым вниманием, с особой пытливостью всматривался в отдаленный южный хребет, отделявший нас от Хуан-хэ; его альпийская зона, казавшаяся такой привлекательной, сильно манила меня, и трудно было мне как исследователю природы заставить себя пожертвовать интересом к этим мало исследованным горам ради еще более глубокого интереса к Куку-нору и Тибету. Вторая половина пути к Донгэру пролегала по большому тракту, вдоль реки Синин-хэ. Остановившись привалом вблизи отжившего свой век горбатого моста, я с интересом наблюдал за вереницами прохожих и проезжих путников, с любопытством рассматривая так называемых донгэр-ва или далдов – быть может, в далеком прошлом метисов китайцев с тангутами, во всяком случае составляющих особую народность.
Это интересное племя, называемое Н. М. Пржевальским[207] далды[208], а Г. Н. Потаниным – широнголы, расселилось по обоим берегам Желтой реки выше города Лань-чжоу-фу, занимая таким образом местность, известную под именем Сань-чуань, и простираясь на севере вплоть до Синин-хэ. Далды живут оседло и занимаются хлебопашеством, возделывая ячмень, пшеницу и гречиху; их поля, представляющие частную собственность владельцев, орошаются искусственными ирригационными каналами и унаваживаются самым тщательным образом смесью лёссовой почвы с навозом, золой и всякими нечистотами. Постройки донгэр-ва, расположенные отдельными усадьбами, а иногда и целыми селениями, складываются из глиняных кирпичей и, окруженные двором, замкнутым высокою стеною, напоминают маленькие крепости.
Язык далдов очень близок к монгольскому, но имеет некоторые характерные особенности и допускает примесь китайских и тангутских слов.
В религиозном отношении рассматриваемая народность не представляет чего-либо цельного: среди донгэр-ва есть буддисты, есть магометане и даже шаманисты. Наружность этого племени довольно благообразна, приятна и напоминает тип наших южан. Опрятные одежды далдов отличаются щеголеватостью и оригинальностью покроя и весь их внешний облик весьма симпатичен; на мое ласковое приветствие – «дэму!» или «здравствуй!» – они всегда отвечали с улыбкой и изысканной учтивостью.
Чем далее вверх по течению реки, тем беднее водою становилась капризная Синин-хэ; но, обмелев, она не утратила мощной силы своего течения и по-прежнему быстро катила прозрачные воды, образуя в наиболее узких частях долины круговороты и быстрины, создававшие необыкновенный шум. Местами река подмывала берег, а местами увлекала за собою верхний слой земли с дерном, а иногда и с хлебом. Туземцы усердно боролись с подобными разрушениями – чинили дорогу, размытые части берега засыпали камнями и старались извлечь из илистой грязи забитые водою колосья.
Дорога спорилась, незаметным образом одни за другими мелькали пашни, селения; развлечений для глаза и для ума было достаточно. Не доезжая десяти верст до Донгэра, нам повстречался симпатичный купец-андижанец, лихо кативший в Синин верхом на откормленном белом коне. Этот молодой человек изысканно вежливо поздоровался со мною и доложил о благополучном прибытии в Донгэр главного каравана. А вот, наконец, живописное местечко в узком ущелье Синин-хэ, памятное мне еще со времени тибетского путешествия. Через свирепо клокочущую и пенистую речку перекинут высокий легкий мост, а за ним, на противоположном берегу приветливо залегает превосходный березовый лес, ниспадая по крутым склонам холмов.
Говоря вообще о растительности долины Синин-хэ, приходится отметить ее бедность разнообразием и количеством родов и видов. На протяжении расстояния от Синина до Донгэра экспедиция собрала и отметила всего около пятидесяти форм растительности, а именно: облепиха (Hippophаe rhamnoides), Myricaria germanica, Crataegus, Salix, Berberis, смородина (Ribes aciculare), Rhododendron, полынь (Artemisia Potanini [Artemisia sp.]), репейник (Agrimonia pilosa var. glandulosa [A. pilosa Ldb.]), кровохлебка (Sanguisorba officinalis), гречиха (Polygonum bistorta), крестовник (Senecio erucifolius), зверобой (Dracocephalum Ruyschianum [змееголовник]), люцерна (Medicago ruthenica), подмаренник (Galium verum var. trachyca. rpum [G. verum L.]), шандра (Marrubium indsum), горечавка (Gentiana barbata), сверция (Swertia ehinensis), орляк (Pteridium aquilinum), качим (Gypsophila acutifolia var. Potanini), василистник (Thalictrum petaloideum), Delphinium grandiflorum var. tanguticus), Anisodus tanguticus, Lancea tibetica, Spiranthes australis, Herminium monorchis, Bupleurum multinerve, Lespedeza trichocarpa, Triticum cornutum, Panicum miliaceum, Setaria italica, фиалка (Viola bulbosa), Anaphalis, Phlotnis, Scirpus, Malva, Adenophora, Myosotis, Potentilla, Ajuga, земляника Fragaria, Nernophila, Sorbaria и пион (Paeonia).
Что же касается до насекомых, тесно связанных своим распространением с характером растительного покрова (рассматриваемой долины), то нам удалось собрать на всем протяжении вдоль Синин-хэ и ее самого верхнего течения – Донгэр-хэ, помимо жесткокрылых, порядочное количество представителей полужесткокрылых[209] и только одну, правда очень интересную новую форму из отряда перепончатокрылых – шмеля (Hymenoptera, Bombidae) Bombus lepidus, sp. n.
С юга все чаще и чаще сбегают звонкие ручьи, а в северном направлении горы постепенно вырастают.
Наконец показались и башни Донгэра.
Между тем, недавно поднявшийся западный ветер усилился, надвинулись густые облака, и дождь, сначала слегка накрапывавший, превратился в настоящий ливень, сопровождавший нас до самого бивака экспедиции. Пришлось тотчас забраться в палатку и окопать свое убежище глубокой канавой, чтобы избегнуть наводнения.
Встреча с главным караваном была самая радостная, все обстояло благополучно, верблюды отлично справились с трудной скользкой дорогой и в целости доставили ценный багаж, сделав все расстояние от Синина в три дневных перехода.

Городок Донгэр стоит на левом берегу той же бинин-хэ, которая выше описываемого города уже называется его именем – Донгэр-хэ; долина реки достигает около версты ширины; сам город обступают мягкие по очертаниям высоты, сложенные из красных песчаников, напластованных горизонтально и покрытых лёссом.
В конце лета пышная горная зелень и зреющие хлеба составляют приятную картину, сглаживая впечатления грязи, пыли и суеты китайского базара. По словам местных обитателей, крепость Донгэр основана около двухсот пятидесяти лет тому назад при династии Цин[210]. В более отдаленные времена крепость и местное управление сосредоточивались в местечке Чжэн-хайбу, и только китайский император Шунь-чжи перенес ее на двадцать верст западнее, в нынешний Донгэр, где назначил первым управителем одного из своих сыновей.
В настоящее время Донгэр имеет большое торговое значение; через него проходит дорога из Ганьсу в южный Тибет, по которой следуют купеческие караваны и направляются богомольцы в Лхасу. На единственной торговой улице города можно встретить представителей разных национальностей, собирающихся здесь для товарообмена: окрестные номады – тангуты, монголы, тибетцы (есть даже купцы из Лхасы), далды предлагают разное сырье – шерсть, кожи, масло, соль, а также и порох – в обмен на чай, металлические изделия, ткань, юфть и предметы роскоши, преимущественно в виде атрибутов женского туалета. Среди пестрых одежд смешанной толпы чаще других мелькают оригинальные костюмы кукунорских тангутов и тангуток; последние заставляют обратить на себя внимание необыкновенным спинным украшением в виде двойных и даже тройных лент, богато убранных монетами, раковинами, серебряными гау, бирюзой, кораллами и проч.
Мои спутники всегда с одинаковым восхищением наблюдали тангутских всадников, зачастую мчавшихся по улицам в карьер в полном вооружении. Гордые, надменные степняки ничего и никого не боятся, наоборот, скорее вселяют страх и приниженность в местных китайцев. Среди празднично настроенного люда нередко приходилось также видеть угрюмых колодников, закованных в тяжелые железные кандалы; насколько я заметил, они милостыни не просили, но существовали исключительно на добровольные пожертвования. Сознавая всю вину, преступники-буддисты обычно безропотно несут возмездие за содеянное, а некоторые грешники, считая себя большими виновниками перед людьми, не снимают вериг даже после отбытия срока наказания, говоря, что они еще мало пострадали.
Встречая со стороны начальника города Донгэра, официально извещенного о приходе экспедиции, самое любезное гостеприимство, мы чувствовали себя прекрасно и все свое время проводили в наблюдениях за своеобразной жизнью торгового центра и сборах этнографического материала; а один день мы целиком посвятили опытам с нашей складной брезентной лодкой; спущенное на реку экспедиционное суденышко, сослужившее впоследствии огромную службу на озере Куку-нор, сначала дало маленькую течь, но затем, по выражению моего ветерана, фельдфебеля Иванова, довольно быстро «забухло», и мы отлично сплавали вниз по Донгэр-хэ.
Узнав, что русские интересуются бурханами, гау, а равно и предметами местного производства, торговцы вскоре заполнили наш лагерь и устроили у нас целый базар. Этнографические коллекции пополнились многими ценными приобретениями как в области буддийского культа, так и в области обихода по отношению принадлежностей одежд и украшений кукунорских тунгутов.
Приближалось время выступления экспедиции из Донгэра; погода не баловала нас, и день за днем шли дожди[211]. Река Донгэр-хэ местами вышла из берегов и грозила экспедиционному лагерю форменным наводнением. Не обошлось, конечно, без человеческих жертв. Однажды темным ненастным вечером со стороны Донгэр-хэ послышались отдаленные крики. За шумом волн мы не могли разобрать, в чем дело; лишь на следующее утро выяснилось, что трое китайцев – возчиков леса, погибли в бурной реке, стремясь вытащить на берег уносимые течением бревна.
Чувствительные к сырости, наши «корабли пустыни» начали болеть: у них распухли ноги; было над чем призадуматься, чтобы иметь серьезное опасение за успех дальнейшего следования. Принимая во внимание такое печальное состояние наших испытанных караванных животных, я решил пересортировать багаж экспедиции и все тяжелое имущество, все то, без чего можно обойтись, оставить в Донгэре. Таким образом, сдав в надежные руки часть транспорта – коллекции, экспедиция получила возможность более быстрого и легкого передвижения. Выбирая редкие проблески хорошего состояния атмосферы, мы все же сравнительно скоро справились с задачей переснаряжения и одиннадцатого августа сдали начальнику Донгэра под ответственную расписку восемь тяжелых вьюков из каравана экспедиции.
Перед выступлением в путь к нам присоединились командированные предупредительным цин-цаем четыре вооруженных кавалериста и переводчик тангутского языка. Все эти люди оказались впоследствии весьма полезными при сношениях с туземцами, относившимися к нам с уважением, благодаря заботам того же сининского сановника. Беспокоясь за нашу участь, цин-цай разослал тангутам особую бумагу, которой разъяснял им важность моей персоны и значение задачи, которой я призван служить. Кроме того, совершая обычную ежегодную поездку на Куку-нор с целью принесения моления богам, поддерживающим обилие вод, сининский амбань лично беседовал с тангутскими начальниками, внушая им доброе отношение к русским исследователям.
Из Донгэра на альпийское озеро Куку-нор ведут две дороги[212]: южная, через перевал Шара-хотул, и северная – мимо Дацан-сумэ; первой обычно пользуются все те, кто направляется на южный берег, второй – все те, кто намерен следовать северным путем. Мы избрали южный путь, которым, между прочим, пользуется при своих ежегодных деловых поездках высшая сининская администрация.
Вплоть до самой границы оазиса вследствие невылазной грязи наш караван подвигался лишь с трудом; но чем больше мы поднимались по ущелью Донгэр-хэ, тем песчано-каменистая поверхность становилась суше. Горная речка несла кристаллически прозрачную воду, гремя и рассыпаясь пенистыми брызгами по каменным перекатам. В наиболее широких местах долина ютила сплошные хлебные поля с налитыми, кое-где прилегшими от тяжести и дождя колосьями пшеницы. Сбор урожая был в полном ходу.
Извиваясь причудливой узкой змеей, дорога часто перебегала с одного берега на другой, теряясь временно на дне реки. Переправы, за исключением ближайшей к городу, где устроен мост, производились в брод, что при среднем уровне воды не представляло никаких затруднений. Зато нам приходилось испытывать большие неудобства при неожиданных встречах в самых узких крутобоких частях ущелья с тангутскими караванами. Вооруженные с ног до головы тангуты везли соль и сырье из долины Дабасун-гоби; они следовали партиями обычно в количестве пять – семь человек-всадников, в сопровождении пятидесяти – семидесяти вьючных животных – сытых, хороших яков или хайныков[213]. Туземцы, конечно, отлично знакомы с преимуществом того и другого животного, а потому всегда составляют смешанные караваны.
Чтобы избежать катастрофы при подобных встречах, приходилось, сообразуясь с извилинами и расширениями дороги, задерживать тангутов в известных местах, а иногда даже оттеснять их на косогор до прихода экспедиционного каравана.
На второй день после выхода из Донгэра мы покинули последние следы культуры и из страны земледельческой заглянули в царство кочевников.
Перед нами вздымались горы – последняя преграда, скрывавшая от путешественников прелестный, давножданный Куку-нор.
В горах дышалось легко; чистый прозрачный воздух открывал бесконечный горизонт, небо казалось глубже и ярче. Простор, тишина и безлюдье сразу перерождали мысль, давая ей больший размах и большую глубину, доступную человеку только в светлые минуты общения с чистой природой. А кругом все кипело радостной жизнью: по низинам развертывались ковры золотистых цветов, над ними порхали бабочки или с жужжанием проносились шмели и мухи; на лугах появилось много пищух и сурков, или тарабаганов. Из пернатого мира были отмечены друзья маленьких грызунов – земляные вьюрки (Pyrgilauda et Onychospiza) и жестокие враги их – сарычи, соколы (Gennaia milvipes milvipes [Falco cherrug milvipes]) и черные вороны (Corvns corax); в лучшую погоду дня звенела приятная песнь соловья-красношейки (Calliope tschebajewi [Calliope pectoralis Tschebajewi]); вдоль быстрых речек по камням изредка мелькал красивый силуэт Chimarrhornis leucocephala; из других птичек мы наблюдали лишь белую плиску (Motacilla alba baicalensis) и розовую щеврицу (Anthus rosaceus [Anthus roseatus]).
Экскурсируя в альпийской зоне выше 11000 футов [более 3350 м] над морем, мы видели антилоп-ада (Procapra picticauda), а моему младшему сотруднику Четыркину удалось поймать сачком для бабочек интересного грызуна Eozapus setchuanus[214], державшегося у мелких разрозненных скал, выступавших из луговой растительности.
Теперь с большей высоты отчетливо, контрастно вырисовывались северные и южные цепи гор. Взор невольно сосредоточивался на последних, за которыми предстояло сосредоточить дальнейшую деятельность экспедиции.
Ясные тихие дни сменялись не менее прекрасными ночами. Сумерки в горах наступали быстро; еще быстрее спускалась на землю ночь.
Обласканный девственной природой, поздней ночью удаляешься спать, спеша забыться до утра, чтобы запастись силами и энергией для следующего перехода. Чуткое ухо в полусне улавливает голос дежурного, с зарею поднимающего лагерь. На минуту приоткрываешь глаза и, взглянув на яркую утреннюю планету Венеру, тихо смотрящую сквозь натянутое полотно палатки, получаешь представление о времени. Скоро и нам надо вставать!
Четырнадцатого августа с соседней перевалу Шара-хотул вершины наконец открылась мягкая голубая водная гладь красавца Куку-нора, сливавшаяся на далеком западе с такими же ясными, чистыми небесами. На юго-западе, окаймляя озерный бассейн, теснились плоские горы, среди которых выделялась каменистая гряда с доминирующей вершиной Сэр-чим, посеребренной недавно выпавшим снегом. Выступая из-за луговых холмов все в том же полуденном направлении, гордо высился резкий в своих очертаниях Южно-Куку-норский хребет, отливавший матовой белизной массивного снегового покрова. В дивно прозрачном воздухе стояла торжественная тишина, солнце пригревало ощутимо, по ярко-синему фону неба там и сям носились царственные пернатые: гималайский гриф, гриф-монах и бородатый ягнятник; последний нередко пролетал вблизи нас и давал возможность любоваться на свой плавный полет, величину и общую картину природы, которую он оживлял собою, без взмаха крыльев скользя по воздуху вдоль гор.
Перевал Шара-хотул лежит на высоте 11600 футов [3540 м] над уровнем моря; к северу от него вздымается высокая с осыпями вершина, именуемая тангутами Намаргэ, а на юге часть горизонта заслоняется горою Соргэ. Невдалеке на господствующем увале сложено молитвенное обо, где в виду голубых вод Куку-нора в прежнее время тангуты собирались для совершения богослужений. Сейчас молитвы богу – покровителю Куку-нора возносятся в новом, недавно построенном китайском храме, расположенном рядом с развалинами старинной цитадели. Во время движения нашего каравана через перевал мы заметили большой туземный транспорт с продовольствием и домашней утварью, направлявшийся к вышеуказанной молельне. Из расспросов выяснилось, что туземцы готовились к приезду сининских властей, ежегодно паломничающих к священному озеру во главе со своим бань-ши-да-ченом – цин-цаем.
Чем ближе экспедиция подходила к Куку-нору, тем чаще и чаще попадались навстречу тангутские караваны, нагруженные солью; кавалькады туземцев под предводительством хошунных начальников также спешили на восток – встречать высоких гостей. Среди других важных тангутов выделялся своей гордой осанкой и красивой представительной наружностью некто Чамру – начальник аймака Чамру, кочующего по юго-восточному побережью альпийского бассейна и прилегающим горам. Узнав от переводчика о следовании русской экспедиции, Чамру подъехал ко мне с приветствием и заявил, что о нашем прибытии уже получена бумага, а потому нам будет оказано всякое содействие, почет и уважение.
По берегам многочисленных ручьев и речек, бежавших от южных гор к Куку-нору, теснились стойбища кочевников; при дороге мы часто видели яков, разрывавших своими мощными рогами мягкие земляные обрывы; поодаль паслись большие стада баранов.
За системой речки Ара-гол экспедиция вскоре вышла за пределы излюбленных туземцами кормных пастбищ и вновь свободно вздохнула навстречу голубому простору озера. Первая стоянка на юго-восточном берегу Куку-нора, в урочище Цунгу-цзэра оставила неизгладимое по своей прелести впечатление. Здесь мы впервые подошли к самой воде темно-голубого необъятного «моря», как мы называли грозное бурливое озеро; здесь познали очарование его утренних и вечерних тонов и красок и здесь научились понимать то ласковый, то злобный говор волн.

Глава тринадцатая. Озеро Куку-нор
Название озера и легенды о его происхождении. – Первое впечатление Н. М. Пржевальского при виде Куку-нора. – Общая характеристика озера. – Растительность его берегов. – Обилие рыбы. – Птицы и млекопитающие. – Куку-норские тангуты. – Путь экспедиции вдоль юго-восточного берега. – Предводитель аймака Чамру. – Урочище Урто; пробное плавание по Куку-нору. – Приезд геолога экспедиции. – Чернов и Четыркин совершают плавание на Куйсу. – Ночное знакомство с островом.
Прошло более тридцати пяти лет с тех пор, как Н. М. Пржевальский впервые увидел Куку-нор и сказал: «Мечта моей жизни исполнилась! Заветная цель экспедиции была достигнута! То, о чем недавно еще только мечталось, теперь превратилось уже в осуществленный факт! Правда, такой успех был куплен ценою многих тяжких испытаний, но теперь все пережитые невзгоды были забыты, и в полном восторге стояли мы с товарищем на берегу великого озера, любуясь на его чудные темно-голубые волны»[215].
Куку-нор, или «Голубое озеро», как говорят монголы, известно у тангутов под именем Мцо-гумбум, а у китайцев – Цин-хай, или «Синее море», почитается у буддистов священным и издавна привлекало к себе внимание номадов, сложивших о нем немало разнородных сказаний. Одно из таких сказаний в описании своего путешествия приводит Н. М. Пржевальский; теперь, прибыв на Куку-нор, нам удалось услышать следующее: «Много, много лет тому назад, когда в долине Куку-нора жили одни лишь монголы, на месте нынешнего озера было два небольших пруда. Прибрежные жители очень небрежно относились к чистоте воды этих прудов и постоянно грязнили ее. Дело дошло до того, что однажды некая женщина сходила за «легкой нуждой» прямо в воду (пруда). Тут же хэй-чи-лун – водяной дракон – не вытерпел: он вылез из своего подземелья и грозно поднялся над водой, которая хлынула из образовавшегося отверстия и затопила окрестные берега на сотни верст кругом.
Испуганные жители вместе с соседями-китайцами начали молить бога – покровителя плотников – Лу-бан-е, чтобы он защитил их. Лу-бан-е ответил, что прежде чем вступить в бой с водяным драконом, он должен попробовать свои силы, а для этого он обратился к трем корзинам, наполненным землею, и повелел им вырасти. И вот случилось небывалое чудо: земля мгновенно выросла выше уровня воды. Убедившись в своей мощи, Лу-бан-е повелительным голосом крикнул хэй-чи-луну, приказывая ему вернуться в свое подземелье. Дракон исчез, а Лу-бан-е перенес гору в озеро и заткнул ею отверстие, через которое вышел его разгневанный противник. С тех пор на месте маленьких прудов мы видим безбрежное, вечно бушующее озеро, а посередине его остров».
Красивое альпийское озеро Куку-нор покоит свои воды в обширной степной котловине, окаймленной с севера и юга горными цепями, несущими дикий величавый характер, с двух же прочих сторон его замыкают горы или отроги второстепенного порядка. Тем не менее озеро лежит на высоте трех верст над уровнем океана и представляет большой – до трехсот пятидесяти верст в окружности, довольно глубокий резервуар соленой влаги[216]. Берега его по большей части низкие, песчано-галечные, изредка перерезаны мысами или обрывами, хорошо сохранившими прежний, более высокий уровень озера. Остров Куйсу условно делит Куку-нор на две части: северную и южную, наиболее обследованную, а его меридиан – на западную и восточную.
В южной части бассейна дно озера песчаное, в середине переходящее в илистое, пологое, постепенно понижается к центру, образуя котловину с углубленным желобом, проходящим у южного подножья Куйсу, от которого дно озера падает гораздо круче, нежели от полуденного берега озера. Западная, более широкая половина озера, по мнению Н. М. Пржевальского, в то же время и наиболее глубокая, тогда как восточная – гораздо мельче; вблизи восточного берега, изобилующего сыпучим песком, возвышаются три песчаных острова; кроме того, в этом же районе лежит небольшое озерко Хара-нор, некогда составлявшее с Куку-нором одно целое и отделенное от него лишь песчаной грядой. Эти обстоятельства дают повод предполагать, что господствующий западный ветер, принося с собою пыль и песок, способствует обмелению озера. Процесс обмеления тесно связан с постепенным уменьшением бассейна в размерах и выражается с достаточною ясностью при исследовании береговой озерной полосы и островов, которых на Куку-норе всего пять[217].

«Современное усыхание озера, – говорит В. А. Обручев[218], – доказывается существованием нижней террасы, не покрытой лёссом, и образованием кос и озерков, вытянутых вдоль береговой линии». Острова больше и больше выступают из воды, как увеличиваются или разрастаются прибрежные кочковатые болота.
Причины такого обмеления альпийского озера заключаются в постоянном или почти постоянном засыпании песком и пылью и в малом количестве приточной воды, как справедливо заметил Н. М. Пржевальский[219], «не возмещающей вполне убыль, производимую летним испарением на обширной площади всего бассейна». Замкнутый водоем принимает в себя около семидесяти[220] данников, но из них только два – Бухайн-гол на западе и Харгэн-гол, или Балема на севере – можно считать значительными, остальные часто пересыхают и несут воды лишь в период дождей[221].
Северо-Куку-норский хребет, или Ама-сургу расположен на значительном расстоянии от берега и дает место широкой степной равнине; с юга близко подходит Южно-Куку-норский хребет, оставляя лишь узкую покатую луговую полосу, среди которой, при устье речки Ара-гол, залегают три пресных озерка.
Солончаковая почва кукунорских степей в связи с сухостью атмосферы и упорными западными бурями[222] мало способствует развитию лесной и кустарниковой растительности.
Только по Бухайн-голу встречаются поросли балга-мото (Myricaria), да в песках восточного побережья можно видеть ель (Abies Schrenkiana) и тополь (Populus Przewalskii); в болотистых местах преобладает осока обыкновенная (Carex) и тибетская (Kobresia thibetica), кроме того, лютик (Ranunculus), подорожник (Plantago); красиво пестрят на изумрудной зелени: розовый первоцвет (Primula sibirica), белый касатик (Iris ensata), малиновый Orchis salina, белый и желтый мытники (Pedicularis cheilantifolia. P. chinensis); на более же топких местах, по озерам, растут: водяная сосенка (Hippuris vulgaris), водяной лютик (Ranunculus aquaticus) и пузырчатка (Utricularia vulgaris); а во влажных впадинах – известная по всей тангутской и отчасти тибетской стране джума, или гусиная лапка (Potentilla anserina), корни которой, как известно, служат лакомым блюдом номадов. На самом озере, по дну его, нет почти никакой зелени, кроме водоросли – Conferva. Все остальное пространство привольной равнины покрыто степной травою; здесь, в зависимости от почвы, то лёссовой, глинистой, то песчаной, пышно произрастают дэрэсун (Lasiagrostis splendens), ковыль (Stipa orientalis), лук (Allium), мышьяк (Thermopsis lanceolata) и пр. На старых стойбищных местах прекрасно привились лебеда (Ghenopodium botrys) и шампиньоны, составлявшие наше постоянное лакомство.
Прозрачные чистые воды Куку-нора, совершенно непригодные для питья вследствие присутствия в них минеральных солей, ютят в своих недрах большое количество рыбы, принадлежащей, однако, только к одному роду – Schizopygopsis, подразделяющемуся на три вида: Schizopygopsis przewalskii, Seh. leptocephalus, Seh. gracilis.
В свободные часы члены экспедиции с увлечением занимались рыбной ловлей, добывая иногда небольшим неводом при устьях речек сразу до ста пятидесяти экземпляров весом в три – пять фунтов [1,2–2 кг] каждый.
Такое обилие рыбы привлекает к озеру орланов (Haliaetus albicilla, Н. leueoryphus), чаек (Larus ichthyaetus) и бакланов (Phalacrocorax carbo). Орланы обыкновенно подолгу просиживают по обрывам берегов в наблюдательных позах. Заметив добычу, старый долгохвост, которых особенно много по Куку-нору, тотчас бросается и схватывает ее, издавая своеобразный клекот, призывающий молодых на пир. Слетевшись вместе, пернатая семья с удивительной быстротой съедает любую рыбу. Чайки так же, как и крачки мартышки (Sterna hirundo), никогда не упускают случая во время ссоры орланов[223]стянуть что-нибудь с их вкусного стола.
По берегам Куку-нора в птичьем мире наблюдалось вообще большое оживление; по долине часто проносились орлы (Aquila clanga), сарычи (Archibuteo aquilinus [Buteo hemilasius]), сокола (Gennaia milvipes [Falco cherrug milvipes]), Tinnunculus tinnunculus [Cerchneis tinnunculus], коршуны и черные вороны. Высоко в синем небе кружились царственные грифы. Над водою вдоль берега часто сновали серые, или индийские гуси (Anser anser, Eulabeia indica), утки разных видов, турпаны (Casarca casarca [Casarca ferruginea]), пеганки (Tadorna tadorna) и крохали. По прибрежным равнинам держались рогатые и полевые жаворонки (Otocorys elwesi elwesi [Eremophila alpestris elwesi], Alauda arvensis arvensis [Alauda arvensis], Calandrella braehydaetyla dukhunensis), земляные вьюрки (Onychospiza taczanowskii, Pyrgilauda ruficollis, P. branfordi, P. clavidiana); по дэрэсуну можно изредка вспугнуть Pterocorus mongolica, а по влажным кочкам – большого тибетского жаворонка (Melanocoryphoides maxima [Melanocorypha maxima]), ютящегося здесь парами или даже целыми компаниями.
Кое-где, в большем или меньшем отдалении от берегов озера, можно встретить черношейного журавля (Grus nigricollis) и больдуруков (Syrrhaptes paradoxus, S. thibetanus), выдающих себя своими оригинальными голосами. Около нашего бивака доверчиво пробегали соечки (Pseudopodoces humilis), а к ближайшему ручью, помимо мелких куличков, прилетали варакушки, соловьи-красношейки, плиски и немногие другие.
Привольные кукунорские степи имеют довольно многочисленное дикое население; здесь водятся волки, лисицы, корсаки (Canis eckloni [Vulpes eckloni, возможно подвид V. corsac eckloni]), хорьки и рыжие Mustella, охотно уничтожающие во множестве водящихся на Куку-норе пищух (Lagomys melanostomus [Ochotona tibetica]). Местами берега озера и прилежащие к ним поляны сплошь изрыты норами тарабаганов (Arctomys robustus [Martoma himalayana robusta]), а из наименее крупных грызунов встречаются зайцы (Lepus oiostolus [вряд ли определение верно, этот вид встречается в Непале и Сиккиме]). По болотам и старым стойбищам бродят кабаны, приходящие сюда с юга. Но самыми симпатичными обитателями приозерных равнин все-таки остаются антилопы – Gazella przewalskii, пасущиеся на просторе большими стадами – от двухсот до трехсот и более особей, и антилопы ада (Gazella picticauda), кочующие преимущественно по окрестным холмам. За антилопами Пржевальского мы охотились неоднократно, к сожалению, безуспешно. Эти животные слишком напуганы местными охотниками, а потому держатся чрезвычайно строго. Кроме антилоп, на кукунорских равнинах периодически появляются табуны хуланов (Asinus kiang) [Equus hemionus].
Сбор насекомых на Куку-норе был сравнительно беден. На богатых лугах юго-восточного прибрежья озера найдены шмели (Bombus waltoni, var. kozloviellus nov., В. difficillimus, sp. n.), а из клопов – Stenocephala sp., Alydus calcaratus, и только.
Представляя значительные удобства для диких животных и птиц, степи Куку-нора являют собою немало привлекательного и для человека. Нетребовательный номад ценит в описываемых степях главным образом прекрасные пастбища, высокое положение их над морем, обусловливающее отсутствие летних жаров и докучливых насекомых, и, наконец, здешнюю бесснежную зиму. Таким образом, приветливый Куку-нор издавна служит предметом раздора кочевников – монголов с севера и тангутов с юга. Слабые духом монголы должны были уступить энергичным тангутам – и уступили.
Тангуты, вообще говоря, – весьма воинственное племя, склонное к грабежам, насилиям и разбоям. Китайцы смотрят на гордых тибетцев свысока и недружелюбно.
Однако за последние годы китайцы и тангуты стали гораздо терпимее относиться друг к другу. Живя по соседству, китайцы понемногу научились тангутскому языку и некоторым обычаям: теперь уже нередки случаи брачных союзов между молодежью обеих народностей, но на такие браки сами китайцы смотрят неодобрительно, говоря, что подобный союз не может дать честной хозяйственной семьи. Нельзя не признать, что обыкновенно так и бывает: от отца-китайца и матери-тангутки ребенок преимущественно наследует воровские и разбойничьи наклонности последней и почти совсем не способен к спокойной трудолюбивой жизни.
Говоря вообще, девочки-тангутки воспитываются очень свободно и рано начинают жить своей личной жизнью. В одиннадцать-двенадцать лет дочери еще не принимают участия в заботах матери по хозяйству; они встают довольно поздно, садятся за готовый уже чай и потом уходят на целый день в степь пасти баранов. Там они вполне предоставлены самим себе и вместе с другими детьми могут вдоволь резвиться и проводить время самым беззаботным образом. В четырнадцать-пятнадцать лет девочки становятся уже настоящими помощницами матери, на обязанности которой лежит вся домашняя работа, за исключением шитья, которым занимаются мужчины; женщины встают на рассвете, разводят огонь, на огне разогревают масло, которым вытирают себе лицо и руки, так как мыться дочиста водою считается зазорным, и женщину, позволившую такую роскошь, осмеивают, говоря, что она своим белым лицом приманивает мужчин. Затем девушка – си-ма – заваривает чай, доит коров и наконец отправляется со стадом в поле, где обычно и происходят все несложные романы этих детей природы.
Первый период любви происходит, конечно, в тайне, незаметно для всего аймака.
Молодой парень – си-ли, если он хороший стрелок, лихой наездник, энергичный умелый оратор и, наконец, ловкий вор-грабитель, но при этом даже очень бедный человек, имеет все шансы на то, чтобы понравиться любой тангутке. Знакомство начинается с того, что юноша, подойдя к приглянувшейся ему девушке, бросает в нее как бы невзначай бараньим аргалом[224] – ры-мо. Если девушка не отвечает взаимной симпатией, она делает вид, что не замечает ничего происшедшего; если же, наоборот, она хочет поощрить заигрывание, она поднимает аргал и в свою очередь бросает им в парня. Этот знак благосклонного внимания восторженно принимается молодым тангутом, который тотчас подбегает к своей возлюбленной и целует ее.
Первым подарком со стороны жениха является кольцо, а со стороны невесты – вышитый шелком кисет для табака.
Через несколько дней после первой встречи о новом знакомстве узнают родители молодых людей, и тогда начинается сватовство.
Отец жениха – су-ма-му-ха – с согласия последнего посылает в дом невесты – на-ма-су-ма – двух стариков, на обязанности которых лежит подготовить почву для свадьбы и узнать размер выкупа за невесту. Иногда посланные возвращаются назад ни с чем, и тогда их командируют все с той же целью по два и по три раза.
Прием сватов обставлен довольно торжественно: в назначенное время родственники невесты выходят встречать желанных гостей и, пригласив их в палатку, просят садиться на самое почетное место – справа от очага. Остальные приглашенные распределяются по обычаю – женщины налево, мужчины направо. Гостям предлагается угощение, состоящее из целого бараньего задка[225]. Вынув собственные ножи, носимые всегда при себе, все без дальнейших церемоний приступают к трапезе, и тут же за обедом решается вопрос о выкупе, или калыме.
После отъезда сватов невеста, которая на время торжества удалялась из дому, возвращается к себе и с помощью своих родителей мастерит себе особую высокую лисью шапку, с верхом, украшенным шелковыми кистями.
Теперь она уже официально считается помолвленной и, надев свой головной убор, едет со своими подругами прощаться с родными и друзьями. Эти визиты продолжаются три дня, в течение которых в доме жениха и невесты ламы почти непрерывно читают молитвы.
В условленный день отец, мать жениха и несколько соседей приезжают за невестой, которую в свою очередь идут провожать свахи и подружки.
В палатке жениха девушку ждет угощение, после которого сваха начинает заплетать ей косы, незаметно вплетая в волосы, кроме девичьих маленьких белых раковинок, еще четыре женских больших раковины. После этого обряда, на котором присутствуют только подружки невесты, девушки разъезжаются по домам, а всем прочим гостям, приехавшим с подарками поздравлять молодых, предлагается обед, где главную роль, как всегда, играет мясо барана, его лучшая задняя часть. Один из почетных гостей обходит всех присутствующих с угощением и дает каждому по бутылке – фляжке особого напитка асан-шины[226], который все тотчас принимаются уничтожать, прикладывая горлышко прямо ко рту.
После обеда гости обеих сторон садятся на коней и устраивают примерные скачки, хвастаясь резвостью своих степных бегунов.
Так незаметно проходит день и наступает вечер; прибывшие издалека гости остаются ночевать у жениха, а близкие соседи уходят к себе. Молодая ложится спать в общей палатке вблизи входа, а жених ночует на открытом воздухе и стережет лошадей.
Глубокой ночью, когда все в окрестности затихнет, жених осторожно подкрадывается к заветной палатке и, постучав несколько раз, приподымает полог; невеста, ждавшая условного знака, ползком, не вставая, пробирается среди спящих и выходит на двор. На рассвете молодые расходятся и девушка так же незаметно возвращается в палатку. Утром жених и невеста идут в кумирню и, взявшись за руки, становятся на колени перед ламой, который благословляет их священной книгой и, сказав несколько напутственных слов, отпускает мужа и жену с миром.
Во время беременности к молодой женщине все относятся очень внимательно. Старший в семье, авторитет которого она признает, не позволяет ей ездить верхом, а за несколько недель до рождения ребенка предостерегает ее от всякой опасности и, между прочим, просит не подходить близко к озеру или реке. По тангутским приметам от воды может легко приключиться какое-нибудь несчастье: женщина может увидеть в глубине воды что-либо страшное, а испуг в такое время влечет за собою болезнь.
Во время родов всегда присутствует старуха-повитуха – галму, а если роды очень тяжелы, то приглашается еще лама, который, глядя на воду, творит приличествующие в данном случае молитвы и обмывает больной ладони рук и ноги. Галму принимает новорожденного в свои руки, обмывает его теплой водой и в зимнее время завертывают в овчину. Если у матери нет молока, младенца – ся-ги – вскармливают на кислом коровьем молоке; вечером ребенка заворачивают в овчину и подкладывают под ножки маленький кожаный чехол с пеплом, куда он и отправляет свои нужды.
На пятый, пятнадцатый, а иногда и двадцатый день новорожденному дают имя. При этом старые почетные родственники со стороны отца или матери дают ему одно имя, присутствующий здесь лама дает другое, и наконец третье имя дается малютке отцом и матерью. Знакомые и соседи приходят поздравлять счастливую семью и приносят различные подарки: кто баранье мясо, кто кусок материи, так как с пустыми руками приходить не полагается.
Если родился мальчик, то его уже на пятом или шестом году учат верховой езде и посылают в степь пасти скот. В четырнадцать-пятнадцать лет отец дарит сыну шашку – шанлон, пику – нын-дун и ружье – бу.
Как у бедных, так и у богатых тангутов часто случается, что ребенок рождается до свадьбы; тогда родители молодой берут младенца к себе, нисколько не гнушаются им, а наоборот, с радостью оповещают о таком событии весь аймак, говоря: «Мы разбогатели – ву-цу-рэ, бог дал нам внука – нор-дю-ша-чи или внучку». Если девушка впоследствии выходит замуж за отца ребенка, то она, естественно, берет малютку к себе, если же она сходится с кем-нибудь другим, дедушка с бабушкой не расстаются с внуком, а воспитывают его, как свое дитя.
Куку-норские тангуты не очень долговечны – редкий из них доживает до семидесяти пяти – восьмидесяти лет. Предчувствуя скорую кончину, ши-сун – старый глава дома – заблаговременно приступает к дележу своего имущества между оставшимися детьми, причем наделяет всех поровну. Затем он выбирает из стада самого хорошего, любимого быка и завещает, чтобы именно это животное несло его прах после смерти.
Тангуты связывают труп покойника ремнями: продевают один из ремней под шею, а другой под колени и притягивают ноги к голове, сгибая их насколько возможно; вслед за этим близкие оповещают соседей о случившемся, и вот к праху усопшего сбегается почти весь аймак. Каждый тангут несет в руках небольшой кусок белой ткани – цан-да-га, которую он бережно кладет на труп. Мертвое тело понемногу совершенно утопает в белых покровах, и тогда родные ликуют, потому что подобное явление считается хорошим предзнаменованием. По окончании своеобразного обряда тангуты продевают сквозь ремни покойника палку и выносят его на двор, где труп завьючивается на быка и везется в горы на съедение хищным птицам.
При всей этой церемонии неизменно присутствуют ламы, которые, помолясь и справившись по книгам, указывают, в какой день и в каком месте следует бросить покойника; сами же священнослужители не провожают его к месту последнего упокоения, а получив известную мзду – смотря по достатку семьи умершего: одного или несколько баранов – удаляются восвояси.
После похорон устраиваются поминки – чу-дой-гок, которые повторяются ежегодно в течение первых двух-трех лет в день смерти покойного.
После некоторого отступления, вернемся к прерванному рассказу о самом путешествии.
В течение двух-трех дней экспедиция следовала вдоль берегов Куку-нора, наслаждаясь красотою этого озера, пятнадцатого августа был, помнится, один из немногих очаровательных вечеров. Солнце, совершив свой дневной путь, склонилось к горизонту, отдавая одну часть лучей горам, другую же разливая по видимому нам небосклону, картинно отражавшемуся в зеркальном лоне вод. Прозрачные тонко-перистые облачка, словно золотистые кружева, тихо и стройно неслись к югу. Там, в горах, стояла полная тишина, успокоившая и Куку-нор: он уже больше не бушевал, не стучал грозно о берег, а лишь только тихо шептался с ним. Грандиозный масштаб озера, его убегающая за горизонт поверхность, окраска и соленость воды, глубина, высокие волны и по временам могучий прибой скорее дают понятие о море, нежели об озере.
Купанье в Куку-норе превосходное: мы купались ежедневно по нескольку раз; температура обычно держалась +15… +16°С. Легкость держаться на воде давала возможность отдаляться на порядочное расстояние в открытое море, а затем, отдавшись воле волн, вновь приблизиться к берегу. Прозрачность воды так велика, что песчаное дно и плавающие над ним рыбы отлично видны на значительной, двух-трехсаженной глубине озера.
На следующий день, чуть забрежила на востоке заря, наш лагерь пробудился. Гора Сэр-чим еще спала, окутанная ночными сумерками; на ней в виде покрывала лежала слоисто-кучевая тучка, вытянувшаяся вдоль гребня. Со стороны озера гоготали гуси, кричали и свистели на разные лады кулики, издавали клекот орланы; на мокрых лугах проснулись жаворонки и начали с песней подниматься ввысь. Караван уже шагал по мягкой проторенной дороге. Через час пронесся первый резкий порыв ветра, вскоре второй, третий. Куку-нор нахмурил брови.
Мы следовали южным берегом. С лугового откоса открывалось еще большее пространство лазоревой поверхности, по-прежнему скрывавшейся за горизонт. Наконец показался остров Куйсу[227] – предмет наших самых заветных мечтаний и многих глубоких дум. Словно гигантский военный корабль, он гордо выступал из темно-синих волн Куку-нора и манил к себе своею неизвестностью. В ясное прозрачное состояние воздуха в астрономическую трубу легко различались детали острова: видны были гребень высоты, обо и кумирня монахов-отшельников.

Семнадцатого августа караван экспедиции расположился лагерем в ближайшем со стороны южного берега к Куйсу урочище Урто, где пробыл около трех недель, пользуясь привольем и простором кочевников, отстоявших от нас верст на пять и более. Небольшая группа черных тангутских шатров обращала на себя внимание изолированностью и зловещим молчанием. Соседей не было на много верст кругом. По расспросным сведениям удалось выяснить, что это маленькое, как бы покинутое стойбище ютило больных скарлатиною номадов. Смертность среди несчастных была большая, и помощи ждать неоткуда. Родные и знакомые не нашли ничего лучшего, как бросить больных на произвол судьбы, а самим откочевать подальше, спасаясь от заразы.
Общая картина стоянки на Куку-норе была такова: к северу, в трех четвертях версты, залегал сам Куку-нор, к югу, в шести-семи верстах, тянулись горы – западное крыло Сэр-чима. От гор стремилась речка, пересекавшая слегка покатую к озеру долину, образуя вблизи берегового, предпоследнего к Куку-нору вала второстепенный, или частный замкнутый озеровидный бассейн до двух верст в окружности. На этой речке на возвышении третьего берегового вала, сливающегося с материковой равниной, мы и имели свой лагерь, откуда открывались широкие виды во все стороны. Быстрая прозрачная речонка оживляла наш бивак, капризно опоясывая его с трех сторон. В маленьких омуточках мы с успехом ловили удочками и сачками рыбешку[228]. На речку, а еще более на соседнее озерко постоянно прилетали гуси, утки, турпаны, крачки; по песчаному берегу самого озера бо́льшими или меньшими обществами усаживались бакланы, чайки и одиночками в виде темных точек – прежние орланы.
Обитатели Чамруского хошуна все больше и больше осваивались с нами. Я все время поджидал к себе самого Чамру – начальника аймака, но, по-видимому, напрасно. Он был занят приемом цин-цая, а кроме того предстоял еще судебный процесс двух хошунов – Чамру и Гоми, требовавший его обязательного присутствия.
Недоразумение соседей заключалось в следующем. Аймак Гоми, простираясь своими границами за монастырь Гумбум, имеет превосходные пастбища вдоль сининских альп; тангуты этого хошуна полуоседлые и в годы хорошего урожая на хлеба и травы не всегда имеют возможность целиком использовать принадлежащие им корма. В начале летнего сезона 1908 года чамрусцы вторглись в соседние владения со своими банагами-жилищами и скотом и стали довольствовать последний на чужих пастбищах. Проведав о случившемся, гомисцы собрались сотенным вооруженным отрядом, атаковали непрошенных гостей и вскоре оттеснили их к берегам Куку-нора. Однако оправившись и пополнив ряды, чамрусцы дружно ринулись вперед; завязалось настоящее сражение, длившееся несколько дней с переменным успехом. Тогда предводитель Чамру придумал военную хитрость – решил обмануть противника и демонстративно выставил у северо-западного предгорья Сэр-чима палатки своих подчиненных. Гомисцы поддались обману: направили в сторону пустых палаток своих воинов, а чамрусцы тем временем неожиданным ударом с фланга разбили противника.
Теперь, с приездом цин-цая на Куку-нор, предстояло разбирательство всего дела.
Вторая неприятность, постигшая гордого Чамру, была болезнь его сына. Молодой человек обвинил своего родственника в краже отцовской лошади, при всех пристыдил его за неблаговидный поступок. Рассерженный вор в порыве злобы схватил ружье и ранил собеседника в ногу. По словам окружающих, больной сильно страдал, нуждаясь в медицинской помощи.
С приходом на Куку-нор мы достали из вьюков свою складную брезентную лодку и, бережно собрав ее, начали производить пробные плавания, отдаляясь от берега до двух – пяти верст и более. Плавание производилось во всякую погоду: в бурное и тихое состояние Куку-нора. В общем, пробные плавания дали удовлетворительный результат. Лодка качалась на волнах, словно поплавок, слушаясь весел, и довольно ходко подвигалась в желаемом направлении – это ее положительные качества; к отрицательным же, в частности, можно было отнести следующее: непрочность весел, которые в местах уключин с первых дней плавания начали мочалиться, сами уключины сидели неустойчиво, борты широко расходились, отчего высокая волна постоянно хлестала и заливала на дно лодки; словом, пришлось порядочно поработать, прежде нежели наше суденышко стало внушать к себе хоть маленькое доверие при мысли о попытке сплавать на Куйсу. Деревянный ромбовидный пояс, наложенный по бортам, основательно скрепил всю лодку и крепко зажал уключины; весла же были снабжены кожаными накладками.
Испытав лодку, надо было позаботиться о продовольственном снаряжении – еде и питье, о приспособлении измерительных и других инструментов, а также выяснить вопрос и о составе участников плавания. Точкой отправления предполагалось назначить безымянное урочище, отстоящее от уртоского лагеря в семи верстах к западу и в четырех верстах от берегового обо, служащего указателем пути для паломников-номадов, имеющих сообщение с Куйсу зимою по льду. Таким образом среди интересных занятий незаметно промелькнула первая неделя пребывания на Куку-норе.
Возвращаясь однажды с небольшой экскурсии вдоль западного берега озера, я заметил на биваке большое оживление. Оказывается, возвратился из западного бокового разъезда геолог экспедиции А. А. Чернов, прошедший около восьмисот пятидесяти верст. Из Дын-юань-ина Чернов вначале взял западно-северо-западный курс, вскоре изменив его на юго-западный, коим и достиг оазиса Сого-Хото; далее геолог экспедиции двигался в полуденном направлений, вверх но речке, пока не достиг Лянь-чжоу, где имел недельную остановку в целях приискания новых подвод и проводников на дальнейший путь поперек Нань-шаня. От Лянь-чжоу до Датунга А. А. Чернов исследовал новый, никем из европейцев не посещенный район, в котором ему удалось открыть несколько ледников, защемленных ущельями северного склона на высшей цепи Нань-шаня. Далее Датунга интересную юго-западную диагональ с выходом в долину Куку-нора геологу проложить не удалось, главным образом из-за подводчиков, сильно трусивших кукунорских тангутов. А. А. Чернов свернул на Му-бай-шин, Донгэр, а затем по караванной дороге проследовал на соединение с экспедицией.
Первые дни по возвращении на главный бивак геолог приводил в порядок свои наблюдения и сборы. Нас же по-прежнему занимал Куку-нор, его капризный нрав и переменчивое состояние его поверхности, которая не всегда и не везде была одинакова. Так, например, юго-восточный залив Куку-нора тих, спокоен, отливает прелестным лазурным оттенком небес, тогда как северный район озера уже порядком колышется изумрудными волнами; в то же самое время с северо-запада бегут темные высокие валы, украшенные барашками. Из тихого в бурное состояние Куку-нор переходит сравнительно скоро и, наоборот, долгое время не успокаивается после более или менее серьезного шторма.
Тих ли, взволнован ли Куку-нор – всегда он величественно прекрасен. Часами я просиживал на его берегу или далеко уходил вверх или вниз от бивака, никогда не уставая смотреть на его бесконечный водный горизонт, как одинаково не уставал и слушать его монотонный прибой, напоминавший мне южный берег Крыма.
В первую очередь плавания на Куйсу я назначил самого себя и урядника Полютова. Каждый из нас понимал, что предстояло немало трудностей и тяжких испытаний, а может быть, и жестокой борьбы за жизнь. Нужно было приготовиться ко всему. Первый раз в жизни я составил завещание, причем труднее всего мне было мыслить о будущем, о судьбе моего самого дорогого сокровища – экспедиции.
К вечеру двадцать восьмогоавгуста все было готово, и мы с Полютовым перекочевали к точке отправления. Куку-нор успокаивался, солнце скрылось за чистый, прозрачный горизонт; барометр стоял хорошо. Сумерки легли на землю. Едва потухла солнечная заря на западе, как на востоке всплыла луна, чудно озарившая всю видимую поверхность Куку-нора. Досадовал я на себя, что не приготовился к отплытию на Куйсу днем раньше, чтобы воспользоваться сегодняшним состоянием погоды. Вдоволь нагулявшись по берегу и надышавшись «морской» прохладой, я отправился в палатку, чтобы уснуть. Море также дремало. Моряки, кажется, справедливо не любят подобное затишье, замечая, что оно часто бывает зловеще.
В два часа ночи меня разбудил Куку-нор, со страшной силой ударявший о берег тяжелыми волнами. К рассвету, ко времени нашего предполагавшегося отплытия, он рассвирепел еще больше. Пришлось смириться и ждать у моря погоды. К полудню начало было стихать, и мы несколько раз пытались отчалить от берега, но напрасно – девятый или двенадцатый вал сердито выбрасывал нас обратно на берег.
Возвратившись на главный бивак, я предложил моим сотрудникам Чернову и Четыркину перебраться к точке отправления и терпеливо выжидать лучшего состояния Куку-нора. Они были счастливее меня. Им удалось осуществить нашу общую заветную мечту – проникнуть взором исследователя в самое сердце альпийского озера. Расставаясь с А. А. Черновым, я прочел на его озабоченном лице ясное выражение того, что на ходу прошептал его голос: «В случае… полагаюсь на вас».
Предоставляю моему товарищу рассказать о его интересном плавании на Куйсу.
«Лишь только лодка была предоставлена в наше распоряжение, – говорит А. А. Чернов[229], – мы в сопровождении гренадера Демиденко и китайца-солдата перебрались к тому пункту берега, где она находилась, – верстах в семи от стоянки экспедиции. Здесь вечером тридцатого августа были сделаны последние приготовления к поездке. Мы совершили пробное плаванье для испытания лодки и взятого с собой глубомера Беллок малого размера. Лодка оказалась легкой и подвижной, но вместимость ее была столь мала, что при езде мы мешали друг другу, нельзя было помогать кормовым веслом. Пришлось строго обдумать свое снаряжение. К сожалению, мы не могли определенно узнать, есть ли на острове люди. Местные тангуты говорили, что минувшей зимой, по слухам, на Куйсу жили два монаха, но остались ли отшельники на лето, они не знали.
Наше снаряжение могло быть более легким, если бы мы были уверены, что найдем на острове монахов. В этом случае можно было бы не брать с собой съестных припасов.
После солнечного заката совместными усилиями были напечены лепешки и сварено мясо в дорогу. Лепешки вышли неудачными: масло было горькое, аргал сырой, и мы не могли пропечь их. Впрочем, нас занимал более серьезный вопрос – определение времени отплытия. Хотелось выбрать для этого наиболее благоприятный момент.
Наблюдая изо дня в день за озером, можно было убедиться в его непрестанном волнении. Только двадцать восьмого августа простоял относительно тихий день и к вечеру установилась мелкая рябь. Погода изменялась обыкновенно после полудня, иногда с полуночи. Громадная котловина, вмещавшая в себе озеро, благоприятствовала развитию ветров, падавших то с северного, то с южного хребтов, ограничивающих котловину. С налетевшим ветром одновременно появлялось и волнение. Быстрому развитию последнего, по-видимому, способствовало незначительное давление воздушного столба, находившегося над высоко расположенным озером. Кроме того, дождливое время года посылало облака за облаками. Приходилось более всего остерегаться внезапно появлявшихся тучек, приносивших с собою обыкновенно более или менее сильный ветер.
Мы решили ехать или с полуночи, или с полудня, сообразуясь с анероидом[230]. Если бы в начале поездки погода изменилась к худшему, то мы могли еще повернуть обратно и ждать более благоприятного момента.
В день нашего приезда к берегу вечер стоял тихий. Анероид, упав днем, повышался. Шум прибоя едва доносился до бивака, отделенного от озера лагуной. Казалось, ночью можно будет пуститься в путь.
Но вот на севере стали вспыхивать молнии, далеко за Куку-нором. Они первые смутили нас. Взошла луна, на которую мы возлагали отчасти наши надежды, так как было полнолуние и короткий день благодаря ее свету значительно удлинился.
Вскоре из-за Южно-Куку-норского хребта выбежали барашки и закрыли луну. С гор потянул ветер. Наша надежда на ночное плавание стала «бледнеть».
Мы прилегли, но сон был чуток: мы постоянно вскакивали, прислушиваясь к малейшей перемене погоды и состоянию озера. С полуночи шум усилился. Можно было различить прибой мелкой волны, приближавшейся с востока. Мы упали духом и решили отложить поездку.
С двух-трех часов ночи до восьми-девяти утра шел дождь с небольшими промежутками. Утром озеро сильно волновалось, но белых гребней почти не было. На востоке одно время на его краю выделялась изумрудно-зеленая полоса.
К полудню перемены в волнении не было, и мы решили выехать. Наскоро собрали свой богаж и уселись в лодку. В ней оказалось так тесно, что пришлось отказаться от морской буссоли, которую хотели было взять с собой на всякий случай. Мы мешали друг другу своими ногами, между которыми был помещен узкий и длинный деревянный ящичек с припасами. Глубомер был поставлен на ящик, а сбоку положили резиновый мешок с ведерным запасом чаю. Этот мешок мешал нам более всего, особенно гребцу, и кренил лодку. Однако оставить его не решились из боязни, что не найдем воды на острове. Из верхней одежды мы взяли только по теплой куртке. По настоянию товарища захватили также брезент, чтобы несколько защитить носовую часть лодки от большой волны.
В час пятнадцать минут мы оставили берег при легком северо-северо-восточном ветре. Небо было покрыто на три четверти облаками. Быстро удалялся от нас берег, и уменьшалась фигура стоящего на нем Демиденко.
Через час анероид упал уже на полтора деления, но мы решили продолжать путь в надежде добраться до острова еще до перемены погоды.
Сначала остров имел вид трапеции и только через полтора-два часа езды он принял тот вид, какой имел с берега: на трапеции довольно ясно выступил бугор конической формы.
В четыре с половиною часа мы сделали первый промер глубины, показавший тридцать один метр. Лот принес со дна ил светло-пепельного цвета. Из торопливости мы не стали измерять температуру воды на дне, хотя и имели с собой термометр. Несмотря на продолжающееся падение анероида, мы решили плыть вперед: пришлось в последний раз обдумать свое положение, так как по нашим расчетам мы были уже около середины пути. Островок как будто еще не вырос в своих размерах, но выступил яснее. Он принял коричневый цвет с белым пятном в одном месте. У берегов обрисовывались крутые скалы.
Между тем с левой стороны от нас по западному горизонту протянулась туча, за которой и стало скрываться солнце. В пять часов среди этой тучи видно было четырехцветное радужное пятно. Невольно наши взоры постоянно обращались в эту сторону, тогда как в действительности испытание готовилось с другой стороны.
В пять с половиною часов глубина и состав дна оказались прежними. На вершине острова ясно обрисовывался целый ряд обо. Однообразие нашего плавания нарушалось изредка плеском крупной рыбы: она долго держалась вблизи поверхности воды, так что ее можно было видеть. Один раз кругом нас облетел баклан, другой – села на воду чайка.
Солнце совершенно скрылось в туче, стали быстро надвигаться сумерки. Вдоль восточного берега Куку-нора протянулась другая туча в форме узкой и длинной ленты. Но в то время как первая проходила далеко стороной, эта двигалась прямо на нас, мы видели ее приближение и чувствовали ее по поднявшемуся норд-осту. Остров превратился в неясное пятно.
В семь часов двадцать минут ветер внезапно усилился и тотчас появились «барашки». Мы в последний раз переменились местами. Начиналась борьба с разбушевавшейся стихией. У одного из путников появилась на сцену резиновая надувающаяся подушка.
Восстали широкие валы, увенчанные пенящимися белыми гребнями. Они надвигались на нас почти сбоку, и наша лодка то скользила вдоль гребня, то проваливалась в широкий желоб между двумя соседними валами. Нас постоянно обдавало пеной, хотя была некоторая возможность избегать «особенно крутых рядовых бойцов».
Но вот полил дождь, и нас окутала тьма. Был момент (трудно сказать, насколько продолжительный) когда остров исчез из виду. Однако на тревожный вопрос гребца товарищ его отвечал успокоительно.
Волн уже не было видно, и только по характерному шуму приходилось угадывать приближение грозных врагов. Часто около самой лодки внезапно вырастал белый гребень и обдавал нас своей пеной. Попытка защищаться от волн брезентом не имела успеха, и мы давно уже сидели в воде.
В этом положении некоторую отраду принес нам писк куликов, долетевший до нашего слуха.
Наконец как-то инстинктивно почувствовалось, что остров близок, хотя он едва выступал среди тьмы расплывшимся пятном. Дождь прошел. Мы услышали отдаленный шум прибоя и, удачно попав в полосу относительного затишья, в восемь с половиною часов пристали к берегу.
С понятным волнением вступили мы на приютивший нас клочок земли. Все из лодки было вынуто и сложено на берегу, а сама лодка вытянута из воды и перевернута над нашим имуществом. Мы тотчас же пошли осмотреть ближайшие окрестности.

Берег начинался галечником, переходившим в полого повышающуюся задернованную поляну. Последняя вскоре упиралась в крутой склон. Очевидно, мы пристали к южному концу острова. К востоку берег вскоре кончался галечной косой, на западе крутой склон подходил непосредственно к озеру, обрываясь в него скалами. Подойдя к крутому склону, мы тотчас наткнулись на пещеру, обнесенную стеной. Осторожно, один за другим, стараясь не производить шума, мы протискивались в узкий вход. Вдруг экзальтированный товарищ, шедший впереди со свечкой в одной руке и с револьвером в другой, воскликнул: «Человеческий скелет!».
Последний оказался, однако, туловищем барана, приставленным к стене. Кожа с него была содрана, и мясо высохло до твердости камня. На полках лежало еще два отдельных куска. За особой загородкой в углу около входа был сложен сухой конский аргал, а рядом с ним устроен и род камина. Все это говорило о предусмотрительности хозяина жилища, но самого его не было. Только мухи нарушали тишину, да при нашем входе в пещеру из нее выпорхнула птичка.
Выйдя из пещеры и пройдя несколько шагов дальше вдоль подножья крутого склона, мы заметили загородку. Внутри нее, плотно прижавшись одна к другой, лежали овцы.
Вне загородки вновь виднелась постройка, прислоненная к скалистому обрыву, более значительных размеров, чем осмотренная. Очевидно, она была обитаема.
Осторожно ступая, мы вернулись к лодке и решили закусить. Однако наши припасы размокли и были в мало привлекательном состоянии. Лепешки расползлись, соль и сахар распустились. Все вещи, лежавшие в ящике, стали липкими. Сами мы из-за мокрой одежды были тоже в плачевном состоянии. Тщательнее всего был упрятан анероид, лежавший во внутреннем кармане. Но и его футляр размок и расклеился.
Съев по яйцу и куску мяса, подкрепив свои силы холодным чаем с коньяком, мы залезли под лодку в надежде уснуть под своим кровом, но появившийся озноб невольно заставлял наши мысли возвращаться к осмотренной пещере, как бы приготовленной для посетителей. Правда, не совсем удобно было занять ее без ведома хозяина, но другого исхода из нашего положения не было.
Мы решили воспользоваться всеми удобствами открытого пристанища. Однако развести огонь оказалось делом далеко не легким: мехом должны были служить собственные легкие. Пока товарищ возился около очага, ему все глаза выело дымом. Зато когда дело увенчалось успехом, и очаг разгорелся, он первый получил право на пользование огнем для просушки мокрой одежды.
При свете свечи мы произвели более тщательный осмотр помещения. От входа приходилось несколько спускаться. Основанием всей постройки служили глыбы камня, образовавшие естественное углубление, над которым и был уже возведен потолок и некоторые дополнительные стенки. Кладка состояла из необожженной глины, иногда с примесью камня, блестевшего крупными зернами белой слюды. Против очага у задней стенки пещеры был выложен приступок для сиденья. В стороне было особое углубление, отделенное невысокой стенкой. В стенках были сделаны небольшие ниши.
Мы весело шутили над своим положением, сравнивая его с судьбой Робинзона Крузо после кораблекрушения.
Восточный и юго-западный горизонт был затянут тучами. Их прорезывали молнии. В нашем подземном пристанище гром отдавался своеобразным гулом.
К полуночи мы привели свои костюмы в некоторый порядок и вышли еще раз осмотреть окрестности.

Глава четырнадцатая. Озеро Куку-нор (окончание)
Дополнительное ночное знакомство с Куйсу. – Приют в пещере – Первое утро на острове. – Оригинальная встреча с его тремя отшельниками. – Знакомство с ними. – Занятие монахов. – Измерение, съемка и геологическое строение Куйсу. – Кумирня. – Начало поселений на острове. – Впечатление от ракет, пущенных на Куйсу. – Возвращение с промером глубины на берег. – Радостное свидание с экспедицией. – Моя экскурсия в южные горы. – Дополнительные работы при мысе Чоно-шахалур. – Прощанье с Куку-нором.
Теперь только из-за облаков выплыла луна, на свет которой возлагалась столь большая надежда при отплытии к острову. Нам захотелось тотчас же бегло осмотреть вершину Куйсу.
При первых шагах мы заметили лошадь, бросившуюся от нас в сторону. Поднявшись несколько по склону, мы встретили большой полуразрушенный субурган.
Склон был крутой и прерывался оврагами. Наконец мы достигли площадки, господствовавшей над всем островом. По краям ее виднелись постройки. Прежде всего попалась небольшая, но, видимо, недавно построенная кумиренка. Ко входу в нее вели ступеньки. Дверью служила занавесь. Заглянув в кумирню, мы увидели при свете спички, что стены ее увешаны множеством писанных бурханов. Дальше мы наткнулись на две пещеры. Стараясь ступать бесшумно, мы проникли внутрь, но обе пещеры оказались совершенно пустыми.
Выше всех построек на одном из углов площадки поднималось обо. Весь остров был залит лунным светом, но точного представления о его величине нельзя было получить, так как контуры острова сливались с озером. Оттуда доносился глухой ропот. Это один за другим набегали из темной дали ряды волн и плескали в берега. На юге рисовался своеобразный мираж. Казалось, что южный берег лежит очень близко. Он имел вид черного обрыва, над которым сразу поднимался хребет, вдвое более высокий сравнительно с Южно-Куку-норским.
Полюбовавшись неописуемой панорамой, мы спустились в свой склеп. Волнение наше улеглось, усталые организмы напоминали об отдыхе. Было два часа, когда мы разместились на полу в очень неудобном положении. Длина ложа достигала только двух аршин. Выступавший камин сжимал нас.
Подремав немного до восхода солнца, мы пошли к лодке. Стояла тишина, озеро тихо плескалось. Хребет Потанина был окутан снежно-белыми кучевыми облаками, а над нами после голубого промежутка, висела еще лента облаков. В семь часов утра температура воды в озере была +11,8°С, в воздухе было только +6,4°С. Мы стали приводить в порядок свое имущество: одно – мыть, другое – сушить.
Из обитаемой пещеры курился дымок. Мы ждали ее хозяина. Заметив нас издали около лодки, он, может быть, был бы не так испуган, как при нашем появлении в его жилище. Но время шло, а тишина ничем не нарушалась. Мы решили нанести визит.
Овцы были еще внутри загородки. Из пещеры слышалось монотонное бормотанье: очевидно, в ней был один человек, занятый молитвой. Не входя еще в пещеру, мы приветствовали его по-монгольски. В ответ он только повысил голос, но не вышел. Когда мы вошли в жилище отшельника, он сидел на особом возвышении перед раскрытой книгой, впереди которой стояли молитвенные чашечки и блюдечки.
Увидя нас, монах вскочил. Он был необыкновенно испуган. Руки его тряслись, зрачки расширялись. Приняв приветственный хадак, он поспешно стал усаживать нежданных гостей на пол, бросив туда шкуру. Перед нами, как по волшебству, появились чуть ли не все съестные припасы, какими обладал лама. Скороговоркой, заплетающимся языком он все время выкрикивал слова молитвы или заклинания, временами проводя пальцем по горлу и насильственно улыбаясь. Схватив большую чугунную чашу, монах выбежал из пещеры и стал поспешно доить коз. Теперь можно было различить непрестанно повторяемое: «Тэр-занда, датэр-занда-да, тэр-занда, датэр-занда-да»[231].
Подоив коз, он поставил котел на огонь. Увидев, что мы едим, как обыкновенные смертные, он стал понемногу успокаиваться, чаще улыбался, но не сводил с нас глаз, почти не мигая. Быстро перебирал свои четки, изредка шевеля губами.
Угощенье состояло главным образом из молочных продуктов: простокваши, сушеного творога – чюры – и масла. Кроме них, у монаха оказался молотый ячмень (цзамба) и кирпичный чай – очевидно, дары паломников. Была предложена и баранья нога в том же окаменелом состоянии, в каком мы нашли баранину в нашем убежище. От чая и остальных блюд мы отказались, зато оказали честь простокваше, очень вкусной, приготовленной чище других продуктов. Во время нашей еды монах снова сел для молитвы. Он ссыпал с тарелочек гальку и выливал из медных чашечек воду, тщательно их вытирая. Кроме этих предметов, на божнице были цаца – глиняные фигурки небольших бурханов и один рисованный бурхан. Лама читал по очень длинной и узкой книге, листы которой не были сшиты.
Когда отшельник кончил свою молитву, мы знаками просили его следовать за нами и привели к лодке. Осмотрев ее и остальное наше имущество, он совершенно успокоился, очевидно, понял, откуда и как появились в его владениях чужеземцы, приехавшие в совершенно необычное для посещения острова время года. Врученный ему подарок – перочинный ножик и жестяная коробка из-под сушеной капусты – установили между нами уже прочные дружественные отношения. Монах пригласил нас следовать за собой, показывая, что на острове есть еще двое таких же, как он, обитателей.
Мы пошли на запад по самому берегу под скалами за жилище первого монаха и вскоре увидали еще более солидную постройку, но прежнего, так сказать, пещерного типа. На голос нашего проводника ее хозяин вышел к нам навстречу. Между соседями завязался оживленный разговор, в котором наш первый знакомец выступал уже в роли толкователя. Новый обитатель острова удивленно посматривал на нас. Он показал нам свое помещение и кумиренку, построенную рядом с ним.
После осмотра кумирни все пошли к третьему отшельнику.
Монахи были людьми пожилыми, но еще далеко не старыми. Первый из них, очевидно, более молодой, был гладко выбрит и имел вид обычного служителя будды.
Остальные давно уже совершенно перестали заниматься своей наружностью; отросшие волосы торчали у них в разные стороны, представляя своеобразные головные уборы. Все монахи, очевидно, были тангутами: первый и второй – типичными брюнетами, третий – с более светлой кожей и волосами. Вид последнего отшельника положительно напоминал дикого человека; взгляд его был блуждающим, изо рта торчали зубы.

Увидав, что мы интересуемся камнем, первый монах пригласил нас следовать за собой. Мы поднялись на скалистый обрыв и пошли вдоль него. Берег повернул теперь на северо-запад, а затем почти на север. Под нашими ногами развернулась очаровательная картина. Берег был мало изрезан, но обрывался отвесными гранитными скалами высотой в восемь – десять метров. От него были оторваны крупные глыбы и, устилая подножье скал, уходили в изумрудно-зеленую глубь. Волны тихо плескали среди камней, между которыми плавали десяти-двенадцативершковые [до 0,6 м] рыбы. Целые стаи этих рыб непрерывной живой гирляндой окаймляли побережье. На скалах группами сидели бакланы. При нашем приближении птицы опускались на воду и несколько отплывали от берега туда, где уже качались на волнах чайки. За бакланами плыли рыбы, образуя длинные колыхающиеся ленты.
Наконец скалы понизились, несколько отступили от берега, и лама подвел нас к небольшому выступу. Он был образован из красновато-желтого крупнозернистого гранита, прорезанного мертвой жи́лой весьма крупнозернистого пегматита. Основная масса последнего состояла из белого кварца и розового полевого шпата. Зерна их достигали нескольких дециметров в поперечнике. В эту массу были погружены серебристо-белые пластинки слюды и черные призматические кристаллы турмалина, достигавшие 3 см в поперечнике. Блеск крупных зерен и слюды и служил причиной особенного внимания к этому выходу со стороны нашего проводника.
Осматривая бегло берег, мы вскоре дошли до узкого и низкого перешейка, отделявшего северо-западный конец острова от его главной массы. За перешейком вновь поднимались граниты, обрываясь в озеро скалистым зубчато изрезанным краем. Верхняя поверхность их представляла ровную площадку, поднимавшуюся над водой до 12 м. Этот северо-западный мыс острова вместе с перешейком выдавался в озеро в форме топора. В его зубчатых бухтах плавали крупные рыбы; на северный же берег острова накатывались грозные валы. Здесь к нам присоединились остальные аборигены, и мы все вместе закончили обход побережья озера.
От перешейка берег сначала идет на восток, делаясь более изрезанным, но затем, снова выравниваясь, уклоняется все более и более на юг. Скалы редко подходят к самой воде: обыкновенно они отделены от нее узкой задернованной полосой с рассеянными по ней глыбами гранита. Нигде не видно было ни только деревьев, но и кустарников; низкая травянистая растительность одевала склоны острова, падавшие от центральной площадки к его побережью.
Монахи, видимо, делились друг с другом своими впечатлениями. Заметив, что мы обратили внимание на лисиц, проскользнувших в двух местах среди камней, они показали нам, что в их владениях обитает восемь таких зверей.
На юго-востоке остров заканчивался низким остроугольным выступом, переходившим в короткую галечную косу. На этом выступе у подножья скалистого обрыва лежала U-образная лагуна. На ней плавали чайки, а на галечном валу южного берега сидели бакланы и гуси, образуя почти непрерывный ряд.
Вновь наша лодка и вещи подверглись тщательному осмотру: монахи во все входили и всему дивились. Особенное удовольствие доставил им бинокль. Наш первый лама уже окончательно освоился с нами: непрерывно говоря, он опирался на нас и настойчиво приглашал к себе. Остальные монахи также получили по хадаку и ножику, которых мы взяли как раз по три экземпляра.
Оказав честь простокваше нашего соседа, утомившись впечатлениями дня и ночи, мы уснули около лодки. В три часа дня нас разбудил ветер, налетевший с запада и взволновавший озеро. Быстро выросли белые гребни, с шумом ударявшие в побережье. Рыба тотчас ушла в глубину. Накатилась пылевая туча, и южный берег озера исчез из глаз. Водяные валы высотою в метр один за другим лизали наш берег и перекатывались через галечный вал, наполняя водой лагуну. У скалистого берега набегавшие волны покрывали громадные глыбы, торчавшие над водой на один – полтора метра.
Целые каскады брызг летели в скалы, достигавшие трехсаженной высоты.
На волнах всюду качались бакланы и чайки, как бы радуясь поднявшейся непогоде.
Мы занялись съемкой острова, отмечая направление по компасу, а расстояние – шагами. Переведя их на метры, мы получили: 1,5 км для длины южного и западного берега до перешейка, 0,6 км для окружности северо-западного мыса вместе с перешейком и 1,7 км для длины северного и восточного побережья. Таким образом, длина береговой линии всего острова равна 3,8 км (3,5 версты), наибольший поперечник (длина) – 1 650 м и ширина – 560 м (в средней части острова). У нас были три ракеты, благодаря которым мы могли дать о себе весть на берег.
Мы условились пускать их в девять часов вечера: первую – в день нашего прибытия на Куйсу, вторую – накануне отъезда с острова. Третья ракета могла пригодиться как в том случае, если бы первая попытка уплыть с острова не удалась, так и в том случае, если бы мы по какой-либо причине вынуждены были остаться на острове до зимы. Тогда мы должны были пустить одну за другой обе ракеты. Хотя накануне мы приехали в половине девятого, но ракеты не пустили, так как палки к ним были позабыты. Сегодня находчивый товарищ, воспользовавшись нашим деревянным ящиком, пристроил к ракетам хвосты, и мы сигнализировали. Сильный ветер отбросил ракету далеко в сторону. До полуночи мы сидели в своей пещере и при свете свечи вели записи. Ветер свистел вдоль скал, но к нам не проникал. Только шум прибоя глухо отдавался у нас. Восток был затянут тучей. С разрешения хозяина жилища, нашего жизнерадостного соседа, мы проломали внутреннюю стенку и могли теперь спать вытянувшись.
Ранним утром второго сентября наши знакомцы один за другим нанесли нам визиты и настойчиво приглашали к себе в гости. Чтобы никого не обидеть, пришлось гостить у них поочередно. Хозяева теперь уже применились к нашему вкусу: как только мы входили к кому-либо из них, перед нами сейчас же появлялся большой деревянный жбан с простоквашей.
Попав в столь необычайную обстановку и не имея возможности говорить с отшельниками, мы жадно ко всему присматривались, стараясь воспользоваться каждой минутой нашего пребывания на острове, чтобы запечатлеть даже мелкие черты его природы или жизни его обитателей. Об одном упущении мне приходится до сих пор сожалеть: имея в своем распоряжении один фотографический аппарат, я не решился взять его на остров из боязни попортить его и тем лишить себя возможности производить снимки на дальнейшем пути.
От центральной, господствующей над всем островом площадки падают во все стороны крутые травянистые скаты. Почва их состоит из лёсса, тонким слоем прикрывающего коренную породу острова, – гранит. Восточный и южный склоны изрыты оврагами. Некоторые из них глубоко врезались в гранитную массу, особенно в южной части Куйсу. На запад и на юг граниты обрываются в озеро изрезанными скалами высотою от восьми до двенадцати метров. Исключением является только южная оконечность острова, ее узкий перешеек в северной части: здесь мы находим отлогий, относительно мягкий берег, удобный для высадки. Как удачно мы подплыли в темноте к наиболее доступной части берега! На скалы даже днем трудно было бы высадиться.
Хотелось непрестанно любоваться своеобразной жизнью скалистого побережья. В то время как у отлогих северного и восточного берегов рыбы не было видно, около скал она постоянно держалась. Иногда можно было взобраться на глыбу, несколько выступающую в озеро. Рыбы продолжали плавать около камня, нисколько не боясь непосредственной близости человека, буквально под его ногами. Они заходили в узкие промежутки между отдельными глыбами, иногда неожиданно выплывали из какого-нибудь потайного прохода. Однородные по величине, принадлежащие к одному только роду Schizopygopsis, рыбы двигались медленно, как бы лениво, чуть не задевая одна другую. Мелких рыбок, свойственных побережью Куку-нора и водящихся преимущественно в устьях его речек, мы не видели здесь ни одной.
Нас очень занимал вопрос о способе питания этой громадной массы рыбы. Следя за рыбами, можно было сделать такое наблюдение. Камни, лежавшие под водой, были покрыты сплошным пушистым ковром водорослей, который начинался только на пол-аршина [33 см] ниже поверхности воды. Этот ковер толщиною до вершка тихо колыхался, переливаясь различными оттенками зеленого цвета! Рыбы постоянно погружали свой рот в водоросли, для чего они становились даже на головы. Казалось, они искали себе пищу в этом пышном ковре, который и служил приманкой для рыбы. Отлогий берег на северной и восточной стороне острова, покрытый галькой и гравием, не давал разрастаться водорослям вследствие постоянного движения обломочного материала. Там не держалась и рыба.
Как только бакланы спускались на воду, рыбы бросали свое занятие и плыли за ними. Нужно полагать, что они охотились за посадкой птицы, нисколько не боясь ее благодаря своим крупным размерам. Мы ни разу не видели, чтобы птица сделала попытку схватить рыбу: очевидно, последняя была ей уже не по силам. Питание самих птиц осталось невыясненным. Больше всего на острове было бакланов, которые не могли питаться рыбой, так как мелкой рыбы здесь совсем не было. Возможно, что главным источником пищи для них служил тот же ковер водорослей, хотя при человеке бакланы всегда держались вдали от берега. Чайки находили себе пищу в мелкой лагуне на юго-восточном конце острова, где они постоянно держались, в особенности в тихую погоду.
Бакланы гнездились на острове, и плоские гнезда этих птиц попадались всюду среди скал. Иногда мы находили отдельные яйца, чаще только одну скорлупу. Нередко валялись и растерзанные остатки самих бакланов, попадавших, вероятно, в лапы лисицы: крупные громоздившиеся одна на другую глыбы способствовали этим хищникам устраивать засады, гнезда же часто были расположены в совершенно доступных пунктах.
В меньшем числе на острове были чайки, крачки, гуси, турпаны, жаворонки, вьюрки, плиски и краснохвостки. В пещере, занятой нами, жила горихвостка, которая позже свыклась с нашим соседством. Из хищных птиц мы видели только сокола да слышали однажды крик сыча.
Мы старались узнать от монахов, не видели ли они в воде более крупных животных, чем плававшие рыбы, но получили отрицательный ответ. Таким образом, приведенное В. А. Обручевым[232] указание о нахождении в озере какого-то ластоногого здесь не нашло подтверждения.
Грызунов мы совсем не видели на острове, не было здесь и нор пищух, столь часто встречающихся на склонах кукунорской котловины. Лисицы, может быть, уничтожили грызунов.
Низших животных на острове было немного. Изредка наблюдались мухи и жуки. Однажды я видел муравья, тащившего мертвого кузнечика. На лёссе, под камнями, были находимы наземные моллюски (Pupa и Helix).
Первое растение, с которым нам пришлось познакомиться на острове, был лук. Лишь только мы расположились в день своего приезда около лодки, как наше внимание было привлечено сильным запахом этого растения, примятого нами. Позже оказалось, что лук густо покрывал всю каменистую лужайку между берегом, лагуной и скалами. В общем растительный мир острова оказался сходным с флорой берегов Куку-нора; товарищ подметил здесь лебеду, полынь, мальву, астру, горечавку, крапиву, дэрэсун, тмин. По расщелинам скал изредка встречался папоротник и хвощ. Некоторыми растениями монахи пользовались в домашнем обиходе. Семена тмина шли в качестве приправы к простокваше, стебли дэрэсуна служили для приготовления фитилей в масляном освещении. Растительный покров острова был пышным только кое-где по побережью, в остальных же местах трава была общипана и вытоптана.
Еще на другой день своего приезда мы видели, что в западно-северо-западном направлении из озера выступали скалы. Они белели тремя маленькими зубцами и лежали, по-видимому, ближе к южному берегу, чем к Куйсу. Лама объяснил нам, что хотя с острова скалы, называемые Джэ-му-чах, видны в числе трех, но в действительности их девять. Они бесплодны и едва ли доступны. Белый цвет их происходит, вероятно, от помета птиц.
Совершенно неожиданная картина рисовалась с Куйсу на западе-северо-западе. Казалось, что верстах в двадцати от острова находится другой, значительно больших размеров. У него был пологий северный скат, более крутой – южный и волнистая вершина. Вблизи этой скалистой массы не было видно ни коренного берега Куку-нора, ни каких-либо гор на горизонте. Наше недоумение еще более усилилось после того, что передал нам лама.
Он начертил окружность озера, посредине его – остров Куйсу, или Цорнин, как называли его отшельники, а у западного берега – другой остров большого размера. Он пояснил нам, что зимой, взяв с собой на спине запас пищи и воды, он ходил на этот остров, называющийся Цербаре. На нем не оказалось ни обитателей, ни воды, ни топлива. Монах считал, что до него такое же расстояние, как и до южного берега Куку-нора. Как истолковать эти противоречивые сведения о западном береге озера? Дело усложнялось еще тем, что впереди скалистой массы, вблизи ее южного края выделялась низкая полоса красного цвета. Нужно думать, что она была обособленной и о ней-то именно и говорил лама[233].
Казалось очень заманчивым распутать теперь же эти противоречия. На западном горизонте только и видно было описанную горную массу, поднимавшуюся из вод Куку-нора и казавшуюся столь близкой. В нашем распоряжении было еще пять-шесть дней, но состояние озера не внушало к себе доверия. Сегодня утро было тихим, на юге горы стояли в пыльной дымке, на севере едва выступали. Но с четырех часов вновь подул западный ветер и развел сильное волнение.
Днем, когда озеро еще слабо волновалось, товарищу удалось поймать на крючок рыбу. Она была зажарена и съедена на свежем воздухе в присутствии всех отшельников, не спускавших с нас глаз. Наш любознательный сосед тайком от своих соотечественников решился попробовать новое для него кушанье, и хотя есть его не стал, но и не отнесся к нему брезгливо.
Третьего сентября. Ветер и волны налетают по-прежнему с запада-юго-запада, берега не видно, горы в пыли, и только Цербаре выступает несколько яснее. Он не дает нам покою, и, чтобы менее тревожиться неопределенностью своего положения, мы решаем, что следующий день будет последним для попытки к его достижению. Если погода не будет лучшей, то остается только подумать об обратном плавании.
Я имел, таким образом, достаточно времени для изучения строения острова, который оказался интересным не только с геологической, но и с археологической стороны.
Остров сложен из гранитов и гнейсов, стоящих друг к другу в очень сложных отношениях. Господствующей породой является грубозернистый биотитовый гранит желтого и красновато-желтого цвета. Однако нигде нет особенно массивных выходов этого гранита, так как всюду мы находим в нем разнообразные жилы. Чаще всего это жилы пегматита, встреченные в очень многих пунктах. Реже они образованы также биотитовым гранитом, более крупнозернистым. Так, например, у западного берега в одном месте лежит большой отторженец грубозернистого гранита, пронизанный перекрещивающимися жилами крупнозернистого гранита, незначительными по своей мощности.
Пегматитовые жилы чаще всего состоят из зерен кварца, ортоклаза, мусковита и турмалина, местами же обогащаются гранитами[234]. Они имеют различную мощность, обыкновенно в 0,5–1 м. Зерна тех или иных неделимых часто достигают крупных размеров, причем длинные кристаллы турмалина иногда располагаются сферически, сходясь своими тонкими концами к одному центру. Если излом через такой комплекс кристаллов проходит через центр, то турмалины образуют изящную розетку.
Наблюдается также характерное для пегматитов срастание кварца и ортоклаза. Хорошо выражено и зональное расположение тех или иных кристаллов, как в мелкозернистых, так и в крупнозернистых разновидностях пегматита.
В большинстве случаев жилы падают на север, и только апофизы идут в различных направлениях, как и трещины отдельности, наблюдавшиеся в гранитах.
Гнейсы острова не получают большого развития. Более значительные выходы их мы находим около пещеры третьего ламы и далее по западному берегу. Они смяты в крутые складки, крылья которых падают преимущественно на север и северо-северо-восток. Выход гнейсов есть также и на северном берегу Куйсу, около самой воды. Пласты их поставлены здесь на головы и уходят в озеро.
Гнейсы всюду пронизаны жилами крупнозернистого биотитового гранита. Чаще всего это пластовые жилы, то выклинивающиеся, то гнездообразно раздувающиеся.
Каких-либо других коренных пород, кроме гнейсов и гранитов, на Куйсу не было встречено, за исключением двух случайных находок. Одна из них представляет маленькую плиточку известняка с кораллами, вероятно, каменноугольного возраста. Эта плиточка лежала вместе с кусками белого жильного кварца, собранными у входа в кумирню верхней площади острова. Другая находка сделана среди камней обо в юго-восточном конце острова. Это большая плита аркозового песчаника с высеченными на ней буквами. Оба камня, вероятно, занесены на остров. Плиточка могла обратить на себя внимание своими иероглифами[235], плита – относительной мягкостью.
Из поверхностных пород прежде всего обращает на себя внимание лёсс, тонким покровом одевающий весь остров. Это типичный навеянный лёсс, достигающий наибольшей мощности свыше одного метра в центральной площадке. На склонах же острова из-под него нередко проглядывают коренные породы. В лёссе были находимы раковинки наземных моллюсков, сходные с ныне живущими на том же лёссе под камнями.
Другой породой острова, сильно развитой по западному берегу за пещерой третьего ламы, являются галечнощебневые скопления. Они состоят как из круглых, так и из угловатых кусков описанных уже гранитов и гнейсов и представляют, очевидно, продукты прежней разрушительной работы кукунорских волн. Мощность их достигает восьми метров, а верхней границей они заходят на тринадцать метров над уровнем озера, слагая верхнюю часть береговых обрывов и покрываясь только лёссом. Таким образом, лёсс образовался уже позже этих детритусов.
Делая общее заключение о происхождении Куйсу, мы прежде всего можем сказать, что остров образован крупным гранитным штоком, вторгнувшимся в свиту гнейсов. Вследствие интенсивных разрушительных процессов от последней уцелели только ничтожные обрывки, и мы видим теперь преимущественно поверхностные части гранитного штока[236]. На это указывает, с одной стороны, обогащение гранита жилами и, в частности, пегматитами, с другой стороны – сложные контактовые отношения между гнейсами и гранитами. Иногда пласты гнейсов как бы срезаны гранитом, в одном же месте среди гранита лежит гнездо гнейса, имеющее от 0,5 до 1 метра в поперечнике.
В орографическом смысле Куйсу представляет ничтожный остаток, вероятно, очень древнего могучего в свое время хребта, почти уже стертого с лица земли. К нему же я отношу как Цербаре и горы Джюр-мит на западном берегу Куку-нора, так и разрушенные гряды, лежащие к востоку Куку-нора и к северу от р. Ара-гол. Не считая здесь уместным приводить доказательства своему заключению, укажу только, что в общей системе Нань-шаня этот хребет вклинивается между хребтом Потанина и Южно-Куку-норским и составляет, по-видимому, восточное продолжение хребта Гумбольдта, с которым его связывает хребет Бу-хындабан[237].
Будущим исследователям Куку-нора предстоит, между прочим, трудно разрешимый вопрос: делил ли указанный хребет когда-либо Куку-нор на две части, что я склонен допустить. В таком случае детальные промеры озера должны обнаружить подводную гряду, идущую с запада-северо-запада на восток-юго-восток через остров Куйсу.
Н. М. Пржевальским была подробно записана легенда о происхождении Куку-нора и острова Куйсу[238]. Параллельно с высказанными здесь взглядами о происхождении острова интересно вспомнить относящуюся сюда часть этого рассказа. В очень древнее время на месте Куку-нора была обширная равнина, а озеро находилось под землею в Тибете, на месте нынешней Лхасы. В наказание за выдачу одной тайны стариком, жителем равнины, последняя была затоплена разгневанным божеством, причем погибло множество животных и людей. Вода изливалась через отверстие в земле. Наконец бог сжалился. По его приказанию чудовищная птица взяла в Нань-шане огромную скалу и закрыла ею отверстие. Эта скала и есть Куйсу – «Пуп».
На западном берегу при исследовании скал случайно был открыт большой грот. Он находился под большим обрывом за жилищем третьего ламы, но пройти к нему можно только с северной стороны, пробираясь под скалами, по разбросанным здесь каменным глыбам. В гроте устроен род кумирни. У задней стенки висит образ, поставлены цаца и модели субурганов. Поперек грота протянута веревка. На нее навешано множество бараньих лопаток, покрытых надписями. Наверху обрыва около грота – каменный ящик с ца-ца.
Начинаясь от пещеры первого монаха вдоль восточного и северного берега тянется узкая, местами прерывающаяся полоса, прижатая к скалистому обрыву. Начало последнего чаще всего совпадает с высотой в 3,3 метра над уровнем озера, и нельзя сомневаться в том, что этот уступ представляет отметку прежнего, более высокого уровня Куку-нора. В то время Куйсу, по-видимому, со всех сторон обрывался в озеро скалами, перешеек же был под водой[239] – и северо-западный мыс острова был самостоятельным островком. Интересно отметить, что среди террас, замеченных мною на южном берегу Куку-нора, одна лежит тоже на высоте в 3,3 метра. При понижении уровня озера с указанной высоты до современной, ни на западном, ни на южном берегу (за исключением перешейка и юго-восточной оконечности острова) прибрежной полосы не образовалось, нужно думать, потому что прибой с западной стороны был наиболее сильным. Силу же прибоя в свою очередь, следует поставить в зависимость от господства западных ветров, а также, может быть, от крутого подводного ската острова к западу и югу. Лагуна и галечный юго-восточный мыс острова образовались благодаря комбинированному действию прибоя различных направлений.
От скалистых береговых обрывов к центральной площадке острова идут более или менее крутые скаты, на которых местами заметны резкие уступы. Так, вблизи юго-восточного конца основание такого уступа лежит на высоте 26,4 м. На краю этого второго уступа стоит большой полуразрушенный субурган, наполненный цаца.
Еще выше, на 44,5 м над уровнем озера, замечается третий уступ, который довольно резко обособляется почти со всех сторон центральной площадкой. В южной части этот уступ сильно изрезан оврагами.
В этих высокорасположенных уступах я тоже вижу остатки береговых террас. Правда, я не нашел у их подножья галечных скоплений, которые решили бы вопрос о происхождении этих уступов, но зато на берегах Куку-нора, несомненно, есть столь же высокие террасы.
Скаты самой площадки в верхней части очень круты. С юго-востока крутой скат поднимается только с высоты приблизительно в 67,5 м, с остальных же сторон, особенно с юго-западной, он начинается ниже. И отсюда центральная площадка имеет вид солидной крепости. Форма ее представляет прямоугольник, большие стороны которого идут с северо-запада на юго-восток. Длина их достигает 225 метров, тогда как короткие стороны имеют только по 130 метров. Края площадки, несколько приподнятые над ее внутренней частью, достигают 80 метров высоты над уровнем озера. Они сильно изрыты и покрыты конической формы насыпями. На северо-восточной стороне шесть таких конусов, один из которых – угловой, юго-восточный – представляет высший пункт острова. Это – крупное обо. Верхняя часть его, сложенная из камня, имеет 1,5 метра высоты и покоится на обширном земляном пьедестале, состоящем, по видимому, из перерытого лёсса. В нем был найден обломок лошадиного черепа.
Большинство конусов сильно разрушилось, но в двух хорошо сохранились пещеры, и нужно думать, что и другие насыпи служили когда-нибудь местом обитания или были увенчаны обо. Внутренняя поверхность площадки всюду была покрыта ямами, в которых, очевидно, брали материал для постройки насыпей. Никаких построек на ней нет, за исключением одного субургана, стоящего вблизи северо-восточного угла.

Начало поселений на острове теряется в глубине веков. По преданию, еще тугухуньцы[240], владевшие Кукунорской областью с 312 по 663 г., пользовались островом для разведения чистокровной породы лошадей[241]. Интересно поэтому с точки зрения геологических данных осветить вопрос, не могла ли в прежнее время территория острова быть более значительной. На первый взгляд, последовательное усыхание озера дает на это отрицательный ответ, но в действительности поверхность острова могла быть прежде и более обширной. Не касаясь того более отдаленного, вероятно, еще доисторического времени, когда могли образоваться верхние уступы Куйсу, перейдем ко времени, непосредственно предшествовавшему нашему, к тому периоду, в который уровень озера понизился на последние один – пять метров.
Это был, нужно думать, настолько продолжительный период, что, несмотря на небольшой прирост за это же время береговой полосы с севера и востока, общие размеры острова могли значительно сократиться вследствие разрушительных процессов. Вспомним работу волн, особенно разрушительную на западном берегу, на что указывает, между прочим, северо-западный мыс, обрывающийся к западу зубчато изрезанным обрывом, вспомним также единство происхождения Куйсу с горами Джюрмит и прилегающим к ним полуостровом; тогда мы без особенной натяжки можем даже указать, что территория прежнего острова была несколько больше, главным образом благодаря его продолжению к западу. Исследование рельефа дна озера вблизи Куйсу может доставить основательное подтверждение этому взгляду. В настоящее время остров вытянут с северо-северо-запада, на юго-юго-восток, что стоит в противоречии с господствующим направлением в его тектонике. Эта несимметричность, вероятно, также обязана своим происхождением главным образом работе прибоя и, может быть, частью произошла даже в историческое время. Центральная площадка, вытянутая с северо-запада на юго-восток, не окапывалась ли еще в то время, когда весь остров был растянут в том же направлении?
Приходится поэтому думать, что первые поселения на острове относятся еще к тому времени, когда скалы обрывались непосредственно в озеро и не могли дать приюта под своей защитой. Тогда наиболее пригодной для жилья была признана верхняя часть острова. Мало-помалу по ее окраине возникает род крепостного вала – работа многих отшельников в продолжение, вероятно, нескольких столетий. Ибо большое число насыпей говорит и о многочисленности рабочих рук, между тем как скромные размеры территории не допускают пребывание на ней значительной общины. Предполагать устройство крепостного вала с целью самозащиты нет оснований, так как естественное положение острова является его лучшим оплотом.
Хорошее состояние двух верхних пещер указывает на то, что они покинуты еще недавно. Человек оценил жизненные удобства южного побережья: там, наверху – постоянный натиск ветра, беспрепятственно налетающего с любой стороны; сюда, в глубокие ниши скал, за лабиринт искусственно воздвигнутых стенок, не проникает ни один порыв, ни одна брызга воды даже в то время, когда все западное и южное побережье находится в полной власти разбушевавшихся стихий.
В ночь на четвертое сентября волнение несколько поулеглось, но в семь часов утра по озеру уже вновь ходили белые гребни. Воспользовавшись относительным затишьем, около полудня мы выехали для промера глубины около острова, но лодку так качало, что пришлось отказаться и от этой попытки. Увлеченные исследованием самого острова, мы пропустили первые дни своего пребывания на нем, когда условия для измерения были более благоприятными. Пришлось оставить мысль и о поездке на Цербаре. Решив на другой же день в случае надежной погоды отплыть обратно с Куйсу, мы пустили условленную ракету.
Считая этот день последним во времени пребывания на острове, мы долго сидим в своем убежище, с которым мы уже почти сжились и перестали замечать его неудобства. Две свечи, взятые нами с берега, израсходовались еще третьего дня, и мы перешли на более скромное масляное освещение. Его устроил товарищ по образцу монашеских светильников, причем фитилем служили нитки и полый стебелек дэрэсуна.
Нервное состояние заставило нас ранним утром пятого сентября оставить свое убежище[242]. Но погода нас не порадовала. За ночь ветер переменился. Дул сильный ост-норд-ост. По озеру ходили белые гребни. Небо на три четверти было в облаках. Мы решили помедлить с отплытием. Монахи тоже были в возбужденном состоянии. Они оставили свои молитвы и почти не отходили от нас. Каждый из них принес нам в дорогу припасов – чюры и масла, от которых мы не считали возможным отказываться.
В десять часов волны несколько поулеглись, и через полчаса мы отплыли. В момент отъезда почему-то не было нашего соседа, который сжился с нами более других, и мы уехали, не простившись с ним. Остальные монахи сидели на том месте, где лежала лодка, вероятно, до тех пор, пока мы не исчезли в волнах.
Еще на переднем пути мы заметили одно понижение в Южно-Куку-норском хребте. На него мы старались теперь держать лодку, хотя это было довольно трудно вследствие пыли, наложившей на горы густую вуаль. Берега не было видно.
Через четверть часа по отъезде мы сделали первый промер, давший в расстоянии всего трех четвертей версты [800 м] от острова совершенно неожиданную глубину в двадцать пять метров. На дне оказался очень мелкий песок. Еще через четверть часа глубина была 37,5 метра, но на дне уже ил двух цветов – синего и желтовато-серого. В трех верстах от берега глубина была уже тридцать метров.
По мере нашего движения ветер перешел в восточный. Ударяя в бок, волны сильно отбрасывали нас к западу. Над хребтом стали скучиваться облака. Мысль о том, что мы находимся в обратном пути, вероятно, придавала нам энергии, и мы сменялись только через полтора часа, реже, чем на переднем пути. Рыб мы на этот раз не видели. Посредине пути кругом нас вновь облетел баклан. Не был ли он тоже отшельником, обитателем открытых вод Куку-нора? В одном месте мы пересекли узкую полосу плавучей травы.
Над горами нависла туча. Хотя она заметно не двигалась, но от нее стал падать ветер почти навстречу нам. Волны выросли. Они бились теперь в левый край лодки, мешали равномерной работе весел и обдавали нас своими пенящимися гребнями.
На полпути выросли желтые береговые обрывы. Мы все время старались держать лодку влево из желания пристать к берегу против урочища Урто, где находился бивак экспедиции. Не зная положения последнего, мы пристально всматривались в береговую линию и около четырех часов как будто различили ожидаемое белое пятнышко. Вместе с тем стало ясным, что нам не удастся пристать против палаток: нас отбросило к западу дальше, чем мы предполагали.
Туча разошлась, но она, по-видимому, понизила температуру воздуха в горах, и оттуда стал падать холодный встречный ветер. В пять часов мы вступили уже в настоящую борьбу с волнами и ветром. На дне лодкипостепенно накапливалась вода. Озеро посылало на нас широкие валы. С угрожающим шумом рассыпались около лодки их белые гребни. Нас отбрасывало обратно в озеро. Казалось что-то предумышленное в этом препятствии, возникавшем на проделанном пути в то время, когда конечная цель была столь близкой. Но на этот раз борьба казалась более легкой. Хотя начинало уже темнеть, но все-таки мы хорошо различали своих противников. Белое пятно давно исчезло, берег слился в однообразную темную полосу, но вот внезапно выросла перед лодкой береговая коса, и в шесть часов сорок пять минут мы пристали к ней. Нас охватил безмерный прилив радостного ощущения, и мы горячо поцеловались.
За песчано-галечной косой расстилалась лагуна, но нам даже на минуту не хотелось без необходимости покинуть сушу. Сложив содержимое лодки посредине галечной косы, мы прикрыли его брезентом, придавив последний опрокинутой лодкой. Выход с косы нашелся, и мы пошли влево вдоль берега. Уже совсем стемнело, мы не могли узнать местность. Из озера, казалось, поднимался какой-то остров, которого тут не могло быть. Наконец мы заметили освещенную палатку бивака, который чуть было не прошли.
Нас радостно встретили не только члены экспедиции, но и сопровождавшие ее монголы и китайцы. Последние совсем не верили в благополучное плавание и с неподдельной радостью приветствовали нас. Всем хотелось узнать о тайнах Куйсу».
Пока Чернов и Четыркин плавали на Куйсу, я совершил стоверстную экскурсию в Южно-Куку-норские горы с целью ознакомиться с животной жизнью хребта. Меня сопровождали: препаратор Мадаев, сининский переводчик и проводник чамрусец – лама Рапсэн.

Вечером двадцать девятого августа, накануне нашего выступления, разразилась сильная буря, сопровождавшаяся мокрым снегом. К утру ветер стих, снег вскоре испарился, и мы выехали в десять часов, как и предполагали. Поднимаясь все выше по пологому горному скату, мы с каждым часом охватывали взглядом все больший и больший горизонт Куку-нора. Остров Куйсу заметно увеличивался в размерах, и контуры его возвышенностей так же, как и северо-западный мыс, контрастно выделялись своими очертаниями.
Вблизи дороги нам часто попадались навстречу тангуты, промышлявшие за антилопами.
Но вот, наконец, и перевал Хату-дурфун; кругом на альпийских лугах бесчисленное множество норок пищух; есть старое рытье медведей не только норок Lagornys, но даже и логовищ тарабаганов; до тех и других тибетский медведь (Ursus lagomyiarius [Ursus pruinosus] большой охотник. Поодаль в нескольких местах промелькнули резвые антилопы ада, грациозностью и проворством которых я не упускал случая полюбоваться. Во время прыжков по мягким холмам ада напоминает большой мяч, быстро катящийся и высоко отделяющийся от земли.
С высокого плато, общим характером напоминающего плато Тибета, то есть с мокрыми кочковатыми лугами – шириками[243] – тибетской осокой (Kobresia thibetica), к северу и югу вели тропинки, теряясь вдали, будто маленькие извилистые ручейки. В полуденном направлении простиралась долина – восточное продолжение Дабасун-норской. Священная гора Хату-лапци, отмеченная нами среди прочих высот еще на биваке, вырисовывалась теперь с особенной ясностью, открывая кормные луговые ущелья с кустами лозняка (Salix) и признаками свежих кочевок.
Как в этот, так и в следующие дни нашей экскурсии, мы ни разу не встретили медведей, хотя места были подходящие, да и проводник уверял, что они водятся здесь в изобилии. Из птиц мы добыли: дрозда Кесслера (Merula kessleri [Turdus kessleri]), дрозда рыжегорлого (Turdus ruficollis), горного вьюрка (Leucosticte haemotopygia [Leucosticte brandti haemotopygia]) и снигиревидную стренатку Пыльцова (Urocynchramus pylzowi); на одном из болот ютилась пара черношейных журавлей (Grus nigricollis), державшая себя почему-то строго.
При нашем возвращении на главный бивак нас радостно приветствовал фельдфебель Иванов, объявив мне с сияющим лицом: «Вчера [первого сентября] на Куйсу была ракета!». Этим давалось понять, что наша «скорлупка» благополучно доставила путников на остров. У меня с товарищами было условлено, что с их отплытием от берега озера на главном биваке ежедневно в девять часов вечера будут следить за Куйсу, за появлением двух ракет. Первая ракета должна быть пущена в день вступления на Куйсу или на следующий, вторая – накануне оставления острова. «Маленькой огневой змейкой мелькнула ракета и ободрила нас», – повторил мне несколько раз мой неизменный спутник Иванов. «Слава богу, – говорю я, – теперь будем следить за второй весточкой товарищей».
Три вечера подряд: второго, третьего и четвертого сентября стоял я у астрономического столбика, окруженный своими спутниками, а также сининскими китайцами и алашанскими монголами-подводчиками. Все мы собирались минут за десять до условленного времени и, вперив глаза в непроглядную тьму по направлению к Куйсу, стояли, словно на молитве. К девяти часам тишина превращалась в святую, торжественную; все смолкало; слышны были лишь удары часов, которые я держал в руке, следя за временем. В последний вечер, четвертого сентября, ровно в девять часов ночную тьму прорезал огневой штрих, блеснувший на один момент. Гробовая тишина была тотчас нарушена радостными голосами, особенно громкими на устах китайцев и монголов, не видевших появления первой ракеты.
На другой день в девять часов вечера, когда Куку-нор начал порядочно постукивать в берег, а наша надежда на ожидание – бледнеть, я заслышал голоса своих товарищей, подошедших к палатке. Радости нашей не было конца. Пошли бесконечные спросы и расспросы, рассказы и пересказы, казалось, мы никогда не наговоримся вдоволь.
С возвращением моих ближайших сотрудников из плавания экспедиция снялась с насиженного места и тронулась на восток вдоль берега озера. Проходя через тангутские стойбища, мы лишь изредка видели хмурые, злобные лица туземцев, украдкой выглядывавших на нас из черных «банагов»[244]. Свирепые псы бросались на верблюдов, готовые растерзать непрошенных гостей. Как-то неприветливо и неуютно было среди этих людей.
Выйдя из области тангутских кочевок, мы почувствовали невольное облегчение и радостно расположились лагерем у основания полуострова – мыса Чоно-шахалур, то есть «Волчий загон», оканчивающегося узкой песчаной косой, далеко вдавшейся в озеро. С одной стороны простирался глубокий залив Куку-нора, с другой – залегали пресные бассейны, носившие характер болотистых озерок; на них держалось много гусей, уток, турпанов и небольшие стайки куликов. В первую ночь стоянки в урочище Чоно-шахалур нас долго развлекал филин. Его глухой и зловещий голос в соединении с однообразным рокотом волн создавал оригинальное впечатление.
Наутро восьмого сентября в компании со своими старыми сотрудниками я отправился верхом знакомиться с мысом и его продолжением – песчаной косой. Высокий песчано-глинистый мыс Чоно-шахалур по мере удаления в область озера постепенно суживался и, дойдя до пятисаженной ширины, довольно круто обрывался, превращаясь в песчано-галечную отмель, протянувшуюся дугой еще на целую версту.
С северо-запада, со стороны открытых вод, отливавших зеленоватым оттенком, гремела высокая волна, сбиваясь в жемчужную пену; с другой стороны темноголубая поверхность лишь слегка колыхалась. Песчаная отмель была унизана птицами: чайками, гусями, утками, бакланами. Поодаль настороже плавала пара лебедей со своими взрослыми птенцами. На всем видимом пространстве озерного залива, качаясь на волнах, темнели птицы – осенний пролет плавающих был в полном разгаре. Занятые рыбным промыслом орланы-долгохвосты по-прежнему или проносились вдоль берега, или темнели точками на его возвышениях.
Проходя по песчаной косе с одним из своих спутников, мы неожиданно наткнулись на темный предмет, обмываемый волнами и выброшенный, очевидно, прибоем. Приблизившись к находке, мы обнаружили, что это лисица, по всей вероятности, утонувшая лишь недавно, так как ее мех был в хорошем состоянии. Осмотрев зверя со всех сторон, мы нашли его очень интересным и включили в общую маммологическую коллекцию. В течение двух дней стоянки экспедиции в «Волчьем загоне» Четыркин с переводчиком Полютовым произвели два плавания с измерением глубин, приняв исходным пунктом песчаную косу. Первое плавание – к северу на семь верст в область открытых вод Куку-нора обошлось вполне благополучно; второе плавание к юго-востоку – по заливу, образуемому с одной стороны мысом, с другой – прилежащим берегом Куку-нора, закончилось аварией: железная поперечная скрепа лодки лопнула, что вызвало расхождение бортов, отказ уключин и быстрый поворот лодки в сторону. Борясь с порядочной волной, наши путники едва справились с суденышком и поспешили выброситься на берег. Таким образом наша лодка, отслужив свою службу и сделавшись вполне достойной «спутницей» экспедиции, закончила свое существование.
Между прочим, считаю своим долгом заметить, что для плавания по Куку-нору необходимо иметь порядочную лодку, а еще лучше – катерок морского типа. Пускаться же в путь с такими примитивными средствами, как это делали мы, я не советую никому.
Исследованием Чоно-шахалур наши работы на Куку-норе закончились: я счел вторую задачу экспедиции посильно выполненной и отдал распоряжение к выступлению в обратный путь, – к Синину.
Жалко и грустно было покидать дикое своенравное альпийское озеро; оно дало нам столько прекрасных, незабываемых по своей прелести и новизне минут. Это вечно живое лазурное «море» ласкало и баюкало нас своим мягким несмолкаемым шепотом и чаровало своей безграничной далью. Прощай, гордый красавец! Если бы ты умел говорить, много тайн поведал бы ты нам о своем интересном прошлом. Десятки, сотни веков назад ты, так же как и сейчас, сторожил дикие, первобытные народы. На твоих берегах происходили жестокие битвы, твои воды окрашивались кровью, одни племена сменялись другими и только твое сердце – Куйсу оставалось чуждым борьбы.
Провожая нас, Куку-нор был спокоен, великолепно отражая темную синеву глубокого неба.

Глава пятнадцатая. Через Синин в Гуй-дуй
Обратное следование в Синин. – День в Донгэре. – Встреча с П. Я. Напалковым. – Получение почты. – Впечатление китайцев о нашем плавании по Куку-нору. – Отъезд геолога экспедиции на родину. – Движение экспедиции на юг – в Гуй-дуй. – Перевал Лачжи-лин. – Ущелье речки Га-жа. – Долина Хуан-хэ и переправа через эту реку. – Оазис Гуй-дуй; его обитатели.
Итак, наш караван, вытянувшись длинной вереницей, двинулся к востоку. Теперь кочевники встречали экспедицию с особым уважением и любопытством, расспрашивая подробно о нашем плавании на остров Куйсу, и внимательно прислушивались к рассказу об отшельниках-ламах, живущих в одиночестве среди бушующего «моря»; тангуты улыбались, с изумлением кивали головами и поднимали кверху большие пальцы рук в виде особой похвалы нашему мужеству.
Приближалась осень. Тихими прозрачными ночами мороз достигал уже –6°С, так что к утру земная поверхность серебрилась инеем, а полотно палатки покрывалось ледяной коркой. Температура воды в озере оставалась еще сравнительно высокой: в 1 час дня отсчеты термометра давали около двенадцати градусов тепла.
Зачуяв приближение холодной поры, пернатые странники потянули к югу. Мы ежедневно видели в пролетном порядке большие стаи серых журавлей, гусей и уток. Показывались также и высокодолинные черношейные журавли (Grus nigricollis), равно Gallinago gallinago, Totanus calidris и другие более мелкие кулички и некоторые нежные формы из прочих отрядов; все одинаково стремились в далекие теплые края.
Утром, в восемь с четвертью часов десятого сентября, мы наблюдали довольно оригинальное явление: над северо-восточными горами, ниспадавшими к Куку-нору и убеленными в верхнем поясе снежным покровом, стояла густая туча; от нее обрывалась однообразно-серая дымчатая завеса, по фону которой спускалась лента более густой и темной окраски, резко выделяясь на сером небе; временами эта лента видоизменяла свои очертания, а минуты через три исчезла совершенно.
В урочище Цунгу-джэра[245], как и в предыдущий путь, экспедиция остановилась биваком, но в прозрачной речонке мы уже не нашли никакой жизни. Напрасно мои спутники забрасывали сети – рыбы не было, она ушла в глубь озера. Надвигавшаяся суровая пора незаметным образом накладывала на окружающую природу свою тяжелую угрюмую печать.
Проходя по тем местам, где летом росли буйные травы, склонявшие свои головки под дыханием ветерка, мы не узнали степи. Корма были основательно вытравлены: везде пестрели стада баранов, яков, табуны лошадей и темные банаги туземцев, довершавшие картину большого тангутского стойбища.
Поднимаясь к перевалу Шара-хотул, экспедиция вскоре оставила за собою речки Ргмыд-чю, правый приток Куку-рачю и развалины китайских ямуней и ямпаней – управлений и цитаделей, некогда служивших средоточием представительства китайской власти. В одной из горных «падей», над которой вились грифы и бородачи-ягнятники, я неожиданно заглядел лисицу. После выстрела из винтовки зверь свернулся в клубок, однако, заслышав топот копыт скакавшего казака, он собрал последние силы, дополз до ближайшей норы и бесследно скрылся в ее глубине.
С вершины Шара-хотул мы последний раз с большою грустью оглянулись на далекий голубой Куку-нор и седовласый Сэр-чим. Впереди простирался знакомый горный ландшафт, а дальше залегали аккуратные прямоугольные участки хлебных полей. Узнав от туземцев, что в вершине ближайшего бокового ущелья находятся залежи каменного угля, я предложил геологу экспедиции заняться исследованием означенного места, с тем чтобы вновь присоединиться к главному каравану в Синине. А. А. Чернов так и сделал.
По мере спуска в долину Донгэра температура воздуха ощутительно повышалась, дожди прекратились, и наступила сухая, ясная осенняя пора. Листва на деревьях пожелтела и осыпалась. Пролетные птицы по-прежнему развлекали нас: вверх по долине навстречу нам неслись одна за другою необыкновенно многочисленные стаи журавлей; их оригинальные голоса доносились до нашего слуха со страшной высоты в виде странного мелодичного свиста, характер и причину которого сразу трудно было определить. В солнечные дни на припеке все чаще показывались различные насекомые, воздух иногда был полон их жужжанием, а однажды вблизи Синина на кустах тальника я нашел даже целый рой ос, державших себя, правда, крайне апатично.
В Донгэре мы пробыли всего один день и шестнадцатого сентября уже вступили в Синин[246], где нас встретил капитан Напалков, успешно совершивший экскурсию в провинцию Ганьсу.
Разъезд П. Я. Напалкова охватил своим маршрутом больший район, нежели тот, который предполагался вначале; кроме того, сам маршрут удачно расположен по отношению к местам, исследованным нашими предшественниками. Таким образом моему помощнику удалось посетить совершенно неведомый угол Ганьсу и впервые поставить на карту названия девяти новых городов[247].
Получив два пакета почты, мы прежде всего занялись чтением писем; как всегда, дорогие вести с родины принесли одним радостные новости, другим печальные. Наш А. А. Чернов был крайне удручен сообщениями из дома и настолько расстроился, что счел свое дальнейшее пребывание в экспедиции невозможным и официально заявил мне о необходимости вернуться в Россию. Я, конечно, не счел себя вправе удерживать сотрудника в экспедиции против его воли и тотчас приступил к снаряжению обстоятельного транспорта в Алаша; решено было, что геолог возьмет с собою часть коллекций и весь лишний груз в количестве семи вьюков.
Сининские власти приняли экспедицию отменно ласково и любезно; нам отвели отличный дом, расположенный в самом центре города. Молва о нашем плавании по Куку-нору и работах на этом озере, сведения о миролюбивом отношении туземцев быстро облетели Синин и породили много толков и рассуждений. Всех особенно изумляло, что из нас никто не утонул. Цин-цай и прочие чиновники Синина при встрече с нами исключительно говорили о нашем плавании по Куку-нору, о посещении острова, и все они с большим интересом рассматривали лодку в собранном и разобранном видах, даже пробовали садиться в нее и просили показать Чернова и Четыркина их руки, на которых все еще сохранялись основательные мозоли. В конце концов цин-цай сказал: «Вы, русские, первые плавали по Куку-нору, первые сказали нам о глубине Цин-хая и первые иностранцы, посетившие остров Куйсу, или Хай-синь-шень; обо всем этом я непременно сообщу в Пекин».
Чтобы не ослаблять прекрасных отношений и того хорошего впечатления, которое я получал после каждого нового свидания с сининскими властями, я счел излишним напоминать прежние уверения цин-цая о том, что в Куку-норе тонут не только камни, но и дерево, это было само собою очевидно.
Дни пребывания в Синине проходили незаметно: снаряжение каравана геолога экспедиции, с одной стороны, сортировка и упаковка коллекций – с другой, постоянные визиты сановных китайцев и посещение торговцев – все это делало жизнь крайне разнообразной и утомительной. Услужливые коммерсанты приносили на бивак бурханы, различные этнографические предметы и однажды предложили нам даже живую дикую кошку, приобщенную впоследствии к нашему естественнонаучному собранию. Среди всех этих занятий мало приходилось быть наедине со своими мыслями, мало оставалось времени для вдумчивой планировки последнего заключительного периода экспедиции. Далекая богатая Сычуань сильно манила, тянула к себе душу исследователя живой роскошной природой, но вместе с тем желание повидаться с Далай-ламой, приезда которого ожидали в Гумбуме, задерживало меня в районе этого монастыря.

Двадцать седьмого сентября из Синина выступил алашанский верблюжий караван во главе с геологом Черновым; в помощь моему сотруднику были даны двое казаков – Бадмажапов и Содбоев; первому вменялось в обязанность возвратиться в экспедицию из Алаша-ямуня, второму приказано проводить Чернова до Урги, а затем находиться при складе в Алаша.
Главный же караван, состоявший из мулов[248], отлично приспособленных для движения в горах, покинул резиденцию цин-цая тридцатого сентября и успешно зашагал в юго-юго-западном направлении.
Дорога постепенно поднималась, следуя среди хлебных полей и селений; переночевав в разоренной дунганами деревне Шин-джун, начавшей заселяться дунгано-далдами, мы выступили с первыми лучами солнца, красиво позолотившего высокие, укрытые снегом вершины протянувшегося на юге хребта.
Этот альпийский хребет, поперечно лежавший на пути экспедиции, вздымался ровной зубчатой пилообразной стеною, обнажая скалистые утесы, богато развитые как в верхнем, так и в среднем и нижнем поясах. Оба склона горного массива одинаково труднодоступны, только с северной стороны движение затрудняется, кроме крутизны, еще обледенением и глубоким снеговым покровом, тогда как на южном склоне тропинки каменисты и сухи; на южном склоне снег совершенно отсутствовал.
Вскоре местность заволновалась луговыми складками, сбегавшими от подножья гор. Прежде чем вступить в русло речки, катившей свои воды по ущелью прямо с перевала Лачжи-лин, мы сделали остановку в месте соединения трех дорог – гумбумской, гуйдуйской и сининской[249]. По мере приближения к перевалу ущелье суживалось, становилось круче и каменистее; рокот речки усиливался.
Впереди и позади нас, змееобразно извиваясь, двигались почти сплошной лентой паломники-буддисты, спешившие в Гумбум на праздник. Молодые тангуты собирались веселыми пестрыми группами и оживленно болтали, перегоняя степенных, хмурых стариков, угрюмо перебиравших четки с неизменной молитвой «ом-ма-ни-па-дмэ-хум» на устах. Все эти лихие туземные всадники с любопытством и завистью взглядывали на нас, провожая хищным взором отличное вооружение участников экспедиции.

Перевал Лачжи-лин расположен на высоте 11550 футов [3520 м] над уровнем моря. К северу и югу сбегают крутые ущелья и лога, укрытые ковром луговых пастбищ; еще ниже – на дне долин – темнеют густые заросли облепихи (Hippophаe rharnnoides) и других кустарников, дающих приют многочисленному пернатому населению; там обитают фазаны Штрауха, сифанские куропатки, крикливые Pterorrhinus davidi, Trochalopteron ellioti, рыжегорлые дрозды, большие и маленькие изящные синички (Leptopoecile sophiae), краснохвостки рыжебрюхие, дятлы, водяные оляпки и немногие другие. В верхнем поясе гор высоко в синеве неба можно почти постоянно видеть грифов, бородатых ягнятников и изредка царственного хищника – орла-беркута, гордо проносящегося вдоль самых главных вершин. Из зверей в горах наблюдались лишь лисицы, зайцы и самые мелкие грызуны.
По обе стороны хребта мы встретили особые пикеты, состоявшие из десяти человек милиционеров, обязанных сопровождать проезжих чиновников, казенные транспорты и корреспонденцию, при случае эти же разъезды преследуют воров и разбойников, промышляющих кое-где в наиболее диких участках гор.
С вершины перевала Лачжи-лин, благодаря прозрачности воздуха, открывалась далекая панорама к югу. В этом направлении залегал сплошной лабиринт гор, изборожденных ущельями и долинами рек и речек. Самые отдаленные горные цепи синели и сливались с небесным сводом. Приблизительно на половинном расстоянии охваченного взором пространства горы понижались и словно проваливались в пропасть, образуя поперечную трещину, там и сям зиявшую темной синевой – это гигантское углубление Желтой реки, проложившей себе в лёссовых толщах извилистое ложе. Лессовые толщи проникают языками в глубь горных ущелий и часто стоят в виде глубоких мрачных коридоров, по которым в период летних дождей стремительно бурлят мутные потоки. Несмотря на страшную крутизну полуденного склона, в особенности в самом верхнем поясе гор, мы все же довольно успешно продвигались вниз. По мере спуска в средний пояс хребта местность все более и более оживлялась тангутским земледельческим населением. Следуя вдоль по течению прозрачной звонкой речки Га-жа, впадающей непосредственно слева в Хуан-хэ, мы отметили довольно большое количество мельниц, теснившихся по дну ущелья, тогда как по высоким террасам справа и слева красовались буддийские монастыри, блестя яркой белизною стен и золочеными украшениями кровель.
Неподалеку от селения Чан-ху, где мы ночевали, отрадно зеленеют участки елового леса, лепящегося по страшной крутизне. Судя по расспросным сведениям, в этих лесах водятся лисицы, волки, зайцы и кабарга, а из промысловых птиц – красные и голубые фазаны.
Второго октября наш караван оставил окрестности Чан-ху еще в темноте, не дожидаясь восхода солнца; всем нам одинаково хотелось в один переход осилить оставшиеся 40 верст до Гуй-дуя.
Желанный оазис, зимний приют экспедиции, долгое время не открывался нашим нетерпеливым взорам, скрываясь за обступившими его высотами. Только выйдя в долину Желтой реки, мы увидели протянувшийся по правому берегу к западу-юго-западу сплошной золотистый тополевый лес, прятавший под своей сенью серо-желтые глинобитные жилища гуйдуйских обитателей.
Усталые, мы поспешили расположиться биваком на укромной и кажется единственной свободной луговой площадке, по соседству с холмом, его пещерно-лессовым жилищем бедняков китайцев.
Вблизи Гуй-дуя Хуан-хэ имеет довольно быстрое течение и, не вмещаясь в главном глубоком песчано-галечном[250] змееобразном русле, разбивается на несколько северных рукавов, поверхность воды у которых в местах бродов касалась живота лошади. Прозрачная осенняя вода в реке сохраняла сравнительно высокую температуру – +13°С, да и в согретом ярким солнцем воздухе все еще попадались на глаза бабочки, мухи и жуки; лишь опавшая пожелтелая листва с деревьев да пролетные птицы – коршуны, дрозды и другие, говорили о надвигающихся холодах. Утром следующего дня мы наблюдали плоскоголовую ящерицу, лягушек, а несколько позднее отметили белую цаплю. Чепура почти беззвучно, украдкою пронеслась над лагерем, отливая яркой белизной на угрюмом фоне помертвевших горных скатов.
Переправа через Хуан-хэ совершается на довольно больших плоскодонных ладьях.
Вблизи переправы теснилась оживленная толпа народа: едва приставшая к берегу, ладья быстро опоражнивалась – из нее наперегонки выскакивали кони, мулы, люди; раздавались веселые крики, визг, ругательства. Тут же среди толкотни неизменно сновали торговцы грушами и разным хламом.
Тин-гуань озаботился предоставлением экспедиции всех удобств при переправе. Наш многочисленный багаж без особого труда был погружен на самую вместительную ладью и в два приема переправлен на правый берег.
В месте переправы Хуан-хэ имеет широкое, до полуверсты, галечное русло, хотя основной фарватер реки едва ли превышает сто пятьдесят сажен [300 м]. Общее направление долины, как уже и указывалось выше, восточно-западное с большим или меньшим уклонением к северу или югу. Освободившись от причала, ладья обыкновенно отдавалась воле течения ибыстро неслась вниз по реке, но, следуя излучине, в то же самое время постепенно приближалась к противоположному берегу; перевозчики при этом усиленно работали гигантскими веслами, заменяющими руль, и, несмотря на смех, шутки и песни, всегда успевали в нужный момент пристать к твердой земле и ловко закрепить ладью к устоям солидными канатами.
На правом берегу экспедицию встретили чиновники города, проводившие нас до предназначенного путешественникам места стоянки – храма Вю-цзы-мяо[251]. Вначале нам предложили остановиться внутри города, но я уклонился от такого рода расквартирования экспедиции и предпочел избрать изолированный китайский храм, красиво расположенный на высотах, окаймляющих оазис с юга. Отсюда можно было любоваться Гуй-дуем, прелестным осенним расцветом листвы его садов и прилежащими горами, разорванными могучей рекою Хуан-хэ. Листопад значительно усилился, и светлая лента реки выделялась особенно резко.
По утрам и вечерам по дорогам оазиса и в окрестных лощинах мы замечали движение каких-то фигур, бродивших из стороны в сторону. В бинокль хорошо было видно, что это женщины[252], согнувшись, аккуратно подбирали в особые мешки опавшие листья и навоз животных, служившие им топливом.
Длинная нить тангутских караванов, проходящих через оазис, почти не прекращалась, так как здесь скрещивались пути в Лавран, Рачжагомба и Синин.
Оазис Гуй-дуй лежит на высоте 7440 футов [2268 м] над уровнем моря и состоит из маленького уездного города Гуй-дэ-тина, обнесенного крепостною стеною, и нескольких сот фанз с лугами, пашнями и садами, рассыпанными по берегам двух речек: западной – Дун-че-гоу[253] и восточной – Лан-дю-гоу[254], впадающих в Хуан-хэ справа[255]. Между речками, разделяющими оазис на три части – восточную, среднюю и западную, причем первая и последняя узкими длинными лентами убегают в глубь ущелий – залегает горная гряда, протянувшаяся с юга на север и увенчанная на своей оконечности, в двух верстах от города, большим храмом и пагодой, расположенной на соседней с храмом командующей вершине[256].
Построенные около трехсот лет тому назад город Гуй-дуй и его крепостные стены со стороны дунган подверглись разрушению и были в свое время отделаны заново. К сожалению, о первоначальном Гуй-дуе, интересном в историческом отношении, не сохранилось даже достоверного письменного источника, так как, по словам китайцев, все имеющиеся описания сильно приукрашены.
В настоящее время общее число жителей в Гуй-дуе достигает девяти с половиной – десяти тысяч душ, из них три четверти приходится на коренное китайское население и только одна четверть – на хара-тангутов. После своего восстания дунгане здесь не селятся; только две дунганские семьи остались жить в городе по-прежнему.
За крепостными стенами, вблизи ямуня, скрываются лишь немногие китайские купцы и ремесленники, главный же базар сосредоточен вне города и составляет несколько улиц, заполненных китайскими глинобитными фанзами-лавками. За право торговли купцы вносят в ямунь семь-восемь лан серебра ежегодно; торговцы средней руки платят лишь один-три лана, а за «лотки» не взимается никакой платы; в лавках держат преимущественно хлеб, чай, материи и прочие предметы первой необходимости. Все перечисленные товары обмениваются на сырье (шерсть, кожи, овчины, масло, скот), доставляемое номадами, с коих тоже взимается за право пребывания в городе семьдесят чох с головы животного.
В некотором расстоянии от города, ближе к горам, живут китайцы и оседлые тангуты, занимающиеся огородничеством, хлебопашеством и скотоводством. На огородах разводят преимущественно лук, редьку, морковь, капусту, горох, бобы, картофель, а также огурцы, дыни и арбузы. На полях возделываются: ячмень (двух сортов), пшеница, крупный и мелкий горох, просо, мак и пр. В Гуй-дуе земля расценивается очень дорого: так называемая «му», или одна шестнадцатая часть десятины стоит около десяти – двадцати лан серебра; кроме того, с каждой му полагается еще вносить в ямунь меру[257] зерна или точнее: с двух му – десять – одиннадцать фунтов зерна.
Богатые китайцы располагают участками в сто двадцать «му», землевладельцы средней руки довольствуются восемьюдесятью «му»[258], а бедняки – восьмью или десятью «му». Китайцы вообще любят землю[259] и возделывают ее с заботой и усердием, собирая средний урожай сам-восемь и больше. Первый пахарь на сухих полях в Гуй-дуе появляется седьмого – девятого февраля, а недели через две он уже обрабатывает землю, с осени «напоенную влагою». Система оросительных каналов у китайцев доведена до совершенства. Вдоль этих каналов красуются тополя (Populus Przewalskil и Р. Simoni), реже встречаются заросли хармыка, тальника или ивы (Salix babilonica) и облепихи, к которым в долине Хуан-хэ выше оазиса примешиваются кусты барбариса (Berberis caroli), а ниже – порядочные деревца тамарикса (Tamarix Pallasi). В самом оазисе по садам нередка сирень Syringa pubescens var. tibetica и шиповник или дикая роза (Rosa)[260].
По берегам быстрых прозрачных речек, омывающих оазис, всюду виднеются ряды мельниц, образцово работающих.
Из фруктовых деревьев в Гуй-дуе больше всего славятся груши (трех сортов), приносящие отличные плоды, в свою очередь также подразделяющиеся на сорта, а именно: тьян-ли – крепкие, сахаристые, несколько тяжелые для желудка груши; дунго-ли – идущие больше в мороженом виде, и, наконец, самые сладкие и сочные груши, известные под названием вуар-ли. Грушевые деревья имеются почти около каждой фанзы; состоятельные китайцы исчисляют свой доход в тридцать пять лан[261], средние обыватели – на половину меньше, а бедняки получают лишь одну четверть или даже одну пятую того, что имеют крестьяне средней руки.
Груши так же, как и прочие фрукты – абрикосы и черешни, сбываются в Синине, Гумбуме и даже в Лань-чжоу-фу, где они, как говорят, в цене.
Та часть населения Гуй-дуя, которая занимается скотоводством, разводит, главным образом, рогатый скот, баранов, яманов, ослов, мулов и лошадей; в городе многие обитатели имеют свиней, а куры составляют необходимое достояние каждого поселянина.
Гуйдуйские китайцы – народ скорее угрюмый, нежели веселый; пение можно услышать лишь изредка, да и то на устах молодежи, распевающей иногда по вечерам только для того, чтобы нарушить жуткую окружающую их тишину и заглушить собственный малодушный страх; так, по крайней мере, мне поясняли старые китайцы.
Мужчины большею частью крайне ленивы, медлительны и апатичны, а женщины, наоборот, чрезвычайно трудолюбивы и успешно исполняют все домашние и полевые работы; осеннею порою нам пришлось наблюдать женщин, сотнями занятых, помимо сбора сухих листьев, еще и кропотливым трудом по орошению пашен. Походка представительниц прекрасного пола легкая и грациозная; при встрече они держат себя очень приветливо и непрочь поболтать с посторонними. Китаянки не лишены известной доли гордости; среди них довольно обыкновенны случаи самоубийств[262], являющихся следствием стыда или какой-нибудь горькой обиды. Так, например, однажды в Гуй-дуе произошел следующий случай: молоденькая женщина, только недавно вышедшая замуж, проходила как-то летом вдоль поля, засеянного бобами; искусившись аппетитными овощами и не видя кругом ни одной живой души, она набрала их целую корзиночку и отправилась домой. В этот момент за ее спиной раздался грозный окрик мужчины, который, выбранив несчастную за воровство, ударил ее по лицу. Вернувшись к мужу, бедная женщина выбросила злосчастные бобы и, не показываясь никому на глаза, бесследно исчезла. Говорят, что с горькой печали она окончила жизнь в водах быстрой Хуан-хэ.
Одежда местных китайцев очень скромна, и в ней преобладает национальный синий цвет. Китаянки носят обычные темные штаны (щеголихи делают их фиолетовыми) и короткую красную курму, шитую на вате и отороченную пестрой тесьмой. Поверх красной курмы нередко одевается еще тонкий длинный синий халат, а в холодное время года – и черные широкие невыразимые. Женская обувь почти ничем не отличается от мужской, так как в Гуй-дуе китаянки не уродуют своих ног; лишь некоторые, особенно кокетливые дамы, подбивают к обыкновенной туфле еще второстепенную маленькую подошву, которая оставляет на земле еле заметный, словно детский, изящный след. Это делается с целью создать эмблему прежней маленькой ножки или, так называемой «золотой лилии»[263].
Живя в непосредственной близости с тангутами, гуйдуйские китайцы часто вступают с ними в кровное родство и с детства изучают тангутский язык; кроме того, в большинстве случаев они исповедуют буддийскую религию: Во время нашего пребывания в Вю-цзы-мяо я лично имел случай не один раз убедиться в том, с каким благоговением китайцы подходят к буддийским святыням.
Своих покойников местные обитатели хоронят на полях по углам, где впоследствии произрастает колючий кустарник – хармык.
Тангуты, с своей стороны, знают почти исключительно только свой родной язык; они управляются особым гуйдуйским старшиною-тангутом чан-ху, имеющим четырех помощников – бэй-ху. Кроме земледелия и скотоводства тангуты занимаются еще извозом, считающимся у них особой повинностью[264].

Глава шестнадцатая. Три месяца в оазисе Гуй-дуе
Хорошие отношения с местным населением. – Предсказание гэгэна в пользу экспедиции. – Симпатичная китайская администрация. – Птицы оазиса. – Театр. – Периодические почты. – Моя поездка в Чойбзэн-хит. – Гостеприимство чойбзэн-хутухты. – Попутное посещение Синина. – Гриф-монах. – Приезд Ц. Г. Бадмажапова, отрадная весть географического общества. – Новые перспективы. – Горячие ключи Чи-гу. – Новый год. – Сборы в зимний путь.
Обосновавшись в тихом и теплом оазисе Гуй-дуе, в лучшем и изолированном его китайском храме Вю-цзы-мяо, где мы рассчитывали провести мягкую гуйдуйскую зиму целиком, члены экспедиции очень скоро приобрели доверие местного населения. Не только китайцы, но и тангуты ближайших окрестностей часто со скуки наведывались к нам послушать граммофон[265], посмотреть на образ жизни русских путешественников и даже попросить медицинский совет. Из болезней чаще всего туземцы страдали всякими накожными лишаями, экземами, равно воспалением глаз, зобом и проч.
Поводом к особенному дружелюбию, проявленному гуйдуйцами к русским, послужило некое предсказание, сделанное весьма почитаемым в крае гэгэном. Старец поведал всем буддистам, что 1909 год будет благополучен и даст хороший урожай лишь в том случае, если с севера приедет в оазис «большой человек». По случайному совпадению приход экспедиции вполне соответствовал данным пророчества и, естественно, вызвал единодушный радостный подъем среди населения.
Начальство Гуй-дуя – тин-гуань[266] и сэ-тай (военный) охотно посещали наш приют, где неизменно получали угощение: коньяк, доморощенную водку и папиросы. В разговоре тин-гуань сообщил мне, что все местные старшины выразили свое удовольствие по поводу пребывания в оазисе русской экспедиции, приносящей обитателям, по их словам, не вред, а истинную пользу. Сэ-тай отметил со своей стороны, что русские путешественники, должно быть, все прекрасные люди, так как он уже и раньше имел счастье встречаться с исследователями Азии – братьями Грумм-Гржимайло, или «Голо-Моло», как выговаривал китаец, снискавшими себе среди аборигенов всеобщее уважение.
Жизнь членов экспедиции скоро вошла в свою обычную колею; я производил астрономические, метеорологические наблюдения, занимался фотографией, писал дневник и готовил отчет за второй, кукунорский период путешествия. Препараторы ежедневно экскурсировали в окрестностях, но, несмотря на сравнительное обилие птиц, новых или незнакомых нам родов и видов пока не встречалось.
По-прежнему в прозрачной ясной синеве неба гордо парили: бородатый ягнятник (Gypaеtus barbatus), гриф-монах (Vultur monachus [Aegipius monachus]), а иногда и гриф гималайский (Gyps himalayensis); только сильный голод заставлял этих царственных пернатых спускаться к жилищам человека и искать каких-либо мясных отбросов. К вечеру величественные хищники всегда удалялись в скалы, с которыми почти никогда не расставался более изящный и более благородный по натуре орел-беркут. По окраине оазиса изредка проносился стрелою сокол (Gennaia milvipes milvipes [Falco cherrug milvipes]), в садах держались тетеревятники (Astur palumbarius [A. gentilis]), сторожившие фазанов, и перепелятники (Astur nisus [Accipiter nisus]), охотившиеся за более мелкими пташками. По вечерам или даже поздно ночью подле обрывов или высоких стен часто раздавалось унылое гуканье филина, которому вторил серый сычик (Athene). Около нашего жилища постоянными гостями считались черный ворон (Corvus corax), черная ворона, галочка (Coloeus neglectus, Coloeus dauricus) и сорока (Pica bactriana [Pica pica]). С ближайших гор в наш уголок залетали и клушицы-грион (Graculus graculus [Pyrrhocorax pyrrhocorax]), звонко перекликавшиеся своими мелодичными голосами.
По деревьям оазиса держались удоды, овсянки (Cia godlewskii [Emberiza с. godlevskii]) и непременно дятел (Dendrocopus cabanisi cabanisi [Dryobates cabanisi]); в гущине береговых зарослей Хуан-хэ много раз наблюдались голубые сороки (Cyanopolius cyanus [Cyanopica cyanea], камышевые стренатки (Cynchramus cshoeniclus [Emberiza shoeniclus]), С pallasl [Emberiza pallasi]), фруктоеды [чечевичник] (Carpodacus rubicilloides, С puleherrimus, С. stoiiczkae [С. synoicus], Pterorrhinus davidi, синицы (Leptopoecile sophiae, Poecile affinis [Parus atricapillus affinis]), Acredula calva (Aegithalos caudatus vinacea] и вертлявая кустарница (Rhopophilus pekinensis pekinensis); в густой листве, сцепившейся по верхушкам деревьев, нередко шелестели, деятельно отыскивая пищу, синицы малые (Parus minor) и розокрылые вьюрки (Bucanetes obsoletus), тогда как вьюрок пустынный (Bucanetes mongolicus) ютился в серо-желтых холмах на окраине оазиса.
Кроме того, оазису Гуй-дую свойственны завирушки (Spermolegus fulvescens [Prunella fulvescens]), поползни (Certhia familiaris Bianchii), рыжебрюхие краснохвостки (Ruticilla erythrogastra [Phoenicurus erythrogastra]), рыжегорлые дрозды (Turdus ruficollis). По соседству с человеком живет полевой воробей (Passer montantis), а его собрат – каменный воробей (Petronia petronia) населяет более уединенные холмы и обрывы, где также изредка встречается краснокрылый стенолаз (Tichodrorna muraria). По лугам и вблизи речек или даже по самым речкам нами отмечены три вида жаворонков: рогатый (Otocorys elwesi elwesi [Eremofila alpestris elwesi]), хохлатый (Galerida cristata leautungensis) и жаворонок-великан (Melanocoriphoides maxima [Melanocorypha maxima]), водяная оляпка (Cinclus cachmeriensis [Cinclus c. cashmeriensis]), щеврица (Anthus spinoletta blaekistoni), дупель отшельник (Gallinago solitaria [Capella solitaria japonica]), водяной пастушок (Rallus aquaticus), а по галечному сухому руслу серый кулик-серпоклюв (Ibidorrhynchus struthersi).
Из плавающих вместе с нами зимовали стайки серых гусей (Anser anser), турпаны (Casarca casarca [Casarca ferruginea]), пеганки (Tadorna tadorna), большой крохаль – любитель быстрых незамерзающих вод (Mergus merganser) и утки-кряквы (Anas boscas [Anas platyrhyncha]), а из крупных голенастых – цапля белая (Herodias alba [Ardea alba]). В заключение следует упомянуть также о многочисленных фазанах (Phasianus decollatus strauchi [Phasianus strauchi]), населяющих сады или заросли кустарников, а также куропатках (Perdix daurica, Р. sifanica) и больших кэкэликах (Caccabis magna [Alectoris graeca magna]); последние, впрочем, ютятся по серым предгорьям, откуда часто залетают на окраину оазиса каменные или горные голуби (Columba rupestris).
Такому сравнительно длинному перечню птиц совсем не соответствует весьма скудное животное население Гуй-дуя или, точнее, его равнинных и горных окраин, где наблюдались лишь волки, лисицы, зайки, горная пищуха (Lagomys erythrotis [Ochotona erythrotis]) и, наконец, домовая мышь (Mus).
Для более успешного пополнения зоологической коллекции, помимо обычных ежедневных экскурсий, производимых в самом оазисе и его ближайших окрестностях, мною снаряжались и более отдаленные разъезды в горы. Одна из охот в крутых склонах горы Джахар была очень удачной: мои спутники привезли пару рысей и несколько экземпляров интересных птичек: горную завирушку (Accentor collaris tibetanus), Carpodacus dubius и Cinclus przewalskii.
Местные обитатели ко всем нам всегда относились с предупредительной любезностью, а один тангутский тин, повстречав моих сотрудников в горах, даже пригласил их к себе в гости.
На западной окраине оазиса Гуй-дуй, в версте от города, красуется большой субурган-храм, история которого представляет некоторый интерес. По преданию, много лет назад Гуй-дуй ежегодно подвергался сильному бедствию: бурная Хуан-хэ выходила из берегов, затопляла город и тем самым приносила громадный убыток населению. Но вот однажды из Монголии приехал гэгэн Минегэ-тютян-гэлун и заявил всему народу, что прислан сюда богом для спасения Гуй-дуя.
Выстроив субурган-храм, таинственный гэгэн положил под его фундамент великие приношения – чудесные драгоценности, уничтожающие огонь и воду, то есть пожар и потоп. С тех пор Гуй-дуй процветает, разрастается и не знает горя.
В течение двух первых третей октября в Гуй-дуе погода стояла большею частью пасмурная, тоскливая: с каждым днем листья осыпались обильнее, тополя и ивы стояли оголенные, и лишь плодовые деревья сменили свою зеленую окраску на золотисто-красную. Преобладающий холодный северо-восточный ветер все чаще заполнял атмосферу тонкой лёссовой пылью. Мрачные тучи обыкновенно разряжались обильным дождем, а в горах выпадал снег; осадки очищали воздух и открывали приветливые дали. Температура в семь часов утра в тени опускалась до +0,4°С и даже – +0,2°С, но зато днем нередко достигала +6°С, а иногда и +10°С тепла, когда лед на ручьях таял и снова показывались мухи, стрекозы и бабочки.
В такие ясные проблески все двери домов туземцев открывались настежь, и обитатели, как жуки из своих нор, выползали на солнцепек, где проводили время в мирных беседах за несложным ручным трудом.
Последняя треть октября отличалась удивительной прозрачностью, тишиной и приятным, согретым солнцем воздухом (действительно, дни стояли теплые и только по ночам температура падала до –3°С), так что традиционный буддийский осенний праздник в нынешнем году вышел особенно удачным.
Из Синина приехала странствующая труппа артистов, дававших представление несколько дней кряду без перерыва. По предложению властей, экспедиции отвели одну из лучших лож большого театра, помещавшегося во дворе главного гуйдуйского китайского храма.
Зрители, среди которых было особенно много женщин и детей, занимали всю внутреннюю часть двора и все соседние плоские кровли; во время действия публика свободно ходила взад и вперед; здесь же сновали продавцы с оладьями, грушами и арбузными семечками. Музыка тем временем гудела и скрипела, в общем нисколько не препятствуя дремоте, которой поддавалась часть присутствующих. Среди местных щеголих невольно обращали на себя внимание несколько нарядных, слегка нарумяненных китаянок, принадлежавших к культурному, богатому классу[267], и семья – мать и три красавицы-дочери – тангутского князя. Мне особенно нравились оригинальные, пестрые одежды тантуток и их украшение – длинные, убранные серебром и кораллами ленты, спускавшиеся по спине.
Закусив во время представления, мы отправились вниз осмотреть храм и внести нашу лепту в виде нескольких лан серебра. Здесь нас встретил тин-гуань и все начальство, пригласившее членов экспедиции откушать вместе с ними прекрасного китайского обеда, при этом китайцы заметили, что если мы будем стоять в толпе, что достоинству русских совершенно не подобает, то и они – чиновники – не посмеют сесть за стол. Обед был сервирован так аппетитно, что мы не заставили себя долго ждать и с удовольствием отведали китайских деликатесов.
Через несколько дней перед самым моим отъездом из Гуй-дуя в Синин и далее в Чойбзэн я имел случай вторично отобедать у приветливого тин-гуаня, державшего себя на этот раз еще более просто и ласково, чем обыкновенно.
В общей сложности месяц, проведенный в Гуй-дуе, тянулся довольно долго; не было той кипучей увлекательной деятельности, к которой мы так привыкли за время путешествия; сравнительно бедная и жалкая зимняя природа не давала пищи наблюдателю, этнографические и зоологические коллекции пополнялись медленно и вяло. Приходилось неоднократно сетовать на то, что известный Далайламский вопрос[268] задержал экспедицию в северо-западной Ганьсу, не позволив ей провести зиму на далеком прекрасном юге[269].
Единственной отрадой путешественников оставалась почта, служившая целыми неделями темой для разговоров. Письма родных и близких друзей бодрили, вливали большую энергию и поднимали на новый успех.
К концу октября отчеты и письма были готовы, и я приступил к снаряжению в легкую поездку по буддийским монастырям Гумбум и Чойбзэн. Несмотря на все старания, багаж вышел довольно громоздкий, так как пришлось захватить Далай-ламские подарки, которые я намеревался передать чиновникам тибетского первосвященника в Гумбуме, и почту, предназначенную для отправки через любезное посредство сининского цин-цая.
Местные власти держали себя все время крайне учтиво и предупредительно помогли мне в найме животных и проводника.
Второго ноября в девять часов утра я со своим маленьким транспортом в сопровождении урядника Полютова и китайца-переводчика, выступил из Гуй-дуя и ходко направился старой дорогой по направлению к Гумбуму. На переправе через Хуан-хэ, где нас ожидала лодка, мы застали довольно неприятную сцену: какой-то местный блюститель порядка безжалостно наносил побои несчастной женщине – продавщице груш. Не зная причины такого жестокого обращения с бедной, слабой тангуткой, я нашел нужным вступиться за жертву и несколько обуздать «ревнителя благочиния». Мое вмешательство вызвало громкое одобрение со стороны присутствовавших зрителей – и ретивый полицейский незаметно исчез.
Путь до Гумбума мы выполнили хорошо. Лишь некоторое неизбежное затруднение представил перевал Лачжи-лин, в особенности его северный обледенелый склон, на котором одни из животных разбились в кровь, так что некоторые вьюки мы принуждены были тащить на себе[270]. Дорога, как и прежде, от времени до времени оживлялась прохожими и проезжими; отсутствовали только многочисленные раньше паломники. На этот раз на перевале мы отметили белоспинного голубя (Colurnba leuconota), горную завирушку (Accentor collaris tibetanus [Laiscopus collaris tibetanus]) и трех родов прежних царственных хищников.
Пройдя захудалый городок Нань-чан-ин, расположенный у подножья холмов, закрывающих Гумбум с востока, мы четвертого ноября под вечер вступили в монастырь. Здесь царило небывалое оживление; осенний праздник в память Цзонхавы был в полном разгаре: улицы кишели празднично настроенной толпой. По торговым рядам, на площадях и по горным скатам, вблизи большого субургана раскинулся сплошной базар. Ламы и миряне бесцельно бродили из стороны в сторону, развлекаясь редкими и оригинальными зрелищами: там и сям гастролировали, ловко проскакивая серединой обруча, унизанного массивными ножами, жонглеры, прибывшие в далекий край из-под Пекина; рядом стоял какой-то громоздкий экипаж – нечто вроде локомобиля, который, будучи пущен в ход, производил своей внутренней машиной невероятно дикую, громкую музыку. Тут же, наконец, демонстрировали и ручного медведя.
Самым торжественным моментом праздника считался день перехода души реформатора буддизма от земной жизни к состоянию вечного бессмертия. Вечером пятого ноября по знаку сигнальной трубы Гумбум весь наполнился звуками труб и раковин; в соединении с голосами тысячи лам, выстроившихся на возвышениях храмов и певших молитвы в полголоса, эта музыка создала своеобразную, мягкую гармонию. Вдоль порталов кумирен, как по волшебству, загорелись сотни плошек, и раскинувшийся амфитеатром по горному скату монастырь засверкал огнями. Картина получилась очень эффектная.
К восьми-девяти часам вечера все смолкло и обитель погрузилась в полную тишину.
Два дня, проведенные мною в Гумбуме, прошли крайне разнообразно; я жил, как и прежде, в монастырском подворье Чжаяк-ламы.
Между прочим, в Гумбуме мне посчастливилось встретить старых знакомых – монголов курлык-бэйсэ и монголов цайдамских; среди последних оказались даже некоторые, служившие нам в прежние экспедиции проводниками и погонщиками; все эти люди относились к русским удивительно приветливо и говорили, что у них на родине помнят путешественников и с нетерпением ожидают их нового прихода, для чего самым тщательным образом охраняется старая экспедиционная метеорологическая будка.
Шестого ноября ранним утром наш маленький разъезд был уже на пути к Синину, следуя по долине речки, называющейся в своем верхнем течении Моша-гоу-ся, а в нижнем, у сининского моста, – Нань-чан-гоу. Около десяти часов утра вдали начал обрисовываться силуэт сининских построек, а через полчаса меня уже встретил любезный M-r Ridley, давший путникам приют под своей гостеприимной кровлей.
На следующий день пришлось делать визиты китайским властям. Цин-цай предупредительно принял от меня почту и в разговоре сообщил, что получил из Пекина бумагу, касающуюся русской экспедиции. К моему удивлению, этот документ заключал в себе сообщение русского посольства в Пекине, извещавшего китайское министерство иностранных дел о том, что «путешественник Козлов не будет стремиться на юг, в Сычуань, если китайцы найдут этот маршрут почему-либо неудобным и небезопасным.

Восьмого ноября в ясное морозное утро мы уже покинули Синин и двинулись к северо-северо-востоку по направлению к монастырю Чойбзэн-хит. В долине Синин-хэ чувствовалась глубокая осень, по реке шла шуга, льдины шурша сталкивались между собою, дул сильный пронизывающий ветер, донимавший нас до самого вступления в защищенную холмами второстепенную долину речки Шин-чен, названную так по имени города[271].
По пыльной правобережной дороге тащились обозы с каменным углем, добываемым в окрестных горах; над вереницей телег стояло целое облако лёссовой пыли, падавшей на проезжающих и вызывавшей раздражение слизистой оболочки носа и глазных век.
Переночевав в городке Шин-чене, мы переправились через речку того же названия по мосту и вступили в область Лоэшаньских гор; весь северо-западный скат Лоэ-шаня был убран древесной растительностью, и только местами из густых зарослей выступали отдельные дикие скалы; по гребню гор на недосягаемой высоте картинно раскинулся целый ряд легких китайских пагод. Наше прохладное, затененное крутыми склонами ущелье стремилось к востоку. Мы немного мерзли, но зато животные по холодку шли бодрее и успешнее. В воздухе не смолкали голоса мелких птиц; там и сям табунами кормились фазаны (Phasianus decollatus Strauchi), блестя на солнце своим красивым оперением. Каменные голуби большими стаями толпились по скалам вблизи селений. Вверху на фоне прозрачного голубого неба то и дело проносились грифы и гордый красавец – орел-беркут.
Мы поднялись на самую вершину перевала, откуда открылись холмы с еловым лесом, обступающие Чойбзэн со всех сторон. Внизу, в долине, нас приветствовали ламы с хадаками от моего старого друга – гэгэна. При въезде в монастырский двор ламы были выстроены длинной шеренгой, изображая почетную встречу. Мы чинно проследовали в уютное помещение, где, угостившись расставленными на столах яствами и напитками, тотчас расположились по-домашнему.
Чойбзэн-хутухту принял меня, как близкого друга. Отдохнув немного после дороги и подкрепившись ламайским угощением, я направился во внутренние покои настоятеля, куда посторонние обычно не допускались. Ловзэн-тобдэн с приветливой улыбкой поднялся мне навстречу и по русскому обычаю протянул руку; я же по-буддийски поднес ему хадак. Лама постарел и пополнел; одни лишь глаза по-прежнему горели умом и энергией; голос при смехе звучал молодо и звонко. Мой старый приятель с гордостью демонстрировал мне свое новенькое, по-европейски отделанное помещение; в окнах, обрамленных занавесками, виднелись двойные рамы с прослойкой ваты.
По стенам висели всевозможные часы, до часов с кукушкой включительно, картины. Подарки Русского географического общества и подношения Н. М. Пржевальского содержались в трогательном порядке. Всюду стояли бурханы, хурдэ, гау и роскошные золотые и красные тибетские книги. Из всех комнат открывались красивые виды на храмы и окрестные горы и холмы, а с одной стороны дома примыкал тенистый садик, украшенный искусственной горкой, куртинами цветов и даже европейской легкой беседкой. Разговоров у нас было много, так как мы оба чувствовали себя друг с другом крайне непринужденно.
В ответ на подарки от Русского географического общества, хутухта поднес мне художественной работы бронзовое изображение Манчжушри, венценосного будду на алмазном престоле, тибетскую книгу и великолепное хурдэ. Российской Академии наук, между прочим, он просил передать листик с дерева Бод, произрастающего в Индии, под которым, по преданию, предавался созерцанию Гаутама; на листике отчетливо виднелись золоченные очертания сидящего будды.
Четырнадцатого ноября наш разъезд уже приближался к Синину, унося с собою самое теплое, отрадное воспоминание о нескольких днях, проведенных в Чойбзэне, а через три дня мы прибыли в Гуй-дуй, где нашли все в отличном состоянии. Погода продолжала стоять сравнительно теплая; иногда солнце пригревало ощутительно[272]; воздух почти ежедневно омрачался тонкой пылью, вздымаемой сильным вихрем; пыльная завеса мешала производству научных астрономических наблюдений. Только с началом декабря установилась мягкая зима с небольшими ночными (до –13,0°С) морозами и холодными северо-восточными ветрами. Оазис принял унылый серо-желтый оттенок и как будто замер. Все люди спрятались по своим жилищам, животная жизнь также затихла.
Наша экспедиционная семья с некоторых пор увеличилась еще одним довольно оригинальным членом. Мы приобрели здесь же в оазисе за пять рублей серебра ручного бурого грифа (Vultur monachus [Aegypius monachus]). Пернатый великан скоро освоился со всем отрядом, охотно кушал баранье легкое, а с голоду набрасывался и на кости, из которых одни только обгладывал, другие же глотал целиком. Забавно бывало смотреть, как во время обеда нашего любимца со всех сторон собиралось большое общество воронов, ворон и сорок, подскакивавших боком и жаждавших стянуть лакомый кусочек. Однако довольно бывало и гневного взгляда могучей птицы в сторону мелких вороватых гостей, чтобы все они разлетелись без оглядки.
По ночам грифа уводили в закрытое помещение, днем же он обыкновенно сидел на воздухе, на обрыве, и с завистью провожал глазами своих вольных братьев, паривших в ясной лазури. Иногда и пленник оживлялся какой-то внутренней радостью и, волнуясь, взлетывал на месте, широко расправляя огромные, свыше сажени в размахе, крылья. Раза два-три гриф втихомолку от нас пешком взбирался на вершину соседнего холма, в соседство китайской пагоды, откуда по слегка наклонной линии улетал за версту и далее. Наши собаки иногда недоумевали, глядя на Vultur monachus’a, и пробовали нападать на него, но, получив должный отпор, смирялись и на почтительном расстоянии проходили при встрече с птицей. Впоследствии в походе собаки жили с «монахом» в большой дружбе.
Утром седьмого декабря совершенно неожиданно прибыли на бивак экспедиции оба брата Бадмажаповы и привезли нам обильную почту. Сразу все всколыхнулось и зажило с удвоенной энергией.
Из писем самым интересным оказалась ценная весточка географического общества. Заместитель вице-председателя общества П. П. Семенова-Тян-Шанского – А. В. Григорьев извещал меня, что Академия наук и все ученые специалисты Петербурга весьма высоко оценили труды экспедиции по отношению открытий в Хара-Хото: «поскольку можно судить по имеющимся раскопочным материалам, развалины открытого вами древнего города представляют, по их заключению, остатки столицы тангутского племени Си-Ся, процветавшей от XI по XIV век. Ввиду важности совершенного открытия, Совет географического общества уполномочил меня предложить вам не углубляться в Сычуань, а вместо этого возвратиться в пустыню Гоби и дополнить исследование недр мертвого города. Не жалейте ни сил, ни времени, ни средств, – пишет в заключение своего письма[273] А. В. Григорьев, – на дальнейшие раскопки».

Тяжело подумать, что спустя полтора месяца дорогого Александра Васильевича Григорьева – этого замечательного по своим высоконравственным и сердечным качествам человека – не стало. Вечный покой тебе, великий друг путешественников.
Взвешивая общее состояние и настроение экспедиции, я не мог не порадоваться сокращению предполагавшегося раньше маршрута в глубину нголокских владений. Письмо А. В. Григорьева обрадовало меня во всех отношениях и, кроме того, вполне совпадало с желанием цин-цая, тяготившегося предстоявшей, по его внутреннему убеждению, ответственностью за нашу судьбу в опасных странствованиях среди разбойничьих племен.
Проводив Ц. Г. Бадмажапова, направившего невольным образом нашу жизнь в новое русло, я воспользовался первым же ясным вечером для наблюдения покрытий звезд луною, равно пропустил через нити универсального инструмента Polaris и пару блестящих звезд на востоке и западе небесного свода, а затем семнадцатого декабря поехал в небольшую экскурсию к горным ключам Чи-гу.
Эти целебные источники находятся в пятнадцати верстах от Гуй-дуя по дороге в монастырь Рарчжа-гомба. Следуя к западу на пересечение долины Муджик, мы скоро склонились к юго-западу, миновали селение Ранэн-жяццон и, вступив в ущелье Луан-цон-гоу, увидели темно-голубую ленту горячего ручья, над которым поднимался пар. Ключ с шумом выбегает на поверхность земли из-под глинисто-галечного наноса вблизи обо и, постепенно охлаждаясь, бежит к северу, издавая ритмически странные глухие звуки, похожие на тяжелые вздохи, слышные за пятьдесят – семьдесят сажен [100–140 м]. На протяжении трех – четырех верст от истока, где температура воды достигает +85°С, горный ручей открыто струится среди изумрудной зелени. Здесь ютился дупель-отшельник.
Рядом с основным, самым горячим источником берут начало второстепенные ключи, привлекающие к себе в совокупности довольно много курортной публики. У подножья обрывистого берега из грубых каменных плит сложено до двенадцати примитивных ванн. Страдающие ревматизмом и разными простудными заболеваниями туземцы располагаются здесь же по соседству, на береговой террасе, где и проживают в палатках от двух до трех недель, принимая ежедневно часовую ванну и употребляя ту же горячую воду вместо пищи и питья. Ввиду прохладной температуры окружающего воздуха, купающиеся, обыкновенно, накрываются с головой какой-либо одеждой, свободно спускающейся по бортам ванны до самой земли.
Теперь необходимо упомянуть еще об одной характерной особенности гейзеров Тибетского нагорья: горячая, почти кипящая струя воды, вырываясь из недр земли, приходит в соприкосновение с наружным воздухом, температура которого в течение долгих зимних месяцев колеблется между 30–40°С ниже нуля. Частицы воды тотчас охлаждаются и замерзают, образуя огромные ледяные колонны, испещренные мелкими отверстиями. Действующий внутри такого прозрачного чехла гейзер представляет очень оригинальное и поучительное зрелище.
Жизнь на главном биваке продолжала протекать однообразно. Наши чойбзэнские друзья навестили экспедицию только один раз и, пробыв в Гуй-дуе два дня, возвратились к себе с новыми подарками для гэгэна[274].
Между тем, декабрь месяц близился к концу; в начале января мы предполагали распрощаться с зимовкой и направиться для дальнейших исследований в область амдоских монастырей – Рарчжа-гомба и Лаврана.
В связи со скорым отъездом экспедиции невольно возникал вопрос о том, как поступить с подарками для Далай-ламы; восьмого декабря стало официально известно, что правитель Тибета покинул Пекин и держит путь в провинцию Ганьсу. Вскоре из У-тая прибыл далайламский транспорт из двухсот верблюдов, появились и тибетские чиновники – чувствовалось приближение какого-то большого события.
Население без всякого одушевления поджидало главу буддийской церкви, так как подобные посещения важных особ всегда влекут за собою порядочные расходы. Ганьсуйский вице-король старался даже всеми силами отклонить маршрут высокого путешественника к северу или югу, но, по-видимому, безуспешно.
Обсудив положение дел, мы решили послать нашего представителя в Гумбум взять подарки, обещая ламам лично передать их по назначению при первом же удобном случае[275].
Последние дни старого 1908 года всецело ушли на снаряжение вдорогу и на подготовку последней из Гуй-дуя почты.
Погода стояла удручающая: холодная, пронизывающие северо-восточные ветры не прекращались; дали омрачались пыльной завесой. Снежный покров, который у нас на родине накладывает на окружающую природу свой особенный поэтический оттенок тишины и сна, здесь отсутствовал.
Ночь на первое января выдалась яркозвездная. Чтобы чем-нибудь отметить наступление Нового года, с вершины прилежащего холма вблизи пагоды было пущено две ракеты; высоко к небу взвились золотисто-огненные струи, пронизавшие тьму своим ослепительным светом. Внизу и в ближайших горах это эффектное зрелище вызвало звонкие крики удивления и радости со стороны зорких номадов.
Наутро мы проснулись рано; вершины гор позолотились бледными лучами солнца, было морозно и ясно. В тихом спокойном воздухе особенно отчетливо раздавались голоса пернатых, хлопотавших по соседству с биваком. Настроение у всех было торжественное, в особенности после того, как был прочитан приказ по отряду экспедиции о производстве трех казаков в приказные и объявлении всем прочим чинам глубокой благодарности. Сборы в Рарчжа-гомба затягивались. Работать с тангутами оказалось довольно трудно; несмотря на заверение, они привели плохих, изнуренных животных, да и тех в сокращенном количестве. Невольно закрадывались опасения за успех нашей экскурсии в горном лабиринте, окружающем Хуан-хэ.
Было над чем призадуматься и в конце концов разделить экспедицию на две части. Транспорт тяжелого багажа под руководством капитана Напалкова я направил непосредственно на Лавран по большой гуйдуйско-лавранской дороге. Моему сотруднику поручалось по доставке багажа в Лавран и по сдаче его на хранение отправиться в Вей-сянь для пополнения зоологических коллекций. Животных, нагруженных более легко, преимущественно предметами первой необходимости, я взял в мою экскурсию, ставившею себе задачей изучение района, прилежащего к монастырю Лавран с северо-запада, запада и юго-запада. С началом нового года началась и новая деятельность экспедиции.

Глава семнадцатая. Зимняя экскурсия вглубь амдоского нагорья
Изменение дальнейшего плана путешествия: вместо Сычуани – Амдо. – Общая характеристика этой горной страны и ее обитателей. – Любовь амдосцев к оружию и страсть к грабежам. – Оставление Гуй-дуя. – Горячие ключи Чи-чю. – Движение по Амдоскому нагорью. – Пески Магэтан. – Встреча с тангутским разъездом. – Княжество Луцца и его вождь Лу-хомбо. – Наше знакомство с этим предводителем разбойников. – Обострение отношений. – Ночное нападение на экспедицию.
С получением предложения географического общества «все внимание сосредоточить на исследовании мертвого города Хара-Хото» экспедиция должна была изменить свой план. Вначале предполагалось провести всю зиму в Гуй-дуе, лишь с развитием полной весны отправиться в Сычуань, манившую к себе богатой, роскошной природой еще моего учителя, в особенности в его четвертое центральноазиатское путешествие. Придя тогда на Голубую реку при устье Бы-чю Н. М. Пржевальский убедился в невозможности переправиться с верблюдами через Ян-цзы-цзян или следовать вниз по его течению, стесненному дикими угрюмыми скалами подножий прилежащих гор[276].
Первый исследователь природы Центральной Азии должен был ограничиться посещением долины озер верхней Хуан-хэ и возвратиться в Цайдам, служивший ему базой при изучении северной окраины Тибетского нагорья. После Н. М. Пржевальского, как известно, в Сычуань стремилась экспедиция его последователя – В. И. Роборовского, тяжело заболевшего в области гор Амнэ-мачин и долженствовавшего отступить к тому же Цайдаму[277].Мое Монголо-Камское путешествие, давшее много нового географического естественно-исторического материала и выяснившее еще большие богатства в этом отношении в стране, прилежащей к ее маршруту с востока[278], конечно, побуждало меня стремиться также в Сычуань, к ее границе с Камом, чтобы таким образом связать наши работы с работами Г. Н. Потанина и тем самым исполнить еще один из заветов своего учителя.
Однако никому из нас не удалось туда проникнуть: что-то необъяснимое, властное, сильное не пускало нас в заветную Сычуань. Опять наши мечты – увидеть бамбуковые заросли и встретить в них такина (Budorcas taxicolor) и медведя (Ailuropus melanoleucus) или в соседних им высоких лугах поохотиться за красавцами лофофорами (Lophophorus lhuysii) – исчезали или продолжали оставаться мечтами.
Отложив намерение следовать в Сычуань, мы все же должны были выступить в обратный путь, или в Хара-Хото только весною, имея в своем распоряжении свыше двух месяцев времени, не использовать которое, хотя бы проникновением к югу в Амдо, было бы непростительно, а раз так – откладывать подобную поездку не представлялось возможным, и мы в самое короткое время, как и сказано выше, приготовились к отъезду.
Амдо – горная страна, северо-восточный угол Тибетского нагорья, привольно раскинулась к югу от альпийского бассейна Куку-нора до границ Сычуани с одной стороны и Ганьсу – с другой. Общая характеристика Амдоского нагорья может быть приложима к рельефу наиболее мягких частей Тибета, расположенных на востоке или юге этой обширной страны, где абсолютная высота местности от 16000 футов [4880 м] спускается до 14000 или даже 12000 футов [4350 м], а в долинах с земледельческой культурой и еще значительно ниже. Главные цепи гор ориентированы в широтном направлении с неодинаковым уклоном к северу или югу. Снеговая линия поднята около 15000 футов [4570 м] над морем.
Как и в Тибете, здесь в верховьях долин залегают характерные луга твердой тибетской осоки (Kobresia thiberica), по которым из диких животных чаще других можно встретить горную антилопу ада (Gazella picticauda), а из птиц – больших тибетских жаворонков (Melanocorypha maxima), в ясные проблески дня оживляющих мелодичным пением монотонность страны. В низовьях долин, наоборот, произрастают пышные кустарники, прорезаемые бурливыми прозрачными ручьями, в соседстве с которыми держатся мелкие певчие птички. Горы вообще богаты тибетскими формами растений, начиная с карликовых кустарников до альпийских лугов включительно; животная жизнь также однообразна с тибетской: здесь только путешественник не встречает диких яков и антилоп оронго, вытесненных обилием кочевников.

Приблизительная цифра общего населения Амдо, его воинственных тибетских племен, выражается в пятистах тысячах душ обоего пола.
Амдосцы делятся на оседлых, располагающих своими селениями и пашнями в низовьях долин до 8000–9000 футов [2440–2740 м] над уровнем моря, и кочевников, переносящих свои банаги в области альпийских пастбищ.
Как и восточно-тибетцы, амдосцы в политическом отношении представляют независимые племена, которые подчиняются Китаю лишь номинально. Китайцы совершенно не вмешиваются во внутреннюю жизнь амдосцев и ограничиваются редкой посылкой своих чиновников с военным отрядом для взимания дани, а также и для разрешения тех или иных тяжб между амдосцами или между последними и китайцами.
В своих разбойничьих набегах, которые являются одним из главных занятий кочевых амдосцев, они подчиняются своим предводителям. Не имея никаких писаных законов, они в своей общественной жизни руководствуются обычным правом.
Виденные нами амдосцы по наружности ничем существенным не отличаются от описанных нами на страницах моей книги «Монголия и Кам» восточных тибетцев. Они имеют тот же средний рост, реже большой, то же плотное, коренастое сложение, те же большие черные глаза, тот же не приплюснутый, иногда даже орлиный нос и те же средней величины уши.
Одежда и жилище у кочевых амдосцев одинаковы с таковыми восточных тибетцев. Нравы и обычаи также очень близки; разница может быть наблюдаема только при детальном изучении тех и других обитателей.
Иу амдосцев мужской элемент при каждом удобном и неудобном случаях норовит составить компанию для праздных разговоров. В лучшем случае амдосцы едут на охоту или, как то и замечено выше, на грабеж. Домашние же работы, как, например, уход за скотом, сбор топлива, водоношение и многое другое, короче – все ложится на женщину. В то время, как женщина в течение дня трудится, что называется, не покладая рук, мужчина скучает от бездействия и идет к ней на помощь только тогда, когда женщина физически не в состоянии с чем-либо справиться. Верхом на лошади амдоска так же ловка, как и амдосец; поймать из табуна любую лошадь, ухватясь за гриву и быстро вспрыгнув на спину неоседланного животного, лихо нестись в желаемом направлении – в привычке каждой молодой амдоски. Последние вообще весьма самостоятельны и свободны и могут по своему выбору иметь одного или даже несколько мужей одновременно.
«У окрестных лавранских тангутов, – говорит Б. Б. Барадийн[279], – наблюдается факт, что женитьба совершается посредством побега молодого человека навсегда из родительского дома в дом родителей невесты. Если молодому человеку понравилась девушка, и он желает жениться на ней, то он оставляет у нее какую-нибудь свою одежду. Если девушка принимает предложение молодого человека, то должна убирать его одежду наравне со своей, а если отвергает предложение, она выносит его одежду на улицу. При этом родители не имеют никакого влияния на решение своей дочери. Таким образом молодой человек увидит, в чем дело – вынесена ли его одежда, которую нужно со срамом унести обратно домой, или же его одежда тщательно убрана в числе одежд девушки. В последнем случае молодой человек убегает от своих родителей, прервав с ними всякую имущественную связь. При этом он может, самое большое, захватить с собой боевого коня, но, в крайнем случае, он должен являться к своей невесте непременно с ружьем и саблей.
Таким образом муж является как постоянный гость для жены и ее родителей, и основа семейной жизни тангутов и вообще всех тибетских племен та, что муж и жена в имущественном отношении весьма мало связаны друг с другом. Жена должна заведывать всем хозяйством как исключительно ей принадлежащим, а муж в своем распоряжении имеет лишь своего боевого коня, ружье, саблю и пику, с которыми он может идти на разбой».
Как женщины гордятся своими бусами и серебром, так одинаково, если не больше, гордятся мужчины своими воинскими доспехами, в особенности ружьем и саблей, на украшение которых серебром и цветными камнями тратится немало денег. Боевым видом, молодечеством, удалью в Амдо, как и вообще в Центральной Азии, главным образом и оцениваются достоинства людей, способных быть начальниками или предводителями. Резвые кони с хорошим убранством уже издали привлекают внимание придорожного населения или каравана.

Пестрый, темно-синий, красный, желтый наряд, иногда с леопардовой оторочкой у груди, очень красит гордых амдоских всадников, в особенности чиновников, перед которыми местные простолюдины смиренно и низко склоняют головы.
В позднейшее время нельзя не отметить особенного, резко бросающегося в глаза явления европейского оружия, все больше и больше проникающего в среду амдосцев. Те многие обитатели Амдо, которых мы встречали или в дороге, или у себя на биваке, часто бывали вооружены именно магазинными винтовками, содержащимися в образцовом порядке, с приделанными к ним сошками для более меткой стрельбы, в особенности в долинах по зверям, как это всегда устраивают центральноазиатцы у своих примитивных фитильных самопалов. Амдосцы с гордостью показывали нам их магазинки, в свою очередь прося и нас показать им русскую винтовку. Разборку и сборку европейских ружей амдосцы усвоили прекрасно, и всякого рода манипуляции с ними они проделывают с замечательною ловкостью и уменьем. Сидя дома, от скуки амдосец берет ружье, холит, нежит и ласкает его, словно мать свое любимое детище. Патроны или заряды туземцы берегут с замечательною выдержанностью.
Нетрудно допустить, с какою завистью амдосцы посматривали на наш караван, на наши вьюки, на наше однообразное вооружение. Я положительно убежден, что ничто другое не соблазнило, не толкнуло амдосцев решительно броситься на нас, как только наши винтовки, прелесть и превосходное качество которых они уже успели оценить по своим ружьям европейских образцов. Недаром же китайцы так сильно протестовали против моего намерения двинуться в Амдо: им хорошо была известна страсть этих кочевых обитателей убивать и грабить; они согласились со мною лишь тогда, когда я выдал им новую подписку, что могущие встретиться в Амдо неприятности и беды я беру на свою ответственность.
Амдо справедливо занимает выдающееся место в истории буддизма: оно дало великих проповедников и ученых. Имя Цзонхавы как реформатора буддизма, основателя господствующей секты гэлуг-на, известно не одним только буддистам, которые для совершенствования в познаниях из Амдо направляются в Тибет, Лхасу или Таши-люмбо.
Везде в Амдо, где только имеются красивые и приветливые и вместе с тем уютные уголки, устроены кумирни или монастыри, а при этих последних – нередко и управления начальников, и дома их приближенных. При монастырях же очень часто имеют квартиры и торговцы-китайцы, которые, впрочем, при таких больших центрах группируются в отдельные колонии.
Главнейшие монастыри в Амдо – Гумбум и Лавран, насчитывающие в своих обширных храмах и многочисленных постройках тысячи лам, исповедывающих, главным образом, учение Цзонхавы, или так называемого желтого толка.
После некоторого отступления перейдем к прерванному рассказу о самом путешествии.
Прежде всего мы поставили себе задачу: посетить тангутское княжество Луцца, познакомиться с его воинственным предводителем Лу-хомбо.
Мой облегченный караван[280] распростился с зимовкою шестого января и ходко направился на пересечение оазиса прямо к ущелью речки Ранэн-жаццон. Здесь нас обступили знакомые серо-желтые высокие горные скаты, сжимавшие узкое ущелье. Горячие ключи Чи-чю были на этот раз безлюдны, хотя температура их по-прежнему оставалась очень высокой (+85°С). Первую ночь мы провели под прикрытием летней палатки в приветливом местечке между селением Ранэн-жаццон и кумирней Рнэн-гомба, среди зарослей высокого, достигавшего человеческого роста дэрэсуна (Lasiagrostis splendens).
Крайне сухой прозрачный воздух делал ночное небо особеннно глубоким, звезды искрились ярко, а красавец Сатурн заметно выделялся на темном фоне своим необыкновенным сиянием. Соседний монастырь, казалось, уже погрузился в дремоту, но наш лагерь долго оживлялся голосами русских, китайцев и тангутов-подводчиков; яркий костер привлекал компанию обогреться [на воздухе было –17°С] и побеседовать об окружающей местности.
С зарею следующего дня караван снялся и пошел в прежнем южном направлении с целью выбраться из глубокой впадины общей долины Хуан-хэ на прилежащее плато. Так как верховья речек и ручьев, впадающих в Желтую реку справа, образовали много ледяных каскадов, то мы принуждены были идти в обход этих неудобств и цепляться по страшной крутизне глинистых или лёссовых обрывов, прежде нежели поднялись на перевал Нара, или Риала, что значит «перевалить». Отсюда ясно обрисовывалась в тумане глубокая горная падь – брешь, сделанная в массиве ниже Гуй-дуя могучей Желтой рекой. В отдалении виднелся северный альпийский хребет, словно восточное[281] продолжение Южно-Куку-норских гор, а на юге вздымался величественный Джахар.
Вершины гор белели снежным покровом; кое-где, по террасам прилежащих высот, рядом с жалким подобием хлебных полей темнели банаги кочевых тангутов, а высоко, в увядших, мерзлых альпах паслись табуны лошадей и стада баранов и черных домашних яков.
Грязные ветхие палатки тангутов обычно внутри делятся на две половины: правую – мужскую и левую – женскую; в центре располагается очаг. По краям вдоль полотняных стен складываются кожаные мешки с чюрой, или сухим творогом, зерном и прочими припасами; там же лежат и вьючные седла. Прямо на земляном полу расстилаются засаленные войлоки и овчины, заменяющие туземцам постели. Подле богатых палаток нередко устраивается загородка – загон для баранов, бдительно охраняемых свирепыми собаками.
Следуя постепенно вверх по речке Чин-чю, мы вскоре вступили на луговое плато, носящее характер кукунорских степей. Волны увалов, отливая волнистым оттенком превосходных кормовых трав, тянулись бесконечными грядами с северо-запада на юго-восток. Местами они встречались и переплетались с целой системой песчаных барханов, надвигавшихся с северо-запада, из пустыни Магэтан, начинающейся почти от самого хребта Джупар. Барханы имели преимущественно северо-восточное – юго-западное простирание, круто обрываясь рыхлыми склонами к юго-востоку и представляя твердые пологие скаты с наветренной стороны. Соприкасаясь с горами, пески незаметным образом сглаживали холмистый рельеф плато и иногда достигали сотни футов высоты [до 30 м].
Из оазиса Гуй-дуя в княжество Луцца ведут три дороги. Восточная следует по высоким горам, западная тянется через унылые пески Магэтан, а средняя, которую избрала экспедиция, извивается среди мягких холмов и долин, минуя многочисленные речки[282] с ледяными накипями в горах и захватывая лишь незначительный рукав песков шириною около шестидесяти верст. По словам тантутов, в летнее время этот пустынный переход крайне тяжел и утомителен, так как присутствие раскаленных песков сильно повышает общую температуру окружающего воздуха.
Чем дальше мы продвигались на юго-юго-запад, тем больше казалось, что горы теснее обступали наш караван; вершины попутных холмов открывали новые долины, речки и новые горизонты. Оставив позади речку Ца-нага, откуда мы любовались темной высотой Чачан-кэ на западе, караван вскоре поднялся на перевал Ртыга-нига. Серебристо-белые вершины Джахар на юго-востоке и грандиозный хребет Джупар на юге обрисовывались все с большей ясностью. Спускаясь с перевала, мы обогнули щелевые выступы и пошли на пересечение волнистого лугового пространства к речке Гомын-гзюн, убегавшей в сторону впадины Хуан-хэ по узкой глубокой балке.
Экспедиция держалась юго-западного направления, обычно пристраиваясь на ночлег в соседстве тангутских стойбищ. Во время пути караван сопровождался кавалькадой всадников, подгонявших упрямых яков – наших новых вьючных животных, заменивших усталых лошадей и мулов.
По мере углубления внутрь неведомой дикой страны туземное население становилось все более и более своенравным и дерзким. Чувствовалась повышенная атмосфера. Накануне буддийского нового года подводчики, отправленные с нами по приказанию гуйдуйского тин-гуаня и получившие деньги вперед, заявили мне, что они хотят возвратиться домой, и просили отпустить их животных. Не успели мои спутники с помощью китайца-переводчика нанять новых яков у ближайших тангутов, чинивших по этому поводу нам всевозможные препятствия, как подводчики, бросив нас на произвол судьбы, скрылись.
Ночь под Новый год была облачная и тихая; лишь изредка разносился громкий лай свирепых тангутских псов, стороживших покой своих хозяев. Мы спали чутко, не раздеваясь, с оружием в руках, вверяя бивак бдительности двух часовых.
Наутро девятого января со стороны стойбищ кочевников слышались звуки раковин и прочих молитвенных атрибутов; подле банагов зажигались костры и совершались молебствия, причем мужчины и женщины делали земные поклоны, обернувшись лицом к востоку, к трем священным девственным вершинам: Амнэ-джагыр, Гига-амнэ-консым и Джахар.
Наш путь за рекою Мдурци-чю пролегал по ущелью, обставленному крутыми склонами; справа густо поросла карагана, будучи основательно засыпана песком, а слева расстилались отличные кормовые луга, орошаемые тремя ручьями. Пески, проникавшие также и на дорогу, нагревались солнцем до +15,2°С, несмотря на полуясное небо и температуру воздуха в тени, не превышавшую –1,6°С. Перевал Дорци-нига, поднятый так же высоко, как Ладин-лин[283] и увенчанный красивым обо, встретил нас неприветливо – крепким южным ветром, с силою бившим в лицо. Горизонт долгое время оставался закрыт нагроможденными в беспорядке высотами, и только перейдя на второстепенную по сравнению с Дорци-нига вершину, мы увидели широкую долину Монра[284] и вышеописанные пески Магэтан.
В окрестностях перевала экспедиция столкнулась с туземным разъездом, следовавшим куда-то с заводными конями. Тангуты с важным деловым видом осведомились о том, кто мы такие, а затем, ретировавшись в сторону, пропустили наш караван мимо себя, тщательно рассматривая каждое животное.
Становилось уже темно, когда мы разбили палатки, устроившись снова рядом с кочевьем тангутов в урочище Тун-нчи между речкою Лончен-чю, выбегающей из гор Юла, и песками. Обитатели банагов, кажется, все перебывали на биваке под предлогом продажи аргала, молока и проч. Не желая идти против местного обычая, мы принимали без всякого удовольствия угрюмых неопрятных гостей, неизменно угощая их традиционным чаем.
Погода между тем установилась довольно благоприятная; днем было тепло и тихо, воздух оставался прозрачным, а ночью, при морозе в –20°С, наблюдался лишь слабый ветерок, тянувший с гор. Караван продвигался успешно и надеялся в самом скором времени достичь тангутского княжества Луцца, где предполагалась первая от оазиса Гуй-дуя дневка.
Состоящая приблизительно из сотни банагов, ставка луццаского управителя лежит в урочище Шаныг[285], в превосходной пастбищной долине [южнее сухого русла речки Мон-чю], поперек которой экспедиция шла целый день, держа направление на известную группу черных палаток.
Тангутский князь делит свои владения на четыре хошуна, причем каждый хошун, насчитывающий до двухсот пятидесяти человек населения, управляется бэйсе.
Подъезжая к вышеупомянутому урочищу, мы повстречали немногочисленную, но весьма нарядную группу туземцев, одетых в праздничные костюмы и вооруженных саблями и даже винтовками.
Вблизи княжеской ставки нас встретили сначала сын князя – молодой красивый амдосец, выехавший вперед с княжеской дворней и почтительно взявший за повод мою лошадь, и сам Лу-хомбо или Рачжа, как его называют окрестные обитатели. Он появился в сопровождении нескольких женщин, одетых в цветные, разукрашенные лентами, бирюзою и раковинами шубы. Несмотря на семидесятитрехлетний возраст, крепкий мускулистый с несколькими глубокими шрамами на голове и теле, которое старик иногда обнажал, спуская шубу с правой руки, Лу-хомбо производил впечатление сильного, закаленного в боях воина, а может быть, и просто разбойника. После обычных приветствий мы вошли в обширную, сравнительно чистую палатку, где уже было готово обычное угощение – чай со свежим, только что поджаренным на бараньем сале, печеньем. В мужской половине банага, аккуратно застланной ковриками, мы разместились по старшинству: я сел у самой печи vis а vis с главою дома. Хозяин приветливо предложил мне отведать местного напитка, прося не стесняться и закусить как следует. Молодой князь то и дело брал с печи котелок и подливал мне чаю, прибавляя к нему кусочки хлеба.
Приняв угощение, я пожелал выбрать место для лагеря экспедиции; старик вместе с сыном тоже направились со мною и помогли разрешить этот вопрос. Мы остановились на открытой площадке, залегавшей саженях в ста от княжеской ставки и отделявшейся от нее длинным невысоким увалом, протянувшимся поперек долины. Тем временем подошел и караван. По окончании первых необходимых работ по развьючке животных и установке бивака оба князя попросили меня отпустить всех моих спутников на чашку чая после дороги. Все, казалось, шло самым лучшим образом, тем более, что при экспедиции следовал официальный китайский переводчик из Сининского управления, снабженный всякого рода бумагами для оказания нам содействия со стороны амдосцев.
Угостив русских молодцов, сановные тангуты направились в наш лагерь и положительно его осадили. Все наши гости оказались большими любителями выпить и без всякого стеснения заставили меня наполнять ежеминутно опоражнивавшиеся чарки крепчайшим спиртом, взятым для этой цели из запасов экспедиции[286]. Этот напиток очень понравился князьям, и они в знак одобрения поднимали кверху большие пальцы рук. Вначале я было попробовал предложить дикарям-номадам коньяку, но напрасно, коньяк, по их отзывам, «напиток женский»! В своих деловых беседах Лу-хомбо оказался, к сожалению, очень несговорчивым. Несмотря на все мои доводы, он требовал от экспедиции одну из лучших винтовок как дань за право следования каравана через его владения; за вьючных животных и проводников князь просил особую и тоже очень высокую плату. Предложенным мною револьвером он пренебрег и даже назвал оружие «детским».
Наугощавшись спиртом всласть, тангуты стали пьянеть, и я уже предвидел некоторые могущие возникнуть осложнения, неизбежные при всяком нервном возбуждении, как совершенно неожиданно меня выручила старушка-княгиня. Эта маленькая тщедушная женщина пришла как раз вовремя и без труда увела захмелевшего супруга, проронившего мне невнятно по дороге: «Завтра будем говорить о делах, о вашем дальнейшем пути, а сегодня я жду подарков». Подарки, действительно, князь частью уже получил, а частью они были направлены вслед за ним.
Два дня шли бесплодные переговоры, не приведшие ни к какому положительному результату. Для Лу-хомбо всего предлагаемого нами – и новых подарков, и самой высокой платы за животных, и проводников было недостаточно; он стоял на своем: «Подарите вашу русскую винтовку и ящик патронов, тогда я выпущу вас из своих владений!». Когда и на эту комбинацию, скрепя сердце, я вынужден был согласиться, тогда старый князь оказал: «Сейчас придет к вам мой сын, посмотрит еще раз ваше ружье, а я ухожу домой». Явился сын, гордо и надменно вошедший в казачью палатку, где и принялся за самый внимательный осмотр нашей магазинки. В конце концов он с прежней надменностью заявил: «Ваше ружье скверное, оно ничего не стоит» – и ушел.
Наш лагерь, до той поры оживленный различными зрителями, бесцеремонно забиравшимися даже в палатку, понемногу опустел; в нем остались лишь те немногие луццасцы, которые не могли отличить своей собственности от чужой и которые чуть не на наших глазах стащили все аптечные бинты и марлю.
Старый князь собрал совет старшин – опытных, видавших всякие виды разбойников; на этом совете, как выяснилось впоследствии, и было решено уничтожить нас, чтобы воспользоваться всем нашим оружием и пр. Мы не допускали мысли, что на нас готовится предательское нападение и тем более не могли знать, что Лу-хомбо одобрил на совете предложение сына и прочей молодежи напасть на нас глухою ночью, перебить горсточку русских, воспользоваться их самым ценным добром, а китайцу-переводчику, ночевавшему всегда в княжеской палатке, затем заявить, как нам стало ясно на другой день после безуспешной атаки, что нападавшие были не их однохошунцы, а обитатели соседнего аймака, их отъявленные враги, нагрянувшие в Луцца с целью отомстить луццасцам за своих убитых товарищей, но случайно напавшие на русских.
К вечеру одиннадцатого января 1909 года настроение членов экспедиции сделалось крайне нервным; со стороны княжеской ставки слышался подозрительный топот конских ног; по вершинам прилежащих холмов разъезжали лихие всадники, громко перекликавшиеся в ночной тиши высокими вибрирующими голосами. В ожидании чего-то недоброго мы решили не раздеваться и спать в полной боевой готовности, с оружием в руках.
На следующий день наши отношения с тангутами еще более обострились. Столковаться с ними мирным путем, по-видимому, не представлялось возможности. Ничто не могло их удовлетворить; стоило нам согласиться на запрашиваемые туземцами несуразные цены, как они тотчас придумывали новые и уже совершенно неприемлемые требования.

От сининского переводчика мы узнали, что князь согласился распорядиться подводами на завтрашний день на условиях самых последних, то есть по баснословно дорогой цене за каждое отдельное животное и за каждого из пятнадцати проводников, тогда как в сущности мы нуждались только в одном, но нам навязывали их непременно пятнадцать человек, якобы один-два не в состоянии будут возвратиться домой живыми и не ограбленными. О ружье и патронах более не упоминалось.
Сумерки погасли скоро; на землю спустилась темная облачная ночь, особенно памятная всем нам, странникам, ночь на тринадцатое января. Со стороны княжеской ставки было как-то необыкновенно тихо. На этот раз мы не делали никаких приготовлений, рассчитывая спать с некоторым комфортом – раздевшись и лишь положив винтовки рядом с собою. Мне долго не спалось. Громкий неистовый лай собак не смолкал ни на минуту. Чутко прислушиваясь ко всему, я уносился мыслью к далекой родине, к теплому родному очагу. Не успел я забыться в мечтах, как вдруг внезапный винтовочный выстрел снова поднял всех нас на ноги. Было двенадцать с половиной часов ночи. Бдительный часовой, гренадер Санакоев, тотчас крикнул: «Нападение, вставайте!» и открыл огонь по удалявшимся двум всадникам – туземному разъезду, произведшему первый выстрел.
Прошла всего минута или две, и мы выскочили из палаток, конечно, кто в чем был, с ружьями в руках, но уже никого не видели, слышен был только резкий топот копыт быстро скакавших корней. Едва мы успели одеться, полностью вооружиться и встать в боевую линию, как с той же западной стороны, куда ускакал разъезд, заслышали новый топот копыт, постепенно усиливающийся, и вместе с тем завидели черное пятно, выроставшее по мере приближения тангутов к нашему лагерю. Темная январская ночь была единственная свидетельница всего того, что произошло между маленькою горстью русских и сотенным отрядом диких номадов, мчавшихся в карьер с пиками наперевес на маленький лагерь иностранцев, открывших огонь шагов на 400–500 навстречу атаковавшим. Огонь восьми наших винтовок описывал непрерывную огненную змейку, ярко сверкавшую в темноте ночи.
Разбойники не выдержали, не доскакали какой-нибудь сотни шагов, вероятно, и того менее, круто повернули в северную сторону и тотчас скрылись в глубокой лощине. Однако гулкий топот копыт по сухой промерзшей почве долго слышался в тишине. Все описанное произошло так быстро, так стремительно, что вначале казалось каким-то таинственным призраком; это был какой-то дикий вихрь или ураган, промчавшийся бог весть откуда и куда. Не стой мы в полной боевой готовности навстречу этому грозному урагану, ничто не спасло бы нас от стремительности разбойников – их пик и сабель. Действительно, если бы разбойники не выслали разъезда снять нашего часового и тем самым не подняли бы нас на ноги, их план, наверно, удался бы, их атака в темноте ночи сделала бы свое дело!
Но рок судил иначе. И как мне не верить в мою путеводную счастливую звездочку! Едва мы успели опомниться от всего происшедшего, как со стороны ставки князя услышали выкрики Лу-хомбо и его сына: «Что случилось, не перерубили ли русских наши соседи – враги[287]? Какой сильный огонь!» и пр. Так потом передавал нам сининский переводчик, от страха потерявший голову. Чтобы скорее удовлетворить любопытство, старик-князь прислал в наш лагерь своего сына, который был крайне удивлен, что мы все целы и невредимы, стоим в полном боевом порядке и ждем новой атаки. Теперь равнина огласилась дикими криками, пальбой вдали и чем-то зловещим, продержавшим всех нас под ружьем порядочное время. Мы уже больше не верили этим негодяям и стали с этой, чуть не роковой ночи спать не раздеваясь в объятиях с ружьем и патронами в течение всей зимней экскурсии.
Туземцы как будто избегали нас. Любопытные совсем не посещали экспедиционный бивак, и мы, наконец, были избавлены от постоянных зрителей. Только один весьма симпатичный лама, с которым мы уже ранее успели подружиться, прибежал ко мне в большом волнении и не знал, как выразить свое сочувствие и радость по поводу победы русских. В неудержимом порыве молодой тангут схватил мою руку и крепко прижал ее к своему сердцу. Это своеобразное выражение симпатии тронуло меня до глубины души. Утром тринадцатого января, я поздравил моих молодцов-спутников старшими или младшими унтер-офицерами или урядниками и пояснил им положение, в котором мы неожиданно очутились. Явился Лу-хомбо, также похваливший всех нас за молодецки отбитую атаку.
Я в шутливом тоне спросил князя, не его ли подчиненные вздумали сыграть с нами такую злую шутку? На это гордый старик ответил: «Собственной рукой зарублю, а если окажется раненым, то и заколю того, кто осмелился бы из моих людей принимать участие в набеге!». Лу-хомбо рассвирепел, гневные глаза властного старика метали искры, он нервно вздрагивал и машинально повертывал на голове свою лисью «атаманскую» шапку, порою даже сбрасывал рукав с правого плеча, обнажая спину, зарубцеванные раны; старый воин видывал виды! Теперь я стал верить, что Лу-хомбо никогда никому не давал даже обычных подарков, как он мне об этом заявил в первый день нашего знакомства, но сам со всех брал столько, сколько хотел. Кажется, в первый раз князю пришлось сознаться в своем бессилии.
Чтобы не навлечь на себя еще больших подозрений и не дать нам узнать об убитых и раненых, о чем мы узнали только через несколько дней и переходов, луццаский князь поторопился сплавить экспедицию, назначив в начальники проводников своего сына. Перед отъездом Лу-хомбо самым хладнокровным образом пригласил меня и моего спутника Четыркина откушать чаю в дорогу. Мы приняли приглашение с большой неохотой, но все-таки не сочли удобным отказаться. Сидя в княжеской палатке и беседуя с хозяевами, нам обоим приходилось зорко следить за тангутами, которые в любой момент могли схватить оружие, расставленное всюду вдоль бортов палатки, и покончить с двумя неосторожными русскими. Чай и печенье мы также вкушали с большой осмотрительностью, опасаясь обычной здесь предательской отравы. Легко представить себе, как нудно и долго тянулись последние часы, проведенные у коварного вождя разбойничьего хошуна. Старая княгиня, несмотря на всю натянутость отношений с ее супругом, рассыпалась передо мною в любезностях и не постеснялась выпросить у нас несколько кусочков сахару.
От доставки экспедиции в монастырь Рарчжа-гомба, как я этого желал, луццасцы отказались наотрез, мотивируя свое нежелание высоким снеговым хребтом на пути, но вероятнее всего, боязнью нголоков, таких же разбойников, как и они сами, которые давно грозят Лу-хомбо набегом «за прежние давние грехи старого волка». Князь продиктовал наш длинный, окружный маршрут своему сыну, с наказом передать его зятю старика, обязанному затем доставить экспедицию с тем же наказом в линию кругового пути, залегавшего в районе монастырей Рарчжа-гомба – Лавран.
Подобный удлиненный и круговой маршрут, придуманный князем Луцца в целях доставить заработок родным и знакомым старшинам, был полезен и для нас, так как давал возможность познакомиться с самым интересным, неведомым уголком Амдоского нагорья. Правда, это исследование стоило нам очень дорого в физическом, нравственном и материальном отношениях. До прихода в монастырь Лавран мы ложились спать не раздеваясь и не расставаясь с ружьем; ночные караулы держали самые строгие, самые усиленные; при малочисленности участников зимней экскурсии на часах приходилось стоять всем нам через ночь в продолжение пяти-шести морозных часов, а на другой день следовать в дороге со всякого рода наблюдениями и сборами коллекций[288], на высоте, на три-четыре версты превышающей Петроград. Нервы наши были напряжены до крайности.
Много времени прошло с тех пор, но зимнюю экскурсию в Амдо я помню как сейчас и живо чувствую ее кошмарный ужас, словно переживаю снова самое путешествие в этой угрюмой, неприветливой стране. Вместе с тем Амдоское нагорье всегда будит во мне чувства глубокой благодарности и нежной дружеской привязанности к моим спутникам – избранникам русского народа, с которыми только и можно совершать такие подвиги. Надеюсь, за последнее выражение простит мне читатель, в крайнем случае тот, который сам хоть немного вкусил прелести в странствованиях по диким странам Центральной Азии.

Глава восемнадцатая. Зимняя экскурсия вглубь амдоского нагорья (окончание)
Дальнейший путь по нагорью. – Новые хошуны и их управители. – Зимние путевые невзгоды и лишения. – Враждебное отношение амдосцев к экспедиции. – Их стремление вызвать повод к вооруженному столкновению. – Стрельба по разбойникам. – Криводушие ламы – старшего проводника. – Новые зимние невзгоды. – Неожиданная встреча с отрядом амдосцев: счастливое избежание кровопролития. – Кгарма – начальник хошуна Чэма. – Страсть амдосцев к спиртным напиткам. – Характеристика пути и движение каравана. – Прощание с Кгармой. – Во владениях Гуань-сю-Дунчжуба. – Углубление долин и появление кустарников и более пышных луговых трав. – Живая картинка под перевалом Кисэр-ла. Крутые меры, по отношению Дунчжуба. – Приход экспедиции в монастырь Лавран.
Тринадцатое января – день выступления отряда из урочища Шаныг – был для нас всех радостным и приятным днем. Приведенные к лагерю с раннего утра вьючные животные скоро были готовы к отправлению, и, распрощавшись с князем, мы двинулись в юго-юго-западном направлении в сторону перевала Амнэ-рычон. На вершине, вблизи живописной группы обо, одетой лентами и шерстяными нитями, четверо тангутов благоговейно совершали свои обычные молитвы.
Спускаясь к юго-западу, дорога огибала незначительные седловины гор, шла наперерез болота бачин и терялась в обширной кормной долине Ба, обставленной высокими кряжами, с которых (главным образом с полуденной стороны) стремительно сбегали три многоводные речки – Ба-чю, до одной сажени шириною, Чэга-гол, до двух – трех сажен, и Нэсэ-чю, до трех – пяти сажен шириною[289]. На юге в значительном отдалении белели снеговые вершины двух горных цепей – Сэрчим-нэга и Лапмын-нэга, вытянутых в широтном направлении. За этой скалистой стеною в самом диком и неприступном уголке Амдоского нагорья, окруженный разбойничьим племенем нголоков, прячется таинственный монастырь Рарчжа-гомба. Мне говорили, что монастырь расположен на величественном холме, с трех сторон омываемом змееобразным течением Хуан-хэ. В Рарчжа-гомба нам так и не удалось побывать.
Довольно густое и весьма зажиточное население с многочисленными стадами баранов, яков и табунами лошадей группировалось к западу от нашего пути, в ложбинах горных отрогов.
Пышные луговые пространства отписываемой долины сразу напомнили мне кукунорские степи. Здесь так же, как и там, встречались норы тарабаганов и пищух; нередко у дороги показывались зайцы, и даже осторожные лисицы иногда позволяли любоваться собою. Крылатые хищники – Buteo и Gennaia – по-прежнему преследовали грызунов. Борьба за существование и постоянное стремление сильнейшего одержать верх над более слабым – принципы, господствующие в мире животном, имели широкое применение и в окружавшей нас дикой, своенравной общине людей; почти ежедневно мы имели случай наблюдать двигавшиеся в разных направлениях вооруженные отряды нголоков, спешивших расправиться то с одним, то с другим враждебным племенем. В этот день мы таким образом встретили пятнадцать человек прекрасно вооруженных грабителей, следовавших из княжества Луцца на восток с целью напасть на подобных им разбойников, учинивших недавно самосуд над их однохошунцем-конокрадом.
В течение всего первого перехода от урочища Шаныг экспедицию сопровождал сильный юго-западный ветер, вздымавший облака пыли и постепенно превратившийся в бурю. Животная жизнь как-то сразу притихла; все обитатели степи скрылись по своим норам; с подветренной стороны одного маленького бугорка я заметил сидящего насупившись светлогрудого Buteo, остроумно спасавшегося таким образом от непогоды. С трудом осилив еще несколько верст, мы решили последовать примеру птицы и, остановившись ранее обыкновенного в урочище Батцы-ту[290] по соседству со стойбищем сына Лу-хомбо – Луань-гоу-женя, прибегнуть к единственной защите путешественников – неизменной палатке.
Более теплые, приветливые дни сменялись почти всегда холодными нудными ночами, не дававшими ни нравственного, ни физического отдыха. Стоишь, бывало, на дежурстве у бивака в самую глухую полночь, сжимаешь винтовку закоченелыми руками, прислушиваешься и чутко ловишь малейший шорох. В спящей природе абсолютная тишина; звезды и планеты горят ярко, и в течение долгих часов невольно наблюдаешь их правильный и вечный путь по небу. В северо-западной части горизонта пылает алое зарево – это степной пожар то вспыхивает, то потухает, порою причудливо освещая облака, порою поднимаясь на седловины горных кряжей и рисуя воображению действующие вулканы. У ног прыгают грызуны; в соседних холмах кричит заяц, и изредка издает свои глухие ноющие звуки филин. Если невдалеке кочуют тангуты, то до слуха очень отчетливо доносится неистовый лай собак и дикие выкрики туземной стражи, бдительно охраняющей покой своего родного стойбища. Томительно тянется время; отстояв, наконец, положенные пять-шесть часов, торопишься в палатку отдохнуть перед следующим переходом, но лютый двадцатиградусный мороз дает себя чувствовать: постель холодна, как лед, и никакое одеяло не может согреть закоченевшие члены. Так усталый и сонный ежишься до самого утра и забываешься лишь на один-два часа, после того как дежурный казак немного согреет палатку походной печью.
Южнее долины Ба дорога раздвоилась; с сожалением отказавшись от интересного в естественно-историческом и этнографическом отношениях пути на Рарчжа-гомба, мы избрали юго-восточное (затем восточное и северо-восточное) направление к монастырю Лавран, надеясь таким образом успешнее освободиться от тяжелых разбойничьих сетей.
Четырнадцатого января, пользуясь любезным содействием молодого грабителя Луань-гоу-женя, экспедиция благополучно прибыла в хошун зятя Лу-хомбо – Хор-хон-женя. Родственники быстро обменялись несколькими теплыми словами, и в результате наш новый знакомый потребовал еще более высокую и несуразную плату за животных и проводников, чем стянувший с нас втридорога Луань-гоу-жень. Приходилось покоряться обстоятельствам; пока другого выхода не было. Зять Лу-хомбо охотно навещал нас на биваке, постоянно выпрашивая разные подачки, беседуя о текущих событиях. Но никто из членов экспедиции не допускался в его палатки.
Однажды он даже проговорился и рассказал нам о том, как луццаский князь принимал самое деятельное участие в организации предательского нападения на экспедицию и как в этой стычке сильно пострадал самый лучший и храбрейший тангутский отряд. При этом Хор-хон-жень заметил: «Хорошо, что русские не были зачинщиками кровавого столкновения, иначе мы все восстали бы против них, – и, помолчав, добавил, – прошу вас милостиво относиться к тангутам моего хошуна, они вам не сделали ничего дурного. Прежде чем применять вооруженную силу, старайтесь всегда угадать, с кем вы имеете дело, а для этого достаточно окликнуть подозрительного человека словом «аро», то есть приятель; если он повторит ваше приветствие – вы можете спокойно продолжать ваш путь, если же он промолчит – стреляйте без промедления». Суровый и краткий, но вместе с тем справедливый наказ, о котором мы не раз потом вспоминали, как вспоминали и некоторых амдоских вождей, отличавшихся известным благородством.
Дни шли за днями, а экспедиция все глубже уходила в дикий, пустынный горный лабиринт, из которого, казалось, нет выхода. С перевала Джэму-лацци, круто сбегавшего к югу, за ближайшими второстепенными высотами снова открылись виденные ранее серебристые, матовые, белоснежные Сэрчим-нэга и Лапмын-нэга. Внизу блестела Ркачюн-чю, стремительно несшая свои прозрачные воды по каменистому, круто падающему ложу с юго-востока на северо-запад.
Ркачюн-чю – типичная горная речка, имеющая не более одного фута [0,3 м]глубины, при трех – пяти саженях ширины, заключена в сравнительно неглубокой долине (не превышающей сто – двести саженей [400 м] ширины), обставленной крутыми берегами, изрезанными приветливыми ущельями и оврагами. Прекрасные альпийские луга спускаются почти до самой воды, где их местами сменяют заросли курильского чая (Роtentilla fruticosa), дающие приют мелким пташкам, вроде рыжебрюхой горихвостки (Ruticilla erythrogastra) [Phoenicurus erythrogastra] и других. При нашем приближении с речки поднялась пара крякв, а белогрудная оляпка (Cinclus cashmeriensis) продолжала исследовать прозрачную воду, с писком пролетая вниз или вверх по течению.
В урочище Ркачюн-джун ледяные забереги речки были довольно основательных размеров, а еще выше они сомкнулись в одну сплошную массу, оставив нас снова без свежей воды.
Экспедиция исследовала долину Ркачюн-чю на протяжении десяти верст к юго-востоку, а затем, повернув вдоль одного из ее притоков, остановилась в урочище Всилун, поднятом выше 12600 футов [3800 м] над уровнем моря – это в долине. В одном из боковых ущелий мы отметили маленькую походную кумирню, принадлежавшую гэгэну, кочевавшему здесь же по соседству в сопровождении немногочисленного штата лам и богомольцев.
Население, состоявшее преимущественно из тангутов и редких разрозненных групп нголоков, по-прежнему проявляло хищнические инстинкты по отношению к европейцам и их богатому вооружению. Вымогая от нас всеми способами серебро и всячески выпрашивая хоть одну винтовку, туземцы ухитрялись плутовать еще иным способом – они скрывали более легкую, прямую дорогу на Лавран и вели усталый караван зигзагами, заставляя иногда проделывать совершенно излишние боковые петли. Китайцы-переводчики – прирожденные трусы – не решались точно передавать моих резких и решительных слов туземцам, и те, приписывая нашу уступчивость слабости, с каждым днем становились более и более дерзкими. Мое терпение приходило к концу, а между тем расстояние до Лаврана, казавшегося нам обетованною землею, сокращалось необыкновенно медленно. Лучшими показателями нашего постепенного движения к югу был вышеупомянутый отдаленный хребет Сэр-чим и Лапмын-нэга, названный тангутами на этот раз иначе, а именно Цза-сура.
С каждого следующего перевала могучая цепь обрисовывалась все с большей отчетливостью. Наконец, поднявшись к вершине горного прохода Птыг-чори, насчитывающего 13 730 футов [4184 м] над океаном, члены экспедиции увидели, что их отделяет от альпийското хребта лишь неширокая (одна-две версты) долина. Гребень Цза-сура обнаруживал оголенные, резкие в своих очертаниях скалы и утесы, кое-где обильно засыпанные снегом; безжизненный однообразный ландшафт верхнего пояса несколько ниже сменялся альпийскими лугами, по которым сбегали быстрые шумные речки, впадая в более крупную артерию – реку Кда-чю. Долина, с кочковатым дном и пасущимися на ней антилопами ада (Procapra picticauda), очень напоминала нагорные равнины Тибета, где только вместо домашних яков бродят огромные дикие их собратья (Bos grunniens)[291].

Лишь перевалив мягкое луговое плато Джандэль (собственно платообразный перевал) и выступив на вершину перевала Хамыр, нам открылись на далеком востоке-северо-востоке две цепи гор, указывавшие истинное лавранское направление.
Сумерки застали экспедицию в холодном неуютном урочище Ары-тава, в двух верстах от Хамыра, по соседству с тангутским стойбищем. Присутствие человека, как везде в Центральной Азии, привлекало многочисленных воронов-санитаров, круживших над темными банагами. К вечеру стал падать снег, достигший вскоре трех дюймов [7 см] глубины и сильно изменивший пейзаж. Над биваком с оживленным криком пролетела стайка чечеток; изредка слышался приятный голос Melanocorypha maxima. Но нам не суждено было долго наслаждаться тихим уединением. Каким-то чутьем узнавшие о прибытии русских, туземцы тотчас поспешили к нашим палаткам со своими вечными расспросами и бесцеремонным любопытством.
Украшенные по обыкновению длинными лентами, свешивающимися по спине[292], женщины тащили на руках грудных младенцев, а более взрослые дети сами бежали к нам, и вся эта публика без всякого стеснения залезала в палатки, выпрашивала сахар и никогда не упускала случая своровать все, что попадало под руку. Так, например, у меня украли нагайку, у некоторых из моих спутников отрезали стремена, а у китайцев стащили уздечки. Когда же китайский тунши в досаде замахнулся на одного из воров кнутом, откуда-то немедленно с криком вынырнул вооруженный всадник – отец вора, как оказалось впоследствии, со стягом у седла, и стал угрожать саблей. Еле-еле успокоили его благоразумные собратья, а подоспевшая супруга совсем привела озверевшего разбойника в чувство, ударив его несколько раз стягом по голове.
Нахальный вид и задор, светившиеся в глазах каждого взрослого тангута, раздражали участников экспедиции до последней степени, а стремление нарочно толкнуть или задеть вас рождало желание не задумываясь жестоко отомстить разбойникам.
Глава туземцев – довольно важный лама – не отличался высокой нравственностью и так же, как и прочие монахи, уже не говоря про мирян, любил вино и смертоносное оружие больше всего на свете. Считаясь со вкусами и взглядами этих плутов, мы старались расположить их к себе соответствующими подарками, многозначительно показывая им между прочим прекрасный редкий портрет Далай-ламы и бумагу цин-цая, служившую нам в виде охранного листа. Но все наши старания не достигали цели: повторяю, и здесь вместо одного-двух проводников экспедиции навязывали целый отряд в пятнадцать человек с платою каждому по одному лану серебра в день. Подобная нелепость объяснялась самым простым и наивным образом: разбойники доказывали, что они недавно совершили набег на обитателей попутных хошунов, несколько человек убили и угнали табун лошадей. Боясь мести, они якобы не решались путешествовать в одиночку и пускались в путь только группами не менее десяти всадников.
Утро девятнадцатого января расцвело бледное и туманное. Экспедиционные животные с трудом шагали по высохшим или, вернее, замерзшим кочкам шириков. Однообразие унылой картины несколько оживлялось изящными антилопами ада, появлявшимися то здесь, то там и развлекавшими нас своими легкими прыжками.
Огибая подножья гор, мы заметили следовавший навстречу каравану тангутский разъезд. Увидев нас, он свернул в сторону, но затем, ловко воспользовавшись прикрытием вздымавшегося на пути увала, снова поскакал к нам, думая украдкой пробраться к путникам.
Сопровождавший наш караван лама в страхе торопил нас немедленно открыть стрельбу по разбойникам, что мы, убедившись в их предательском маневре, не замедлили сделать. Четыркин и Полютов тотчас поднялись на ближайший увал – пригорок – и на расстоянии восьмисот шагов одновременно выстрелили по три раза, в результате чего убили лошадь и подстрелили двух тангутов.
Не прошло и нескольких минут, как разъезд нагнал нас и, вступив в переговоры, выставил нам жестокое обвинение в ранении ни в чем неповинных товарищей. Предатель-лама целиком отрекся от своих слов о необходимости стрелять по негодяям, и пришлось употребить все усилия, чтобы исчерпать инцидент мирным путем. В конце концов за убитую лошадь было отдано два лучших коня, а раненым людям подарена порядочная сумма на лечение. Переговоры несколько раз прерывались злобными выступлениями туземцев, которые ежеминутно грозили перейти в рукопашную схватку.
На душе у всех было смутно и тяжело; погода вполне гармонировала с настроением: пронизывающий ветер пробивал одежду насквозь, а упорный густой снег слепил глаза.
Туземцы-проводники все более и более проявляли свои хищнические наклонности. Двое из них, приблизившись ко мне сзади, несколько раз прицеливались в меня пиками, выбирая для изменнического удара лишь более удобный момент. К счастью, гренадер Демиденко вовремя заметил опасность и предупредил роковое несчастье.
В сумерках путешественники остановились в долине Дэг-зачжа, в урочище Нэрык-тон поблизости прекрасного ключа. Кругом завывала вьюга, и мокрый аргал – наше единственное топливо – долгое время не разгорался, лишая нас живительного тепла.
Вдали на косогоре показался всадник; он долго неподвижно стоял, глядя на нас, а потом исчез за холмом, мелькнув на фоне бледного неба странным силуэтом. «Да это не человек, а большой волк», – промолвил один из нас, будучи вооружен биноклем, и все посмеялись своей ошибке. Нервное возбуждение мешало спокойному сну, да и вся обстановка мало способствовала отдыху. Наши враги – тангуты, не скрывавшие своей ненависти к чужеземцам, устраивались на ночь рядом с экспедиционными палатками, и волей-неволей мы не смыкали глаз. Спали только наиболее усталые, спали тогда, когда от сильного переутомления притуплялись все чувства и страх смерти, призрак которой не раз витал над нами, исчезал сам собою, уступая место полному безразличию. Наша всегдашняя союзница луна не изменила нам и в эту тревожную ночь. С ее помощью и благодаря открытой позиции, которая всегда выбиралась для ночлега, трое часовых могли надеяться вовремя предупредить всякое нападение.
Долина Дэг-зачжа открылась нам со всею ясностью лишь с рассветом следующего утра; от незамерзающих ключей поднимался густой пар, но в общем воздух был прозрачнее обыкновенного, и день обещал быть ясным. Расступившись по сторонам на семь – десять верст к северу и югу и дав место кочковатому ширику, возвышались холмы, одетые лишь луговой растительностью при полном отсутствии не только леса, но даже кустарников.
Речка Вдэ-чю или Рзэ-чю, течению которой мы следовали от самого перевала Хамыр, жмется к южному краю долины, образуя благодаря своему медленному течению многочисленные и самые неожиданные извилины. Корытообразное русло этой речки, шириною в пятнадцать – двадцать сажен [30–40 м], имеет мягкое черное илистое дно и обставлено возвышенными, до трех – четырех футов [0,9–1,2 м], обрывистыми берегами. В урочище Рзэт мощным движением к востоку Вдэ-чю прорывает гряды холмов и, оставив Дэг-зачжи, устремляется в соседнюю долину Натон, носящую прежний кочковатый характер.
Чем выше поднималось солнце, тем чувствительнее оно жгло лицо. В тени температура не превышала –9,4°С, но несмотря на это горячие лучи оживляли заснувших было насекомых, и вскоре мы увидели мух, бойко летавших около каравана животных. В воздухе царила полная тишина, лишь звонкие приятные голоса больших жаворонков радостно долетали с высоты. К востоку и западу, насколько хватало глаз, тянулась пересеченная местность без признаков человеческого жилья. Впрочем, среди отдаленных шириков кое-где пестрели темные точки домашнего скота, пасшегося в полном согласии с антилопами ада. Только глядя на эти стада, становилось очевидным недалекое присутствие корчевий номадов.
Сделав крутой поворот, дорога обогнула увал, за которым действительно тотчас обнаружилась стоявшая в прикрытии, в урочище Саголыгэ, группа тангутских банагов.
Не успели мы остановить и связать караван, как от разбойничьего стойбища немедленно отделилось несколько десятков с ног до головы вооруженных всадников, стремительно понесшихся на нас в атаку. Справа на отличном скакуне выделялся начальник отряда, по-видимому, ловкий наездник. Нападение было совершенно неожиданным. В следующую минуту с нашей стороны выступило несколько проводников-туземцев, догадливо решившихся встать между тангутами и русскими, дабы предотвратить кровопролитие. Произошло невольное замешательство. Тангуты придержали коней и в ожидании выстроились в ряд, гордо подняв пики частоколом.
Я осведомился, с кем имею дело, и получил ответ, что собравшиеся негодяи представляют из себя эскорт одного из гэгэнов; сейчас они выехали к нам навстречу, якобы для того, чтобы узнать намерение русских. Не доверяя ни одному слову предателей, я предложил им выделить из своей среды двух-трех человек – старших тангутов для беседы со мною. На мое предложение не замедлил откликнуться сам начальник большого, в двести пятьдесят палаток, хошуна Чэма по имени Кгарма – человек китайского типа, в больших очках, явившийся к нам на белой лошади в сопровождении своего красавца-сына и приближенного советника. Пригласив гостей в палатку, мы угостили их спиртом, до которого все оказались большими охотниками[293], и поднесли им подарки. Старший чиновник получил кусок парчи, сын его – охотничий нож, советник – красную флягу «царского пороха», а отсутствовавшей супруге старика я просил передать кирпич чая.
Но ни подарки, ни угощение не смягчают разбойничьих нравов. Сказав похвальное слово по поводу подарков и принеся мнимое уверение в дружбе, тангуты кончили тем, что взяли с нас за продовольствие, животных и проводников еще более недобросовестную плату, чем их предшественники. Выяснилось, что и здесь, как вообще всюду на Амдоском нагорье, отдельные хошуны живут в непримиримой вражде друг с другом из-за постоянных обоюдных грабежей и убийств. Такие «добрососедские» отношения тангутов между собою, конечно, весьма плачевно отражались на нашем маршруте, который в зависимости от этого часто претерпевал самые различные изменения.
Все же я могу сказать, что из всех тангутских вождей наиболее симпатичным до конца оставался именно наш новый знакомый – Кгарма, проведший экспедицию через все свои владения вплоть до следующего разбойничьего стана – Гуань-ею-Дунчжуб. Не упуская личной выгоды, он все-таки сочувствовал экспедиции и во всем, исключая денег, охотно шел на уступки. Весьма разумный от природы и бывалый вояка, Кгарма был интереснейшим собеседником, с которым я не раз забывался по вечерам в длинных разговорах. Наше оружие не переставало восхищать влиятельного тангута и, хвастая своей относительно меткой стрельбой, он часто просил членов экспедиции, в свою очередь, показать свое искусство.
Мы всегда охотно исполняли подобные просьбы, так как репутация отличных стрелков наилучшим образом гарантировала нашу безопасность.
Упорно и настойчиво двигалась незначительная горсточка людей, следуя отчасти пешком, отчасти верхом на лошадях или яках вслед за кучкою темных быков, издающих свое оригинальное хрюканье и задевающих вьюк за вьюк. В непосредственной близости к каравану гарцуют на отличных конях вооруженные разбойники. Этот эскорт не внушает к себе ни малейшего доверия, но делает вид, что охраняет русских. В сомнительных местах он поднимается на прилежащие вершины, зорко всматривается в даль и предупреждает об опасности, готовя, может быть, в то же самое время сам еще более страшную ловушку. Иногда совершенно неожиданно разъезд пускается в карьер и, проскакав известное расстояние, останавливается для совещания и чаепития.
Сначала все тихо кругом и видны одни силуэты тангутов, раскладывающих костер; потом вдруг среди общего безмолвия гор сразу раздаются резкие пронзительные крики, приводящие новичков в жуткий ужас. Молодежь невольно вздрагивает в седле и хватается за оружие. Но это ложная тревога – тангуты сварили чай и, брызгая по сторонам горячей влагой, кричат просительную молитву к богу гор, вымаливая благословение на предстоящий путь. А ночи, действительно, страшные ночи. Сколько, сколько раз, систематически, туземцы готовили нам Варфоломеевскую ночь[294]. Во время ночных дежурств я сам часто наблюдал большие разъезды разбойников, которые, остановившись в отдалении, часами смотрели на наш бивак, следя за часовыми и как бы не решаясь напасть. Измучив дежурных томительным бесплодным ожиданием, разбойники внезапно вскакивали в седла и быстро исчезали, теряясь в глубоком мраке.
Двадцать первого января экспедиция выступила после обеда и направилась вдоль по обширной долине Натон, лежащей также на значительной абсолютной высоте. Вдали, как на северо-востоке, так и на юго-западе, вздымались засыпанные снегом внушительные горные массивы, создававшие величественное впечатление. Дно долины по-прежнему было испещрено характерными для всех высокогорных долин Тибета болотистыми кочками мотошириков. Пернатый мир вносил мало разнообразия в монотонность окружающего: лишь изредка пролетит, бывало, изящный лунь, промчится быстрым полетом сокол (Gennaia [Falco] или Tinnuneulus [Cerchneis]) и вновь опять кругом все затихает в чуткой дремоте, прерываемой одними нежными голосами жаворонков – Melanocoryphoides maxima [Zvlelanacorypha maxima] et Otocorys elwesi elwesi [Eremofila alpestris].
В шести-семи верстах к северо-востоку от урочища Саголыгэ караван пересек большую дорогу из Куку-нора в Сун-пан-тин южнее Лаврана и, переправившись по льду через прихотливо-извилистую речку, остановился лагерем на берегу Рзэ-чю подле холма Джясы-лапци, сделав в этот день маленький шестнадцативерстный переход.
Путешественники с нескрываемым нетерпением, повторяю, словно обетованной земли, ожидали монастыря Лаврана. Время тянулось бесконечно долго, холмы вырастали за холмами, с вершин перевалов открывались новые горы, долины и речки. Казалось, им не будет конца. Караван следовал более или менее вдоль по течению Рзэ-чю, и только в месте ее слияния с небольшим притоком Чун-чю мы с сожалением расстались с приветливой и интересной в научном отношении речкой, продолжая путь на восток. Только с ближайших холмов мы наконец увидели суровые запорошенные снегом складки хребта, отделявшего нас от Лаврана.
Приблизившись к хошуну Гуань-сю-Дунчжуба с юго-западной окраины его, наш «приятель» Кгарма направился для личных предварительных переговоров со своим родственником – хошунным начальником, а караван расположился на ночевку в урочище Хур-мару.
Теперь до монастыря Лаврана оставалось всего лишь четыре перехода, проходящих частью в области горных цепей Цзэ-ког и другой – безымянной цепи, с перевалом Кисэр-ла, лежащим также поперек нашего пути, а частью в области междугорных мягких долин рек и речек системы Хуан-хэ.
Давно мы уже не видели солнышка! Дни за днями неизменно расцветали пасмурные, облачные; слегка подернутый туманом окрестный воздух не позволял производить наблюдений общегеографического характера в желательных размерах. Наши работы главным образом сосредоточивались на ведении путевого дневника, вычерчивании съемки и метеорологических и астрономических наблюдениях. Коллекции, за исключением геологической, росли очень медленно, так как природа спала крепким сном. Одни только четвероногие и пернатые хищники прекрасно чувствовали себя среди суровых гор. По ночам к биваку нередко подходили украдкой голодные волки, которых приходилось отпугивать выстрелами. Бородатые ягнятники, белые и бурые грифы и орлы-беркуты наблюдались почти ежедневно над вершинами, убеленными снегом.
В боковых падях, иногда укрытых низкорослым кустарником и защищенных от холодных ветров, прекрасно зимовала кабарга, а из птиц – земляные вьюрки, сойки (Pseudopodoces humilis) и ушастые жаворонки. Выше – в скалистых частях ущелий – находили себе убежище строгие улары (Tetraogallus tibetanus Przewalskii). Холод и довольно обильный в горах снег не мешали, однако, жизни пробиваться понемногу наружу. Так, например, двадцать четвертого января у обрывистого берега речки под дерном мои спутники были обрадованы находкою первых жуков.
По ночам в нашем неприспособленном к климату летнем жилище бывало довольно неуютно; все с сожалением вспоминали удобную теплую юрту, но никто не роптал на судьбу, так как тут же, рядом, туземцы-подводчики, в сущности такие же люди, как и мы, являли удивительный пример стойкости и выносливости, живя просто под открытым небом. Эти закаленные жизнью обитатели Амдоского нагорья даже в самые большие морозы не изменяли своей привычке и в пылу горячего спора сбрасывали с правого плеча стеснявшие их движения одежды.
Установив связь с Гуань-сю-Дунчжубом, наш спутник и, по его собственным заверениям, преданный друг Кгарма стал собираться в обратный путь. На прощанье он выпросил у меня еще подарок в награду за то, что экспедиция благополучно и без лишних уклонений от прямого маршрута прибыла в Хурмару[295]. По удовлетворении хитрого тангута я занялся переговорами с местным хошунным начальником; Гуань-сю держал себя весьма учтиво, при встрече всегда вежливо склонял свою могучую фигуру и выставлял руки с поднятыми кверху большими пальцами, говоря: «Хомбо, дэму-ина!». Деликатное обращение не помешало ему, однако, отказать путешественникам в их скромной просьбе: доставить экспедицию непосредственно в монастырь Лавран. Дунчжуб сознался, что в этом буддийском центре как раз находится та купеческая фирма, члена которой он недавно зарубил своими руками. В виду этого разбойник соглашался проводить нас всего лишь до некоего бэйсэ[296], кочующего в расстоянии одного перехода от Лаврана.
Двадцать пятого января с раннего утра начались работы по вьючке быков; в присутствии целой толпы туземцев наш караван быстро сформировался и бодро зашагал вдоль гор, глубже и глубже проникая в хребет Цзэ-ког и держа строго северо-восточное направление.
Густая кустарниковая растительность караганы на полуденных склонах массива сменялась хорошими кормными лугами, отливавшими красивым золотистым оттенком.
Главная седловина Цзэ-кога, известная под названием Санэга-нэга, не открыла нам широких горизонтов, заслонявшихся системою второстепенных высот. На перевале дул сильный пронизывающий ветер, где-то в стороне слышались звонкие голоса клушиц; по кустам перелетали щеврицы и Pruriella rubeculoides; тибетские улары порядочным выводком кормились на солнечном пригреве, а высоко в небе плавно носились грифы и бородатый ягнятник.
Спускаться с перевала пришлось по крутому каменистому, засыпанному снегом ущелью. Торная дорога указывала на существование постоянного движения между стойбищами, расположенными к северо-востоку и юго-западу от хребта. Местами наше внимание сосредоточивалось на следах недавнего пребывания номадов. На плоских, свободных от снега лужайках темнели вытоптанные, лишенные травы площадки, где прежде стояли палатки или банаги тангутов; всюду валялся аргал, изредка попадались и кости животных, а однажды я нашел даже каменное орудие – особого рода колотушку с рукояткой для вбивания в землю шеронов.
В течение двух первых дней пути экспедиция следовала среди довольно сложной системы горных гряд и отдельных высот; кочевое население по-прежнему оставалось воинственным, и приходилось быть настороже.
Двадцать шестого января под перевалом Кисэр-ла, когда путешественники мирно отдыхали за чашкой чая, среди полной тишины вдруг раздались странные вибрирующие звуки. Стоило лишь оглянуться на соседнюю вершину, как нашим глазам представилась группа конных тангутов, стоявших в полной боевой готовности. Наши подводчики тотчас ухватились за свои фитильные ружья, но Гуань-сю предупредил кровопролитие, вовремя крикнув: «Стой! Это свои». Столь простой и бесхитростный возглас возымел свое действие: грабители тотчас потеряли воинственный вид, повесили за плечи свои самопалы и вмиг исчезли за косогором.
На следующей стоянке, в урочище Самарин-гдо, где три ущелья, сливаясь в одно, образуют значительное расширение долины, мы вновь имели маленькое столкновенье с туземцами. На этот раз нас потревожили свои же проводники, которые самым дерзким, вызывающим образом стали требовать немедленной уплаты денег за нанятых животных. Только после выдачи мошенникам большого ямба[297] серебра в отряде экспедиции снова воцарилась обычная тишина.
Вступив на берег речки Чернар-ганды, мы уже не покидали ее течения до самого Лаврана, где она, значительно увеличенная в размерах слиянием с многоводными притоками, известна под именем Сан-чу. По мере продвижения на восток Чернар-ганды описывала довольно характерную излучину сначала к северу, а потом к югу; окружающие горы становились мягче, речка все более освобождалась ото льда, и шум воды как-то особенно отрадно отдавался в душе каждого из нас. На северо-западе, высоко доминируя над соседними высотами, отчетливо обрисовывались две острые и одна плоская вершины священных гор Рарчжа-лацци, привлекающих в летнее время буддистов-паломников[298]. Справа ближайшие гряды холмов были объяты пламенем. Пышные прошлогодние травы вспыхивали ярким костром, и огонь, перебегая змейками, разрастался в сплошной пожар.
Среди многочисленных кустарников и высокой древесной растительности замечалось необычайное для зимнего времени оживление. Красные и голубые фазаны (Phasianus decollatus Strauchi [Ph. strauchi], Crossoptilon auritum), чечевицы, горные чечетки, поползни, овсянки, альпийские синицы (Poecile affinis [Parus atricapillus]) и краснохвостки были здесь, по-видимому, привычными гостями или, вернее, постоянными обитателями. Над быстрыми водами Чернар-ганды с веселым криком проносились серые кулики-серпоклювы и изящная оляпка (Cinclus с. cashmeriensis). Казалось, природа оживала с каждым часом нашего движения. Повернув согласно изгибу речки к юго-востоку, экспедиция поднялась на высокий обрывистый берег, откуда открылись очаровательные виды на всю долину. Могу представить себе этот уголок летом, в июне месяце, когда Чернар-ганды с ее сетью серебристых рукавов тонет в сплошной зелени трав, кустарников и деревьев, откуда льются сотни голосов пернатых. Синее небо, яркое солнце дополняют прелесть Чернарской долины.
Наконец настало и двадцать восьмое января – день, когда мы должны были увидеть Лавран. По мере приближения к этому монастырю наш Дунчжуб становился все мрачнее. Утром означенного дня он совсем раскапризничался и объявил, что дальше нас не поведет. Никакие уговоры и угрозы не помогали. Я понял, что пришло время действовать энергично, решительно, без всякого стеснения. Потребовав к себе Дунчжуба, я неожиданно схватил его за шиворот и, приставив к его виску дуло револьвера, потребовал немедленного выступления каравана. Хошунный начальник вмиг смирился. Не прошло и одной минуты, как уже послышался его грозный окрик туземцам: «Вьючьте, живо!». Через полчаса мы уже бодро шли вниз по прихотливо извивающейся к юго-востоку речке, вырвавшейся наконец из сжимавших ее горных отрогов, которые расступились, в особенности в восточном направлении; несколько к югу-востоку тянулись отроги массивного хребта Рдюк-ка-гэгэ-нэга, известного под общим названием Джавли-сантут. От подножья этого массива вниз по долине Тана стремительно неслась речка, сливавшаяся впоследствии с Чернар-ганды.
Послав китайского тунши и переводчика экспедиции Полютова налегке в виде авангарда в Лавран и поручив им разыскать там наш транспорт[299], экспедиция повернула на северо-восток, обогнула каменистый выступ и снова стала углубляться в горы. По правому берегу Сан-чу в ту и другую сторону передвигались туземные караваны. Вот показались и селения, окруженные пашнями. В бинокль можно было различить стада рогатого скота и баранов, пасшихся поблизости, а также собак и даже кур. Все эти признаки культуры с величайшею радостью воспринимались сильно утомленными путниками.
Не доходя Лаврана, слева над ущельем, высоко прилепившись в скалах, красовался миниатюрный монастырь Жамьян-шадбы – летняя резиденция главного местного хутухты. Его окружал хвойный лес, группами стоявший по склонам ущелья, где свободно и безбоязненно держатся кабарга, лисицы, зайцы, горделивые голубые фазаны отдельными выводками спокойно расхаживают, разрывая рыхлую землю и мирно переговариваясь между собою, нисколько не чуждаясь человека. Здесь запрещена всякая охота, жизнь во всех ее проявлениях охраняется монахами, которые в этом тихом уединении научаются познавать великие истины буддийской религии.
Несколько поодаль, за выступающим в долину каменистым мысом, начинаются уже постройки монастыря Лаврана. Слева, у подножья обнаженных гор, расположены более древние храмы, а по набережной речки Сан-чу – позднейшие.
Переводчик Полютов и местный старшина торговой колонии – купец дунганин по имени Ма-чан-шань приветствовали вступление экспедиции в монастырь и, передав нам довольно обильную почту из России, проводили усталый караван до торгового подворья, где в отдельном симпатичном домике мы нашли весь наш багаж в самом образцовом порядке. Здесь, среди гостеприимных, радушных дунган, русские путешественники впервые после долгого периода непрестанного нравственного напряжения почувствовали себя уютно и непринужденно.
Прежде всего все принялись за письма. Среди радостных сообщений о большом интересе, вызванном в ученом мире нашим общим детищем Хара-Хото, была и грустная весть: умер один из славных представителей Географического общества – Александр Васильевич Григорьев. Этот человек великой душой, глубоким умом, искренней теплой дружбой всегда поддерживал и вдохновлял на новые подвиги всех нас – русских исследователей. Тесно сроднившись с Географическим обществом, он жил всецело его интересами, а потому каждый успех ученой экспедиции радовал и умилял его, доставляя нравственное удовлетворение. Во всем обаятельном величии встал передо мною светлый образ незабвенного Александра Васильевича; к нему одному неслись все мои стремления; словно завороженный его духом, я чувствовал себя в тесном общении с ним – моим несравненным другом, преждевременно отошедшим в вечность. Тяжело было свыкнуться с мыслью о невозвратимой утрате такого благороднейшего человека.
Наутро следующего дня мы не без удовольствия простились со своими амдоскими подводчиками и, проводив их, почувствовали даже некоторое облегчение. Суровый богатырь Дунчжуб при расставании неожиданно растрогался и, поднеся мне на память хадак, произнес: «Уважаю тебя, пэмбу [начальник], за то, что сумел властно заставить меня вести экспедицию в Лавран; приказание бесстрашного энергичного начальника приятно и исполнить».
Тихо, безмятежно потекли дни пребывания экспедиции в буддийской обители. Все интересовало нас, везде мы находили много любопытного для наблюдений. Но больше всего, конечно, нас занимала великая буддийская святыня Лавран, к описанию которой теперь мы и приступим.

Глава девятнадцатая. Амдоский монастырь Лавран
Историческое прошлое Лаврана. – Жамьян-шадба. – Местоположение монастыря. – Отношение лам и простого народа к европейцам. – Настоятель Лаврана гэгэн Жамьян-шадба. – Прочие гэгэны: Гунтан-цан, Гоман-цан и общий состав лам монастыря Лаврана. – Пестрота паломников и соседство торговой колонии. – Военная охрана монастыря. – Храмы и школы Лаврана. – Учащиеся ламы. – Одиночные кельи – ритод. – Лавранская живопись.
В1648 году вблизи нынешнего Лаврана, пишет Б. Б. Барадийн[300],в местности Гангья тан в одной кочующей бедной тангутской семье родился мальчик, которому впоследствии суждено было не только основать нынешний Лавран, но и сделаться величайшим ученым-мыслителем во всей новейшей истории тибетского буддизма, под именем Кунчэн Жамьян-шадба.
Первоначальную грамоту мальчик изучил у одного тангута-мирянина и затем уже юношей отправился с котомкой в Лхасу. В этом отношении он был одним из тибетских Ломоносовых, которые всегда стремились к своей Москве – Лхасе.
В Лхасе молодой человек поступил в цакидскую, т. е. философскую школу Гоман-дацан в монастыре Брайбуне. Здесь он вскоре обнаружил выдающиеся способности и обратил на себя внимание Далай-ламы V Великого. Он почти весь свой век прожил в Лхасе. Он составил новые учебники своей школы вместо старых, составленных ламой Кунчэн-Чойнжуном, и был избран ректором Гоман-дацана.
Литературно-ученая деятельность Жамьян-шадбы послужила и причиной выдающегося положения, которое впоследствии заняла гоманская школа среди прочих цанидских школ в Лхасе.
Среди своих современников Жамьян-шадба как ученый философ и проповедник буддизма не имел никого равного себе, и популярность его была так велика в Лхасе, что общественное мнение дало ему титул Кончэн Жамьян-шадба-доржэ, т. е. «Всеведущий алмаз, возбуждающий улыбку у бога мудрости Манчжушри». Собственное его имя было Агванцзондуй.
Жамьян-шадба вернулся на родину уже стариком и поселился вблизи нынешнего Лаврана в одной из горных обителей – в ритод-гома, чтобы остаток своей жизни прожить в суровом обиходе отшельника. Великий ученый, сделавшись теперь отшельником, систематизировал свои знания, созерцая среди тишины и величия горной природы; а кругом его мирной обители царствовала идиллия пастушеской жизни его соплеменников-тангутов да немногочисленных элетов с их князем Хонцо-ваном.
Наконец в 1710 году Жамьян-шадба ознаменовал свою религиозную деятельность основанием будущего Лаврана. Навстречу его желанию упомянутый элетский князь не только уступил местечко, занимаемое ныне Лавраном, и переместил свою ставку в сторону, но и деятельно помог великому ученому заложить монастырь.
Сначала Жамьян-шадбе был построен маленький дом Лавран, что значит дом ламы, и монастырь впоследствии стал называться Лавран-даши-кьил.
Жамьян-шадба умер в 1722 году, и Лавран не успел еще развиться в большой монастырь. Основатель успел только построить небольшой соборный храм, основать цаннидскую и гьудскую школы буддизма и устроить немногочисленные домики для монашеской общины.
Лавран особенно обязан своим возвышением двум лицам: второму Жамьян-шадбе – Жигмэд-вамбо (перерожденец первого), человеку весьма деятельного и практического ума, и его ученику Гунтан Дамби-донмэ, который своими высокоталантливыми сочинениями по философии буддизма и преподавательской деятельностью поставил лавранскую школу цаннида в блестящее положение в ряду прочих школ в других монастырях. В это время и монгольские ламы, затем и буряты (со второй половины минувшего столетия) во множестве стали посещать Лавран, так что в настоящее время духовное влияние Лаврана на всю Монголию и на бурят во всяком случае не уступает самой Лхасе.
Монастырь Лавран[301] лежит на высоте 9985 футов [3040 м] над уровнем моря, у самой границы земледельческой культуры, и представляет из себя религиозный просветительный и экономический центр Амдоското нагорья. Здесь путешественник может встретить тангутов, нголоков, тибетцев, монголов, являющихся сюда в качестве богомольцев, а также дунган и китайцев – в качестве всякого рода торговцев. Соответственно различию национальностей, замечается удивительно пестрое разнообразие костюмов. Особенно изысканно наряжаются женщины-тангутки, вкусившие зачатки цивилизации путем кровного союза с более культурными дунганами. Эти дамы носят цветные шубы, прекрасные лисьи шапки с красными кистями и свои национальные спинные украшения в виде лент, унизанных золочеными и серебряными безделушками. Кольца с каменьями и большие массивные серьги, которыми также не пренебрегают мужчины, дополняют оригинальный наряд.
Живя в торговой колонии, члены экспедиции имели возможность ежедневно наблюдать прибытие и отправление купеческих караванов. В Лавран привозились мануфактурные и металлические изделия, пригонялся в огромном количестве скот[302], а в Лань-чжоу-фу, Хэ-чжоу, Пекин и Сычуань отправлялись: шерсть, шкуры животных, мерлушки и вообще всякого рода пушнина. Между прочим, сычуаньские китайцы нередко рассказывали нам о богатой природе своего родного, далекого южного края и еще сильнее разжигали в нас желание увидеть заветную страну, куда, повторяю, в свое время так стремился мой покойный учитель Пржевальский. В тихом молитвенном приюте присутствие торговцев, группирующихся частью в непосредственной близости к монастырю, а частью в соседних селениях, вносит в мирную жизнь богомольцев некоторую дисгармонию и немало соблазнов. Вместе с тем успешный товарообмен, несомненно, увеличивает популярность Лаврана как средоточия жизни и деятельности края – население обогащается, обитель процветает.

Ламы, как более культурный элемент тангутского населения, относятся к европейцам подозрительно, с опасением, что европейцы могут затронуть их личные интересы, тогда как простой народ сам по себе смотрит на европейцев совершенно безразлично, проявляя лишь простое любопытство к иноземцам. Однако следует заметить, что в народе есть одно общенациональное поверье, что восхождение на господствующие в местности высоты дает преимущество этому человеку властвовать над окрестными людьми. Общественное мнение смотрит на восхождение частного человека на запретные вершины, как на преступное стремление нарушить свое равенство с окрестным населением и господствовать над ним.
При вражде общин каждая из них старается завладеть наиболее высокой вершиной гор на территории вражеской общины и воздвигнуть там свои военные флаги лундта, а враждебная окрестная община с суеверным страхом старается уничтожить воздвигнутые врагами флаги.
«Поэтому понятно, что народ может высказать решительный протест путешественникам-европейцам, когда им часто приходится производить свои измерительные работы на вершинах гор. И если эти вершины принадлежат к числу запретных, народ может открыть враждебные действия против европейцев-путешественников, видя в их поступках покушение на свою независимость и свободу»[303].
В настоящее время общий состав братии монастыря Лаврана исчисляется в три тысячи человек при восемнадцати больших и тридцати малых гэгэнах, не считая второстепенных перерожденцев, число которых также простирается до пятидесяти.
Сам глава Лаврана – Жамьян-шадба состоит в четвертом перерождении, высоко почитается верующими и имеет как в светских, так и в духовных делах решающий голос[304]. Он является автором многих мелких сочинений по разным отделам буддизма и считается примерным аскетом и созерцателем. В обоих лавранских, роскошно обставленных покоях он проживает редко, предпочитая проводить уединенную жизнь в своих красивых кельях, разбросанных там и сям в окрестностях Лаврана среди богатой горной природы.
После Жамьян-шадбы самым важным гэгэном в Лавране является Гунтан-цан – перерожденец одного из наместников Цзонхавы в Лхасе. Затем следует Гоман-цан, перерожденец одного из ректоров гоманской школы в Лхасе. Этот престарелый гэгэн считается выдающимся ученым и проповедником во всем Лавране и пользуется большой популярностью наравне с Жамьян-шадбой.
Перерожденцы в Лавране избираются по указанию Жамьян-шадбы.
Гэгэн Гунтан-цан является ближайшим помощником настоятеля, в особенности в делах светского характера. Он, между прочим, ведает охраною Лаврана, издавна поставленной на должную высоту. Охрана состоит из пятисот дисциплинированных воинов, вооруженных вперемешку европейскими винтовками, саблями, пиками и самодельными кремневыми или даже фитильными ружьями. Этим отрядом, расквартированным в ближайшем к Лаврану селении, командуют два интеллигентных офицера, имеющие звания лавран-нэрва.
Кроме таких перворазрядных войск, в распоряжении Гунтан-цана находятся запасные солдаты – тангуты, тибеты, нголоки окрестных мест, обязанные спешить на помощь монастырю в экстренных случаях.
Благодаря постоянной заботе о Лавране, все драгоценности почитаемой буддийской святыни находятся в полной безопасности и не пострадали даже при таком стихийном бедствии, каким явилось для всех культурных уголков Монголии и Северо-восточного Тибета дунганское восстание. Многочисленные храмы монастыря богаты роскошными бурханами, прекрасной тибетской и даже индийской, нередко старинной работы.
Пользуясь любезным разрешением Гунтан-цана, члены экспедиции осмотрели некоторые из более замечательных храмов.
Цокчэ-дукан – главный соборный храм Лаврана, поддерживаемый 165 колоннами, замечателен полным собранием так называемых «Тысячи бурханов» и золотым изображением Лондул-ламы – третьего Ванчиндаши-лхуньбо. Не менее наряден самый важный лхакан в Лавране – Сэрдун-чэмо, храм Майтреи, который принадлежит перерожденцам Жамьян-шадбы и стоит на северо-западном краю монастыря. Храм имеет золотую кровлю в китайском стиле. Внутри храма находится большая статуя бодисатвы Майтреи[305]. Как и все лхаканы, Сэрдун-чэмо имеет стенные картины. На внутренней стене налево от входной двери находится громадная рукописная надпись на полотне. Надпись эта излагает на тибетском языке историю храма и описание священных реликвий, находящихся в храме.
Между прочим здесь перечисляются те священные предметы культа, которые вложены вовнутрь самой статуи. В числе этих предметов упоминается как самая сокровенная из вложенных реликвий – санскритская рукопись на пальмовых листах, сочинение учителя Буддапалиты о философии средины. Из подарков богдыхана в этом храме находится знаменитый Гончжур[306]. Чжово-лхакан основан лишь в 1908 году и является хранилищем единственной в своем роде святыни – золотого изображения будды, по преданию побывавшего в руках самого бессмертного учителя. Будда восседает в маленькой пагоде, расположенной над головою бурхана Шакьямуни в центре Чжово-лхакан. Эта драгоценность долгое время хранилась в Индии, а затем в Лхасе, откуда была доставлена в Лавран основателем его – Жамьян-шадба.
Из остальных восемнадцати главных храмов следует упомянуть еще Гьудба-дукан, школу тантры – символики буддизма; в этом храме выделяются изображения Арьябало, Цзонхавы и будды.
Затем следуют Манба-дукан – школа медицины; Кьэдор-дукан – школа системы символики Хэваджры, и громадный Чортэн или Гуетан – субурган, символизирующий сердце будды. Внутри он обставлен статуями и изображениями. Здесь же помещается большое собрание тибетских и индийских книг и рукописей, а еще больше священных реликвий.
Джапын-басэн-дукан – очень нарядное новое здание, окаймленное садом, где в летнее время ламы устраивают религиозные беседы.
Долма-лхакан – храм тибетской архитектуры, построен лишь недавно и стоит рядом с большим белым субурганом значительной древности. Этому субургану приписывают особое мистическое значение, и молящиеся, в особенности люди, совершившие много злых деяний, с необыкновенным усердием по нескольку раз обходят его кругом, творя молитвы и земные поклоны.
Наконец храмы: Бурхан, известный печатанием книг религиозного содержания; Боин-зэт-лхакан, гордящийся своей научной индийской и тибетской библиотекой, и Чойбзэн-тобкан, представляющий музей старинного оружия (огнестрельного и холодного) и чучел представителей местной фауны.
При личных покоях настоятелей Жамьян-шадбы устроено нечто вроде казначейства, где хранится все монастырское золото, серебро и драгоценные камни. Там же разложены разные реликвии – одежды и чашки Далай-ламы с первого до седьмого перерождения; плеть богдо-хана, золотая книга, которую ламы выносят к народу при торжественных богослужениях, и даже окаменелость в виде рыбы, найденная в горах и тоже почитаемая буддистами священной за свое непонятное и таинственное в представлении номадов, происхождение.
Как центр культурно-просветительной деятельности края Лавран имеет четыре школы – гьудская, дуйнкорская, кьэдорская и манбинская – среднего образования и одну – цаннидскую – высшего, своего рода духовную академию. Слушателями являются представители всех упомянутых выше народностей, а лекторами или профессорами – преимущественно тибетцы или местные уроженцы.
Молодые учащиеся ламы помещаются в маленьких одиночных кельях, ютящихся рядом с монастырем по скату гор наподобие отшельнических ритод Восточного Тибета. В настоящее время тибетская наука в Лавране не развивается, а, скорее, падает. Как прежде, так и теперь все окончившие курс местной академии направляются на несколько лет в Лхасу, чтобы там пополнить пробел своих знаний и получить высшую ученую степень.
В общем Лавран производит впечатление очень богатого монастыря, в котором знаток и любитель буддизма найдет исключительные по красоте и редкости бурханы. По-видимому, покровители и почитатели Лаврана не только воинственны и горды, но также тщеславны и благочестивы, так как, бывая в Лхасе и других молитвенных центрах Тибета, они отовсюду привозят дары, служащие к украшению родной обители. В самом монастыре, при доме монгольского чиновника цин-вана, также есть мастерские, где отливаются металлические бурханы, но местная работа, конечно, значительно ниже тибетской, и в особенности индийской по своему качеству.
Многочисленные ламы занимаются, кроме того, иконописью, и летом можно наблюдать художников, усердно работающих в уединенных уголках прямо на лоне природы.

Глава двадцатая. Амдоский монастырь Лавран (окончание)
Заслуженная известность монастыря Лаврана. – Посещение Лаврана Г. Н. Потаниным и другими исследователями. – Ученый паломник Барадийн. – Праздник в монастыре Лавране: 14 февраля, 15 апреля, или весенний праздник поста и молитвы, осенний – 25 октября, торжественное молебствие – лычжа и другие. – Животная жизнь окрестных лесов. – Погода. – Дальнейший путь.
Пользуясь большим обаянием среди буддистов Южной Монголии и Северо-восточного Тибета, монастырь Лавран всегда манил к себе и европейских исследователей. Начиная с 1885 г., когда его впервые посетил Г. Н. Потанин[307], здесь побывали и французские, и немецкие, и английские путешественники. Наиболее ценное и подробное описание амдоской святыни нам дал, однако, не европеец, а бурят – Б. Б. Барадийн, закончивший высшее образование в Петербурге. Выйдя из университета и получив духовную и материальную поддержку Академии наук и Географического общества, этот молодой талантливый буддист отправился в Лавран, где пробыл целый год (1906), в деталях изучая быт и склад жизни монастыря и подвизающейся в нем братии[308].
Как во всех буддийских монастырях, в Лавране в году бывает несколько торжественных праздников, объединяющих очень большое количество молящихся. Нифудун-чю цунг-чю, день смерти первого Жамьян-шадбы, чествуется четырнадцатого февраля. День пятнадцатого апреля известен под именем весеннего праздника поста и молитвы, соответственно которому бывает такой же осенний праздник двадцать пятого октября. Седьмого июля – в память двух истекших веков с основания Лаврана[309]– также совершается торжественное молебствие, лычжа; и, наконец, пятый праздник Молэы или «Народный» заканчивает собою цикл годовых торжеств.
Ко времени празднования Нифудун-чю цунг-чю в Лавран собралось несколько десятков тысяч паломников. В храмах шли деятельные приготовления.
Накануне знаменательного дня четырнадцатого февраля члены экспедиции были разбужены на рассвете криком: «Вставайте скорее, посмотрите, как изгоняется из монастыря бес в образе человека!». Торопливо поднявшись с постелей, мы вышли на улицу и застали там довольно оригинальную картину: одетый и раскрашенный наподобие клоуна молодой тангут держал в правой руке большую волосяную кисть и, помахивая ею из стороны в сторону, выпрашивал у окружающей публики милостыню. Правая половина лица этого так называемого беса или по-монгольски «цзолика»[310] была выкрашена в белый цвет, левая же – в черный.
Соответственно этому и меховой халат его, вывернутый шерстью кверху, имел двоякую раскраску. Рядом с цзоликом шел человек, несший на спине мешок с многочисленными чохами, сыпавшимися со всех сторон, как из рога изобилия. Приблизившись к окраине монастыря, кто-то из присутствовавших выстрелил несколько раз в воздух, и тотчас загудели голоса многотысячной толпы, сливаясь в какой-то дикий вопль, перекатывавшийся от одного края долины к другому. В то же самое время над монастырем среди облака пыли блеснуло яркое пламя, пылавшее вокруг исполинского чучела цзолика. Прошло несколько минут, соломенный бес сгорел. Странный раскрашенный лама продвигался вперед; поднявшись по горной дороге, он исчез за ближайшим увалом, и тотчас стихло кругом.
Так, по верованию буддистов, в лице одного человека, принявшего на себя символически грехи всей обители, изгоняется из священного места все нечистое, злое, искусительное. Играющий роль беса лама раскрашивается в черный и белый цвета для того, чтобы всякий мог наглядно представить себе, как под влиянием неисчислимых прегрешений одна сторона или часть человека (темная) умирает, другая же на некоторое время еще остается жить. Цзолик обязуется покинуть монастырь навсегда и получает в награду за такое самопожертвование ямб серебра весом в пятьдесят лан; обыкновенно еще столько же изгнанник собирает добровольными пожертвованиями[311].
Полюбовавшись оригинальной церемонией издали, нам захотелось подойти ближе к шествию, и в сопровождении одного приезжего китайского чиновника из Хэ-чжоу и четырех кавалеристов мы присоединились к монахам. Сначала нас приняли довольно дружелюбно: по-видимому, мы вызвали только любопытство, но вскоре послышались раздраженные возгласы: «Орус-орус», и откуда-то полетели камни. Еще минута, и нас окружили злобные, дерзкие лица, с угрозой наседавшие на горсточку иностранцев. «Надо их изрубить», посоветовал кто-то, и тотчас в толпе произошло движение. Мигом оценив создавшееся положение, члены экспедиции быстрым поворотом ринулись в сторону и, пользуясь персеченной местностью, удалились к дому, следуя вдоль подножья круто ниспадавших холмов[312].
Четырнадцатого февраля на самой заре со стороны монастыря понеслись звуки могучих молитвенных барабанов, бубнов и раковин. К восьми часам утра по улицам Лаврана уже двигалась величественная стройная буддийская процессия. Впереди на золотой парче несли золотую тибетскую книгу, драгоценный камень и все прочие реликвии, которыми гордится обитель. Над морем голов гордо колыхались зонты и разные значки, что вместе с пестрыми тангутскими одеждами и ярко-красными плащами лам составляло оживленное нарядное зрелище. Совершив полный круг, шествие возвратилось к храмам, вблизи которых развевались большие красно-желтые (в шашку) флаги. После молебствия, изредка прерывавшегося боем молитвенных барабанов и звуками труб, толпа мирно разошлась по домам.
По миновании Нифудун-чю Лавран с каждым днем стал заметно пустеть. Из проезжих амдосцев оставались еще только те, которые не успели покончить с своими торговыми делами.
Русская экспедиция встретила в Лавране самый радушный прием. За отсутствием настоятеля нас любезно пригласил к себе заместитель Жамьян-шадбы – гэгэн Гунтан-цан, нголок по происхождению, в обычное время ведающий всеми светскими делами монастыря, симпатичный шестидесятилетний старик чисто библейского типа внешности. С первого знакомства у меня с Гунтан-цаном установились самые искренние, дружественные отношения и я без всякого труда получил разрешение посещать и изучать буддийские храмы[313]. В ответ на подарки, в особенности же те, которые он так хотел получить и получил, старец прислал мне несколько хороших металлических и иконописных бурханов, маленькое худрэ, два интересных гау и две «золотые книги»[314].
После долгого пребывания в степи или горах, после привольной походной жизни в лавранских торговых помещениях казалось скверно – душно и пыльно; по нескольку дней кряду мы не могли отделаться от беспричинных головных болей, кашля и какой-то тяжести в груди.
Знакомясь с буддийским молитвенным центром, мы не забывали и лесистых ущелий окрестных гор, куда в хорошие дни постоянно совершались охотничьи экскурсии и собирались семена и стволики древесных и кустарниковых представителей местной флоры и образцы горных пород.
В еловых лесах, произрастающих по северным скатам, сбегающих к долине Сан-чу, были замечены и добыты следующие птицы: зеленый франколин (Ithaginis sinensis sinensis [I. sinensis – фазан]), пестрая кустарница (Ianthocincla maxima), гималайский клест (Loxia himalayana), поползень Пржевальского (Sitta przewalskii [S. leucopsis Przewalskii]), пищуха-сверчок (Certhia familiaris Bianchii), альпийская синица (Poecile affinis [Parus articapilltts affinis]), синичка изящная (Lophobasileus elegans), синица хохлатая (Periparus beawani [Parus rufonuchalis]), синица долгохвостая (Acredula calva), горный вьюрок (Fringillauda nemoricola) и красивые красные вьюрки (Carpodacus dubius [G. thura] et C. pulcherrimus). Самыми обыкновенными обитателями здешних лесов являются: сорока (Pica р. bactriana [Pica pica]), голубая сорока (Cyanopolius cyanus [Cyanoca cianea], Pterrorhinus davidi, Troehalopteron ellioti, Spermolegus fulvescens [Prunella fulvescens], Ruticilla erythrogastra [Phoenicurus erythrogastra], Cia godlewskii [Emberiza cia], крапивник, а вдоль речек – кулик серпоклюв (Ibidorrhynchus struthersi), водяная оляпка (Cinlus cashmeriensis [Cinclus с. cashmeriensis]) и большой крохаль (Mergus merganser).
Из млекопитающих наша коллекция обогатилась лишь кабаргой собственной охоты и парой шкурок интересной кошки, добытых на местном базаре.
Чтобы подышать свежим воздухом, я часто уходил или в ближайшие горы, или же просто поднимался на плоскую кровлю нашего дома, откуда открывался красивый вид вверх и вниз по лавранской долине. Особенно хорошо было здесь в солнечное время, при тихом прозрачном воздухе и мягкой синеве неба, в которой гордо описывали круги царственные хищники – грифы, ягнятники и орлы. Внизу с шумом катилась прозрачная речка по сплошному галечному руслу. Северные склоны гор темнели хвойным лесом, южные, в особенности в верхнем поясе, – желтели прошлогодними травами. Эти травы теперь местные амдоски срезали серпами и довольно большими вязанками сносили вниз на базарную площадку.
Погода не очень баловала нас; почти весь февраль простоял ветреный, пыльный; только по ночам небо становилось яснее, и дышалось легче и свободнее; из-за постоянной пыльной завесы, омрачавшей воздух, вначале нечего было и думать о фотографических снимках. Днем в редкие проблески тишины и лазури на солнечном пригреве проглядывало весеннее настроение: ручьи журчали веселее, воробьи перекликались громче обыкновенного, черные вороны проявляли стремление к гнездению и летали с веточками в клювах, а по крышам нежились на солнышке голуби и заклятые враги их – кошки.
Настала пора собираться в дорогу и нам.
Я предполагал направить главный караван прямой дорогой в Лань-чжоу-фу, а сам во главе маленького разъезда решил несколько отклониться в северо-западную сторону, с тем чтобы повидаться с Далай-ламою, который это время пребывал в Гумбуме.
Пятнадцатого февраля я сделал прощальные визиты одной местной аристократке – вдове тибетского чиновника – и Гунтан-цану, с которым мы расстались друзьями.
На следующий день я уже начал паломничество к Далай-ламе кратчайшей дорогой в знакомый читателю монастырь Гумбум.

Глава двадцать первая. Паломничество к Далай-ламе
Вступление. – Сборы в обратный путь. – Разделение экспедиции: я следую налегке в Гумбум к Далай-ламе, главный караван – в Лань-чжоу-фу. – Общая характеристика моего пути до городка Сюань-фуа-тин. – Речки Сечен-чю и Чжан-гагун. – Красивое место у горбатого моста. – Городок Сюань-фуа-тин. – Долина Хуан-хэ; переправа через эту реку и дальнейший путь. – Городок Баян-рун. – До Гумбума остается три перехода. – Характер этого горного пути. – Альпийский хребет Кычан-шань. – Дорога полна паломниками. – Приход в Гумбум.
По пути из Лхасы в Пекин, на большой паломнической дороге неподалеку от глубоких вод Куку-нора приютился один из знаменитых буддийских монастырей – Гумбум. Занимая в географическом отношении выгодное положение, Гумбум нередко посещался, как продолжает посещаться и теперь, далекими знатными паломниками, подолгу останавливающимися в нем с целью отдыха и пополнения снаряжения и продовольственных средств, необходимых для дальнейшего пути.
Несколько иначе, в глубине Амдоского нагорья, расположен другой не менее знаменитый и богатый буддийский же монастырь Лавран, ревниво оберегаемый воинственным населением кочевых тангутов. Лавран счастливее Гумбума по отношению сохранности своих богатых храмов и ценностей от урагана магометанской инсургенции.
При взгляде на карту Центральной Азии, в частности на Амдоское нагорье, мы видим, что Гумбум и Лавран расположены по северо-западной – юго-восточной диагонали в расстоянии двухсот пятидесяти верст, и что оба эти монастыря находятся в бассейне Желтой реки: Гумбум – в области левого берега, в складках окраинных гор, ограничивающих Хуан-хэ с севера, Лавран – в области правого берега, в горах, непосредственно окаймляющих Желтую реку с юга. Это словно два брата, оспаривающих между собою духовную славу и преимущество и зорко наблюдающих друг за другом.
Во время пребывания экспедиции в Лавране мы узнали от местных обитателей, что в монастырь Гумбум прибыл буддийский первосвященник – Далай-лама и расположился в нем на отдых и для совершения богослужения впредь до наступления лета. Глава Тибета следовал из Пекина в Тибет – в Лхасу.
Не свидеться с Далай-ламой, не закрепить с ним прежнего знакомства, не посмотреть на правителя Тибета после его долгого пребывания в Монголии и Китае, по моему крайнему разумению, было бы не простительно, к тому же я имел к Далай-ламе немало поручений. Я решил налегке поехать в Гумбум, а караван отправить прямым путем в Лань-чжоу-фу, где он должен был ожидать моего прибытия.
Кроме меня, в личный состав разъезда в Гумбум вошел переводчик экспедиции Полютов. Старшина торговой слободы Лаврана Ма-чан-шань нанял для нас трех вьючных мулов при двух погонщиках верхом на лошадях; я и мой спутник имели своих лошадей. В законченном виде наш маленький караван составился из четырех человек и семи животных: трех вьючных мулов и четырех верховых лошадей.
Пятнадцатое февраля было кануном дня нашего выступления в Гумбум, поэтому приют экспедиции с утра до вечера был занят нашими здешними знакомыми, преимущественно ламами различных рангов, притом как местными, так одинаково и выходцами из Тибета и Монголии и даже нашего Забайкалья; все эти славные люди приходили прощаться – сказать несколько приветственных слов и пожеланий в дорогу.
Наконец мы готовы. Наш маршрут: через городок Сюань-фуа-тин, монастырь Гумбум, Синин – Лань-чжоу-фу.
Шестнадцатого февраля после раннего завтрака наш маленький разъезд выступил в дорогу: все было обстоятельно налажено, осмотрено. Солнце значительно поднялось над вершинами гор и красиво озарило долину Сан-чу и окаймляющие ее горные скаты. Хвойный лес отливал стальной синевой, скрывая в своей гуще много интересного и поучительного. Монастырские золоченые кровли и их украшения – ганчжиры – ослепляли искристым прерывающимся блеском лучей, особенно сильно игравших на новом металлическом убранстве субургана (книгохранилища).
Оставив Лавран, мы вскоре скрылись в одном из ущелий северных гор, круто поднимаясь по галечнику к перевалу. Нас сопровождали Ма-чан-шань с оруженосцем и четверо лихих кавалеристов из монастырского гарнизона. Вблизи перевала я уговорил старшину возвратиться домой к своим занятиям, так как на следующий день ему предстояли новые хлопоты по отправлению моего главного каравана в Лань-чжоу-фу. Ма-чан-шань смиренно повиновался, сошел с лошади, разостлал коврик и, пригласив меня сесть, вручил мне бронзовое изображение известной «Сандальной» статуи будды, находившейся в Пекине. Это подношение сопровождалось лучшими пожеланиями в дорогу. Со своей стороны я одарил Ма-чан-шаня еще накануне, выразив ему благодарность за беспокойство и наше пользование его удобным помещением. Казалось, Ма-чан-шань был очень доволен экспедицией. Мы продолжали подниматься, а он еще долго стоял у заворота ущелья, помахивая шляпой. «Отличный человек, – проронил со вздохом мой спутник Полютов, – он только и заботился о наших интересах, стараясь всеми силами угодить начальнику экспедиции».
На вершине перевала Накцэб-ла, имеющего значительную абсолютную высоту, крутой продолжительный подъем и короткий пологий спуск на плато, мы временно, как всегда, остановились, поправили вьюки и опять направились тем же северным курсом. В эту сторону уходило типичное амдоское плато с поперечными горными грядами, выраставшими по мере удаления к западу. Между гор располагались пастбищные долины с речками, стремившимися в бассейн лавранской Сан-чу. По одной из таких речек – Гонзя-чзямба-чю – мы спускались, по другой – Чзямба-чю – поднимались.
Размытые горные кряжи и береговые скалы слагались из кристаллических пород. Свой тибетский эскорт мы отпустили, пройдя за перевал верст пять не более, чему лавранские воины были несказанно рады: тотчас оживились и быстрым галопом понеслись восвояси.
Оставшись только с подводчиками, мы начали расспрашивать их о нашей дороге и ближайшем городке Сюань-фуа-тине, находившемся в девяносто с лишком верстах, которые следовало пройти в три дня, или перехода. У нашей дороги никакого жилья не замечалось, но по сторонам, в большем или меньшем расстоянии, виднелись стада баранов и яков, принадлежавших тангутам, скрыто ютившимся своими стойбищами в крайне пересеченной местности.
Следуя долиною речки Чзямба-чю, я видел вдали – в северо-восточном направлении – небольшую кумирню Джяхыр-гомба, обитаемую, как говорят, тридцатью ламами. Рядом с этой кумирней темнел лесок из ели, словно тангутский банаг, за который вначале я его и принял[315].

Первый наш ночлег[316] пришелся на высоком месте вблизи горных массивов, на берегу холодной речки, окаймленной прошлогодней травой и низкорослым кустарником. Подводчики всю ночь поочередно не спали, то и дело раздавались их выкрики: «Кто там (подразумевается у наарканенных лошадей) идет? Я вижу!». Говорят, такой уловкой удается иногда действительно остановить вора, который в таком случае откликнется обычной фразой: «Свой! Иду к тебе».
На следующий день мы были в пути очень рано и в теневом холодном воздухе, к тому же при резком встречном ветре, порядком мерзли; отдохнувшие животные подвигались ходко. Подводчики зорко всматривались во все стороны и старательно призывали нас к вниманию и готовности: «Не успеете оглянуться, как наскочат тангуты!». Для их успокоения мы ехали держась плотной кучей, с винтовками за плечами.
Общий характер местности оставался прежним: мы шли по луговому нагорью, богатому родниковыми водами, и постепенно втягивались в горы, а затем благополучно достигли и вершины перевала Сечен-ла. Отсюда к северу горы круто обрывались, будучи изборождены глубокими каменистыми ущельями, по дну которых по мере опускания вниз нагромождались серые валуны в хаотическом беспорядке, до крайности стеснявшие движение каравана. Здесь дорога вообще очень трудная – крутая, крепкая. Мы спускались по ущелью Сечен-чю, словно в темную бездонную пропасть.
По сторонам залегали дикие девственные уголки с густым пышным кустарником, на фоне которого там и сям приятно выделялись большие или меньшие группы елей. Еще красивее громоздились серые скалы или стояли особняком великаны-отторженцы с зеленоватым мхом и лишаями. Горную тишину старались пробудить многочисленные ручьи, иногда с шумом низвергавшиеся по крутизнам и обвалам.
Из млекопитающих в описываемых горах водится кабарга, за которой в наше здесь следование охотились местные тангуты, применяя облавный способ; а из птиц нами отмечены следующие: фазан (Phasianus decollatus Strauchi), красный вьюрок (Carpodacus), несколько видов краснохвостов (Ruticilla), красивые и вертлявые кустарницы (Pterorrhinus davidi et Trochalopteron ellioti), многочисленные синицы, овсянки, завирушки и др., словом, фауна этих гор много напоминает таковую Восточного Нань-шаня.
Спустившись вниз около пятнадцати верст, ущелье вдруг расширилось, превратилось в долину; горы раздвинулись, понизились, и вскоре показалась кумирня Мартун-гомба с белыми домиками, группировавшимися вокруг небольшого храма, живописно расположенного на довольно крутом скате, заросшем густым осиновым лесом. Немного поодаль обнаружилась другая кумирня – Сечен-гомба, расположенная на другом – левом берегу речки.
Вокруг того и другого монастыря располагались пашни, грубо, неумело обработанные, в особенности в сравнении с образцовой обработкой китайцев.
Ниже Сечен-гомба селения встречались нередко, пока не сузилась долина и не заперлась окончательно крутыми обрывистыми берегами. Падение русла опять увеличилось, появились каскады, однако стоявшие подо льдом, и наша тропинка довольно часто перемещалась с одного берега на другой. Подножье гор выглядело весьма печальным и унылым и при ветре всегда давало массу пыли, омрачавшей горизонт; голубая окраска неба и прозрачный воздух остались в горах.
Речка Сечен-чю привела нас в селение Конь-эмень, насчитывавшее в это время свыше ста глинобитных домов и около пятисот человек жителей магометан – трудолюбивых дунган или саларов[317]. В этом селении имеется старинная мечеть[318],во главе которой стоит, как известно всему населению, заслуженный ахун. Вблизи мечети расположен мазар с красивыми резными окнами, построенный, как говорят, в память двух подвижников – мулл. Конь-эмень населен исключительно земледельцами, возделывающими пшеницу. Дома-фермы окружены садами, состоящими преимущественно из персиковых и абрикосовых деревьев; в небольшом количестве имеются также яблони и груши. Летом здесь жарко, еще жарче, конечно, в долине самой Желтой реки, к которой мы теперь и приближались.
По словам местных жителей, в ближайших окрестностях Конь-эменя покоятся залежи золота, но почему-то они не разрабатываются.
Мы ночевали в доме старшины селения: вечером и утром деревенская тишина нарушалась громким призывом на молитву с вершины минарета, откуда местный мулла возглашал: «Аллах акбер! Аллах акбер!».
Сегодня третий день нашего движения от Лаврана, сегодня мы должны прибыть в город Сюань-фуа-тин. Выступаем по обыкновению рано – едва забрезжит утро. К сожалению, пыльная дымка кладет мертвый отпечаток на все окружающее. В воздухе тихо, тепло. Мы следуем постепенно вниз среди густого населения дунган и оседлых тангутов. Дорога проходит то по береговым террасам, то по дну галечного русла. По бокам стоят высокие и низкие обрывы из плотных красно-бурых глин.
Вскоре затем речка Сечен-чю сливается с пришедшей с востока речкой Читай-богоу, образуя в дальнейшем течении речку Чжан-гагун. Отсюда открывается вид на грандиозный прорыв, который сделала своим величавым шествием знаменитая река Китая – Хуан-хэ. Это в северном направлении, тогда как к югу выделяются матовой белизной вершины Амнэ-чунак.
Еще ниже, ближе к Желтой реке, караван проходит очень красивым местом: слева стоит обособленный кряж все тех же плотных, словно конгломератных, глин, а посредине – картинно переброшен через Чжан-гагун горбатый мост, за которым наш путь тотчас меняет северо-восточное направление на северо-западное и после пересечения нескольких второстепенных отрогов вступает в долину главной реки. Пройдя вверх по правому берегу этой последней еще около семи верст, мы достигаем городка Сюань-фуа-тина (войдя в восточные ворота, а выйдя в западные – одной и той же улицы), у верхней окраины которого и находим себе помещение на ночь.
Подобно Гуй-дую, городок Сюань-фуа-тин расположен на правом берегу верхней Хуан-хэ, вдоль ее течения, и подобно всем городам в Китае обнесен стеной. По-нашему это даже не городок, а маленькое селение, состоящее всего из одной проезжей улицы с несколькими десятками домов и двумя-тремя лавками, обслуживающими местное население.
К югу в горах живописно выделялась китайская мяо – молельня с хэшеном, или священником во главе.
Характер Желтой реки и ее долины в общем сильно походил на таковой в гуйдуйском районе, по крайней мере мне лично это сравнение сразу пришло в голову. И здесь долина простирается в ширину от двух до трех верст, будучи окаймлена серыми безжизненными горами; и здесь берега то низкие, то возвышенные, в особенности в сужениях реки, где они к тому же часто очень высоки – в несколько сот футов – и затейливо обмыты или обдуты ветром, оставляя для дороги или тропинки узкий гребень или головоломный карниз; и здесь серое галечное ложе реки простирается до ста или ста пятидесяти, редко двухсот саженей в ширину. В настоящий ранневесенний период воды в реке было немного, и в широких местах ее каменистое русло было обнажено на значительные расстояния. Другое дело летом, когда Хуан-хэ иногда выходит из берегов: ее бурливое, стремительное движение действительно величаво, «без меры в ширину, без конца в длину» грозно шумит серыми волнами.
Выше Сюань-фуа-тина, в семи с половиною верстах, находится урочище Имам-джон с лодочной переправой путников с одного берега Желтой реки на другой. Небольших лодок здесь две; перевозчиками являются пятнадцать человек дунган – обитателей ближайшего селения. Сама переправа производится довольно скоро, скорее, нежели в Гуй-дуе.
За переправой мы еще проследовали вверх по Хуан-хэ, ее левому берегу, двенадцать верст, прежде нежели свернули к северу[319], в ущелье речки Гораццон-хотан, по которой и поднялись до небольшого – в тринадцать дворов – селения Лоцзы-сангын, где и заночевали. По мере того как мы поднимались к северу, нам открывалась долина Хуан-хэ во всей своей прелести. Всюду виднелись пашни, а на них трудолюбивый китайский земледелец, чуть не в первый раз[320] в нынешнюю весну выехавший в поле с сохой. Началась весна: ручьи громко журчали; из пролетных птиц появился черноухий коршун (Milvus melanotis. [Milvus migrans lineatus]), а из неотмеченных ранее оседлых – бледный вьюрок (Carpodacus stoliczkae [С. synoicus]).
В глубине долины группа из нескольких елочек обнаруживала присутствие небольшой, небогатой тангутской кумирни Думино-гомба, красиво приютившейся под защитой бурых обрывов; говорят, она основана около двадцати лет тому назад и находится в ведении перерожденца с братией в сорок человек, исповедующих учение красного толка.
К западо-северо-западу тянулись горы, в которых, по словам местных жителей, водятся каменные бараны, или аргали.
Утро следующего дня, двадцатого февраля, было пасмурное, серое, омраченное пыльной дымкой, сквозь которую вначале ничего не было видно далее ста сажен. Мы шли в прежнем северном направлении, которое словно преграждалось плоским массивом, прикрытым луговой растительностью, за которым невдалеке находился городок Баян-рун, отстоявший в двадцати пяти верстах от нашей последней стоянки. Весь этот путь был крайне трудный для движения каравана по причине многочисленных балок и карнизов с песчано-глинисто-лессовым грунтом. Там и сям стояли горные гряды с затейливыми по очертаниям профилями; также порою на востоке и западе виднелись своеобразные отложения лёссовых толщ, сопровождающих течение Хуан-хэ. Бо́льшую половину пути мы шли к перевалу Лонзы-кунту-поу, и меньшую – в долину речки Баян-рун-Хотон. Сам перевал – плоский, мягкий, одетый пашнями, словно шашками. Здесь прохладнее – еще не пашут, а лишь разрыхляют удобрение, лежавшее в небольших, будто навозных кучках. Дорога по обе стороны перевала была прикрыта ледяной коркой.
Тут на перевале мы вновь видели одинокого, низко пролетавшего коршуна, а высоко в небе парили снежные грифы и бородатые ягнятники; реже – гордые красавцы орлы-беркуты.
Небольшой городок Баян-рун, в котором мы ночевали, красиво расположен на высоте и имеет закругленные у ворот стены. Смешанное из китайцев, дунган, тангутов и метисов население, включая и пригород, исчисляется в одну тысячу душ обоего пола. В завершение можно отметить небольшой в сто человек китайский гарнизон, изредка производивший ученье.
Теперь до монастыря Гумбума оставалось три перехода, или, что то же самое, два ночлега. Первый ночлег приходился в городке Цзаба, второй в селении Савана, в котором к прежнему смешанному населению еще прибавились далды[321], отличающиеся своим оригинальным костюмом, в особенности среди женщин. На всем протяжении до Гумбума, как и до Лаврана, залегает горная, крайне пересеченная местность. Приблизительно в середине пути встает поперечный альпийский хребет, восточное продолжение скалистого массива, с перевалом Ладин-лин, отделяющим Синин от Гуй-дуя. В то время как в долинах или второстепенных горах обитало земледельческое население, в альпийском хребте ютились номады.
Погода все время стояла непостоянная с преобладающей облачностью, ветром от северной части горизонта и пыльной дымкой, наиболее сгущенной в области главных долин.
Остановимся несколько подробнее на описании этой последней части маршрута в направлении монастыря Гумбума.
Мы следовали долиною безымянной речки, впадающей в Хуан-хэ. Слева тянулись второстепенные горы под названием Кучу; справа высился альпийский хребет Кычан-шань. В первых горах и прилежащих к ним долинах, повторяю, ютились земледельцы, в ущельях же альпийского хребта – скотоводы. Там и сям прятались небольшие кумирни, из которых Дыдя-гомба располагалась на полудороге, с населением в двадцать – тридцать человек – лам. Эта кумирня белела у подножья красных песчаниковых обрывов, поросших еловым лесом. Напротив Дыдя-гомба красовалось лесистое ущелье. В этой местности мы встретили несколько стаек каменных воробьев (Petronia petronia).
Вскоре затем мы перевалили невысокий кряж Санто-яху, за которым в попутном селении Картя имели часовой отдых.
Теперь чаще нежели прежде попадались на полях сеялки, разбивавшие комья земли, а по дороге в Гумбум – всякого рода паломники, нередко следовавшие вместе с детьми, которых или тащили за спиною, или вели за руки.
В наблюдениях всякого рода незаметным образом мы достигли городка Цзаба, в который вступили при открытом действии театра – его сцены, привлекшей внимание всего окрестного населения. Цзаба – маленький, оживленный пригородом городок, населен саларами, китайцами, метисами – всего в двести шестьдесят семейств.
На следующий день, давдцать второго февраля, мы в пути так же рано, как и прежде, с зарей. Слоистые облака убегали к юго-западу. Китайцы проснулись и спешили на поля с животными, навьюченными корзинами с удобрением.
Впереди величаво стоял хребет с вершинами, запорошенными снегом. Мы подвигались ходко. Блеснули солнечные лучи и полилась на землю весенняя радостная песнь полевого жаворонка.
К восьми часам утра мы уже поднялись на вершину перевала Чин-са-по, увенчанного обо, на сооружение которого пошло немало камней, собранных у дорог. Впереди к северо-востоку вздымалась вторая скалистая цепь; в том же направлении убегало ущелье, также обставленное скалистыми боками.
Главный хребет выглядел темным, потому что его луговой покров был сожжен так называемым степным пожаром. На южном скате хребта отделилась дорога в Гуй-дуй, красиво извивавшаяся по подножью гор, а на северном – в Синин, сопровождавшая течение речки Чин-са-гоу. Мы уклонились на северо-запад, пересекая ряд боковых увалов, главным из которых справедливо признается Ню-синь-шань, и временно направились по речке Чи-дя-гоу-дцзэ, а затем и по другим речкам, залегавшим среди соседних увалов.
На этом крайне пересеченном, трудном пути мы наблюдали немало полевых жаворонков, сорок, готовивших гнезда, алашанскую краснохвостку (Ruticilla alashanica [Phoenicurus alaschanica]), чеккана (Pratincola maura [P. torquata maura]), оригинальных, крайне оживленных весной водяных оляпок (Cinchis cashmeriensis [Cinchis с. cashmeriensis]) и немногих других мелких птичек, державшихся или по горам, или по долинам их речек. В лазурной высоте по-прежнему гордо парил царственный орел-беркут.
Селение Савана, или Саван – небольшое (пятнадцать дворов) и состоит из смешанного населения земледельцев.
Последний переход к Гумбуму показался нам особенно долгим, несмотря на то что он был еще более оживлен паломниками и еще более привлекателен видом северного склона только что пересеченного нами хребта. В придорожных селениях толпилось множество народа, частью занятого полевыми работами, частью праздного, с котомками за плечами стремившегося в ту или другую сторону от Гумбума.
Вот и вид на Сининскую долину с красными глинами и песчаниками, а вот и последние высоты, открывшие вид на буддийскую обитель – Гумбум.
В сером воздухе высоко сеткой мелькала большая стая галок.
Еще томительных полчаса – и наш караван уже шагал подле монастырских храмов и восьми белых субурганов и вскоре достиг подворья знакомого гэгэна Чжаяк, где мы нашли отличный приют на целых две недели.

Глава двадцать вторая. Паломничество к Далай-ламе (окончание)
Опять в монастыре Гумбуме. – Помещение Далай-ламы. – Две недели в гостях у Далай-ламы: официальное свидание с правителем Тибета; речь Далай-ламы; мое впечатление от новой встречи; последующие дни и времяпрепровождение у Далай-ламы; его походная обстановка; личный секретарь Далай-ламы – Намган; занятие фотографией; беседы о событиях в Италии; географический атлас; благословение молящихся; прощание с Далай-ламой; прощание с его свитой, с лейб-медиком эмчи-хамбо. – Через Синин в Лань-чжоу-фу. – Заметка о пройденной местности.
Далай-лама проживал в особняке богатого тибетца на западной окраине монастыря, на скате западных высот, откуда открывался вид почти на весь Гумбум и на отдаленные цепи гор, замыкавшие горизонт с юга. Как и все солидные тибетские дома, этот дом был обнесен высокой глинобитной стеной, с парадным входом, охраняемым тибетскими парными часовыми.
По приходе в Гумбум, двадцать второго февраля[322],я поспешил дать знать о себе далайламской канцелярии, которая не замедлила поставить меня в известность, что на следующий день уже назначена аудиенция у его святейшества.
Как и прежде в Урге, так и теперь здесь, первое мое свидание с Далай-ламой носило официальный характер. Прежде всего сопровождать меня в далайламский лаврэн – духовный покой – явился нарядный тибетец-чиновник со свитой в три человека, в сообществе с которыми я и Полютов направились пешком, медленно поднимаясь в гору. Через четверть часа мы уже были у цели: миновали парных часовых, отдавших мне честь, и вошли во двор, застланный, или вымощенный каменными плитами. Едва мы сделали несколько шагов по направлению высокого лаврэна, как по ступеням его широкой лестницы навстречу нам спустился молодой человек по имени Намган, коротко остриженный, в красных одеждах и, изящно поклонившись, предложил нам подняться наверх дома.
Здесь, очевидно, нас ожидали, так как на столиках стояло угощение в виде хлебцев, печений, сухарей, сахара и других китайских сластей. Едва мы сели каждый за свой столик по чинам, как нам подали чаю, откушав которого мы проследовали еще через ряд комнат, прежде нежели вошли в приемную к самому Далай-ламе. И здесь приемная правителя Тибета напоминала буддийскую молельню, в которой на почетном месте, словно на престоле, восседал тибетский первосвященник в парадном одеянии. Подойдя к Далай-ламе и почтительно поклонившись, мы обменялись хадаками. Затем Далай-лама улыбнулся и подал мне руку чисто по-европейски. После взаимных приветствий и осведомлении о дороге мы перешли к беседе о моем путешествии. Правитель Тибета очень интересовался нашим плаванием в прошлом году по озеру Куку-нору, но еще больше, кажется, развалинами Хара-Хото и всем тем, что нами было там найдено.
«Теперь мы уже с вами встречаемся второй раз, – заметил Далай-лама: – наше первое свидание было в Урге около четырех лет тому назад. Когда же и где мы встретимся вновь? Я надеюсь, что вы приедете ко мне в Лхасу, где для вас, путешественника-исследователя, найдется много интересного и поучительного. Приезжайте, я вас прошу, надеюсь, не будете жалеть потраченного времени на такое большое путешествие. Вы объехали много стран, много видели и много написали. Но самое главное еще впереди – я буду ждать вас в Лхасу, а потом вы сделаете не одну, а несколько экскурсий в окрестности, по радиусам от столицы Тибета, где имеются дикие девственные уголки как в отношении природы, так равно и населения. Мне самому, – продолжал Далай-лама, – будет весьма приятно и интересно видеть вас после таких поездок и ознакомиться с вашими съемками, сборами коллекций, фотографическими видами и типами и лично выслушать ваш доклад о путешествии. У меня имеется большое желание перевести на тибетский язык труды по Тибету европейских путешественников. Ваше живое слово мои секретари должны будут занести в первую очередь и тем самым положить начало историко-географическим трудам по Центральному Тибету».
В заключение Далай-лама сказал: «Не торопитесь с отъездом, ибо вам никто не будет указывать в этом отношении и ни от кого другого, как только от вас самих, будет зависеть, выехать раньше или позже на несколько дней. Мы будем видеться ежедневно, мне необходимо о многом поговорить с вами».
Во время наших разговоров мы пили чай, наливаемый из общего большого серебряного чайника. Во всем чувствовалась приятная непринужденность, объяснить которую можно было обоюдным искренним желанием свидеться.
На следующий день я прибыл к Далай-ламе с утра; теперь исчезла всякая официальность: я видел тибетского первосвященника в самой простой, симпатичной обстановке. Мне было разрешено обойти все далайламские помещения, видеть его рабочий кабинет, говорить с его министрами, приближенными.

Теперь среди обстановки Далай-ламы то и дело попадались европейские предметы. В одной из комнат висело на стенах до семи всевозможных лучших биноклей, в другой – отмечено почти столько же фотографических аппаратов, состоявших в ведении секретаря Далай-ламы, знакомого нам Намгана.
Далай-лама очень интересовался фотографией вообще и просил меня обучить Намгана разным фотографическим приемам: снимкам, проявлению и печатанию, равно уменью обращаться со всякими большими и малыми, простыми и сложными аппаратами.
После занятий фотографией я обыкновенно беседовал с приближенными Далай-ламы или бывал приглашаем к нему самому, где запросто просиживал подолгу. Как-то раз Далай-лама спросил меня, часто ли я получаю письма из России, когда получил в последний раз и какие в Европе новости. Случайно по приезде в Гумбум я на другой же день имел удовольствие благодаря заботам сининских властей получить ряд писем и газет, в которых самою большою новостью отмечалось мессинское землетрясение, где, между прочим, итальянцы воздавали честь и славу русским морякам, с самозабвением спасавшим несчастных жителей и их имущество. Живое описание подобного стихийного бедствия поразило тибетского владыку.
Беседуя на эту тему, Далай-лама пригласил меня в свою библиотеку и подал мне большой немецкий географический атлас с просьбой указать на нем место катастрофы в Италии. Перелистывая затем атлас, я во многих местах его видел пометки, сделанные чернилами или, точнее, тушью, на тибетском языке. Оказывается, это перевод географических названий. Такой же заметкой снабжено было и место землетрясения в Италии.
Иногда я и мой спутник Намган гуляли в окрестностях Гумбума, поднимаясь на высшие точки и делая всякого рода дополнительные снимки, а затем по возвращении в лаврэн опять возились с проявлением и печатанием. Однажды, просматривая оттиски фотографий, разложенные на террасе, я невольно взглянул вниз на портик храма и увидел как Далай-лама благословлял молящихся. Благословение это заключалось в том, что тибетский первосвященник маленьким молитвенным флажком касался головы тибетцев или монголов, подходивших поочередно. Кстати сказать, по случаю пребывания Далай-ламы в Гумбуме молящихся было великое множество.
Обычно принято, если Далай-лама гуляет у себя по кровле или на террасе, то все служащие, равно все проходящие мимо, не должны останавливаться и глазеть, а стараться как можно скорее незаметным образом скрыться.
Из дома-лаврэна Далай-ламы, царящего над всем монастырем, открывался дивный вид на отдаленные южные цепи гор, откуда по направлению к наблюдателю сбегают лучшие альпийские пастбища для многочисленных здешних стад баранов или другого скота.
При расставании Далай-лама произнес следующее: «Спасибо вам за ваш приезд ко мне – вы дали мне возможность послушать вас и получить ответы на мои многие пытливые вопросы. Передайте России чувства моего восхищения и признательности к этой великой и богатой стране. Надеюсь, что Россия будет поддерживать с Тибетом лучшие дружеские отношения и впредь также будет присылать ко мне своих путешественников-исследователей для более широкого ознакомления как с моей горной природой, так и с моим многочисленным населением».
После официальной, торжественно обставленной, прощальной аудиенции меня пригласили в знакомое мне помещение Намгана. Здесь был предложен мне обычный чай, как вдруг совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, появился Далай-лама в самой простой непринужденной обстановке, к которой я так привык в последнее время. Мы приветливо раскланялись и сели друг против друга. Далай-лама повел вновь рассказ о России, восхищаясь ее техникой, машинами, инструментами, а равно и вооружением русской армии, начиная от револьвера системы «Наган» (с которым, между прочим, Далай-лама был хорошо знаком по экземпляру, полученному им на память от русской экспедиции) до крепостных или морских дальнобойных орудий собственного производства. Затем Далай-лама сказал: «Не забудьте привезти для меня лучшей русской желтой суконной ткани, вроде сукна вашего (парадного) костюма». Я в ответ поклонился Далай-ламе и его поручение занес в памятную книжку. Заметив это, Далай-лама произнес: «Это хорошо; кстати запишите и второе мое поручение о высылке из Петербурга на мое имя фотографических снимков вашего путешествия!».
Последнее прощание было самое трогательное: сам собою этикет отошел в сторону. Я понял душу Далай-ламы и поверил в искренность его милого приглашения в его Лхасу!
Вскоре после этого мы расстались и с министрами Далай-ламы, и с его двором вообще; мне сделалось очень грустно, с одной стороны, с другой же – я чувствовал себя счастливым. Грустное чувство овладевало мною все сильнее и сильнее, потому, главным образом, что я не мог, не имел возможности теперь же примкнуть к свите Далай-ламы, чтобы направиться в сердце Тибета вместе с его верховным хозяином.
Вслед за мной были посланы подарки Далай-ламы, состоявшие из золотого песка, буддийских бронзовых статуэток и даров местной тибетской природы – шкур и шкурок пушных зверей и тибетской шерстяной ткани цвета бордо.
На следующий день, седьмого марта в девять часов утра, как было условлено накануне, ко мне пожаловал эмчи-хамбо с дополнительными телеграфными поручениями от его святейшества и со своим личным приветом в дорогу. Как водится при расставании, лейб-медик поднес мне на память шелковый хадак в сопровождении тибетских «драгоценных» пилюль и чайной чашечки, но что самое главное – эмчи-хамбо не пожалел для меня интересной тибетской астрономической карты.
Мой спутник также не был обойден вниманием эмчи-хамбо, от которого он получил в дар хадак, золотую монету и толикую дозу «универсального лекарства», со словами: «Все это дарю тебе в силу моих самых лучших отношений к твоему начальнику, которого прошу беречь в еще далекой и трудной вашей дороге!».
Про эмчи-хамбо вообще говорят, что этот человек с «большой головой» – медик и высший математик, и что он стремится попасть в Россию, чтобы не только познакомиться, но и изучить европейскую медицину и европейскую практическую астрономию.
В последний раз крепко пожимая мне руку, эмчи-хамбо спросил: «Когда и при каких обстоятельствах мы вновь увидимся с вами?». Я показал рукой по направлению Лхасы, в ответ на что мой собеседник уверенно кивнул головой несколько раз.
Остальная часть дня прошла в различных хлопотах по сборам в обратный путь через Синин в Лань-чжоу-фу к заждавшемуся экспедиционному каравану, от которого мы были отделены теперь неделей времени, или расстоянием в двести семьдесят верст.
Ранним утром восьмого марта наш обновленный караван, состоявший из трех вьючных лоцз, или мулов, и пяти верховых лошадей успешно направился к северо-востоку. Покатая местность в эту сторону еще более способствовала скорейшему движению.
На окраинных холмах мы остановились, чтобы полюбоваться на Гумбум, быть может, в последний раз! Ведь мы прощались с колыбелью реформатора буддизма Цзонхавы. В память этого великого и, с точки зрения буддистов, святого человека в Гумбуме, повторяю, красуется храм «Золотой субурган», вечно оживленный молящимися, а его кровля днем почти всегда горит блеском золотых солнечных лучей.
Знакомый путь до Синина мы прошли в пять-шесть часов времени. По дороге обогнали очень нарядный, богатый верблюжий караван, принадлежавший Ачжя-гэгэну; это был его передовой транспорт, отправлявшийся в Пекин. И здесь на полях повсюду работали китайцы под одну и ту же весеннюю песнь жаворонков.
Как всегда, в Синине мы остановились в торговом доме Цань-тай-мао, где знакомые китайцы успели приготовить для нас кое-какие этнографические предметы.
Десятого марта наш караван оставил и Синин. Погода испортилась: в лицо нам дул пронизывающий ветер с мокрым снегом и дождем вместе[323].К счастью, такое неприятное состояние продолжалось недолго: облака поредели, показались участки голубого неба. На полях сеяли пшеницу; там и сям вокруг земледельцев бродили группы серых журавлей (Grus grus).
Из Сого-Хото, т. е. из Южной Монголии, направлялась большая вереница довольно хороших верблюдов для далайламских вьюков.
Мы продолжали двигаться вниз по знакомой долине Синин-хэ, общий характер которой оставался прежний: то река выходила на простор долины, то вновь сжималась узким ущельем, с высокими обрывистыми берегами, где спокойное, плавное течение тотчас переходило в грозно-стремительное, и где тишина нарушалась шумом пенящихся вод, прыгавших по валунам.
Везде в населенных пунктах толпились нарядные китайцы и шла непрерывная трескотня всевозможных бомб и петард, до детских хлопушек включительно. Театры более, нежели прежде, были оживлены зрителями придорожных, окрестных городов, поселений.
За городом Лова-ченом мы оставили большую дорогу, отошедшую на север, в Пинь-фань, и стали подниматься на каменистый мыс левого берега, у подножья которого красиво располагались китайский храм и остров с фигурной башенкой. С вершины мыса открывался чудный вид на верхнее течение Сининской реки; вниз же к востоку она словно скрывалась, прячась в глубине узкого ущелья. Вьючная тропа то стлалась внизу, то взбегала наверх, капризно извиваясь по каменистым карнизам.
Пользуясь высокой весенней водой, китайцы сплавляли вниз по течению реки запасы пшеницы, перевозимой на плотах в бычьих шкурах, снятых чулком.
По мере удаления на восток окрестные горы несли более пустынный характер, будучи окрашены в серо-желтый цвет от преобладающего включения в состав их пород глин или классического лёсса.
Ниже слияния Синин-хэ с Тэтунгом река заметно обогатилась и шире катила свои грязные волны. Горы вообще понизились и чаще оставляли берега реки, глубоко бороздившей лёссовую почву.
На береговых обрывах порхали, словно бабочки, краснокрылые стенолазы (Tichodrama muraria), а по нагретой поверхности земли бегали только что проснувшиеся ящерицы.
Достаточно было малейшего ветра, чтобы взбудоражить пыль и ею омрачить воздух; а над караваном или даже отдельным всадником всегда поднималось пыльное облачко, указывавшее направление дороги. Задыхаясь от пыли, люди постоянно чихали, животные фыркали.
Стремясь в Лань-чжоу-фу, мы шли форсированным маршем до сорока верст ежедневно. Наибольшее утомление ощущалось после полудня, когда в значительной мере пригревало солнышко. На предпоследнем своем переходе к резиденции китайского вице-короля мы переправились через реку при помощи баркаса, управляемого партией в пятнадцать человек перевозчиков.
Пятнадцатого марта мы наконец достигли цели!
В этот день мы поднялись с ночлега (в селении Синченна) особенно рано и шли по очень оживленному пути, в буквальном смысле в сплошном облаке тончайшей лёссовой пыли.
Чтобы лучше ориентироваться и меньше задыхаться от пыли, я старался держаться в некотором отдалении от дороги и увереннее заносил свои наблюдения.
В широкой долине Хуан-хэ можно было видеть ее русло, местами дробившееся на части поднимавшимися со дна реки порогами. Справа и слева по-прежнему тянулись безжизненные горы. Река жалась к левому берегу, оставляя широкий простор для земледельческого населения вправо. Через несколько верст движения картина изменилась мы проходили у правого берега Хуан-хэ, где залегал рукав – старица – с замечательно прозрачной водой, на поверхности которой во многих местах еще лежали толщи посиневшего льда. На ближайшей отмели важно расхаживала серебристо-белая красавица цапля (Herodias alba [Ardea alba]), а с соседнего обрыва снялась черноголовая чайка (Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus]); вдали вереницей летели большие бакланы (Phalacrocorax carbo).
Насколько хватал глаз, вниз по течению змеилась Хуан-хэ, местами чуть-чуть светлея своими широкими водами.
За правым обрывом, или, точнее, отрогом гор, тотчас выдался мыс, на уступе которого стоял китайский храм, живописно расположенный амфитеатром.
Еще семь-восемь верст – и мы в Лань-чжоу-фу, о котором прежде всего давали знать четыре исторические башни, построенные со стороны мятежного города Хэ-чжоу, населенного дунганами. Наш путь проходил по улице, богатой лесными складами и запруженной, словно винными бурдюками, мешками-шкурами с пшеницей. Другая соседняя улица, еще более многолюдная и оживленная, дала возможность выбраться нам на набережную Хуан-хэ к месту постройки европейскими инженерами постоянного моста.
Тут же в ближайшем постоялом дворе располагались мои спутники в добром здравии и полном благополучии.

Западный Китай и Монголия 1909 г.
Глава двадцать третья. Через алаша в Xapa-xотo
Мой приезд в Лань-чжоу-фу и соединение с караваном. – Наш путь в Дын-юань-ин. – Гнездование больдуруков – Пески Тэнгэри. – Характеристика Южной Гоби. – Озерки Ширик-долон. – Колодец Шангын-да-лай. – Вид на хребет Ала-шань. – Приход экспедиции в Дын-юань-ин.
Пятнадцатого марта по возвращении моего разъезда из Гумбума в Лань-чжоу-фу экспедиция вновь слилась воедино, и первый день нашей встречи с остальными товарищами весь прошел в обоюдных расспросах и дружественных разговорах. Главный караван совершил весь путь от Лаврана до Лань-чжоу-фу в шесть переходов, сделав недельную остановку приблизительно на середине пути в Хэ-чжоу.
Город Хэ-чжоу стоит в долине реки Дао-чжа-хэ, в пяти верстах к югу от самой реки, на высоте 6270 футов [1910 м]над морем.
«Хэ-чжоу был разрушен, – пишет Г. Н. Потанин[324],– во время мусульманского восстания; жители вернулись только десять лет назад. Во главе здешнего мятежа, по словам хэчжоуских жителей, стоял Джинса-ахун, имевший пребывание в Синине, родом из Хэ-чжоу. Все постройки в городе новые. Прежде в Хэ-чжоу было много мусульман. В наших книгах встречалось несправедливое утверждение, будто Хэ-чжоу лежит в центре саларского[325] населения; салары живут отсюда к западу около города Сюнь-хуа-тин, и их территория отделена от хэчжоуской котловины высоким хребтом Хара-уда; возле Хэ-чжоу саларских селений нет, но в город салары часто приходят для торговли».
Местность, по которой следовал караван, имела на всем 155-верстном протяжении пересеченный характер, и только благодаря удивительной ловкости и устойчивости на ногах караванных животных – мулов, путешествие по крутым горным тропинкам и каменным кручам обошлось благополучно. В окрестностях Лавранской речки, вплоть до города Хэ-чжоу, мои спутники встречали преимущественно кочевников – тангутов, а далее к северо-востоку началась уже сплошная земледельческая культура; причем дунганское население ухитрялось устраивать свои поля не только по дну долин, но также и по крутым скатам холмов и даже на вершинах гор.
Лань-чжоу-фу – резиденция ганьсуйского вице-короля Цзунду, красуется на правом берегу могучей Хуан-хэ, достигающей в этом месте ста сажен ширины, при двадцати футах глубины в весенний низкий уровень воды. Против верхней части города через Хуан-хэ имеется плавучий мост, рядом с которым европейские инженеры возводят постоянный. По словам местных жителей, не верящих в европейское строительное искусство, новый мост европейцы не устроят, и их дальнейшие попытки в этом направлении так же будут уничтожены высокой летней водой, как были уничтожены основы первых пролетов прошлой зимне-весенней кампании. На противоположной левобережной стороне на холмах ютятся довольно живописные храмы, а вдоль быстрой реки там и сям виднеются гигантские колеса – водочерпалки, снабжающие город и хлебные поля необходимой влагой.
Внушительные солидные стены древнего[326] города вздымаются над самой рекой до десяти сажен [20 м] и вместе с четырьмя оригинальными старинными башнями, поставленными триста лет тому назад на юго-западных доминирующих высотах в защиту от разбойничьего населения Хэ-чжоу, создают впечатление настоящей крепости. Включая и крепостной район, Лань-чжоу-фу имеет всего около десяти верст в окружности и делится на несколько кварталов, из которых северо-западный, более благоустроенный, замечателен тем, что в нем живет Цзун-ду, а следующий, так называемый военный, известен своими многочисленными европейского образца типографиями и мастерскими: столярными, сапожными, стекольными и пр. Тут же выделываются шелковые ткани, далемба и другие материи. Все эти продукты туземного производства, так же, как и более редкие предметы роскоши – бронза, фарфор, наполняют богатые магазины.
В общем же, несмотря на порядочное количество зелени и довольно хороший сад, весь город выглядит грязно и неприятно. Местное шестидесятитысячное китайское население имеет о чистоте лишь слабое понятие, а представителей более культурных европейских наций – миссионеров, специалистов-техников – пока еще слишком мало, чтобы сгладить восточный колорит резиденции вице-короля.
При осмотре местных зданий мы обратили особое внимание на школы. Кроме военного училища для четырехсот юношей пехотинцев и кавалеристов, нам показали еще нечто вроде гимназии, предназначенной для детей чиновников. В этом учебном заведении мы нашли довольно хороший музей с отделами: минералогическим, ботаническим и зоологическим; среди последнего особенно художественно выглядели чучела птиц и витрины с жуками и бабочками.
Закончив необходимые визиты, мы занялись неотложными делами: надо было позаботиться об исполнении всех поручений Далай-ламы и как можно скорее сообщить ему те сведения о Пекине, которые мне удалось добыть по телеграфу. Кроме того, пришлось обстоятельно снарядить посыльного в Вэй-юань-сянь к капитану Напалкову с наказом передать топографу экспедиции, помимо денежного подкрепления, еще предложение возможно полнее исследовать южную Ганьсу и, продолжив маршрут в наименее изученной части страны до Алаша, встретиться там со всем караваном примерно в начале июня месяца.
Интенсивные занятия на биваке часто прерывались приходом торговцев, предлагавших всевозможные редкости старинного китайского искусства, и визитами разных посетителей. Из сановников у нас побывал лишь один губернатор Нэ-тай, а вице-король со своей многочисленной свитой медленно проследовал мимо лагеря и, поздоровавшись с выстроенным по этому случаю экспедиционным отрядом, оставил мне свою визитную карточку.
На берегу Желтой реки так же, как и на ближайшем озерке, останавливались во множестве пролетные пернатые, давшие интересный материал для наблюдения. К двадцать второму марта прилетели уже такие нежные формы птичек, как белые и желтые плиски (Motacilla alba baicalensis, M. leucopsis [M. alba leucopsis] et Budytes citreola), чеккан (Saxicola pleschanka [Oenanthe pleschanka]) и городская и горная ласточки (Hirundo rustica gutturalis et Biblis rupestris), изредка подававшие свой веселый светлый голосок. Весна надвигалась быстро; на солнечном пригреве ползали жуки, летали бабочки и мухи и даже показались проворные ящерицы. Местами травка сильно зазеленела.
Наметив выступление каравана из Лань-чжоу-фу на день Благовещения, мы уже заранее стали готовиться в путь. Надо было подготовить верблюдов, насколько возможно пополнить этнографический отдел экспедиционных коллекций и закончить подробный осмотр города.
В день Благовещения лагерь экспедиции пробудился очень рано. С восходом солнца явился уже и перевозчик с арбами для переправы багажа на левый берег Хуан-хэ. Здесь после чая и легкого завтрака мы завьючили верблюдов, и стройный караван длинной нитью тронулся к далекому, родному северу. Мы взяли направление на Пинь-фань вдоль лёссовых серых холмов[327], временами возвышавшихся справа и слева, точно мрачные безжизненные стены какой-то одной бесконечной траншеи. Тонкая пыль и крайняя сухость воздуха делали переходы в жаркие дни очень тягостными. Зато по ночам спать было прекрасно, так как температура нередко понижалась до 0°С.
Довольно частые встречи с туземными караванами[328] служили путешественникам некоторым развлечением среди всеобщей удручающей мертвенности, а начавшиеся сборы пресмыкающихся [остроголовые ящерицы], насекомых – жуков, мух и первых скромных бабочек-белянок – и птиц занимали все свободное время. Чекканы и полевой и хохлатый жаворонки уже приступили к любовной игре, и в воздухе звонко разносились их оригинальные весенние песни. Красноклювые клушицы и вьюрки (Carpodacus stoliczkae [С. synoicus]) держались пока еще целыми обществами, но проявляли некоторое волнение и особенную жизнерадостность. Сычики разбились на пары и, видимо, готовились к периоду гнездения, и только один красавец краснокрылый стенолаз по-прежнему встречался в одиночку, ничем не выражая своего весеннего настроения.
По мере удаления от Желтой реки недостаток в хорошей питьевой воде чувствовался все острее[329].К востоку от пиньфанской дороги, в долине Питай-гоу, сравнительно густо заселенной земледельцами, население добывало живительную влагу из колодцев глубиною от двенадцати до пятнадцати сажен; но зато и мощность водоносного горизонта иногда достигала – колодезь Да-хулун – семи – десяти футов [2–3 м]. Всюду наблюдалась в большей или меньшей степени борьба человека с природою. В этом смысле китайцы достигли большой виртуозности: этот народ не отступает ни перед какими трудностями и энергично проводит самые тяжелые, Сизифовы работы. Так например, вблизи селения Да-хулун люди извлекают из земных недр подходящую для себя почву и, перенося ее на плечах в особых корзинах, устилают этим плодородным слоем глубиною в три-четыре вершка [13–17 см] огромнейшие поля. Несмотря, однако, на все старания, земля далеко не всегда вознаграждает местных китайцев; об этом свидетельствуют многочисленные покинутые деревни, обвалившиеся колодцы и заброшенные пашни, подавляющие путешественника своею тишиною смерти.
Между тем широкая густонаселенная низина, покрытая серым мелкосопочником, вскоре сменилась более пересеченной, но столь же печальной местностью. По-прежнему кругом царило полное молчание, лишь кое-где по скалам мелькали быстрые, проворные чекканы: Saxicola pleshanka [Oenanthe pleschanka], S. deserti atrigularis [O. deseiti atrogularis], S. isabellina [O. isabellinia]), а по скудным пастбищам изредка пестрели стада баранов. У колодцев, служивших сборным пунктом всех окрестных обитателей, мы наблюдали завирушек, светло-розовых монгольских вьюрков, каменных воробьев и горных голубей. Отдаленный северо-восток, куда медленно подтягивался караван, был заполнен горными кряжами[330], слагавшимися из сланцев и красных или серых песчаников. К северо-северо-западу темнели внушительные формы хребта Шуло-шаня, на юго-западе намечались контуры снеговых вершин общей горной группы, сопровождающей течение Желтой реки справа, а прямо на севере, за бесконечными волнами второстепенных гор, открывалась пустыня, задернутая пыльной дымкой.
Массив Шуло-шань состоит из нескольких самостоятельных гряд, лежащих в северо-западном – юго-восточном направлении, сливающихся на юге в одну цепь, густо поросшую на северном склоне еловым лесом и кустарниками, где находят приют олени и кабарга. В ущельях вблизи ключевых источников ютятся китайцы-скотоводы; тут же по соседству рудокопы занимаются добыванием меди, а несколько далее, в предгорьях, разрабатывается и каменный уголь.
Двадцать девятого марта на уединенном пустынном биваке утро мелькнуло незаметно, и в полдень наши верблюды по-прежнему неутомимо шагали в северо-восточном направлении. Монгол-подводчик Дэлгэр с сыном Дайчжи действовали прекрасно, и мы не могли нахвалиться выносливости и бодрости неизменных «кораблей пустыни». Вновь перед глазами потянулись мелкие каменистые гряды, убранные хармыком, долины, покрытые в верхних частях полынкой, а в нижних разноцветными ирисами. Глаз присмотрелся к окружающему и жаждал новых впечатлений. Каждый родник, оживленный свежей мелкой растительностью, иногда деревьями, преимущественно вязами, а иногда просто густым высоким дэрэсуном, приветствовался большою радостью. Каменисто-песчаное русло высохшей речки привело нас к населенным пунктам – китайской деревне Ца-цзи-шуй и еще ниже – маленькому городку Суань-хоу-пу. Питавшийся арычною водою городок имел традиционную башню, а его порядочные домики, числом сто семьдесят, и лавки свидетельствовали о достаточной зажиточности населения.
Тщательно возделанные пашни зеленели изумрудными всходами, а за ними, на севере, до самых гор расстилалась долина Цхо-еэ-тан, питавшая многочисленные стада домашних верблюдов и крайне доверчивых, смирных антилоп харасульт (Gazella subgutturosa). Кое-где попадались монгольские вьюрки, каменные или горные голуби и оригинальные больдуруки, стайками прилетавшие из песков Тэнгэри полакомиться сульхиром (Agriophyllum gobicum). С напряжением осилив долину Цхо-вэ-тана, караван поднялся на поперечный кряж Гэ-да-шань и взглянул уже наМонголию. Граница внутреннего Китая отмечена здесь Великой стеной, от которой сейчас виден только размытый глинистый вал и несколько башен в пять и более сажен высотою. Еще через несколько верст, вблизи разветвления дорог – влево на Цаган-булак и вправо на Нин-ся, показался обелиск с китайской и маньчжурской надписями, гласившими, что путник отнюдь вступает на территорию алашаньской земли.
Чем дальше на север, тем ровнее становился рельеф местности; травянистый покров бударганы, дэрэсуна и более нежных цветущих форм – сиреневого касатика, белого астрагала и желтой караганы вдали уже пестрел островками желтых песков. Под ногами шныряли ящерицы, ползали жуки и изредка полосатые змеи. Ночью повсюду резвились проворные тушканчики. Вблизи дороги то и дело поднимались больдуруки, для которых наступило время гнездения. Действительно, мы наблюдали этих птиц, гнездящихся в большом количестве у самой дороги; они были заняты откладкой яиц, которые помещались прямо на земле в ямке, даже не всегда выстланной стебельками; яйца одной пары лежали иногда всего в двух-трех саженях от яиц другой пары. Яиц в гнездах было от одного до трех, в последнем случае уже немного насиженных; с пятого апреля все гнезда уже содержали по три яйца, то есть полную кладку. Самки сидели на яйцах очень крепко и покидали гнезда лишь в крайности, убегая и прижимаясь к земле, самцы же срывались обычным порядком, с криком; самки отвлекали внимание собаки от гнезда точь-в-точь, как это делают тетерки.
Редкие монгольские стойбища и разбросанные там и сям плохенькие фанзы китайцев, занимающихся в Юго-восточной Монголии скотоводством (бараны и верблюды) и извозом, вносили мало оживления. Зато на самом пути довольно часто встречались небольшие партии паломников, медленно пробиравшихся на поклонение святыням, с трудом волоча на себе весь свой скарб. Этот трудный подвиг доступен лишь здоровым и сильным людям, тогда как слабейшие нередко погибают от жажды и истощения, не достигнув заветной цели. Одну из таких жертв молитвенного долга – несчастного ламу – члены экспедиции видели уже бездыханным трупом на самом краю дороги.

На этот раз экспедиция следовала восточной, уже знакомой окраиной песков Тэнгэри и с помощью крепких верблюдов осилила ее в семь переходов. Второго апреля с раннего утра путешественники вышли из области травянистых степей и окунулись в настоящую пустыню. Легкие облачка, постоянно набегавшие на солнце, и порывистый ветер освежали атмосферу, не давая ей раскаляться. Бесконечное серо-желтое море, простиравшееся к северу и западу, волновалось округлыми, барханными возвышениями. На гладкой, точно утрамбованной поверхности земли ясно выступали караванные пути, пешеходные тропы, взбегавшие к барханам, увенчанным обо, и даже микроскопические дорожки, проложенные жуками и ящерицами; эти мелкие, едва заметные черточки составляли причудливые узоры и заканчивались обыкновенно у круглых отверстий, куда то и дело исчезали бойкие широкоголовые ящерицы.
К вечеру утомленный однообразием взгляд с радостью остановился на травянистой болотистой полосе, залегающей у колодца Хоир-худук; значительно позеленевший дэрэсун приютил здесь серых журавлей, турпанов и серых гусей; саксаульные сойки перелетали с одного холма на другой; в отдалении звонко разговаривали кулики, кричали чибисы, медленно взмахивая крыльями парили чайки, а там – над окраиной песков – быстро направлялся к западу табун дроф. По мере сгущения сумерек погода заметно портилась, и около полуночи разразилась сильная северо-западная буря; под напором ветра палатка стонала, полотно трепетало и рвалось прочь от земли, а спящих внутри палатки обдавало тонкой пылью, стеснявшей дыханье.
От колодца Хоир-худук до озерка Ширик-долон тянутся пространства, занятые песчаниками, глинами и более твердыми красноватыми или темными породами, где пески нередко сменяются хорошими кормами, создавая более или менее отрадную картину. Вообще я должен сказать, что пустыня Гоби ранней весной вовсе не так мертва, как это принято думать; водоносный горизонт в этой части Центральной Азии находится сравнительно неглубоко и в более низких местах прикрыт песчано-глинистыми пластами от четырех-пяти до десяти-двенадцати футов толщиною. Правда, в большинстве случаев вода не совсем пресная, а солоноватая или известковистая. Самая разнообразная пустынная растительность служит пищей не только верблюдам, но и лошадям и даже баранам, так что монгольское население в ближайшем соседстве с алашаньскими песками может существовать вполне безбедно и не в праве жаловаться на судьбу; лишь в редкие, исключительно засушливые годы жизнь обитателей пустынных мест становится действительно незавидной.
На семи озерках Ширик-долон путешественники нашли «гостей», прибывших ранее экспедиционного каравана. Здесь держались серые гуси, кряковые утки, утки-чирки, целое общество пеганок и несколько пар беспокойных турпанов. По серым зеленым берегам у самой воды бегали и резвились кулички-песочники, улит черныш и серые и желтые плиски, а несколько в стороне – скромные щеврицы. В прилежащих буграх среди кустов скрывались саксаульные сойки, а поодаль неслышным полетом спешил куда-то седой лунь.
После небольшого отдыха у отрадной зелени озерков особенно грустной показалась всем нам необходимость вновь погрузиться в область сыпучих песков. Крепкий ветер за ночь успел замести все следы караванной дороги, и четвертого апреля в течение целого дня верблюдам пришлось идти ощупью, держась вдоль барханов меридионального направления. Люди с напряжением всматривались в окружающее, следя за очертаниями малейших возвышений и каменисто-дресвяных[331] выемок. Наконец на северо-восточном горизонте ясно обозначились контуры седлообразной вершины Лоцзы-шань, у колодца Шангын-далай, а в ближайшей низине мелькнуло отрадное белое пятнышко монастыря Цокто-курэ. По соседству с обителью устроился китайский торговый дом, куда мы тотчас же и направились в надежде найти кое-какие предметы первой необходимости; к сожалению, в магазине не оказалось ничего подходящего; и члены экспедиции ограничились приобретением откормленного барана, которым и полакомились с особенным удовольствием, так как от самого Лань-чжоу-фу приходилось питаться неважным консервированным мясом.
Поздним вечером я вышел из палатки и долго любовался строгим профилем хребта Ала-шаня, говорившего о скором возвращении экспедиции на давно покинутый ею склад и метеорологическую станцию. Кругом было тихо, только откуда-то из темноты доносился лай монгольских собак и своеобразный свист кроншнепа, пролетевшего несколько раз над спящим биваком.
Держась преимущественно северо-восточного направления, караван продолжал ежедневно покрывать от тридцати до пятидесяти верст и успешно оставлял за собою бесконечные песчаные барханы, лога и долины. Наконец седьмого апреля, отдохнув в урочище Тембу, мы вступили в кормную равнину, орошаемую в летнее время водою ущелья Барун-хит, и вскоре увидели приветливый зеленый оазис. Дорога оживилась; по сторонам появились китайские и монгольские постройки оседлых жителей, всходы полей и берега ручьев отливали изумрудом; по лугам паслись стада баранов и табуны лошадей, во всем чувствовалась близость культуры.
Спускаясь с последней перед Дын-юань-ином высоты, мы встретились с европейцами – супругами Магнусен, следовавшими в Пинь-фань для совета с лучшими врачами. Еще полчаса – и путешественники радостно приветствовали своих товарищей на складе, сумевших не только сохранить в образцовом виде все экспедиционное имущество, но и с пользою провести время долгого одиночества: ответственный наблюдатель метеорологической станции гренадер Давыденков вполне оправдал доверие и прекрасно выполнил возложенное на него поручение, за что тут же был произведен мною в старшие унтер-офицеры.

Глава двадцать четвертая. Через Алаша в Хара-Хото (окончание)
Пребывание в Дын-юань-ине; занятия участников экспедиции; приготовление к новому пустынному переходу и работам в Хара-Хото; погода в Дын-юань-ине; отсутствие двора цин-вана; новый знакомый лама Далай-Цорчжи и сыновья покойного князя Сан-е. – Соловьи-красношейки. – Часть каравана на Ургу и мой разъезд в Хара-Хото. – Сценка у отрадного колодца. – Монастырь Шарцзан-сумэ. – Лама Иши. – Богатая долина Гойцзо. – Приход в Мертвый город. – Новый род и вид тушканчика Salpingotus kozlovi Vinogr.
Итак, после долгого отсутствия, после целого ряда невзгод и лишений экспедиция вновь прибыла из Алаша в Дын-юань-ин и по-прежнему удобно расположилась под гостеприимным кровом соотечественников.
Дни побежали незаметно; я занялся снаряжением тяжелого каравана, предназначенного для прямого путешествия в Ургу, и легкого разъезда, который должен был докончить исследование развалин Хара-Хото. Снова пошла переукладка и пересортировка естественно-исторических и других сборов, причем больше всего хлопот причинили, как всегда, спиртовые коллекции. Мои спутники приготовляли сухари, сушеное мясо, а также посуду – ланхоны – для перевозки воды – все необходимые принадлежности предстоящего трудного похода к Мертвому городу. Можно было сказать наперед, что пустыня неприветливо примет нас и истомит своим сухим горячим дыханием усталых странников. Но перспективы тяжелого труда в раскаленных песках никого не страшили. Сознание важности совершаемого святого дела науки и мысль о скором возвращении на родину придавали новые силы и энергию.
Очень часто в ненастную погоду с утра и до поздних часов я просиживал над писанием деловых писем и составлением отчетов о содеянном. В виде маленького отдыха в таких случаях мне всегда служило занятие фотографией: ланьчжоуские снимки – портреты Цзун-ду, Нэ-тая, которые следовало выслать в Лань-чжоу-фу, и многочисленные виды, а также новые работы, как, например, оригинальное изображение барун-сунитской монголки в национальном костюме, удались прекрасно, и проявление этих пластинок доставляло одно только удовольствие.
Лишь изредка, небольшими урывками удавалось мне, закончив текущие дела, вырваться на свободу и понаблюдать за постепенным развитием алашанской природы; сады были в цвету, сирень уже распустилась, и ласточки веселыми стайками показывались все чаще и чаще. Южный ветер заметно повышал температуру, тогда как северный нередко превращался в настоящую бурю и приносил обильные осадки; вместо прелестного синего неба даль окутывалась тогда каким-то грязно-желтым мрачным саваном, и ночной минимум сплошь и рядом доходил до нуля градусов.
В горах весна началась заметно позднее; девятого апреля сирень все еще не распускалась, тогда как в оазисе она уже успела поблекнуть. По утрам ручьи покрывались тонкой пленкой льда, исчезавшей только после полудня, а самые склоны хребта Ала-шаня хотя и приобрели темную, зеленовато-фиолетовую окраску, но временами тоже белели свежим снегом.

Препараторы не забывали своего дела и довольно много экскурсировали. Орнитологическая коллекция обогатилась интересными экземплярами: дрозда (Oreocichla varia [Turdus dauma aureus]), мухоловки и вальдшнепа, а в маммологическую – поступило два куку-ямана; аргали держатся в северной части гор Алаша и так легко не даются; мы слышали, что для охоты на этих красивых животных местные стрелки собираются обществом и в случае удачи дают возможность алаша-вану отвезти добычу в Пекин китайским князьям в виде наилучшего подарка.
Ясные тихие вечера я целиком проводил за астрономическими наблюдениями, проверяя определение географических координат и время. При этих занятиях нередко присутствовал мой приятель – весьма любознательный и просвещенный лама Далай-Цорчжи-гэгэн из монастыря Далай-Цорчжи сумэ, Барун-сунитов[332]. Он очень интересовался астрономическими инструментами и любил рассматривать в трубу Луну и Юпитер. От Далай-Цорчжи я узнал много любопытных подробностей, касающихся жизни моих друзей – семьи Чжюн-вана и Шакдур-гуна, с которыми я познакомился в Урге во время пребывания там Далай-ламы и, воспользовавшись случаем, передал им мой привет в сопровождении традиционных голубых хадаков. Из прочих алашанских знакомых я обменялся визитами лишь с симпатичными сыновьями покойного брата цин-вана – Сан-е. Молодые люди принимали меня в парадном помещении, обставленном очень уютно на китайский лад, угощали чаем, сластями и занимали приятным разговором, вспоминая великого Пржевальского, который до сих пор живет в их воображении в образе русского богатыря. Сад при доме князей, как всегда, поражал своим художественным планом, количеством цветов и цветущих кустарников. Здесь росли яблони, груши, персики, грецкий орех, сирень, характерно вьющийся Salix и еще некоторые формы древесной и кустарниковой растительности.
Гуляя в свободное от занятий время по городу, ставшему в отсутствии княжеского двора гораздо тише и спокойнее, я любил заходить в китайские магазины старинных вещей, где нередко находил любопытные образцы обихода, одежды и оригинального искусства. Лично для себя мы приобрели несколько так называемых нинсянских ковров, известных своею мягкостью, своеобразным сочетанием красок и красивым рисунком.
В китайских магазинах вы можете очень часто наблюдать певчих птичек: жаворонков и соловьев-красношеек (Calliope tcshebajewi), пением которых наслаждаются не только хозяева, но и посетители или прохожие. За красоту и за пение в особенности ценятся соловьи, которых китайцы держат по одному, по два и более. Днем каждую птичку держат на деревянной рамочке, подвешенной к крыше или к стене дома в тени. К этой рамке птичка прикреплена за низ шейки тесемкой в пол-аршина длиною; иногда птичка улетает с тесемкой, но китаец искусно излавливает ее, подставляя рамочку на протянутой руке. На ночь птичек помещают в большой просторный ящик, закрытый сверху решеткой; в нем имеются удобные приспособления для сиденья и установки кормушек. Китайцы чистят, холят и кормят своих любимцев, а по утрам и вечерам выходят с ними в поле, на гору или в сад и, поместив птичек на открытый воздух, любуются ими по часу и более, не сводя с них глаз. Они очень любят, если зрители хвалят их птичек.
В конце концов Дын-юань-ин начал все-таки порядочно надоедать путешественникам; желание тронуться по направлению к пустыне росло с каждым днем. Закончив все приготовления по снаряжению каравана, мы теперь поджидали только капитана Напалкова, который письмом известил нас о том, что ввиду своего переутомления как в физическом, так и нравственном отношении он торопится в Алаша и далее в Ургу.
Тридцатого апреля мой старший помощник наконец соединился с экспедицией. Выслушав доклад топографа, я оставил на его попечение главные коллекции, а сам налегке в сопровождении нескольких сотрудников выступил к заветному Хара-Хото.
Четвертого мая мои верблюды, числом двадцать один, выстроились стройной вереницей и медленно, но упорно и неутомимо закачались по серо-желтой, песчано-каменистой дороге. Слева, на западе, насколько хватал глаз, простиралась холмистая пустыня, одетая золотисто-зеленым покровом прошлогодних трав, на севере еле намечались вершины Баин-ула, а на востоке островки деревьев, сплетаясь своими густыми вершинами, составляли свежие, яркие живописные группы. Хребет Алашань постепенно терялся из виду. Первый ночлег на берегу ручейка Курэтэ под сенью стройных ивовых деревьев казался путникам особенно отрадным после опротивевшего всем людного пыльного Дын-юань-ина. Здесь нас окружали одни лишь молчаливые песчаные холмы, по которым пугливо перебегали зайцы и песчанки; среди зарослей дэрэсуна паслись осторожные харасульты и скрывались дрофы да больдуруки, а на водопой слетались соловьи-красношейки, варакушки, белые или серые плиски и чекканы. На солнечном пригреве, в самых открытых незащищенных местах нежились серые тонкие змеи и черные узкодлинные мухи с белым пятном на лбу. Все это население, часто довольно обильное, не мешало общему, окружавшему нас покою. Наоборот, оно только дополняло пустынный пейзаж, лаская глаз своими типичными формами.
Южная часть Гоби, Алаша до долины Гойцзо, не имеет того удручающе-монотонного характера, каковой принято приписывать всем пустыням.
Равнина, отличающаяся то песчано-глинистой, то солонцеватой или хрящеватой почвой, пересечена мягкими складками и образует местами широкие понижения[333],принимающие в себя боковые долины, – высохшие русла речек, усыпанные по дну дресвою из красного гранита и украшенные по берегам стройными линиями ильмовых деревьев[334], дэрэсуном, хармыком и другими травянистыми и полукустарниковыми растениями.
Залегающие в поперечном западно-восточном направлении горные гряды: Баин-ула, Дурубульчжин, Хара-ула хотя и безжизненны и бескормны, все же вносят приятнее разнообразие в общую печальную картину.
Абсолютная высота пустыни колеблется от 3500 до 4000 футов [1070–1220 м], причем наивысшие точки горных массивов поднимаются до 5470 футов [1666 м], а котловины с солончаковыми болотами опускаются до 3000 футов [915 м].
Особенной отрадой, особенным приветом веет в области южно-гобийских песков от мелких ручьев и колодцев, встречающихся приблизительно через каждые десять – пятнадцать верст, а иногда и чаще, и видные издалека благодаря островкам яркой зелени. Собирая вокруг себя все живое, вода дает возможность существовать и редким жителям – монголам и китайцам, ютящимся в глинобитных лачугах, юртах и палатках. Сидя иной раз в таком оазисе под тенью высоких тополей и слушая шелест густой листвы, невольно закрываешь глаза и уносишься мыслью далеко, в родные северные леса. А между тем, с приходом каравана все кругом оживает. Туземки чаще обыкновенного приходят поить скот (преимущественно верблюдов и баранов, бродящих целыми днями по скудным пастбищам) и подолгу наблюдают за нами. Там и сям слышатся веселые голоса, смех, а порою и сдержанный шепот.
Вот подходит к биваку молоденькая пятнадцатилетняя здоровая, румяная девушка с удивительно высокой изящной талией. Она боязливо озирается на иностранцев, в особенности на экспедиционную собаку, стремящуюся к колодцу утолить жажду. Живые, быстрые черные глаза пустынницы горят любопытством. Она то устремляет искрящийся взгляд куда-то вдаль, то снова и снова скользит испытующим взором по новым, неведомым ей предметам, по чуждым, странным европейским лицам. Дикарка напрасно ищет ответов на многие вопросы, заполняющие ее сознание, ограниченное лишь узким кругозором.
Не изменяя раз избранному северо-северо-западному направлению, караван то вступал на путь, знакомый нам еще со времени Монголо-Камского путешествия, то плелся по тропе, видевшей экспедицию год тому назад в ее бодром стремлении к югу.
От известного колодца Дурбун-мото путешественники пошли напрямик к кумирне Шарцзан-сумэ, оставив в стороне все прежние маршруты и следуя на пересечение песков Ямалык. Галечные высоты чередовались с песчаными низинами, где барханы, высотою иногда от тридцати до сорока футов [от 9 до 12 м], длинными зигзагами тянулись с севера на юг и с запада на восток, сплетаясь в причудливые, сложные построения.
Монастырь Шарцзан-сумэ виден издалека, так как его свежие чисто-белые постройки блестят на солнце ярким пятном. Отшельники-буддисты избрали для своей обители очень укромный, симпатичный уголок, среди горных складок, в прохладе, вблизи прекрасного колодца чистой пресной воды.

Повернув по буддийскому обычаю большое хурдэ стоявшее, у входа в монастырский двор, мы вошли в ворота и увидели все три храма, выстроенные в ряд, с двумя субурганами по флангам.
Приятно проведя самое жаркое время дня в прохладе буддийского монастыря, мы снова выступили в томительный путь. Прилежащие к Шарцзан-сумэ с севера горы вздымались крутым валом и состояли из полуразрушенного, выветрелого розового гранита, прорезанного жилами глинистого сланца. Каменистый грунт особенно тяжело отзывался на мягких лапах верблюдов, причиняя им немало страданий и заставляя всех нас желать возможно скорейшего переснаряжения каравана.
В обширной долине Шарцзан-ара, граничащей с севера с темно-синим массивом Арыкшан, у колодца Цзагин-худук раскинулась богатая ставка, известная всему Алаша, ламы Иши. Пользуясь дружеским расположением одинокого и весьма симпатичного азиатского креза, я именно у него и предполагал произвести смену усталых животных и проводников. Согласно нашим ожиданиям, Иши с величайшею готовностью откликнулся на нужды экспедиции и взялся доставить ее в Ургу через Хара-Хото. Приветливый лама принял путешественников в своей роскошной ковровой юрте очень любезно, угостил туземными кушаньями, деликатно осведомился, не нужно ли денег экспедиции, и, наконец, выразил мне свое глубочайшее уважение, сказав, что гордится знакомством с русским географом. Беседуя, между прочим, о своем детище – гобийском Мертвом городе, я узнал, что в десяти верстах к востоку от его стен имеется хороший колодец; по словам моего приятеля, в этих местах монголам не раз удавалось находить бронзовые, золоченые бурханы и другие ископаемые предметы, а поэтому Иши советовал мне обратить особенное внимание на восточные окрестности Хара-Хото.
Чем глубже экспедиция проникала в сердце пустыни, тем невыносимее становилась жара. В тени температура нередко поднималась уже до +34°… 37°С, а поверхность песка на солнцепеке накалялась и до 61,2°С. Особенно трудно дышалось в котловинах вблизи солончаковых болот, где всякая вентиляция почти отсутствовала, и нагретый, как будто даже спертый воздух окончательно высушивал в организме последнюю влагу. Даже верблюды и те страдали и, широко открывая могучие пасти, ловили малейшее дуновение ветерка. Странно было наблюдать, как в этот зной некоторые существа, как, например, ящерицы, змеи, жуки и мухи, ни на одну минуту не прекращали своей деятельной жизни и, по-видимому, чувствовали себя прекрасно.
Люди же несколько приободрились только после заката солнца. Ночи в пустыне бывали действительно обаятельные. Свежий прозрачный воздух прохладной струей вливался в усталую грудь; ясное, глубокое небо сияло особенно близкими, особенно яркими звездами, и торжественная чуткая тишина ласкала душу. Сколько раз в пустыне Гоби приходили мне на память грустные и вместе с тем прекрасные строки моего любимого поэта М. Ю. Лермонтова: «Ночь тиха; пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сияньи голубом. Отчего же мне так больно и так трудно».
Во время длительных, тридцати– и более-верстных переходов истомленные ненасытной жаждой, многие из нас находили единственное утешение в тщательном рассматривании горизонта с помощью бинокля.
Среди беспредельного желтого моря каждый островок зелени вызывал у всех живейшую радость, хотя нередко неприветливые растения и даже кое-какие птички – желтые плиски, стрижи – окружали горько-соленые бассейны воды или болота Шара-хулусун, и тогда вместо отдыха нас ожидало разочарование. Зато как мы стали неприхотливы!
Шестнадцатого мая, вступив в котловину Гойцзо и увидев обширные заросли тихо шелестевшего камыша, среди которого блестели полоски прозрачной родниковой воды, нам показалось, что лучше этого человек ничего не может желать. Жадно вдыхали путники особенный сочный и свежий запах влажной растительности, жадно ловили приятные звуки птичьих голосов, долетавших из густых зарослей. Энергичнее других ликовала камышевка (Acrocephalus artmdinaceus orientalis), ни на минуту не прекращая своей оригинальной скрипучей песни. У окраины озерка, при урочище Зуслен, благодушествовала семья серых гусей и кое-какие утки. На берегу степенно разгуливали журавли (Anthropoides virgo) и резвились, гоняясь за мошками и быстро кивая головками, зуйки. Турпаны испуганно носились в воздухе, оглашая окрестность громким криком, а выше их молча и бесшумно парил камышевый лунь.
Долина Гойцзо – самая низкая часть Монголии, отрадный уголок, как бы сдавленный со всех сторон надвигающимися на него песками, всегда наводит на размышление и заставляет задуматься о геологическом прошлом страны. Я лично полагаю, что как Гойцзо, так и продолжение этой котловины к западу – а именно низовье Эцзин-гола, озера Сого-нор и Гашун-нор, представляли из себя еще сравнительно недавно сплошную площадь воды – остаток древнего моря[335].В настоящее время под влиянием сильного зноя пустыни влага этого моря почти вся испарилась, оголив богатое хан-хайскими отложениями дно и оставив лишь в непосредственной близости к источникам крохотные бассейны воды.
Население в котловине Гойцзо несколько гуще, нежели в прочих частях Гоби. На каждом переходе мы встречали монгольские стойбища; верблюды, лошади, овцы и даже кое-какой рогатый скот выглядели недурно и, кажется, вполне довольствовались имеющейся зеленью тростника, тамариска, саксаула, дэрэсуна и редких ильмовых рощ, бог весть каким образом произраставших на отвратительной бугристой солончаковой почве.
Двадцать второго мая, следуя по песчаному плато Куку-илису, то поднимаясь на столовидные возвышения, то опускаясь на дно впадин, мы стали замечать следы древней культуры. По сторонам дороги попадались полуразвалившиеся башни, кое-где намечались осыпавшиеся от времени канавы, когда-то орошавшие хлебные поля. Мы приближались к Хара-Хото. Вот и высокая башня Боро-цончжи, а вот на северо-западе сквозь пыльную дымку еле проглядывают и серые стены Мертвого города.
Утром двадцать второго мая 1909 г., в день прихода экспедиции в Хара-Хото, в четырех-пяти верстах восточнее развалин этого города, в долине с песчаными буграми препараторами был пойман очень интересный маленький тушканчик. Прекрасно сохранившийся в крепком спирту, этот «зверек» при исследовании специалистами оказался новым родом Salpingotus Kozlovi gen. et spec. nov[336][карликовый тушканчик].

Глава двадцать пятая. Вторичное посещение Хара-Хото
Новое посещение Мертвого города. – Бивак экспедиции. – Планомерное ведение раскопок. – Заметки о погоде. – Удручающе мертвенная обстановка. – Потайное молитвенное помещение. – Открытие «знаменитого» субургана; его ценнейшее содержание: книги, образа, статуи, статуэтки и многое другое. – Дальнейшая участь археологических сокровищ экспедиции. – Памятники монгольской письменности. – Отрывок персидской рукописи книги «Семи мудрецов». – С. Ф. Ольденбург: «Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото».
Весь пустынный путь от Дын-юань-ина до Хара-Хото, всего пятьсот пятьдесят верст, экспедиция осилила в девятнадцать дней, нигде не останавливаясь на дневку и нигде не отдыхая.
На этот раз наш бивак устроился не в центре исторических стен города, как прежде, а несколько ближе к его северо-западному углу, подле развалин большой фанзы. Во время нашего отсутствия никто моего детища не навещал: развалины были в том же положении, в каком мы их оставили[337]. Нетронутыми оказались и те предметы, извлеченные нами из-под обломков и мусора, которые мы оставили как лишние.
Рассчитывая провести за раскопками около месяца, я возобновил приятельские отношения с торгоут-бэйлэ, по-прежнему жившим на Эцзин-голе в двадцати с лишком верстах от Хара-Хото, заручился его содействием по найму рабочих-землекопов, а также подрядил торгоутов ежедневно доставлять нам с Эцзин-гола воду и баранов. Повышенная физическая деятельность, увеличение количества ртов в два-три раза требовали того и другого весьма много.
Мертвый город ожил: задвигались люди, застучали инструменты, по воздуху полетела пыль. Ежедневно в полдень к нам приходил караван из ослов с водой и продовольствием с долины Эцзин-гола и привозил нам новости. Порою проведывал нас кто-либо из чиновников торгоут-бэйлэского управления, чтобы в свою очередь знать, как поживают на развалинах русские.
Хотелось и о себе дать знать что-нибудь близким и далеким друзьям и общественным учреждениям. Из Хара-Хото я решил отправить последнюю большую почту с отчетом в Географическое общество и частными письмами в Ургу и Россию.
Не только мои спутники, но и туземные рабочие вскоре прониклись интересом к раскопкам. Мы только и говорили, что о Хара-Хото: вечером – о том, что найдено в течение истекшего дня, утром – что можем найти. По-прежнему мы просыпались с зарей и в сравнительной прохладе вели свои работы; днем отдыхали, а то и пуще – томились от изнурительного жара, так как в тени воздух нагревался до 37°С с лишком, а земная поверхность накалялась солнцем свыше 60°С.
Особенно страдал от духоты мой и без того слабый здоровьем фельдфебель Иванов, который после несчастного случая – тяжкого падения с верблюда – чувствовал себя все время очень неважно и даже внушал серьезные опасения за его жизнь. Пыль и песок, поднимаемые горячим ветром, положительно изнуряли всех.
За все почти месячное время пребывания наше на развалинах пустынного города прошел только один раз сильный дождь, хорошо смочивший землю и встряхнувший застоявшийся воздух оглушительными ударами грома. Маленькие дожди перепадали изредка, им обыкновенно предшествовала северо-западная или юго-западная буря, приносившая вместе с несколькими каплями влаги желтые облака пыли, из-за которых темно-синие дождевые тучи казались грязно-серого цвета. Приближение такого урагана всегда заметно издали по грозному облаку, несущемуся с далекого горизонта и сокрушающему все на своем пути. Сначала по пустыне пробегает вихрь, потом мощным порывом ветра срывается с земли верхний слой почвы и начинает кружиться в воздухе. Юрга пригибается к земле, ее решетчатый остов хрустит, словно кости живого существа, а палатка, надувшаяся, как парус, стремится улететь в пространство; обычно собравшиеся на биваке монголы издают неистовые вопли, теряющиеся в шуме бури, и, вцепившись, что называется, руками и ногами в полотно своего жилища, стремятся спасти его от нападения бога ветра. Это, конечно, удается далеко не всегда.
После такого бурного состояния атмосферы дали быстро проясняются, температура несколько понижается, и странники могут спокойно заняться уборкой своих помещений. Всюду пыль и песок; ни к чему нельзя притронуться, чтобы не запачкать потрескавшиеся от зноя руки. До того времени влажная от испарины одежда просыхает и покрывается твердой коркой соли и мелких частиц песка. Чувствуешь себя усталым и разбитым. Серая безжизненная окрестность усиливает неприятное тяжелое впечатление.
Я всегда радовался при появлении на нашем биваке двух черноухих коршунов (Milvus melanotis), подбиравших отбросы. Эти птицы со всеми нами скоро освоились и смело усаживались в нашем близком соседстве, чуть не выпрашивая подачек. К этому приучили их мои спутники, бросавшие птицам в воздух куски мяса, которые коршуны искусно схватывали. Не любила птиц и постоянно ссорилась с ними наша экспедиционная собака Лянга, – неизменная спутница и друг каравана почти всего нашего путешествия. Эти живые существа – птицы и собака – только и оживляли, только и развлекали наше монотонное житье в Хара-Хото, в особенности в течение первой недели, когда результат раскопок был только непосредственно при большой затрате физического труда.
Сами раскопки производились по заранее составленному плану: монгольская партия рабочих под присмотром моего спутника-бурята систематически исследовала развалины фанз на протяжении немногих улиц Хара-Хото, а иногда пыталась рыть глубокие колодцы в указанных мною местах, русская же партия, помимо раскопок внутри города, производила изыскания и вне харахотоских стен, в близком и далеком расстояниях.

Как прежде, так и теперь попадались предметы домашнего обихода, предметы скромной роскоши, культа, а также письмена, бумаги, металлические и бумажные денежные знаки и пр[338]. Ассигнации мы нашли в развалинах торгового помещения.
Идешь, бывало, медленно по тихим вымершим улицам и смотришь в землю, покрытую мелкой галькой точно узорчатым полом. В глазах пестрит и все сливается в одну серую массу; поднимешь глаза вверх, окинешь взглядом окрестность и вновь идешь, медленно переставляя ноги; вот блеснул интересный черепок, вот бусинка, вот монета, а там дальше – что-то зеленое, какой-то нефритовый предмет. Осторожно откапываешь руками находку и долго любуешься ее оригинальными гранями и странной незнакомой формой. Всякая новая вещица, появившаяся на свет из песчаных недр, вызывает в человеке необыкновенную радость и возбуждает у прочих спутников желание вести раскопки особенно интенсивно.
В этот же период, между прочим, мы натолкнулись на интересное потайное молитвенное помещение, устроенное на северной стене крепости, над третьей с запада фланкирующей башней. По удалении обвалившегося потолка и другого обломочного материала представилась следующая картина: против входа в храмик – полуразвалившийся престол, основания бурханов; на уцелевшей нижней части стенки виднеются фрески с изображением святых и двуголового зеленого попугая[339].
Однообразные, скромные находки стали, наконец, наскучивать нам; энергия ослабевала. Между тем, рекогносцировки для нахождения и сосредоточивания новых раскопок производились, результатом чего и был поставлен на очередь субурган, расположенный вне крепости и отстоящий от западной стены ее в четверти версты, на правом берегу сухого русла.
Вот этот-то «знаменитый» субурган и поглотил затем все наше внимание и время. Он подарил экспедиции большое собрание, целую библиотеку книг, свитков, рукописей, множество, до трехсот, образцов буддийской иконописи, исполненной на холсте, на тонкой шелковой материи и на бумаге. Среди массы книг и образцов живописи, лежавших в субургане в беспорядке, попадались очень интересные металлические идеревянные, высокой и низкой культуры, статуи, клише, модели субурганов и многое другое. Особенно великолепен образ-гобелен как образчик превосходного ткацкого искусства. Ценность находок еще более увеличивается, благодаря редкой сохранности их в крайне сухом климате. Действительно, большинство книг и рукописей, равно и иконопись, поражают своею свежестью, после того как они пролежали в земле несколько веков. Хорошо сохранились не только листы книг, но и бумажные или шелковые, преимущественно синего цвета обложки.
Сколько интереса и своеобразной радости вызывалось при взгляде на тот или другой образ, только что извлеченный из субургана, на ту или иную книгу или на отдельную из найденных статуэток, в особенности бронзовых или золоченых. Таких счастливых минут я никогда не забуду, как не забуду в отдельности сильного впечатления, произведенного на меня и на моих спутников двумя образами китайского письма на сетчатой материи.
Когда мы раскрыли эти образа, перед нами предстали дивные изображения сидящих фигур, утопавших в нежно-голубом и нежно-розовом сиянии. От буддийских святынь веяло чем-то живым, выразительным, целым; мы долго не могли оторваться от созерцания их – так неподражаемо хороши они были. Но стоило только поднять одну из сторон того или другого полотна, как бо́льшая часть краски тотчас отделилась, а вместе с нею, как легкий призрак, исчезло все обаяние, и от прежней красоты осталось лишь слабое воспоминание.
Вместе со всем отмеченным богатством в субургане было похоронено, вероятно, духовное лицо, костяк которого покоился в сидячем положении несколько выше пьедестала у северной стены надгробия. Череп от этого скелета был приобщен к нашим коллекциям[340].
Все богатство, собранное в знаменитом субургане: книги, образа, статуи и другие предметы, повторяю, лежало в крайнем беспорядке. Еще в нижней части хранилища намечалась некоторая система: часть глиняных статуй была размещена на одной высоте лицами внутрь, наподобие лам, отправляющих богослужение перед большими рукописными листами письма Си-Ся, сотнями наложенными один на другой.
Чем выше, тем хаотичнее группировалось богатство субургана; книги лежали кипами и в одиночку, плотно прижатые друг к другу или к образам, свернутым в отдельности на деревянных валиках. И книги, и образа были сложены в самых разнообразных положениях, как равно и статуи, заключенные между ними. Только в основании субургана было отмечено несколько книг, тщательно завернутых в шелковые ткани.
Там же преимущественно хранились и бронзовые статуэтки, и клише, и ксилографические доски, и модели субурганов.
Вообще говоря, «знаменитый» субурган дал почти все, в особенности в отделе книг и образов, чем обогатилась экспедиция, и положительно все, что послужило основанием академику С. Ф. Ольденбургу для его труда «Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото». Еще не приведен в известность полностью перечень книг, рукописей и образов, однако без преувеличения можно сказать, что книг, свитков и отдельных рукописей – свыше двух тысяч томов или экземпляров; что же касается икон, то количество последних доходит, как указано выше, до трехсот номеров.
Сам субурган поднимался над поверхностью земли до четырех-пяти сажен [8—10 м]и состоял из пьедестала, уступной середины и конического, полуразрушенного временем или любопытством человека, верха. В основании центра пьедестала был вертикально укреплен деревянный шест без какого бы то ни было украшения на вершине.
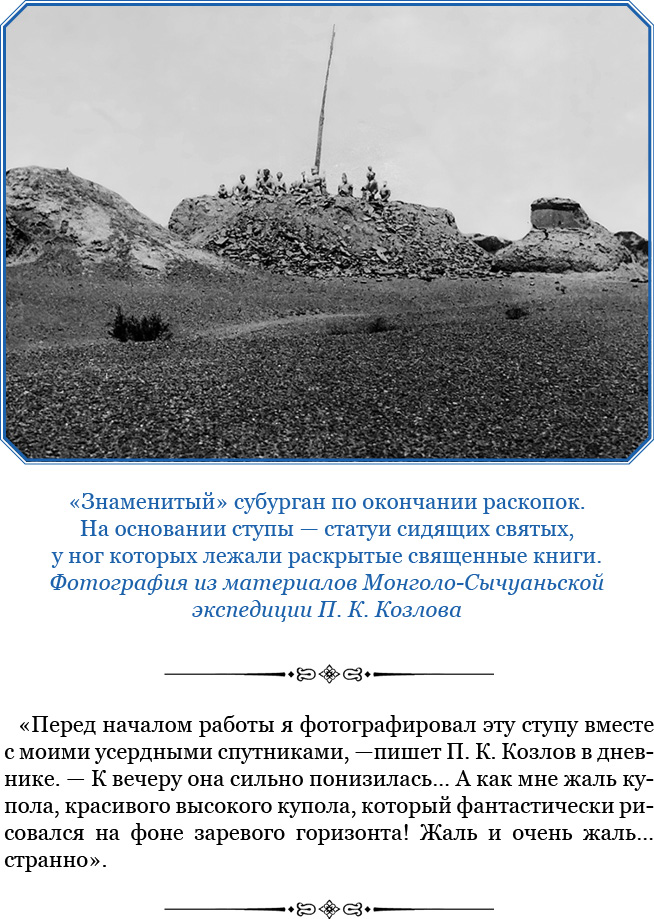
Отдавая все свои силы и время на подробное исследование столицы тангутского царства, я не переставал интересоваться ближайшими окрестностями Мертвого города, где, по слухам, были еще развалины Боро-Хото. С этой целью мой спутник Гамбо Бадмажапов с двумя монголами совершил поездку на северо-восток[341] и привез кое-какие дополнительные данные о жизни туземцев в пустыне Гоби. Оказывается, что в те отдаленные времена, когда Хара-Хото, вытянувшись широким приветливым оазисом вдоль берегов Эцзин-гола, протекавшего еще дальше на северо-восток, жил полной жизнью, не менее его процветало и селение Боро-Хото, расположенное на левом берегу старого русла Эцзин-гола в двадцативерстном расстоянии к северо-востоку от Хара-Хото.
Пользуясь случаем всякой встречи с туземцами, мы постоянно вели с ними беседы о Хара-Хото, о том, конечно, не был ли кто-нибудь на развалинах раньше нашего посещения Мертвого города, или не нашел ли кто что-либо очень интересное и т. д. По этому поводу мне приходилось слышать массу всевозможных рассказов, но более существенных мало, и они заключаются в следующем…
Прежде всего, невежественные, суеверные эцзинголские торгоуты из боязни харахотских духов и их навождений стараются никогда туда не заглядывать, в особенности в одиночку или тем более с целью производить какие бы то ни было раскопки. «Правда, – говорили торгоуты, – среди нас бывали смельчаки, которые собирались компанией, рыли землю в Хара-Хото и кое-что находили. Попадались бронзово-золоченые статуэтки, слитки серебра и немногое другое. Но вот однажды, порядочно лет тому назад, одна смелая и счастливая старуха нашла там три нитки крупных жемчугов. Подробности этого интересного события таковы.
В компании со своими сыновьями старуха искала без вести пропавших лошадей; ее застигла буря, спасаясь от которой торгоуты неожиданно для себя натолкнулись на стены Хара-Хото и под защитой их провели холодную ночь. Наутро стихло, но прежде чем отправиться восвояси – на Эцзин-гол, торгоуты захотели побродить по вымершему городу. Таким образом, следуя среди развалин, старуха увидела открыто лежащие и ярко блестевшие серебристые бусы[342]. Полюбовавшись ими, она повесила украшение себе на шею.
По приезде на Эцзин-гол все торгоуты были тотчас осведомлены о случившемся, и все приходили поглядеть на интересную находку. Один из торгоутов сумел даже распознать настоящую ценность бус и предупредил счастливицу, чтобы она зря с ними не расставалась.
Тем временем к торгоутам прибыл обычный китайский караван с массою разных товаров. Торгоуты не замедлили рассказать китайцам о таком происшествии – о находке старухою жемчугов. Вначале для видимости алчные торгаши браковали бусы, но торгоутка стояла на своем. В конце концов китайцы заплатили за жемчуга содержимым всего своего каравана.
Советник-торгоут был щедро награжден старухой, которая на радости не преминула наделить каждого из своих собратьев тем или иным предметом из вырученного за драгоценную находку.
Собрав материал «знаменитого» субургана, который, несомненно, прольет новый свет не только на историческое прошлое тангутской столицы и ее обитателей, но и на многое другое, и тщательно обследовав все улицы и здания Хара-Хото, мы начали собираться в дорогу. Наш караван вырос до больших размеров и внушал опасение за целость доставки его на родину.
Осенью 1909 года все научные труды Монголо-Сычуаньской экспедиции, все ее коллекции в виде большого транспорта были благополучно доставлены в С. Петербург, в собственное, только что отстроенное помещение Географического общества, которое в начале следующего 1910 года и выставило весь научный материал экспедиции для обозрения публики.
Вскоре затем коллекции Хара-Хото поступили большей своей частью в этнографический отдел Русского музея, а меньшей – книги, свитки, рукописи – в Азиатский музей Российской Академии наук.
Между прочим, о памятниках монгольской письменности из Хара-Хото В. Л. Котвич говорит следующее:
«После разгрома, учиненного Чингисханом в 1226–1227 гг., тангуты, или Си-Ся вошли в состав образованной монголами державы. Несмотря на этот разгром, национальная культурная жизнь страны не угасла, о чем свидетельствует обширная тангутская литература с ее своеобразной письменностью, но к влияниям, которым тангуты до тех пор подвергались (преимущественно со стороны Китая и Тибета), прибавилось еще новое – монгольское. Это последнее влияние не ограничивалось пределами политических взаимоотношений, и о его характере можно до некоторой степени судить по тем монгольским документам, которые были найдены в Хара-Хото Монголо-Сычуаньской экспедицией под руководством П. К. Козлова.
Документы эти не имеют точных дат, но палеографические их особенности и тот факт, что они были найдены вместе с ассигнациями, выпускавшимися монголами в Китае, дают основание отнести указанные памятники ко времени мирового господства монголов, т. е. до 1368 г. Таким образом, благодаря находке П. К. Козлова мы получили важное приращение к очень немногочисленным подлинным памятникам монгольской письменности этого времени. До сих пор подобные памятники были нам известны (по своему происхождению или месту нахождения) из Золотой Орды, Персии, Восточного Туркестана, Сибири, собственно Китая и Северной Монголии; имелись монеты, чеканившиеся с монгольскими легендами в Золотой Орде, Персии и Грузии. Теперь к этому перечню нужно прибавить и новый район – страну тангутов.
Общее число найденных в Хара-Хото монгольских документов исчерпывается 17 номерами; среди них мы имеем около десятка небольших фрагментов, одну маленькую рукописную книжку в 34 листа (14 × 5,7 см), остальные – документы в 10–12 строк. При незначительности по объему этой коллекции она оказалась довольно разнообразной по своему содержанию.
Упомянутая книжка служила пособием для гаданий, особенно при определении счастливых и несчастных дней; составлена по китайским образцам, употребляющимся в Китае и доныне. Владелец этой книжки, по-видимому, обладал знанием китайского языка, так как в ней повсюду встречаются китайские слова, переданные китайскими иероглифами или монгольскими буквами, а в конце даже помещены целые рецепты на китайском языке для приготовления лекарств от болезней, которыми страдают лошади. Для монгола-скотовода эти рецепты, по-видимому, представляли особый интерес и потому были записаны в гадательную книжку, находившуюся в постоянном употреблении, как об этом говорит ее изношенный вид.
Один фрагмент в 14 строк носит дидактический характер и, насколько можно заключить по разобранной части, представляет собою отрывок из поучений Чингисхана. Подобные поучения сохранились у монгольских племен в различающихся между собою редакциях и доныне; судя по этому документу, они были записаны монголами рано и могли наряду с устными преданиями послужить известному персидскому историку начала XIV века Рашид-эддину источником для тех чингисовских наставлений, которые помещены в его труде о монголах. На фрагменте, по-видимому, имелось и имя Чингисхана, но это место текста, к сожалению, повреждено, и сохранилась только верхняя часть слова «Чин», вынесенная на надлежащую высоту над вертикальными строками текста, согласно требованиям официального этикета, заимствованного у китайцев. Зато полностью сохранилось имя известного сподвижника Чингисхана, Богорчу (у Рашид-Эддина – Бурджи-ноян), к которому, видимо, и обращена сохранившаяся часть поучения. В ней мы имеем обычную в монгольских поэтических произведениях аллитерацию, и потому данная редакция уже представляет собою эпическую обработку слов Чингисхана. Соответствующей части в других известных редакциях поучений не имеется.
На оборотной стороне того же фрагмента имеется пять строк печатного текста юридического содержания, по-видимому, положения о функциях какого-то учреждения, с китайской терминологией.
Бо́льшая часть документов – деловая переписка: письма с поднесением подарков, жалоба по случаю похищения лошади, два долговых акта о получении взаймы пшеницы с именами, печатями («знаменами») должников, поручителя и свидетелей; оба последних документа написаны по одной трафаретной форме, которая принята в уйгурских долговых расписках, найденных в Восточном Туркестане, и, очевидно, была заимствована монголами вместе с письмом у уйгуров[343]. Помимо чисто бытовых подробностей, эти документы дают нам некоторое количество имен, из коих часть, вероятно, принадлежала тангутам. Так как тангутская письменность остается все еще не разобранной, а китайские исторические сочинения и памятники передают собственные названия в очень искаженной форме, то монгольское изображение может бросить свет на характер тангутского языка и во всяком случае дать эти имена, несмотря на все несовершенства монгольского алфавита, в наиболее близкой к действительной форме. Приводим некоторые из этих имен (с возможными вариантами в чтении): Чонсоно (Цонсоно), Саса (Каса), Иси намбу (Иши намбо), Намбу (Амбо), Сут ши (Кут ши), Чан сунан (Цан кунан), Су сарамбат (Соо сарамба), Син кули; возможно, что не все эти имена принадлежали тангутам.
Найденные в Хара-Хото монгольские документы написаны так называемым уйгурским письмом, причем в них имеются те же особенности, которые присущи памятникам того же примерно времени, дошедшим до нас от уйгуров. Это лишний раз указывает на то, что монголы, усваивая себе уйгурский алфавит, первоначально не внесли в него никаких изменений и те отличия, которые представляет современное монгольское письмо, явились в более позднюю эпоху.
Особенно, однако, любопытно было встретить среди харахотских документов два небольших фрагмента печатных (ксилографических) изданий. До недавнего времени нам не было известно монгольских ксилографов ранее половины XVII в. Только в 1907 г. Густав Маннергейм нашел где-то в Восточном Туркестане небольшой монгольский ксилограф буддийского содержания, писанный тибетским квадратным письмом и относящийся к эпохе мирового господства монголов. Теперь мы получили от той же эпохи образцы монгольских ксилографов уйгурского письма. Ими особенно наглядно устанавливается общность монгольского и уйгурского алфавитов; отметим наличие старого начертания М с прерывающейся вертикальной чертой.
Таким образом, харахотские памятники представляют интерес не только по содержанию, но и по форме».
«Среди многих замечательных находок П. К. Козлова в Хара-Хото, – любезно сообщает автору этого труда академик Сергей Федорович Ольденбург[344], – видное место занимает отрывок персидского текста знаменитой книги «Семи мудрецов Китаб-и-Синдбад». Книга эта, известная на Востоке и на Западе, ведет свое начало из Индии и была чрезвычайно популярна у арабов и у персов, многие из поэтов которых обработали эту тему. Мы знаем о том, что сочинение это распространилось в турецком и монгольском мире, но, особенно по отношению к последнему, не имели прямых указаний на пути распространения в этой среде «Семи мудрецов». Теперь мы видим, что среди тангутов жили персы, которые занесли сюда персидскую версию нашей книги; далее она, очевидно, перешла к монголам. Возможно, что со временем мы найдем ее отзвуки и в Тибете, и тогда почти замкнется круг странствований этих повестей по азиатскому миру. После находки П. К. Козлова мы с гораздо большей уверенностью будем говорить о возможных путях странствований так называемых бродячих сказок и повестей и о значении в этих переходах от народа к народу литературных обработок, а не только народных пересказов».
Академик С. Ф. Ольденбург говорит: «Выдающееся значение для буддийской иконографии собрания буддийских икон и статуэток, добытых полковником П. К. Козловым при раскопках Хара-Хото в 1908 и 1909 годах, побудило меня, не откладывая дела до подробного и тщательного изучения этого замечательного собрания, теперь же принять предложение управления этнографического отдела Русского музея и дать предварительно описание ценнейшей находки нашего известного исследователя Средней Азии и Тибета.
Такое предварительное описание, в котором, насколько это пока было возможно, представлены классификация иконографического материала и описание отдельных изображений, даст, мы надеемся, специалистам возможность, особенно при помощи прилагаемых снимков, ввести новый богатый материал в научный обиход и откроет нам новую страницу в истории буддийского искусства».

Глава двадцать шестая. Возвращение в родные пределы
Оставление Хара-Хото. – «Лошадиная загородка». – Путь до Эцзин-гола. – Летняя картина последнего. – Любопытный монгольский обычай. – Снова пустыня; граница хошунов. – Оставление Иванова в Цогонда. – Переговоры с управлением Балдын-цзасака. – Экскурсия в горы. – Последняя корреспонденция в центр России. – Прибытие Иванова. – Получение писем с родины. – Дальнейший путь. – Вид на Дэлгэр-хангай. – Порядок движения каравана. – Пустыня сменяется степью. – Antilope gutturosa и дрофы. – Северные высоты и вид на Богдо-ула и Толу. – Впечатление последней ночи. – Приход в Ургу.
Поработав в Мертвом городе Хара-Хото около четырех недель в самых тяжелых условиях и закончив все намеченные археологические изыскания как внутри крепостной стены, так и вне ее, путешественники стали подготовляться к выступлению в дальнейший путь. Все чувствовали большое утомление вследствие непрестанного сильного зноя, пыли и грязи, от которой мы не имели возможности избавиться за недостатком воды для питья. Все жаждали увидеть новые картины отрадной жизни природы, насладиться вновь зеленью деревьев, шумом листвы и запахом влажной травянистой растительности.
Шестнадцатого июня наш тяжелый, нагруженный бесценными историческими сокровищами караван вышел в западные ворота тангутской столицы и мимо северо-западного угла ее стен направился к Эцзин-голу.
Рыхлый сыпучий песок затруднял движение, животные с трудом передвигали ноги, но все-таки настроение было бодрое.
Верстах в трех к северо-западу от Хара-Хото я ненадолго остановился для осмотра оригинальных развалин Актын-хурэ, или «Лошадиной загородки», служивших в прежнее время, по всей вероятности, загоном для скота местных обитателей, а может быть, даже и цитаделью или аванпостом харахотского гарнизона.
Актын-хурэ с севера непосредственно примыкает к старому сухому руслу Эцзин-гола, а с востока, юга и запада, составляя как бы замкнутое колено реки, вокруг него извивается глубокий ров, по обе стороны которого выстроены внушительные крепостные стены. Сейчас эти стены наполовину разрушены, а их деревянные части исчезли совершенно, оставив зияющие отверстия, где находят себе приют соколы (Tinnunculus tinnunculus), сычики и некоторые другие хищные пернатые. В окрестностях «Лошадиной загородки» еще видны кое-где остатки арыков, орошавших поля. Судя по тому, что в Актын-хурэ не сохранилось даже и следов жилых построек, а черепки и вообще керамические находки представляли бо́льшую редкость, я склонен приписать этим развалинам большую древность, чем Хара-Хото.
По мере удаления экспедиции от Мертвого города мною все более овладевало чувство безотчетной грусти; казалось, среди этих безжизненных развалин осталось что-то близкое и дорогое мне, с чем впредь будет неразрывно связано мое имя, что-то, с чем больно было расставаться. Много, много раз оглядывался я на подернутые пыльным туманом исторические стены крепости и, прощаясь со своим седым и древним другом, с каким-то странным чувством сознавал, что теперь над Хара-Хото сиротливо возвышается лишь один древний субурган, тогда как другой неизменный товарищ его безвозвратно погиб – уничтожен пытливостью ума человека.
Но вот еще несколько часов непрерывного движения – и мы в долине Эцзин-гола. Русла обнажены. Мунунгин-гол, на правом берегу которого мы разбили свой бивак[345], тоже совершенно пересох, и только местами, в омутах, образуя мелкие озера или пруды, еще стоит нань-шанская вода, скрывая кое-какую рыбу и давая пищу окружающей довольно свежей древесной, кустарниковой и, главным образом, травянистой растительности.
Заросли древесной растительности состоят из трех пород: разнолистного тополя (Populus euphratica), джигды (Eleagnus), ивы (Salix). По окраине долины растут тамариск, хармык (Nitraria Schoberi), сугак (Lycium turcomanicum), кендырь (Apoeynum pictum), Zygophyllum brachypterum и Alhagi camelorum. Там и сям встречаются также Sphaerophysa salsola, Sophora alopecuroides, зубровка (Hierochloa borealls), Dodartia orientalis, лапчатка (Potenitilla sapina), стручки (Erysimus altaicum), Arnebia fimbriata, Glycirrhyza, Cynanchum, Calamagrostis и немногие другие. «На этой узкой полосе кустарников и трав, – говорит Г. Н. Потанин[346], – соединено все богатство здешней флоры, не отличающееся разнообразием форм. Лугов не только в том смысле, какой придается этому слову на нашем севере, но даже в смысле ордосских чайдамов и Цайдама Пржевальского, и моего, – прибавляю я, – здесь нет; вместо луга реку сопровождает песчаное прибрежье, которое местами бывает усеяно кустиками мелкой осоки, не сливающимися в сплошной зеленый покров».
Что касается животной жизни, то и она здесь также довольно бедна. Из зверей мы лично наблюдали: антилоп харасульт (Gazella subgutturosa), волков, лисиц, зайцев и более мелких грызунов, но, по свидетельству туземцев, долину Мунунгин-гола населяют также дикие кошки и даже рыси.
Отмеченные нами здесь птицы следующие: саксаульный воробей (Passer ammodendri stoliczkae), хохлатый жаворонок (Galerida cristata ieautungensis); первый предпочитает держаться в древесной растительности, второй – на открытых частях долины. По мокрым лугам встречались: Agrodroma richardi, желтая плиска (Budytes citreola), там и сям по долине – маленькие сорокопуты (Otomella isabeilina [Lanius isabellina]), пустынные славки (Sylvia nana), камышевки (Acrocephalus arundinaceus orientalis)[347], чекканы (Saxicola deserti atrigularis, S. isabellina [Oenanthe deserti atrogularis, O. isabellina]), вертлявая кустарница (Rhopophilus pekinensis albosuperciliaris), ласточки (Hirindo rustica gutturalis), стрижи (Apus pacificus). На утренней и вечерней заре у караванных животных пролетали полуночники (Caprimulgus europaeus plumipes); по отмелям водоемов нередко срывался с резким свистом улит-черныш (Helodromas ochropus [Tringa ochropus]), а из соседних зарослей вылетел фазан (Phasianus colchicus satscheuensis), чтобы переместиться в более безопасное место. Над прозрачными водами Эцзин-гола довольно часто реяла скопа (Pandion haliaetus), гнездо которой помещалось на усохшей вершине столетнего великана – тополя, красиво стоявшего на извилине у одного из самых больших и обильных рыбой водоемов.
Представителями рыб в бассейне Эцзин-гола являются карась (Carassius carassius auratus) и пескарь (Nemachilus yarkandensis), о последнем говорит Г. Н. Потанин[348], а представителями «вредных тварей», как выражались мои казаки, – скорпион, тарантул и проч., от которых мы нередко ограждались волосяными арканами, представляющими довольно надежное заграждение от упомянутых тварей[349].
После мертвенной тишины и однообразия пустыни долина Эцзин-гола, несмотря на свой жалкий вид, показалась нам раем. Воздух был заметно влажнее и чище, ветер уже не обжигал дыхательных путей, а приносил отрадную свежесть, ночью температура понижалась до 8,5°С.
Мои спутники без устали полоскались в воде, мылись сами и мыли или стирали белье. За обедом вместо опротивевшего консервированного мяса мы теперь лакомились свежей бараниной, ухой и жареной рыбой, ежедневно добываемой в потребном количестве.
Скот местных торгоугов – довольно состоятельного хошуна Бату – выглядел холеным и сытым, кобылицы давали много молока для кумыса, и я ежедневно отправлялся в соседнее стойбище полакомиться этим прекрасным и полезным напитком. Здесь мы совершенно случайно познакомились с одним новым для меня монгольским обычаем. Оказывается, после смерти главы дома, в течение сорока девяти дней, а у некоторых и более, монгольская семья не имеет права выносить что бы то ни было из своей юрты. Поэтому и кумыс, который мы брали у вдовы богатого монгола, нам не могли приносить на бивак, и я должен был сам являться в осиротелую семью, где соблюдали строгий траур по покойному хозяину, и утолять жажду, не выходя за дверь его дома.

На берегу восточного рукава Эцзин-гола, в урочище Чжаргалантэ, экспедиция предполагала сделать небольшую остановку для расплаты с туземцами и местными властями. В общем, скорбный лист выражался в несколько сот лан серебра, которые я и поспешил переправить в ставку торгоутского бэйлэ. Этот владетельный князь, по-видимому, избегал встречи со мною, боясь, что после посещения Лань-чжоу-фу и Гумбума мне стали известны некоторые действительно компрометирующие его факты; он ограничивался лишь заочными переговорами, приветствиями и различными услугами, с успехом выполняемыми по его поручению монгольскими чиновниками.
Только в последний день пребывания каравана в Чжаргалантэ торгоут-бэйлэ все же не утерпел и неожиданно явился на бивак в сопровождении подростка-сына и целого штата приближенных. Встреча наша была самая сердечная; я от души благодарил торгоутского управителя за его содействие нашим работам в Хара-Хото, обещая князю исходатайствовать перед научными учреждениями Петрограда о пожаловании ему соответствующего подарка, а он с своей стороны восхищался русскими ценными предметами, поднесенными ему теперь на память.
Закончив все дела и закупив необходимые продукты продовольствия, а также несколько лошадей из табуна бэйлэ, мы на ранней зорьке двадцатого июня уже снова мерно покачивались на своих неизменных кораблях пустыни, следуя на север вдоль Эцзин-гола то среди бугров, поросших тамариском, то среди свеже-изумрудной зелени камыша. На востоке залегали пески, известные у торгоутов под названием Атца-сончжин-илису, что значит «Вило-башенные» (так называлась южная часть песков), и Шара-булангэн-нлису – «Пески желтых луж» (так называлась северная часть песков), а на севере неясными чертами выступала вершина горы Боро-обо, отмечавшая собою противоположный берег пресноводного бассейна Сого-нор, и еще далее – высоты Нойон-богдо.
Последняя ночь, проведенная на берегу реки, показалась нам особенно приятной. С вечера прошел сильный дождь, оставивший после себя прекрасный аромат сырой травы и прелой земли; мухи и комары куда-то исчезли, остались летать только одни крупные безобидные хрущи; воздух посвежел, и в прозрачном небе искрились, мерцали и падали звезды. Луна мягко озаряла длинную полосу воды, залегавшую в углублении корытообразного русла Эцзин-гола, оттеняя правильные круги, образуемые всплесками рыб. Мы подходили к границе оазиса и центрально-монгольской пустыни.
Вступая снова в область хрящеватой пустыни[350], дышавшей по-прежнему томительным зноем, мы искренне мечтали только об одном: возможно быстрее перешагнуть пески и окунуться в приятную прохладу гор Гурбун-сайхан. Пока что приходилось мириться с давно знакомым и вечно грустным, тоскливым пейзажем. Местность на сотни и сотни верст кругом была усыпана, словно гигантским ковром, мелким щебнем, почерневшим от загара. Невзрачный саксаул и редкие кусты хармыка выглядели захудалыми, жалкими растениями.
Кроме быстроногих антилоп бороцзере (Gazella subgutlurosa), однообразных плоскоголовых ящериц, несносных оводов, особенно мучивших нас в низине Сого-нора, и изредка посещавших бивак по ночам тушканчиков, нам не встречалось ни одного живого существа. Кочевники тоже куда-то исчезли, вероятно невыносимо тягостный зной загнал даже этих привычных детей пустыни в болеепрохладную область высот Нойон-богдо. Лишь одни сильные вихри, словно таинственные демоны, разгуливали по открытой равнине, иногда подолгу кружась в дикой пляске на одном месте. Природа спала здесь тяжелым сном, похожим на смерть; о смерти же постоянно напоминали скелеты павших животных – верблюдов или лошадей – немые свидетели всех тягостей пустыни.
С особенным чувством облегчения, но вместе с тем и неясной грусти оставили путешественники владения торгоут-бэйлэ и вступили на землю Балдын-цзасака. Граница двух соседних княжеств отмечена здесь полуразвалившейся глинобитной башней и направляется с запада на юго-восток восточнее города Бага-хонторчжэ.
Миновав урочище Ихэн-гун-худук, экспедиция отклонилась от своего прежнего маршрута и избрала новый, более прямой, северо-восточный путь по направлению к Урге. Мы шли в прорыв, с одной стороны образуемый холмами Хуху-арык, с другой – характерной высотой Талэн-хайрхан, поднимавшейся солидной темно-серою шапкою над равниной. К северу виднелись мягкие гребни каменистых волн, над которыми доминировали вершины Цзурумтай, Урт-хайрхан[351] и хребет Ихэ-аргалэнтэ.
Колодец Цогонда и прозрачный родник того же имени на некоторое время задержали ходкое движение каравана: в этом симпатичном уединенном уголке пришлось сделать привал из-за мучившей моего старика Иванова болезни. Призванный для пользования больного врач-лама облегчил его только на самый короткий срок. Бедный страдалец заметно слабел и, не веря в возможность выздоровления, сильно грустил, постоянно думая и говоря о смерти. Двадцать шестого июня он позвал меня к себе для того, чтобы проститься и сообщить свою последнюю волю. Казалось, надежды на благополучный исход оставалось мало, но мы подбадривали друг друга и не падали духом.
Маленьким развлечением в тяжелые минуты служили нам коренные местные пернатые обитатели, ежедневно прилетавшие на водопой. По утрам и вечерам в прохладные часы на горизонте всюду показывались стайки птиц, спешивших насладиться влагой. Вперемешку с голосами больдуруков неслись крики куликов-песочников, улитов и зуйков. Животный мир, как всегда, везде и всюду дышал беззаботной радостью и весельем.
После всестороннего обсуждения трудного вопроса о дальнейшей судьбе заболевшего общего любимца Иванова я решил не затруднять его больше регулярными утомительными переходами, а временно оставить больного в прохладном урочище Цогонда, где бы он с помощью младшего сотрудника Четыркина и казака Содбоева мог как следует отдохнуть. Главный караван предполагал устроить продолжительную остановку в Гурбун-сайхане, куда должен был при первой возможности добрести транспорт с бедным страдальцем.
Итак, двадцать седьмого июня с тяжелым чувством мы трогательно простились с Ивановым и бодро двинулись по направлению к прорыву между горами Урт-хайрхан и Цзурумтай. Теперь долина сменилась темнобурыми каменистыми высотами, несшими еще более пустынный характер.
Подкрепившись в урочище Цзосто[352] свежим мясом, добытым у туземцев, путешественники углубились в ущелье, окаймленное красными конгломератовыми обрывами и отдельно стоящими деревьями ильмов, лепящимися по крутым отвесным скалам, а затем поднялись на мягкую, поросшую саксаулом террасу, сбегавшую с гор Цзурумтай. Впереди, далеко, неясно обрисовывался Цзун-сайхан, несколько ближе высились массивы Ихэ-аргалэнтэ и Дунду-сайхан, западный край которого заслонялся вершинами Цзюлина и Куку-нуру.
Первую трехдневную остановку мы устроили в кормной котловине, вблизи монастыря Байшинтэ-хит; прекрасные травы[353] дали возможность нашим животным оправиться, а соседнее болото подарило зоологической коллекции несколько интересных экземпляров куликов. Мои спутники тут добыли: большого кроншнепа (Numenius arquatus), песочника краснозобого (Ancylochilus subarquatus [Tringa subarpuata]) и улита-красноножку (Totanus calidris [кулик-красноножка]); кроме того, в камышах были замечены утки-кряквы, турпаны, журавли-красавки, крачки-мартышки, чибис и немногие другие, а в ближайших песках препаратор поймал несколько ящериц Пржевальского и десятка два жуков, преимущественно долгоносиков. Погода стояла прекрасная, вечерами дышалось свободно, а днем прозрачный воздух открывал синеющие дали, где на светлом фоне резко выступал Гурбун-сайхан во всей своей мощной красе.
С помощью ламы мы быстро установили связь с местным управлением, находившимся в горах, и с нашим приятелем цзасаком, только недавно перекочевавшим в отдаленную ставку Барун. Оказывается, молодого князя постигло несчастие, и он скрывался от посторонних глаз: старший брат цзасака – лама – умер от тяжелой заразной болезни, перешедшей еще на нескольких членов княжеской семьи. Гонец нирвы, посланный к чиновникам тусулакчи и цзахиракчи, очень быстро исполнил все наши поручения и доставил нам почту, заключавшую в себе два письма из Лань-чжоу-фу и пакет от Ц. К. Бадмажапова, как оказывается, недавно проехавшего через Байшинтэ в Ургу. Мой сотрудник выражал сожаление, что нам не удалось встретиться в монастыре и сообщал между прочим, что капитан Напалков оставил Алаша-ямунь еще девятого мая, так что в настоящее время счастливый топограф, вероятно, уже вкушал все блага культурного существования.
Второго июля двинулись к северу и мы, держа направление на красные холмы урочища Улан-булык, откуда предполагалась довольно продолжительная экскурсия на южные склоны Дунду-сайхана с целью ознакомления с флорой и фауной этих гор. Накануне выступления экспедиции наш бивак оживился неожиданным приездом фельдфебеля Иванова, немного оправившегося от своего недуга. Теперь он мог рассчитывать на хороший, отрадный отдых среди прохлады в обществе всех своих товарищей. Расстояние до границы родной земли заметно сокращалось, а вместе с тем росла и надежда благополучно доставить больного до русского врача.
Поднявшись над долиною монастыря до полуверсты по вертикали, путешественники расположились лагерем на берегу прекрасного родника, сильной прозрачной струею вырывавшегося из земли. На севере у подножья крутого массива заманчиво зеленели лужайки, пестревшие стадами баранов, а выше гордо выступали оголенные бурые скалы.
Вдоль южного предгорья Гурбун-сайхана, преимущественно на запад от маршрута и стоянки экспедиции при ключе Улан-булык, были наблюдаемы и собраны в гербарий: колокольчики (Convolvulus Ammani), кермек (Statice teneila), Lagochilus diacanthophyllus, Hypecoum erecturn, стручки (Erysimum andrzejoskianum), Oxytropis oxyphylla, крапива (Urtica carmabifolia), ячмень (Hordeum pratense), ковыль (Stipa splendens), пшеничка (Agropyrum pseudoagropyrum), дикая рожь (Elymus dasystachys), Panzeria lanata, липучка (Echinosperum deflexum [Lappula deflexa]), пушник (Crepis tennifolia [C. tennuifolia]), душмянка (Nepeta botryoides [Schizonepeta annua]), норичник (Scrophuiaria canescens), Caragana pygmaea, курослеп (Stellaria gypsophiloides), горошек (Vicia costata), Asparagus, Taraxacum, Carex и другие.
Убогие кочевники, ютившиеся по соседству с лагерем экспедиции. каждый вечер пригоняли свой скот к нашему ключу или к колодцу Амын-усу и охотно вступали с русскими в разговор. Эти люди относились к чужестранцам очень доверчиво и на наше хорошее отношение, выражавшееся главным образом в том, что мы всегда делились с ними своими излишками, отвечали теплым приветом, особенно трогательным со стороны таких бедняков, весь век прозябающих в безысходной нужде.
В серое прохладное утро четвертого июля, лишь только лучи восходящего солнца позолотили высшие точки Дунду-сайхана, от экспедиционного бивака отделилась маленькая оживленная группа всадников, направившаяся прямо к узкому ущелью. Два скромных вьюка и небольшая палаточка, нагруженные на маленьких коней, говорили о том, что веселая компания едет в легкую и не очень продолжительную экскурсию. Настроение у всех было бодрое и радостное. Мы надеялись найти интересных животных и птиц и как следует поохотиться. Чем глубже в горы продвигались экскурсанты, тем ярче и привлекательнее становилась растительность.
В среднем поясе южного склона гор произрастают более или менее пышно следующие формы растительности: дикая смородина (Ribes aciculare), несколько видов лапчатки (Potentilla nivea, Р. bifurca, Р. multifida, Р. sibirica), Sibbaldia adpressa, Leptopyrum fumarioides, живительная трава (Thalictrum foetidum), заразиха (Orobanche coerulescens), резуха (Androsace villosa), заячья капуста (Sedum elengatum [Rhodiola rosea], S. hybridum), ломонос (Clematis orientalis var. tangutica [C. tangutica]), душмянка (Nepeta macrantha), Physochlaena physaloides, аконит (Aconitum barbatum), липучка (Echinosperum strictum [Lapulla stricia]), пчелка (Deiphinium eiatum) и астра (Aster alpinus).
Вот у одной скалы на секунду показались горные козлы (Capra sibirica) и тотчас исчезли; невдалеке за низкорослым кустарником (Ribes) промелькнула лисица. В небесах величественно парил орел-беркут, а вблизи беззаботно резвились вьюрки, чечетки, чекканы и другие мелкие доверчивые пташки. Лошади дышали тяжело, но крутому подъему близился уже конец: впереди виднелся мягкий зеленый перевал Хурдэн-дабан. Обширный горизонт открылся перед нами с вершины перевала: к северу простиралась беспредельная даль центральномонгольской равнины, над которой причудливо громоздились золотистые облака, освещенные солнцем; обставленные темно-красными скалами, ущелья сбегали вниз тонкими извилистыми змеями; кое-где в бинокль усматривались стойбища монголов и стада скота – баранов, домашних яков, или сарлыков и лошадей, бродивших по темно-зеленым лугам.
В соседних утесах слышались голоса алтайских уларов (Tetraogallus altaicus), а где-то невдалеке им вторила кукушка. Стрижи с резким шумом носились над головою вблизи, с камня на камень изящно и неторопливо перемещалась пара горихвосток (Ruticilla rufiventris [Phoenicurus rufiventris]). Внизу под обрывом коршун ссорился с подорликом; высоко в облаках без единого взмаха крыльев величаво плыли по воздуху два бородатых ягнятника, следовавшие один за другим на недалеком расстоянии. Долго стояли мы на вершине Хурдэн-дабана и наслаждались всем окружающим. Только свинцовые тучи, постепенно обложившие горизонт, заставили нас искать убежище в более укромном уголке – за гребешком невысокого увала, где быстро появилась охотничья палатка, а рядом – приветливый костер. Дождь пошел очень скоро; барометр продолжал опускаться, не подавая надежды на просветление атмосферы.
Едва перестал падать дождь, как мы отправились на охоту за уларами. Местный улар еще очень обыкновенен и известен всем туземцам под именем хойлык. Зимою, по словам монголов, он спускается и в средний пояс гор, теперь же – летом – держится исключительно в верхнем. Мы встречали описываемую птицу табунками в десять – двенадцать и даже в двадцать особей, хотя попадались иногда выводки в три – четыре птицы и отдельные пары. По утрам и вечерам в хорошую погоду улары издают свой характерный свист, напоминающий свист других видов, всего более Tetraogallus thibetanus. Едва пронесется первый звук улара, как тотчас начнут откликаться птицы с других вершин. Слышный на далекое расстояние свист звучит, переливаясь волной, в течение долгого времени и тем дольше, чем больший район занимают птицы. В дождливую погоду улар молчит и таким образом является своего рода барометром, с указаниями которого считаются даже монголы. Последние иногда охотятся за уларами, отчего они очень строги, и застрелить ихне так-то легко. Заметив охотника, птица настораживается, поднимает вверх голову, испускает учащенное «ко-ко-ко-ко-ко» и перелетает в скалы, обыкновенно залегающие на противоположной стороне ущелья. Кроме человека, улара преследует орел-беркут.
Первые наши охоты за хойлыком были неудачны, пока мы не изучили их насиженных мест, пока, как говорят, не приноровились к месту и повадкам птицы. Затем все пошло хорошо, и в орнитологическую коллекцию экспедиции поступило несколько экземпляров весьма интересной птицы.
Проведя два дня в горах, я лично должен был возвратиться на главный бивак, где меня ожидали всякаго рода неотложные занятия и, между прочим, очередные астрономические наблюдения. Спутникам моим было поставлено задачей продолжение исследования Дунду-сайхана по части сборов образцов геологических, ботанических и зоологических.

В урочище Улан-булык жизнь текла по-прежнему: кто занимался починкой одежды, обуви, кто стиркой белья, а кто консервировал мясо – необходимый запас продовольствия на пустынные переходы. Сам я по возвращении на бивак тотчас занялся, кроме указанных наблюдений, еще и просушкой растений и приготовлением последней официальной почты на родину. Предстояло написать в Географическое общество, Академию наук, Генеральный штаб и моему московскому другу-географу профессору Дмитрию Николаевичу Анучину, также крепившему дух мой в тяжелые минуты путешествия в Центральной Азии.
В непрерывном труде дни текли быстро, и только когда однажды на бивак неожиданно прискакал гонец из Урги с корреспонденцией, когда на нас, азиатских отшельников, повеяло вновь родным и любимым, – только тогда мы вдруг почувствовали необыкновенное томление души. Время как будто остановилось в своем стремлении: часы и дни поползли медленно и нудно.
Среди многочисленных писем от научных учреждений, родных и друзей была также весточка от капитана Напалкова, в которой он сообщал весьма интересные сведения. «В начале июня, – писал топограф, – через Ургу по направлению Кобдо проследовала французская археологическая экспедиция с целью подробного ознакомления и исследования развалин городов Чжунгарии и Восточного Туркестана». Внимание и интерес научного мира к седой старине бассейнов Улюнгура и Лобнора еще сильнее пробудились, и по проторенным русскими исследователями дорожкам более, нежели прежде, потянутся теперь путешественники других стран[354].
Тем временем отряд понемногу готовился в путь-дорогу. Наши караванные животные – верблюды и лошади, отдохнув и подкрепившись на прекрасных пастбищах монастыря Байшинтэ, присоединились к экспедиции и только поджидали сигнала к выступлению.
Экскурсанты тоже возвратились из гор Дунду-сайхан и привезли с собою свыше ста разнородных видов растений, около двадцати экземпляров птиц, несколько шкурок грызунов и шкуру со скелетом горного козла.
Энтомологические сборы оказались весьма незначительными, да и вообще выяснилось, что несмотря на свой приветливый внешний облик Дунду-сайхан, против всяких ожиданий, беден в естественно-историческом отношении. Из представителей маммалогической фауны в нем обитают: горные козлы, собирающиеся в стада из пятнадцати – двадцати особой, аргали, встречающиеся гораздо реже и небольшими группами в две-три головы; в предгорьях иногда пасутся Antilope subgutturosa, забегающие из долин. Из грызунов здесь водятся зайцы, пищухи – скалистая и степная, суслики. Что же касается до хищников, то вся группа Гурбун-сайхана богата волками, постоянно беспокоящими стада кочевников, лисицами и хорьками; как редкость порою наблюдаются низкий китайский барс и пятнистый леопард, заходящие, вероятно, с северо-запада – с более высоких скалистых частей Монгольского Алтая.
Тринадцатого июля лагерь экспедиции снялся с последней более или менее длительной стоянки в горах с тем, чтобы уже до самой Урги следовать форсированными переходами, ежедневно покрывая от тридцати пяти до сорока верст. По выходе из Дунду-сайхана, перед нами открылась волнообразная равнина, усыпанная то мелким песчано-каменистым продуктом разрушения горных пород, то крупными, обточенными дождями и ветром обломками гранита, среди которого изредка встречались и ноздреватые куски лавы.
Далеко на севере темнели зубчатые вершины печального, оголенного Дэлгэр-хангая, а вблизи на северо-востоке блестела под лучами утреннего солнца поверхность болотистого озерка Бомботэн-нор, появляющегося лишь в период сильных дождей.
Повсюду кругом росли низкорослые кустарнички-караганы, по руслам над дэрэсуном одиноко вздымались жалкие тограки, а по пологим откосам холмов расстилалась луговая растительность, состоящая преимущественно из пожелтелого кипца[355]. Лошади[356] ступали ходко и быстро перегоняли медлительных, сосредоточенных верблюдов. Продвинешься, бывало, далеко вперед, выберешь местечко с хорошим кормом, отпустишь коней попастись, а сам вооружишься биноклем и подолгу лежишь на земле, наблюдая за жизнью природы. Вблизи бегают и взлетают жаворонки (Psoudalaudula pispoletta seebohmi [Calandrella rufescens], Otocorys brandti brandti [Eromofhila alpestris Brandtii), кое-где по вершинкам темнеют отдыхающие хищники: сарычи, соколы и реже орлы. Вот из-за холма выпрыгнул заяц, сел, насторожив ушки, и внимательно поглядывает в мою сторону. Где-то невдалеке просвистела пищуха. Доверчивая любопытная ящерица, не чуя опасности, взобралась на край моей одежды и греется на солнце. А вот несколько поодаль и парочка антилоп харасульт, мирно пощипывающих зелень. В бинокль ясно видно наивное выражение любопытства в глазах и напряженное внимание во всей фигуре. При первом подозрительном шорохе мать сразу настораживается и, подняв головку, слегка всхрапывает, пристально всматриваясь в человека; еще секунда – и обе антилопы, вытянувшись во всю длину, стремительными прыжками уносятся в притихшую, кажущуюся беспредельной равнину.

Чем дальше мы продвигались на север, тем приветливее становилась местность – каменистая пустыня сменялась степью, которая довольно обильно населена номадами; почти каждый колодец являлся маленьким центром, вокруг которого группировались кочевники со своими стадами; колодезная вода вблизи монгольского стойбища всегда отличалась отвратительным запахом, так как никто не заботился о ее чистоте, и скот, утолив жажду, нередко оставался пастись или стоять тут же рядом, загрязняя все окружающее своими нечистотами.
Вместе со степной растительностью с каждым днем увеличивалось количество степных животных обитателей; оригинальные любопытные тарабаганы то и дело посвистывали, поднимаясь на задних лапках и обозревая безлюдную равнину. Дрофы целыми табунками кормились там и сям, а антилопы цаган-цзере (Antilope gutturosa) и боро-цзере (Antilope subgutturosa) по-прежнему ласкали взгляд путешественника[357].
Восточный горизонт суживался высокою стеною гор Ара-уртэ, сложенных из красноватых пород, преимущественно гранита; скалы, пики и обрывы темными пятнами выделялись среди лугов, пышным ковром сбегавших по отлогим склонам хребта и по берегам двух могучих ручьев: Бага-атацик и Ихэ-атацик.
Перевалив высоту Гангэн-дабан, абсолютно поднятую около 5485 футов [1671 м], караван спустился в долину Бугук-гола, а там с одного из второстепенных кряжей наконец открылся и вид на давно знакомую и давно желанную реку Толу, блестевшую на солнце серой сталью.
Вот показалась вдали и Урга.
Темный величественный массив Богдо-ула дремал, закутавшись в синюю дымку; кровли храмов монгольского молитвенного центра горели под прощальными лучами заходившего дневного светила, а субурганы белели яркими светлыми точками. Стада баранов мирно и не торопясь возвращались с пастбищ к себе домой, где-то далеко-далеко слышалось хлопанье бича. Воздух застыл в чуткой тишине, и усталые путники не нарушали всеобщего покоя своими голосами. Они остановились, как очарованные, с благоговением всматриваясь в неясные очертания столицы Монголии и с облегчением сознавали, что трудное путешествие окончено!
Невольно вспомнился светлый образ Пржевальского, дважды пережившего на этих самых высотах чувства восторга и радости при возвращении на родину. Как тогда, так и теперь обстановка круто изменилась. Наш быт – быт номада – оставался позади; родное европейское чувствовалось уже недалеко. Сильное волнение овладевало всеми нами.
Ввиду высокой воды в Толе, мы решили переночевать здесь, чтобы с зарей следующего дня – двадцать шестого июля – успешнее пройти последние шаги.
Летняя ночь скоро покрыла землю. Прозрачное небо ярко заблестело звездами. Лагерь утих, только изредка слышались голоса мирно переговаривавшихся спутников о том, «что день грядущий нам готовит?.»
Что касается лично меня, то я долго-долго не мог сомкнуть глаз. Воображение рисовало Амдо, Лавран, Куку-нор, Хара-Хото. Как живые, проносились передо мною образы характерных представителей Монголии, Китая, Тибета. Минуты расставания с Далай-ламой бодрили дух, крепили тело и вливали струю сознания о возможности нового последнего путешествия – путешествия, в которое я должен выполнить последний из заветов моего великого и дорогого учителя.
Едва зардела заря знаменательного дня, как караван экспедиции мерно выступил в дорогу, постепенно спускаясь в глубину долины. Тола бушевала – ее высокие, мутные волны с шумом катились, подмывая берега. Караван остановился, крепко подтянул вьюки и стремена и благополучно переправился вброд через широкую реку. Еще один час караванного хода – и вдали замелькало здание родного консульства. Нетерпение росло с каждым шагом. Но вот, наконец, и в воротах знакомого дома, видим родные лица, слышим родную речь. Радушная встреча соотечественников, обоюдные расспросы, письма от друзей и родных, приветственные телеграммы, чистая комната, разнообразные яства, свежее белье – все это сразу настолько обновило путешественников, что прошлое казалось грезами обманчивого сна.


ПРИЛОЖЕНИЯ
А. И. Андреев, Т. И. Юсупова. Последняя экспедиция П. К. Козлова[358]
Наука и политика – две вещи разные, тем более для меня…
В одной из речей, произнесенных в Русском географическом обществе (РГО), П. П. Семенов-Тян-Шанский назвал Н. М. Пржевальского «героем русской географической науки». Эти слова в полной мере можно отнести и к П. К. Козлову (1863–1935), ученику и наиболее ревностному последователю Н. М. Пржевальского, жизнь которого также была целиком отдана изучению Центральной Азии. Исследовательская деятельность Козлова началась в 1883 г. и продолжалась более 40 лет. В свое последнее путешествие ученый отправился в 1923 г., когда ему было почти шестьдесят. С этой экспедицией, организованной под эгидой РГО и поддержанной советским правительством, он связывал надежду на осуществление давней мечты, завещанной великим учителем, – пройти в запретную для европейцев столицу Тибета Лхасу. Подобный «географический подвиг» достойно увенчал бы дело всей его жизни. Однако в Тибет Козлов не попал, но не по причине неблагоприятной международной политической конъюнктуры, как долгие годы утверждали его биографы, а в результате поистине макиавеллиевской интриги советских властей, прежде всего руководителей ОГПУ и Наркоминдел Ф. Э. Дзержинского и Г. В. Чичерина.
Новые архивные документы, ставшие доступными в последние годы, позволяют существенно дополнить нарисованную ранее картину, особенно в той ее части, которая касается организации экспедиции. Многотрудное поэтапное утверждение Козловым своего проекта в высоких инстанциях (Наркоминдел, Госплан, Комитет науки, СНК), неожиданное вмешательство руководства РАН в планы исследователя с целью взять экспедицию РГО под свой контроль, ликвидация экспедиции Центром, а затем ее возрождение – все это дает повод вновь обратиться к необычной истории последнего путешествия Козлова, взглянуть на него под углом не столько конфронтации науки и политики, сколько их взаимодействия, а также с точки зрения противоречий внутри научного сообщества – следствия еще не сформировавшейся советской системы управления наукой.
Испытание революцией
В октябре 1917 г. П. К. Козлову исполнилось 54 года. За плечами путешественника было пять больших экспедиций – первые три под началом Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова и В. И. Роборовского и затем две самостоятельные – Монголо-Камская и Монголо-Сычуаньская (в 1899–1901 и 1907–1909 гг.). Крупнейшее из открытий Козлова, сделавшее его имя всемирно известным, – обнаружение и раскопки в 1908 г. в гобийской пустыне мертвого города Хара-Хото. Это открытие не только дало науке ключи к тайнам тангутской культуры и обогатило российские музеи уникальными художественными коллекциями, но и еще более упрочило приоритет российских исследований в центральноазиатском регионе. В августе 1914 г. Козлов готовился выступить в новое трехлетнее путешествие в Монголию и Тибет, однако этому помешала начавшаяся мировая война. Вместо Азии полковника Генштаба Козлова направили на Юго-Западный фронт, где некоторое время он исполнял должность коменданта городов Тарнов и Яссы. После этого Козлов был командирован в Монголию во главе особой правительственной экспедиции («Монголэкс») с целью организации закупок скота для нужд действующей армии. По ее окончании Военное министерство присвоило ему звание генерал-майора.
О том, как воспринял Козлов бурные события 17-го, особенно октябрьский переворот, мы не знаем. В обширном личном архиве путешественника в РГО и в музее-квартире в Санкт-Петербурге отсутствуют какие-либо документальные свидетельства этого периода, позволяющие судить о его политических пристрастиях. Впрочем, известно, что в прежние годы путешественнику благоволили император и великие князья Николай Михайлович и Константин Константинович (августейшие покровители РГО и Академии наук), живо интересовавшиеся не только азиатскими маршрутами Козлова, но и политической ситуацией вокруг Тибета (Николай II и Константин Константинович, между прочим, обменивались письмами и подарками с 13-м Далай-ламой).
Козлов неоднократно удостаивался высочайших аудиенций, получал награды из рук Николая II, лично показывал царской семье привезенные им из Хара-Хото бесценные сокровища. Если добавить к этому то, что царь оказывал немалую поддержку – моральную и материальную – его исследовательским проектам, то нетрудно представить себе, какие чувства должны были вызвать у Козлова крушение монархии и установление большевистской диктатуры в России. В нетронутых цензурой дневниках Монголо-Тибетской экспедиции мы находим довольно любопытную запись – впечатление Петра Кузьмича (далее П. К.) от чтения одного из томов гессеновского «Архива русской революции», проливающее некоторый свет на его политические взгляды:

«С вечера я долго читал «Архив революции». Все воскресает в памяти. […] Казалось, в революции все тонет, однако история идет своей дорогой, несмотря ни на какие пертурбации, и заносит на страницы своей книги все происходящее… Как-никак, а личности М. В. Алексеева, Л. Г. Корнилова, с одной стороны, и А. В. Колчака – с другой, навсегда останутся в истории самыми светлыми, выдающимися, лучшими примерами разума, стойкости, патриотизма.
Какой бы то ни был беспристрастный читатель всегда воздаст должное памяти этих великих сынов России».
В принятии Козловым большевистской революции решающую роль, по-видимому, сыграла его востребованность новой властью. Уже в ноябре 1917 г. путешественника назначают комиссаром от Академии наук в знаменитый акклиматизационный зоопарк-заповедник Аскания-Нова. Это назначение не было случайным: хорошо знакомый и с его основателем Ф. Э. Фальц-Фейном, и с самим зоопарком, Козлов еще до войны энергично выступал за скорейшую национализацию этого уникального уголка природы. И в новых политических условиях он продолжил борьбу за сохранение зоопарка от разграбления и уничтожения, итогом которой стал декрет правительства советской Украины о «сбережении» Аскании-Нова в апреле 1919 г.
Несмотря на покровительство высокопоставленных советских чиновников, прежде всего личного секретаря В. И. Ленина Н. П. Горбунова – близкого друга семьи Козлова, ему тем не менее пришлось заплатить свою дань революции. В декабре 1918 г. петроградская ЧК конфисковала содержимое его сейфа в отделении Московского купеческого банка – ценные подарки для Далай-ламы и его приближенных, заготовленные еще в 1914 г., коллекцию нефритовых и фарфоровых табакерок, золотые медали, преподнесенные путешественнику западноевропейскими географическими обществами, и многое другое. В течение нескольких лет П. К. безуспешно пытался вернуть свои ценности, но ему не помогло даже заступничество Н. П. Горбунова[359]. Кроме этих вещей, у Козлова – невзирая на охранную грамоту Наркомпроса – были реквизированы охотничьи ружья, в том числе четыре ружья, принадлежавшие Н. М. Пржевальскому, утрату которых П. К. переживал особенно болезненно.
В 1918 г. было реквизировано и хранившееся в здании РГО снаряжение его несостоявшейся экспедиции 1914 г. «до самых малейших, по-видимому, никому не нужных предметов включительно», – как писал Козлов в докладной записке в Совет РГО. А летом 1919 г. районная администрация предприняла попытку выселения Козлова из его петроградской квартиры. Все эти инциденты, однако, не помешали ученому продолжать свою работу. В 1920 г. из печати вышла его книга «Тибет и Далай-лама», после чего Козлов принимается за неоконченное описание предыдущего, Монголо-Сычуаньского путешествия 1907–1909 гг. В декабре 1920 г. Наркомпрос и РГО командировали его в Сибирь для налаживания связи с местными отделами и подотделами Географического общества. Осенью следующего года – новая поездка в Асканию-Нова, где Козлов с удовлетворением наблюдал, что «разрушение прекратилось, началось созидание».
С окончанием гражданской войны появилась надежда на возобновление исследовательской деятельности, на новое путешествие в любимую Центральную Азию. Определенным стимулом для этого служило то, что большевистские вожди начали проявлять повышенный интерес к Востоку, особенно к Монголии, Западному Китаю (Синьцзяну) и Тибету с целью усиления своего влияния в регионе. В 1921 г. Наркоминдел (НКИД) предпринял ряд шагов для установления дипломатических и торговых отношений с этими бывшими вассальными территориями Срединной Империи, в том числе отправил секретную разведывательно-рекогносцировочную экспедицию в Лхасу. Козлов, несомненно, находился в курсе этой инициативы благодаря давним связям с представителем Далай-ламы в России, бурятом Агваном Доржиевым, принимавшим активное участие в организации поездки. Авторитет самого Козлова как одного из немногих экспертов по тибетским делам был также достаточно высок в глазах кремлевского руководства, ибо в прежние годы он дважды встречался с Далай-ламой и сумел завязать с ним дружеские доверительные отношения. Осенью 1922 г. Тибетская экспедиция НКИД возвратилась в Москву. Эта новость послужила сигналом к действию для давно уже ожидавшего своего часа Козлова.
«Несвоевременная экспедиция»
Во второй половине XIX – начале XX вв. организация больших многолетних экспедиций, особенно в зарубежные страны, являлась прерогативой РГО. Академия наук, прежний организатор подобных путешествий, невольно отошла на второй план. Ситуация стала меняться после создания в 1915 г. Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), давшей мощный толчок экспедиционной активности академических учреждений. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем.
В октябре 1921 г. в системе РАН под председательством С. Ф. Ольденбурга была создана особая структура для координации экспедиционных исследований – Комиссия по экспедициям, куда стали поступать заявки от различных, в том числе неакадемических, учреждений. Аналогичную функцию выполняло и учрежденное осенью 1922 г. при Госплане РСФСР Оргбюро по созыву конференции по изучению производительных сил страны, состоявшее в основном из крупных академических работников. Таким образом в 1922 г. Академия наук становится главным экспертом правительства по оценке научной значимости экспедиций, потеснив тем самым РГО, экспедиционная деятельность которого с начала Первой мировой войны практически прекратилась из-за отсутствия финансирования. Некогда процветавшее под высочайшим патронажем и пользовавшееся большим авторитетом Общество к моменту окончания гражданской войны пребывало в плачевном состоянии.
Возродить РГО, вернуть ему былую славу могла бы новая крупная экспедиция, возглавляемая ученым, чье имя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. И поэтому, когда Козлов в августе 1922 г. обратился в РГО с планом путешествия в Монголию и Тибет, Совет Общества на своем заседании 27 сентября постановил оказать проектируемой им экспедиции всемерную поддержку. Сразу после заседания Совет направляет в Совнарком ходатайство о разрешении провести 2-3-годичную экспедицию в эти страны. Санкция СНК последовала довольно быстро – не позднее 14 октября, как свидетельствует письмо Н. П. Горбунова Козлову. Затем (24 октября 1922 г.) Совет РГО в лице Ю. М. Шокальского и В. Л. Комарова вновь обращается в СНК – на этот раз с просьбой о выделении средств на экспедицию Козлова. В письме руководителей Общества эта экспедиция была представлена как нечто совершенно исключительное, «единственное в своем роде предприятие», «важнейший географический подвиг».
При этом подчеркивалось, что от нее ожидают не только «блестящих результатов в научном отношении»; экспедиция, кроме того, может иметь и «немаловажные практические результаты, завязав новые, более тесные сношения с народностями Центральной Азии». То есть очевидно стремление придать экспедиции Козлова некоторое политическое звучание, чтобы таким образом увеличить шансы на ее финансирование правительством. К письму прилагались намеченная программа исследований («Доклад П. К. Козлова в Совет РГО»), по сути повторявшая неосуществленный проект 1914 г., предложения относительно состава экспедиции и необходимого снаряжения, а также подробная смета, согласно которой общая стоимость трехлетней экспедиции в Монголию и Тибет оценивалась в 100 тысяч золотых рублей.
Следующая инстанция – Наркоминдел, куда Козлов обратился самостоятельно, поскольку РГО поручило ему «ближайшее наблюдение за прохождением дела». 11 ноября 1922 г. с запиской от управделами СНК Н. П. Горбунова он отправился в ведомство Г. В. Чичерина на Кузнецком мосту, где вручил свой проект заведующему отделом Востока НКИД С. И. Духовскому. А уже через неделю (17 ноября) С. И. Духовский известил путешественника письмом о том, что Л. М. Карахан (заместитель наркома) ознакомился с его «Докладом» и не возражает против поездки научной экспедиции в Тибет.

Поначалу все складывалось довольно удачно для Козлова, что можно объяснить прежде всего совпадением его чисто научных интересов с геополитическими интересами советского государства. Г. В. Чичерин с Л. М. Караханом не менее Козлова стремились проникнуть в запретную Лхасу, поскольку оттуда можно было распространить советское влияние на весь буддийский мир, на всю Центральную Азию, и тем самым нанести удар по британскому влиянию на Востоке.
После НКИД проект Козлова поступает в Госплан для экспертной оценки и утверждения сметы экспедиции. 26 января 1923 г. он рассматривается на заседании подведомственного Госплану Комитета науки, в котором участвовали А. И. Рыков, М. Н. Покровский (Наркомпрос), академики В. А. Стеклов и П. П. Лазарев, П. А. Пальчинский (представитель Госплана) и С. Е. Чуцкаев (представитель Наркомфина). В результате принимается постановление: «Отпустить 50 тыс. рублей в серебряных ланах и 50 тыс. в золотом исчислении советскими знаками на оборудование экспедиции Козлова в Тибет».
Против такого решения выступил лишь В. А. Стеклов, назвавший экспедицию Козлова «несвоевременной», ибо она препятствует проведению других запланированных экспедиций. Надо сказать, что, несмотря на тесные контакты с академическими учреждениями, П. К. не счел необходимым проинформировать о своих планах ни Комиссию по экспедициям РАН, ни Петроградское отделение Оргбюро конференции по изучению производительных сил страны. Принятое Комитетом науки решение явилось полной неожиданностью для академического руководства, хотя, судя по воспоминаниям С. Я. Парамонова, Козлов еще осенью 1922 г. рассказывал о намечаемой экспедиции сотрудникам Зоологического музея РАН.
По возвращении в Петроград В. А. Стеклов поставил вопрос о целесообразности экспедиции Козлова на ближайшем заседании Петроградского отделения Оргбюро, состоявшемся 2 февраля. Мнение авторитетного академика было поддержано членами Оргбюро, которые согласились, что «экспедиция Козлова должна быть второочередною». Ситуация особенно накалилась после того, как слова В. А. Стеклова о том, что он «немедленно напишет в Москву», были переданы Ю. М. Шокальскому. Председатель РГО тут же послал записку В. А. Стеклову с просьбой не предпринимать каких-либо шагов до личной встречи с ним. По странному стечению обстоятельств в тот же самый день (2 февраля) РГО вручило Козлову командировочный мандат в Москву «для ведения дел по предстоящей экспедиции в Тибет».
Объяснение Ю. М. Шокальского с В. А. Стекловым произошло на следующий день и было довольно бурным. В. А. Стеклов сразу же заявил, что «разговаривать не о чем», – письмо в Москву уже отправлено, отметив при этом, что «оно основано на мнении Академии материальной культуры, Оргбюро, представителя секции человека и С. Ф. Ольденбурга». Это заявление глубоко возмутило Ю. М. Шокальского, ибо, как он позднее напишет в «Докладе Совету РГО», «в настоящее время подобные отношения между научными учреждениями и людьми могут действительно привести к серьезному ущербу для науки». 6 февраля 1923 г. Ю. М. Шокальский обратился к Н. П. Горбунову с просьбой поддержать своим авторитетом Тибетскую экспедицию, обещающую «богатые научные плоды». А еще через три дня заявил протест по поводу «неправильности обсуждения вопроса об экспедиции Козлова» на очередном заседании Оргбюро. Однако переубедить своих упрямых оппонентов Ю. М. Шокальскому не удалось. Особенно резко критиковал Козлова за то, что он не сообщил о своих планах ни Комиссии по экспедициям АН, ни секции человека Оргбюро, представитель последней С. И. Руденко. С мнением С. И. Руденко солидаризировались и другие члены секции: С. Ф. Ольденбург, В. П. Семенов-Тян-Шанский, Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз-Тан.
Возникшие разногласия между двумя группами влиятельных ученых – Козлов и руководители РГО (Ю. М. Шокальский, В. Л. Комаров) с одной стороны и руководство РАН (В. А. Стеклов, С. Ф. Ольденбург) с другой – имели под собой причины принципиального характера. Во-первых, утвержденная Госпланом смета Тибетской экспедиции РГО более чем в десять раз превышала стоимость академических экспедиционных исследований, запланированных на 1923 г., что могло привести к ущемлению интересов РАН. Во-вторых, экспедиция Козлова организовывалась хотя и по апробированному, но устаревшему образцу маршрутных рекогносцировок в духе Н. М. Пржевальского. Академические же экспедиции начала 20-х гг. стали приобретать характер планомерного специализированного изучения регионов. Это касалось и Монголии, куда летом 1922 г. была направлена Монгольско-Урянхайская экспедиция Геологического и минералогического музея РАН под руководством И. П. Рачковского.
Однако у экспедиции Козлова имелся большой «плюс» – с самого начала она задумывалась как правительственная, т. е. такая, которая должна была в той или иной степени способствовать реализации политических устремлений советского правительства. Об этой ее политической подоплеке недвусмысленно говорилось в официальной рецензии на книгу Козлова «Тибет и Далай-лама», опубликованной в журнале «Новый Восток»: русская научная экспедиция в Тибет призвана «подготовить почву» для отправки затем в эту страну торговой миссии. «Так, путем научного исследования и коммерческих связей окрепнут и политические взаимоотношения». Поэтому 9 февраля 1923 г., несмотря на противодействие мощного академического тандема Стеклов – Ольденбург, «малый» Совнарком принял на своем заседании решение об отпуске необходимых средств на организацию Тибетской экспедиции Козлова из фондов золотой секции Наркомфина. И, наконец, 27 февраля уже «большой» СНК постановил:
Признать своевременной и целесообразной экспедицию РГО в Монголию и Тибет под руководством путешественника П. К. Козлова сроком на 3 года.
Принять расходы экспедиции на средства правительства.
Этот акт поставил точку в недолгом споре Стеклова с Шокальским и Козловым и несколько притушил разногласия между РАН и РГО. В начале марта П. К. сообщил жене из Москвы: «Сегодня на ходу в Акцентре я встретился со Стекловым и поздоровался как ни в чем не бывало. Стеклов был так мил, так искренне любезен со мною, как никогда!»
На том же заседании СНК также дает поручение НКИД: «рассмотреть совместно с П. К. Козловым вопрос о подарках Далай-ламе и его свите», для чего начальнику экспедиции отпускают из казны дополнительно 4 тысячи золотых рублей.
Снаряжение экспедиции заняло чуть более трех месяцев. 1 июня 1923 г. Козлов выступает на Совете РГО с большим докладом, в котором уточняет маршрут, цели и задачи экспедиции, штат сотрудников. Маршрут намечался следующий: Урга, Хара-Хото, Гань-чжоу, Наньшань, Цайдам, затем подъем на Тибетское плато и движение в глубь горной страны к реке Мур-усу и оттуда к Лхасе. Предполагалось, что отряд будет состоять из 21 человека – начальник (П. К. Козлов), три старших помощника (ботаник Н. В. Павлов, географ С. А. Глаголев и геолог по рекомендации В. А. Обручева), четыре младших (орнитолог Е. В. Козлова – жена П. К., врач-энтомолог Е. П. Горбунова – сестра Н. П. Горбунова, ботаник-коллектор А. Д. Симуков и геолог Б. М. Овчинников), три препаратора (П. С. Савельев, В. А. Гусев, В. М. Канаев), шесть человек конвойных (П. М. Саранцев, К. К. Даниленко, Н. Н. Барсов, В. М. Худяков, Н. Ю. Касимов, С. А. Кондратьев), переводчик (Б. Мухрайн), два заведующих караваном (А. Мадаев и А. У. Бохин), кинооператор (М. В. Налетный)[360].
Многих из присутствующих смутило то, что костяк отряда состоит совсем из молодых людей, не имеющих ни достаточной научной квалификации, ни экспедиционного опыта. Такой подбор спутников объяснялся тем, что на свою экспедицию Козлов по-прежнему смотрел глазами Н. М. Пржевальского как на научную рекогносцировку, для которой ему требовались прежде всего послушные исполнители его замыслов. Однако «эпический» период исследования Центральной Азии, говоря словами Пржевальского, подошел к концу. Более актуальными для региона становились исследования отраслевого, узкоспециального характера; отсутствие же в экспедиции Козлова высококвалифицированных специалистов делало ее особенно уязвимой в глазах академического сообщества.
Донос
Первые проблемы у экспедиции совершенно неожиданно возникли в июне 1923 г. – буквально в самый канун ее выступления, когда НКИД без каких-либо объяснений не выдал загранпаспорта юным Б. М. Овчинникову и Н. Н. Барсову. «Трудно описать тяжелое состояние чуть не плачущего, нравственно убитого Барсова, – записывает в дневнике Козлов. – Лично мне его очень жаль. По-моему, из Барсова вышел бы хороший спутник, несомненно принесший бы экспедиции значительную пользу». И Н. Н. Барсов, и Б. М. Овчинников, впрочем, пытались апеллировать к руководству НКИД, все еще надеясь, что оно переменит свое решение, но безрезультатно. Правда, Б. М. Овчинникову во время одной из встреч с политреферентом НКИД Л. Е. Берлиным в конце концов – на исходе августа! – удалось выяснить, что в экспедицию «вклеили» кого-то по распоряжению свыше, очевидно, на место выбывших, о чем он тут же сообщил Козлову, находившемуся в это время в пути.
В таком же двусмысленном, «подвешенном» состоянии вскоре после возвращения в Петроград оказались и другие участники экспедиции, у которых неожиданно отобрали загранпаспорта, якобы «для проверки». Произошло это за несколько дней до отъезда экспедиции, намеченного на 29 июня. В отчаянии и ярости от подобного произвола Козлов обращается к Н. П. Горбунову, выступающему в роли правительственного куратора экспедиции, требуя от него разъяснений. Но Кремль каких-либо разъяснений давать не торопился.
«Еще более тяжело и томительно потекло начало июля, – читаем мы в дневнике путешественника. – Моя поездка в Москву, бесконечные переговоры по телефону с Кремлем (Н. П. Г[орбуновым]) и потом из Петрограда с Москвой. Телеграммы в ГПУ и, наконец, после обстоятельных переговоров с Николаем Петровичем, телеграмма следующая: «Москва. Совнарком. Каменеву. Экспедиция сильно томится, бездействует, несет большие непроизводительные расходы, умоляет разрешить спешно выдать паспорта. Время уходит. Козлов».
Причиной столь внезапной задержки экспедиции стало решение Центра прикомандировать к отряду политкомиссара – идеологического контролера за деятельностью Козлова. П. К., как человеку военной закалки, приходится, конечно же, подчиниться, хотя он и не скрывает досады: «Кого-то мне подсунут помимо моего желания! Говорят, бурята. Вероятно, коммуниста. И что же он будет делать в Центральной Азии?». Ситуация уже вскоре окончательно прояснилась – 21 июля Козлов получил от Н. П. Горбунова телеграмму: «Выезд экспедиции разрешается. Правительственным комиссаром назначается Убугунов Даниил, который поедет в составе экспедиции вместе с двумя-тремя сотрудниками».
Что же произошло в Москве в 20-х числах июня 1923 г.? Что побудило советских руководителей блокировать козловскую экспедицию и в экстренном порядке ввести в нее нескольких посторонних сотрудников? Ответ на этот вопрос дают документы из Архива президента РФ. 22 или 23 июня 1923 г. председатель ГПУ Ф. Э. Дзержинский получил письмо от некоего А. Мартынова, по сути донос на Козлова. Автор письма – предположительно А. С. Мартынов-Пиккер, один из ведущих сотрудников Института Маркса – Энгельса, протеже М. Н. Покровского, ссылаясь на разговор со своим секретарем, служащим в издательстве «Красная Новь» Е. Н. Щарбе, обращал внимание Ф. Э. Дзержинского на тот факт, что экспедиция Козлова организована «крайне неосторожно», что может иметь «очень вредные последствия» для Советской России.
Ее начальник – «бывший полковник или подполковник царской службы, настроен весьма по-белогвардейски. Он или члены экспедиции, точно не помню, высказывались, что через 3 года, когда срок экспедиции закончится, в России не будет ни народных комиссаров, ни Сов [етской] власти, и что они сюда не вернутся». Крайне обеспокоенный тем, что члены экспедиции могут использовать отпущенные им крупные денежные средства не по назначению – «не столько для того, чтобы производить научные изыскания, сколько для ведения контрреволюционной агитации против России, не без содействия, может быть, англичан», – А. Мартынов заключал свое письмо вопросом: «Не благоразумней ли было бы отказаться от этого дела или организовать его на совершенно новых началах?».
Реакция Ф. Э. Дзержинского была мгновенной – он тут же поставил в известность о «сигнале» А. Мартынова главу НКИД Г. В. Чичерина, и тот в свою очередь распорядился отобрать загранпаспорта у готовой к отправлению экспедиции. В то же время, 25 июня, Ф. Э. Дзержинский направил письмо в Политбюро ЦК с предложением об образовании особой комиссии «по рассмотрению вопроса о целесообразности посылки в настоящий момент экспедиции в Монголию и Тибет». В нем, в частности, высказывалось опасение, что поездка Козлова в районы, находящиеся «под господствующим влиянием Англии», где НКИД «ведется в течение нескольких лет вполне определенная дипломатическая работа», могла бы послужить поводом для новой провокации английского правительства и в то же время привести к срыву «работы НКИД».
Вопрос о Монголо-Тибетской экспедиции немедленно вносится в повестку дня очередного заседания Политбюро ЦК, состоявшегося 27 июня. Предложение Ф. Э. Дзержинского принимается без возражений. В особую правительственную комиссию назначают четырех человек – Л. Б. Каменева, Г. В. Чичерина, Ф. Э. Дзержинского и М. Н. Покровского, т. е. представителей от СНК, НКИД, ГПУ и Наркомпроса, что также является симптоматичным: трое первых представляют политические интересы государства и лишь последний – интересы науки. Одновременно Политбюро принимает и предложение генсека И. В. Сталина – включить в состав экспедиции бурята-коммуниста. На должность политкомиссара подыскали и утвердили подходящую кандидатуру – Д. М. Убугунова, в недавнем прошлом инструктора-организатора монголо-тибетской секции Дальневосточного секретариата Коминтерна.
Эту меру в Москве, по-видимому, посчитали достаточной, и поэтому СНК, как уже говорилось выше, через управделами Н. П. Горбунова дает Козлову «зеленый свет». 25 июля 1923 г. – в день отъезда экспедиции – Географическое общество по традиции устроило ей торжественные проводы, в которых приняли участие многие представители академических учреждений, в том числе академики А. П. Карпинский, С. Ф. Платонов, В. В. Бартольд. На границе с Монголией, в Кяхте и Троицкосавске, к отряду присоединились новые члены: буряты Булат Мухрайн и лама Шагдур Эрдынеев, рекомендованные Козлову Агваном Доржиевым, а также партийная троица – Д. М. Убугунов с женой и Л. Е. Помытов (переводчик бурятского и монгольского языков).
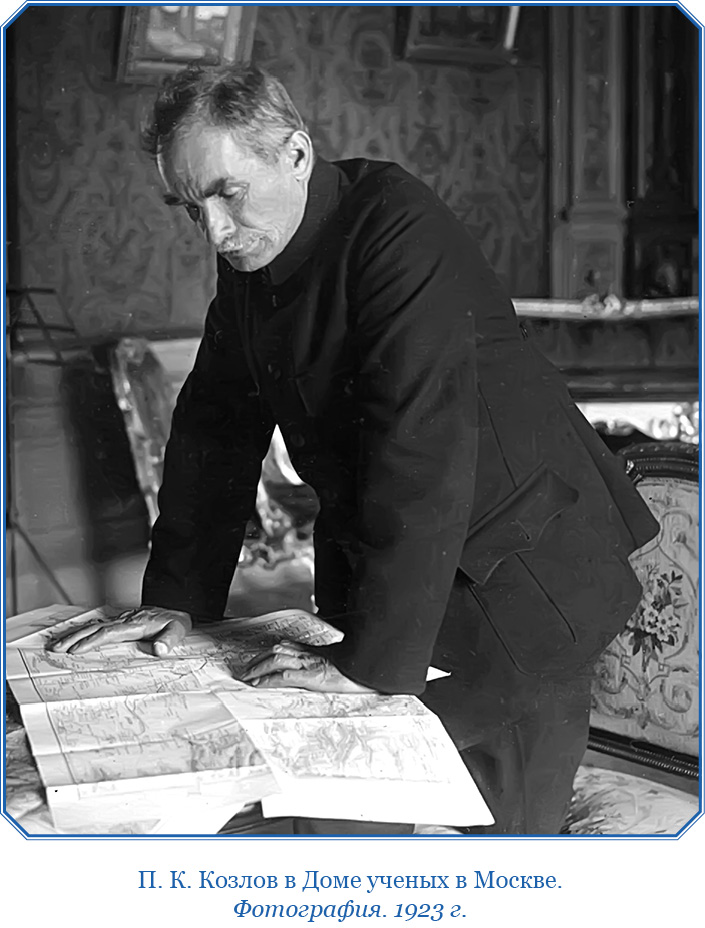
Ургинское стояние
В Ургу – отправной пункт караванного маршрута на Лхасу – Козлов со своим отрядом въехал 1 октября 1923 г. Здесь экспедиция предполагала провести недолгое время, необходимое для снаряжения каравана и получения из пекинского МИДа через советское полпредство охранной грамоты и дорожных паспортов. Но злой рок продолжал преследовать путешественника. 21 октября Козлов узнает от секретаря советского представительства в Монголии В. И. Юдина, что Центр (ГПУ) отзывает из отряда С. А. Глаголева, П. С. Савельева и П. М. Саранцева. Это не просто новый удар по экспедиции, но фактически начало ее разрушения. Ведь С. А. Глаголев – старший помощник Козлова, его правая рука.
«Без Глаголева Козлов с экспедицией не справится, – пишет Е. П. Горбунова в Москву своему брату. – Может быть, никто не знает так хорошо жизнь Глаголева, как я, и я знаю, что за ним нет ничего такого, что могло бы послужить ему укором в глазах Советской власти. Человек безукоризненной честности, поразительно работоспособный, кончивший университет (географическое отделение) и Географический институт, могущий вести съемку и производить всевозможные полевые исследования по зоологии, ботанике, геологии, метеорологии и т. д. Специально всю зиму готовился к путешествию. […] Если лишить нас такого человека, как Глаголев, экспедиция потеряет одного из своих совершенно незаменимых членов, без которых ученая работа едва ли сможет идти успешно».
Но Глаголев не просто главный помощник начальника экспедиции. Козлов давно уже смотрел на него как на преемника и потому стремился передать ему свой богатый опыт и знания. Полевая работа в Монголии и Тибете под началом столь авторитетного учителя для Глаголева – это «школа путешественника-исследователя».
Решение Москвы об отзыве трех спутников вызвало, естественно, недоумение и крайнее раздражение Козлова. Не менее тревожило его и отсутствие китайских паспортов, обрекающее экспедицию на бессмысленное стояние в Урге. Чувства путешественника в эти трудные дни хорошо передает его дневник:
«Я задумался над положением экспедиции, организованной с разрешения и [при] поддержке Сов[етской] России. С самого начала, почти до конца организации экспедиции в России все шло прекрасно и предупредительно. Но с июня месяца вкрались непонятные неожиданности: назначается в экспедицию такой-то с таким-то, паспорта отобрать, проверить и таких-то участников экспедиции отставить, очевидно, за счет поступивших или неожиданно назначенных „партийных”. И с того времени пошло все, что называется, „шиворот-навыворот”. Присутствие „незваных гостей” расстроило нашу цельную прекрасную экспедиционную семью.
Младшая моя братия приуныла, стала бояться проронить лишнее в дружеской беседе с товарищами слово. Китайского паспорта Россия не в силах добыть для экспедиции. Оставляет Монголо-Тибетскую экспедицию на произвол судьбы».
Всю вину за происходящее Козлов справедливо возлагает на ГПУ и НКИД, хотя о подлинной сути интриги он, конечно же, не знает и едва ли догадывается. В то же время П. К. убежден, что покровитель экспедиции Н. П. Горбунов сумеет во всем разобраться и отстоять его ни в чем не повинных спутников. «Ясно, что решение опрометчивым не могло быть, – записывает он в дневнике. – Н. П. [Горбунов] в союзе с Кам[еневым] и Рык[овым] (очень заинтересованными экспедицией) не допустит первоначальное решение – удалить 3-х лучших спутников». И потому Козлов не спешит выполнить распоряжение Центра. Одну за другой он отправляет в СНК девять (!) телеграмм-молний, но Н. П. Горбунов упорно молчит. А тем временем НКИД через В. И. Юдина «властно» требует от него возврата в Москву трех «забракованных» участников экспедиции.
«И ничего, ничего не выйдет толкового, путного из нашей экспедиции, – сокрушенно восклицает П. К. – Как блестяще она началась, и какие две раны – мучительные раны – она уже получила на своем пути. Одну – еще в Петрограде, когда навязали „украшение” ученой экспедиции, другую здесь, в Урге, когда вырвали из ее среды самых нужных, толковых людей».
Загадочное молчание Москвы становится невыносимым после того, как в 20-х числах ноября в Урге выпал обильный снег и ударили сорокаградусные морозы. Содержание нанятых экспедицией 60 верблюдов требует значительных расходов, и это побуждает Козлова обратиться к председателю СНК Л. Б. Каменеву с просьбой об отпуске дополнительных средств – 5000 рублей в золотой валюте. Главная его забота – сберечь «самое дорогое» – транспорт экспедиции, т. е. верблюдов. И в этот момент – 27 ноября – приходит долгожданный ответ из Москвы от Н. П. Горбунова:
«В связи с осложнением международных отношений Правительство РСФСР решило временно отложить отъезд Вашей экспедиции, не предрешая сейчас срока нового выступления, который определить пока трудно. Поэтому предлагаем участникам Вашей экспедиции, кроме сибиряков, выехать в Москву и в Петроград. Сибиряков нужно рассчитать. Груз экспедиции оставьте в надежном месте в пределах Советской России под охраной надежного человека. Политкому Убугунову и его сотрудникам сдать мандаты через Вас Полпредству СССР в Монголии и вернуться в распоряжение Иркутского исполкома».
Телеграмма Н. П. Горбунова – кульминационный, наиболее драматичный момент начального этапа путешествия. Чтобы понять истинную причину случившегося, необходимо вернуться в Москву в последний летний месяц 1923 г. 9 августа, в то время как счастливый Козлов со своим отрядом уже находился в Иркутске и раздавал интервью репортерам местных газет, Политбюро на своем очередном заседании принимает предложение Г. В. Чичерина об организации второй Тибетской экспедиции НКИД – отправке в Лхасу полномочной дипломатической миссии. Возглавить делегацию поручили сотруднику Восточного отдела НКИД С. С. Борисову.
Выехать в Тибет с группой тщательно подобранных для такой поездки лиц С. С. Борисов намеревался в середине августа, однако ему пришлось задержаться в Москве из-за неожиданно возникших финансовых затруднений, и потому в столицу Монголии его экспедиция прибыла только в сентябре. Ведомство Г. В. Чичерина поначалу не возражало против практически одновременного посещения Тибета двумя экспедициями – научной и политической. Правда, в связи с письмом А. Мартынова Г. В. Чичерин вынужден был принять меры предосторожности – разработать особую инструкцию для политкома Д. М. Убугунова. В этой инструкции, между прочим, подчеркивалось, что Монголо-Тибетская экспедиция «имеет исключительно научный характер» – продолжение работ по изучению Центральной Азии, и потому ее руководителю или отдельным участникам не дается «никаких политических заданий» ни НКИДом, ни какими-либо «другими органами республики». Кроме этого, в одном из пунктов инструкции путешественникам предписывалось проявлять «особенную осторожность в сношении с населением и властями» Тибета:
«В силу того, что английские империалистические круги настроены в отношении Тибета чрезвычайно внимательно и несомненно будут искать повода, чтобы истолковать факт прибытия в Тибет русской научной экспедиции как проявление антианглийской „большевистской агитации”, руководители и члены экспедиции должны безусловно воздерживаться от каких-либо переговоров и даже просто разговоров на политические темы как с Далай-ламой и его Правительством, так и с представителями каких-либо тибетских партий и групп. От посещения Далай-ламы и его министров лучше воздержаться […]. Если свидания избежать будет нельзя, то необходимо на нем подчеркнуть научный характер экспедиции и ограничиться общей информацией о положении дел в Совроссии, ее мирных взаимоотношениях с другими странами, ее национальной и религиозной политике, в духе предоставления широких прав самоуправления и вероисповедания всем населяющим Республику народам».
Подобная повышенная бдительность НКИД объясняется тем, что Г. В. Чичерину было хорошо известно о дружеских отношениях Козлова с Далай-ламой и его фаворитом, главкомом тибетской армии Царонгом II (Намганом), равно как и о желании путешественника снова свидеться со своими могущественными тибетскими друзьями. Но если поначалу эта информация воспринималась Г. В. Чичериным довольно позитивно, то теперь, после тревожного «сигнала» А. Мартынова, Тибетская экспедиция Козлова становится источником серьезного беспокойства для наркома. Тем более что С. С. Борисову предстоит вести в Лхасе очень непростые переговоры с англофильствующим Далай-ламой и его министрами. 27 сентября – уже после отъезда из Москвы С. С. Борисова – Политбюро по инициативе НКИД вновь рассматривает вопрос об экспедиции Козлова. Докладывают его Г. В. Чичерин и заместитель Ф. Э. Дзержинского В. Р. Менжинский. Принимается решение: «Поручить т. Менжинскому с привлечением т. Лапирова-Скобло пересмотреть состав экспедиции в духе обмена мнениями». На следующий день в Ургу С. С. Борисову за подписью Г. В. Чичерина отправляется шифрограмма: «Сообщается для сведения, что состав экспедиции Козлова будет пересмотрен, в связи с чем должна быть задержана отправка ее».
Таким образом, в конце сентября – еще до прибытия Козлова в Ургу – Центр принял решение о задержании его экспедиции в монгольской столице для нового пересмотра ее состава, а также, по-видимому, для того чтобы дать возможность «конкурирующей» дипломатической экспедиции С. С. Борисова отправиться в Тибет первой. Приоритет политических интересов над научными в этом случае вполне очевиден.
Ровно через три недели (18 октября) Политбюро одобрило предложение В. Р. Менжинского об отзыве шести членов экспедиции Козлова. В список «забракованных» вошли отозванные ранее в Петрограде Б. М. Овчинников и Н. Н. Барсов, М. В. Налетный (отчислен из отряда за пьянство самим П. К. еще в Верхнеудинске), а также С. А. Глаголев, П. М. Саранцев и П. С. Савельев. Поводом для отзыва трех последних, вероятно, послужил поступивший на них в ГПУ компромат, предположительно от Н. Ю. Касимова; в то время Козлов находился в Харбине у родственников (сентябрь 1923). В записке В. Р. Менжинского и М. А. Трилиссера (начальник иностранного отдела ГПУ) И. В. Сталину от 22 сентября читаем: «Касимов, член РКП, включенный в состав экспедиции, написал письмо в ГПУ – бывший прапорщик Савельев (сотрудник экспедиции) обещал ее сейчас же после отъезда избавить от коммунистических элементов».
Другим источником негативной информации об экспедиции служил Д. М. Убугунов, правда, он направлял ее не в ГПУ, а в НКИД, что позволяет говорить об определенном информационном соперничестве ведомств Г. В. Чичерина и Ф. Э. Дзержинского. Так, известно, что Д. Убугунов послал два «информационных письма» лично Чичерину 19 октября и 24 ноября 1923 г., т. е. уже после того, как Политбюро вынесло свое постановление. Надо отметить, что Центр был недоволен вялой и малоэффективной работой Д. М. Убугунова. 21 сентября Г. В. Чичерин писал с явным раздражением в Политбюро: «…теперь оказывается, что Козлов держит этого комиссара в черном теле, а от одного из введенных в экспедицию коммунистов ГПУ имеет сведения о крайне агрессивных заявлениях некоторых участников. Если экспедиция с таким составом и при совершенном бессилии введенных в него коммунистов достигнет Лхасы, она может повести там самую бесцеремонную агитацию против советского правительства и советского строя и может прямо-таки сорвать всю нашу монгольскую политику».

В результате на том же заседании Политбюро принимается еще одно важное решение – поручить В. М. Молотову, И. С. Уншлихту, Г. В. Чичерину и Н. П. Горбунову «в недельный срок подыскать и провести назначение комиссара экспедиции, который смог бы фактически экспедицией руководить, дав ему политические полномочия и наименовав его полит. главой экспедиции».
И все же состоявшийся в октябре пересмотр состава экспедиции не означал ее ликвидации. Доступные нам архивные документы, к сожалению, не дают ответа на вопрос: какие события, происшедшие в период между 18 октября и 27 ноября 1923 г., подтолкнули Кремль к принятию столь радикального решения. Ссылка на некое «осложнение международных отношений», содержащаяся в телеграмме Н. П. Горбунова, – то, что впоследствии Козлову объяснят как давление англичан на китайское правительство с целью недопущения русской экспедиции в Тибет, – представляется малоубедительной. В английских архивах отсутствуют какие-либо документы, позволяющие говорить о подобной интриге британских властей. Дело, по-видимому, было в чем-то другом. Возможно, НКИД насторожило сообщение Д. Убугунова о том, что Козлов намеревается провезти в своем караване (по просьбе тибетцев) партию оружия для Далай-ламы, или же у ГПУ появился какой-то новый компромат на Козлова и его окружение?
Еще одна возможность – объяснение академика Ф. И. Щербатского (побывавшего в Урге летом 1924 г.), содержащееся в его письме С. Ф. Ольденбургу: Козлов повздорил с участниками «настоящей экспедиции» – с сотрудниками «Борисова-алтайца» – и именно поэтому был отозван Москвой. Поводом для ссоры могло послужить, например, то, что НКИД отобрал у Козлова столь необходимого ему бурята Б. Мухрайна и включил его в состав экспедиции С. С. Борисова. Версия Ф. И. Щербатского, при всем ее правдоподобии, однако, не находит подтверждения в путевом дневнике Козлова, отражающем все перипетии «ургинского стояния» экспедиции и изобилующем многими весьма пикантными подробностями.
Решение Центра, хотя и было тяжелым ударом для Козлова, не сломило его воли. Уже на следующий день (28 ноября) П. К. отправил в Москву в СНК телеграмму, в которой просил правительство оставить его отряд в полном составе в Монголии до будущей весны, полагая, что к тому времени «могут уладиться международные осложнения». Свою просьбу Козлов мотивировал чисто финансовыми выкладками – продажа или сдача в аренду 60 верблюдов равносильна потере половины их стоимости; перевозка же имущества по обледенелой горной дороге только в Троицкосавск сопряжена с риском и требует огромных расходов. И вот потянулись «страшные, томительные дни ожидания» ответа из Москвы. Между тем вынужденные зимовать в Урге участники экспедиции не теряют времени даром – занимаются исследованием природы окрестностей столицы Монголии, собирают этнографические и естественно-исторические коллекции; С. А. Кондратьев, ставший после отъезда С. А. Глаголева старшим помощником Козлова, изучает музыкальный фольклор монголов[361].
Прибывший в Ургу в начале января 1924 г. советский полпред А. Н. Васильев сообщает П. К. безрадостную новость – в Центре вопрос об экспедиции поставлен ребром: «Быть или не быть, вернуть экспедицию или не вернуть?». Козлов, хорошо понимая весь драматизм ситуации, необходимость предпринять какие-то экстренные меры, 16 января пишет письмо Н. П. Горбунову, а через две недели, заручившись поддержкой явно симпатизирующего ему А. Н. Васильева, посылает в Москву Е. П. Горбунову. На эту поездку теперь вся надежда. О результатах своего «дипломатического вояжа» Е. П. Горбунова рассказала П. К. уже по возвращении в Монголию в мае 1924 г.[362]: «Когда я приехала, я узнала, что экспедиция задержана не временно, но полная ее ликвидация прошла по всем инстанциям еще в ноябре месяце, и нашего возвращения ждали, не считая нужным отвечать на телеграммы.
Таково было положение дел. Я поняла, что нужно развить максимальную энергию, чтобы добиться хоть каких-нибудь благоприятных результатов, и начала действовать, и сама непосредственно, и через брата, которого воодушевить снова и доказать ему необходимость возрождения экспедиции было очень трудно. Пришлось выступить с докладами в нескольких учреждениях. Я наткнулась на полную осведомленность, поразительно точную, и очень недоброжелательное отношение к Вам лично. За нами наблюдали, что вполне понятно и можно было предполагать давно, с первого дня нашей поездки и вплоть до Урги, как и за Вами в Харбине. Не нравился общий уклад нашей экспедиционной жизни, весь ее строй, не современный, Ваше обращение с людьми, не нравились более крупные вещи, о которых писать я не буду, а скажу лично, что и послужило отчасти причиной для запрещения двигаться за пределы Монголии. По мнению лиц, от которых зависит судьба экспедиции, экспедиция должна быть выразителем идей Советской России, а не осколком старины. В научную работу не вмешиваются, хотя и интересуются ею очень… Внутренний уклад считают неподходящим, не соответствующим современности. В общем должна сказать, что летняя работа отвоевана с громадным трудом и на нее будет обращено очень большое внимание при рассмотрении осенью дальнейшей судьбы нашей экспедиции…»
Итак, весной 1924 г., в основном благодаря энергичным действиям Е. П. Горбуновой, Центр отменил свое прежнее распоряжение и позволил Козлову остаться в Монголии. Состав его отряда, однако, подвергся дополнительной чистке – в Москву отозвали В. М. Худякова, Н. Ю. Касимова и Л. Е. Помытова; вместо них и отозванных ранее С. А. Глаголева, П. С. Савельева и П. М. Саранцева предполагалось ввести «5–6 коммунистов». Д. М. Убугунова решили освободить от должности политкома и заменить более авторитетной и не столь раздражающей для П. К. фигурой председателя СНК Бурреспублики М. Н. Ербанова. Однако вопрос о разрешении экспедиции двинуться за пределы Внешней Монголии остался по-прежнему нерешенным. Объяснение задержки все то же: китайский МИД не выдает паспортов, но это выглядит уже как явная отговорка. Впрочем, А. Н. Васильев стремился успокоить Козлова, заверяя его, со ссылкой на мнение правительства, что экспедиция «не должна втягиваться большими расходами в Монголию, она должна быть тибетской и экономить силы, энергию и материальные средства только на экспедицию в Тибет!»
На этом, однако, интриги вокруг «замороженной» в Урге экспедиции Козлова не закончились. Центр не утвердил М. Н. Ербанова политкомом, хотя его кандидатура и была одобрена особой комиссией Политбюро (Н. П. Горбунов, Г. В. Чичерин, В. Р. Менжинский), приняв более простое решение – передать политический контроль над экспедицией полпреду в Монголии А. Н. Васильеву. Тем временем, в самом начале мая, Дальбюро ЦК РКП (б) по инициативе полномочного представительства ГПУ на Дальнем Востоке – без консультации с Москвой – «вклеивает» в экспедицию некоего Бузулаева в качестве сексота. Эта акция едва не привела к конфликту с советским полпредством в Урге, ибо А. Н. Васильев – «добрый гений экспедиции» – решительно отсылает Бузулаева обратно в Читу.
Под опекой Академии наук
Находясь в Урге в напряженном ожидании решения Центра Козлов часто вспоминает о прошлом, о своем «лучшем детище» – Хара-Хото. В глубине души он надеется, что это новое путешествие будет не менее «славным», чем два предыдущих, и таким образом ему удастся оправдать «доверие и симпатии народа». Эти мысли побуждают путешественника отнестись с особым вниманием к многочисленным сообщениям об археологических находках местных жителей. Главным информатором Козлова об ургинских древностях служит его старый петербургский знакомый, ученый-востоковед Ц. Ж. Жамцарано, возглавляющий ныне Монгольский ученый комитет – прообраз будущей Академии наук МНР. Ц. Ж. Жамцарано, между прочим, рассказал Козлову об усыпальнице некой царевны в урочище Цзун-модо, в горах Ноин-Ула севернее Урги. До революции в этих местах находились прииски русско-бельгийской золотодобывающей компании «Монголор», и один из ее служащих, Баллод, совершенно случайно сделал ряд интересных находок, часть которых была передана в Иркутский музей. Правда, археологи не придали тогда особого значения найденным предметам. Козлов же чрезвычайно заинтересовался находками Баллода. В конце февраля 1924 г. он отправляет на разведку в Цзун-модо «ученую экскурсию» во главе с С. А. Кондратьевым и затем, обследовав курганы лично, принимает решение – вновь попытать счастья на археологической ниве.
Первые же результаты раскопок принесли настоящую сенсацию – в курганах, оказавшихся древними могильниками, «археологи» экспедиции обнаружили большое количество прекрасно сохранившихся предметов: ткани, войлочные ковры с изображениями мифических животных, женские косы, седла, изделия из бронзы, керамику и многое другое. (Впоследствии было установлено, что погребения принадлежат гуннам эпохи Ханьской династии.) О своих находках Козлов тут же сообщил Ю. М. Шокальскому и в Главнауку, с радостью отмечая, что теперь «экспедиция посильно исполнит долг перед Родиной». Одновременно П. К. отправил статью о достижениях экспедиции в газету «Известия». После ее публикации Тибетская экспедиция вновь оказалась в центре внимания научной общественности.
Что касается Академии наук, то начавшиеся в Монголии раскопки вызвали у нее не только огромный интерес, но и большое беспокойство из-за отсутствия в отряде Козлова профессиональных археологов. В результате, не дождавшись личного послания от руководителя экспедиции, С. Ф. Ольденбург вошел (через Н. П. Горбунова) в правительство с предложением о командировании в Монголию группы специалистов: двух археологов – Г. И. Боровко (сотрудник РАН, хранитель Эрмитажа) и С. А. Теплоухова (профессор Ленинградского университета, хранитель Русского музея); почвоведа Б. Б. Полынова (сотрудник КЕПС) и минералога В. И. Крыжановского (хранитель Геологического и минералогического музея РАН). Тревогу Непременного секретаря разделял и академик Н. Я. Марр, направивший 24 июля 1924 г. в РГО Ю. М. Шокальскому письмо от имени возглавляемой им Академии истории материальной культуры. В нем он выразил недовольство тем, что Козлов ничего не сообщил его учреждению о своих работах и не просил содействия специалистов. «Все это заставляет бояться, – заключал Н. Я. Марр, – что повторяются и здесь те же дела, какие имели место в Хара-Хото»[363]
А тем временем Козлов, и не подозревающий, что его статья вызвала настоящий ажиотаж в академических кругах, продолжает вести раскопки по своему собственному плану. Полученная из СНК телеграмма о направлении в экспедицию новых сотрудников – без предварительного согласования с ним – не омрачает его большой радости. Специалисты, впрочем, прибыли с большим опозданием, лишь 19 сентября, когда полевой сезон уже близился к завершению. Тщательно осмотрев произведенные работы, С. А. Теплоухов высказал свое мнение: общая часть удовлетворительна, однако в деталях имеются упущения. Козлов согласился, что Тибетской экспедиции не по плечу детальное изучение археологических памятников, ее задача иная – проведение разведки, и после разговора с археологом заключил:
«Изучение курганов можно считать почти законченным. Это «почти» устранит Теплоухов. Материала достаточно, и, надо полагать, его придется сдать в руки Теплоухову, а самый [ценный] материал – фактические достижения экспедиции – передать в родной Русский музей».
Но работа Козлова, по правде говоря, мало удовлетворила С. А. Теплоухова, о чем он откровенно написал С. Ф. Ольденбургу в самом начале октября и тем самым только подлил масло в огонь:
«Раскопки Козлова велись грабительским способом, поэтому подробности погребения не удалось установить. Проверив планы могильников, дополнив неудовлетворительные дневники расспросами, выяснив небольшими раскопками некоторые детали погребения, я хотел этим и ограничиться. […] Но политические соображения (конечно, академические) как внешние, так и внутренние, также желание всех окружающих заставили меня решиться раскопать хотя бы [еще] один курган».
Однако еще до того, как С. А. Теплоухов отправил свое письмо, Козловым была получена телеграмма от С. Ф. Ольденбурга и Ю. М. Шокальского с просьбой приехать в Ленинград для отчета о проделанной работе. П. К. явно озадачен, чувствуя, что за вызовом в Центр стоит Академия, притязающая на сделанные им открытия, и потому долго размышляет, ехать ему или не ехать. Поводом для таких подозрений послужило письмо В. Л. Комарова – «очень дружественное и раскрывает все дрязги и зависть: имеется поползновение присвоить открытие и проч., все, что ведется Академией против достижений Русского географического общества». Откровенный рассказ Б. Б. Полынова о том, как он «попал в командировку», убеждает Козлова, что «борьба РГО с Академией» из-за его экспедиции «все еще продолжается». Наглядный пример тому – лекция, прочитанная в Урге С. А. Теплоуховым, в которой тот, по мнению Козлова, преувеличил роль Баллода в открытии ноин-ульских могильников:
«…Что же Баллод сделал, как не испортил больший, лучший курган? Он такой же был хищник, как и монголы. Кто же знал о раскопках Баллода? Даже археологи Иркутского государственного университета молчали да, вероятно, и не знали толком ничего, иначе они попытались бы приехать в Монголию, ведь это так недалеко!»

Еще один упрек в адрес Козлова – за невнимательное отношение к Монгольскому ученому комитету – прозвучал в ноябре, в докладе вернувшегося из Монголии В. И. Крыжановского на заседании Комиссии по научным экспедициям РАН. Упрек этот, надо сказать, был совершенно несправедливым. С самого начала своих исследований в Монголии Козлов находился в тесном контакте с Учкомом и немало способствовал его научно-просветительской работе, о чем свидетельствует и факт избрания русского путешественника почетным членом этой организации.
В середине декабря 1924 г. Козлов выезжает в Ленинград, где его уже ждут с нетерпением. 30 декабря он выступает с докладом в стенах родного РГО – рассказывает о достижениях Тибетской экспедиции, ее планах на будущее, и при этом не забывает отметить, что все естественно-исторические сборы по традиции будут переданы в Зоологический музей или в Ботанический сад, а археологические находки – в Русский музей, где уже хранится знаменитая хара-хотинская коллекция. А через неделю – 8 января 1925 г. – СНК принимает постановление об образовании Комиссии для рассмотрения отчетов и планов Монгольской экспедиции П. К. Козлова под председательством Н. П. Горбунова. В ее состав были включены: академики С. Ф. Ольденбург, А. Е. Ферсман, В. Л. Комаров; представитель Географического общества (по выбору Общества); А. А. Бялыницкий-Бируля (директор Зоологического музея); геологи А. А. Борисяк и И. П. Рачковский; Б. Я. Владимирцов (член Монучкома); А. И. Васильев (полпред СССР в Монголии); представители НКИД (два); и Наркомпроса (один)[364]. В подборе такого состава П. К. увидел «руку» С. Ф. Ольденбурга, заранее позаботившегося о том, чтобы привлечь в комиссию лиц, которые большинством голосов могли бы принять решения исключительно в интересах РАН, «не считаясь с мнением Совета РГО».
На своем первом заседании, состоявшемся 31 января 1925 г. в Ленинграде в малом конференц-зале Академии наук, Комиссия заслушала доклады П. К. Козлова, Н. В. Павлова, В. И. Крыжановского, Б. Б. Полынова, С. А. Теплоухова и Г. И. Боровко. В ходе обсуждения докладов завязалась бурная полемика о методах исследования Монголии. Еще в конце 1924 г. В. А. Обручев на страницах журнала «Новый Восток» поднял вопрос о целесообразности посылки в Монголию крупных экспедиций «из разных специалистов с разнообразными задачами», поскольку «они часто мешают друг другу» ввиду «разнообразного характера и приемов научной работы». Среди защитников метода маршрутной рекогносцировки, кроме Ю. М. Шокальского и В. Л. Комарова, оказался и присутствующий на заседании Н. И. Вавилов, заявивший, что «рекогносцировочный метод может дать не меньшие результаты», и что «стационарными исследованиями мы должны заниматься у себя, т. к. у нас есть области, еще совершенно не исследованные».
И все-таки итогом дискуссии стало признание необходимости стационарного способа исследования Монголии различными специалистами. С этим выводом в конечном счете согласился и Козлов.
С. Ф. Ольденбург высоко оценил поступок Козлова: «Петр Кузьмич один из немногих оставшихся в живых из того большого поколения путешественников по Средней Азии, которые проложили пути в дотоле неизвестных местах. То было время, когда всякая экспедиция велась маршрутным путем. Это был способ путешествовать от Пржевальского и до Козлова. И теперь сам Козлов […] говорит, что этот способ отживает век, и что мы должны вести экспедиции иным путем, прежде всего путем стационарным».
Сенсационность археологических находок, сделанных Козловым в Ноин-Ула, в конечном счете предопределила итог обсуждения: деятельность Монголо-Тибетской экспедиции была полностью одобрена.
Однако на втором заседании Комиссии (7 февраля), посвященном оценке привезенных Козловым коллекций и обсуждению их дальнейшей судьбы, произошло новое столкновение между РАН и РГО. С. Ф. Ольденбург предложил передать ноин-ульские находки для научного изучения и атрибуции не в Русский музей, как этого хотели Козлов и Ю. М. Шокальский, а в Академию истории материальной культуры, мотивируя это тем, что «в составе Русского музея нет специалистов, которым могла бы быть поручена обработка этого материала, т. к. для этого требуются специальные знания». С этим мнением согласилось большинство членов Комиссии, что и было зафиксировано в принятом решении.

Покончив с отчетами о проделанной работе, Козлов приступил к решению, пожалуй, самого трудного вопроса – о дальнейшей программе исследований, главным пунктом которой по-прежнему являлась работа на территории Тибета. Решить его Комиссии СНК оказалось не под силу – как сказал в своем заключительном слове на первом заседании Н. П. Горбунов: «Здесь нам невозможно обсудить тот вопрос. Он требует обсуждения и указания Наркоминдела». В течение полутора месяцев Козлов обивает пороги высоких инстанций, главным образом НКИД и ОГПУ.
Личная встреча с наркомом (13 февраля) поначалу не сулит ничего хорошего. Чичерин откровенно дал понять путешественнику, что китайцы «под угрозой европейцев, в особенности англичан» русскую экспедицию «никуда не пустят»; да и политическая ситуация в самом Тибете крайне неблагоприятна: повсюду царят «разброд, распри, гражданские козни» – так что о работе в этой горной стране «нечего и думать». Н. П. Горбунов, которому П. К. пересказывает содержание ночной беседы с наркомом (Г. В. Чичерин обычно принимает «своих» поздно ночью), соглашается с тем, что «Чичерин очень осторожен и мало решителен», и советует действовать с другого конца – «обратиться в ГПУ и переговорить с М. А. Трилиссером».
Сам он тем временем пытается «обработать» мнительного Г. В. Чичерина, заинтересовать его козловской экспедиций, и тот уже буквально на другой день «желает видеть снимки коллекций и вообще знать, во что оценены результаты Тибетской экспедиции, что по этому поводу сказали А. Н. (Ольденбург) и Г. О. (Шокальский и Комаров)». Политический фактор снова решительно вмешивается в ход событий – 17 февраля Козлов записывает в дневнике: «Л. Е. Берлин говорит (по телефону): Г. В. [Чичерин] очень интересуется Тибетской экспедицией, и нужно завтра доставить план ее дальнейших шагов». На следующий день составленный Козловым план предстоящих работ вместе с финансовым отчетом ложится на стол Г. В. Чичерину. «Тяжелый камень дипломатии», кажется, сдвинулся с места. Нарком одобрил обновленный проект исследований и дал поручение Л. М. Карахану «убедить Китай выдать пропуск и т. д.» экспедиции Козлова (по крайней мере, так об этом сообщил 21 февраля Козлову Л. Е. Берлин).
Хождения ученого между Кузнецким мостом и Лубянкой, однако, продолжаются еще целый месяц. Козлов с нетерпением ждет ответа из Пекина от Л. М. Карахана, без которого его руки все еще связаны. Согласно новому плану работа экспедиции летом 1925 г. должна быть сосредоточена в Монгольском Алтае, а лето 1926 г. Козлов собирался провести в Восточном Цайдаме – на ближайшем подступе к Тибету, где должна быть устроена стационарная база, и откуда можно будет совершать экскурсии в глубь Тибетского плато в направлении истоков р. Янцзы.
Отношение к экспедиции «наверху» постепенно меняется: Козлов становится снова нужен советскому правительству, поскольку его открытие получило широкий международный резонанс. Центр выделяет Козлову дополнительно 12 тысяч золотых рублей «для производства работ по изучению Внешней Монголии» и даже соглашается вернуть в экспедицию С. А. Глаголева!
Довольный таким исходом, Козлов 25 марта 1925 г. покинул Москву. А через несколько дней (31 марта) СНК на своем заседании подвел итоги работы Комиссии по рассмотрению отчетов Монголо-Тибетской экспедиции. Принимается решение о срочном издании результатов работы экспедиции, утверждается соглашение между Козловым и Ц. Ж. Жамцарано о передаче Учкому МНР «части археологических коллекций», но, пожалуй, самое главное – это решение об образовании при СНК СССР постоянной комиссии под председательством Н. П. Горбунова «для планомерного систематического исследования Монголии». Идея создания такой структуры всецело принадлежала руководству РАН. По мысли С. Ф. Ольденбурга, Монгольская комиссия на первых порах могла бы курировать экспедицию Козлова «в связи с отсутствием у нее лиц с полной научной квалификацией».
В начале апреля путешественник снова в Монголии. Завершив работы в окрестностях Урги, экспедиция разделилась на две партии: одна, под руководством С. А. Глаголева, направилась в Монгольский Алтай и оттуда в Хара-Хото для дополнительных раскопок и снятия плана городища; другая, которой руководил сам П. К., выступила в направлении Южного Хангая. Вырвавшись наконец-то на «светлые научные просторы Азии», Козлов стремился наверстать упущенное – вел интенсивную археологическую разведку, занимался маршрутной съемкой, пополнял ботаническую и зоологическую коллекции. Около 5 месяцев – до весны 1926 г. – его отряд находился в предгорьях Хангая. Здесь ученый затеял новые раскопки в урочище Олун-сун, где им были обнаружены развалины древнего монастыря. (Исследование мест нахождения буддийских монастырей – одна из рекомендаций С. Ф. Ольденбурга.) Заключительный этап экспедиции (весна-лето 1926 г.) – это палеонтологические раскопки вблизи реки Холт, посещение озера Орок-нор и развалин Хара-Хото в низовьях Эдзин-гола.
В целом путешествие по Южной Монголии принесло немало ценных находок, однако повторить ноин-ульский успех Козлову, увы, было не суждено.
Работа экспедиции в период 1925–1926 гг. проходила под тесной опекой РАН (С. Ф. Ольденбурга), что подчас вызывало раздражение у Козлова. «Сегодня получена бумажка от Н. П. Горбунова с копией письма С. Ф. Ольденбурга, – записывает он в дневнике в середине июня 1925 г. – Последний, так или иначе, не хочет упустить связь с Т[ибетской] экспедицией и вместо Р. Г. О-ва становится в роль опекуна. Я люблю Ольденбурга за его энергию, инициативу, за его уместные подсказы, все это хорошо, но нельзя же чересчур расписывать, что нам нужно делать, как делать и каким путем разыскивать те или другие памятники». Однако что-либо изменить в характере установившихся отношений с Центром Козлов бессилен. Осуществить свою программу до конца ему так и не удалось: основательно увязнув работой в Монголии, экспедиция уже не смогла выступить в сторону «заветного юга», в Цайдам и Тибет, несмотря на китайские паспорта, наконец-таки полученные из Пекина в ноябре 1925 г.
* * *
Такова вкратце история самой знаменитой и вместе с тем самой странной советской экспедиции 1920-х гг. Начинавшаяся в 1923 г. под флагом РГО как «Тибетская», экспедиция вернулась в Ленинград три года спустя уже как «Монгольская» (в истории науки она фигурирует под названием Монголо-Тибетской), осуществленная РГО совместно с РАН. Этой удивительной метаморфозе экспедиция Козлова обязана в равной степени как интриге ОГПУ и НКИД, так и активному вмешательству в ее планы руководителей РАН – С. Ф. Ольденбурга и В. А. Стеклова. Путешественнику не удалось выполнить первоначально поставленные перед собою задачи – исследовать истоки трех великих азиатских рек (Салуэна, Янцзы и Меконга) и посетить Лхасу, и тем не менее его путешествие, благодаря сенсационным раскопкам ноин-ульских могильников, – последний большой подарок судьбы! – в конечном счете увенчалось полным научным триумфом.
В трудной судьбе козловской экспедиции, как в зеркале, отразились многие «болевые узлы» эпохи, особенно сложный и во многом противоречивый характер взаимоотношений власти и ученого. Козлов вынужден был искать общий язык и идти на компромиссы с властными структурами, ибо только таким образом он мог реализовать свои научные амбиции. В то же время ему пришлось принять «опекунство» Академии наук и даже уступить ей часть своей славы. Но за «посягательствами» РАН на его открытия стоит вполне оправданное стремление ее руководителей, прежде всего С. Ф. Ольденбурга, поднять качественный уровень научных исследований, чем в действительности и объясняется своевольное внедрение в экспедицию Козлова академических специалистов. С другой стороны, если говорить о конфликте между РГО и РАН в начале 1923 г., то он был порожден совсем другой причиной – явными перекосами в системе государственного финансирования науки. И поэтому не случайно, что за разрешением своих разногласий и Ю. М. Шокальский, и В. А. Стеклов одновременно апеллировали к Кремлю.
В своих дневниках Козлов подчеркивает, что наука и политика – «две вещи разные», особенно для него, «искреннего любителя первой и совершенно не любящего вторую». Но жизнь не позволяет ему сделать выбор по душе, потому что наука в той или иной степени всегда связана с политикой, тем более в Советской России. И тем более, когда речь идет о научной экспедиции в столь важный в стратегическом отношении регион, как Центральная Азия. И все-таки высокие моральные качества, мужество и преданность Козлова идеалам своих великих предшественников оказались достаточно сильным противовесом давлению и интригам властей, и его «родное детище» – Монголо-Тибетская экспедиция – сумела оправдать возлагавшиеся на нее надежды и вписала еще одну славную страницу в летопись русской географической науки.

П. К. Козлов. Тибетская экспедиция Русского географического общества 1899–1901 гг.[365]
Начальнику экспедиции и его спутникам тяжело было оторваться от сердца России – Москвы, а там дальше стало легче, в особенности, когда началось настоящее путешествие.
Еще несколько минут – и караван, извиваясь лентою, двинулся к востоку. Впереди, сажен на сто, ехал я с урядником Телешовым и проводником-киргизом. В арьергарде следовал поручик Казнаков.

Впечатление первого ночлега было таково. Полюбовавшись на маралов (оленей) и на красивые виды по сторонам, члены экспедиции вернулись на бивак. Вскоре спустились на землю сумерки, и солнечный свет сменился лунным, слабо, но картинно пронизывавшим лес, под сенью которого путешественники впервые вкушали оригинальную прелесть своей привольной страннической жизни.
Лесная и пышная луговая растительность русской части Алтая по мере проникновения к востоку уступала место пустынной монгольской растительности, лето – осени, когда караван Тибетской экспедиции проходил вблизи священных гор Ихэ-богдо и Бага-богдо; в открытой долине весь день дул юго-западный ветер, стихший только ко времени погасания зари. Мороз усиливался. По темно-голубому, свободному от облаков небу сначала заискрились блестящие звезды, немного позднее показалась луна, картинно разлившая свой мягкий свет по снеговой равнине. Чем-то непостижимо великим казалась в эту ясную ночь гора Бага-богдо; ее матово-блестящие снега, поднятые на две с лишком версты относительной высоты, производили глубокое впечатление, под обаянием которого истые буддисты, говорят, просиживают ночи, погруженными в созерцание.
Праздник Рождества Христова путешественники встретили и проводили в области центральной пустыни Гоби. В сочельник наш скромный бивак, приютившийся в ущельице, казался точкой среди необъятной, погруженной в дремоту пустыни; изредка обрисуется силуэт часового, прогуливавшегося при мерцании пламени костра; тяжело вздохнет верблюд, или оригинально простонут баран и дремлющая собака, или заговорит во сне человек – вот все, что нарушало тишину здешней ночи. Немного подальше, сейчас за гребнем увала, опять дикая, безмолвная пустыня.
За Гобийской пустыней поднимаются высокие скалистые цепи Нань-шаня, темнея многочисленными ущельями. Путешественники с нетерпением ожидали справедливо прославленного Тэтунга, а вот и он сам, и давно ожидаемый монастырь Чортэнтан. Вдали, на правом берегу реки, виднелась приветливая когда-то луговая площадь, теперь же темная, взъерошенная – та самая, которая служила несколько раз местом для бивака экспедициям покойного Н. М. Пржевальского, а выше по горам тянулись густые леса, в которых столько раз охотился великий путешественник. Никогда я не забуду этого очаровательного уголка. Целый месяц мы ежедневно засыпали, убаюкиваемые монотонным гулом реки. Много, много раз манили нас к себе ее грандиозные прибрежные скалы, в особенности по вечерам, когда ничто не нарушало окрестную тишину, кроме рокота стремительных прозрачных вод реки, и когда мысль под обаянием, дикой, величественной природы воскрешала в воображении образ покойного первого исследователя, который сравнительно недавно любовался теми же прелестными видами и прислушивался к мягкому всплескиванию волн того же красавца Тэтунга.
Приближаясь затем к Цайдаму, или северной границе Тибета, мы увидели на юге, в туманной дали хребет Бурхан-Будда, протянувшийся длинным величественным валом с востока на запад. В тонкой пыльной дымке мутновато виднелись снега, еще плотно укрывавшие верхний пояс гор.
Мысль невольно перенеслась за этот порог Тибета, где исполинской скатертью развертывается высокое суровое нагорье, дающее приют оригинальным представителям животного царства. Там должна быть сосредоточена предстоявшим летом наша дальнейшая деятельность. Что ожидает нас далеко впереди? Поможет ли нам счастье так же успешно поработать в заветной стране, как это удалось сделать в Алтае и в Центральной Гоби? Вот вопросы, неотвязно стоявшие в воображении начальника экспедиции при виде убеленных природою врат Тибета.
Четырнадцатого апреля экспедиция наконец достигла хырмы [укрепления] Барун-цзасака и расположилась внутри ее глиняных стен биваком. Здесь я устроил метеорологическую станцию В этой же хырме Барун-цзасака был организован и склад коллекций, и багажа, необходимого на обратный путь экспедиции. Местный князь, мой старый знакомый, не имел возможности выразить по этому поводу какой-либо протест на том основании, что ему было предписано из Синина об оказании экспедиции полного содействия как относительно пребывания в Цайдаме, так равно и по снаряжению ее в дальнейший путь.
Тибет, высокий заветный край, послужил мне предметом исследования, когда я проник в бассейн Меконга. Здесь гребни главных хребтов и второстепенных гор лежат сравнительно недалеко от окаймляющих их рек и речек, которые по большей части заключены в глубокие ущелья или живописнейшие теснины, наполненные вечным шумом вод. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже – ель, древовидный можжевельник, ива; на дно, к берегам рек, сбегают дикий абрикос, яблони, красная и белая рябина; все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах манят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, Saussurea, мытников, камнеломок и других.
В глубоких, словно спрятанных в высоких горах ущельях водятся красивые пестрые барсы, рыси, несколько видов диких кошек, медведи и даже, нигде раньше путешественниками не замеченные, обезьяны (Macacus vestitus), живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с тибетцами.
В ясную теплую погоду в красивых уголках бассейна Меконга натуралист одновременно услаждает и взор, и слух. Свободно и гордо расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба грифы и орлы невольно приковывают глаз; пение мелких пташек, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо.
Весеннее солнце пригревало между тем сильнее и сильнее. Кустарники и травянистая растительность ожили и принарядили унылую долину Цай-дама; в воздухе, напоенном ароматом свежей растительности, целыми днями не смолкало жужжание насекомых и щебетание ласточек, витавших над хырмой. Путешественников неудержимо влекло на юг – в горы, которые в мае чаще стали открываться взору своими темно-синими ущельями.
В начале лета тибетская экспедиция посетила бассейн реки Хуан-хэ, в середине – бассейн Ян-цзы-цзяна, a в конце лета радостно вступила и в бассейн Меконга. Долго я стоял на перевале Радэб-ла и не мог налюбоваться Бар-чюским ущельем, гармонично сочетавшим в себе отвесные каменные кручи, густые леса из ели и древовидного можжевельника и темную извилистую речку, положительно тонувшую среди причудливо нависших над нею гигантских скал и цеплявшихся по ним хвойных зарослей. Даже мои монголы-спутники при виде Бар-чюского ущелья много раз повторяли: «Гадзэр сэйн байва» – что значит «место хорошее, красивое».
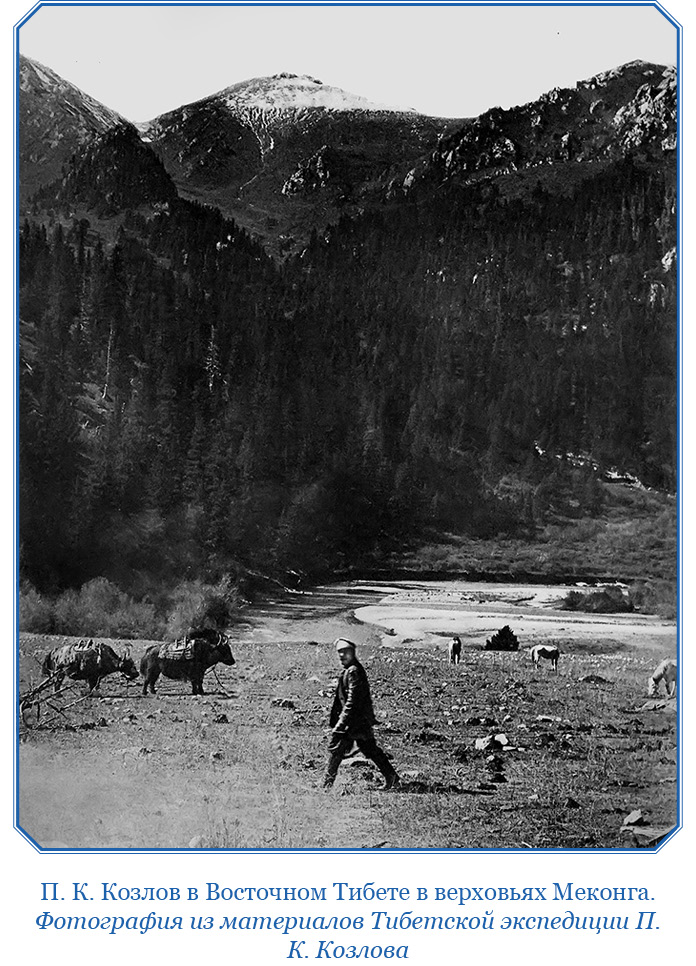
С обеих сторон ущелье запирается мрачными теснинами, а с восточной – кроме того и высоким каменным порогом, с которым Бар-чю яростно сражается, превращаясь при этом в одну сплошную массу, игравшую на солнце цветами радуги. Рев и шум Бар-чюской стремнины был в состоянии заглушить самый громкий людской голос. Обаятельной дикой прелести каскада способствовали также девственные заросли, нависшие с отвесно ниспадавших береговых стен. Это было мое любимейшее место для охотничьих экскурсий.
По целым часам я просиживал здесь, наблюдая под монотонный гул стремнины за жизнью местных пернатых. Чуть блеснут солнечные лучи по скалистым стенам ущелья и вершинам хвойных дерев, как уже просыпаются птицы и покидают места ночевок. Снежные грифы, бородатые ягнятники и орлы-беркуты дозором понеслись над вершинами гор; высоко над елями парит ястреб, которого по временам беспокоят попутно пролетавшие соколы, сарычи, галки и крикливые красноклювые клушицы; на опушке полян, в хвое, встречаются всевозможные синицы, пеночки и золотистолобый королек; изредка, стайкой, перелетали ущелье гималайские клесты и горные голуби; у прибрежных, обмытых водою корней ютился крапивничек, а по речным валунам – водяная оляпка, часто спрыгивавшая на воду.
К полудню птички становятся менее энергичными и, напившись воды, незаметно скрываются в кустарники и скалы. Пора и охотнику возвращаться к биваку. Тихо бредешь по знакомой тропинке, порою на минуту остановишься, прислушаешься и в то же время посмотришь в бинокль на ближайшие скалы. Среди тишины вдруг польются, словно из свирели, нежные тонкие звуки зеленого красавца всэре, усевшегося где-либо на бугорке подле стайки этих птиц, спустившихся к речке напиться; по мере того как умолкает одна приятная трель вблизи, за поляной раздается новая, там дальше еще и еще: мелодичные переливы звуков доверчивых всэре и замечательно нарядное их оперение часто совершенно обезоруживали меня, и я ограничивался одними прицеливаниями в этих птиц. Истый охотник-коллектор и любитель природы меня поймет
Короткие дни в глубоком ущелье Бар-чю проходили скоро, сумерки длились также непродолжительно, а за ними быстро надвигалась ночь своим темным мрачным покровом. Благодаря богатству сухих дров, люди отряда по вечерам устраивали веселые костры, подле которых путешественники частенько засиживались позднее обыкновенного, в особенности когда еще сквозь медленно плывущие облака проглядывала луна, таинственно озарявшая тихий уголок бивака и ближайшие серые скалы. Густой высокоствольный лес стоял безмолвно, словно погруженный в дремоту, и совершенную тишину ночи нарушали монотонный рокот речки да унылое гуканье филина, по временам раздававшееся в том или другом ущелье. Неприятный голос этой ночной птицы будил экспедиционную собаку и привлекал ее с лаем в свою сторону; затем, через несколько минут, недруги успокаивались, и опять наступала прежняя убаюкивающая тишина.
Подле костра разделяла компанию путешественников их общая любимица – обезьяна, которую мне подарил тибетский начальник, и которую путешественники впоследствии прозвали Мандрил. Обезьяна с первого же появления в лагере экспедиции сделалась предметом развлечения ее участников. Для этого зверька была устроена трапеция, на которой он проделывал всевозможные упражнения. Со всеми нами Мандрил скоро освоился, но привязывался только к тем, кто не допускал себе по отношению к нему злых или мальчишеских шуток; ласковое же отношение и лакомые подачки очень ценил, как равно не проявлял обиды или неудовольствия, если кто по временам наказывал на месте «преступления».
Наш свирепый пес Гарза вначале порывался уничтожить Мандрила, но, получая за каждую подобную попытку должное внушение, скоро смирился и освоился с ним, а недели две спустя оба наши спутника стали если не друзьями, то, во всяком случае, и не недругами. Гарза позволял Мандрилу безнаказанно ласкать себя за голову или навязчиво цепляться за ноги, за хвост, но только не выносил его назойливых прыжков на спину; в таком случае собака убегала от обезьяны и пряталась где-либо в кустах.
На дальнейшем пути вниз по Меконгу тибетцы неожиданно преградили дорогу и в одном подходящем для них месте пытались уничтожить экспедицию, но это предприятие стоило им порядочных потерь. Тем не менее никто не мог знать, что нас ожидало впереди. В течение всей ночи, казавшейся мне вечностью, я положительно не мог уснуть ни на минуту: мысли самого разнообразного свойства роились в моей голове. Чтобы поразнообразить и сократить время, я оставлял палатку и часами смотрел на ясное спокойное небо. Яркие звезды медленно перемещались с восточной стороны горизонта на западную, таинственные метеоры изредка озаряли известную часть небесного свода и, померкнув, беззвучно исчезали в мировом пространстве. С соседнего карниза-обрыва сурово глядел на наш бивак домик ламы-отшельника, приютившийся словно орлиное гнездо. Внизу глухо бурлила и плескалась река, по верхушкам леса порою пробегал слабый ночной ветерок. Едва своеобразная ласка природы успела навеять дремоту, как уже на востоке зажглась алая полоска зари, и лагерь пробудился.
Невдалеке за кумирней Момда-гомба мы встретили трех нарядно одетых всадников, выехавших к нам из Чамдо для ведения дипломатических переговоров в качестве представителей местной тибетской администрации. Старший из них, в звании да-лама, высокий брюнет, с черными проницательными глазами, был в темно-красных одеждах и парадной шляпе, украшенной синим шариком. Через плечо этого амдосца, подобно генеральской ленте, висела связка серебряных гау (ладанка), а в левом ухе – наградная массивная золотая серьга, художественно отделанная бирюзой и кораллами. Двое других меньших чиновников составляли его свиту.
При встрече с нами чамдосцы тотчас сошли со своих богато убранных лошадей и вежливо приветствовали нас; мы ответили тем же. Вслед затем да-лама стал просить меня не заходить в Чамдо, согласно будто бы желанию находившихся там лхасских чиновников, привезших из резиденции Далай-ламы такого рода распоряжение. Умоляюще складывая руки и устремляя глаза к небу, да-лама продолжал настоятельно просить о том же. «Пожалейте мою голову» – показывая пальцем на шею, повторял представитель чамдоской власти, и каждый раз в ожидании перевода фразы его испуганное лицо страшно бледнело. Со своей стороны я выразил да-ламе большое удивление, что чамдоская администрация решила заговорить с нами позже, нежели следовало, иначе такого сложного недоразумения не могло произойти.
Во всяком случае, поступок тибетцев, действовавших по наущению главы великого монастыря и окрестных ему кумирен, переполненных монахами, послужит большим укором совести для того, кто благословил воинов поднять против нас оружие, и кто теперь, потеряв голову, командировал его к нам для улаживания этого неприятного дела. На мои доводы хитрый чиновник ничего не ответил и, чтобы не дать прочесть выражения своего лица, низко склонил голову. После этого я предложил чиновнику проследовать вниз по долине реки до места бивака, где можно будет обстоятельнее выяснить этот тяжелый вопрос.

Второго ноября (1900 г.) экспедиция вновь поднялась на хребет Вудвиль Рокхиля в восточной, еще более величественной его части, где перевал Мо-ла открывает бесконечный лабиринт гор по всем направлениям. Командующими, блестящими на солнце вершинами того же Рокхильского хребта были снеговые вершины Моди и Зачжи, на которые, по словам нашего чамдосца-спутника, старейшие ламы их богатого монастыря часто обращают взоры, так как при созерцании последних «чистых» ступеней земного мира человек в состоянии скорее отрешиться от житейской суеты и приблизиться к познанию нирваны. Гребни гор по большей части состояли из обнаженных серых скал, бока же их в это осеннее время темнели зарослями леса, среди которого змейками извивались серебряные ленты многочисленных ручьев и речек, с шумом низвергавшихся в долину.
Многоводный Меконг стремительно несется по широкому галечному руслу, обставленному высокими берегами. Его зеленовато-голубые волны пестрят барашками, разбивающимися на порогах в мельчайшую водяную пыль, создающую на солнце очаровательную радугу. Местами же Меконг катится величаво-спокойно и представляет собою стальную или зеркальную гладь, красиво отражающую прилежащие скалы и леса.
С Меконга мы поднялись на крутой выступ массива, с вершины которого я в последний раз любовался этой могучей рекой, ее меридиональной долиной, по дну которой темно-голубой блестящей лентой извивался многоводный данник Южно-Китайского моря. В северной части горизонта теснились угрюмые скалы, на юге река терялась в гигантских каменных воротах, за которыми в синеющей дали, словно облака, граничили с голубой полоской неба восточная окраина Рокхильского хребта и вершины более отдаленных далайламских гор. Ближайший к нам сонм боковых скалистых отрогов темнел многочисленными складками сплошной заросли хвойного леса, ручьи и маленькие речки терялись на дне глубоких оврагов или второстепенных ущелий. У прибрежных террасовидных полян группировались серые домики тибетцев.
В одном из селений лхадоского округа – Лунток-ндо – путешественники прожили три зимних месяца. Это селение отстоит от Чамдо к северо-востоку верстах в сорока, будучи обставлено со всех сторон горами, разрываемыми речкой Рэ-чю. В доме, занятом экспедицией только наполовину, в его верхнем этаже, прежние его обитатели вначале было перепугались и разбрелись по соседям, но вскоре, убедившись, что им худого ничего не причинят, возвратились и группировались в нижнем этаже.
Ровная площадка, находившаяся выше дома, занятого экспедицией, сослужила хорошую службу для установки астрономических инструментов и производства определения географических координат этого пункта. Вставали мы на зимовке также сравнительно рано – конвой около шести часов, а мы, члены экспедиции, около семи, ко времени утреннего метеорологического наблюдения. После чаепития каждый принимался за свое дело.
Наши минуты досуга по-прежнему разделял Мандрил, который, по мере надвигания весеннего тепла чаще и чаще отпускался на свободу. Забравшись на соседнее к экспедиционному дому дерево, ловкий зверек подолгу проводил там время в удивительных прыжках с ветви на ветвь, нередко в погонях за пристававшими к нему воронами. Соображая о будущем своего невольного спутника, я попытался было его пристроить одному из местных тибетцев, но Мандрил на пятый день вновь прибежал в наш лагерь и в таком жалком, несчастном виде, что у всех нас вызвал глубокое сожаление, усилившееся под впечатлением той радости, которую проявил бедный зверек при виде всех нас: в глазах и движениях обезьяны нельзя было не видеть выражения просьбы не покидать ее. Пробовал я также отпускать Мандрила в стадо его диких собратий, но ничего хорошего не вышло: наш зверек получил несколько пощечин, которыми его щедро наделили дикие обезьяны. После того мы решили больше не расставаться с Мандрилом.
Общая характеристика местных обитателей напоминает таковую тибетцев. При встрече с почетными ламами или чиновниками лхадосцы заранее слезают с лошадей, а при еще большем приближении приседают и одновременно с приседанием высовывают язык, часто оттягивая правою рукою соответствующую щеку, а затем произносят «дэму» или «тэму», равносильное нашему «здравствуй». В разговоре со старшими лицами простолюдины молчаливо и почтительно стоят и только изредка одобрительно кивают головой и покорно повторяют «лаксу, лаксу», т. е. «да-да», даже выслушивая жестокий приговор над собою. В знак одобрения тибетцы поднимают вверх большой палец, тогда как поднятый мизинец определяет собою низшее качество; промежуточные же пальцы указывают на соответствующую их расположению степень; два больших или два малых пальца, поднятых или выставленных одновременно, выражают или высшую похвалу, или крайнее порицание. Как и у других обитателей Тибета, у лхадосцев принято встречать и провожать гостей до лошади. О всяком постороннем или чужом человеке, направляющемся в дом тибетца или проходящем мимо, но вблизи жилища, вовремя дают знать своим неистовым лаем злые собаки.
От множества различных бус, янтарей и раковин, от связок ключей, нацепленных на женщин или девушек, от своеобразных звуков, издаваемых всем этим убранством во время движения, лхадоскам положительно невозможно пройти незамеченными. Лхадоски большие любительницы всевозможных женских украшений и нарядов; они норовят заманить продавца с подобными товарами поближе к своему дому, чтобы тем самым скорее дать понять мужьям или отцам о представляющемся случае исполнить обещание, данное ими когда-то купить ту или иную вещь на зависть гордых соседок.

Праздник Рождества Христова и первый день нового двадцатого столетия экспедиция отметила некоторой торжественностью, так как у нас все еще существовали предметы роскоши: сардины, консервированное молоко и кофе, всевозможные леденцы, коньяк, ликеры, сигары и пр., – тщательно сберегаемые про такие исключительные праздники или другие дни, чем-либо знаменательные в нашем далеком и продолжительном странствовании.
Надо, однако, заметить, что по части «питий» экспедиция располагала на весь тридцатимесячный срок путешествия за границей всего лишь двадцатью бутылками и полубутылками коньяка и ликеров, причем из этого скромного запаса три бутылки целиком были подарены именитым туземцам, кроме того, значительная часть коньяка пошла им в виде обычного угощения; из остального же запаса, служившего достоянием всего персонала экспедиции, мы еще сохранили по бутылке коньяка и ликера под названием «заветные» до вступления на родную землю. Этими словами я хочу сказать, что так называемые горячительные напитки в нашей экспедиции представляли скорее лекарственное средство, нежели тот «необходимый повседневный предмет», в какой их возводят другие путешественники.
Правда, пьющие нижние чины получали отдельную «чарку» водки, которую мы фабриковали сами, на месте, из восьмиведерного запаса спирта, везомого специально для коллектирования рыб, змей, ящериц, мелких грызунов и других образцов зоологических сборов. Непьющие же чины конвоя, а таких было несколько, человек, взамен водки получали лишнюю порцию сахару или леденцов, обыкновенно экономно расходуемых ими вместе с кирпичным чаем – единственным напитком, на который мы не скупились несмотря ни на какую его дороговизну. Сардины и сласти – эти «вкусные заедочки и усладеньки», выражаясь словами незабвенного Пржевальского, также получали и нижние чины и почти в той же мере, какая полагалась и по отношению к любому из главных членов экспедиции, не позволявших себе никакого излишка и комфорта, наоборот, с первого дня путешествия с караваном расставшихся с привычками цивилизованной обстановки, до спанья на кроватях или койках включительно: все члены экспедиции спали прямо на земле, лишь подостлав под себя войлок. Короче – мы жили братьями.
Такие исключительные праздники или например вступление экспедиции на нагорье Тибета, в бассейн Ян-цзы-цзяна или Меконга, добычу новых форм млекопитающих и птиц мы ознаменовывали тем, что наш однообразный суп сменялся вкусным пловом и помянутыми заедочками и усладеньками, которые мы делили с детской наивностью и простотою. В подобные минуты, сидя за чашкой чая, мы считали себя, положительно, счастливейшими из людей, в особенности если к тому же еще выпадали на нашу долю такие чарующие уголки, на какие не один раз указывалось мною выше.
Двадцатого февраля (1901 г.), с первыми проблесками весны на Меконге, экспедиция снялась лагерем и направилась в обратный путь – к родине. Между долинами рек Меконга и Ян-цзы-цзяна вставал грандиозный хребет, названный мною хребет Русского географического общества; при пересечении двух снеговых цепей этого хребта участники экспедиции натерпелись немало, так как в области верхнего пояса и перевалов, поднятых до 16 600 футов над морем, бушевали снежные штормы.
Особенно дикое и подавляющее впечатление производят горы в тесном промежутке между двумя высокими цепями хребта, где небольшая по протяжению, но многоводная речка Бар-чю[366] с крутым падением и бешеным стремлением вод, ведет борьбу со скалами и порогами, нагроможденными в хаотическом беспорядке в теснине северной цепи, не представляющей никакой возможности для движения каравана. Бешеная речка Бар-чю, словно стальная змея, разрывает передовые горы, шумно клокочет и пенится на дне темной расщелины и далее по направлению к долине Ян-цзы-цзяна.
Не менее дика и величественна картина вообще в верхнем поясе этого хребта, обильного мощными скалами и высокоствольными хвойными лесами, нередко сочетающимися в своеобразную прелесть. Множество высоких и низких, пустых и разреженных кустарников лепится там и сям, по карнизам и сопкообразным выступам отрогов, или поднимается по крутизнам, изрезанным каменными руслами, местами прерываемыми шумными каскадами.
В середине, между цепями хребта, в урочище Бачам-да экспедиции пришлось устроить невольную дневку, так как в течение ночи с пятого на шестое марта выпал снег глубиною до фута, и по временам проглядывавшее сквозь туман солнце болезненно ослепляло глаза, не давая возможности без сетчатых очков ступить шагу или хоть на минуту покинуть палатку.
Эта же стоянка еще более омрачилась для нас гибелью на только что пройденном перевале нашего спутника Мандрила, умершего под тяжелым вьюком, свалившимся на него вместе с быком, одновременно везшим и несчастного Мандрила. Сознаюсь, что мне лично очень тяжело было перенести смерть обезьяны, по-детски привязавшейся к нам и отлично знавшей каждого из участников экспедиции. Гренадеры, вооружившись лопатами, вырыли яму на красивом горном скате вблизи звонкой и прозрачной речки. Холодный трупик нашего любимца был бережно опущен и засыпан землей, поверх которой мы соорудили из камней пирамидку.
В долине Ян-цзы-цзяна тибетскую экспедицию догнал лхасский отряд всадников, во главе с двумя чиновниками, командированными Далай-ламой лля ведения переговоров с начальником экспедиции. Послы решились прибыть в русский лагерь и начать с путешественниками переговоры лишь после того, как убедились в том, что они видят перед собою действительно русскую экспедицию.
В течение недельного совместного пребывания на берегах Ян-цзы-цзяна мы хорошо познакомились с лхасцами. В беседах с ними нам удалось расспросить этих лиц о Тибете вообще и о Лхасе и ее главном представителе в частности. Благодаря их же содействию экспедиции посчастливилось на дальнейшем пути еще более расширить свои географические исследования. Дружески обменявшись приветствиями, сфотографировав послов, одарив их и передав от Русского географического общества подарки для Далай-ламы, мы приятельски расстались с лхасскими чиновниками. Со своей стороны послы вручили экспедиции более нежели скромные подарки, заключавшие в себе «дары местной природы».
Дальнейший путь экспедиции проходил в более доступной местности и первое время по большой торговой дороге, ведущей в Хор-Гамдзэ. Изредка встречались приветливые уголки с лесною зарослью, где наши путешественники устраивали охоты-облавы.
Первая наша охота загоном была устроена вечером, вторая – ранним утром, когда чаще случается хорошая погода. Мы вовремя успели обойти лес и занять свои знакомые места. Воздух был тих и прозрачен. Небо из темно-синего постепенно переходило в более нарядный и живой ярко-синий оттенок; позднее от южных высоких гор стали отделяться тонкие облачка и медленно нестись в нашу сторону; там, в вышине среди облачков, в лазоревых пространствах мелькали точками снежные грифы и бородатые ягнятники; здесь, внизу, вдоль святой горы быстро с шумом пролетела пара благородных соколов и беркут, осиротевший накануне; первые птицы, вероятно, не терпели соседства орла, ожесточенно нападая на него с разных сторон, но гордый сильный хищник спокойно следовал вперед и лишь порою опрокидывался спиною вниз или проделывал другие эволюции. По удалении орла соколы на свободе занялись любовною игрою, спиралью поднимаясь ввысь, в которой и скрылись совершенно.
Рядом в лесу перелетали мелкие птички, одни молчаливо, другие, наоборот, со звонкой веселой трелью. В восточном направлении открывалась долина, по которой змеилась речка, блестевшая ледяной поверхностью. На севере, по луговым откосам гор, пестрели стойбища тибетцев-скотоводов. В бинокль отлично было видно, как женщины возились с барашками, отнимая их от матерей, спешивших к удалявшимся стадам. Окрест святой горы паслись наши караванные животные. На юге ослепительной белизной сияли и искрились снега Дэргэского хребта. Стоя на своем номере в ожидании загонщиков, пригреваемый теплым весенним солнышком, я невольно восхищался величием окружавшей меня природы.
Между тем голоса загонщиков сделались более громкими; надо стоять настороже, зорко смотреть и напряженно вслушиваться. В гущине леса что-то подозрительно треснуло, и все внимание охотника направлено к месту звука, затем опять тишина и томительное ожидание; подле испуганно промелькнула синица, за нею краснохвостка, в высоких ветвях переместился дятел, а пониже, в кустарниковой чаще, затрещал дрозд, выдавший присутствие зайца, быстро вынесшегося к соседней опушке леса; вдруг грянул выстрел, красивым эхом откликнувшийся в хвойном лесу, ветер пахнул дымом, и все стихло. Охота кончилась.
Вскоре после этого экспедиция оставила сычуаньскую дорогу и постепенно склонилась своим курсом на север – северо-запад, следуя вверх по Я-лун-цзяну, левому притоку Голубой реки. В этом углу Кама обитают более воинственные кочевники, которые с первых дней встречи с путешественниками стали проявлять разбойничий задор. Предчувствуя недоброе, путешественники перешли на военное положение: наполнили свои сумки патронами, усилили ночные дежурства и спали не раздеваясь. Во время движения каравана высылались дозоры, обнаруживавшие сторожевые отряды тибетцев. Наконец стало ясно, что экспедиция вновь «заперта», что ей предстоит во что бы то ни стало пробиваться силою.
Тихая полуденая ночь прошла довольно спокойно, как равно и слегка морозное раннее утро двадцать пятого апреля, когда экспедиционный караван медленно, но в то же время и бодро двигался вверх по Гэ-чю, держась сосредоточенно. Мелодичное пение соловья долго не прерывалось, между тем солнце уже осветило вершины соседних гор, тонкоперистые облачка медленно плыли к востоку, сбиваясь в сплошную пелену, тогда как на западе небосклон прояснялся все больше и больше. Сдержанный людской голос давал понять, что отряд глубоко проникнут предстоявшим событием. Все внимательно следили за соседними горами, но всего больше, разумеется, за той частью гребня, где расположился неприятель.
Наконец, показался и он сам; почти одновременно на трех соседних плоских вершинах Биму-ла заволновались тибетцы в развернутом конном строю. Громкие голоса местных воинов, мастерски выводивших своеобразные трели, слились в общий дикий концерт, нарушивший тишину утра в горах. Минут через пять голоса тибетцев смолкли, затем повторились еще и еще. Мы продолжали двигаться до подошвы главного ската перевала, отстоявшего своей вершиной на расстоянии одной версты, где временно остановились, чтобы подтянуть потуже подпруги, самим полегче одеться и еще раз осмотреть оружие. Тем временем на гребне северной цепи гор показалась партия человек в двадцать пять других тибетцев, оставшихся для нас неизвестными. Число же лингузцев простиралось от двухсот пятидесяти до трехсот человек. На сей раз наши недруги покрикивали или одновременно с двух сторон, или же поочередно, словно переговариваясь о чем-то.
Так как между нами и лингузцами на первом уступе гор залетали скалистые обнажения, за которым могла находиться неприятельская засада, то я, приказав каравану осмотрительно двигаться на перевал, сам с А. Н. Казнаковым и Бадмажаповым, постоянно при мне находившимся, поехал налегке вперед с целью возможно скорее обогнуть каменистую преграду. К нашему благополучию лингузцы не воспользовались этим естественным передовым укреплением, и мы, миновав его, были снова на открытом луговом скате, обеспечивавшем свободное движение каравана.
Едва мы показались здесь, как тибетцы еще грознее завопили на всевозможные лады и тотчас же, несмотря на довольно большую для их ружей дистанцию – в шестьсот шагов, одновременно с трех вершин открыли огонь из своих фитильных ружей. Благодаря их командующему положению тибетские пули по инерции долетали до цели, шумя и свистя то тут, то там. Как уже говорено было выше, стычку пришлось вести на высоте около 15 000 футов над морем, где разреженный воздух давал себя чувствовать даже и привычным организмам. По мере нашего приближения к перевалу и по мере того, как наша боевая линия усиливалась людьми, прибывавшими от каравана, а следовательно, усиливался и наш огонь, тибетская пальба стихала; разбойники показывали одни лишь головы; еще же через полчаса или час, когда мы уже в числе десяти человек благополучно поднялись на гребень, последний был свободен. Разбойники со страхом, подобно горному потоку, бежали по крутым ущельям на юг по направлению к Я-лун-цзяну
Тем временем караван подтянулся на перевал, и я поздравил некоторых из своих молодцов-спутников младшими или старшими унтер-офицерами и урядниками. Роли теперь переменились: мы стояли на вершине гребня и спокойно завтракали там, где только что находились наши недруги, заготовившие большое количество дров и льда.
Проучив и этих разбойников, путешественники в дальнейшем чувствовали себя вполне удовлетворительно. Теперь они выходили на нагорье, на простор, где могли лучше применить свое прекрасное вооружение и еще успешнее гарантировать безопасность. Встречные дзачюкавасцы и литанцы по отношению к экспедиции бььли очень сдержанны; здесь о стычке были осведомлены. Путешественники располагали тремя проводниками, в сообществе с которыми удачно вышли на прямую разбойничью дорогу, ведущую на озеро Русское.
На всем нашем пути по безлюдному нагорью, но в особенности в районе бассейна речки Сэрг-чю, нам ежедневно приходилось наблюдать от пяти-шести до десяти-двенадцати и более медведей, промышлявших то поодиночке, то большей частью по два, по три, а однажды пришлось видеть четырех взрослых пищухоедов, бродивших тесной компанией. В открытой долине Сэрг-чю, где среди шириков залегают в виде островков глинистые возвышения, населенные пищухами, мы насчитывали с одного наблюдательного пункта до десятка медведей: там, невдалеке, резвится медведица с двумя детенышами, здесь двое взрослых зверей отдыхают, греясь на солнце, вдоль соседнего ручья пробираются разрозненной компанией три медведя, к одному из которых, самому крупному, подходят двое из наших охотников и т. д. Обилию медведей в Тибете, конечно, способствует и то обстоятельство, что туземцы их не стреляют, за исключением охотников, желающих воспользоваться шкурой как ковром или подстилкой во время охотничьих экскурсий за травоядными. Что же касается нашей экспедиции, то мы, наоборот, редко упускали случай, чтобы не поохотиться на этого зверя. Всеми нами в общей сложности за две весны было убито до сорока медведей, из которых пятнадцать пришлось на мою долю.
Охота на медведей здесь в Тибете производится «в открытую», если можно так выразиться. Действительно, заметив медведя еще издали, охотник смело идет к нему поближе, затем начинает рассматривать и сообразоваться, с какой бы из сторон всего удобнее к нему подкрасться, т. е. приблизить на выстрел незамеченным, считаясь с отличной способностью медведя далеко чуять по ветру. Зрение же у этого зверя сравнительно слабое. Всего удобнее подходить к медведю в то время, когда он занят ловлей пищух или предается отдыху, и наименее подходящее время, когда зверь направляется скорым «ходом», будучи напуган. Если же медведь спокойно разрывает грызунов, то обыкновенно норовят идти к нему ускоренно, останавливаясь во время поворотов зверя в сторону охотника. Если на пути к медведю имеются хотя мало-мальские прикрытия, то нетрудно приблизиться к цели на сотню шагов, а то и ближе. Подойдя к зверю, охотник с колена или лежа стреляет в медведя. В большинстве случаев опытный охотник и умелый стрелок одним, двумя, самое большее – тремя выстрелами из обыкновенной трехлинейной винтовки уложит зверя.
Из многочисленных охот на медведей, веденных мною и моими спутниками в последнюю весну в Тибете, я остановлюсь на одной из них. Мы успели сделать переход и расположиться лагерем в глубокой, узкой долине, окаймленной луговыми скатами. Некоторые из людей отряда отправились на охоту, я же прилег вздремнуть, как вдруг слышу голос тибетца Болу: «Пэмбу, джему эджери!», т. е. «Господин, медведь идет!» Действительно, стоило мне только приподняться, как я уже увидел медведя, медленно шедшего по косогору. Зверь, по-видимому, не обращал внимания на наш бивак. Недолго думая, я взял свою винтовку, вложил в нее все пять патронов – два разрывных и три обыкновенных – и направился на пересечение пути медведя. Однако высота около 15 000 футов над морем дает себя чувствовать: горло пересыхает, ноги подкашиваются, сердце учащенно бьется. Садишься. Невольно смотришь в сторону медведя и не спускаешь с него глаз; мишка по-прежнему то движется вперед, то разрывает землю. Опять идешь; солнце пригревает, ветер освежает. Наконец, зайдя навстречу зверю, я прилег за бугорком. Жду. Медведя нет и нет.
Я осторожно приподнялся, тревожное сомнение охотника исчезло: медведь невдалеке прилег. Ползком продвинувшись десятка два шагов, я достиг второго бугорка. В бинокль отлично было видно, как ветерок колышет длинную блестящую шерсть медведя; кругом тихо, спокойно; могучие пернатые хищники зачуяли добычу и кружат на фоне неба; наш бивак словно замер: внимание всех приковано к медведю и охотнику. Раздался выстрел, медведь сердито зарычал и тяжело приподнялся на ноги; глухо щелкнула вторая нуля – зверь грузно свалился наземь. Не меняя положения, я взглянул в бинокль: медведь лежал не шевелясь. Встаю и направляюсь к обрыву, находившемуся от меня шагах в двухстах, поодаль от медведя, чтобы оттуда взглянуть по сторонам.
Тем временем двое операторов-казаков уже покинули бивак и шли к медведю. Подойдя к обрыву, я от усталости невольно тяжело вздохнул, медведь вскочил, словно ужаленный, потряс своей мохнатой головой и со страшной стремительностью направился ко мне, неистово рыча и фыркая. Подпустив разъяренного медведя шагов до десяти, я выстрелом в грудь свалил его; зверь кубарем, через голову, свалился вниз. Последний решающий момент, когда озлобленный мишка несся с окровавленной пастью, надолго запечатлелся в моей памяти: в нем, в этом моменте, и заключалось то особенное чувство, которое так дорого и привлекательно охотнику.
Вскоре затем экспедиция поднялась на вершину невысокого безымянного перевала, откуда действительно могла радостно приветствовать голубую зеркальную поверхность знакомого бассейна озера Русского. Почти год минул с тех пор, как мы его покинули с запада, теперь же вблизи находился его юго-восточный край, манивший нас своею мягкой лазурью. В северной дали вырисовывался силуэт хребта Амнэн-кора, белоснежные вершины которого сливались с облаками. Целые полчаса я простоял на перевале, любуясь видами в ту и другую сторону. Южный горизонт будил воспоминания о красоте и богатстве природы Кама, северный радовал счастливым достижением конца нашей главной тибетской задачи. Пропустив весь караван мимо себя, мне приятно было прочесть на лицах моих спутников удовольствие и радость. Еще час-другой, и наш бивак уже красовался на возвышенном берегу, о который гулко ударялись высокие, прозрачные озерные волны.
Между тем нетерпение экспедиции попасть в Цайдам росло с каждым днем. Все участники ее невольно всматривались в ту часть хребта Бурхан-Будда, откуда мог и должен был показаться цайдамский отшельник Иванов. Иванов был обнаружен в ожидаемый день и в намеченном направлении. Приезд Иванова оживил весь бивак. Пошли опросы и расспросы. Прежде всего цайдамский отшельник порадовал начальника экспедиции докладом о хорошем состоянии склада, а затем вручением почты – первой со времени двухлетнего странствования, если не считать десятка писем, полученных пятнадцать месяцев тому назад в Синине. Один из членов экспедиции справедливо заметил, что Иванов, приехавший на прекрасной откормленной лошади в нарядном кителе с разодетым цайдамским монголом, составил полный контраст по отношению даже к членам экспедиции, не говоря уже про конвой, – так обносились участники тибетской экскурсии. Лица их вполне гармонировали с потрепанным одеянием.

Спустя некоторое время Иванов более спокойно рассказывал о своем житье-бытье в Цайдаме. Самым великим лишением, говорил он, для всех их (четырех человек) составляло неполучение прямых сведений об экспедиции; те же нелепые рассказы, которые передавались богомольцами или другими странниками-туземцами, их не только не удовлетворяли, но еще пуще огорчали; некоторому сомнению в благополучии экспедиции способствовали позднейшие толки, приходившие из разных мест Тибета и согласовавшиеся между собою, о гибели экспедиции, но они твердо верили, что этого не могло случиться, хотя и допускали возможность утраты кого-либо из персонала экспедиции, но не всей экспедиции
До поздней ночи отряд не ложился спать; да и в постелях долго еще можно было слышать мягкие голоса путников, мирно беседовавших о своей родине: по-видимому, у всех на душе было легко, хорошо. К тому же ночь стояла превосходная: тихая, ясная, свод неба был унизан звездами и серпом молодой луны.
Китайцы-переводчики, командированные сининским цин-цаем с пакетами в экспедицию, долго не верили собственным глазам, что нашли всех путешественников живыми. В Синине были уверены, что русская экспедиция погибла, и что начальнику края придется ответить за беспечность.
В конце августа экспедиция вступила в Синин. У западной крепостной башни, превосходно выложенной из серого камня, мы переправились через быструю, довольно многоводную речку и вошли арочным входом в город. Несколько солдат, стоявших на башне, бессмысленно глядели из-за бойниц в нашу сторону. Но зато большое любопытство было сосредоточено на нас при вступлении в узкие многолюдные торговые улицы, где тотчас образовалась толпа досужих зевак, последовавших за нами. У купцов, сидевших за прилавками магазинов, вытягивались физиономии, и они на время забывали свое дело; многие почему-то громогласно считали нас по головам, не стесняясь указывать пальцем. Мальчишки забегали вперед, толпились, сбивали друг друга с ног и задерживали встречных; упрямые ослики становились поперек дороги, громко орали, заставляя спрыгивать седоков, – словом, обычная городская картина, наблюдая которую мы незаметным образом прибыли к торговому дому Цань-тай-мао.
После некоторого смущения и нерешительности приказчики открыли ворота и впустили во двор моих людей и лошадей, я же с Ладыгиным прошел через магазин в помещение купцов, которые заранее отвели для нас две комнаты. Сопровождавший нас купец шепнул на ухо моему сотруднику, что он и его ближайшие товарищи опасаются за нашу безопасность: «Толпа возбуждена, страсти ее могут возгореться при малейшей нетактичности с вашей стороны: ведь народ не может забыть, что вы – европейцы – принудили богдо хана оставить столицу и бежать чуть не пешком внутрь страны». Позднее, вечернее время заставило зевак скоро разойтись, а наших купцов успокоиться и приготовить для нас ужин, а затем оставить нас в покое.
Наутро, приведя себя в порядок, мы отправились с визитом, о чем В. Ф. Ладыгин уже успел предупредить цин-цая и других главных должностных лиц Синина. Средством передвижения я избрал китайскую закрытую тележку, внутри которой мне можно было спрятаться от любопытных глаз; снаружи же усаживался В. Ф. Ладыгин. Первый, к которому мы поехали с визитом, был цин-цай Бань-ши-да-чень, бывший сылан инородческого приказа, родом маньчжур – Ко-пу-тун-и. Невысокого роста, коренастый, округлый, с небольшими темными глазами и здоровым лицом, он производил хорошее впечатление.
После обычных приветствий цин-цай утонченно поблагодарил за подарок, а затем с улыбкой начал выражать свой восторг по поводу моего благополучного возвращения из Тибета: «Вы такой жизнерадостный, энергичный, счастливый, что, глядя на вас, сам молодеешь душою; я отчасти могу представить себе те невзгоды, трудности и лишения, какие вы переносили непрерывно в течение двух с лишком лет; вы вышли из всего победителем и привезли с собой научные драгоценности, и как теперь я искренно рад, что вы вернулись здравыми и невредимыми. В ваше отсутствие я получил несколько депеш, одна тревожнее другой; и в России, и в Китае считали вашу экспедицию погибшей. По возвращении же моих посланных из Цайдама, доставивших мне отрадное известие, я тотчас телеграфировал о том в Пекин.
В настоящее время, вероятно, и ваша родина радуется за ваше благополучное странствование и смело надеется на таковое же возвращение». Далее разговор перешел к самому путешествию; цин-цай очень интересовался восточным Тибетом и племенами, его населяющими. Со своей стороны я коснулся было современной политики Китая по отношению к европейским государствам, но, как и следовало ожидать, Бань-ши-да-чень искусно перешел на другую тему: «Вас, вероятно, ожидают в России почетные награды!» Поблагодарив цин-цая еще раз за его предупредительность и любезность, много раз проявленные как к экспедиции, так и ко мне лично, я отправился к дао-таю, или губернатору. Во дворе и за двором меня сопровождала многочисленная толпа, державшая себя крайне прилично.
Дао-тай тоже маньчжур, переведен в Синин из Кульчжи, где занимал подобную же должность. Представительный, молодцеватый дао-тай тем не менее выглядел крайне опечаленным; причиной этой печали, по признанию самого хозяина, было то, что у него в Пекине во время разгрома без вести пропала шестнадцатилетняя красавица дочь. Справившись с собой, дао-тай стал забрасывать меня вопросами о путешествии, о диких племенах Тибета, о наших с ними стычках; между прочим, его занимали и такого рода вопросы: много ли осталось в Тибете мест еще не исследованных, доволен ли я сам географическими новостями и всякого рода научными коллекциями, собранными экспедицией, скоро ли я отправлюсь в новое путешествие и многие другие в этом роде.
В заключение, губернатор заметил: «Слава богу, что вы возвратились с честью и со славой; и ваше и наше государства гордятся подобными людьми, а все-таки в будущем избегайте таких диких мест». Во время продолжительного разговора за неизменным чаем любезный дао-тай извинялся, что не может нас угостить шампанским, которое он любит и к которому его приучили в Кульчже русские знакомые. Затем он предложил моему сотруднику коробочку папирос; видя, что тот с жадностью набросился на них и стал уничтожать одну папиросу за другой, он принес еще несколько коробочек и принудил Ладыгина, долго не курившего хорошего табаку, взять и эти. Сам хозяин от времени до времени покуривал из китайского кальяна, художественно отделанного разноцветной эмалью в соединении с бирюзой и бронзой.
В приемной губернатора, как и в приемной цин-цая, стоял его многочисленный двор: адъютанты, чиновники, различные низшие служащие и обыкновенная публика; впрочем, последняя и большинство низших служащих помещались главным образом во дворе. Со двора же в бумажные отверстия окон смотрело также немало глаз женщин из семьи дао-тая и доносился их мягкий, приятный голос.
Расставшись с дао-таем, мы через четверть часа были у чжэнь-тая – командующего войсками области. По слухам, чжэнь-тай состоял видным членом антиевропейского общества «гэлаохуй», что не мешало ему быть по отношению к нам не только корректным, но даже изысканно вежливым и гостеприимным. Несмотря на свои немолодые годы, чжэнь-тай выглядел очень хорошо: держался ровно, ходил скоро. Громкий голос и величавая осанка изобличали в нем настоящего командира. После того как мы поприветствовали друг друга, командующий войсками поинтересовался знать, к какой я принадлежу национальности; последующий же разговор был приблизительно тот же, что и прежде.
Перед отъездом чжэнь-тай пригласил нас к себе на послезавтра на обед.
Впереди предстояло еще два визита к младшим лицам местной администрации, заехав к которым мы поспешили домой; признаться, я сильно устал в необычайной обстановке и по приезде к себе на квартиру тотчас сбросил парадное одеяние, облекся в летнюю тужурку и вышел во двор подышать воздухом. Двор наших хозяев отличался опрятностью, значительная его часть имела досчатую настилку; у одной из сторон двора красовались клумбы свежей зелени и ярких цветов. Огромный пес лениво лаял с верхней галереи, откуда он спускался по ночам вниз для несения сторожевой службы. На крыше дома резвилось множество голубей, одни взвивались и улетали, другие, съежившись в комочек, сидели неподвижно, третьи громко ворковали, два же самых красивых голубя так озлобленно дрались, что не заметили, как их общий враг – кошка, стремительно бросившись, схватила одного из них и чуть-чуть не задушила, если бы вовремя не подоспел меткий удар, заставивший кошку моментально бросить голубя и бежать без оглядки. Освобожденный голубь вспорхнул и полетел, оставив за собой немало перьев, медленно падавших на землю.
На следующий день я принимал у себя сининских представителей; старшие из них жаловали ко мне в паланкинах, младшие приезжали в тележках или просто верхом на отличных иноходцах, убранных богатыми седлами. Каждого из китайских чиновников сопровождала более или менее многочисленная свита, имевшая в хвосте немало праздных добровольцев. В общем разговор был тот же, что и вчера, с незначительным лишь дополнением, касающимся жизни самих чиновников на этой окраине.
Накануне оставления Синина в два часа дня мы отправились на званый обед к чжэнь-таю. Толпа, ориентировавшаяся по извозчику, заблаговременно собралась сопровождать наш экипаж, но, как и прежде, она была крайне сдержанна: за все время мы ни разу не слышали в наш адрес ее обычного в таких случаях эпитета: ян-гуйцзе, т. е. «заморский дьявол». Подъехав к дому чжэнь-тая и миновав его первые двое ворот, мы вышли из тряской тележки и последовали пешком в третьи ворота, за которыми уже увидели предупредительного чжэнь-тая, окруженного блестящей свитой. После приветственных рукопожатий мы направились в тесной компании под звуки китайского оркестра в большую открытую с боков столовую, расположенную напротив домашнего театра.
В столовой мы были представлены четырем сослуживцам командующего войсками, принимавшим участие в званом обеде. Большой круглый стол был уже уставлен всевозможными, исключительно китайскими яствами, помещавшимися в многочисленных – больших и малых, высоких и низких – чашечках. Хозяин дома сделал знак гостям приблизиться к отдельному столу с закуской. Приглашенная компания чинно повиновалась, и каждый из гостей, взяв по маленькому блюдечку сладкого, принялся кушать, затем сели за обеденный стол; мне было отведено почетное место во главе стола, прочие гости разместились согласно их служебному рангу, и, наконец, сам хозяин занял стул, стоявший несколько поодаль от прочих, не имея у себя визави.
Первая часть обеда длилась около двух часов; сколько подавалось блюд, трудно сказать, но думаю, что около тридцати или сорока. После каждого блюда хозяин дома поднимал маленькую фарфоровую чарочку, наполненную подогретым вином, и, обводя глазами гостей, призывал их то же самое сделать, чтобы одновременно всем осушить чарочки. Большинство блюд были очень вкусными, как и вообще обед, и с китайской точки зрения, по заключению В. Ф. Ладыгина, не оставлял желать ничего лучшего, хотя, конечно, чжэнь-тай извинялся за «скромное» содержание блюд, ссылаясь на отдаленность приморских городов, в которых только и можно достать тонкие гастрономические принадлежности китайской кухни.
Не только гости китайцы, но и я с своим сотрудником были усердно заняты едой, во время которой вообще у китайцев не принято много разговаривать; по выходе же из-за стола в течение четверти часа у гостей шел оживленный разговор. Сосед по столу В. Ф. Ладыгина, испитой, худой, желчный китаец, убедительно просил моего спутника добыть ему лекарства или указать иной способ избавиться от курения опиума, в конец разрушившего его организм. Вторая, или заключительная часть обеда прошла сравнительно скоро; сонные, раскрасневшиеся лица гостей свидетельствовали об их желании отправиться по домам и отойти на час-другой в область Морфея.
Необходимо добавить, что в продолжение обеда на театральной сцене шли различные представления и играл смешанный оркестр; костюмы и грим были очень интересные. Все актеры – мужчины; женские роли избирают молодые китайцы, имеющие женственные лица и умеющие подражать женщинам как манерами, так и голосом. Больше всех привлекал внимание гостей красивый, изящный мальчик, и как актер казался несравненным, в особенности в самых трудных местах действия, его красота и плавность движений были просто очаровательны, как очаровательна и сама игра привыкшего к похвалам красавца-мальчика. В антрактах гости посылали актерам денежные подарки, за что последние прибегали просить указаний на последующие темы.
Званый обед удался, на лице хозяина сияла неподдельная улыбка!
Тридцатого августа экспедиция оставила Синин. Дальнейший путь к пустыне Гоби шел в области гор Восточного Нань-шаня, самой красивой расчлененной его части. Каравану приходилось то подниматься на кручи и следовать вдоль опасных карнизов, то спускаться на дно глубоких ущелий и переправляться вброд через ручьи и речки. К сожалению, первые дни горы были скрыты густыми облаками, и вся прелесть их терялась. Это лето 1901 г. было здесь особенно богато атмосферными осадками; тропинки несколько раз размывались и вновь исправлялись. Отряду экспедиции в этом отношении пришлось также поработать немало, а ее начальнику поболеть душою при виде, как неуверенно пробирается караван по скользкому глинистому обрыву. Того и гляди, что полетит тот или другой вьюк с коллекциями или инструментами, и в один несчастный миг страшно подумать – все труды пропадут даром; такого рода несчастья никогда не забудешь.
Чтобы отвлечь напряженное внимание от каравана, невольно переводишь взгляд в другую сторону, где залегает еще более дикий хаос гор, размытых множеством ущелий; самую величественную гору из окрестного сонма громад – Рангхта – нам удалось увидеть только однажды, в незначительный ясный проблеск; она была покрыта снегом и небольшими клочками кучевых облаков. Затем погода улучшилась. С вершин отрогов путник мог наблюдать красивые широкие виды, заполненные богатой растительностью. С глубин ущелий в красивом беспорядке взгромождались одна на другую дикие серые скалы, по которым кое-где торчали жалкие деревца ели и можжевельника; от самых высоких или командующих вершин, в свою очередь, сбегали каменные россыпи; выше всего, в ярко-синем небе, плавно кружились снежные грифы, бородатые ягнятники и звонко клектавшие орлы-беркуты.
Придя в монастырь Чортэнтан, экспедиция расположилась лагерем на левом берегу Тэтунга, напротив прежней стоянки, в виду заманчивых лесных ущелий. Вблизи расстилался тополевый вековой лес, еще ближе монотонно шумела и плескалась река. Сколько лучших воспоминаний вновь пробудил во мне Тэтунг. На этих самых берегах я впервые понял высокую прелесть путешествия по Центральной Азии; на этих самых берегах я прислушивался к заманчивым рассказам моего незабвенного учителя о Каме; среди этой же обстановки я отдыхал после пустыни Гоби, идя в передний путь. Теперь я вновь на этих берегах, еще более чарующих меня обаятельной лаской природы и отрадно воскресающих во мне на месте живой образ ее первого исследователя.
В первый день прихода в Чортэнтан путешественники доставили на бивак свое имущество, образцово сбереженное монастырем. Каждый из них нашел здесь личный запас платья, белья и после обстоятельного мытья с удовольствием оделся во все новое, свежее. Первое время мы даже не сразу узнавали друг друга, замечая со смехом: «Все стали господами». Припрятанные на дне ящиков заедочки и усладеньки также пришлись нам как нельзя более кстати. Словом, приход в Чортэнтан для экспедиции был великим праздником. Наши друзья ламы еще более способствовали подобному радостному настроению. Они нас встретили, словно самых близких родных, участливо расспрашивая не только о путешествии по «стране лам и монастырей», но и о том, что нам известно из писем о нашей родине, о наших родных. Эти люди, казалось, всецело отдались нам – и радовались, и горевали неподдельно вместе с нами; свое личное Я, на время нашего пребывания было ими забыто.
Десятого сентября эспедиция покинула Чортэнтан. Ламы напутствовали начальника экспедиции лучшими пожеланиями и интересной тибетской книгой «История царей Тибета», сочинение пятого Далай-ламы. Прощание было самое трогательное, в особенности с Цорчжи-ламой, провожавшим путешественников на протяжении двух дней к северу. При дружеском расставании монах растрогался, крупные слезы полились из его темных глаз, еще минута – и он зарыдал. Подобного рода слезы я видел у туземцев впервые; они на меня произвели глубокое впечатление. Человек, чуждый нам по религии, языку, нравам, обычаям, был тем не менее близок нам по общечеловеческим, душевным качествам.
От этого чортэнтанского ламы, равно и от других приятелей, обитающих в нагорной Азии, начальник экспедиции периодически получает письма. «Удостоившись знакомства с Вами, – читаем в одном из писем Цорчжи-ламы, – я проникся к Вам чувством искренней преданности. Со времени разлуки с Вами, когда я постоянно с глубокой любовью вспоминал о Вас, незаметно промелькнуло несколько месяцев. Вот и зеленый тростник покрылся туманом, и серебристая роса сгустилась в иней. Я думаю о том месяце (о Вас) […] и как запретить духу переноситься через пространство. С почтением вспоминая о Ваших великих доблестях и высоких административных талантах, я с глубоким нетерпением ожидаю, как благовещение облака (отличие) покроет Вас, как роса покрывает бамбук. А я, бедный монах, обитатель пустыни, пристрастившийся к лесам и источникам, хотя и мечтаю о том, чтобы выделиться из толпы, но мне не достает указаний к воспитанию природы. Какое сравнение с Вашим превосходительством, которое широко распространяет просвещение, озаряя им людей».

Оставляя приветливый, богатый Нань-шань с лазоревым небом, экспедиция вступает в монгольскую пустыню, над безграничным простором которой висела, словно вуаль, пыльная дымка. Туда, на север, уносились все помыслы и стремления усталых путешественников, ласкавших себя приятными грезами и мечтами о приближении к родине.
Второго октября экспедиция оставила шумный Дын-юань-ин и сразу очутилась в тихой монотонной пустыне. Проходя у высот, окаймляющих город с севера, путники наблюдали интересную травлю лисиц борзыми. Невдалеке от каравана из-за холмов неожиданно показались всадники, которые со страшной стремительностью скакали за собаками, увлеченные лисой. Я долго не забуду в высшей степени интересных двух-трех минут, в течение которых лиса, борзые и несколько всадников, слившись в один фокус общей картины, мчались подле нашего каравана; это было нечто особенное, приковавшее наше внимание; вот еще одна секунда, еще один момент – и лисица в зубах собак. Общее замешательство и поднятая в воздухе пыль подтвердили предполагаемое окончание успешной охоты. В руках нарядно одетого всадника виднелся красивый зверь с пушистым хвостом. Это был утренний выезд младшего из алашаньских князей, желавшего, вероятно, показать нам свою лихость и молодечество.
По мере движения к северу холод все более увеличивался, а осенние дни сокращались. Теперь были очень кстати заранее приготовленные распоряжением алашаньского князя юрты и топливо – самые, по-видимому, необходимые принадлежности в дороге, а между тем путешественникам казавшиеся роскошью, в особенности после дневных утомительных переходов, когда они с приятным чувством входили в них, согреваясь чаем и теплом маленькой печки. Время в походе бежало быстро, но несравненно медленнее, конечно, желаний путешественников, которые, по их признанию, с детской наивностью отсчитывали истекавшие дни и дни, предстоявшие впереди по направлению к Урге, этой своего рода «обетованной землей» тибетских странников. Да, действительно, Урга могла быть для них землей обетованной: они сильно истомились и нравственно, и физически, ведь прошло уже тридцать месяцев, и они не могли не желать скорого конца их путешествия.
У горы Хайрхан Гоби угостила путников снежным штормом, подобного которому они еще не видели ни разу. Сильные вихреобразные порывы бури положительно сталкивали в сторону огромные верблюжьи фигуры, мелкий снег залеплял глаза. В этот памятный день, третьего ноября, они [путники] прошли сорок две версты и все до единого ознобили себе лица, так как вслед за снежным штормом ударил мороз в –27,5°С.
На предпоследнем переходе к Урге начальник экспедиции получил от маститого консула Я. П. Шишмарева дружеское приветственное письмо, в котором, уважаемый монголами русский генерал спешил засвидетельствовать его полную готовность приютить «дорогих путешественников» под гостеприимным кровом русского консульства.
Спускаясь с перевала Гаятын-дабан, путешественники радостно приветствовали священную гору Богдо-ула, сплошь засыпанную снегом, на белом фоне которого резко и красиво выделялись темные, густые заросли леса. На другой же день, седьмого ноября, обогнув ее у западного подножья и переправившись через шумную, прозрачную Толу, они вскоре затем достигли и дома ургинского консульства.
Не берусь описывать тех радостных чувств, которыми мы были переполнены, достигнув конца нашей трудной задачи, увидев родные лица, услышав родную речь. Чем-то сказочным повеяло на нас при виде европейских удобств, при виде теплых уютных комнат, при виде сервированных столов. Наша внешность так сильно разнилась и не подходила ко всему этому комфорту, что Я. П. Шишмарев не мог не подвести меня к зеркалу и показать мне меня же самого. «Таким, как вы теперь, – говорил добродушный русский хозяин, – некогда вступил в Ургу и ваш незабвенный учитель, Н. М. Пржевальский, отдыхавший вот в этой большой комнате, которую я приготовил для вас».
Кяхта своим широким гостеприимством заставила еще более позабыть пережитые участниками экспедиции невзгоды и лишения, сочувствие же Петербурга укрепило их в сознании посильно исполненного перед родиной долга.

П. К. Козлов. Автобиография[367]
Вся моя жизнь прошла под знаменем исследования природы и человека Центральной Азии.
Сколько я себя помню, с отроческих лет мною владела одна мечта – о свободной страннической жизни в широких просторах пустынь и гор великого Азиатского материка.
Мой отец – скромный прасол[368] города Духовщины Смоленский губернии, которого суровая трудовая жизнь заставила пешком измерить десятки верст проселочных дорог нашей родины, – любил в своем деле эту постоянную смену мест и жизнь на вольном воздухе.
По-своему наивно и просто он рассказывал свои впечатления в кругу нашей скромной семьи, где всегда видел сочувствие и отклик моей матери, являющейся в моей памяти воплощением тихой светлой ласки и кротости.
Я родился в 1863 году и провел безмятежное детство в приволье деревенской жизни, где всякие крестьянские обязанности подростков – пастьба домашних животных, в особенности ночевки в поле с лошадьми – составляли приятное развлечение.
Поступив двенадцати лет в только что открывшееся тогда Духовщинское городское училище, я попал под ласковую и разумную опеку великого педагога В. П. Вахтерова. Теперь, когда мне пришлось немало поработать в области археологии, я вспоминаю, что первый и довольно неудачный детский опыт мой в этом направлении относится именно к моим школьным годам, когда я при участии любимого мною сверстника втихомолку принялся за раскопки одного кургана в Слободе Поречского уезда. Когда я показал несколько добытых предметов в школе, то, конечно, получил за это подобающий выговор, но, помню, все-таки в душе торжествовал, так как очень скоро после этого из Смоленска прибыло несколько специалистов, во главе с Сизовым, начавших правильные раскопки в других ближайших курганах.
Слухи о возвращении в Россию славной экспедиции Н. М. Пржевальского наполняли все существо мое страстным желанием хотя бы увидеть того, кто был живым воплощением моих стремлений. Но даже это скромное желание: казалось совершенно неосуществимым. Между тем надо было жить и зарабатывать на хлеб. Получив предложение поступить в контору пивоваренного завода, в имении Слобода, в 60 верстах от Духовщины, я уехал в глухие леса Поречского уезда и наслаждался уже тем, что жил в гористой живописной местности, которую мое воображение отождествляло с далеким Забайкальем и неведомой Сибирской тайгой.

Свободное от службы время я посвящал занятиям по подготовке к поступлению в Вилейский учительский институт и чтению увлекательных книг о путешествиях Н. М. Пржевальского. И вот совершилось невозможное: Николай Михайлович приехал в Слободу и, очаровавшись ее дикой красотой, решил купить усадьбу Глинки и поселиться в ней, чтобы в тишине писать свой новый труд о последней, третьей экспедиции в Центральную Азию и Тибет.
Когда я впервые увидел Пржевальского, то сразу узнал его могучую фигуру, его властное, полное несокрушимой энергии и воли, благородное, красивое лицо.
Однажды вечером, вскоре после приезда Пржевальского, я вышел в сад, как всегда, перенесся мыслью в Азию, сознавая при этом с затаенной радостью, что так близко около меня находится тот великий и чудесный, кого я уже всей душой любил.
Меня оторвал от моих мыслей чей-то голос, спросивший:
– Что вы здесь делаете, молодой человек?
Я оглянулся. Передо мною в своем свободном широком экспедиционном костюме стоял Николай Михайлович. Получив ответ, что я здесь служу, а сейчас вышел подышать вечерней прохладой, Николай Михайлович вдруг спросил:
– А о чем вы сейчас так глубоко задумались, что даже не слышали, как я подошел к вам?
С едва сдерживаемым волнением я проговорил, не находя нужных слов:
– Я думал о том, что в далеком Тибете эти звезды должны казаться еще гораздо ярче, чем здесь, и что мне никогда, никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов.
Николай Михайлович помолчал, а потом тихо промолвил:
– Так вот о чем вы думаете, юноша… Зайдите ко мне, я хочу поговорить с вами.
Так совершилось первое знакомство, а за ним и сближение мое с великим исследователем. Зимою 1882–1823 года я выдержал проверочное испытание при Смоленском реальном училище за шесть классов, затем поступил в Москве на военную службу в звании вольноопределяющегося, а весною был зачислен в состав новой, четвертой экспедиции Николая Михайловича, направившейся от Кяхты к истокам Желтой реки вдоль северной окраины Тибета и по бассейну Тарима.
С этого времени исследование Центральной Азии стало для меня той путеводной нитью, которой определялся весь ход моей дальнейшей жизни.
Годы оседлой жизни на родине я посвящал усовершенствованию в естественных науках, этнографии и астрономии.
После Николая Михайловича Пржевальского самое большое участие в моем дальнейшем развитии принимали: П. П. Семенов-Тян-Шаньский, А. В. Григорьев, М. В. Певцов, а по специальным отделам естествознания – В. Л. Бианки и К. Бихнер.
Всегда с глубокой признательностью и с самым светлым чувством удовлетворение я вспоминаю годы, проведенные мной в Пулкове под эгидой сердечного, чуткого глубокого Ф. Ф. Витрам.
Говорить подробно о каждом путешествии в Центральную Азию, которых всего было шесть, мне кажется излишним, так как о них имеется достаточно печатных трудов.

В 1888 году, на пороге нового совместного странствования, мне пришлось пережить великое потрясение – смерть моею учителя и друга Николая Михайловича Пржевальского. Эта боль не убила во мне воли к жизни – она содействовала моему духовному росту, ибо я сразу понял, что отныне остаюсь один и должен свято хранить заветы своего учителя.
После смерти П. М. Пржевальского начальником его осиротевшей экспедиции был назначен географ М. В. Певцов, с которым я вновь посетил северный Тибет восточный Туркестан и Джунгарию, проводя помимо обычных географических экскурсий в стороны от главного каравана специальные наблюдения над животным миром и ведая сборами зоологических коллекций вообще.
По возвращении из путешествия в 1896 г. я выпустил свои первые печатные работы: «Вверх по реке Конька-Дарье» и «По берегу озера Баграм-куль».
Эти три экспедиции служили как бы подготовительными ступенями к совершению самостоятельной работы в этой области, а именно, к трем последующим экспедициям: Тибетской, Монголо-Сычуаньской и последней – Монгольской.
Тибетская экспедиция была особенно плодотворна исследованием богатой оригинальной природы и малоизвестных или вовсе неизвестных восточно-тибетских племен.
Дикие ущелья Кама и Восточного Тибета останутся в моей памяти навсегда одними из лучших воспоминаний моей страннической жизни.