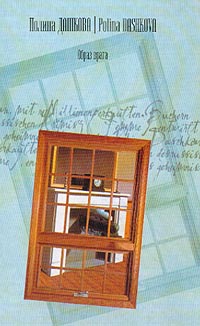

Полина ДАШКОВА
ОБРАЗ ВРАГА
Все события и герои этого романа вымышлены, любое сходство с существующими людьми случайно.
Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить!
Глава 1
Снег падал так медленно, словно каждая снежинка дремала на лету. Разноцветные огни вечерней Тверской едва пробивались сквозь рябую пелену. Москва тонула в мягком мокром снегопаде, и даже истерические гудки машин, застрявших в безнадежной пробке перед площадью Белорусского вокзала, звучали спокойней, глуше.
Был час пик. Пешеходы месили соленую слякоть, поспешно огибали глубокие лужи, шарахались от фонтанов грязи, летевших в лицо из-под шальных колес.
– Чтоб ты провалился, мать твою! – пробормотала полная пожилая дама в светлой шубе, проводив сердитым взглядом черный «Линкольн», который хоть и ехал медленно, а все-таки грязью в прохожих брызгал.
В салоне, за глухими черными стеклами, двое мужчин легонько чокнулись крошечными коньячными рюмками и выпили. Один залпом, закрыв глаза и жадно двинув тяжелым щетинистым кадыком. Другой лишь пригубил густой, медово-золотистый коньячок, быстро облизнул тонкие губы и произнес:
– Твое здоровье, Азамат. Слушай, давно хотел спросить, у тебя вроде был выход на этого, как его? – худые белые пальцы нервно отбили дробь по краю салонного столика. – Ну, немец, шустрый такой, в Москве учился, фамилия у него сложная, на М.
– Не знаю, Гена, о ком ты. Зачем тебе немец? Своих, что ли, мало людей?
Азамат говорил с сильным кавказским акцентом и выглядел так, словно черный «Линкольн» только что подобрал его на каком-нибудь грязном перекрестке, где он с грузовика торговал мятыми мандаринами.
Утепленные спортивные штаны с лампасами, облезлый тулупчик, траур под ногтями, длинный смуглый нос. Черные быстрые глаза посверкивали из-под нависших бровей, неприятно убегали от взгляда собеседника, но при этом как бы ощупывали, обшаривали его лицо.
Азамату не нравился этот разговор. Он отлично понял, о ком спрашивает хозяин «Линкольна», но назвать имя, которое тот как бы запамятовал, не спешил. Слишком уж громкое имя.
– Понимаешь, есть у меня одна идейка, – продолжал Геннадий Ильич Подосинский, вовсе не замечая мрачной напряженности Азамата, – тебе, как старому другу, скажу. Хорошая идейка, смешная… Немца-то как звать, а?
Геннадий Ильич быстрым движением выбил сигарету из пачки, жадно затянулся, выпустил дым, прищурился и чуть выпятил нижнюю губу. Даже на мягком диване в уютном салоне своего «Линкольна» он ни минуты не мог усидеть спокойно, вздрагивал, ерзал, менял позу, закидывал ногу на ногу, барабанил пальцами по худому колену, почесывал мягкий пористый нос, приглаживал тусклые черные прядки, прикрывающие лысину. Его высокий, глуховатый теноров часто спускался до нервного шепота, словно он сообщал собеседнику какую-нибудь интимную подробность, и если посмотреть со стороны, то казалось, вытащили эту нелепую несимпатичную фигурку из провинциального нафталина семидесятых, не помыли, даже не встряхнули, запаковали в тысячедолларовый костюм от Кардена, поменяли кривые зубные коронки на голливудскую белоснежную челюсть, усадили в бархатное теплое нутро «Линкольна» и везут сквозь декабрьский снегопад по сумеречной нервной Москве девяносто седьмого года.
– Я хочу очень быстро провернуть кое-что в Израиле. – Геннадий Ильич сделал на секунду задумчивое, мечтательное лицо, откинулся на мягкую спинку дивана, но тут же качнулся вперед, сгорбился, собрался в комок. – Мне надо вытащить оттуда одного интересного человечка. Будет отлично, если это сделает именно немец. Вот, вспомнил! – Подосинский легонько шлепнул себя по коленке и радостно рассмеялся. – Надо же, вспомнил! Карл Майнхофф!
Азамат мрачно молчал и шарил быстрыми глазами по лицу собеседника. В ответ на радостный смех он только слабо растянул губы.
– У меня, конечно, есть и другие каналы, – продолжал Подосинский интимным шепотком, – но я решил, что тебе, старому лентяю, не худо будет встряхнуться. Стареем мы с тобой потихоньку, – он покачал головой и печально вздохнул. Время летит! Через три дня кончится девяносто седьмой год. Останется всего два года до конца тысячелетия, до президентских выборов, до новой эпохи… Ты только вдумайся, Азамат, два года!
Азамат плеснул коньяку себе в рюмку, выпил залпом, закурил и произнес медленным, тяжелым басом:
– Слушай, Гена, не крути. Зачем тебе Карл?
– Я же сказал, хочу добыть одного человечка. Лучше, если это сделает именно Майнхофф. Он знает Израиль, у него есть там связи, он сделает все красиво, а мне надо, чтобы получилось очень красиво и чтобы никто ничего не понял. И еще мне надо, чтобы ни один чеченец в этом деле не засветился.
– Все равно на нас подумают, – криво усмехнулся Азамат.
– Ну, ты преувеличиваешь, – Подосинский снисходительно похлопал Азамата по плечу, – у тебя, как говорят психологи, завышенная самооценка. Вы не одни в мире такие страшные, и это все-таки Израиль. Ты сначала дослушай до конца. Пока на Ближнем Востоке продолжается арабо-израильский конфликт, пока не снято полностью эмбарго на иракскую нефть, у Западной Европы есть постоянный соблазн – каспийская нефть. Самый короткий путь для нефтепровода – через Чечню. Чтобы погасить все сомнения по поводу нефтепровода и прекратить канитель, надо организовать хороший скандал.
– На Ближнем Востоке и так сплошные скандалы, – заметил Азамат, – в Чечне тоже.
– Из двух зол всегда выбирают меньшее. К заварушке на Ближнем Востоке уже привыкли, никто не боится и не удивляется. А надо, чтобы испугались и растерялись. Евреи с арабами ссорятся, но глядишь – и договорятся. Так вот, чтобы они не могли договориться, мы потихоньку спутаем карты. Понимаешь?
– Пока нет, – честно признался Азамат. Мимо затемненных окон «Линкольна» проплывало Ленинградское шоссе, медленный снег переливался и вспыхивал лимонно-желтым, алым, зеленым огнем. У метро «Динамо» торговали елками.
– Нужен крепкий компромат на Израиль, – Подосинский весело подмигнул, – и компромат этот должен добыть совершенно нейтральный человек.
– Это Карл-то нейтральный? – засмеялся Азамат. – Карл Майнхофф, краса и гордость международного терроризма. У него завязки по всему миру, его все ненавидят и боятся.
– Вот именно, – кивнул Геннадий Ильич, – все разведки встанут на уши, если Карл привезет из Израиля человека, который заявит публично, что по заданию израильского правительства работает над биологическим оружием нового поколения.
– А что, у тебя есть на примете человек, которому поверят, если он так скажет?
– Разумеется, есть.
– И что за оружие?
– Отличное оружие. Вирусы пострашней СПИДа. Можно при желании использовать так, что атаку никто не заметит. Станут вдруг все дохнуть, как мухи. Генетические мутации начнутся, как в каком-нибудь ужастике. А потом еще будет рождаться много поколений уродов, но не по всему миру, а в отдельно взятой стране, которая станет жертвой атаки. Я не специалист, но знаю, там все как-то очень хитро. К каждому определенному виду сразу разрабатывается система вакцинации. Любые исследования в этой области были запрещены специальной резолюцией ООН еще пять лет назад. И тут – здрасьте вам, оказывается, честные цивилизованные израильтяне по-тихому работают над чумой двадцать первого века.
– Брось, – Азамат махнул рукой, – кому надо, тот и так знает. Очередная страшилка о супероружии не ускорит подписания контракта по нефтепроводу.
– Скучный ты человек, Азамат, – вздохнул Геннадий Ильич, – ты главного не понял. Дело ведь не в очередной страшилке. Вся соль в том, чтобы освежить привычную, поднадоевшую склоку новыми подробностями. Пусть заварушка продолжается и усложняется. Чем меньше шансов разрешить конфликт мирным путем, тем неопределенней ситуация на мировом нефтяном рынке. Ты, Азамат, тактик. Ты живешь сегодняшним днем, и в этом твоя сила. Но и слабость тоже. А я стратег. Я генератор идей. Я смотрю далеко вперед.
– Ох, Гена, с огнем играешь. Замочат тебя, и все дела, – покачал головой Азамат.
– Типун тебе на язык, Азамат. – Подосинский криво усмехнулся. – Уже пробовали, не по зубам я им. Они у меня будут как собаки. Все поймут, но сказать, то бишь доказать, – ничего не сумеют. Пока все ниточки ближневосточной проблемы у меня в руках. И я не хочу ни одной из них упустить. Ни одной.
– И все-таки почему именно Майнхофф? В какой связи ты вообще вдруг вспомнил о нем?
– В связи с Израилем. Все просто, Азамат. Майнхофф имеет там прочные связи. Ну не посылать же к евреям твоих джигитов! Они, конечно, молодцы, никто не спорит, но прости, они даже по-английски не говорят, не то что на иврите.
«Что-то ты темнишь, великий стратег. Лапшу мне на уши вешаешь. Тебе, вероятно, нужен не только еврей-профессор с супероружием, но и сам Карл. Интересно, зачем? Мало разве у тебя крепких ребят-исполнителей, не только чеченцев, которые по-английски не говорят, но всяких-разных, на выбор?» – с легким раздражением подумал Азамат. Но вслух сказал совсем другое:
– Карл очень дорого стоит.
– Сколько попросит, столько дам, – улыбнулся Подосинский.
– А оружие? – тихо спросил Азамат.
– Что – оружие? – Геннадий Ильич недоуменно вскинул брови.
– Ну, вирусы эти, – Азамат чуть поморщился, – их не хочешь заодно добыть по-тихому? Если все боятся этих микробов, так, может, пусть будут на всякий случай, вместе с этой, как ее? С системой вакцинации.
– А зачем? – равнодушно пожал плечами Подосинский. – На фига мне вирусы? Я человек мирный.
Глава 2
В первую неделю девяносто восьмого года в Иерусалиме выпал снег, а на побережье, в курортном Эйлате, где даже в январе температура редко падает ниже плюс пятнадцати, дул ледяной пронзительный ветер. Туристы, у которых была охота погулять по вечерней набережной в такую скверную погоду, понуро брели вдоль светящихся витрин сувенирных лавок, заглядывали внутрь, заходили, лениво перебирали дорогие безделушки.
У пристани покачивались яхты, огни отражались в спокойной тяжелой воде Красного моря, и казалось, будто яхты, прогулочные катера, маленькие рыбацкие лодки стоят на дрожащих разноцветных столбах. Тонкий серпик молодого месяца висел рогами вверх, словно темно-лиловое небо улыбалось белым маленьким ртом, не разжимая губ.
Парк аттракционов на набережной был пуст. Карусели не работали. В такое позднее время, да еще в такой холод, не нашлось желающих кататься на машинках и лошадках, стрелять в тире, сбивать пластмассовыми шариками жестянки из-под колы, вылавливать магнитной удочкой из стеклянного аквариума китайские игрушки, которые все равно никогда не появятся. Только грозное, пылающее яркими огнями сооружение под названием «камикадзе» крутилось вокруг своей оси, высоко взлетало, переворачиваясь, зависало над парком.
Обычно из кабинок слышался восторженно-испуганный визг, но сейчас было тихо. Урчал, поскрипывал мотор аттракциона, тяжелая маслянистая вода Красного моря шуршала, набегая на холодный песок пустого пляжа. Иногда прорывался сквозь завывания ветра одинокий голос скрипки. Уличный музыкант у ограды парка, закрыв глаза, выводил скрипичное соло из концерта Вивальди исключительно для собственного удовольствия. В мятой кепке у его ног лежала с утра жалкая мелочь, и ни гроша за долгий день не прибавилось. А теперь уж вряд ли кто-то пройдет мимо и бросит хотя бы полшекеля. Странное время, разгар курортного сезона, а тихо, пусто, будто вымерло все.
Единственный ребенок, пожелавший покататься на «камикадзе», десятилетний русский мальчик Максим Воротынцев, не кричал и не визжал, когда висел вниз головой на восьмиметровой высоте. В животе все сжималось и леденело, ужасно хотелось заорать, но он молчал, стиснув зубы. Можно было бы и не стесняться. Кроме мамы, которая одиноко сидела на лавочке, и карусельщика, читавшего журнал в своей стеклянной будке, никто бы визга не услышал. Но Максимка молчал. Так было страшней и интересней.
Карусель сделала очередной круг, на этот раз медленный, плавный, и Максим успел заметить, что мама уже не одна на лавочке. Рядом с ней уселся какой-то тип.
– Гадкая погода, – произнес по-английски низкий мужской голос.
Алиса Воротынцева вздрогнула от неожиданности и оглянулась. Вспыхнули огни карусели, осветили черную спортивную куртку, высокий ворот белого свитера, жесткое, загорелое лицо.
«Американец», – равнодушно отметила про себя Алиса, вежливо улыбнулась и посмотрела на часы.
Максимка катался на этой дурацкой вертушке уже двадцать минут. Он уговорил купить сразу три билета, и карусельщик, дернув рубильник, уселся в своей будке, уткнулся в журнал, покуривал, прихлебывал пиво и, кажется, вообще не собирался выключать карусель.
– А знаете, почему здесь так холодно? – спросил загорелый американец.
– Нет, – буркнула Алиса.
– Здесь так холодно потому, что я мечтал полежать на песке, понырять с аквалангом в Красном море, погреться на солнце. Я мечтал об этом почти три года. Именно поэтому так холодно. Мне не везет.
«Нам с Максимкой тоже не везет, – лениво подумала Алиса, – мы тоже мечтали пожариться на солнышке в январе, поваляться на пляже. Мы здесь уже третий день, я выложила на эту поездку три тысячи долларов, почти все, что заработала за два месяца, а погода дрянная…»
Она поднялась со скамейки, подошла к будке.
– Извините, по-моему, пора уже выключать.
– А? – встрепенулся карусельщик.
Это был маленький, почти карлик, эмигрант из России.
Сначала Алиса и Максим удивлялись, слыша повсюду русскую речь. Потом им объяснили, что по статистике, каждый пятый израильтянин говорит по-русски.
– Уже двадцать минут прошло, – напомнила Алиса.
– Да ладно, – махнул он рукой, не поднимая глаз от журнала, – пусть мальчик покатается в свое удовольствие. Все равно ведь нет никого.
– Ему плохо станет. Выключите, пожалуйста.
– Как скажете, – карусельщик пожал плечами, отложил журнал, неохотно вылез из своей будки, – а может, еще на чем желаете прокатиться? «Мертвая петля», «Сумасшедший паук», «Американские горки»?
– Нет, спасибо.
Карусель наконец застыла. Алиса бросилась к кабинке, чтобы помочь Максимке вылезти. Он был бледно-зеленый, чуть не упал, спрыгивая с высокой ступеньки. Голова у него, разумеется, кружилась, однако он отстранил мамину руку и тихо фыркнул:
– Я сам. Не маленький.
– Вы из России? Это ваш младший брат? – не унимался американец.
Алиса с раздражением отметила, что, вероятно, парень слегка перебрал, ищет приключений и теперь долго не отвяжется. Почти никого на набережной нет, а ему охота пообщаться.
– Сын, – ответила она и, обняв пошатывающегося Максимку за плечи, направилась к выходу из парка. Американец не отставал, шел за ними.
– Что за тип? – спросил Максимка, кивнув на американца.
– Понятия не имею. Есть хочешь?
– Хочу. Но не здесь и не в отеле. Ты обещала, сегодня мы поужинаем в том ковбойском кабачке, у площади, где бедуинский рынок. Помнишь?
– Далековато. Пойдем в отель, там полный холодильник еды.
– Ты обещала…
– Тогда давай на машине. Я промерзла насквозь, и у тебя уши ледяные. Кстати, надень, пожалуйста, капюшон.
Скрипач у ограды выводил мелодию старинного русского романса «Капризная, упрямая». Максимка вытащил маленький серебряный шекель из кармана курточки, положил в кепку у ног скрипача.
Небольшой клубный отель «Ривьера» находился на соседней улице, в двух шагах от парка аттракционов. Проходя мимо ярко освещенной зеркальной витрины ювелирного магазина, Алиса скосила глаза и заметила, что американец в черной куртке все еще идет следом. Он успел поймать ее взгляд в зеркале и улыбнулся широкой, открытой улыбкой.
– Вы выглядите слишком молодо для такого большого сына, – произнес он громко, пытаясь заглушить шум ветра, – впрочем, вы, вероятно, сами это знаете.
Они свернули за угол. Короткая улица была пуста. Американец свернул за ними.
– Простите, я плохо говорю по-английски. – Алиса ускорила шаг.
У нее не было никакой охоты продолжать разговор с посторонним поддатым человеком.
– Мам, ну что ты напрягаешься? тихо спросил Максим. – Ты у меня дикая какая-то. Может, ему просто по пути, скучно и хочется поболтать?
– Я не напрягаюсь. С чего ты взял?
На самом деле она и правда никак не могла расслабиться, войти в спокойный ритм отдыха. Слишком устала, зарабатывая на этот отдых, который, кажется, не оправдывал радужных ожиданий и вложенных денег.
Алиса работала архитектором-дизайнером в крупной российско-австрийской строительной фирме. Дела у фирмы шли отлично, поступали заказы на строительство и оформление всего – от огромных торговых центров и спортивных комплексов до частных коттеджей. Оплата была сдельной – сколько осилишь заказов, столько заработаешь. Для того чтобы заработать на поездку, Алиса взялась за оформление дачного особняка для стареющей эстрадной певицы. От этого выгодного на первый взгляд заказа отказались многие Алисины коллеги.
Певица, дама амбициозная, истеричная, сама не знала, чего хочет, и все подозревала, что получается не так шикарно, как у другой пожилой звезды, ее давней соперницы. К тому же ее отношение к людям основывалось на одном нехитром принципе: она могла нормально общаться лишь с теми, кто не забывал восхищаться ее потрясающим голосом, неподражаемым артистизмом, божественной красотой.
Певица оказалась одним из самых сложных заказчиков за всю Алисину практику. Но и с такими надо уметь работать. Никуда не денешься. Однако это сильно выматывает. Хочется потом заткнуть уши ватой и целый месяц молчать.
Алиса ждала этой поездки, чтобы побыть с сыном, посмотреть новую интересную страну, в которой никогда прежде не бывала. И вот они с Максимкой здесь уже третьи сутки. Холодно, неуютно, ледяной ветер с моря.
Раздражали жуткие цены, совершенно не соответствующие уровню сервиса, раздражала приторная навязчивость этого сервиса. В воздухе все время чувствовалась какая-то неприятная подозрительность, напряженность. Бесчисленные вооруженные патрули, военные и полицейские – на набережной, на пляже, в гостинице, на каждом шагу. Мальчики и девочки из службы безопасности каждый раз вежливо просили открыть сумку перед входом в супермаркет или торговый центр.
Еще в Москве, в Шереметьево-2, перед пограничным контролем, молодая израильтянка в униформе учинила ей допрос с пристрастием.
– Простите, вы позволите мне взглянуть на свидетельство о рождении вашего сына? – любезно попросила она по-русски, без всякого акцента.
Алиса вытащила свидетельство.
– Здесь у вас стоит прочерк в графе «отец», – мягко произнесла девушка, разглядывая документ, – вы не могли бы все-таки назвать фамилию отца ребенка?
В первый момент Алиса даже задохнулась от подобной наглости. К счастью, Максимка стоял чуть в стороне и не слышал их тихого диалога.
Алису предупреждали в турагентстве, что Израиль – особая страна. Служба безопасности вправе задавать любые вопросы. У них есть вполне серьезные основания. Они боятся террористов, привыкли жить под прицелом. Однако при чем здесь личная жизнь тихой, незаметной матери-одиночки из России?
– Если бы я могла назвать фамилию отца ребенка, она была бы записана в документе, – сквозь зубы процедила Алиса.
– Но есть отчество: Юрьевич, – не унималась девушка, – отца вашего ребенка звали Юрий?
– Нет. Так звали моего отца, – буркнула Алиса. Да, их можно понять. Вежливая израильтянка в униформе лезла в ее личную жизнь вовсе не для собственного удовольствия. И в сумки здесь заглядывают не из любопытства. Ищут взрывные устройства, оружие. Заботятся о безопасности. Но все-таки противно, когда в тебе, обычном мирном туристе, подозревают террориста либо идиота, который по рассеянности проглядел, как к нему в кошелку сунули бомбу.
Они подошли к автостоянке перед отелем.
– Вы отлично говорите по-английски, мэм. Не скромничайте, – произнес у них за спиной американец.
Алиса не сочла нужным ответить, достала ключи от машины. Еще в Москве, в туристической компании, покупая тур, она оплатила прокат машины. В Эйлате фирма «Баджет» выдала ей маленький двухдверный «Рено», совершенно новый, нежно-салатового цвета.
– Ну вот, он просто живет в нашем отеле, – сказал Максимка, усаживаясь на переднее сиденье.
Алиса увидела, как американец в черной куртке поднимается по ступенькам и перед ним разъезжаются стеклянные двери холла.
– Ты уверен, что хочешь ужинать именно в той грязной забегаловке у рынка? – спросила Алиса, выезжая со стоянки. – Может, поедем в какое-нибудь более приличное место?
– Мама, ты обещала, – Максимка упрямо тряхнул головой, – к тому же мы с тобой здесь разоримся, ужиная в приличных местах. А там наверняка дешево.
– Экономный ты мой, – вздохнула Алиса, – ладно, поехали.
– Ну кто-то из нас двоих должен быть экономным, мамочка, – пожал плечами ребенок, – иначе придется тебе играть на скрипочке у парка аттракционов, а мне выламываться в акробатических этюдах, ходить на руках, крутить колесо. Много нам, конечно, не подадут, но проживем как-нибудь.
– Я не умею играть на скрипке, малыш, – засмеялась Алиса, – а ты только второй год занимаешься акробатикой.
– И скоро вообще брошу, если будут задавать столько уроков в школе. Я не вундеркинд. Вот, придумал! Мы с тобой займемся астрологией. Будем судьбу предсказывать, как та толстая женщина вчера на рынке. А что, думаешь, она зарабатывает меньше тебя?
– Ну подожди, Максим, мы пока еще не разорились. Мы с тобой вполне состоятельные люди, отдыхаем зимой на море.
– Какой ценой, мамочка! – вздохнул ребенок. – Видимся с тобой только утром, вечером ты приходишь с работы, я уже сплю. Даже по выходным тебя не вижу.
– Эй, ты что разворчался, ребенок?
– Есть хочу. Ты же знаешь, я всегда злой, когда голодный.
Кабачок, который приглянулся Максимке, прятался в глубине рыночной площади. Площадь была пуста. С трудом верилось, что вчера здесь бурлил тесный, яркий, грязный бедуинский рынок, который произвел на Максима огромное впечатление.
Повозки, лавчонки, расписная глиняная посуда, пышногрудые восточные красавицы, нарисованные на дешевых коврах, горы поддельных джинсов, футболок, сумок с аляповатыми этикетками известных американских и французских фирм, гирлянды разноцветных бус.
В матерчатой разрисованной палатке пожилая предсказательница-астролог сидела за компьютером и на нескольких языках глубоким мелодичным басом окликала людей в толпе:
– Мадам, зайдите! Вас ждет большая удача! Не проходите мимо, сэр! Завтра вам улыбнется счастье! Только я знаю, как вам избежать неприятностей, фрейлейн!
Эта дама вызвала у Максима целую бурю эмоций. Он даже захотел зайти к ней в палатку и узнать свое будущее, но тут же его внимание переключилось на шарманщика с обезьянкой.
Из большой старинной шарманки звучал знакомый шлягер. Безногий шарманщик цедил колу из мятой жестянки. Обезьянка в крошечных джинсиках дремала у него на плече. В пустое нутро шарманки был спрятан обыкновенный кассетный магнитофон. Инвалид ставил кассету, потом для вида крутил ручку. Звучали шальные голоса Майкла Джексона, Мадонны или группы «Спайс-герлз». Обезьянка вздрагивала во сне, приоткрывала воспаленные круглые глазки и опять засыпала.
– Может, он ее снотворным подкармливает? – страшным шепотом спросил Максим. – У нас в метро сидят нищие с младенцами, и младенцы всегда спят. Я слышал, эти гады их кормят снотворным, чтобы не мешали работать…
Кричали грустные грязные верблюды, торговцы трясли бусами и платками прямо перед носом. Надо было следить за сумкой, за карманами, продираясь сквозь толпу. Они очень скоро устали и проголодались. Алиса не решилась кормить сына липкими восточными сладостями и сомнительной шурмой. В глубине, за площадью, Максимка углядел закусочную.
Они подошли к невысокой оградке. Все столики были заняты. Но ребенок почему-то непременно хотел поесть именно в этом грязноватом заведении, хотя кафе и ресторанов в курортном городе больше, чем людей. Минут пять они стояли у ограды и ждали, вдруг освободится какой-нибудь столик. Однако никто из посетителей уходить не собирался.
– Ладно, – махнул рукой ребенок, – но обещай, что завтра мы обязательно здесь поужинаем. Это настоящий ковбойский кабачок, как в американском вестерне.
Алиса не заметила ничего особенного, ничего «ковбойского», кроме замшевой шляпы хозяина. Обычная забегаловка, столики прямо на улице, под матерчатым полосатым навесом. Ободранные лавки, грязная клеенка на столах. Огромные жирные куры крутятся в засаленной жаровне, воняет окурками и кислым пивом.
– Атмосфера, – объяснил Максим, – понимаешь, на набережной, и вообще, везде в этом городе все прилизанное, стерильное, официанты в «бабочках», белые скатерти. А в этом кабачке никто перед тобой не выпендривается, чтобы содрать с тебя лишнюю сотню шекелей. Это заведение не для туристов, а для своих, поэтому здесь интересней.
Сейчас над пустой рыночной площадью уныло свистел ветер, хлопал матерчатый тент над закусочной. Казалось, вчерашний рынок просто сдуло, унесло куда-то вместе с палатками, верблюдами, толстой гадалкой, сонной обезьянкой. Остался только грязный кабачок с хозяином в замшевой шляпе и несколькими сомнительными посетителями.
Алиса припарковала машину почти у самого входа. Был занят только один столик, за ним сидело человек пять – смуглые, мрачные, крикливые мужчины с длинными сальными волосами, забранными в хвостики, с усами «скобкой», с массивными перстнями и грязными ногтями. Они пили пиво и что-то бурно обсуждали на иврите, размахивали руками. Стол был завален объедками, окурками, уставлен пивными кружками.
Хозяин, лет шестидесяти, с жидкими седыми космами, свисающими из-под ковбойской шляпы, сидел среди них и с явной неохотой поднялся, увидев новых посетителей, принял заказ и удалился, мрачно кивнув, не сказав ни слова.
Алиса закурила. Максим вытащил из кармана электронную игрушку и принялся нажимать кнопки на пульте. Игрушка пищала и мелодично позванивала. Смешной компьютерный зверек на крошечном экране жил своей немудреной жизнью, требовал заботы и участия, играл в мячик, капризничал, кушал, какал, болел, выздоравливал, выражал полное счастье, мог совсем умереть, но тут же его «рождали» заново.
Алиса никак не могла привыкнуть к этому новомодному увлечению сына. Такие игрушки были у каждого ребенка в Максимкином классе, они заменяли не только привычных плюшевых мишек, собачек, кукол, но даже друзей, младших братьев и сестер. Когда первый Максимкин электронный питомец умер от простуды, ребенок плакал по нему целый день, а вечером вышел в Интернет и похоронил нарисованную крошку на специальном нарисованном кладбище. Потом успокоился и «родил» себе нового томагошу.
Хозяин принес курицу, бутылку колы, стаканы, тарелку острого овощного салата. За соседним столиком что-то бурно обсуждали, кричали, хлопали кулаками по столу так, что подпрыгивали тяжелые кружки.
И вдруг что-то неуловимо изменилось. Пятеро мужчин замолчали на миг, потом опять загалдели, еще оживленней загремели стульями, давая место шестому, который появился не с улицы, а откуда-то изнутри кафе.
Ему было около сорока. Невысокий, коренастый. Потертые до белизны джинсы, клетчатая шерстяная рубашка. От остальных он отличался опрятностью, отсутствием тяжелых дешевых украшений, короткой стрижкой. Волосы, брови, небольшие усики были совсем светлыми, светлее загорелой, обветренной кожи. Глубоко посаженные бледно-карие глаза скользнули по лицу Алисы, потом вперились в Максима.
Алиса почувствовала, как леденеют пальцы. Она заметила, что рука с зажатой сигаретой мелко дрожит. Белобрысый тоже это заметил, и по его лицу пробежала усмешка.
Такая знакомая усмешка, легкая, скользкая, холодная и одновременно обжигающая, словно прикосновение медузы.
Алиса резким движением загасила сигарету.
– Мам, можно руками? Можно я буду курицу есть руками? – Голос сына доносился откуда-то издалека, хотя Максимка сидел рядом и повторял свой вопрос уже в третий раз, прямо в ухо. – Мама, очнись! Что с тобой?
– Да, малыш, можно руками…
– А ты? Почему ты не ешь? – Ребенок с аппетитом уплетал горячую курицу. Налей мне, пожалуйста, колы. Эй, ты только что курила, ты обещала, что не будешь смолить одну за другой.
Алиса заметила, что вертит в пальцах сигарету. Может, встать и уйти? Но внезапным уходом она только привлечет внимание. Прежде чем уйти, придется позвать хозяина, попросить счет. А потом – как она объяснит Максимке свой странный поступок?
Для начала надо успокоиться.
«Действительно, что со мной? Ведь этого быть не может. Просто случайное сходство. Он погиб три года назад в Северной Ирландии. Я читала в нескольких газетах, я видела фотографию похорон. Его хоронили на родине, в Германии. Однако почему он так смотрит?»
Она залпом выпила стакан колы и щелкнула зажигалкой. «Предположим, это он. Что дальше? Во-первых, прошло одиннадцать лет. Почему он непременно должен меня узнать? Я изменилась. Так не бывает, чтобы женщина за одиннадцать лет нисколечко не изменилась. Во-вторых, даже если он узнал – что из этого?»
– Мам, ты точно не хочешь курицу? Тогда я доем, ладно?
– Да, малыш, доедай, – кивнула она, подвигая к нему свою тарелку.
Белобрысый весело болтал на иврите со своими приятелями, потягивал пиво, бросал в рот соленые орешки. Алиса старалась не смотреть на него, но то и дело ее взгляд натыкался на холодные бледно-карие глаза.
«Да что я, в самом деле? Через десять минут мы уйдем отсюда. Разумеется, это не он, просто очень похож. До жути похож…»
– Максимка, доедай, поехали. Я спать хочу, – сказала она.
– Ты же спала почти двое суток, как сурок. Слушай, мам, что с тобой вообще происходит?
– А что со мной происходит? – Алиса попыталась улыбнуться.
– Достань пудреницу и посмотри на себя в зеркало. Ты бледная, прямо синяя вся. Может, у тебя голова болит?
– Да, честно говоря, у меня ужасно болит голова, просто раскалывается. Алиса открыла сумку, но вместо пудреницы вытащила фотоаппарат. – Максимка, ты здорово смотришься с куриной косточкой на фоне этих темных личностей за соседним столом. Они похожи на наркоторговцев или бандитов, – произнесла она нарочно громко, поднялась, обошла стол, встала так, чтобы белобрысый попал в кадр.
– Мам, тише! Вдруг кто-то из них понимает по-русски? – испуганно зашептал ребенок.
– Вряд ли.
Щелкнула вспышка, потом еще раз и еще. Хотя бы на одном из кадров белобрысый должен получиться достаточно четко. Завтра утром она отдаст проявить пленку. Потом спокойно разглядит лицо на фотографии и окончательно убедится в своей паранойе, ибо это, разумеется, не он.
Она убрала фотоаппарат, позвала хозяина, попросила счет. Вместо счета мрачный ковбой просто назвал сумму – пятьдесят шекелей. Это было очень дешево. Алиса достала купюру, добавила несколько монет чаевых. Максим отправился к раковине за стойкой вымыть руки после жирной курицы. Белобрысый проводил его глазами, потом опять уставился на Алису. Она не отвела взгляд.
«Даже если это и правда ты, я не боюсь тебя. Ты умер. Тебе удобней, чтобы все думали, будто ты умер».
Алиса взяла сына за руку и, не оглядываясь, направилась к машине. Когда нежно-салатовый новенький «Рено» отъехал от кафе, обогнул площадь и свернул в переулок, ведущий к набережной, белобрысого за столом уже не было. Шумная компания во главе с хозяином в ковбойской замшевой шляпе продолжала пить пиво, курить, жевать соленые орешки.
* * *
– Сэр, я не сомневаюсь, это он.
– Чушь. Какого черта он стал бы здесь светиться? И потом – пластическая операция…
– Он сделал еще одну.
– Тогда тем более, как же ты умудрился узнать его?
– Во-первых, почуял печенью… Можете считать меня сумасшедшим, но после того, как три года назад на моих глазах взорвался автобус с заложниками и человеческие потроха парили в воздухе, как комья красного снега, я чувствую этого ублюдка печенью. Ну а во-вторых, он сделал еще одну пластическую операцию.
– Ты не просто псих, ты еще и поэт. Для секретного агента это слишком. И между прочим, еще не доказано, что именно он взорвал автобус с заложниками под Луксором. Списали на него, для удобства.
– Идея с захватом туристического автобуса в Египте принадлежала ему. И то, что произошел взрыв, его вина. А насчет поэзии – да, я баловался верлибрами, когда учился в университете, и, наверное, что-то такое во мне осталось с тех пор. Но работе это не мешает.
– Кстати, говорят, Майнхофф тоже баловался поэзией, когда учился в России. Может, ты так тонко чувствуешь его потому, что между вами много общего?
– Я не учился в России. А Майнхофф никогда не писал стихи. У меня нет ничего общего с этим ублюдком.
– Ладно, не злись. Как ты мог узнать его, если он во второй раз сменил внешность?
– Он вернул свое прежнее лицо.
– То есть?
– Он стал опять собой, Карлом фон Майнхоффом. Остался небольшой шрам на подбородке, и все. У спецслужб есть фотография другого Карла, то есть Людвига Хошельбаума, гражданина Австрии.
– Вот здесь ты не прав. Хошельбаум – это совершенно другой человек. Он погиб полтора года назад при попытке захвата израильского пассажирского самолета, и его опознали как Карла Майнхоффа. Они действительно чем-то были похожи. Рост, возраст, телосложение, цвет волос и глаз. Отпечатки пальцев идентифицировать не удалось, у трупа были до кости сожжены руки. Лицо уцелело, и эксперты подтвердили, что покойный подвергался пластической операции. Но его первоначальный внешний облик восстановить не сумели, никто не узнает, кем был погибший Хошельбаум на самом деле. Но то, что именно он возглавлял террористическую группу, которая успела застрелить троих заложников в самолете, известно доподлинно.
– Да, я знаю, существует миф, будто Хошельбаум, который был торжественно похоронен под именем Майнхоффа, на самом деле являлся подставным лицом, двойником, а Майнхофф вообще не имел отношения к истории с самолетом. Я знаю одно: после двух смертей и двух пластических операций вряд ли удастся идентифицировать его по внешним признакам.
– Есть отпечатки пальцев. Раньше он с удовольствием шлепал их повсюду, даже оставлял журналистам в качестве автографов.
– В Гонконге был арестован врач, который менял ему лицо. Этот китаец признался, что отшлифовал ему подушечки пальцев. Есть китайская методика, при которой папиллярный узор не восстанавливается. Думаю, именно поэтому он решился вернуть свое прежнее лицо. Он ведь безумно любит себя, этот сукин сын. Просто обожает. Он помешан на чистоте баронской крови и все в самом себе считает бесценным, не только черты лица, но даже папиллярный узор. Он относится к своей персоне как к реликвии, и любое нарушение целостности образа для него кощунство, трагедия, оскорбление памяти благородных предков.
– Когда-нибудь ты напишешь об этом сумасшедшем фундаментальный труд. Но бестселлером он вряд ли станет. Ты, Деннис, любишь все усложнять, у тебя как-то странно устроены мозги. Ты застреваешь на мелочах и раздуваешь их до немыслимых размеров. А потом оказывается, что внутри воздух, пустота. Ты слишком много говоришь о его баронстве, а это просто один из пунктов его помешательства, не более. Очередной мыльный пузырь или воздушный шарик, как тебе больше нравится. Карл Майнхофф прежде всего международный бандит, и не надо делать из него героя древнегерманского эпоса. И так хватает мифов. Показания твоего китайца были признаны недействительными. Его объявили душевнобольным, освободили из-под стражи, а через месяц он скончался в больнице от острой сердечной недостаточности. Никакой методики нет. Это тоже миф, легенда. Для того чтобы папиллярный узор не восстановился, мягкие ткани надо стесать до кости. При этом неминуемо пострадают сухожилия и двигательные функции пальцев. Человек станет инвалидом…
– И тем не менее такая методика есть. Другое дело, для бандитов-практиков это слишком дорого, а главарям преступных организаций – ни к чему. Они работают чужими руками. Сразу после ареста китайца допрашивал мой человек. Собственно, он и вышел на этого доктора. Разумеется, хирург был совершенно нормален. А мой человек погиб в автомобильной катастрофе еще раньше, чем китайца поместили, в госпиталь.
– Ну ладно, это все уже История. Что мы имеем на сегодня? Почему ты вдруг уцепился за эту русскую с ребенком?
– Вчера днем из кафе у рыночной площади Майнхофф неожиданно пошел за ними, за женщиной с мальчиком. Довел их до гостиницы.
– Они что, вчера тоже были там?
– Нет. Они ходили по рынку, потом подошли к кафе. Не было ни одного свободного столика. Они постояли, поговорили о чем-то, потом отошли. Я бы не обратил на них внимания, если бы Майнхофф не рванул за ними.
– Пешком или на машине?
– Пешком. Вчера у рынка негде было парковаться.
– Женщина вступала с ним в контакт?
– Нет.
– Уверен?
– Почти. Вообще, все это очень странно. Никаких попыток контакта ни с его, ни с ее стороны. Сегодня женщина и мальчик как будто просто заехали в кафе поужинать. Я чуть не потерял их сначала, потом мне пришлось припарковать машину довольно далеко от площади и от забегаловки, там было пусто и почти невозможно вести наблюдение, особенно после того, как я попытался вступить с ней в контакт.
– Так, может, ты поспешил с прямым контактом?
– Уж больно подходящая была обстановка в парке аттракционов. Я взвесил все «за» и «против» и решил, что прямой контакт логичней, чем скрытое наблюдение. Уж если я живу в соседнем номере…
– Тогда не надо было потом вести за ней скрытое наблюдение.
– Не утерпел. Вошел у нее на глазах в гостиницу и тут же выбежал. Как чувствовал, что они опять встретятся. Ну спрашивается, почему из всех кафе в городе они выбрали именно эту грязную забегаловку? Женщина явно нервничала. Я хорошо ее видел. На мое счастье, прямо напротив кафе оказался узкий проход между домами, совершенно темный. Так вот, мне показалось, что встреча была для нее полнейшей неожиданностью. Возможно, вчера она его вообще не заметила. Слишком уж явно удивилась и испугалась сегодня. Запаниковала, повела себя совершенно неадекватно. Вдруг вскочила и стала фотографировать.
– И после этого ты продолжаешь утверждать, что она из ФСБ?
– Не смейтесь. Пока я ничего не утверждаю. Рано делать выводы. Я буду осторожно вести ее, а там посмотрим.
– Судя по тому,? что ты рассказал, на агента она не тянет. Надо быть кретинкой, чтобы в открытую щелкать Майнхоффа. Разумеется, он бы моментально такого агента вычислил. Ерунда, ни одна спецслужба так не работает. Когда эта русская прилетела?
– Она здесь всего третий день. Раньше почти не выходила из гостиницы. Мне здорово повезло, что соседний номер оказался свободным. Так или иначе это зацепка.
– А если она не говорит по-английски, эта твоя зацепка?
– Она свободно владеет языком. Я понял по нескольким фразам. Отличное произношение, мягкий европейский акцент, скорее французский, чем русский. Правда, она довольно резко отшила меня сегодня в парке, но это не проблема.
– Может, все-таки не стоит тебе сразу идти напролом?
– Наоборот. Красивая одинокая женщина с мальчиком десяти лет. Одинокий скучающий бизнесмен из Америки, зимний Эйлат, соседние номера…
– Ладно, я попытаюсь прощупать эту русскую через наши каналы. Однако, мне кажется, лучше заняться забегаловкой у рынка. Там все ясней и проще.
– Забегаловкой уже занимается МОССАД. Там мы моментально засветимся. Не стоит повторять прежних ошибок. Майнхофф прибыл сюда по делу, и я не удивлюсь, если окажется, что МОССАД не просто в курсе, но имеет свой серьезный интерес. Они позаботятся, чтобы он опять испарился.
– Ты хочешь сказать, что собираешься охотиться за Карлом Майнхоффом в одиночку?
– Не вижу других вариантов.
– МОССАД, Интерпол, ФСБ, а также немцы, англичане, итальянцы… Ты можешь назвать хотя бы одну секретную службу, которая не ловила бы Карла Майнхоффа?
– Я не могу назвать ни одной, которая не пользовалась бы его услугами.
– Ты не только псих и стихотворец. Ты еще и самоубийца.
Глава 3
В номере было холодно. Алиса достала из шкафа запасное одеяло, накрыла Максимку. Он спал неспокойно, вертелся, несколько раз всхлипнул во сне. Он с младенчества остро чувствовал ее настроение. Малейший оттенок тревоги моментально передавался ему. Алиса могла сколько угодно хитрить, улыбаться, выдумывать отвлекающие игры, сочинять веселые и грустные сказки. Все было напрасно.
И сейчас он не мог уснуть до тех пор, пока она не объяснила ему подробно и внятно, почему вдруг ни с того ни с сего так запаниковала в этой дурацкой забегаловке.
– Понимаешь, в какой-то момент компания за соседним столиком показалась мне не то чтобы опасной, но неприятной, способной на агрессию. Согласись, они ведь и правда не внушали доверия, к тому же вокруг не было ни души. А совсем недавно я читала американский триллер, и там была похожая ситуация. Героиня случайно зашла в сомнительную закусочную выпить чашку кофе и съесть что-нибудь, а там как раз собрались уличные наркоторговцы. Девушка едва успела надкусить свой гамбургер, как ворвались люди в масках, с автоматами… Ты ведь знаешь, какое у меня бурное воображение. Я сразу представила нас с тобой на месте этой Элен Кроуфорд, и так ярко представила, что испугалась.
Она стала пересказывать роман Энтони Спейсона «Я не умею стрелять». Ребенок слушал затаив дыхание.
– Ты, мамочка, все-таки немножко чокнутая, – пробормотал он, засыпая. Эти дядьки в кафе были вполне мирные, просто грязные, и прикид у них бандитский. Расслабься, мы отдыхаем…
– У них – что?
– Прикид.
– Малыш, говори, пожалуйста, по-русски.
– Мам, я вообще-то ничего плохого в этом слове не вижу. У нас в классе все так говорят.
– У вас в классе некоторые матерятся через слово.
– Ладно, мамуль, не ворчи. Давай дальше, что там было с этой Элен, которая не успела съесть свой гамбургер?
Когда она дошла до середины, Максимка уже спал.
Номер находился на первом этаже. Вместо балкона был отдельный закуток, окруженный пальмами и невысоким кустарником и выходивший во внутренний двор отеля. Перед стеклянной дверью стоял пластиковый стол под тентом, два стула. Алиса накинула куртку и вышла покурить.
От ветра сухо шуршали пальмовые листья, тихонько плескалась вода в бассейне. Сквозь шторы соседнего номера пробивалась тонкая полоска света. Алиса не заметила, а скорее почувствовала, что рядом, у соседнего номера, в таком же закутке, за таким же пластиковым столом кто-то сидит.
– Мы с вами соседи, – произнес мужской голос по-английски, – вам, я вижу, тоже не спится.
Алиса повернула голову. В темноте белел высокий ворот свитера, блестели глаза и зубы. Американец улыбался.
– Меня зовут Деннис, как героя известного фильма «Один дома». Ваш сын наверняка смотрел этот фильм.
– Восемь раз, – неохотно отозвалась Алиса.
– У меня есть сухой джин. У вас случайно не найдется бутылочки тоника?
– К сожалению, нет.
– Жаль. Тогда хотя бы скажите, как вас зовут.
– Алиса.
– Как поживаете, Алиса?
Стандартное английское «Хау ду ю ду» предполагало такой же стандартный ответ.
– Спасибо, хорошо. – Она поднялась и шагнула к стеклянной двери. Спокойной ночи, Деннис.
– Подождите. Вы наверняка сейчас будете пить чай. Русские обожают пить чай ночами. Можно я составлю вам компанию?
Они разговаривали в темноте, почти не видя друг друга, но по интонации Алиса поняла, что лицо ее собеседника стало серьезным, даже напряженным.
– Нет, Деннис. Как-нибудь в другой раз. Спокойной ночи.
Она ушла в номер, закрыла стеклянную дверь, плотно задернула шторы.
* * *
Неофициальный новогодний фуршет в посольстве США в Москве, на улице Чайковского, был в самом разгаре. Сверкала огромная рождественская елка, по зеркальному паркету, как по замерзшему озеру, скользили дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах.
В яркой надушенной толпе мелькали, как вспышки, лица знаменитостей, эстрадных и киношных звезд, политиков средней руки, которые больше светятся на телеэкране, чем в реальной политике. Был обычный для таких престижных мест набор безыменных «тусовщиков» мужского и женского пола. Странная порода людей, которые со всеми знакомы, везде примелькались, однако никто толком не знает, чем они занимаются, откуда взялись, куда исчезают потом и где достают деньги на столь неопределенно-легкомысленный образ жизни.
Были, конечно, и телевизионщики из программы светских новостей, были журналисты, бизнесмены, дипломаты.
Тихо, ненавязчиво играл классический джаз. Звон бокалов сливался с равномерным, спокойным гулом разговоров.
– Неужели вы не побоитесь вкладывать такие большие деньги в иракскую нефть? – спросила высокая пожилая американка Геннадия Ильича Подосинского, Если это не слухи, то я совершенно ничего не понимаю в пресловутой загадочной русской душе.
– Я слишком устал от праздников, чтобы говорить о делах, – улыбнулся Геннадий Ильич, – вы великолепно выглядите сегодня, Джуди. Надеюсь, я не получу по физиономии за сексуальные домогательства? – Он весело подмигнул и поцеловал даме руку.
Дама рассмеялась, щедро демонстрируя идеальный фарфоровый рот.
– Геннадий, я поняла ваш секрет. Вы – как это по-русски? – пройдоха. Плут. Вы мне напоминаете героя Николая Гоголя, того, который скупал мертвых батраков, чтобы сколотить на этом состояние. Вы делаете деньги из воздуха и умудряетесь всем вскружить голову, в том числе и мне, старой американской феминистке. Иракская нефть сейчас – это даже не воздух. Это пороховая бочка.
Официант, проходивший мимо, поскользнулся, выронил поднос. Несколько бокалов со звоном посыпалось на пол.
– Сорри, – пробормотал официант и стал поспешно собирать осколки, вытирать салфеткой лужу шампанского.
– Джуди, я делаю деньги на собственной живой энергии и на оптимизме, Подосинский быстрым движением пригладил прядки на лысине, – я – представитель крупного капитала. Акула капитализма, как говорили в советские времена. А капитал – это концентрированный энергетический потенциал нации. Потенциал нации не может не думать стратегически. Нефть – неотъемлемая часть стратегии. Слишком затянулся ближневосточный конфликт. Я верю в скорый и счастливый конец.
Он говорил, и к нему уже тянулись руки с диктофонами. Журналисты налетели, как мухи на мед. Щелкали фотовспышки, разворачивались в его сторону телекамеры. Геннадий Ильич, казалось, совершенно не замечал этого. Он обаятельно улыбался и непринужденно беседовал с американкой, словно никого вокруг не было.
– Эмбарго будет снято, нефть потечет рекой. А Чичиков, герой гениального Гоголя, плохо кончил. Так что не сравнивайте меня с ним, я хоть и оптимист, но человек суеверный.
– Это ты суеверный? – послышался рядом раскатистый бас. – Ты, Гена, прагматик, циник. С Новым годом, дорогой!
Толстяк двухметрового роста наклонился и троекратно расцеловался с маленьким Подосинским.
– Володя, здравствуй! Джуди, познакомьтесь, вот человек, рядом с которым я пигмей. Вот кто умеет делать деньги и кружить головы. Володя Мельник, мой друг, красавец мужчина.
– О, господин Мельник, концерн «Триумф», – улыбнулась американка, – много слышала о вас, очень рада познакомиться. Скажите, вы тоже собираетесь вкладывать деньги в иракскую нефть, как только будет снято эмбарго?
– Это что, новый анекдот? – хохотнул Мельник.
– Вот, Джуди, вы спрашивали, как рождаются русские анекдоты. Именно так, Подосинский легонько стукнул своим бокалом о бокал американки, – ваше здоровье, дорогая.
На следующее утро Джуди Мак-Мейнли, пресс-атташе посольства США, просматривала кипу русских газет и ярких тонких журналов, прихлебывая жидкий кофе без кофеина.
«Усилия генерального секретаря ООН увенчались успехом, однако аналитики утверждают, что успех опять будет временным. Мир на Ближнем Востоке не продлится долго…»
«Пока рано говорить о полном снятии эмбарго на нефть в этом регионе… Трудно поверить в искренность представителей крупных нефтяных корпораций, когда они ратуют за мир на Ближнем Востоке. Частичное снятие эмбарго уже привело к обвальному падению цен на нефть. Но наши магнаты не теряются, они успели разжалобить правительство и выбить колоссальные дотации и налоговые льготы. Они повысили цены на бензин. На самом деле себестоимость нефти знает только тот, кто рядом с вышкой…»
«…российские нефтяники терпят серьезные убытки. По предварительным подсчетам, даже временный и непрочный мир на Ближнем Востоке обойдется им в три-четыре миллиарда долларов…»
«Беспорядки в секторе Газа… Вооруженные арабские террористы обстреляли израильский военный патруль в Хайфе… Саддам Хусейн заявил, что не изменит своей позиции по отношению к США и Израилю до тех пор, пока…»
«Хотя накал военно-политических и дипломатических страстей вокруг Ирака приугас немного, в конгрессе и спецслужбах США все громче говорят о том, что пора бы решить проблему глобально, избавиться от неудобного Саддама навсегда… ЦРУ разработан очередной, пятый по счету план смещения иракского лидера, в котором задействованы агенты-курды, шииты, иракские эмигранты в Лондоне, а также беглые офицеры из армии Хусейна, живущие в Иордании…»
«Нефтяные месторождения на территории Ирака продолжают простаивать, вложенные в них деньги прогорают… Нет надежды, что когда-нибудь эта нефть сможет приносить стабильный доход, даже при условии полного снятия эмбарго…»
«Банк „Галатея“, принадлежащий Геннадию Подосинскому, стал соучредителем нефтяной компании „Халифар“. По приблизительным подсчетам, размер инвестиций на сегодня составил пять миллионов долларов, хотя точных цифр не знает никто…»
Джуди Мак-Мейнли присвистнула и покачала головой. Компания «Халифар» была иракской. Она давно разорилась, и надо быть сумасшедшим, чтобы вложить в нее хотя бы сотню долларов.
На другом конце Москвы, в своем особняке в Крылатском, соучредитель концерна «Триумф» Владимир Мельник, едва продрав глаза, нащупал под кроватью сотовый телефон, набрал номер и хрипло произнес в трубку:
– Кирюха, что там насчет акций компаний-посредников по иракской нефти? Перестали падать? Интересно… Слушай, давай-ка по-быстрому, узнай, кто почем скупает… Что, серьезно?..
Он нажал кнопку отбоя и тут же набрал еще один номер.
– Наташа, вызывай всю команду на совещание. Я буду через сорок минут. Срочно, девочка. Очень срочно.
Глава 4
Восточный Берлин, ноябрь 1971 года
– Карл! Встань и выйди из-за стола. Полная веснушчатая рука фрау Майнхофф взлетела, описала мягкий полукруг и отвесила сыну крепкий подзатыльник. Шестилетняя Ингрид тихо захихикала, но тут же подавилась смехом и куском воскресного яблочного пирога, встретив грозный взгляд бледно-карих глаз матери.
Тринадцатилетний Карл продолжал сидеть не шелохнувшись. Он хотел есть сырой говяжий фарш большой ложкой. Ему не нравилось мазать фарш на толстый кусок хлеба, как это принято в их доме и во всех приличных немецких домах. Он знал, что нарушает священный ритуал воскресного семейного завтрака, но его бесили ритуалы.
Он мог вообще обойтись без свежего сырого фарша и даже без яблочного пирога с ванилью, который его мать пекла лучше всех окрестных хозяек. Он бы с удовольствием убежал на улицу, купил бы себе сахарный крендель, пакет молока за двадцать пфеннигов и позавтракал в одиночестве на мокрой скамейке. Если бы мать не выгоняла его сейчас, а просто дала подзатыльник, он бы Так и поступил. Но теперь будет сидеть. Из принципа.
Принципы у Карла были следующие: никогда никому не подчиняться, всегда нападать первым, ничего никому не прощать, платить за обиды той же монетой, но осторожно, продуманно, чтобы не пострадать вновь.
Разумеется, он не мог отвесить матери ответный подзатыльник. Но сестренка Ингрид еще пожалеет о своем мерзком хихиканье.
– Карл, встань и выйди из-за стола, – подал голос герр Майнхофф, маленький, узкоплечий, худой, но с округлым аккуратным брюшком.
По воскресеньям к семейному завтраку герр Майнхофф надевал белую сорочку и галстук, прыскал одеколоном розовую лысину, весь лоснился и сверкал. Нос у него был крупный, хрящеватый, туго обтянутый глянцевой кожей. Блестела промытая шампунем рыжеватая бородка, искрились глаза, маленькие, глубоко посаженные, ярко-голубые. Сверкала галстучная булавка, золотая, с прямоугольным светлым сапфиром в серединке.
Карл искоса смерил отца презрительным взглядом. Бюргер, мясник. Разве он достоин своих предков? Старинный фамильный герб благородных баронов он сменил на розовое свиное рыло.
Портрет улыбающейся счастливой хрюшки красовался на двери мясной лавчонки, которая принадлежит семье Майнхофф. Вместо рыцарских доспехов – фартук из рыжей клеенки, вместо шлема – дурацкий белый колпак, вместо священного меча, обагренного кровью в боях и на турнирах, – топорик для разделки свиных и говяжьих туш.
Сейчас тысяча девятьсот семьдесят первый, доспехи пылятся в музеях. Двадцатый век всех уравнял, баронов и мясников. Это век торжества заурядности. В Восточной Германии национал-социализм сменился просто социализмом. Но есть законы древней крови и родовой чести. Отец пренебрег ими. Карл не уважал отца.
– Хорошо же, Карл, – фрау Майнхофф поджала пухлые губы, – ты можешь сидеть, если ослиное упрямство в тебе перевешивает здравый смысл. Но в таком случае ты лишаешься своих ежедневных двадцати пфеннигов на весь месяц.
– Марта, подай мне, пожалуйста, сливки, – произнес герр Майнхофф и улыбнулся жене. – Ингрид, детка, перестань ковырять в носу, – он протянул руку и погладил дочь по пухлой щеке.
Он давал понять, что Карл со своим ослиным упрямством больше никого за мирным семейным столом не интересует. Это было хуже подзатыльника.
– Я могу остаться? – спросил Карл вкрадчивым, тихим голосом.
– Да, ты можешь остаться, – кивнул отец. Карл грохнул стулом, выскочил из столовой, сдернул свою вельветовую курточку с вешалки в прихожей, выбежал на улицу. В лицо ему брызнул дождь, со всех сторон обступили темно-серые дома узкой старинной улицы.
Тяжелая лепнина в стиле позднего барокко, когда-то обильно украшавшая фасады, была сбита при обстрелах Берлина в сорок пятом году. Голые, гладкие стены унылого темно-серого цвета только кое-где оживлялись зелеными листьями вьющихся декоративных растений. Но сейчас, в конце ноября, фасады домов были оплетены сухими, скорченными стеблями, напоминавшими Карлу фрагменты гигантской безобразной паутины. Родной город представлялся ему огромным, разоренным, заброшенным чердаком, на котором давно нельзя найти ничего интересного.
Серое небо, с нездоровым желтоватым отливом у горизонта, серые дома. Мокрый липкий туман, превращающий утро в сумерки. Самодовольная ухмылка свиньи на двери мясной лавки. Бледные тушки молочных поросят, розовые с белыми прослойками жира окорока.
Он вскочил в трамвай, проехал несколько остановок и вышел у ворот старинного лютеранского кладбища. Немного подумав, перебежал на другую сторону, в маленькой кондитерской на углу купил плитку молочного шоколада, картонный пакет жидкого йогурта. Рядом с лавкой был табачный автомат. Он опустил в щель свою последнюю марку и несколько пфеннигов, вытащил из никелированной пасти автомата пачку сигарет и вернулся к кладбищенским воротам.
Мокрый гравий шуршал под ногами. Каркали вороны. Вокруг не было ни души. Он прошел насквозь почти все кладбище, остановился у мраморной фигуры пухлого ангела. Белый мрамор местами позеленел от времени, нос был отбит, но в целом фигура сохранилась, хотя стояла здесь уже двести лет. Низенькая чугунная оградка отделяла квадратный участок земли, принадлежащий семье Майнхофф. Последним в списке похороненных значилось имя Фрица фон Майнхоффа, 1900-1970.
Карл сел на мокрую скамейку, развернул шоколад, откусил, запил приторным клубничным йогуртом из пакета. Съел всю плитку, закурил дешевую сигарету.
Дедушка Фриц был сумасшедший. Так говорили соседские дети, и Карл колотил их за это. Дедушка Фриц страдал душевной болезнью. Так говорили родители, и Карл презирал их за это.
Отпрыск разорившегося аристократического семейства, Фриц фон Майнхофф избрал военную карьеру. Во время Второй мировой войны служил в абвере. В сорок четвертом его завербовал русский разведчик, работавший в Берлине. В сорок пятом он оказался в советской зоне оккупации. Был тяжело контужен, чуть не погиб.
Дедушка никогда не рассказывал ни о работе в абвере, ни о вербовке и работе на русских. Он избегал разговоров о собственном прошлом, злился, упрямо мотал маленькой лысой головой.
– Моей главной задачей было выжить. Я делал все, чтобы уцелеть в этой пошлой бюргерской бойне. Слишком дорого стоит моя кровь.
И это все. Ни слова больше. Зато об истории баронского рода фон Майнхофф он мог рассказывать часами. Кроме маленького Карла, никто его не слушал.
– Ты фон Майнхофф. Ты последний мужчина из великого рода баронов фон Майнхофф. Твои предки были рыцарями, крестоносцами, триумфаторами. Ты – потомок великого Зикфрида.
Глуховатый, монотонный голос дедушки Фрица звучал в ушах волшебной таинственной музыкой. Маленький Карл слушал, листал толстые альбомы со старыми семейными фотографиями, высунув кончик языка, старательно срисовывал цветными карандашами ветвистое родословное древо.
Дедушка Фриц жил в долгом, беспощадном конфликте с единственным сыном Густафом, отцом Карла. Когда Густаф, закончив среднюю школу, пошел работать в мясную лавку, Фриц стал презирать его, общался с сыном только через посредничество жены, тихой улыбчивой Гертруды.
Густаф женился на веснушчатой пухленькой девушке Марте, отрастил раннее брюшко, завел собственную лавку. Бабушка Гертруда умерла, когда Карлу исполнилось четыре года.
Фриц не разговаривал с сыном, хотя жил с ним под одной крышей и на его деньги. Густаф и Марта смиренно терпели старика. Он был хоть мрачный и неблагодарный, но тихий, к тому же почти полностью освобождал их от хлопот с маленьким Карлом, справлялся не хуже заправской няньки. Это было очень кстати. Супруги Майнхофф работали в лавке с утра до ночи, на ребенка не оставалось ни сил, ни времени.
Маленький Карл жадно впитывал все, что говорил дедушка. Родителей он видел только вечерами, и они молчали, уставившись в телевизор. Никто, кроме дедушки, не умел рассказывать интересные истории. Карлу было приятно слушать о том, что он – особенный мальчик, не как все. Чем старше он становился, тем глубже верил в свою исключительность.
Родителям не приходило в голову прислушаться к речам старика, обратить внимание, что он там бормочет ребенку. Наверное, сказки рассказывает. Они не могли представить, что именно эти сказки стали для ребенка единственной реальностью.
Про дедушку давно знали, что у него не все в порядке с головой, но Густаф и Марта не придавали душевной болезни никакого значения. Смирный, неопасный ну и ладно. А странности бывают у всех. Только когда он попытался ночью поджечь лавку, они опомнились и отправили дедушку Фрица в лечебницу.
Карлу было десять лет. Он навещал дедушку каждую субботу, сидел на стуле у высокой койки в маленькой палате с зарешеченным окном. Соседи по палате кричали, бормотали. Лохматый старик на соседней койке сосал младенческую пустышку, которая висела у него на шее на голубой ленточке. Когда соска выпадала изо рта, он корчил обиженную гримасу и разражался ревом, словно огромный, сморщенный, чудовищный младенец.
У дедушки Фрица, как у всех в этой палате, под кроватью стояло резиновое судно. От запаха хлорки у Карла противно першило в горле и слезы наворачивались на глаза.
– У тебя голубая кровь, Карл. Ты не гляди, что из разбитой коленки течет красная. Ты прижги рану и погляди на фамильный герб, – говорил дедушка Фриц. Мир рушится потому, что в этом веке им управляют плебеи. Адольф Шикльгрубер был сыном грязной батрачки и мелкого таможенного офицеришки, который сам являлся незаконнорожденным, к тому же приходился Кларе, матери этого недоноска, родным дядей. Вы слышите? Он быдло, недоносок, этот ваш обожаемый Адольф Шикльгрубер! – Дедушка Фриц кричал, обращаясь уже не к внуку, а ко всей палате, размахивал руками в крупных желтоватых пятнах старческой пигментации, тряс маленькой лысой головой.
Старик на соседней койке хлопал в ладоши и энергично сосал пустышку.
– Они родные братья с русским быдлом Джугашвили. Тот – сын прачки, этот поденщицы. И оба оказались кретинами, как все плебеи в этом мире. Были бы умней, могли бы договориться. Они так похожи! Адольф учился пению в хоровой школе бенедиктинского монастыря. Иосиф учился в православной школе и готовился стать попом. Адольф рисовал бездарные картинки и считал себя художником. Иосиф писал бездарные стихи и считал себя поэтом. Женщины которые были рядом с ними, кончали с собой. Адольф поставил перед собой цель – уничтожить несколько миллионов евреев и славян. Иосиф уже приступил к этому благородному делу и здорово преуспел, надо отдать ему должное. Они так похожи, эти два главных идиота двадцатого века. Они не договорились и проиграли оба. Но на самом деле, мой мальчик, они победили, однако по своей плебейской тупости даже не успели понять этого.
Сморщенное горбоносое лицо дедушки придвинулось совсем близко к лицу Карла. Выцветшие почти до желтизны, когда-то светло-карие глаза грозно сверкали из-под лохматых седых бровей. От дедушки пахло дешевым мылом и лекарствами. Он перешел на громкий быстрый шепот.
– Они оба, Адольф и Иосиф, добились чего хотели. Теперь мир принадлежит прачкам и мясникам, ростовщикам и поденщицам. Ты, Карл фон Майн-хофф, последний аристократ в этой мертвой стране. Ты не станешь мясником, как твой отец. Ты вырастешь и покажешь им всем, кто они есть на самом деле. Ты вышибешь из их тупых голов всю дурь, которая накопилась за этот плебейский век. Поклянись, мой мальчик, что ты не дашь им спать спокойно и никогда не станешь мясником. Ты вырастешь, найдешь женщину, не плебейку, с чистой голубой кровью, и она родит тебе сына. Твой сын никогда не станет мясником.
Дедушка извлек из-под подушки мятый клочок бумаги, листок из детского альбома, на котором рукой маленького Карла был аккуратно нарисован фамильный герб баронов фон Майнхофф. Прямоугольник с оконечностью в форме фигурной скобки, рыцарский шлем с решетчатым опущенным забралом, хищный профиль черного орла, дубовая ветвь…
– Клянись, мой мальчик, что ты никогда не-предашь наших предков. Ты не предашь Зикфрида.
Дрожащие узловатые пальцы с желтыми толстыми ногтями любовно разгладили листок и поднесли его к лицу ребенка, совсем близко.
– Клянись, Карл, что ты будешь сеять смуту среди серых бездарных плебеев, которыми полон до отказа этот мещанский мертвый мир. Клянись, что ты продолжишь наш род. У тебя будет сын, которого ты воспитаешь как барона, как рыцаря. У тебя будут внуки и правнуки. Ни один из них не станет мясником.
– Клянусь, – ответил ребенок страшным шепотом.
Марта Майнхофф говорила, что ее свекор Фриц свихнулся от большого ума.
– Умники всегда плохо кончают, – вздыхала она, развешивая колбасы на крюках, красиво раскладывая на маленьких тарелочках кусочки ветчины, буженины, ростбифа.
В каждый кусочек втыкалась тонкая деревянная палочка-шпажка. Марта ревниво следила, чтобы покупатели по рассеянности не увлекались дегустацией и не сметали все, что было выставлено на пробу.
– Некоторые приходят, чтобы полакомиться нашей продукцией, и ничего не покупают, – ворчала она.
Мелодично звенел дверной колокольчик, фрау Марта расплывалась в любезной улыбке. Карл слышал приторное мяуканье:
– Гуттен морген… данке шен… фидерзейн… чуз-чуз-чуз… Так вот, сынок, умники всегда плохо кончают, – продолжала она уже другим, несладким голосом, когда за очередным покупателем закрывалась дверь. – Ты знаешь, дедушка Фриц работал в абвере. Он был разведчиком. А разведчику приходится слишком уж усердно шевелить мозгами.
Карл молчал. Он понимал: спорить с матерью бесполезно. Он-то знал, что дедушка Фриц был единственным нормальным среди всех них. Думать как они, жить как они – разве это не сумасшествие? Каждый день свиные туши, мерный стук топорика, жужжание мясорубки, чинный ужин, сериал по телевизору. Разговоры о делах в лавке, о ценах на говядину. Это они все слабоумные, а дедушка Фриц нормальный.
Из больницы дедушку перевели в интернат. Карл каждую субботу ездил в Потсдам. Интернат был хороший старик жил в маленькой чистенькой отдельной комнатке. Карл привозил деду баночки с паштетами, мягкую вареную колбасу, фруктовое пюре. Все это готовила и аккуратно заворачивала в яркие бумажки фрау Марта.
Когда Карлу исполнилось двенадцать, дедушка Фриц умер. На старинном лютеранском кладбище пухлый улыбчивый патер прочитал короткую молитву, специальный кладбищенский экскаватор быстро аккуратно засыпал гроб твердыми комьями желтоватой глинистой берлинской земли.
Было сырое туманное утро, каркали вороны, звенел трамвай за кладбищенской оградой. Карл глядел на скучные лица своих родителей и думал о том, что он последний из рода фон Майнхофф. Последний и единственный потомок великого воинственного Зигфрида в этом пошлом, тупом бюргерском мире.
Глава 5
Эйлат, январь 1998 года
Сквозь плотные шторы пробивался солнечный свет, за стеной гудел пылесос и негромко переговаривались горничные. Алиса открыла глаза. Без пятнадцати одиннадцать. Максимкина кровать была пуста. На тумбочке жалобно попискивала электронная игрушка, а из-под скомканного одеяла выглядывала ушастая голова старой плюшевой обезьяны, с которой ребенок не расставался с четырех лет.
Алиса встала, прошлепала босиком к стеклянной двери, выходившей во внутренний двор, отодвинула штору. День был теплый и солнечный. В бассейне плескалось человек десять, и среди них она сразу заметила сына. Он пытался закинуть мяч в высокую баскетбольную корзину.
– Чуть медленней. Размах чуть медленней, – рядом с Максимкой плавал темноволосый мужчина.
– Покажите мне еще раз! – крикнул Максим по-английски и кинул мужчине мяч.
Это был сосед, американец. «Ну ладно, пусть ребенок подтянет свой английский», – спокойно подумала Алиса и, сладко потянувшись, отправилась в душ.
За ночь все страхи улетучились. Разумеется, никакого Майнхоффа во вчерашней забегаловке не было. Все хорошо. Все отлично. Надо забыть про вчерашний призрак в грязной закусочной. Он действительно призрак, выходец с того света, существо из другой реальности, которой больше нет и быть не может в ее жизни. Надо взять себя в руки и начать наконец отдыхать в свое удовольствие.
Она вышла из душа, надела узкие бледно-голубые джинсы и темно-синюю блузку из плотного шелка, расчесала прямые пепельно-русые волосы, доходившие почти до пояса, быстро оглядела себя в огромном зеркале стенного шкафа и осталась довольна. Как сказал мудрый Козьма Прутков, хочешь быть счастливым, будь им. Глупо тратить драгоценное время отдыха на призраков, на дурные предчувствия и головную боль.
– Максимка, вылезай, будем завтракать, – негромко позвала она сына, подойдя к краю бассейна.
Он помахал рукой, нырнул, поднимая фонтан брызг, и через минуту его голова показалась у бортика.
– Мам, Деннис, наш сосед, согласился взять меня с собой поплавать с аквалангом, – радостно сообщил он, вылезая из бассейна, – ты мне разрешаешь?
– Нет. Я не знаю никакого Денниса, к тому же ты еще слишком маленький для акваланга. – Алиса закутала сына в огромное гостиничное полотенце.
– Ну, не с аквалангом, так с маской.
– Все равно не разрешаю, – покачала головой Алиса, – вода в море слишком холодная…
– Мам, ну ты что?! Я уже договорился. А с Деннисом ты познакомься, он такой классный, он, кстати, приглашает нас на завтрак. Мам, ну пожалуйста! Я английский подтяну. Ты же сама говорила, без разговорной практики нельзя выучить язык.
– А зубы ты чистил, водолаз?
– Ты сейчас будешь изображать вредную мамашу? У тебя с утра острый воспитательный синдром? – буркнул ребенок, передернув плечами, скинул Алисину руку.
– Не груби, пожалуйста. На твоем месте я была бы тише воды, ниже травы, если бы так сильно хотела понырять, – заметила Алиса.
– Ты? Понырять?! Ха-ха, мамочка, не смеши меня!
Ты здесь еще в воду ни разу не вошла, даже в бассейне не искупалась! Ты трусиха, к тому же у тебя приступ вредности!
– Вот я сейчас рассержусь, мы поссоримся, и никакого Денниса с аквалангом тебе точно не видать. Так зубы чистил или нет?
– А как ты думаешь? – прищурился Максимка.
– Разумеется, нет. Ладно, давай быстренько в душ, почисть зубы, а там видно будет.
– Мам, зачем в душ после бассейна?
– Хлорку смыть.
Завтрак можно было приготовить прямо в номере. В маленьком закутке имелось все необходимое – электрическая плита, набор кухонной посуды, микроволновая печка с грилем.
– Тебе омлет или гренки с сыром? – спросила Алиса, заглянув в ванную.
– Мне яичницу с беконом.
– Где я возьму бекон? Здесь не едят свинину.
– У Денниса есть бекон, – Максимка выглянул из-за пластиковой шторки, – я в отличие от тебя, мамочка, не такой дикий и легко схожусь с людьми.
– Слишком уж легко.
В стеклянную дверь постучали. На пороге стоял американец и смущенно улыбался.
– Наверное, я поступил опрометчиво, пообещав Максиму, что мы будем нырять? – Он шагнул в номер, не дожидаясь приглашения. – Надо было сначала у вас спросить.
При ярком солнечном свете он выглядел моложе и привлекательней. Лицо не казалось таким жестким. На нем были светлые холщовые брюки, бежевая рубашка с короткими рукавами. Широкие плечи, темные короткие волосы, небольшие залысины над высоким лбом. Карие глаза смотрели на Алису с явным мужским интересом, даже с восхищением.
«Американская феминистка расценила бы такой откровенный взгляд как сексуальное домогательство, – усмехнулась про себя Алиса, – а за такую настырность могла бы подать в суд».
– Я понимаю, что веду себя слишком навязчиво, – произнес он, как бы прочитав ее мысли, – но мне ужасно неуютно здесь в одиночестве. В Детройте у
Меня есть племянник Стивен, ему десять, как вашему Максиму. Они очень похожи. Разумеется, это ничего не значит. Если вам неприятно мое общество, я уйду сию же минуту и больше ни разу вас не побеспокою.
«Ага, так я тебе и скажу: пошел вон, паршивый янки, мне неприятно твое общество! А потом ребенок будет на меня дуться всю оставшуюся неделю. Я ведь не могу часами играть с ним в мячик в бассейне и тем более нырять с аквалангом. Максимка, вероятно, успел сообщить: мама не умеет плавать и не любит играть в мяч».
– Деннис, где вы достали бекон? В этой стране не едят свинину, произнесла она вслух с любезной улыбкой.
– Купил в английском магазине деликатесов в Тель-Авиве. Надеюсь, вы не вегетарианка?
– Нет, я не вегетарианка. А почему вы приехали сюда отдыхать в одиночестве, если вам неуютно?
– Я приехал в Тель-Авив по делам фирмы. Я работаю социологом-аналитиком в корпорации, которой принадлежит сеть американских гостиниц «Холидей-инн» по всему миру. Я никогда раньше не был в Израиле, решил устроить себе небольшой тайм-аут, поплавать в Красном море и заранее выторговал у своего начальства недельку отдыха.
– Американские гостиницы «Холидей-инн» здесь на каждом шагу, – заметила Алиса, – а вы поселились в этом отеле. Наверное, в «Холидей-инн» могли бы жить бесплатно.
– Меня тошнит от наших «иннов», – усмехнулся Деннис, – и потом, там нет системы апартаментов, нет номеров с кухней. А я люблю готовить. В Детройте я даже хлеб себе пеку сам. Между прочим, именно поэтому от меня ушла жена два года назад. Она тоже обожала готовить, и мы дрались до крови за право стоять у плиты.
Из ванной вышел Максимка и, увидев Денниса, прямо засиял счастливой щенячьей улыбкой.
«Ладно, яичница с беконом на завтрак – это совсем неплохо, – подумала Алиса, – особенно в стране, где нет свинины и нельзя съесть ни кусочка ветчины, ни нормальной сочной сардельки».
* * *
Город Беэр-Шева, столица южной пустыни Негев, вовсе не похож на оазис. Унылая пустыня, нагромождение бесформенных глыб известняка и песчаника, и посередине – город, до сих пор напоминающий военное поселение на оккупированной арабской территории, хотя арабов отсюда изгнали еще в 1948 году.
Светло-серые, прямоугольники домов, солдаты, полицейские, темнолицые бедуины, закутанные в экзотическое грязное тряпье с головы до пят, пропыленные военные грузовики и джипы на улицах.
Рядом с городом база ВВС, а чуть дальше израильский Научный центр ядерных исследований, мрачное строение, окруженное колючей проволокой, сторожевыми вышками и мертвой зоной пустыни.
В пятницу пятого января к трем часам дня в городе Беэр-Шева все бегали и суетились. Владельцы маленьких кафе убирали с улиц столы и стулья, терли щетками со специальной пеной плиты тротуара, опускали жалюзи. В продовольственных лавках, которые еще оставались открытыми, шла спешная, немного нервозная торговля. Жители закупали еду на ближайшие сутки.
К четырем часам город вымирал. Начинался иудейский шабат. До субботнего вечера, до первой звезды, все будет закрыто. Работать в это время – великий грех. Далеко не все жители города были правоверными иудеями. В Беэр-Шеве жили люди из семидесяти стран, переселенцы из Румынии, Польши, Марокко, Аргентины, бывшего Советского Союза, и много другого пестрого разноязычного народу. Но древний обычай соблюдался аккуратно.
На окраине города, в трехэтажном здании, огороженном высоким забором с колючей проволокой, царила такая же суета, как и везде в Беэр-Шеве. Сотрудники снимали специальные прорезиненные костюмы, стягивали защитные маски, громко переговаривались через стенки душевых кабинок.
Покидая это здание, все сотрудники, даже охранники, переодевались, мылись, обрабатывали руки и лицо специальным дезинфицирующим раствором. Лаборатория занималась биологическим оружием нового поколения и всевозможными ядами, которые действуют либо мгновенно, либо медленно, проникают в человеческий организм при соприкосновении с небольшим участком кожи, не оставляют следов даже при тщательном химическом анализе.
В отличие от базы ВВС и Центра ядерных исследований, которые обозначены во всех туристических путеводителях, эта лаборатория была строго засекречена.
Все виды биологического оружия нового поколения, которым здесь занимались, были запрещены Женевской конвенцией. Специальная комиссия ООН еще пять лет назад, рассмотрев материалы исследований, объявила, что такие разработки представляют опасность для биосферы Земли и в дальнейшем могут привести к непредсказуемым последствиям, к генетическим мутациям, резкому росту иммунных и онкологических заболеваний.
Неприметное серое здание на окраине Беэр-Шевы скромно именовалось Санитарно-эпидемиологической станцией.
К половине четвертого все шкафы с химикатами, стеклянные резервуары с образцами смертоносных бацилл, вирусов и прочей гадости, барокамеры с подопытными мышами и кроликами были закрыты, заперты, запечатаны специальными печатями. Стальные бронированные двери захлопнулись.
Руководитель лаборатории Натан Бренер, невысокий, полноватый, с непропорционально крупной головой, которая казалась еще больше из-за пышной седой шевелюры, сидел в своем кабинете, пил чай и никуда не спешил. Вопреки священной традиции он собирался сегодня еще поработать. Есть вещи, ради которых можно нарушить шабат. Штаммы живой культуры, полученные в результате скрещения сибирской язвы с североамериканским бластомикозом, размножаются даже в шабат. Именно сегодня, по всем расчетам, подопытный кролик Карл, зараженный супервирусом, а затем получивший несколько инъекций специального антибиотика, должен был либо выздороветь, либо издохнуть.
Особенность исследований Бренера состояла в том, что он создавал не только смертоносные бактерии и яды, но пытался сразу разработать антибиотики и противоядия к ним. Если, к примеру, при использовании биологического оружия случайно заразится кто-то, кроме противника, должен быть шанс спасти, вылечить. Точно так же и с ядами. Чем проще и быстрее проникает он в организм жертвы, тем опасней для того, кто его использует.
Натан Бренер взглянул на часы. Старые верные механические часы фирмы «Полет». Им двадцать лет. Он купил их в ГУМе, когда уезжал из России. Сейчас они показывали четыре. Начало шабата. В крошечном окошке на циферблате календарик. Оказывается, сегодня пятое января. Ровно двадцать лет, как он уехал из России. Может, стоит отпраздновать эту дату в компании подопытного кролика Карла? Да, если уж праздновать, то именно в такой печальной компании, ибо радости от этого юбилея Бренер не испытывал.
Покряхтывая по-стариковски, Натан Ефимович поднялся, вышел из кабинета. В небольшом холле у журнального столика, развалившись в мягких креслах, двое охранников лениво хрустели картофельными чипсами, потягивали колу из пластиковых бутылок. Автоматы «узи» валялись тут же, на столике, и на них сыпались жирные крошки от чипсов.
Бренер кивнул охранникам, прошел по коридору, сунул магнитную карточку в щель массивной металлической двери. За дверью находился просторный бокс для подопытных животных, за которыми необходимо было вести круглосуточное наблюдение. В стеклянной барокамере лежал, не двигаясь, подопытный кролик Карл. Белая шерстка местами облезла, обнаженные участки кожи были покрыты страшными гнойными волдырями.
– Ну что, братец кролик, плохо дело? – произнес Бренер по-русски.
Зверек не шевелился, но дышал. Длинные уши едва заметно вздрагивали. Натан Ефимович достал из стеклянного шкафа защитную маску, подошел к барокамере. В круглые отверстия были впаяны огромные резиновые перчатки, герметичные безопасные норы для человеческих рук. Бренер достал из кармана халата упаковку с одноразовыми хирургическими перчатками, и только так, через двойной слой резины, прикоснулся пальцем к голове умирающего зверька, осторожно погладил за ухом. Кролик вздрогнул, чуть приподнял облезлую мордочку и уставился на профессора.
– А что, Карлуша, может, поживем еще? – задумчиво спросил Бренер.
Бледно-розовые ноздри зверька трепетали, нервно подергивались. Значит, антибиотик действовал. Возможно, он просто продлевал мучительную агонию. Но исследования надо продолжать именно в этом направлении, постепенно расширяя зыбкую границу между жизнью и смертью.
Натан Ефимович выдвинул ящик кормушки, ловко извлек кусочек морковки и поднес его к самому носу зверька. Ноздри затрепетали еще быстрей. Кролик открыл рот и ухватил оранжевый кружок.
– Отлично, Карлуша, – улыбнулся профессор, – если ты такой молодец, давай вместе праздновать круглую дату. В Москве-то сейчас мороз, снег. Говорят, это теперь совсем другой город. Может, смотаться мне туда на недельку, а, Карлуша?
Кролик старательно жевал морковку и глядел на профессора живыми красными глазками. Натан Ефимович поднес к его мордочке маленький лоток со свежей водой.
– Выпей, братец, за мой глупый юбилей. Ты спросишь, почему глупый? Сам не знаю. Я мечтал о собственной лаборатории – вот она. Я хотел путешествовать по всему миру, видел во сне Лондон, мысленно гулял по Парижу – таки теперь все это я поимел наяву. И что? Тоскую по Мещанским улицам, по бандитской Малюшенке, по Трифоновке тоскую, старый идиот, по перекурам и партсобраниям, по буфету в нашем паршивом НИИ. Девяносто рублей зарплата, мать твою. Младшему научному сотруднику больше не полагалось. А старшего не давали, мешала пятая графа. В партию вступил, а все равно не давали. Диссертацию дважды завернули… Коммуналка на Трифоновке, вонючий подъезд, в котором вечно кто-то пил, а потом блевал у батареи, индийский чай со слоном и финский сервелат в заказах на Седьмое ноября….Ну спрашивается, что я там забыл? Двадцать лет успокоиться не могу, потому и не еду туда в качестве богатого иностранца. Боюсь. Ну скажи, чего мне неймется? Отличный дом, денег – завались, сын Сережка закончил Кембридж, процветает, фирму свою открыл в Тель-Авиве. Внуков двое, чудесные детки, умные, с хорошей хваткой. Только по-русски не говорят. По-английски и по-французски болтают, засранцы малолетние, а по-русски – ни слова. Зачем им? Они здесь родились. Иврит их родной язык. Так-то, братец кролик.
Натан Ефимович тяжело вздохнул, потрепал зверька за ухом, вытащил руки из резиновых нор, стянул перчатки, снял маску. К боксу примыкала небольшая комната отдыха. Журнальный столик, пара кресел. Бренер тщательно вымыл руки, облил кисти дезинфицирующим раствором, достал из кармана белого халата серебряную плоскую фляжку, уселся в кресло, хлебнул коньяку прямо из горлышка, закурил и тихонько фальшивым, скрипучим тенорком стал напевать себе под нос:
После дождичка небеса просторны,
Голубей вода, зеленее медь…
Он забывал слова любимого романса Булата Окуджавы, врал мелодию, злился на самого себя за сентиментальность, за глупую тоску, которая ему, шестидесятилетнему профессору с мировым именем, вовсе не к лицу.
– Пустыня… – бормотал он, прихлебывая коньяк, перебивая самого себя, чужая страна… совсем чужая…
Город Беэр-Шева к пяти был похож на пустыню. Улицы вымерли. В управлении полиции, которое находилось неподалеку от здания секретной лаборатории, дежурные слонялись по коридорам, смотрели телевизор, курили, пили безалкогольное пиво.
У ворот остановился серый спортивный «Форд» с открытым верхом. Из него вышла молодая пара. Светловолосые, в темных очках, в дорогих спортивных куртках, они заговорили очень возбужденно по-немецки, перебивая друг друга.
– В чем дело? – поинтересовался по-английски дежурный офицер.
– У меня вытащили бумажник здесь в кафе за углом, – молодой человек перешел на английский, – там все мои документы, кредитные карточки, водительские права.
– В каком именно кафе? – спросил офицер. –Сейчас все закрыто.
– Это случилось часа два назад, но пропажу я обнаружил позже.
– Вы помните, где именно это произошло? Молодой человек стал пространно объяснять, где находится кафе. Дежурный принялся заполнять протокол.
– Мы туристы из Австрии, – сообщила девушка, – мы улетаем через два дня.
– Как вы попали в Беэр-Шеву? Это не туристический город. У вас есть какие-нибудь документы? – обратился офицер к девушке.
– Мы ехали из Эйлата в Иерусалим… Простите, где у вас туалет?
– По коридору направо.
Девушка удалилась в туалет. Молодой человек продолжал возбужденно рассказывать, как, по его мнению, могли вытащить бумажник из кардана куртки и что в этом бумажнике находилось. Офицер достал еще один бланк протокола.
– Ваша фамилия?
– Мартин Штраус, гражданин Австрии.
Пока заполняли протоколы, вернулась девушка.
– Я бы советовал вам задержаться в городе. Мы постараемся найти вора по горячим следам. Сейчас вы вместе с нашей патрульной машиной попробуете отыскать то кафе, – сказал офицер.
Парочка вышла из здания в сопровождении двух полицейских. Патрульный джип выехал из ворот и последовал за серым-"Фордом". Они не проехали и сотни метров. «Форд» резко затормозил. Девушка развернулась, встала во весь рост. В руках у нее оказался автомат. Двое офицеров не успели опомниться, переднее стекло джипа разлетелось вдребезги, полицейские были прошиты очередью, которую заглушил мощнейший взрыв. Управление полиции города Беэр-Шевы взлетело на воздух.
Проливается черными ручьями
Эта музыка прямо в кровь мою.
Натан Ефимович Бренер допел последний куплет романса Булата Окуджавы, вылил в рот остатки коньяка из серебряной плоской фляги, щелкнул зажигалкой и услышал жуткий грохот где-то совсем близко.
Завыла сирена. Через минуту в коридоре началась беготня. Профессор выскочил из бокса, прежде чем закрыть стальную дверь, бросил взгляд на кролика Карла. Кролик метался по барокамере.
– Господин Бренер… – навстречу по коридору бежал охранник.
– В чем дело? Что происходит? – выкрикнул профессор.
Все здание секретной лаборатории было наполнено истерическим визгом сигнализации. Рядом, почти у самого уха, что-то хлопнуло, будто пробка вылетела из бутылки шампанского. Охранник открыл рот и стал медленно падать прямо на Натана Ефимовича. Профессор подхватил его и увидел, как стекленеют темно-синие молодые глаза. За охранником возвышался силуэт какого-то странного инопланетного существа с коротким рифленым хоботом. Резкий запах дешевой парфюмерии ударил в нос, в горле сильно запершило, глаза заволокли слезы, голова закружилась.
Краем уходящего сознания профессор успел понять, что перед ним не инопланетянин, а обыкновенный земной бандит в противогазе.
* * *
Здание акционерного общества «Шанс» возвышалось над старыми переулками в районе Остоженки, как огромный инопланетный корабль, этакий летающий фужер из черного стекла. На донышке фужера, в уютном просторном кабинете президента акционерного общества, шло экстренное совещание.
– Я не вижу в этом ничего странного и тем более абсурдного. Мирный договор подписан. На ближайшие несколько лет стабильность в регионе гарантирована. На наших глазах ситуация на нефтяном рынке резко меняется. Падают цены. Как только будет снято эмбарго, акции компаний, которые успеют вовремя подсуетиться, резко подскочат. По моим данным, деньги в иракскую нефть уже вложили «Триумф», «Прометей», «Российский купец», «Галатея», разумеется, пока тайно, через посредников.
– Вот это и настораживает. Подосинский уже несколько лет покупает через подставных лиц иракскую нефть за копейки и продает за доллары. С чего бы ему сейчас суетиться? Он вовсе не заинтересован в мире и в стабильности.
– Вот поэтому он и засуетился. Он вырабатывает новую стратегию. Нельзя зевать, иначе он опять будет первым.
– А может, он блефует? Разыгрывает спектакль?
– Что, спектакль с миром на Ближнем Востоке и снятием санкций ООН?
– Почему бы и нет? Я, например, ничего не исключаю, когда речь идет о Подосинском.
– Ну, не надо приписывать Гене Подосинскому полномочия генерального секретаря ООН. Гена, конечно, фигура серьезная, но не до такой степени. Другое дело, что с миром все не так просто. Американцы делают хорошие деньги на поставках оружия. Постоянный образ врага, агрессора – козырная карта политиков. Хочешь повысить свой рейтинг – добейся подписания пары-тройки договоров о перемирии, организуй освобождение десятка-другого заложников, и сразу тебе зааплодирует восхищенная общественность.
– Ладно, не стоит сейчас вдаваться в высокую политику. Сколько у нас времени, чтобы принять решение?
– Не больше недели. Но объем инвестиций надо обговорить заранее.
– 0кей, будем считать это рабочим вопросом.
– Даже так? Не рано ли? Надо сначала хорошо прощупать Подосинского.
Когда члены совета директоров разошлись, президент вызвал секретаршу.
– Свяжись-ка, Мариночка, с Харитоновым. Пусть подъедет. Скажи, срочно.
Через двадцать минут Валерий Павлович Харитонов, неприметный, серенький человек лет пятидесяти, начальник охраны акционерного общества, отставной полковник госбезопасности, бесшумно вошел в кабинет.
– Валера, мне нужно все о Подосинском за последний месяц. Официальные переговоры, планы по инвестициям, контакты, поездки, слухи и даже просто треп. Все, Валера. Очень осторожно и крайне срочно.
Глава 6
Восточный Берлин, март 1978 года
Закончив школу, Карл Майнхофф легко поступил в университет, на исторический факультет. У него была отличная память, он быстро запоминал имена и даты. На вступительных экзаменах сыпал шелухой цитат из классиков марксизма-ленинизма.
К двадцати годам Карл был крепок, жилист и при небольшом росте умудрялся смотреть сверху вниз даже на тех, кто был выше его на голову. Лица людей на серых берлинских улицах казались ему свиными рылами. Ему было скучно. Иногда хотелось просто так, от скуки, вмазать кулаком в какое-нибудь рыло. И он с трудом сдерживался.
Он был примерным студентом, старостой группы, гордостью факультета, отлично учился, активно занимался общественной работой. Он хотел сделать карьеру не для того, чтобы жить в большом красивом доме, разъезжать на шикарной машине и так далее. Это все мелочи. Главное – не слиться с серой массой, подняться над ней, чтобы свиные рыла были не перед глазами, а где-то там, внизу. Под ногами. Он ведь последний и единственный из благородного рода баронов фон Майнхофф.
Разумеется, никому он про свое благородное происхождение не болтал. Болтал он о других вещах. О том, что все вокруг дерьмо и свинство. О том, что миром правят придурки, старые маразматики и, если ты молодой, здоровый, сильный, надо дать им всем пинком под зад. Вообще-то, Гитлер был прав, когда истреблял евреев и славян. Правильно. А то развели сопливую демократию. Обязательно кого-то надо истреблять. Без этого человечество жиреет, тупеет. Не важно, кого именно. Главное – найти врага. Враг – это стимул. Без стимула нет развития. Если нет врага, люди начинают искать недостатки в самих себе. А это вредно для здоровья. От этого становишься рефлексирующим дерьмом. Что может быть хуже рефлексирующего дерьма? Нужна ясность. Вот враг. Он плохой. Он во всем виноват. Размажь его по стенке, и тебе сразу станет легче.
Все это Карл болтал тихо, но так убедительно, так вдохновенно, что с каждым разом становилось все больше слушателей. В подвальной пивной, неподалеку от университета, собирались те, кому нравилось слушать Карла.
Скоро вокруг Майнхоффа сбилась крепкая, мрачно-восторженная стайка постоянных слушателей, дюжина мальчиков от пятнадцати до двадцати. Из них только двое были студентами университета, остальные учились либо в школе, либо в ремесленных училищах. Карл был самый старший, самый умный. Его не перебивали. Ему внимали, открыв рты, как голодные воронята. И падали в эти жадные клювики вкусные питательные червяки бредовых идей.
Мальчики, взбудораженные гормональными бурями полового созревания, томимые переизбытком тестостерона в крови, были счастливы сбиться в стаю. Стая давала сладкое чувство общности и в то же время – особости, исключительности.
Дальше разговоров пока не шло. Стайка подростков еще не оформилась в нечто серьезное, жуткое, кровавое. Старинный и вечно юный бред уничтожения еще только пульсировал в глупых головах берлинских мальчиков. Слоился табачный дым, шипели сардельки на жаровне, пузырчатой мутной пленкой оседала пивная пена на толстобоких кружках, юные глаза наливались кровью, лоснились от пота и пива почти детские, но уже не человеческие лица.
– Все дерьмо. Надо навести порядок. Великая немецкая нация разъедена буржуазно-еврейско-американской заразой. Надо спасать нацию. Надо удалить стерильным скальпелем раковую опухоль сионизма. Пора покончить с прогнившей слюнявой христианской моралью. Сколько денег уходит на всяких там дебилов, инвалидов, психов и прочих уродов! Нация не должна их кормить. Нация не должна их жалеть. В печь их всех, а пепел – на удобрение. Нельзя никого жалеть. Надо убивать евреев и цыган.
– И черномазых, – рыгнув, добавлял кто-нибудь из мальчиков.
– Черномазых, – согласно кивал Карл.
– И священников, – гаркал кто-то.
– Священников, – кивал Карл, – христианская церковь разлагает нацию, призывая к любви и смирению. Какая, к дьяволу, любовь? Есть здоровые инстинкты. Какое смирение? Ха-ха, вот пусть они и смиряются, когда мы будем их убивать.
– А русские? – выкрикнул кто-то так громко, что бармен и пара проституток, скучавшие у стойки, посмотрели в сторону веселой компании.
– Не ори, Отто, – поморщился Майнхофф, – с русскими мы тоже разберемся. Мы заставим их построить посреди Москвы точно такую же стену с колючкой, как у нас в Берлине. И пропустим ток по колючке. Мы будем во всем брать с них пример. Они умеют бить сапогами по свиным рылам и неплохо справляются с евреями. У них есть чему поучиться. Но вообще они тоже свиньи. А как поступают со свиньями?
– Из свиней делают ветчину.
– Правильно, Вилли.
– Но из русских выйдет плохая ветчина. Чтобы мясо было сочным, скотину надо хорошо кормить. А русские едят всякую дрянь. Моя тетка Герда была в России, там в магазинах продают тухлую рыбу, комки грязи вместо картошки. И стоят очереди, каких у нас не было даже после войны. Карл, почему они победили, а сами едят тухлятину?
– Потому что свиньи.
Мальчики за широким столом из нетесаных досок оглушительно ржали. Плыл горький слоистый дым, пахло пивом, молодым потом и кровью. Все-таки уже пахло кровью.
В погребок редко заглядывали посторонние. Публика была все та же: несколько тихих пьянчуг, проститутки с бульвара, иногда приходили панки с петушиными гребнями, покуривали марихуану, громко ржали, распевали нестройным хором похабные песенки. Между ними и компанией, сбившейся вокруг Карла Майнхоффа, до поры до времени соблюдался тихий, взаимовыгодный нейтралитет. Ни те ни другие вовсе не хотели, чтобы из-за случайных конфликтов хозяин кабачка вызвал полицию.
Разумеется, к табунку прибивались девочки. Карл равнодушно скользил взглядом по накрашенным лицам и все никак не мог остановить свой выбор на какой-нибудь одной. Его раздражали однообразие и скучная доступность этих молоденьких вульгарных бездельниц, готовых прибиться к любой компании, в которой много мальчиков, пива, марихуаны. Ему не нравились выщипанные в ниточку брови, ужимки, манера закатывать и прикрывать подведенные кукольные глаза. Одеты они были почти одинаково: короткие узкие юбки из замши или плотного эластика, трикотажные маечки с низкими декольте на спине и на груди, много дешевой тяжелой бижутерии. И пахли они одинаково: приторными дешевыми духами, потом, грубой похотью, и слова говорили одни и те же, а чаще молчали и хихикали.
Посетительницы пивной устраивали его только на одну-две ночи, не более. Но и в университете, среди совсем других девушек, не мог он найти себе постоянную подружку.
Берлинские студентки-интеллектуалки конца семидесятых носили потертые джинсы, кроссовки или мужские ботинки, мешковатые свитера, куртки защитного цвета. Бровей не выщипывали, любили маленькие круглые очки, огромные холщовые сумки-мешки. Волосы мыли каждый день, но почти не расчесывали, часто стриглись совсем коротко, под ежик. Никаких духов, каблуков, декольте, украшений, никакой косметики, ничего обтягивающего, яркого. Говорили эти девушки слишком много и умно, каждым жестом подчеркивали свою бесполость, независимость и совершенное нежелание нравиться. Это тоже раздражало, просто скулы сводило от скуки.
Ему нужна была особенная девушка. Не обязательно красотка, но непременно породистая, с тонкими пальцами и щиколотками, с узкими бедрами, с чистым правильным лицом. Не куколка, глупо хихикающая и хлопающая глазками, но и не бесполая серьезная умная швабра. У нее должно быть ума ровно столько, чтобы слушать и понимать Карла, но не больше. Она должна быть молчаливой, немного странной, ни на кого не похожей. Она должна уметь глубоко и ненавязчиво восхищаться каждым словом и поступком Карла. Должна быть верной, преданной, готовой ради него на все.
Нельзя сказать, что в душе его успел сложиться некий конкретный идеал, по которому он тосковал в обществе случайных подружек. Меняя девочек, он вовсе не тосковал, хотя всегда знал, что было бы приятней, удобней и надежней иметь рядом одну, постоянную.
И вот однажды дождливым мартовским вечером в погребке появилась новая и совершенно особенная девушка.
У нее были очень светлые, почти белые волосы, прозрачные светло-голубые глаза, большой мягкий рот, редкие мелкие веснушки на вздернутом тонком носике. Ей было не больше шестнадцати.
Магнитофон работал на полную мощь, от ударов тяжелого рока пульсировали стены, тряслись пивные кружки. Приходилось орать в самое ухо, чтобы тебя услышали. У стойки, сидя на высоких табуретах и потягивая шнапс, пара вялых пожилых проституток обхаживала какого-то случайного пижона в двубортном красном пиджаке.
– Зря стараешься, Магда, он «голубой»! – громко прокричал Карл в ухо одной из женщин, проходя мимо.
– Что ты сказал? – пижон повернул к Карлу длинную худую физиономию в спелых прыщах. – Повтори, дерьмо, что ты сказал?!
Он спрыгнул с табурета и двинулся на Карла, но тут же получил крепкий удар коленом между ног. Пока пижон, согнувшись пополам, хватал ртом дымный воздух, Карл уже прошел мимо и уселся за столик рядом с блондинкой, отодвинув при этом ее соседку на самый край дубовой лавки. В сторону пижона он больше не взглянул. Если тот вздумает возникать, с ним разберутся.
– Привет, – Карл прикоснулся к волосам девушки, заправил за ухо легкую прядь, – как тебя зовут?
– Инга, – девушка махнула светлыми, ненакрашенными ресницами и уставилась на Карла прозрачными глазами, – а ты Майнхофф. Карл Майнхофф.
Разумеется, она знала, кто он такой. Здесь собирались только свои. Чужака в красном пиджаке, который по дурости забрел сюда случайно, уже выкинули вон. Карлу даже не надо было кивать своим ребятам. Они сразу все поняли, и не успел пижон оправиться от первого удара, как красномордый двухметровый Отто Штраус подхватил его, словно перышко, и отнес к выходу. Пусть подышит свежим воздухом. Чужим здесь не место.
Проститутки Магда и Сюзанна, обиженные, что им не достался клиент, молча пили свой шнапс у стойки и недовольно косились в сторону Карла. В следующий раз будут знать, где снимать клиентов. А не усвоят урок – сами вылетят отсюда.
– Тебе здесь нравится, Инга? – он положил ладонь на ее худую коленку.
На девушке были узкие вельветовые джинсы.
– Да, – она опять махнула ресницами, – здесь весело.
– Здесь ничего веселого. Ты курись травку?
– Нет. Я вообще не курю.
– Сколько тебе лет, Инга?
– Шестнадцать.
– Я так и подумал. Учишься в школе?
– В медицинском училище. А правда, что ты учишься в университете?
– Правда.
– Ты не похож на студента.
– А на кого я похож?
Она выпятила мягкую нижнюю губу, сдула длинную прядь, упавшую на лицо.
– Ты похож на Карла Майнхоффа.
Из бара они вышли вместе. Было темно и холодно. Моросил мелкий, частый дождь. По черному асфальту расплывались синевато-белые блики фонарей. В старых домах топили камины, пахло угольным дымом, тянуло ванилью из кондитерской на углу. Прогрохотал над головой неспешный поезд наземного метро.
Ни слова не сказав друг другу, они стали целоваться в темноте под мостом. У Инги были прохладные мягкие губы, нежная, влажная от дождя кожа. Широко открытые глаза светились, как маленькие серебряные зеркальца, и в них ясно отражались разноцветные ночные огни.
Они продолжали молчать, пока поднимались по бесконечной лестнице на самый верхний, чердачный этаж старого дома. Родители оплачивали Карлу крошечную неуютную квартирку под плоской крышей.
Полукруглое окно без занавесок у самого пола. Письменный стол, вертящееся кресло у стола, широкий матрац без ножек, прямо на полу.
Напротив голого окна всю ночь светилась огромная яркая неоновая реклама. Чердачная комната была залита неверным, мерцающим светом. Загадочные глаза Инги вспыхивали прохладным бледно-голубым огнем.
Глава 7
Эйлат, январь 1998 года
Ларек «Кодак» находился у торгового центра, в двух шагах от пляжа. Молодой человек выдал Алисе талончик и сказал, что снимки будут готовы минут через двадцать.
Алиса вернулась на пляж. Она почти сразу заметила в конце длинного пирса Максима и Денниса. Они спускали на воду небольшой пластиковый плот и собирались поплавать на нем вдоль пляжа.
Алиса присела на край лежака, достала из сумки книжку Энтони Спейсона и начала читать второй роман, входивший в толстый сборник. День был солнечный, но порывы ледяного ветра отбивали у нее всякую охоту раздеваться и влезать в воду. Она вообще еще ни разу не решилась здесь искупаться. Вода была теплой, двадцать пять градусов, но влезать и вылезать под ледяным ветром – нет уж, это развлечение для более мужественных и волевых натур.
Второй роман Спейсона оказался не таким увлекательным, как первый. Алиса то и дело отрывала взгляд от книги, смотрела на сына и американца, которые плавали на плоту и помахивали ей. Она видела издалека, что оба смеются.
«Идиллия, – подумала она, – прямо-таки семейная идиллия. Хорошо, что Максимка не успеет за неделю по-настоящему привязаться к этому милому Деннису».
Совсем недавно в их жизни уже намечалась подобная идиллия, и не хотелось повторений. Год назад за Алисой стал нежно ухаживать такой же вот милый джентльмен, правда, не американец, а свой, русский. Детский доктор из частной стоматологической поликлиники, куда Алиса водила ребенка исправлять не правильный прикус.
Звали доктора Миша, ему было сорок. Обаятельный, интеллигентный, этакий душка, мечта матери-одиночки, он изо всех сил старался понравиться Максимке. Это ему удалось довольно скоро. Ребенок каждое утро просыпался с одним и тем же вопросом:
«А Миша сегодня придет?»
Алиса не испытывала к стоматологу никаких особенных чувств, кроме благодарности за то, что он столько времени проводит с ее сыном, так глубоко вникает во все его детские проблемы, с таким искренним увлечением играет в мальчишеские игры.
Миша не только не скрывал, но постоянно подчеркивал свои серьезные намерения, говорил, что был женат, но давно развелся, детей нет, и больше всего на свете ему хочется, чтобы у него была такая вот замечательная семья – Алиса и Максимка.
Все это продолжалось почти год.
Но однажды Алисе позвонила женщина, которая представилась Мишиной женой.
– Я хочу задать вам один вопрос, – сказала она вполне спокойно и миролюбиво, – вам известно, что у нас с Мишей трое детей, девочка и два мальчика, младшему полтора года?
– Нет…
– В таком случае продолжим разговор. Я знаю, у вас мальчик десяти лет. То, что вы можете питать напрасные иллюзии по поводу моего мужа, меня не особенно беспокоит. Но мне жаль вашего ребенка. Дети, которые растут без отца, быстро привязываются к чужим мужчинам, особенно таким обаятельным и остроумным, как мой муж. Зачем вашему мальчику переживать психологическую травму? Я не ставлю вам никаких условий, не угрожаю и ни о чем не прошу. Просто считаю, что вы должны знать. А что касается одинокой холостяцкой квартиры, в которую Миша вас приглашает по воскресеньям, как к себе домой, то это квартира его приятеля…
«Ну, где же ты, мое шестое чувство? – подумала Алиса, вежливо попрощавшись с Мишиной женой и положив трубку. – Почему же ты молчала, подлая, хитрая моя интуиция? Я-то переживу, а ребенку что скачать? Что его обожаемый Миша ублюдок, животное, готовое про трех родных детей выдумать, будто их нету вовсе, ради того, чтобы себя, любимого, побаловать романчиком с такой симпатичной голубоглазой идиоткой, как твоя мама?»
Немного успокоившись, она набрала номер той самой холостяцкой квартиры и наговорила на автоответчик, что убедительно просит Мишу никогда больше не звонить, не появляться в ее доме, исчезнуть навсегда.
Чужое вранье имеет свойство распространяться с быстротой вирусной инфекции. Чтобы не ранить ребенка, пришлось ему врать. В тот же вечер, краснея и бледнея, Алиса сообщила сыну, что Миша улетел за границу, в Австралию. Его послали на специальные курсы для зубных врачей. Ребенок не поверил, стал выпытывать, что произошло на самом деле.
– Просто он тебе, мамочка, не нравится и ты не хочешь выходить за него замуж. Я это давно понял.
– Ну а если так? – тихо спросила Алиса.
– Если так, то ты поступаешь плохо, потому что мне он очень нравится. И тебя он любит по-настоящему, – так же тихо ответил ребенок, – у нас была бы, наконец, нормальная семья.
– У него уже есть семья, малыш, – морщась, как от зубной боли, произнесла Алиса после долгого молчания, – у него трое детей. Девочка и два мальчика. Младшему полтора года.
– Но это не правда! – Максимка заплакал. – Это не правда! Он не мог сказать о живых детях, что их нет! Так не бывает!
Потом она долго искала слова, чтобы объяснить десятилетнему ребенку, почему взрослые люди врут. Но как она могла объяснить то, что сама по-настояшему не понимала? Есть множество женщин, готовых с легкой душой закрутить роман с отцом чужого семейства. Ну почему стоматолог Миша не нашел себе именно такую, которой все равно? Ведь был у них разговор еще в самом начале. Алиса сказала, что для нее крутить роман с женатым человеком – это как воровать или надевать на себя чужое нижнее белье. Тогда он и сообщил, что разведен и детей у него нет…
Максимка переживал всю эту историю очень глубоко и тяжело. Не только потому, что успел привязаться к Мише. Главное, он впервые столкнулся с настоящим, жестоким взрослым враньем. Алиса до сих пор занималась самоедством, ругала себя последними словами за то, что сказала ребенку правду. Рано ему знать такую правду.
Только здесь, в Эйлате, он по-настоящему отошел от недавних переживаний. Алиса не знала, хорошо или плохо, что сразу после Миши появился этот американец Деннис. Во всяком случае, никакого романа она с ним закручивать не собиралась, и, в конце концов, речь идет всего лишь о неделе. Потом он исчезнет и забудется, не оставляя никаких болезненных следов в душе ее ребенка…
Алиса глубоко задумалась и не заметила, что Максимка и Деннис уже успели вылезти из воды. Теперь они носились по пляжу, играли в мяч, чтобы согреться.
Через полчаса, по дороге с пляжа, они втроем зашли в ларек «Кодак» забрать готовые фотографии. Там вместо молодого человека сидела девушка.
– Вероятно, ваши снимки еще не готовы, – сообщила она, пересмотрев все конверты на полке.
– Странно. Вы сказали, через двадцать минут, а прошло больше часа, заметила Алиса.
Девушка еще раз просмотрела конверты с готовыми фотографиями, пожала плечами и с квитанцией в руках удалилась в глубь ларька, за расписную ширму. Появилась она минут через пять и спокойно сообщила:
– Ваши снимки уже забрали.
– Что? – Алиса почувствовала неприятный холодок в солнечном сплетении.
За спиной девушки показался молодой человек.
– Минут десять назад зашел мужчина. Онсказал, что потерял квитанцию. В таких случаях мы предлагаем клиенту вторично оплатить услуги, так как он не имеет документа об оплате, а потом просмотреть конверты и найти свои фотографии. Ведь чужие снимки никому не нужны. Вероятно, произошла ошибка…
– Как он выглядел, этот мужчина? – спросила Алиса.
– Собственно, я не приглядывался… Светлые волосы, светлые усы, на вид лет сорок.
– Он говорил по-английски?
– Да.
– С акцентом?
– Ну, вы слишком много от меня хотите, – улыбнулся молодой человек, – не волнуйтесь. Возможно, тот мужчина скоро сам обнаружит ошибку и вернется. Скажите, в каком вы отеле? Я могу позвонить и передать портье.
– Спасибо. Отель «Ривьера». Фамилия есть у вас на квитанции.
– Мамочка, ну что ты так расстраиваешься? – спросил Максимка, когда они отошли от ларька. – Подумаешь, фотографии! Мы еще наснимаем, ведь не последний день. Давай зайдем в пиццерию, я есть хочу. Деннис, вы пойдете с нами обедать в пиццерию? – Он перешел на английский и тронул за руку американца, который все это время молча стоял рядом.
– К сожалению, мне надо немного поработать, – ответил Деннис, – я пойду в отель и посижу за своим «ноутбуком». Но вы не наедайтесь пиццей, оставьте место. Вечером я хочу пригласить вас в ресторан.
Попрощавшись, Деннис направился к отелю, Алиса и Максим пошли в другую сторону, вдоль набережной, к недорогой итальянской пиццерии.
Вернувшись в свой номер, Деннис не сел за компьютер. Он даже не стал развешивать мокрое полотенце и плавки, просто бросил пляжную сумку в кресло и поспешил назад, на набережную, к ларьку «Кодак».
– Скажите, этот человек забрал по ошибке фотографии? – Он показал небольшой цветной снимок.
Со снимка глядел Карл Майнхофф. Деннису удалось заснять террориста крупным планом во время уличных беспорядков в Югославии, пять лет назад, незадолго до фальшивых похорон и первой пластической операции.
– А почему, собственно?.. – начала было девушка, которой такое странное внимание к случайной ошибке показалось подозрительным.
– Да, именно он, – перебив ее, кивнул молодой человек, – только на вашем снимке он моложе и не такой загорелый.
– Спасибо, – улыбнулся Деннис и быстро спрятал фотографию во внутренний карман легкой куртки.
– Это похоже на детектив, – усмехнулась девушка, глядя вслед посетителю, почему ты не дал мне спросить?
– Это похоже на любовную драму, – покачал головой ее коллега, – но, что бы там ни было, правду он вряд ли тебе скажет.
* * *
Отставной полковник ФСБ Валерий Павлович Харитонов, человек серьезный, основательный, с солидным опытом работы в органах, не любил рисковать.
За годы службы у него накопились такие разнообразные, причудливые связи, что при желании он мог очень быстро собрать информацию о ком угодно. Однако он крайне редко загорался таким желанием. Он слишком хорошо знал, что нет ничего опасней оперативного любопытства. Стоит потянуть за одну ниточку, задать пару безобидных вопросов какому-нибудь старинному знакомому, и оглянуться не успеешь, как окажешься в центре сложного, кровавого клубка, станешь выпутываться, брыкаться, а в итоге схлопочешь пулю в затылок.
В той сфере деятельности, которой он посвятил свою долгую тихую жизнь, не бывает безобидных вопросов и праздного любопытства.
Между тем задание, полученное Валерием Павловичем в кабинете президента акционерного общества «Шанс», предполагало прежде всего контакты со старыми и свежими информаторами. Наводить справки о Подосинском ему, начальнику охраны конкурирующей структуры, – это все равно что играть в теннис ручной гранатой с сорванной чекой.
Чутье подсказывало Валерию Павловичу, что назревает очередная схватка гигантов. На этот раз собираются делить ближневосточный нефтяной рынок, который давно поделен и приносит очень солидные доходы хотя формально такого рынка как бы не существуют.
Геннадий Ильич Подосинский, пользуясь запретом на торговые операции с ближневосточной нефтью, скупал ее по дешевке, а продавал задорого. Разумеется действовал он через подставные, нейтральные, а иногда фиктивные компании. Это известно всем, правда, на уровне слухов. Однако, если речь заходит о Подосинском, чаще всего приходится довольствоваться исключительно слухами, зыбкими, не подтвержденными, но и не опровергнутыми.
Вроде бы все логично. Завтра эмбарго будет полностью снято, цены на нефть катастрофически упадут, и значит, надо менять стратегию. Подосинский не скрывает, а, наоборот, всячески афиширует свои планы в этом направлении. И вот в этом заключался главный вопрос. Слишком активно он делится планами с конкурентами, слишком поспешно раскрывает карты.
Дело в том, что Геннадий Ильич Подосинский никогда, ни при каких обстоятельствах, не раскрывал карт. Он всегда блефовал, тонко, неожиданно, непредсказуемо. Он мастер красивого блефа, гениальный шулер и при этом – самая загадочная фигура в финансово-политической олигархии.
Формально Геннадий Ильич никто. У него нет никакого юридического статуса. Он не политик, однако его политическое влияние конвертируется в огромные деньги, и наоборот – деньги постоянно подпитывают мощный авторитет Подосинского в высших сферах государственной политики. По мнению экспертов, его состояние оценивается примерно в три миллиарда долларов, однако доходы принадлежащих ему компаний равны нулю, и банковская структура не имеет даже пакета акций.
Геннадий Ильич никогда не был ни вором в законе, ни партийным функционером. Совсем наоборот. Он принадлежал к той тоненькой, бедненькой, обиженной прослойке советского общества, которая в недавнем прошлом именовалась научно-технической интеллигенцией.
В современной финансовой олигархии вряд ли можно найти адекватную фигуру в смысле чистого, безупречного прошлого. Один сидел и, по слухам, был даже коронован в зоне. Другой был коронован гэбэшными погонами. Третий успел напитаться деньгами и связями в темной кормушке ЦК ВЛКСМ. Четвертый… в общем, у каждого был свой трамплин. У Геннадия Ильича за спиной не имелось вроде бы ничего, разве ангельские крылышки мальчика-отличника, худенького, беззащитного очкарика из интеллигентной московской семьи среднего достатка.
До восемьдесят восьмого года Подосинский числился скромным заведующим лабораторией скромного академического института, и не более. Правда, был у него удивительный дар.
Генаша умел когда угодно, для кого угодно организовать красивый отдых. Каким-то фантастическим образом ему удавалось арендовать волжские прогулочные теплоходы, банкетные залы лучших ресторанов, пробивать развлекательные загранпоездки для коллег и друзей, приглашать в качестве массовиков-затейников самых известных актеров, музыкантов, писателей-сатириков, всех со всеми знакомить, создавать неповторимую атмосферу праздника.
Но настоящий праздник вошел в жизнь Геннадия Ильича и его благодарных коллег, старших и младших научных сотрудников, в восемьдесят восьмом году, вместе с правильным, прогрессивным законом б кооперации.
Лаборатория, которой руководил Подосинский, взялась разработать автоматическую систему управления (АСУ) для гиганта отечественного машиностроения – Волжского автомобильного завода.
Мода на АСУ существовала еще в славных шестидесятых, кормила не одну сотню старших и младших научных сотрудников, которые вдумчиво «асучивали» разные важные государственные объекты. Зачем это было надо, какую практическую пользу для заводов и фабрик несло «асучивание», никто до сих пор толком не разобрался. Но то, что Геннадии Ильич свою личную пользу поимел, – это вне всяких сомнений.
К девяносто второму году Подосинский стал фактическим хозяином Волжского автомобильного завода, а заодно лучшим другом свободолюбивого чеченского народа, ибо в то время автомобильный рынок был полностью подконтролен чеченской мафии, и владеть гигантом машиностроения, не дружа и не делясь с братьями чеченцами, просто не имело смысла.
Но этого мало. К девяносто второму Геннадий Ильич крепко сдружился с человеком, которого именовали «серым кардиналом», и поговаривали даже, что на самом деле страной правит именно он, а все прочее правительство бегает у него на посылках.
Сейчас ясно, что всевластие начальника охраны президента было мифом. На поверку он оказался пешкой с амбициями ферзя и склочностью базарной торговки.
Но это сейчас ясно, а тогда, в девяносто втором, мифу охотно верили. Геннадий Ильич стал близким другом таинственного «серого кардинала», через его посредничество умудрился наладить теплые товарищеские отношения с ближайшими родственниками президента, стать для них полезным человеком.
Он вообще умел и любил дружить. Тогда же, в девяносто втором, он учредил престижную премию «Бенефис», которой удостаивались самые талантливые деятели российского искусства. Это были большие деньги, и вскоре друзьями скромного завлаба стали известные на весь мир музыканты, актеры, солисты оперы и балета. О нем говорили как о меценате, бескорыстном и щедром ценителе прекрасного.
Однако нашелся человек, который усомнился в благородстве и бескорыстии Геннадия Ильича. Известный всей России вор в законе по кличке Фома выразил свои сомнения весьма красноречиво. Он дал распоряжение примагнитить мощное взрывное устройство к днищу «Мерседеса» Подосинского.
Ничего не подозревающий Геннадий Ильич сел в свою машину, на переднее сиденье, рядом с шофером. Тот включил зажигание, и через секунду прогремел мощный взрыв. Шоферу снесло голову, да так аккуратно, словно опустился косой нож гильотины. Геннадий Ильич отделался нервным шоком. Едва ли не такой же шок пережили спасатели и врачи «Скорой», когда извлекли его из-под искореженных, окровавленных обломков, перепуганного, но невредимого.
А через месяц в одном из тихих московских переулков снайперская пуля сразила наповал Фому Неверующего. Разумеется, ни исполнители, ни тем более заказчики найдены не были. Вся страна знала, кто приложил руку к безвременной гибели авторитета, однако разве докажешь? Правоохранительные органы сочли, что разумней будет сидеть тихо и молчать в тряпочку.
К девяносто четвертому году стало ясно, что недоброжелатели Геннадия Ильича долго не живут. Имя Подосинского связывали с серией самых громких заказных убийств. Ни одно из них так и не было раскрыто, ибо там, где мелькала скромная тень завлаба, хороводом кружились тени таких влиятельных, таких колоссальных фигур, что у представителей компетентных органов сдавали нервы, дрожали руки, бегали глазки перед объективами телекамер.
В последние пять лет ни одно крупное событие в политической и экономической жизни страны не происходило без тайного участия Геннадия Ильича. Где кончались мифы и начиналасправда, не знал никто. Он умел очевидные грубые факты окутывать нежной дымкой тайны, а зыбким слухам придавать железную достоверность фактов.
Слетал с поста крупный правительственный чиновник – политические обозреватели многозначительным шепотом произносили заветное имя Геннадия Ильича. Выходила из игры какая-нибудь финансовая махина, сгорала банковская структура – дошлые газетчики отыскивали десятки причин, по которым ее деятельность не устраивала господина Подосинского.
В своих официальных выступлениях и интервью Геннадий Ильич никогда ничего не подтверждал и не отрицал. Он умел говорить долго, интересно, однако совершенно ни о чем. Он цитировал советских поэтов, от Светлова до Евтушенко, он философствовал, но в меру, без сложных заворотов, он острил, иногда вполне смешно. Его замечания, касающиеся злейших противников, звучали снисходительно и психологически точно. Многие пытались разгадать тайный смысл, распахнув глаза и уши, ловили всякие оговорки, намеки и полунамеки, а потом восторженно преподносили их публике в качестве собственных догадок и открытий.
Подосинский отлично разбирался в психологии восприятия. Средний человек слышит примерно семьдесят процентов чужой речи, понимает шестьдесят, а в памяти остается в лучшем случае процентов двадцать, причем значительно крепче усваивается информация косвенная, пойманная как бы случайно. Человек охотней верит зыбким слухам, чем прямой и чистой правде официальных сообщений.
Простодушную уверенность российского обывателя в том, что настоящая правда прячется где-то между строк, Подосинский использовал с поразительной ловкостью. Именно в намеках и оговорках мелькала та информация, которую требовалось вдолбить в твердолобое общественное сознание.
В течение последних двух недель Подосинский только и делал, что давал интервью. Каждая вспышка его публичной активности была чревата глобальными переменами в стране. Никто пока не знал, что именно должно произойти, но все догадывались: что-то произойдет. То ли рухнет российский рубль, который вроде бы уже стабилизировался, то ли слетит в отставку какой-нибудь огромный чиновник вместе со своим кабинетом.
Отставной полковник Харитонов начал с самой безопасной и занудной части работы – с просмотра прессы и видеокассет с записями телеинтервью за последний месяц. Он фиксировал, занося в маленький отрывной блокнотик в виде странных аббревиатур, кружков, квадратиков, стрелок и зигзагов, всякие намеки и оговорки, оброненные господином Подосинским лично, а также политическими обозревателями, про которых было достоверно известно, что они работают на Геннадия Ильича.
За несколько часов тихого напряженного труда полковник аккуратно собрал целевую дезинформацию, которую закидывал Подосинский, и, проанализировав ее, пришел к интересному и весьма смелому выводу: если Геннадий Ильич говорит о крепком мире на Ближнем Востоке и о том, что грядут глобальные перемены на нефтяном рынке, значит, он намерен предпринять некую акцию, противоречащую интересам мирного урегулирования.
Проще говоря, очень скоро он подбросит хорошую охапку хвороста в затухающий огонь арабо-израильского конфликта. Как только из-за падения цен на нефть понизятся цены на акции нефтяных компаний, Подосинский быстро скупит их по дешевке. А потом по мановению его невидимой волшебной палочки конфликт неожиданно вспыхнет с новой силой, соответственно подскочат цены. Он тут же продаст акции задорого и заработает на этом… Господи, кто бы назвал точную цифру?
Геннадий Ильич был мастером подобных трюков. В общем, ничего мудреного в этом нет. Купить задешево, продать задорого – азбука предпринимательства. Важен масштаб, умение вывернуть наизнанку весь мир ради своей тихой коммерческой выгоды и при этом остаться в таинственной безопасной тени.
Полковник тихонько присвистнул от собственной смелой догадки и в первый момент отказался самому себе поверить.
Глава 8
Восточный Берлин, апрель 1978 года
Карл, Отто и все остальные за широким столом были навеселе. Пива успели выпить слишком много и крепкого шнапса добавили. Отмечали день рождения Гитлера, громко смеялись, поминая старика Адольфа.
– А все-таки он был слабак, – Карл аккуратно поставил пивную кружку на картонный кружок, – у него сдали нервы. Он слишком увлекался всякой сопливой мистикой. Крушение сгнивших веков, сумерки богов, ритмы солнцестояния… Надо было теплее одевать солдат, отправляя войска в Россию. А он распорядился выдать только шарфы и перчатки. В декабре сорок первого морозы в России были ниже сорока градусов. В автоматах застывала смазка, разлагался синтетический бензин на составные несгораемые части. Замерзали паровозы. Солдаты умирали от холода. В ставку прилетел генерал Гудериан, умолял дать приказ об отступлении. Адольф послушался, но выводов не сделал. Заявил, что мороз – это его дело, стал колдовать, как африканский шаман.
– Карл, а почему все-таки отступили в сорок пером? Разве надо было отступать? – спросил вполне трезвый Рикки, малыш Рикки, сокурсник Карла, единственный, с кем можно было поспорить почти на равных. – Польшу победили за восемнадцать дней, Францию за месяц. Мы дошли до Москвы. Зачем же было
Отступать?
– Затем, Рикки, что Россия – не Польша и не Франция. Адольф погубил армию Гудериана, Рейнгарда и Гопнера. Он орал, что мороз – это его дело. Он был неисправимым, романтиком, это его и погубило в конечном счете.
– Если бы не мистика и романтика, за ним не пошло бы столько немцев, возразил Рикки, – все было так красиво: факельные шествия, парады, идеальные шеренги, блестящие сапоги… Это была магия единства нации.
– Правильно, – кивнул Карл, – но пропаганда – это одно, а театр военных действий – совсем другое. Тактику и стратегию нельзя основывать на магии. Войну нельзя выиграть с помощью шаманских заклинаний и лысых тибетских клоунов. Войне нужны профессионалы. А он тупо уничтожал профессионалов вермахта накануне войны. Как, кстати, и его приятель Сталин, который тоже расстреливал умных красных полководцев. Наш старик Адольф боялся, что кто-то окажется умней его самого, и верил лишь бреду шаманских заклинаний.
– Но были не только шаманские заклинания. Была сильная армия, – не унимался Рикки. – Ты говоришь, он уничтожал профессионалов? Нет, он избавлялся от стариков, от слабаков, зараженных гнилой христианской моралью. Им на смену пришли новые, крепкие парни. У нас были танковые дивизии, железная дисциплина, нас вел вперед дух древних викингов. А магия давала веру в победу.
– Нужна была победа, а не только вера в нее.
– Но мы побеждали! Мы завоевали полмира! – тоненько выкрикнул Рикки и залпом выпил рюмку шнапса. – Мы создали великий «Черный орден», элитные войска СС, прообраз нового человека, настоящего, чистопородного, без примесей, и если бы… – Рикки поперхнулся и растерянно уставился на Карла, который заливался хохотом, прямо за живот держался, так ему было весело.
– «Черный орден»… – повторял Карл, заикаясь от смеха. – «Союз специально отобранных нордических немцев»… Крошка Гиммлер закончил сельскохозяйственный техникум и был птицеводом. – Он перестал смеяться и заговорил шепотом, склонившись к розовому оттопыренному уху Рикки:
– Гиммлер был агрономом-недоучкой. Он выводил элитную породу новых немцев, как бройлерных цыплят. Он создал племенной завод для немцев, огромный курятник, который красиво назвал «лебенсборн», источник жизни. Офицеров СС там скрещивали с отборными девками, и родившихся детей воспитывало государство по специально разработанной программе.
– Ну и правильно, – энергично кивнул Рикки, – так и надо!
– Ни фига, – покачал головой Карл, – рождались дебилы. Ублюдки рождались от этих элитных Экспериментов. Пять тысяч детей великого рейха. Из них каждый пятый – умственно отсталый.
– Это не правда, Карл, – Рикки даже покраснел, – это сионистская пропаганда, еврейско-славянская брехня! От офицеров СС, от чистокровных арийцев и ариек не могли рождаться ублюдки!
– Это факт, Рикки.
– В таком случае его надо скрыть, этот факт.
– От тебя тоже? – хитро прищурился Карл. – Ты, Рикки, такой слабенький, нежный? Ты будешь плакать из-за чужих ошибок?
– Я – нет. Но другие…
– Вот другим ты можешь рассказывать сказки. А себе не надо.
Карл и Рикки говорили очень тихо. Никому, кроме них двоих, этот сложный разговор уже не был интересен.
– За Адольфа! Адольф был гений! – завопил пьяный Отто Штраус. – Он сумел создать образ врага. Ты сам говорил, Карл, что обязательно нужен враг.
– Да, Адольф был гений, – спокойно кивнул Карл и, громко чокнувшись своей кружкой с остальными, опять заговорил только с Рикки, быстрым полушепотом: Адольфу не хватало здорового цинизма. Он не мог самому себе просто и честно сказать: все дерьмо, и главное в этом дебильном мире – стать победителем. Без всяких там мистических теорий, заклинаний, без курятников для лучших представителей нации. Мифы хороши для толпы. Но это только часть победы. Адольф умел накачивать толпу, его речи были как мощный наркотик. Но он сам стал наркоманом идеи. Вместо того чтобы хорошо подготовиться к следующей зиме, он приказал водрузить на Эльбрусе знамя со свастикой, освященное по ритуалу «Черного ордена». Трое лучших альпинистов СС вскарабкались на кавказскую вершину. Адольф считал, что с грядущими русскими морозами сумел таким образом договориться. И что случилось потом, следующей зимой? Сталинград! Жуткий, позорный разгром.
– Карл, но ты всегда говорил, что Гитлер был прав. – Красный, потный Вилли, самый юный из всей компании, уловил несколько фраз из разговора. – Ты говорил, что Гитлер был прав, а сейчас, в такой день, вспоминаешь всякую фигню. Объясни мне, Карл. Я не понимаю.
– Конечно, он был прав, Вилли. Во многом, но не во всем. Нельзя закрывать глаза на ошибки великого человека. Это унижает его память. Нельзя бояться правды. Главная его ошибка заключалась даже не в мистике. Собственная правота ему казалась важнее объективной реальности, важнее победы. А без победы нет правоты. Он и из сталинградского разгрома не извлек никаких уроков. Знаете, чем он занялся весной сорок второго? Послал научную экспедицию на остров Рюген, со всякими дорогими радарными установками. А потом было объявлено: фюрер имеет основания считать, что так называемая земная поверхность, на которой мы живем, на самом деле не выпукла, а вогнута. И мы живем внутри, как мухи в колбе. Надо было воевать, а он занимался глупостями. Он тратил огромные деньги, чтобы доказать теорию полой земли. А надо было тратить деньги на войну с Россией и на создание атомной бомбы.
– Ну и чего, разве не воевали? – вяло возразил огромный, красный, как окорок, Отто Штраус. – Не-е, Карл, Гитлер был гений, я люблю фюрера. Германия для немцев. Разве не правильно? Весь мир для немцев. Мы – великая нация. Вот это я понимаю. А всякие там теории – фигня.
– Молодец, Отто, ты все правильно понимаешь, – усмехнулся Карл, – выпьем еще за нашего дорогого Адольфа. Он и правда был гений.
Компания за столом грохнула пивными кружками.
– Карл, мне не нравится этот ублюдок, – процедил сквозь зубы Отто, чокаясь кружкой и показывая глазами в дальний угол пивного зала, где у лакированного бочонка сидел за маленьким отдельным столом неприметный человек лет сорока в темно-синей джинсовой куртке.
– Брось, Отто, – поморщился Карл, – не напрягайся. Сегодня праздник.
– Он слушает. Он легавый, – Отто слегка дернул головой, – он только делает вид, что читает газету.
– Ну и что? – Карл приобнял Ингу, погладил ее худенькое плечо. – Что нам легавые? Мы отдыхаем. Правда, Инга?
– Карл, он здесь уже в третий раз, – тихо произнесла Инга, – мне он тоже не нравится.
– Давай я с ним поговорю, – предложил Отто. – Ну чего он здесь сшивается? Непорядок это, Карл. Во всем должен быть порядок.
– А если и правда легавый? – прошептала Инга. – Может, лучше не трогать его? Просто ты говори чуть потише, Карл. Вдруг он записывает тебя на магнитофон? А потом сообщит в университет. У тебя могут быть неприятности.
– Неприятности, говоришь? – засмеялся Карл. – А вот мы сейчас поглядим, у кого будут неприятности. И чтобы больше я от тебя, Инга, не слышал этой ерунды. Отто прав, во всем должен быть порядок. Побеседуй с этим старым пердуном, Отто. Только вежливо.
Отто тяжело перелез через дубовую лавку и расхлябанной, неспешной походкой направился к угловому столику. Вся компания оживилась. Все с интересом глядели в угол. Там и правда происходило нечто интересное.
Сначала между незнакомцем и поддатым Штраусом завязалась тихая непринужденная беседа. Слов слышно не было, но незнакомец улыбался. А Отто наливался густой бурой краской.
– Сейчас он ему даст, – сладко зажмурился малыш Рикки, – а то приперся сюда, старый хрен, будто его приглашали.
Отто быстро вскинул пудовую ножищу, выбивая табурет из-под мужчины. Что-то грохнуло, тонко взвизгнуло, и малыш Рикки начал было весело аплодировать но через секунду его ладони замерли. Грохнул на пол и взвизгнул от боли вовсе не сорокалетний, хилый на вид незнакомец, а здоровяк Отто.
На глазах у всех непобедимый Отто Штраус корчился на полу, в свежей пивной луже, и пиво из опрокинутой кружки капало на его красный подбритый затылок. А незнакомец спокойно поднял табуретку, уселся на место, не спеша закурил.
Повисла тишина. Все, кто был в кабачке, молча, выжидательно смотрели на Карла Майнхоффа. Только толстая старуха судомойка, сердито ворча себе под нос, прошла в угол с тряпкой, вытирать пивную лужу.
– Давай вставай, – она потрясла Отто за плечо, – напился, здоровый боров. Что ты здесь разлегся? Мешаешь. Не видишь, вытираю пол? Сейчас хозяин позвонит в полицию.
Отто, пыхтя, отдуваясь, поднялся на ноги, с ревом кинулся на незнакомца, но тут же опять свалился. На этот раз, вероятно, надолго. А незнакомец сел, развернул газету, бросил в рот маленький соленый кренделек.
Карл перепрыгнул через лавку. Вслед за ним к столику направились Вилли и Клаус. Хозяин погребка взялся за телефон, но тут в грозовой тишине послышался мирный голос незнакомца:
– Не надо, Штефан. Мы разберемся без полиции. Первым скорчился Клаус. Он получил быстрый удар ниже пояса, упасть не упал, но согнулся вдвое. Вилли свалился, опрокинув здоровенную дубовую лавку. Карл не успел опомниться, а незнакомец уже сгреб его за грудки, притянул к себе вплотную и тихо, ласково спросил:
– Ну что, Карл, вмазать тебе на глазах у твоей кодлы или поговорим?
Ткань тонкой фланелевой ковбойки, накрученная на кулак, затрещала. У незнакомца были светло-серые, без блеска, глаза, аккуратные усы, как у Карла, только темнее, седоватые короткие волосы, глубокие залысины над покатым лбом.
– Что молчишь? Авторитет – вещь хрупкая. Вон как твоя кодла внимательно на тебя смотрит, ждет. Ну, поговорим? В последний раз спрашиваю.
Карл открыл было рот, чтобы ответить, мол, да, конечно, почему бы и не поговорить, ежели вам так хочется, но в этот момент незнакомец почему-то вдруг ослабил хватку, резко развернулся, послышался грохот и отчаянный тоненький визг.
Инга извивалась и вопила, пытаясь вырваться, вцепиться зубами, ногтями, но незнакомец держал ее мертвой хваткой. Секунду назад он успел перехватить ее руку. Тяжелая пивная кружка, которой Инга намеревалась огреть его сзади по голове, валялась на полу.
– Я не люблю делать больно таким юным, таким милым фрейлейн, – вздохнул незнакомец, – честное слово, ужасно не люблю. Успокой свою красавицу, Карл, скажи, чтобы она не нервничала.
– Инга, успокойся. Все в порядке. Этот человек просто хочет поговорить со мной.
Все это продолжалось не больше трех минут. Отто и Вилли даже не успели встать на ноги, Клаус еще не опомнился от дикой боли в паху.
– Ладно, ребята, продолжайте веселиться. – Незнакомец отпустил Ингу, уселся за свой столик и кивнул хозяину:
– Принеси-ка нам кофейку, Штефан. А ты присаживайся, Карл. Будем знакомы. Меня зовут Бруно.
Он улыбнулся, протянул руку, Карл ответил на рукопожатие и спокойно уселся напротив. Инга, холодно сверкнув глазами, ушла в другой конец зала. Остальные, поднявшись наконец на ноги, понуро побрели за ней.
– Я давно присматриваюсь к тебе, Карл, – тихо и задумчиво произнес Бруно, когда они остались вдвоем, – ты хороший парень, умный, крепкий. Мне нравится все, что ты говоришь. Ну, почти все. Но дело даже не в том, ч т о ты говоришь, а в том, к а к. Тебя слушают, тебе верят. Это главное. Нам нужны такие ребята, как ты.
– Кому это вам? – мрачно поинтересовался Карл.
– Немцам. Сильным, честным немцам, патриотам Германии, – улыбнулся Бруно, – представь, такие еще остались.
– Где это, интересно?
– А ты подумай. Ты же умный, вот и подумай.
– Вы из полиции?
– Почти угадал.
Хозяин принес две чашки кофе и тут же удалился.
– Штази? – еле слышно спросил Карл.
– Молодец, – кивнул Бруно, – я не сомневаюсь, мы не просто договоримся с тобой, Карл. Мы подружимся.
– А конкретней можно? – Карл сидел, насупившись и старался не смотреть Бруно в глаза. – Если вы хотите, чтобы я…
– Нет, – Бруно весело рассмеялся, – тебя никто не собирается вербовать в стукачи. Это не твое призвание. Мы практикуем индивидуальный подход к людям, особенно к молодежи. Сотрудничество у нас будет долгим и серьезным. Твой дедушка Фриц когда-то служил в абвере, но в конце войны стал работать на русских. На самом деле он был не двойным, а тройным агентом. Внутри абвера существовала тайная структура, связанная с теми силами в СС, которые еще в сорок втором поняли, что интересы фюрера и интересы великой немецкой нации необязательно совпадают. Вожди приходят и уходят, нация остается. У нас будет еще много времени и много разговоров, но важно, чтобы ты понял главное. Ты станешь продолжать то, что делал твой дедушка Фриц. Я даже не спрашиваю, согласен ли ты. Вижу по глазам, что согласен.
Глава 9
Пустыня Негев (Израиль), январь 1998 года
Натан Ефимович Бренер чувствовал себя настолько скверно, что даже глаза не хотел открывать. Он не ожидал увидеть ничего хорошего. Во рту пересохло, ломило все мышцы и кости. Он понял, что лежит в неестественной, неудобной позе, на чем-то жестком.
Пахло свалявшимся войлоком, горячей пылью и верблюжьей мочой. Где-то совсем близко блеяли овцы. Бренер облизал пересохшие губы и очень медленно открыл глаза. Взгляд его уперся в брезентовый рваный потолок. Сквозь мелкие прорехи в ткани сочился ярко-розовый свет. Похоже, закат. Солнце садится около четырех. Значит, прошло не меньше суток? И все это время он был без сознания?
Бренер попытался повернуть голову. Каждое движение причиняло ноющую боль. Он сумел разглядеть стены, если можно назвать стенами куски фанеры, кое-как скрепленные проволокой. На полу были навалены полосатые грязные циновки.
«Бедуины, – подумал Бренер, – как же я попал к ним?»
Превозмогая боль, он попробовал сесть и обнаружил, что руки у него связаны. Вот почему так ноет тело. Он вспомнил убитого охранника и существо с рифленым хоботом, которое принял за инопланетянина.
– Попить бы кто принес, – громко проговорил профессор по-русски, не надеясь, что кто-нибудь его услышит и поймет.
Но услышали и поняли. Через минуту в палатку, пригнувшись, вошла женщина в длинной бедуинской одежде. Лицо ее было почти полностью закрыто черным платком. В руке она держала бутылку минеральной воды, на которую сверху был надет пластиковый стакан.
– Как вы себя чувствуете, профессор? – спросила она по-английски с сильным немецким акцентом.
– Прекрасно, – усмехнулся Бренер, – развяжите мне руки, иначе их скоро придется ампутировать.
– Очень сожалею, – ответила женщина, – но я не имею права вас развязывать.
Она поднесла к его губам полный пластиковый стакан. Бренер жадно, залпом выпил всю воду, судорожно сглотнул и попросил еще. Женщина опять наполнила стакан. Он заметил, что глаза у нее светло-голубые, руки белые, ухоженные, с аккуратным маникюром.
– Что за маскарад, фрейлейн, и почему вы не имеете права меня развязать, мать вашу?
Вопрос он задал по-немецки, но последние слова произнес по-русски, добавив еще пару смачных матерных выражений.
– Вы хотите что-нибудь поесть? – спокойно осведомилась она, тоже переходя на немецкий.
– Черной икры, французских трюфелей, запеченных в сливках, в горшочке, а также авокадо с креветками. И не забудьте персиковое мороженое на десерт. Но перед этим я бы хотел принять душ. И еще – мне надо в туалет.
Женщина молча кивнула, помогла ему подняться, придерживая за локоть, вывела из палатки. Вокруг была пустыня Негев. Даже ярко-розовые лучи заходящего солнца не красили мертвый ландшафт. Серый, с бурым отливом песок, спрессованный в бесформенные глыбы. Несколько бедуинских палаток. Безобразные помоечные шалаши, наспех собранные из фанерных ящиков, обтянутых драным брезентом. Пара верблюдов с ковровыми седлами, десяток овец вдалеке, на холме. Полная низенькая женщина в черной хламиде, с закрытым лицом, развешивала какое-то тряпье на веревке, натянутой между косыми столбами. У одной из палаток пятеро мужчин в бедуинских одеждах сидели в непринужденных позах, курили и о чем-то негромко, лениво переговаривались по-арабски. Приглядевшись, профессор заметил, что все пятеро вооружены.
Натан Ефимович еле держался на ногах. Голова кружилась, во рту был мерзкий металлический привкус. Он чувствовал тошнотворную, дрожащую слабость во всем теле. Они отошли довольно далеко от лагеря, за невысокий холм.
– Что вы мне кололи? – спросил он.
– Барбамил.
– О господи… Сколько?
– Вам было сделано четыре инъекции по десять миллиграмм пятипроцентного раствора. Вы проспали сутки. У вас был нормальный пульс. Не волнуйтесь, профессор, у меня среднее медицинское образование. Я держала вас под контролем.
– Ах ты засранка, – пробормотал Бренер по-русски, – сопля голубоглазая! Под контролем она меня держала! Образование у нее! Может, вы все-таки развяжете мне руки? Или сами будете расстегивать мне штаны, а, фрейлейн? – спросил он по-немецки.
Она молча развязала веревку и откуда-то из складок своего бедуинского тряпья извлекла пистолет.
– Фрейлейн, вы идиотка, – тихо сказал профессор, глядя в ясные, молодые, очень красивые и совершенно ледяные глаза, – ну как я могу убежать? Здесь пустыня.
– Вы не можете убежать, господин Бренер, – кивнула девушка, – хорошо, что вы это понимаете. Но я обязана соблюдать необходимые меры предосторожности.
Она не стала опять связывать ему руки, но продолжала держать под прицелом, пока вела назад, к палатке. Когда они вернулись, там находилось трое мужчин в таких же бедуинских хламидах, как все в этом лагере. На полу стояли картонные коробки с эмблемами придорожного кафе «Фаст-фуд».
– Добро пожаловать, господин Бренер, – произнес один из них на хорошем английском.
У него было загорелое, обветренное лицо, светлые аккуратные усы, светло-карие глаза. «Немец, – догадался профессор, – как и девка. Вероятно, этот усатый здесь главный. Остальные арабы… Плохо твое дело, Натанчик…»
– Ну, и зачем вам старый больной еврей, которого сейчас ищет вся израильская полиция и служба безопасности? Зачем вам, господа бандиты, эта головная боль? – Натан Ефимович вздохнул и уселся на циновку, продолжая массировать затекшие руки. – Вы думаете, кто-то заплатит за меня хороший выкуп?
– Не нервничайте, профессор, расслабьтесь, – улыбнувшись, произнес немец по-русски, – чувствуйте себя как дома. Угощайтесь, – он придвинул Бренеру одну из картонных коробок.
Там оказался огромный бутерброд с салатом, сыром и майонезом, кокосовое пирожное и банка обезжиренного йогурта.
– Это похоже на завтрак в самолете, когда летишь «Люфтганзой», экономическим классом, – заметил Бренер, принимаясь за еду.
Есть ему действительно хотелось, и голодовку он пока объявлять не собирался. Остальные уже жевали точно такие же бутерброды.
– К сожалению, ничего другого предложить вам не можем, – сказал немец, условия, как вы понимаете, походные. Но обещаю, это ненадолго. Как только мы переправим вас к заказчику, вам будут предоставлены совсем другие условия и другое меню. Потерпеть придется не больше трех дней. А вообще, все зависит от вас.
– Вы яснее не могли бы выражаться? – спокойно спросил профессор. – Кто вы такие и что вам от меня надо? Какой, к черту, заказчик? Я что, тонна говядины или партия оружия?
Немец весело рассмеялся.
– Скорее второе. Кто мы такие, вам знать необязательно. Мы выступаем только в роли посредников. Вашими исследованиями заинтересовались очень серьезные и влиятельные люди. Нам поручено переправить вас к ним в целости и сохранности.
– Глупости, – Бренер нервно усмехнулся, – я один, без лаборатории, ничего не значу. Я ноль без палочки. У меня память дрянная и нервы никуда. А главное, работа у меня творческая. Если меня посадят в бункер и заставят думать под дулом автомата, я буду всего лишь тупым испуганным животным, а не ученым. Идеи, особенно гениальные, в неволе не размножаются. Все мои записи…
– Не волнуйтесь, – перебил немец, – мы прихватили ваш «ноутбук».
– Вы что, и дома у меня успели побывать? – Бренер судорожно сглотнул.
– Ну а как же? Разумеется. А что вы так испугались? Вы живете один, Мария Даниловна умерла три года назад. Кстати, очень жаль. Вы так любили свою жену. С сыном Сергеем, с внуками, Андрюшей и Катенькой, у вас прохладные отношения. Или я ошибаюсь? Впрочем, все равно родная кровь. Вы же не захотите, чтобы, к примеру, в один прекрасный день взорвался дом семнадцать по Каплан-стрит в Тель-Авиве? Ну в самом деле, обидно, если что-то случится с этим милым процветающим семейством. Даже мне будет обидно. Дети замечательные. Эндрю и Кетти. Или вы предпочитаете называть их на русский манер?
– Прекратите. Можете не утруждать себя подробностями, – произнес Бренер спокойно, но очень медленно, почти по слогам, – я только не понимаю, зачем? Чтобы я работал на кого-то насильно? Таинственный придурок хочет завоевать мир с помощью моих профессорских мозгов? Это же фантастический боевик образца шестидесятых, мать вашу. Вы слишком взрослый человек, чтобы играть в Фантомаса.
– Правильно, – улыбнулся немец, – ученых воруют лишь в боевиках. В реальной жизни воруют информацию. Носителей информации убивают. Зачем и кому вы понадобились, узнаете чуть позже. Не мое дело вам это объяснять.
– Стало быть, вы собираетесь меня тайно вывезти из страны. Или мы уже в Египте?
– Нет. Мы еще в Израиле.
– И куда же, интересно, мы отсюда направимся? В Берлин? В Вену? Или в Ирак, к этому шизофренику Саддамке?
– Профессор, не стоит оскорблять моих друзей, – мягко улыбнулся немец, хорошо, что только я здесь понимаю по-русски. Нет, вы отправитесь не в Германию, не в Австрию и тем более не в Ирак.
– Куда же? На тот свет, что ли? – усмехнулся Натан Ефимович.
– Почти. – Немец выдержал эффектную паузу и, насмешливо глядя Бренеру в глаза, тихо произнес:
– В Россию.
* * *
В половине одиннадцатого вечера в тихих московских переулках неподалеку от Белорусского вокзала светился лиловым огнем купол огромного торгового центра. Подсвеченный мощными прожекторами, припорошенный чистым сверкающим снегом, он был похож на гигантскую елочную игрушку в окружении жемчужных гирлянд – круглых фонарей автостоянки.
С трудом верилось, что всего пару лет назад на месте этого торгового чуда копошилась грязная барахолка, старейший московский блошиный рынок.
За облезлым бревенчатым забором раскладывала свой товар прямо на асфальте, на газетках, вежливая московская нищета. Бабушки в траченных молью шляпках торговали пуговицами, споротыми с собственной одежды, кусочками рваных кружев, мотками бельевой резинки, треснутой посудой. Дядьки с синими носами продавали ржавые гвозди, гайки, лампочки, свинченные в собственных подъездах.
Когда-то место это считалось одним из самых воровских в столице. Во время и после войны здесь устраивались колоссальные облавы, власть беспощадно громила темную барахолку, но торжище возрождалось из пепла, дышало здоровым перегаром, бурлило, воняло, воровало. Его таинственные, не поддающиеся внешней логике законы были сильней любого режима.
Здесь торговали краденым и своим последним барахлом. Алкаши и нищие старушки сбывали за копейки исподнее. Но можно было купить пистолет, ручную гранату, офицерскую форму – советскую, немецкую и даже американскую. Попавший сюда имел шанс быть обобранным до нитки, но мог и одеться с ног до головы за полтинник.
К концу семидесятых блошиный рынок умудрился стать модным эстетским местом, чем-то вроде бутика под открытым небом для надменных знатоков.
Молодые снобы бродили в поисках ретро-"прикида", драповых и габардиновых пальто образца сороковых, штанов-галифе из довоенной диагонали, блузочек из креп-жоржета, комиссарских потертых кожанок, круглых очочков с зелеными стеклами, изящных ботиночек на кнопках, со скошенными фигурными каблучками. За тот же полтинник можно было одеться с ног до головы, как сорок лет назад, причем в те же самые вещи.
В начале девяностых московские бабушки со своим фильдеперсом и алкаши с гвоздями вынуждены были потесниться под натиском толпы крепких крикливых молодух в болоньевых телогрейках и пушистых мохеровых рейтузах. Вместо старушечьих пуговок и кружев молодухи вываливали на застланный газетами асфальт ломти сырого мяса, горы творога, сырные головы в шелушащемся желтом воске, рядом высились розово-зеленые стопки женских трико, трепались на ветру фланелевые халаты в немыслимых лиловых розах, вздымались белыми флагами ночные рубахи слонопотамских размеров.
Молодух называли «белорусами». Они заполонили не только пространство барахолки и площадь вокруг, но потихоньку просачивались со своими носками-рубахами и мясомолочными продуктами во все окрестные дворы.
И опять можно было одеться с ног до головы все за тот же полтинник, а наесться до отвала – еще дешевле.
Неизменным оставалось только сердце барахолки. Крытый колхозный рынок, состоящий из двух деревянных павильонов, с вечными орехами, гранатами и мандаринами. Там хозяйничали кавказцы-перекупщики. Они были элитой, белой костью грязного торжища.
Каждое утро вдоль прилавков элитных кавказских павильонов прохаживался невысокий, сутулый человек. Длинный смуглый нос, спортивные трикотажные штаны с лампасами, дешевая кожанка. Завсегдатаи крытого рынка знали его в лицо. Он никогда ничем не торговал. Он прохаживался, фланировал, иногда останавливался поговорить с торговцами. Если кто-то отвечал ему невежливо, то на следующий день исчезал с рынка. Сутулый не терпел грубости. Он был человеком чувствительным, добрым, легкораним1ям. И очень любил детей. Если при нем у прилавка останавливался покупатель с маленьким ребенком, сутулый выбирал лучшее яблоко или мандарин и с улыбкой протягивал малышу.
Звали сутулого Азамат Мирзоев. Откуда он взялся, когда поселился в Москве, сколько ему лет, не знали даже его приятели-перекупщики. Имя Азамата редко поминалось в рыночной суете. Милиционеры из местного отделения здоровались с ним за руку. Он был душой рынка, стержнем, вокруг которого вертелось это шальное торжище многие годы.
К середине девяностых площадь внезапно опустела. Окрестные жители сначала вздохнули с облегчением. Стало тихо и чисто. Потом загрустили – по бабушкам с пуговками, по дядькам с гвоздями, по белорусам с мясом и панталонами и даже по кавказцам-перекупщикам с их дорогущими мандаринами. Но вскоре грусть сменилась удивлением.
На площади развернулась колоссальная стройка, и уже через полгода возникло чудо – торговый центр из стекла и вишневого камня, с автостоянкой, выложенной светлыми, отшлифованными до блеска плитами. Внутри был целый мир, играла музыка, прохаживались воспитанные охранники в униформе.
Вокруг стеклянного супермаркета расположились сверкающие кафельные прилавки для кавказцев-перекупщиков. Торговцы надели хрустящие белоснежные халаты почти не орали зычными голосами, старались говорить тихо и вежливо, научились улыбаться покупателям и укладывать свои гранаты-мандарины в бесплатные пакетики.
На втором и на третьем этажах пестрели маленькие бутики мужской и дамской одежды, мебельные и ювелирные салоны, несколько кафе и ресторанов, филиалы известного банка «Галатея», бильярдная, французский косметический салон, американская химчистка.
Теперь здесь можно было одеться с ног до головы за тысячу долларов.
Бабушки с кошелками из окрестных переулков теряли сознание, попадая в оглушительную красоту супермаркета. Возмущение мешалось с восторгом. Поход за солью, подсолнечным маслом и спичками оборачивался для одряхлевших коммунальных золушек чем-то вроде запоздалого бала.
Москвичи помоложе, успевшие побывать за границей, удивленно мигали, шествуя с тележками вдоль прилавков, ибо чувствовали себя не дома, а где-нибудь в Париже или Нью-Йорке.
Автостоянка заполнялась иномарками. Вежливые охранники в униформе помогали дамочкам в норках и соболях подвозить корзины с продуктами прямо к машинам.
Торговцы все так же вытягивались по стойке «смирно», когда появлялся сутулый худой Азамат Мирзоев в неизменных трикотажных спортивных штанах с лампасами. Давно никто не сомневался, что лампасы эти – даже не генеральские. Маршальские.
Охранники распахивали перед ним двери, молоденькие длинноногие девочки в бутиках ласково щебетали, томно закатывали глазки. Со стороны это выглядело довольно дико. Но Азамату Мирзоеву было совершенно все равно, как он выглядит со стороны.
В половине одиннадцатого торговый центр затих. Внутри было пусто. Продавцы, охранники, повара и официанты нескольких кафе бесцельно бродили по
Залам, дремали на стульях, негромко переговаривались, и голоса гулко разносило ленивое вечернее эхо.
Из ярко освещенной бильярдной был слышен глуховатый стук шаров. Играли двое. Тощий кавказец в приспущенных трикотажных штанах с лампасами казался бедным неопрятным стариком рядом со своим крепким широкоплечим партнером, впаянным в тугие кожаные джинсы и черную водолазку.
Еще несколько штрихов – и кавказец со своей жалкой внешностью мог бы запросто пополнить ряды нищих в каком-нибудь подземном переходе. А его партнер, если чуть припудрить и добавить рокового блеска зеленоватым глазам, вполне украсил бы своей мужественной физиономией пластиковый щит с рекламой «Мальборо» над тем же переходом.
На самом деле они были почти ровесники. Обоим около пятидесяти. Роскошный торговый центр с его мебельными, антикварными и ювелирными салонами, с его бутиками от всяких кутюрье, автостоянкой, с накачанными охранниками в полувоенной униформе принадлежал неопрятному, небритому лицу кавказской национальности, вечному всемогущему Азамату Мирзоеву. Молодящийся плейбой в общем тоже принадлежал ему, правда, сам еще не догадывался об этом.
Игра не очень их занимала, хотя оба были людьми азартными, заядлыми бильярдистами. Шары они катали с равнодушной ленцой, то и дело забывая вести счет. Разговор был куда интересней затянувшейся партии.
– А почему ты не знаешь, как там дела? Ты зачем сюда ко мне пришел? Денег просить? – Азамат медленно водил кием в ложбинке между большим и указательным пальцами, щурился и на своего собеседника поглядывал искоса, с явной насмешкой.
– Я ведь не прошу сразу все, – скромно опуская глаза, произнес плейбой, но хотя бы часть, аванс.
– Ты уже получил свой аванс, – покачал головой кавказец, – неужели успел потратить?
– Не в этом дело, – плейбой поморщился, – мне деньги нужны сейчас. Очень срочно. Я рассчитывал…
– Деньги всегда нужны сейчас, очень срочно, дорогой. Когда дело будет сделано, тогда получишь.
– Но я свою работу выполнил. Остальное от меня не зависит, – плейбой стал нервно постукивать кончиком кия по своему тяжелому ботинку, – я встретился передал просьбу. Операция проведена, тебе же рассказали в «Новостях». Ты что, «Новостям» ОРТ не веришь? Газетам не веришь?
– На ОРТ и в газетах работают такие же хитрые мальчики, как ты. Все хотят денег. Вот когда доставят профессора по назначению, тогда я с тобой расплачусь, как обещал.
– Но послушай, Азамат, я не могу отвечать за Карла.
– Как же не можешь? Ты же говорил, он твои друг.
Я например, отвечаю за своих друзей, – усмехнулся Азамат.
– Мало ли какие у него там, в Израиле, проблемы? – Плейбой так сильно надавил острым концом кия на носок своего ботинка, что чуть не прорвал толстую свиную кожу. – Ты пойми, у меня такая ситуация…
– Знаю, какая у тебя ситуация, – криво усмехнулся Азамат, – пятнадцать лет твоей ситуации. В девятом классе учится. Как всегда, глазки голубые, ножки длинные.
Плейбой побледнел и выразительно задвигал желваками. Азамат не менее выразительно зевнул и загасил окурок.
– Скучно с тобой играть, Гарик. Спокойной ночи, дорогой. – Азамат положил кий и, не оборачиваясь, вышел из бильярдной.
Оставшись один, плейбой Гарик ожесточенно шарахнул кулаком по зеленому сукну бильярдного стола. Шары с глухим грохотом раскатились.
В соседнем помещении, в бутике изысканной дачной мебели, дремал, вытянув ноги, охранник. Он сидел в уголке, в низком плетеном кресле. Глаза его были закрыты, рот приоткрыт. Со стороны казалось, что человек крепко спит, раскинувшись, припав головой к стене. Даже подойдя близко к охраннику, невозможно было заметить, что между его ухом и тонкой стенкой находился маленький импровизированный резонатор.
Плоская коньячная рюмка из чистого хрусталя, размером с детскую ладошку, была вжата краями в пластиковую стенку, а ухо охранника прижималось к Донышку. Твердый пластик и хрусталь отлично резонировали звук в огромном пустом пространстве торгового центра. Охранник отчетливо, без всяких усилий, слышал каждое слово, произнесенное в бильярдной.
Дождавшись закрытия торгового комплекса, охранник попрощался с коллегами и не спеша направился к метро, нырнул в один проходной двор, потом в другой. Оглядевшись, достал из кармана сотовый телефон, набрал номер.
– Привет, Валера, – произнес он в трубку, – прихвати меня где-нибудь у Пресни. Только скорей. Холодно.
– Давай у зоопарка через двадцать минут, – ответили в трубке.
Ровно через двадцать минут на небольшой площадке у запертых ворот зоопарка притормозил лиловый «Ауди» Валерия Павловича Харитонова. Охранник, поеживаясь, нырнул в теплый салон, на переднее сиденье.
* * *
Эйлат, январь 1998 года
В уютном французском ресторане на набережной было почти пусто. Посреди круглого стола подрагивал язычок свечи. Лицо Денниса опять казалось жестким, неприятным. Обычно приглушенное освещение смягчает черты, а у американца наоборот. При беспощадном дневном свете он выглядел значительно симпатичней. Или он просто переставал играть в полумраке? Или это неверный огонек свечи играл с его мужественной физиономией дурные шутки?
Они уже все съели. Официант убрал тарелки. Максимка клевал носом над каким-то сложным многослойным десертом из желе и сливок, потом занялся своей электронной игрушкой.
Деннис был напряжен и старался изо всех сил скрыть это, с лица его не сходила улыбка, иногда казавшаяся застывшей гримасой. Напряжение висело в воздухе, неприятно давило, вырывалось наружу в виде долгих неловких пауз. Куда, интересно, подевалась хваленая американская раскомплексованность? Впрочем, какая разница? Возможно, дело в том, что им без посредничества Максимки не о чем говорить.
– Почему вы так расстроились из-за этих фотографий, Алиса?
– Разве? – она тряхнула головой. – Я уже забыла о них.
– Странно, почему тот, кто их забрал, не вернулся, чтобы поменять на свои.
– Странно, – легко согласилась Алиса.
– Может, вы так понравились этому мужчине, что он решил оставить снимки себе?
– Вряд ли. Я плохо выхожу на фотографиях.
– Как бы вы ни выходили, все равно сразу видно, какая вы красивая. Я это серьезно говорю, не в качестве комплимента. Вы, конечно, и так знаете, но лишний раз не мешает напомнить. Я прав?
– Об этом стоит напоминать любой женщине. Всегда и при любых обстоятельствах.
– У нас в Америке не принято. Скажешь какой-нибудь коллеге женского пола, что ей к лицу новое платье, а она тебя обзовет шовинистической свиньей.
– Бедные вы, несчастные, – вздохнула Алиса, – знаете, мне эти ваши социально-половые забавы напоминают унылый юмор советских времен накануне женского дня Восьмое марта. Затюканный идиот-муж, который решил раз в году пожарить яичницу к завтраку, и деловитая фурия, мать семейства, которая потом целый день отдраивает обгоревшую сковородку.
– Забавы? Что вы, у нас это очень серьезно. Это влияет на политику, на бизнес. Между прочим, на обвинениях в сексуальных домогательствах у нас делают большие деньги.
Деннис стал рассказывать всякие забавные истории о дамах, которые подают в суд на миллиардеров, крупных государственных чиновников и на президента, требуя денежной компенсации за былые нежности, реальные, а чаще мифические. Потом вся Америка всерьез обсуждает, сама «истец» десять лет назад снимала колготки или «ответчик» оказал ей в этом некоторое содействие. Ну а как же не обсуждать всерьез, если эти колготки могут стоить «ответчику» пары миллионов долларов и политической карьеры?
Алиса рассеянно слушала, кивала, улыбалась, прихлебывая горьковатый вишневый ликер. Она то и дело косилась на экран телевизора у стойки бара. Шла программа «Новостей». Бармен и несколько официантов смотрели на экран не отрываясь. Алиса не понимала ни слова на иврите, только разобрала название города Беэр-Шева, которое то и дело повторял ведущий. Это совсем близко, между Эйлатом и Иерусалимом. По мелькавшим кадрам было ясно, что произошел какой-то взрыв. Вероятно, в этой самой Беэр-Шеве…
– Наверное, пресловутые «новые русские», для которых вы строите особняки, ужасно привередливая публика, – произнес Деннис. – Трудно с ними работать?
– Трудно без конца слышать выражение «новые русские», – откликнулась Алиса. – У нас без него не обходится ни одна телепередача, ни один анекдот. Честно говоря, я не вижу в этом словосочетании никакого смысла. Люди, озабоченные исключительно проблемой денег, всегда одинаковы, во все времена одинаково скучные, пошлые и злые.
«Новости» кончились. Бармен переключил на Си-эн-эн. Там выступал политический комментатор. Официанты оторвались от экрана.
– Насколько я знаю, в советские времена такой проблемы в России практически не существовало, – заметил Деннис, – я имею в виду деньги.
– Ну, во-первых, при коммунистах никто денег не отменял. А во-вторых, было другое – привилегии, чины, знакомства. Но в конечном счете все сводилось к той же древней страсти добыть для себя мамонта пожирней. Если необходимо при этом кончить соседа-охотника – запросто. Если в пещере тухнет уже тонна мяса, все равно надо еще.
– Ну хорошо, а русское купечество до революции? Честность, благородство, верность традициям, меценатство, наконец.
– Миф. Сколько благородных купеческих детей швыряло семейные капиталы бандитам-большевикам…
– Да, я читал что-то. Савва Морозов… Алиса ничего не ответила. Теперь она не отрываясь смотрела на экран и даже поморщилась, оттого что Деннис все продолжал говорить и мешал ей слушать голос комментатора, который как раз рассказывал про взрыв в городе Беэр-Шева.
– Взрывное устройство было установлено в туалетной комнате управления полиции… – тараторил комментатор. – Компетентные источники утверждают, что чудовищный взрыв был всего лишь отвлекающим маневром. Настоящей целью террористов являлся известный биохимик Натан Бренер, похищенный из своей лаборатории через десять минут после взрыва. Пока ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за этот исключительный по дерзости и жестокости террористический акт, никто не выдвинул своих условий правительству Израиля и родственникам Бренера.
На экране появилась цветная фотография человека лет шестидесяти с крупным, тяжеловатым лицом и буйной седой шевелюрой.
– О господи… Натан Ефимович, – прошептала Алиса и прижала ладонь ко рту.
– Мам, ты чего? – встрепенулся Максимка.
– Алиса, что случилось? – подался вперед Деннис.
– Натан Ефимович Бренер, – она перешла на русский и обращалась только к сыну, забыв о Деннисе, – наш сосед по коммуналке. Ну, помнишь, я тебе рассказывала про Трифоновку? Дядя Натан и тетя Маня. У них был сын Сережа, мой ровесник. Мы с ним ходили в один детский сад и учились в одном классе. Они уехали в семьдесят восьмом в Израиль.
– Я помню, – кивнул Максимка, – ты рассказывала про Сережу, как вы на чердак залезали, как вас на катке поколотила малюшинская шпана…
– Простите, Алиса, Максим, – перебил Деннис, – я не понимаю, что случилось?
– Мама знает этого человека, про которого говорят в «Новостях», – с гордостью сообщил ему Максим.
– Алиса, вы знаете профессора Бренера? – Деннис уставился на нее так, словно услышал, будто она знакома с папой римским.
– Да, наши семьи жили в одной квартире в Москве. Я выросла вместе с его сыном, мы ровесники. Они уехали в Израиль, когда нам было по пятнадцать лет. С тех пор я про Бренеров ничего не слышала, и вот… Оказывается, Натан стал здесь профессором и его похитили террористы.
– Как это – в одной квартире?
– В общей. В Москве было много общих квартир.
– О, да, я слышал. Коммунистические квартиры, вроде общежитии. Наверное, такие квартиры были только в центре, в старых домах? – Деннис улыбнулся одними губами, глаза при этом оставались неприятно напряженными.
– Да. В новостройках только отдельные.
– Значит, вы родились и выросли в центре Москвы? А где именно? Дело в том, что я бывал в Москве семь лет назад, много бродил по центру.
– Район проспекта Мира. Трифоновская улица, – рассеянно ответила Алиса, только тот дом уже давно снесли.
Глава 10
Гамбург, июль 1979 года
Не чувствуя усталости, Карл пять часов подряд бродил по улицам шумного, яркого постового города, вглядывался в лица людей, подолгу останавливался у витрин дорогих магазинов. Он впервые в жизни попал «за стену», в другую Германию.
Все сверкало и переливалось, кипело огнями немыслимых реклам. Великанская бутылка кока-колы опрокидывалась над проспектом, из нее изливалась электрическая пенная лава. Настоящий белый дым поднимался в черное небо от гигантской сигареты электрического ковбоя. Ковбой курил и улыбался. Тысячи лампочек вспыхивали, меняя рисунок.
Над счастливым бессонным городом бесконечно прокручивались однообразные рекламные сюжеты. Чудовищный бело-голубой неоновый червяк выползал из тюбика зубной пасты на щетину великанской зубной щетки. Переливающийся огненный «Мерседес» несся по ночному небу. Внизу, в дорожной пробке, жалобно выли его разноцветные братья, казавшиеся игрушечными по сравнению с рекламным красавцем.
Карл вдруг почувствовал, что весь этот город под огненными картинками тоже ничтожный, игрушечный. Стоит зажмуриться, и он исчезнет, растворится в черноте приморской влажной ночи. Мир бюргеров, мясников и прачек, жадный, жалкий, ненастоящий. Декорация дешевого, бездарного спектакля, в котором играют не актеры, а марионетки. Автор пьесы давно сгнил в могиле, режиссер спился, валяется под забором на нищей окраине, кукловоды сошли с ума, и куклы дергаются в бессмысленном безобразном танце, словно больны пляской святого Витта.
Только сейчас Карл по-настоящему осознал, что имел в виду дедушка Фриц, когда говорил о торжестве прачек и мясников. Тусклый, благопристойный немецкий социализм кажется логичней и совершенней, чем этот свободный, яркий, наглый капитализм, с его хаосом и неоновой иллюминацией. При социализме плебейская серая масса знает свое место, подвластна порядку, воле хозяина, пусть тупого, недостойного, но хозяина. А здесь прачки и мясники сами себе хозяева. Это их мир. Это торжество их вульгарных, тошнотворно-пошлых идеалов.
Сложные чувства, философские размышления, навеянные огнями беспечного ночного Гамбурга, вовсе не расслабляли, не отвлекали Карла от основной цели его долгой прогулки. Наоборот, заряжали спокойной бодрой ненавистью и помогали сосредоточиться.
Блуждая с полудня до глубокой ночи по улицам, по ярким бессонным проспектам и тихим переулкам, вспоминая дедушку Фрица, презирая вместе с ним жалкий хаос бюргерского мира, Карл тщательно проверился на предмет «хвоста», основательно изучил расположение домов в тех кварталах, по которым потом ему придется уходить от полиции.
Мимо главного пункта предстоящей операции он прошел всего один раз, неспешной походкой праздного туриста. Панель под ногами пересекала пушистая ковровая дорожка, этакий ровный синтетический лужок, протянутый из холла шикарного пятизвездочного «Принц-отеля» по мраморным ступенькам на улицу. Два швейцара в красно-зеленых ливреях и блестящих цилиндрах застыли навытяжку, как манекены, у стеклянных дверей. Чуть поодаль прохаживались полицейские, в начале и в конце квартала стояли патрульные машины.
Карл свернул на параллельную улицу. Там было пусто и тихо. Старинный квартал реставрировался, несколько домов были обтянуты сеткой поверх строительных лесов. Оглядевшись, Карл вскочил в подвесную люльку, вытащил из кармана куртки тонкие кожаные перчатки, натянул на руки.
Окна нижних этажей были заделаны пластиковыми щитами. Наверху зияли пустые провалы. Карл быстро вскарабкался вверх по стальному тросу, юркнул в черную оконную дыру.
Через полчаса у подъезда «Принц-отеля» остановился белый «Линкольн», из него выскочил сначала крепкий молодой охранник в штатском, распахнул дверцу. На пушистую ковровую дорожку ступила пухлая короткая нога в лакированном ботинке. Белая брючина задралась, обнажая желтоватую безволосую голень. Потом вывалился маленький, безобразно толстый человечек. Лысая голова, гладкая, блестящая, как у китайского фарфорового болванчика. Сразу вслед за человечком выскочил еще один охранник.
Толстячок смешно семенил короткими ножками между двумя плечистыми верзилами. Пройти надо было всего пять метров по ковровой дорожке, от машины до стеклянных дверей отеля. Охранник, который шел впереди, уже поднялся на ступеньку, и в этот момент негромко шлепнул выстрел.
Лысая голова разлетелась вдребезги, словно и вправду это была голова фарфоровой куклы.
В черном оконном провале, в верхнем этаже пустого дома, метнулась черная тень. Снайпер бросился к приставной лестнице, ведущей на нижний этаж, и тут же упал, даже не успев понять, что произошло.
На долю секунды во мраке вспыхнул огонек зажигалки. Карл вложил свой пистолет в левую руку убитого снайпера. Внизу взвыли полицейские сирены.
Через пять минут квартал был оцеплен. Но Карл уже спокойно шел по оживленному проспекту.
В первых утренних новостях все телеканалы взахлеб сообщали, что сегодня, в два часа ночи, у подъезда знаменитого, самого дорогого в Гамбурге «Принц-отеля» убит глава крупного международного синдиката, мафиози, дважды судимый Антонио Селдоротти. Убийца, член экстремистской палестинской группировки «Эль-ислами» Мустафа Саллах по прозвищу Левша, обнаружен мертвым на месте преступления.
По предварительной версии гамбургской полиции, Галлах покончил с собой сразу после выстрела.
Компетентные источники сообщают, что в последнее время Селдоротти поставлял крупные партии оружия арабским странам, снабжал ракетами и противопехотными минами американского производства ряд группировок, враждующих с «Эль-ислами».
Германия – маленькая страна, от Гамбурга до Западного Берлина чуть больше часа на самолете. А из Западного Берлина в Восточный многие ездят на велосипедах. Именно на велосипеде и пересек Карл границу, Бранденбургские ворота остались за спиной вместе с блеском и мишурой свободного мира, с торжеством бюргерских идеалов, с трупом крупного мафиози на ковровой дорожке и трупом снайпера, палестинца, на верхнем этаже пустого дома.
Тело ломило от усталости, но это была приятная усталость. Первое задание, такое сложное, такое рискованное, он выполнил отлично, как настоящий профессионал. Лежа на матраце рядом с Ингой в своей чердачной «студии», Карл, прежде чем уснуть, включил телевизор.
Да, Селдоротти действительно поставлял арабам оружие, качественное и недорогое, причем всем арабам без разбора, в том числе и тем, с которыми у крупной экстремистской группировки «Эль-ислами» были натянутые отношения.
Палестинец Мустафа-Левша не сомневался, что убивает Селдоротти именно за это. Однако суть была в другом.
Никому не известные, но весьма влиятельные люди в Штази скупали по дешевке оружие у офицеров Западной группы советских войск на территории ГДР и продавали задорого тем же арабам. В последнее время деятельность итальянского мафиози развернулась слишком уж широко и возникла неприятная конкуренция. Американское оружие ничуть не хуже советского. Итальянец сбивал цены и нарушал законы рынка.
Мустафа-Левша и его коллеги террористы проходили подготовку на секретных базах, расположенных на территории ГДР. Скромный агент Штази Карл Майнхофф легко сходился с людьми и довольно быстро завоевал доверие боевиков «Эль-ислами». Именно он и сообщил по секрету арабским товарищам, что коварный итальяшка снабжает отличным новейшим оружием всех без разбора, в том числе и непримиримых врагов «Эль-ислами». Принципиальные боевики сочли это предательством и приговорили Селдоротти к смерти.
Торговцы оружием из Штази могли бы успокоиться на этом. Убрать конкурента чужими руками удобно и безопасно. Однако необходимо было подстраховаться. У полиции не должно возникнуть и тени сомнения, кто и почему застрелил итальянского мафиози.
Левша мог исчезнуть с места преступления, и тогда началось бы долгое, нудное расследование. Гамбургская полиция известна своей дотошностью. Но было бы еще неприятней, если бы Мустафа не успел исчезнуть и попал в руки полиции или в руки друзей убитого, да начал бы, чего доброго, давать показания.
Умные люди из Штази рассудили, что в этой ситуации будет удобней, если труп убийцы останется на месте преступления.
А почему застрелился Мустафа – это уже вопрос чисто психологический. Кто его разберет, сумасшедшего фанатика-террориста?
…Карл потянулся с хрустом, зевнул, выключил телевизор. Только сейчас он понял, почему ему так хорошо. Он нашел наконец то, что для него интересней, забавней всего на свете. То, чем ему нравится заниматься в этой жизни. Мустафа-Левша был настоящим кровавым монстром, как из страшной детской сказки. Он думал, что бессмертен. За каждого убитого «неверного» Аллах скидывал ему с небес очередную пригоршню вечности. Левша был лучшим снайпером «Эль-ислами». Оружие в его левой руке обретало магическую силу, всегда стреляло раньше, чем оружие противника, и всегда точно в цель, с любой, самой невероятной, позиции.
Убить вооруженного Мустафу считалось делом совершенно безнадежным. Никто не верил в успех операции, хотя в ее целесообразности сомнений не возникало.
Именно Карлу пришла в голову идея – оставить на месте преступления труп убийцы. Он просек сложность ситуации, продумал все до мелочей. Умные люди из Штази, завербовавшие болтуна-студента чуть больше года назад, выслушали его оригинальное предложение, сначала удивились, потом засомневались:
– Все это остроумно. Карл, однако где ты найдешь исполнителя? Ведь это самоубийство. Нормальный человек не согласится ни за какие деньги, а сумасшедший не справится.
– Я сам попробую, – скромно предложил Карл.
– Ну, валяй, может, и получится, – ответили ему. Он попробовал, и все получилось. Теперь он точно знал, чем будет заниматься в ближайшие лет десять-пятнадцать, и уснул крепким, здоровым сном человека, который нашел свое место в жизни.
Эйлат, январь 1998 года
– Алиса Воротынцева, тридцать пять лет. Родилась и живет в Москве. По специальности архитектор. Последние два года работает в российско-австрийской строительной компании «Сатурн». Не замужем. Сын Максим Воротынцев десяти лет. Пока все.
– Спасибо, сэр. Это я уже и так знаю.
– Я мог узнать значительно больше, если бы обратился за помощью к моим людям в МОССАД. Слушай, а может, нам сочинить какую-нибудь легенду про эту твою Алису? Было бы разумней сначала выяснить о ней побольше, а потом уж…
– Нет, сэр. Ни в коем случае.
– Почему? Мне кажется, это неплохая идея. Ты не хочешь, чтобы МОССАД заинтересовался ею в связи с Майнхоффом. Ты нащупал эту связь и не хочешь, чтобы кто-то перехватил инициативу. 0кей, я могу сочинить нечто совсем невинное.
– Нет.
– Это твое дурацкое упрямство? Или есть конкретные причины?
– Она знакома с Бренером.
– Что?!
– Я узнал об этом два часа назад. В ресторане. Там Работал телевизор, по «Новостям» Си-эн-эн показали фотографию, назвали имя. Она прямо подпрыгнула на стуле. Потом сказала, что знала его в детстве. Они были соседями.
– Ну, ты опять все усложняешь. Это может оказаться простым совпадением. Бренер уехал из России в семьдесят восьмом. Ей было тогда пятнадцать лет. Хотя, конечно, если сейчас об этом узнают израильтяне, они могут ухватиться. Они, разумеется, сразу выяснят, что ты живешь в соседнем номере, играешь в мячик с ее сыном, и такая заварится каша… Не дай бог. Уж они-то не поверят в совпадение и станут копать.
– Я тоже не верю в такие совпадения. Здесь что-то другое.
– Просто ты боишься, что рассыплется вся твоя версия с русской.
– Почему рассыплется?
– Да потому, что, если бы ее знакомство с Бренером было каким-то косвенным образом связано с похищением, она бы не стала болтать об этом.
– А может, она придумала такой ход, чтобы проверить меня? Посмотреть реакцию?
– Если она все-таки агент, то ход слишком прямой, глупый и опасный. По-моему, она вообще ни при чем, эта Алиса, поверь мне на слово. Ты идешь по ложному следу. Я живу на свете уже шестьдесят восемь лет и сорок пять из них работаю в разведке. На моем веку было столько невероятных, многозначительных совпадений, которые на поверку оказывались нелепой случайностью… Мой первый шеф, легенда ЦРУ Грегори Нэт, говорил: «В нашей игре блефуют все, в том числе и господин Случай. Но в отличие от прочих игроков его невозможно поймать за руку».
– Сегодня днем она преспокойно отдает проявить пленку, на которой заснят Майнхофф, в первый попавшийся ларек «Кодак». Потом по дороге с пляжа заходит за снимками. Заметьте, со мной вместе. И тут оказывается, что готовые снимки уже кто-то забрал.
– То есть?
– Некий мужчина потерял квитанцию, стал искать среди конвертов и по ошибке забрал именно ее конверт. Алиса, узнав об этом, бледнеет, пугается, начинает расспрашивать, как он выглядел.
– И как он выглядел?
– Это был Майнхофф. Я потом подошел к ларьку с его фотографией. Что, тоже совпадение? Блеф господина Случая?
– Нет… вот это уже не похоже на блеф. Подожди, ты сказал, она опять испугалась, как тогда, в кафе?
– Да это было не удивление, не огорчение, а именно испуг. Паника в глазах.
– Она боится Майнхоффа… Ты прощупывал ее потом насчет фотографий?
– Разумеется. Я спросил, когда мы сидели в ресторане почему она так расстроилась. Она ответила, что уже забыла о них, и мягко переменила тему. Мы говорили о чем угодно – о феминизме, о «новых русских». Ну а потом по телевизору показали сюжет про теракт в Беэр-Шеве, и она сильно разволновалась, сказала, что Бренеры были их соседями. Честно говоря, у меня голова идет кругом. Не верю в простое совпадение.
– Пожалуй, я сегодня же свяжусь с нашим сотрудником в Москве. Адрес, по которому жил Бренер, можно выяснить через голландское посольство. Бренер уехал в семьдесят восьмом, тогда все выездные визы в Израиль оформлялись через голландское посольство. У них в архивах должен быть его московский адрес. А вот про твою красавицу будет сложней получить информацию. Попробуй сам осторожно расспросить ее, пусть скажет, хотя бы приблизительно, где она жила в детстве.
– Район проспекта Мира, Трифоновская улица. Разумеется, почтовый адрес я не спросил. Она сказала, дом давно снесли.
– Ну что ж, это уже немало.
* * *
Алиса погасила бра над Максимкиной кроватью, поправила одеяло и вдруг застыла, вслушиваясь в мягкую ночную тишину. Совсем близко, у стеклянной двери, что-то сухо, быстро прошуршало. Потом – легкий глухой щелчок.
Можно сойти с ума, если вздрагивать от каждого звука. Это пальмы шуршат. И чайник выключился. Алиса налила себе чаю, достала банку вишневого джема и шоколадное печенье. Хорошо выпить горячего чайку ночью, на улице, под раскидистой пальмой, потом выкурить сигаретку, почистить зубы, лечь спать, свернуться калачиком под теплым гостиничным одеялом и вообще ни о чем не думать…
Да, теперь уж ясно, Карл Майнхофф жив и находится здесь, в Израиле. Он сидел в забегаловке у рыночной площади. Он взял фотографии. Господи, ну почему ей пришла в голову эта идиотская идея – занять его? Теперь он точно ее узнал и понял, что она его узнала. «Здравствуй, Карлуша. Давно не виделись».
Алиса поежилась, накинула куртку, тихонько приоткрыла стеклянную дверь. Внутренний двор гостиницы освещали яркие фонари, отлично просматривался каждый уголок, только под широкими пальмовыми ветками оставались куски глухой черноты.
«Ну что ты дергаешься? Зачем ты ему нужна?» – лиса усмехнулась, сунула руки в рукава куртки, вынесла во двор чашку, джем, вазочку с печеньем, сигареты, уселась в пластиковое кресло.
«То, что произошло в Беэр-Шеве, скорее всего его работа. – Она съела ложку джема, отхлебнула чаю. – Ему сейчас не до тебя. У него очередной теракт. Он занят по горло».
Она изо всех сил старалась успокоиться, она заставляла себя думать о чем угодно, только не о Карле Майнхоффе.
Чай был крепкий, с привкусом ежевики. Джем густой и прозрачный. Отличный джем. Жаль, что Максимке не нравится. Он вообще из всех сладостей любит только шоколад и мороженое. Алиса тоже в детстве не любила всякие джемы и варенья, зато мороженого могла съесть полкило сразу, не переводя дыхания…
Она пыталась самой себе заговорить зубы. Довольно глупое занятие. Но очень уж было страшно. Она думала о Натане Ефимовиче Бренере и вспоминала детство, коммуналку на Трифоновке. Алиса знала это свое идиотское свойство – когда исходило что-то плохое, она начинала мысленно путешествовать по крошечному миру трифоновской коммуналки. Лучшим лекарством от всяких депрессии, обид, неприятностей были теплые мелочи из простой, почти инопланетной жизни.
Это был ее личный, тайный маленький рай, пахнущий жареным луком, кипяченым бельем, наполненный звуками бравых радиопесен. Черный пластмассовый динамик висел высоко над дверью, его забывали выключать, и многие годы каждое утро сквозь сладкий густой туман детского сна прорывались одни и те же слова: «Доброе утро, товарищи. Начинаем утреннюю гимнастику. Встаньте прямо. Руки в, стороны. Ноги на ширину плеч…»
В маленькой темной кладовке прятались на летнюю спячку зимние вещи, громоздились старые чемоданы, облезлый сундук, поломанная мебель. Хрустели под ногами сухие апельсиновые корки, которыми перекладывали жалкие советские меха мама и тетя Маня Бренер. Но ни корки, ни нафталин не спасали от моли.
Как-то Алиса налетела в темноте на собственные фигурные коньки, висевшие на гвоздике у двери. До сих пор под левой бровью остался тонкий незаметный шрам.
Однажды они с Сережкой сожрали вдвоем килограммовый торт-мороженое в темной кладовке. Бренеры купили торт для гостей, а Сережка стащил из холодильника, и они уничтожили его наперегонки, большими ложками, минут за пять, наверное. Испачкали мамину шубу и зимнее пальто дяди Натана. А потом оба заболели ангиной и перестукивались через стенку.
Интересно, каким стал Сережа? В детстве он был пухлый, курносый, голубоглазый. По дороге из школы они заходили в булочную, покупали длинный батон за двадцать две копейки. Алиса съедала обе горбушки, а Сережа все остальное.
В пятом классе их обоих исключили из пионеров. Они остались после уроков делать стенгазету к Седьмому ноября, Алиса выводила гуашью заголовки, Сережа наклеивал картинки. Это было довольно скучное занятие, они часто отвлекались, чтобы поупражняться в стрельбе из трубочки комочками жеваной бумаги.
Строго говоря, это была не стрельба, а плевание. Они никак не могли решить, кто более меткий плевалыцик, и устроили соревнование. Лучшей мишенью оказался портрет Ленина, висевший над доской. Они так увлеклись подсчетом попаданий и промахов, что не заметили застывшего в дверях старшего пионервожатого, который зашел посмотреть, как дела с праздничной стенгазетой.
На следующий день на собрании совета дружины с них торжественно, под барабанную дробь, сняли галстуки. Назад в пионеры потом не приняли, но к восьмому классу история забылась сама собой, и в комсомол приняли как всех, для статистики.
Все это было в другом веке, на другой планете. Дом на Трифоновке давно снесли. От маленькой коммуналки, в которой жили всего две семьи, Воротынцевы и Бренеры, не осталось даже легкой пыли. Надо быть инфантильной идиоткой, чтобы прятаться от реальной опасности в свой тихий детский рай, забиваться, словно в темную кладовку, на донышко собственной души.
«Ну хорошо. Я не буду инфантильной идиоткой. Я попробую спокойно, разумно разобраться, чем конкретно для нас с Максимкой сейчас опасен Карл? За свою бурную бандитскую жизнь он встречался с сотнями людей, и по теории вероятностей десятки из них могли где-то случайно узнавать его, через многие годы, при самых неподходящих обстоятельствах. Он же не может каждого сразу убивать! А после такого теракта ему надо быстро сматываться из страны, его разыскивает вся израильская полиция. Он уже в Египте или в Иордании…»
– Стоп. Фотографии он забрал сегодня. Значит, он еще здесь и следил за нами. А может, заявить в полицию, что я видела Майнхоффа? Нет, у меня определенно едет крыша. Я ведь не знаю никакого Карла Майнхоффа. Я с ним нигде никогда не встречалась. Никогда… – Алиса произнесла это вслух, громким шепотом.
И тут же замерла, перестала дышать. Прямо у нее за спиной, у толстого ствола огромной пальмы, кто-то стоял не двигаясь и смотрел ей в затылок. Она не слышала ничего, кроме шороха пальмовых листьев. Дерево было подсвечено фонарем, четкая тень ложилась на газон перед бассейном. У дерева стоял человек. Было видно, что он чуть прислонился плечом к стволу.
Алиса окаменела, во рту пересохло, столбик пепла упал на пластиковый стол рядом с пепельницей. Тень отделилась от ствола, и рука легла Алисе на плечо. Она
Дрогнула так сильно, что опрокинулась чашка с недопитым теплым чаем.
– Алиса, простите, я напугал вас. Вы, конечно, не спите. Добрый вечер. Зря вы отказались прогуляться со мной до пирса.
– Деннис, вы подошли так тихо… простите. – Она быстро встала, зашла в номер и тут же вернулась, принялась вытирать бумажным полотенцем чайную лужу на столе.
– Можно, я посижу с вами? – спросил он уютным шепотом и тут же уселся в кресло, не дожидаясь ответа. – Жаль, я не знаю русского. Вы как будто думали вслух.
– Серьезно? Я говорила сама с собой?
– Да. У меня такое тоже бывает, когда устаю или нервничаю. Хотите выпить?
– Хочу.
Он скрылся в своем номере на несколько минут, вернулся с маленькой плоской бутылкой и двумя гостиничными стаканами.
– Это коньяк. Ваше здоровье, Алиса.
Они тихо чокнулись. Коньяк был сейчас действительно кстати. И, если честно, Деннис тоже.
Ветер усилился, пальмы тяжело раскачивались, отбрасывая тревожные причудливые тени. Матерчатый зонт над столом вывернулся наизнанку.
– Сейчас пойдет дождь, – тихо сказал Деннис, – может, посидим немного в моем номере?
– Спасибо, нет. Поздно уже, пора спать.
– Можно было бы и у вас, но мы разбудим Максима. И потом, вы меня не приглашаете. Я вам здорово надоел?
– Нет еще, – она усмехнулась, – вы простите, Деннис, я веду себя по-хамски. Я бы с удовольствием посидела у вас в номере, но лучше все-таки на воздухе.
– Это я веду себя как приставучий хам, – он кашлянул, – вам неловко встать и уйти. Холод, ветер, вы мерзнете из вежливости. Неужели вы думаете, что в номере я наброшусь на вас, как тигр? Неужели я произвожу такое скверное впечатление?
– Перестаньте, Деннис. Я ничего такого не думаю. И мерзну вовсе не из вежливости. Просто я лучше засыпаю, если перед сном подышу воздухом.
– Вы больше курите, чем дышите… – Он налил еще коньяку. – Знаете, я хочу выпить за вашего бывшего соседа, профессора Бренера. За его здоровье. Вы хорошо его помните?
– Конечно. Мы пятнадцать лет жили в одной квартире. Только он тогда не был профессором. Как вы думаете, зачем он понадобился террористам?
– Здесь все время кого-то похищают. И без конца что-то взрывается. А Бренера скорее всего взяли в заложники. Будут требовать, чтобы выпустили из тюрьмы очередную порцию бандитов.
– Ну, вы преувеличиваете, Деннис. Такие теракты, как этот, случаются не часто. А если бандитов не выпустят?
– Не знаю. Все зависит от террористов. Но я бы не хотел оказаться на месте профессора Бренера. Вы волнуетесь за вашего бывшего соседа?
– Разумеется, волнуюсь. У меня остались о нем самые добрые воспоминания. Мы не виделись двадцать лет, но столько всего связано, практически все детство…
Деннис ничего не ответил. Он сидел так, что на его лицо падала тень пальмы. Алиса опять чувствовала его странный, напряженный взгляд. Это было неприятно. Она встала.
– Вот теперь я действительно замерзла. И глаза, закрываются. Спокойной ночи, Деннис. Спасибо за коньяк.
Глава 11
Торжественное собрание партии «Русская победа» проходило в помещении Дома культуры имени Александра Матросова, на окраине Москвы.
Актовый зал был украшен алыми знаменами со свастикой. Раскоряченный четырехлапый паук, жирный, черный, обведенный тонкой кровавой рамкой по контуру, в белом круге, красовался на огромном алом транспаранте над сценой, на рукавах аккуратной, с иголочки, униформы членов партии, на блестящих партийных значках, приколотых к груди.
Черные гимнастерки, туго перетянутые портупеей, черные береты, лихо надвинутые на бровь, начищенного зеркального блеска сапоги, строгие прямые юбки у женщин, казачьи галифе у мужчин.
Основную массу, полторы сотни униформистов, оставляли юноши и девушки от пятнадцати до двадцати двух лет. Чистые ясные лица, строгие прически. u "каких косметических излишеств у девушек, никаких хвостиков и серег у молодых людей. Сдержанные голоса здоровые белозубые улыбки. Ни одного нецензурного слова в гуле общих разговоров.
Они нравились самим себе в этой форме, на этом серьезном, взрослом мероприятии. Они были причастны к важному, таинственному делу – к спасению отечества и всей планеты от дурной, не правильной крови, от ошибок развития земли и цивилизации, от оплошностей самого господа бога. Они чувствовали себя людьми будущего, элитой, на плечах которой взойдет новое, здоровое, чистокровное человечество.
Что бы они ни делали, они были правы изначально, потому что у них правильная, чистая кровь. Приятно чувствовать себя человеком, правильным во всех отношениях. Молодые сильные русские арийцы. Последняя надежда нации.
Красивую толпу несколько портили люди среднего и пожилого возраста. Сочувствующие. Неопрятные, нечесаные тетки в перекрученных колготках. Дядьки с небрежно закрашенной сединой. Представители простого обиженного народа.
Вечная каста народных мстителей, городские сумасшедшие с разными формами параноидального бреда и истерической психопатии. В спокойные времена они тешат свое безумие склоками в очередях и в общественном транспорте, доносами на соседей, оглушительными, с летящей слюной, воплями на детей во дворе. Но нет благотворней стихии для них, чем смута государственного масштаба. Они оживляются необычайно, они бодры и полны юношеского задора, они с восторгом вливаются в ряды всяких экстремистских партий, суть коих – все тот же параноидальный, слюнявый, завистливый бес разрушения.
Толпа дисциплинированно рассаживалась. В первых рядах молодые униформисты. Сочувствующие – сзади. В проходах между рядами и у дверей – вооруженная охрана в черной форме. Настоящие пистолеты в кобурах. Финки в ножнах. Широко расставленные ноги в сверкающих сапогах. На рукавах свастика. Бритые затылки. Внимательные взгляды исподлобья.
Наконец ударил гонг. На сцену, в президиум, поднялось несколько человек. Мужчины средних лет с суровыми лицами. В одном можно было узнать изрядно располневшего, известного когда-то киноактера, в другом – писателя, автора пары книжонок про мировой жидомасонский заговор. Был еще депутат Думы от фракции коммунистов, рядом – отставной полковник ВВС, за ним – колдун-экстрасенс, не слезавший с телеэкрана в конце восьмидесятых. Замыкал шествие широкоплечий плейбой по имени Гарик, который прошлым вечером так неудачно поиграл в бильярд с кавказским авторитетом Азаматом Мирзоевым.
Все, кроме актера и экстрасенса, были одеты в черную униформу. Почетный караул по бокам сцены, у знамен со свастикой, отборные, самые красивые девочки и мальчики вытянулись по струнке. Зал поднялся. Две сотни рук вскинулись в фашистском приветствии.
В радиорубке что-то затрещало, из динамиков шарахнул бравурный немецкий марш времен Второй мировой в исполнении духового оркестра.
Русские люди, сомкнемся рядами за чистоту нашей крови святой! Звездная свастика реет над нами, нашей победы орел золотой!
Плейбой Гарик, он же Авангард Цитрус, слушал, стоя на сцене вместе с прочими членами почетного президиума, как хор в две сотни голосов поет гимн, сочиненный им. Авангардом Цитрусом, на музыку нацистского марша пятнадцать лет назад, после долгой унылой пьянки и болезненной гомосексуальной любви, в заплеванном, провонявшем окурками и мочой, крошечном номере дешевой гостиницы в Бронксе. Он снимал ту поганую комнатенку за триста долларов в месяц вместе со своим черным жирным любовником Джимми.
Если бы тогда, в грязном, пьяном, нищем восемьдесят третьем году, кто-нибудь показал ему, безымянному поэту, несчастному эмигранту из России, кадры вот такого красивого светлого будущего, он бы решил, это глюки, похмельные галлюцинации. Ничего ого не было и быть не могло. Он дурачился, сочиняя на музыку нацистского марша идиотские стишки.
Из волшебной гармонии хора иногда выбивался неприятным визгом какой-нибудь особенно взволнованный женский голос.
Цитрус оглядывал лица в зале. Молодые, чистые, здоровые лица. Старые пердуны и пердуньи не в счет. Можно проскользнуть глазами. Они – досадное бесплатное приложение. Орут громко, продают газеты, ни копейки не требуя за свой труд, работают на благо партии, во имя светлого национал-патриотического будущего. Они готовы разбить любую телекамеру, перегрызть глотку любому дотошному, наглому журналисту. Они не боятся милиции и смело вступают в перепалки с официальными властями. Им нет цены на демонстрациях. Им, сумасшедшим, все можно. Их не жаль сдавать и терять. Однако смотреть противно…
Последние аккорды гимна угасли.
Вступительное приветствие произнес отставной полковник. Он говорил кратко, скупо, не слишком эмоционально. Он брал не ораторским искусством, а загадочной мрачностью. Его стихией была не трибуна, а стрельбище, полигон. Он руководил военной подготовкой боевиков.
Цитрус, скучая под чужие речи, продолжал оглядывать лица в зале, повернулся направо, встретился взглядом с ярко-голубыми большими глазами пятнадцатилетней Маруси Устиновой. Девочка стояла на сцене в почетном карауле и не отрываясь глядела на Цитруса.
Наконец ему предоставили слово. Он не спеша поднялся на трибуну, сдержанно поклонился залу, потом с улыбкой потряс сплетенными над головой руками.
– Да здравствует Цитрус! – взвизгнул истерический женский голос из задних рядов.
– Авангарду Цитрусу ура! – подхватил петушиный тенор.
– Товарищи! – произнес он в микрофон, выдержав долгую паузу и дождавшись гробовой тишины. – Сегодня светлый день. Мы отмечаем пятилетнюю годовщину нашего национально-освободительного движения…
Он никогда не говорил по бумажке. Не готовился заранее. Любая его речь была блестящей импровизацией, и аудитория чувствовала это.
– Мы – последний оплот нашего униженного отечества. Мы – надежда России, ее здоровье, ее судьба, лучшее и единственное, что осталось в нашей растерзанной жидовствующими дерьмократами отчизне! (Аплодисменты.) Мы все страдаем от изъянов нечистой крови, нас, русских, осталось так мало, и с каждым днем все меньше. Полукровки, метисы, уроды, отбракованные самой природой, лишенные корней, пытаются навязать нам свой уродливый образ жизни, свое гнилое мышление… мышление ублюдков… (Бурные аплодисменты.) Все, что не является полноценной расой, плевелы, смрадный мусор гниющей цивилизации. Мы суть нации, мы ее энергетический потенциал… (Бурные аплодисменты, переходящие в овации.) Более сильное поколение отсеет слабых, жизненная энергия разрушит нелепые связи так называемой гуманности между индивидуумами и откроет путь естественному гуманизму, который, уничтожая слабых, освобождает место для сильных… Ленивый и вялый обыватель с удовольствием будет приветствовать пинок в зад, который выпрямит и взбодрит его… Он грезит отдать в фашисты сына и выдать за фашиста дочь. Он интуитивно чувствует здоровое, живое начало, пульсирующий, налитый свежей здоровой кровью, молодой и крепкий корень жизни…. Юные женщины России грезят о настоящих мужчинах, тех, которые изведут полукровок-уродов, пузатых бизнесменов, жирных тупых политиков. Наконец можно будет восхищаться мужиком и, держась за его крепкую руку, прогуливаться с ним, вооруженным фашистом, по улицам ночных городов России. А к утру счастливо забеременеть от него… (В зале визг, бешеные аплодисменты, слезы на глазах у пожилых женщин.) Запад зайдется в экстазе, если в России победит хищный молодой зверь. Его молодой и сильный, животный запах уже сопутствует России, и домашние животные нашей политики ревут и плачут в ужасе, предчувствуя его клыки на своих жирных шеях…. Наконец исчезнет из словаря скучное слово «экономика», мерзкое слово «демократия», и популярным станет чувственное «трибунал». Жалость может нас только поссорить и деморализовать…
Он был мастером эффектных пауз. Зал замирал, не дышал. Затылком он чувствовал зависть президиума. Васька Панкратов, писатель, тихо посапывал от внимательной злости. Слабо ему, бывшему второму секретарю парторганизации Союза советских писателей, вот так говорить, чтобы не дышала и томилась любовью толпа слушателей.
Боковым зрением он видел Марусю Устинову, замечал, как теплеют, наливаются влагой ее большие голубые глаза, и уже ощущал горячее покалывание в паху.
Ничего не заводило его так, как восторженное внимание зала. Толпа отдавалась ему, словно шлюха в подворотне, словно королева в розовом будуаре. Он сам придумал этот образ – толпа-женщина, теплая, влажная, готовая на все.
По воспоминаниям современников, Адольф Гитлер испытывал иногда оргазм, выступая перед многотысячной аудиторией. Поговаривали злые языки, что ему приходилось использовать в штанах специальные прокладки. Авангарду Цитрусу дано было испытать такие же сладкие содрогания, поэтому он предпочитал кожаные джинсы. Дыхание делалось частым, тело напрягалось, как струна. Соленый пот, жгучая сладкая судорога.
Не важно, что он говорил. Толпа заводилась от ритма, от звука его низкого, хриплого голоса, от его лица, такого мужественного, твердого. Он часами отрабатывал мимику и пластику перед огромным зеркалом в спальне. Он становился в разные позы, устанавливал зеркала под разными углами, чтобы видеть себя сбоку и со спины.
– Есть высшая справедливость. Справедливость сильных и здоровых. Выродки-полукровки со своей гнилой буржуазно-христианской моралью, со своей дряхлой болезнетворной гуманностью должны быть стерты с лица земли, выжжены очистительным огнем высшей справедливости. (Овации, стоны, женский визг в зале.) Нас много, гораздо больше, чем они думают… Мы не одиноки в своей борьбе. С нами братья арийцы из Германии. Всего несколько дней назад я встречался (стоп, Гарик, притормози!)… я встречался с лучшими представителями известных организаций… Я не могу назвать имен, даже среди своих… Эти люди рискуют ради нашего великого дела… Они сейчас в самых горячих точках, они в Сараеве и в секторе Газа, они в Грузии и в Чечне, с афганскими моджахедами и с боевиками «Красного передела». Они огненный нерв эпохи. Они наши братья…
Зал тяжело дышал. Маруська таяла, бледнела и краснела, стоя по стойке «смирно» у партийного знамени.
– Сегодня, празднуя пятилетний юбилей, оглянемся на пройденный путь, Цитрус продолжал вещать с трибуны уже спокойней, на выдохе, – сколько нас было, когда мы начинали? А сколько нас сейчас?..
Пора закругляться. Напряженное внимание к оратору не может продолжаться больше десяти минут. Оно сдувается, как воздушный шарик, и повисает скучной тряпочкой. Уже послышались осторожные покашливание, стулья стали поскрипывать, лица поблекли. Почетный караул переступал с ноги на ногу. Маруся Устинова опустила глаза и внимательно рассматривала носки своих начищенных сапожек. Пора слезать с трибуны. Пусть покашливания и поскрипывания достанутся другому.
После торжественной части Маруся Устинова подошла к Цитрусу, осторожно тронула за рукав и, краснея, опуская глазки, произнесла чуть слышно:
– Авангард Иванович, давайте отойдем куда-нибудь в сторонку. Очень серьезный разговор.
Писатель Васька Панкратов многозначительно хмыкнул. Экстрасенс Золотцев сделал понимающе-приторное лицо.
– Ну что, Марусенька, устала стоять в почетном карауле? – Цитрус приобнял смущенную девочку и повел в уголок, за журнальный столик.
В гуле голосов вряд ли кто-то мог их услышать. Но Маруська все равно говорила отрывистым шепотом.
– Гарик, это кошмар какой-то… отец уже написал заявление в прокуратуру, – в чистых голубых глазах стояли слезы, – он никогда не понимал меня… Я ему говорю, что люблю тебя и жить без тебя не могу. А он орет, ничего слышать не хочет. «Посажу твоего старого кобеля! А тебя, шалаву малолетнюю, выгоню вон, чтобы духу твоего в моем доме не было!»
Девочка еле сдерживала рыдания, всхлипывала, трогательно, по-детски шмыгая носом, хмурила бровки и делала страшные глаза, изображая в лицах разговор с отцом.
– Я его знаю, он доведет дело до конца, он может, у него есть связи… Гарик, я так не могу больше, – она уткнулась лбом в его плечо, – давай уедем куда-нибудь за границу.
– Конечно, детка, конечно, маленькая моя, – он погладил розовую нежную щечку, – ты, главное, не нервничай.
– Если бы ты слышал, как он орал на меня… матом… Я думала, убьет на месте. А главное, заявление уже написал. Из дома выгоняет.
– Поживешь у меня.
– Нет, – она судорожно всхлипнула и высморкалась в бумажный платочек, – он не успокоится. Только деньгами ему можно пасть заткнуть, больше ничем. Ты достал деньги, Гарик?
– Деньги не проблема, – задумчиво произнес Цитрус, – но сначала я все-таки должен с ним поговорить.
– Ты что?! – Маруська испуганно замотала головой. – Он тебя убьет! Он сумасшедший! Как только тебя увидит – сразу убьет! Он прямо так и сказал: убью твоего старого кобеля, своими руками придушу.
– Ну, это вряд ли, – Цитрус усмехнулся через силу. Ему совсем не нравилось, что девчонка уже второй раз называет его «старым кобелем», пусть даже цитируя своего злодея-папашку.
– Гарик, давай все сделаем, как мы решили. Я передам ему деньги, и он оставит нас в покое. Я хочу быть с тобой, я так тебя люблю… Ну давай заткнем ему пасть этими несчастными десятью тысячами и уедем куда-нибудь. Надоело мне все.
– Хорошо, – он решительно поднялся и поднял ее под локоток, – поехали.
– Куда? – она испуганно заморгала влажными от слез ресницами.
– За деньгами.
– Что, прямо сейчас?
– Ну а когда же? Надо ведь покончить с этой проблемой. Так почему не сейчас?
Коллеги по партии, охранники-боевики, провожали их внимательными, завистливыми взглядами. Все на них смотрели. Все завидовали такой шикарной паре, такому мужественному, неотразимому Цитрусу. Или это ему только казалось? Ну, покосился кое-кто, отметил мельком про себя, мол, сматывается опять Цитрус со своей красоткой. Не утерпел, уводит девочку под локоток.
В гардеробе в огромном зеркале он с удовольствием окинул взглядом себя, широкоплечего плейбоя, прямо с рекламы «Мальборо», и Марусю, длинноногую стрекозку, высокую, одного с ним роста, тоненькую, с блестящими от недавних слез, широко распахнутыми голубыми глазами, с идеально правильным чистым личиком. Черная партийная униформа удачно подчеркивала ее детскую женственность, ее нежность, стройность, белизну кожи, золотой отДяв светлых волос. Она тоже как будто сошла с рекламы, с глянца журнальных страниц или с подиума. На такую головку не берет со свастикой надевать, а корону королевы красоты.
Цитрус приободрился. Надо хорошо поторговаться, может, папашка заткнется и за три тысячи. Пятьсот у него с собой есть, еще тысячи полторы он снимет сейчас с карточки, потом в крайнем случае придется добавить еще тысячу. Но не больше. Если ее папашка возьмет хоть что-то, дело можно считать решенным. Никакого заявления он не потащит в прокуратуру. Грозить будет, шантажировать, но это уже детали. Главное, действовать решительно.
– У тебя что, прямо сейчас есть такие деньги? – спросила Маруся, когда они уселись в его старую темно-синюю «Волгу» (он из принципа не покупал себе иномарку, правда, мотор в «Волге» был от японской «Тойоты»).
– Мы начнем с двух тысяч. А там, поглядим, – Цитрус улыбнулся, – может, твой бдительный папа на этом и успокоится.
– Нет, что ты, – Маруська закусила губу, – он сказал: десять, и торговаться с ним бесполезно.
– А мы попробуем, – Цитрус весело подмигнул, две тысячи – тоже сумма немаленькая. Во всяком случае, хороший повод для разговора.
– Гарик, подожди, ты что, собираешься с ним встретиться?
– Ну а как же? Должен я представиться своему будущему родственнику? Должен или нет, а, Маруська?
– Ты зря веселишься! – Она довольно больно стукнула его крепким кулачком по колену. – Я уже говорила, тебе ни в крем случае нельзя показываться ему на глаза. Он совсем озвереет. Мы ведь все уже решили, я передам ему деньги…
– Нет, Марусенька, деньги передам ему я. Познакомимся наконец, поговорим спокойно, как мужик с мужиком. И вообще, это все не твои проблемы.
– Я сказала – деньги передам сама. Это мой отец, и я его знаю лучше, – в голосе ее послышались неприятные визгливые нотки, – мы уже решили, договорились.
– Ладно, не ори, Маруська. Я не люблю этого. – Он остановил машину у гостиницы, в которой работал круглосуточный банкомат.
– Подожди, Гарик, в любом случае нужна сразу вся сумма, – сказала она уже вполне спокойно, – нет смысла ехать к нему с двумя тысячами.
Он ничего не ответил, вышел из машины. Ему надоело это занудство. Если моралист-папашка и правда написал заявление, то уже завтра оно может оказаться в прокуратуре. Надо заставить его сегодня взять деньги…
Когда Цитрус вернулся, Маруси в машине не было.
Глава 12
Утро было ясным, безветренным, удивительно теплым.
– Сегодня ты обязательно искупаешься, – заявил Максим, бросая пляжную сумку на лежак, – так нельзя, мамочка. Стоило ехать на море, чтобы сидеть на берегу с книжкой и ни разу не войти в воду.
Деннис исчез куда-то с самого утра. Максимка напрасно стучал в стеклянную дверь соседнего номера.
– Ну мало ли какие у него могут быть дела, – сказала Алиса. – Подожди, он обязательно появится, может, прямо на пляж придет. Он ведь знает наше обычное место.
– А ты случайно не разругалась с ним вчера вечером, когда я спал? спросил Максим, подозрительно щурясь.
– С чего ты взял? Почему я должна была с ним разругаться? Он вообще твой приятель, а не мой.
– Ну, мамочка, я знаю, как ты умеешь вежливо обидеть.
– Зачем? Зачем мне обижать твоего драгоценного Денниса? – пожала плечами Алиса.
Народу на пляже было много. Рядом заливалась смехом за карточной игрой компания молодых скандинавов. У мощной, двухметрового роста девицы на мускулистой ляжке была огромная цветная татуировка, целый букет лилово-красных роз с зелеными листьями и шипами.
– Класс! – восхищенно присвистнул Максимка. – Ну, мам, ты купаться идешь или как?
– Я, пожалуй, подожду. Пусть уж станет совсем тепло.
– Совсем тепло здесь станет только в марте. Ладно, мамочка, сиди, я пошел.
Он отлично плавал, хотя его никто не учил. Алиса не волновалась, когда он был в воде. Пологое дно, до глубины далеко, к тому же вода такая соленая, что сама держит. Изредка она поглядывала на море, находила среди купающихся светлую стриженую голову сына и опять утыкалась в книгу.
Прошло минут десять. Она взглянула на часы и подумала, что пора бы ему вылезать, вскинула глаза и вроде бы увидела, приготовилась отругать как следует, что заплыл слишком далеко, однако, приглядевшись, обнаружила, что это вовсе не Максим, а какой-то чужой мальчик его возраста.
Вскочив с лежака, Алиса бросилась к кромке воды, убедилась, что ребенка среди купающихся не видно, в панике помчалась к двум охранникам, которые покуривали у будки, еще не добежав до них, закричала по-английски:
– Мой сын ушел купаться, я не вижу его в воде!
– Эй, леди! – весело крикнула татуированная девушка-скандинавка. – Не волнуйтесь! Ваш ребенок во-он там, на пирсе. Я только что плавала рядом, видела, как он вылезал.
Каменный пирс уходил далеко в море. Алиса повернула голову. Максим стоял и разговаривал с каким-то мужчиной. Мужчина был в плавках, она не могла разглядеть лицо и в первый момент подумала, что это Деннис. Однако, пройдя несколько десятков метров, вглядевшись, почувствовала резкий холод в животе.
Знакомый силуэт, все такой же прямой, подтянутый, знакомый профиль, нос с небольшой горбинкой, светлая щеточка усов, жесткий прищур светло-карих глаз. Зрение сфокусировалось так странно, что издалека она ясно видела каждую черточку его лица. Он улыбнулся, бросил короткий взгляд в ее сторону, его рука похлопала ребенка по плечу.
– Максим! – она завопила так, что сорвала голос. Бежать по мелким камням было тяжело, она споткнулась, больно подвернула ногу. Сердце бухало у горла.
Ребенок что-то сказал немцу, махнул рукой, побежал по пирсу к берегу, к ней навстречу. Тот прыгнул в воду и исчез.
– Мамочка, ну ты что? Почему ты так испугалась? – Максим ткнулся носом в ее плечо. – Ты так бежала, так ужасно закричала…
– Кто это был? – она могла говорить только сиплым шепотом. – С кем ты разговаривал? Что он тебе сказал?
– Какой-то немец, – равнодушно пожал плечами Максим, – отлично говорит по-русски. Я хотел поймать морского ежа, а он сказал, это опасно. Колючки ядовитые, если поранишься, долго не заживет, будет гноиться. Мам, ну что ты так на меня смотришь? Я только хотел поймать ежа, но ведь не ловил!
* * *
Полковник Харитонов не любил головоломок и ребусов. Получив информацию от своего платного агента, охранника торгового центра, он затосковал. Слишком сложная и ненадежная получалась цепочка. Бросить жалко, а распутывать тяжело. Мозги можно вывихнуть. Впрочем, когда речь заходит о Подосинском, всегда приходится вывихивать мозги.
Для начала надо хотя бы понять, о нем ли вообще речь или диалог, случайно подслушанный платным информатором в бильярдной торгового центра, к Геннадию Ильичу ни малейшего отношения не имеет.
Из диалога следовало, что Авангард Цитрус в качестве связника Азамата Мирзоева встречался где-то за границей с неким Карлом. Этот Карл по заданию Мирзоева должен был похитить и доставить в Москву некоего израильского профессора. Операция прошла успешно. Об этом сообщали в «Новостях» ОРТ.
Азамат Мирзоев, крупнейший чеченский авторитет, является человеком Подосинского. Но из этого вовсе не следует, что он всегда выполняет только поручения Подосинского. Мирзоев – фигура достаточно крупная, чтобы иногда действовать и вполне автономно, решая какие-то собственные задачи.
Авангард Цитрус – личность скандальная и непредсказуемая. Поэт-фашист, истерик, стареющий нимфоман, болтун, готовый ради своей кандальной славы растрепать любую, даже смертельно опасную информацию. Использовать такого человека в качестве связника для передачи серьезного задания, связанного с ближневосточной нефтью и исходящего от самого Подосинского, – верх легкомыслия.
Впрочем, это уже домысел, субъективное мнение полковника Харитонова о том, кого логично, а кого нелогично использовать в качестве связника. У Мирзоева может быть совсем другое мнение и другая логика.
Возможно, интересы операции требовали нейтрального, не чеченского и не российского исполнителя. У Цитруса есть серьезные связи с западными и восточными террористами. С кем только он не якшался за свою бурную жизнь, с кем только не пил водку и не ходил по борделям в разных концах мира. И необязательно, что Мирзоев абсолютно все поручения Подосинского продумывает до мелочей.
Допустим, Подосинский пытается обострить ближневосточный конфликт. Обычный теракт, который в силах осуществить его люди и люди Мирзоева, особенной остроты конфликту не прибавит. Ну, шарахнет очередной взрыв в Хайфе или в Газе. Этим никого не удивишь. Там почти каждый день случаются взрывы, вооруженные разборки израильских и палестинских солдат, захваты заложников и прочие неприятности. И засветиться недолго, отправляя на такое дело своих людей. Это только кажется, что так все просто – приехали, бабахнули, и привет. Учитывая особенности региона, резвость МОССАДа и прочую сложную специфику, засветиться в Израиле даже такому хитрому человеку, как Подосинский, ничего не стоит.
Если уж Геннадий Ильич что-то задумал, то никак не рядовой теракт. А для сложной операции нужен грамотный, совершенно нейтральный, далекий от России и от Чечни, от Мирзоева и от Подосинского, исполнитель, который хорошо знает Израиль, имеет там прочные, надежные связи, владеет языком.
Однако все это только домыслы. Что же можно считать фактом? На что можно опереться?
Итак, в Израиле неизвестными террористами было взорвано управление полиции некоего города. И одновременно похищен профессор. Двойной теракт. Такая информация действительно прозвучала в «Новостях» ОРТ.
Город называется Беэр-Шева. Там Центр ядерных исследований. А профессор биохимик. Очень интересно.
«Биологическое и химическое оружие? Что, чеченец решил на старости лет завести себе секретную лабораторию? – Майор усмехнулся. – Для этого не надо так далеко ездить. Здесь что-то другое. Здесь пахнет не смертоносными вирусами, а крепким международным скандалом. А вот это уже вполне смыкается с сегодняшними реальными интересами господина Подосинского…»
Нет, не любил отставной полковник головоломок. Он предпочитал действовать наверняка, а потому прежде всего затребовал от своих подчиненных срочную оперативную информацию на Авангарда Цитруса за последний месяц.
* * *
– Эй, детка, что за дела? – крикнул Авангард Цитрус,оглядывая пустую заснеженную улицу. – А если бы машину угнали? Скажите, вы здесь девушку не ви дели? – он кинулся наперерез какой-то прохожей бабульке. – Красивая такая девушка, молоденькая, высокая, светленькая, в короткой дубленке. Не видели?
Бабка шарахнулась в сторону, чуть не упала в сугроб, глянула на Цитруса испуганно, ничего не ответила и ускорила шаг. Он запер машину и рванул назад, в фойе гостиницы. Может, девочка пописать захотела? Может, они просто разминулись?
В фойе Маруси не было. Ее нигде не было, и Цитрус заволновался. Обиделась? Испугалась? Что за дурацкие капризы!
Дурацкие, отвратительные женские капризы преследовали Авангарда Цитруса всю жизнь. Душу его с самого нежного возраста раздирали страшные противоречия. Дожив до пятидесяти, он так и не сумел разрешить для себя этот жгучий половой конфликт.
Он трепетно ненавидел все, что относилось к противоположному полу. Скользкие, гибкие, ядовитые твари, самки, примитивные, но совершенно непонятные существа. Настолько примитивные, что унизительно не понимать их. И в этом главное коварство.
Авангард Цитрус был уверен, что понимает. Буквально каждую видит насквозь. Каждая ждет своего хозяина, грубого, наглого, сильного, который схватит за волосы, пригнет без разговоров и использует по назначению. По какому праву эти существа корчат из себя людей, лезут в честную мускулистую мужскую жизнь со своими неполноценными мозгами?
Никто так не врал, никто так не предавал его, как женщины. Особенно те, от которых он сходил с ума, те, без которых он погибал в мучительных корчах. Они бросали его. Всегда бросали. Он сам превращался в извивающуюся тварь, и ползал в пыли перед ними, и готов был на самые гадкие унижения, лишь бы не уходили. Но уходили, не оглядываясь.
Тощий прыщавый подросток Гарик Руденко, шпана с окраины грязного шахтерского городка, часто во сне видел себя жилистым надменным ханом в возбужденном нежном щебете покорного гарема или плечистым, пропыленным воином в бесплатном бардаке побежденного города. Девки. Девочки. Телки. Мочалки. Дешевые приторные духи. Вместо восхитительных оргий с томными, на все готовыми гетерами жизнь скупо дарила ему лишь томительно-потные обжимания на танцульках под музыку ВИА «Песняры», кровавые драки на пустыре за клубом, горячечную мастурбацию под одеялом под скрип раскладушки.
В городке весенняя слякоть превращалась в летнюю пыль. Девочки-телки к двадцати пяти годам становились измотанными, рыхлыми, как перебродившее тесто. Подростки пили водку и нюхали клей. Юноши пили и шли в армию. Потом возвращались, женились на перекисших телках и шли работать в забой. Взрослые почерневшие мужики вылезали из забоя и пили до одури, до белой горячки. Белая горячка черных шахтеров. Это был первый его поэтический образ. Юноша Авангард Руденко почему-то стал писать стихи.
В начале семидесятых худого кудрявого юношу с тетрадочкой стихов под мышкой длинный поезд, вонючий, набитый мешочниками общий вагон, унес в Москву.
На дворе стояла нежная эпоха богемных московских кухонь, подвальных и чердачных мастерских, блаженного интеллигентского пофигизма. Авангарда приютил пожилой художник у себя в мастерской. Это были высокие чистые отношения в стиле романтической, бескорыстной эпохи первоначального застоя. Талант тянулся к таланту. Художник помогал поэту.
Художник, кроме полотен, писал еще и песни, исполнял их под гитару в узком кругу, имел кое-какую известность. Одни говорили: он хороший художник, только зачем сочиняет песни? Другие возражали: он потрясающий бард, но зачем рисует картины? Впрочем, не важно, кто что говорил и возражал. Главное, не молчали. Знали, кто такой и как зовут. Звонили и приглашали в гости. Пристраивали картины на вернисажи. Организовывали концерты. Просто так. Бесплатно. Из любви к искусству.
Художник щедро делился с юным поэтом своей небогатой славой. Таскал с собой по богемным кухням. Со всеми знакомил. Всем рекомендовал. Читал вслух стихи, некоторые даже знал наизусть. Вместо простецкой, с военно-хохлятским душком фамилии Руденко придумал красивый смешной псевдоним: Цитрус.
Авангард Цитрус. Это легко запоминалось. Круглые добролюбовские очочки завершили образ.
О публикации стихов не могло быть и речи. Тоненькие ксероксные и машинописные тетрадочки распространялись по кухням и подвалам бесплатно и довольно вяло. Стареющий художник рекомендовал:
– Смотрите, какая прелесть!
И цитировал, прищурившись, несколько удачных строк. Слушали, кивали, улыбались. Но не запоминали – ни строк, ни даже имени.
Москва не любила Цитруса. Москва не хотела Цитруса. Она была злая, надменная, чересчур умная.
Чтобы заработать на жизнь, Цитрус выучился портняжному ремеслу. Он шил брюки и джинсы, мужские и женские. Люди доброжелательные про него говорили: «Поэт Цитрус? Тот, который шьет брюки?» Люди менее доброжелательные хмыкали: «Брючный портной Цитрус? Тот, который пишет стишки?»
Но слава, даже бедненькая, вялая, кухонная, все не давалась. Никак не желали запомнить, кто такой и как зовут. Редко звонили. Еще реже приглашали в гости. И совсем не интересовались стихами. Только джинсами, которые он научился шить ловко, «под фирму».
Поэту мешал неистребимый хохлятский говорок. Не хватало образования для умных кухонных разговоров. Он пытался компенсировать этот досадный изъян мрачностью, легким налетом экстравагантного хамства, еще чем-то, однако без толку. До судороги, до истерики хотелось всюду слышать собственное имя, и чтобы московские девки, телки-метелки, которые не перекисают даже к сорока годам, глядели более пристально в добролюбовские очочки поэта-брючника.
Все переменилось в один миг, ясным апрельским вечером в какой-то случайной чужой квартире. Цитрус встретил Ее. Ирину. Свою главную и единственную любовь. Увидел и пропал. Перестал грезить о множестве податливых восхищенных гетер. Захотел только эту, ее одну, и никого больше, прямо сейчас, сию минуту,
Сошел с ума. Решил, что вот она – единственная, навсегда.
В художественном произведении это было бы сильной натяжкой. В жизни Гарика это тоже было сильной натяжкой. Невозможной. Штаны собственного производства затрещали и лопнули по шву.
Страсть оказалась вполне взаимной. Потом выяснилось, что Ирина вообще-то замужем и вообще-то денег, которые можно заработать на пошиве брюк, ей, неженке, красавице, хватит разве что на булавки. Много чего выяснилось потом. Но в тот волшебный апрельский вечер они вышли из чужой квартиры, тесно прижавшись друг к другу, не простившись с удивленными хозяевами.
Москва была мала и пресна для их великой страсти. А тут еще Иринин недовольный муж, и тягостная брючная безвестность, и неудобная комната в коммуналке. Страсть требовала крутых перемен и шальных необдуманных решений. Тесно прижавшись друг к другу, не простившись со многими все еще удивленными знакомыми, Гарик и Ирина рванули в Америку.
Страна великих возможностей звала, манила пальчиком из-за океана. Но оказалась на поверку страной великого обмана. Америка не любила и не хотела Авангарда Цитруса. Циничному, бездуховному буржуазному миру на фиг не нужен был простой русский поэт. Брючный портной, который умел шить джинсы «под фирму», тем более не был нужен джинсовой Америке. А больше Цитрус ничего не умел.
Нью-Йорк своими цепкими холодными пальцами-небоскребами выскреб из ранимой поэтической души остатки иллюзий. И отнял Ирину. Неженка, красавица тоже больше не любила и не хотела Авангарда Цитруса.
Он работал грузчиком и подметалой. Он жил в грязи. Он умолял ее вернуться, рыдал, ползал перед ней на коленях посреди шумного Бродвея, и жизнерадостные Нью-Йоркцы обходили распятого в пыли поэта с равнодушным «сори!». Ирина тоже перешагнула через него своими стройными ногами, но вместо «сори» сказала по-русски: «Прекрати. Противно». И ушла навсегда, не оглядываясь.
Никто его не жалел и не понимал. Он резал вены в дешевом отеле в Бронксе. Наконец назло им обеим – Ирине и Америке – сошелся с грязным толстым негром в отвратительном порыве гомосексуального абсурда.
Когда абсурда и тоски накопилось столько, что не было сил терпеть, он предпринял последнюю отчаянную попытку то ли вернуть свою единственную любовь, то ли отомстить двум вероломным обманщицам, Ирине и Америке, то ли просто выжить.
Авангард Цитрус стал писать роман о самом себе, об Ирине и об Америке. Он вывернул всех троих наизнанку, вывалил самые интимные анатомические подробности, он сотрясал израненной душой и поруганными гениталиями перед воображаемым читателем с горьким бесстыдством литературного самоубийцы. Он сдирал исподнее с самого себя, с Ирины, с жирного негра Джимми, который тоже его бросил. Ему больше нечего было предъявить миру, кроме потной, жадной совокупляющейся плоти.
Слабенький, зыбкий поэтический талант мальчика из шахтерского городка сгорал без остатка в этом порнопожаре. Авангарду Цитрусу до спазмов было жалко Гарика Руденко. Но эта жалость только добавляла поленьев в ритуальный костер.
Порноистерика отвергнутого всеми русского поэта принесла ему долгожданную славу. Об Авангарде Цитрусе заговорили. Заорали, сначала в узких эмигрантских кругах, потом в более широких кругах американских славистов. Наконец, в России.
Мало кто сумел осилить роман «Альтер эго», словесное море слез, пота и спермы, до конца. Только самые искушенные и терпеливые любители жесткого порно доплывали до пустынного берега, на котором не росло ни деревца, ни даже травинки. Лишь слабая, мертвая, неутешительная сентенция, что все дерьмо, все бабы – суки, страна Америка плохая, поэт Цитрус – хороший.
Но даже те, кто вообще не читал роман, теперь при имени Авангарда Цитруса не вскидывали равнодушно брови: «Кто это?» За Гариком стоял скандал, крепкий, дурно пахнущий, великолепный скандалище, на гребне которого он и заявился домой, в Россию.
Если ты единожды публично снимешь штаны, тебя заметят. О тебе поговорят. Но недолго. Ибо ничего такого интересного у тебя там нет. И хотя порнография, особенно мужская, для неискушенного русского читателя еще оставалась в те годы откровением, Цитрус чувствовал, что на одном только бесстыдстве долго не протянешь, даже в России. Питать капризную скандальную славу надо более добротной пищей.
Поэт-патриот, поэт-пролетарий, хулиган, засранец, не просто вернулся на Родину. Он приехал, чтобы заявить: ребята, Америка – дерьмо. Их хваленая свобода нам с вами на хрен не нужна. Они буржуи, зажравшиеся, наглые, жирные, бездуховные, и вы здесь ничего не понимаете, когда хотите, чтобы у нас стало как у них. Давайте скорее, пока не поздно, покончим со всей этой контрреволюцией, которую вы здесь без меня развели. Нам, ребята, нужен наш родной коммунизм, национал-коммунизм. Фашизм. Мы с вами простые русские пролетарии. У нас, советских, собственная гордость. Сталин наша слава боевая. Гитлер – наша юность и полет. С Цитрусом борясь и побеждая, наш народ за Цитрусом идет.
Все так же мучительно, до истерики, хотелось слышать свое имя отовсюду, видеть свое лицо на телеэкране, на газетных страницах.
Давно не было романтических локонов и добролюбовских круглых очочков. Седоватый бобрик. Выбритые виски. Толстая квадратная оправа очков. Кожанка, уголок тельника. Красный комиссар Цитрус. Коричневый, с автоматом в руках, русский литератор, который почти ничего не пишет, которого почти никто не читает, но все знают, кто такой и как зовут.
Он повзрослел. Он понял, что старая добрая свастика убедительней и надежней любой порнухи. Больше не надо публично снимать штаны, чтобы прославиться. Да и возраст уже не тот.
В России, как в огромном инкубаторе, стали вылупляться чудовищные птенцы, политические партии, большие и маленькие, на любой вкус.
Под красной звездой, под черной свастикой и под прочими символами стояли не только идеи, не только маниакальное тщеславие маленьких фюрерчиков, мус-солинчиков и сталинчиков, не только слюнявая истерика толпы. Отмывались криминальные капиталы, протаскивались нужные люди в Государственную думу, выращивались боевики. Партии спонсировались сомнительными банками, кормились с ладоней крупных уголовных авторитетов.
Во всеобщем гвалте не очень громко, но вполне отчетливо прозвучал хриплый голос новорожденной партии Цитруса, для которой он придумал хлесткое имя: «Русская победа».
С годами все моложе становились красотки, которых он менял с равнодушным упорством, по инерции продолжая мстить своей единственной неверной любви.
Ирина вышла замуж за миллионера, французского графа, родила сына в сорок лет и жила в свое удовольствие то в Ницце, то на Канарах, и Цитрус люто ненавидел ее за это.
Неужели Маруська тоже сбежала? Почему? По какому праву? А главное – что теперь делать? Если ее папаша действительно написал заявление в прокуратуру и завтра его отнесет, то надо что-то срочно предпринять.
Не раздумывая больше ни минуты, Цитрус отправился к Маше Устиновой домой. Он часто подвозил ее к серой панельной пятиэтажке на Пресне. Провожал до подъезда. Видел, какие цифры набирает на домофоне – сначала номер квартиры, потом код. Память на цифры у него была отличная.
Глава 13
К вечеру в пустыне Негев поднялся страшный ветер, пошел дождь. Капало с дырявого матерчатого потолка, хилые стены бедуинской палатки тряслись, как в лихорадке, рядом тоскливо и жалобно орали верблюды. Натан Ефимович не мог уснуть.
«Что-то у них не заладилось, – думал Бренер, – они давно должны были переправить меня в Египет. Они должны были сразу, в тот же день, вывезти меня из страны. Этак я грязью зарасту. Я ведь не могу, как бедуин, мыться без воды и мыла, зарываясь в раскаленный песок. Да и песок сейчас холодный… А признайся, Натанчик, ты ведь здорово разволновался оттого, что эти ублюдки собираются переправлять тебя в Россию. Почему именно в Россию? Ты двадцать лет мучился нежной, лирической ностальгией, тонул в соплях, и вот – пожалуйста, повезут на родину. Террористы, мать их. Интересно, кому я там понадобился?»
Бренер усмехнулся. Если бы мир не изменился так сильно за последние десять лет, можно было бы подумать, что сюда, в Израиль, дотянулась длинная рука КГБ, карающая десница, от которой не спрячешься за морями, за горами, в пустыне. Ведь копошился в душе в первые годы идиотский страх, вспоминалась конфиденциальная беседа с институтским кадровиком в погонах: мол, вы думаете, господин Бренер, советская родина вас когда-нибудь простит? Вы предатель, господин Бренер, ас предателями мы поступаем по суровым пролетарским законам…
Старый пердун, бывший сталинский сокол, умел напустить страху. Почему-то особенно страшно звучало в его устах слово «господин». Оно было ужасней любых угроз, туманных и бессмысленных.
«Мы вас, если надо, из-под земли достанем, господин Бренер». Зачем, спрашивается, доставать его, жалкого младшего научного сотрудника, из-под земли? Никакой секретности на нем не было. Его бы просто не выпустили, если бы могли предположить, что когда-нибудь возникнет необходимость «доставать из-под земли».
С советских времен остался суеверный страх перед этой организацией, перед ее стукачами, перед кадровиками и «первым отделом». Простому советскому еврею, который год просидел в «отказниках», страх успел въесться в кожу, как шахтеру угольная пыль.
Потом, через годы, он стал понимать, что не так уж серьезно влияла эта таинственная организация на обычную повседневную жизнь. Пока он не подал заявление на выезд, жизнь-то текла себе, в общем, неплохо.
Бесплатные путевки в дом отдыха, в пионерский лагерь для сына, бесплатная медицина и счастливое детское легкомыслие во всем, что касается денег… Господи, ведь совершенно не думали о деньгах. Хочешь – работай, хочешь – валяй дурака. В этом была такая свобода, какая здесь, в свободном капитализме, не снилась никому.
И еще, весьма удобно было иметь постоянный, как бы карманный образ врага, громким шепотом ругать злодейку советскую власть, «Степаниду Власьевну», и во всем видеть тайный умысел, «руку КГБ». Всегда находилась острая живая тема для разговора. Это становилось второй профессией, а для некоторых болтовня делалась основным содержанием жизни.
Тот, кто реально боролся с советской властью, не болтал. Таких было мало, единицы на огромную страну. Остальные миллионы шепотком, дома на кухнях, на работе в курилках, травили анекдоты, читали самиздат, спали на партсобраниях, или просто пили водку, или просто жили себе, поживали, и, в общем, неплохо…
Правда, было одно партсобрание, которое Натан Ефимович не мог забыть, на котором никто не спал.
Когда он подал заявление на выезд, его красиво и с удовольствием на общеинститутском собрании исключали из партии. Разумеется, Натан Ефимович не ждал, что эта процедура пройдет тихо и скромно. Однако пылкость речей на собрании все-таки оказалась для него сюрпризом. Сослуживцы, нормальные, интеллигентные люди, по очереди выходили на трибуну и зачитывали анафему предателю советский родины, потенциальному убийце невинных арабских младенцев.
Особенно старался Додик Розенблат, он говорил вдохновенно, от души, не по бумажке, назвал Бренера подколодной змеей, пригретой на теплой груди коллектива, подлым затаившимся врагом, посетовал на слишком мягкие времена, процитировал советского классика Сергея Михалкова, почти полностью прочитал басню про крыс, которые «сало русское едят», а под конец так разошелся, что обратился к грубому, но убедительному фольклору: «Над простой арабской хатой пролетает жид пархатый».
Додик мечтал о должности заведующего лабораторией. Его можно было понять. Потом, в курилке, он сопел Натану в ухо, мол, не обижайся, старик, приперли к стенке, ты знаешь, как они умеют, сказали, что мое выступление должно прозвучать неформально…
Всем, ну почти всем, кто выступал на том собрании, было стыдно, но никто не отказался выступить. Никто. Собрание длилось три с половиной часа.
– Из-за тебя, такого умного, пришлось позориться, – говорили ему потом, в курилке, – тебе хорошо, ты уедешь, а нам здесь жить, хлюпать в советском дерьме.
Он хотел сказать, мол, ребята, если вам так плохо, так чего же вы хлюпаете в дерьме? Моя несчастная пятая графа, которая всегда портила мне жизнь, пригодилась наконец. Я устал от советской власти не меньше вашего, но куда больше устал от антисемитизма, официального и неофициального, искреннего и показного. Мне надоело быть жидовской мордой. Есть только одно место в мире, где я и мой сын застрахованы на сто процентов от этого титула.
Мне орали: катись в свой Израиль, жидовская морда. Ну вот я и качусь. Опять не прав. Стал предателем родины. Но даже не в этом дело. Скоро я стану иностранцем. А иностранец для советского человека – существо высшее, баловень судьбы. Правда, вы упускаете важный момент. Это для вас я буду иностранец, а там, на исторической родине, стану иммигрантом. Это, ребята, совсем другое дело. Сам для себя я навсегда там останусь иммигрантом. Меня, жидовскую морду, будут там называть русским…
– Ты самый умный, тебе хорошо…
Но, ребята, если вам так плохо, кто мешает найти какую-нибудь фиктивную еврейскую бабушку? Необязательно ехать в Израиль, можно в Штаты, в Канаду, в Австралию.
Или не так уж и плохо? Тогда чего же жаловаться? Зачем завидовать? Зачем называть все дерьмом на просторах своей необозримой отчизны? Это мой выбор. У вас он тоже есть. Наш институт, слава богу, не «почтовый ящик».
Но ничего этого он своим коллегам, разумеется, не сказал. Он чувствовал себя виноватым перед ними. Им пришлось позориться, участвовать в этом шабаше, а он, виновник и главный герой позорного представления, скоро помашет им всем ручкой из международного вагона и станет иностранцем. Ему будет хорошо…
А потом те же коллеги пили и плакали на проводах, просили прислать джинсы, лекарства и много всяких красивых импортных мелочей. Додик Розенблат лез целоваться, рыдал, как дитя, и попросил передать с оказией хотя бы штук двадцать хороших презервативов. С усиками.
На перроне Белорусского вокзала, перед поездом Москва-Вена, нестройным пьяным хором спели песню Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья».
Да, смешно и глупо все это вспоминать через двадцать лет, особенно здесь, в бедуинской палатке, под дулом автомата.
Он сел на циновке, потянулся, скрестил ноги по-турецки. Рядом беспокойно заворочалась немка. Эта Железная, страшно вежливая девка не оставляла его ни на минуту. Немец, который отлично говорил по-русски, исчез. Остались арабы и главный сторож – девка. Фрейлейн Инга. Ее автомат всегда наготове.
Бренер щелкнул зажигалкой. В кромешной темноте мелькнуло белое лицо Инги, закрытые глаза. Она спала на спине, крепко прижав к груди автомат. А что, если?.. Нет, глупо. Зачем? Рядом, в соседней палатке, спят арабы, он не успеет пробежать и нескольких метров. Да и куда бежать? Пустыня…
И все-таки он осторожно протянул руку, сам не зная зачем.
– Вы хотите выйти, господин профессор? – она вскочила и схватилась за свою пушку.
– Я хочу покурить, фрейлейн.
Вспыхнул фонарик, она протянула ему сигареты.
– А куда делся ваш любезный шеф?
– Не ваше дело, – произнесла она быстро и как-то очень уж грубо.
– Это не праздный интерес, фрейлейн. Я хотел бы знать, долго еще мне придется торчать в этой вонючей палатке? Я пожилой и не слишком здоровый человек. Я привык принимать душ каждое утро и каждый вечер. Эта ваша бандитская романтика меня вовсе не восхищает.
– Вам придется потерпеть, профессор. – Инга приоткрыла полог палатки, закурила.
В лицо брызнул мелкий колючий дождь.
– У вас, вероятно, возникли проблемы? – спросил Бренер сочувственно. – Вы ведь тоже торчите здесь в пустыне не ради романтических впечатлений. Ваш шеф…
– Заткнитесь, профессор, – рявкнула Инга.
– А почему, собственно, я должен заткнуться, фрейлейн? Я пожалуюсь вашему шефу, или как он там у вас называется? Лидер банды? Партайгеноссе? Он отлично говорит по-русски. Мне было бы приятно с ним побеседовать. Я, знаете ли, соскучился здесь по родному языку, русский звучит для меня как музыка, даже когда говорят с немецким акцентом.
Натан Ефимович сам не понимал, что на него нашло. Ему нравилось злить эту железную девку. Ему показалось забавным, что простой вопрос и упоминание о главаре вызвали столь бурную реакцию. Наверняка она еще и любовница его, а не просто боевой товарищ. Любопытно, как у них, у бандитов, строятся отношения такого рода? Похоже это на дешевые напыщенные страсти, которые разыгрываются в американских боевиках? Или все иначе? Они ведь тоже люди, хоть и бандиты.
– Израильтянки очень красивы, – произнес он задумчиво и пожалел, что не видит в темноте лица Инги, – как вам кажется, не завелась ли у вашего шефа здесь случайная подруга, ведь миром правят не только деньги и бредовые идеи. Еще и любовь. Очень забавно, если…
Он запнулся. Дуло автомата упиралось ему в грудь. Глаза Инги светились нехорошим голубым огнем, как у разъяренной сиамской кошки.
– Еще слово, и я пристрелю вас, профессор, – тихо сказала она.
Глава 14
За дверью визгливо загавкала собачонка. Потом послышалось тяжелое шарканье, и старушечий голос прошамкал:
– Машенька, ты опять ключи, что ли, забыла? Цитрус не успел ответить. Дверь распахнулась.
Крошечная лохматая собачонка кинулась на него из теплой, душной темноты прихожей.
– Чапа! Нельзя! Вы к кому? – Старушка лет восьмидесяти, худенькая, во фланелевом халате и в огромных валенках, удивленно глядела на Цитруса сквозь толстые линзы очков.
– Здравствуйте, – он широко улыбнулся, – вы Марусина бабушка? Меня зовут Авангард Цитрус.
– Как, простите? – старушка склонила голову. – Я плохо слышу.
Собачонка гавкала невыносимо и пыталась вцепиться Цитрусу в штанину. На пороге кухни возник огромный, под два метра, мужик, толстый, рыхлый, почти лысый, в майке и в широких ситцевых трусах. Цитрус заметил, что дышит он с астматическим присвистом.
– Добрый вечер, – пробасил мужик вполне миролюбиво, – чем обязаны?
«Вот он, злодей-папашка, – подумал Цитрус, оценивающе оглядывая мощную фигуру, – ну что ж, попробуем договориться…»
– Меня зовут Авангард Цитрус, – он шагнул навстречу и протянул руку, – а вы, как я понимаю, Петр Алексеевич, Марусин папа?
– Он самый, – кивнул мужик, – очень приятно. – Ответное рукопожатие было крепким, можно сказать, дружеским.
Повисла долгая, неловкая пауза, заполненная визгливым собачьим лаем. Было ясно только одно: никто его душить-убивать пока не собирается.
– А где Машенька? – вдруг забеспокоилась бабулька. – Она ведь на ваше собрание пошла. Ох, может, с ней что случилось? Вы лучше сразу скажите, не тяните.
– С ней все в порядке, – ответил Цитрус, – она действительно была на собрании и скоро должна вернуться.
– Ну и слава богу, – закивала старушка, – да что же мы вас на пороге-то держим? Вы раздевайтесь, проходите, я чайку поставлю. Ботиночки снимать необязательно. У нас все равно тапок-то нет. Чапа все сгрызает.
– Да, проходите, пожалуйста. Авангард Иванович, – Устинов отступил в кухню, – присаживайтесь. Вы извините, я в таком виде.
«Наверное, при бабульке не хочет выяснять отношения, – догадался Цитрус, ладно, посмотрим, что будет дальше».
Он скинул на руки бабульке свою теплую кожанку.
Кухня выглядела довольно убого. Мебель образца шестидесятых, безнадежно загаженная плита, старый, рычащий и прыгающий холодильник «Север».
«При такой бедности только и остается, что кропать заявления в прокуратуру», – хмыкнул про себя
Цитрус, осторожно присаживаясь на трехногую табуретку.
Старушка поставила чайник на газ и, шаркая, удалилась.
– Скажите мне честно, Авангард Иванович, – произнес Устинов, откашлявшись, – Машка моя набедокурила, что ли? Я знаю, она может, она у нас с характером. Вы только не выгоняйте ее из вашей организации.
Цитрус ошалело вглядывался в тусклые отечные глаза, пытаясь понять, издевается над ним этот громадный папашка, блюститель дочерней чести, или… Что вообще происходит?
– Она себя иногда ужасно ведет, я знаю, – продолжал между тем Устинов, – а у вас дисциплина, порядок. Это ведь главное – дисциплина и порядок. Я видел, как они у вас маршируют. Блеск! Чистенькие все, подтянутые, и спортивная подготовка опять же, для молодого организма очень важно. А то сейчас, сами знаете, наркотики, разврат всякий. Долго ли красивой девочке вляпаться в какую-нибудь дрянь? Без матери растет, я сам инвалид второй группы, бабушка старенькая. У меня астма сильнейшая, знаете, и желудка нет. Вырезали. Так, иногда подрабатываю на дому, кому приемник старый починю, кому ботинки залатаю. Но все одно копейки. В общем, живем на две пенсии, мою и бабулину. У нее по старости, у меня по инвалидности. Получается триста пятьдесят в месяц. Маловато на троих.
«Вот, – напрягся Цитрус, – началось. А ты, я вижу, дипломат, товарищ Устинов».
Сам Цитрус дипломатом не был. Его поэтическо-пролетарская душа жаждала прямоты и правды. Ему надоело нытье этого стукача, моралиста, который жалуется на бедность, глядит своими грустными оплывшими глазенками, а сам уже накропал заявление в прокуратуру. Между прочим, аппетиты у этого инвалида ничего себе.
Закипел чайник. Бабулька так и не вернулась на кухню. Наверное, уснула уже.
«И правда поздно, – подумал Цитрус, нетерпеливо взглянув на часы, – пора закругляться. Однако где, интересно, загуляла наша с вами красавица, а, товарищ папа? Должна бы уже доехать до дома».
Товарищ папа между тем тяжело поднялся с табуретки, выключил газ, стал чай наливать.
– Вам как, Авангард Иванович, покрепче? Вот сахарок, сушки. Вы уж извините, не ждали такого гостя, к чаю ничего особенного нет. Вот еще вареньице малиновое.
«Точно. Издевается, – понял Цитрус, – не так он прост, как кажется».
– Конечно, говорят разное про вашу партию, – продолжал между тем Устинов доверительным хриплым полушепотом, – и в газетах пишут, и по телевизору… Но я человек простой, в политике не разбираюсь. Сейчас все вроде разбираются, а я вот нет. Приемник починить могу. Сантехнику всякую тоже. А чего не знаю, того не знаю. Мне главное, что девчонка не торчит в подъезде, по улицам не шастает, не пьет, не колется, ну и все такое. Вы там люди взрослые, серьезные, наверное, знаете, как лучше. И название хорошее: «Русская победа». Вы вот писатель, поэт. Я, правда, ваших книжек не читал…
Все. Цитрус устал от этой бодяги.
– Петр Алексеевич, давайте по-честному, – произнес он и чуть прищурился, вы мне – заявление, я вам две тысячи долларов. Я ведь тоже не миллионер.
– Что, простите? – растерянно улыбнулся Устинов.
– Маруся изложила мне ваши условия. Я готов, учитывая…
– Какие условия?
Цитрусу на миг показалось, что его собеседник глух и слеп, так напряженно он вглядывался в лицо Гарика своими отечными глазками, так резко подался вперед всем своим тяжелым корпусом.
– Петр Алексеевич, я все понимаю, – Цитрус тяжело вздохнул, – но мы с вами взрослые люди. Вам, кажется, теперь неловко. Но заявление-то вы написали, на это храбрости хватило, и собираетесь нести его в прокуратуру. Давайте договоримся по-хорошему. Две тысячи. Больше у меня просто нет. Ну и потом, согласитесь, получается как-то некрасиво. Я ведь к Марусе отношусь очень серьезно, мы любим друг друга, и с моей стороны…
– Подождите, – Устинов болезненно поморщился, – я не понимаю. Вы с моей Машкой – что?.. Нет, давайте по порядку. Я ничего не понял.
– Хорошо, – Цитрус щелчком выбил сигарету Из пачки, стал нервно шарить по карманам в поисках зажигалки, – хорошо, давайте все по порядку. Вы написали заявление в прокуратуру… Черт, у вас есть спички?
– Мы здесь не курим, – отрывисто прохрипел Устинов сквозь тяжелую одышку, – у меня астма. Не переношу дыма. Слушайте, сколько вам лет?
– При чем здесь мой возраст? Вы обвиняете меня в совращении вашей несовершеннолетней дочери, но готовы отказаться от обвинения за десять тысяч долларов, – Цитрус говорил очень быстро, не глядя в глаза своему собеседнику. Между прочим, еще неизвестно, кто кого совратил, но суть не в этом. Я готов, учитывая ваше бедственное положение, дать вам две тысячи, но не больше. Другой на моем месте вообще бы не стал с вами разговаривать, по-настоящему это называется шантаж. В наше время смешно говорить о совращении малолетних, они такие в пятнадцать лет…
– Во-он! – вдруг заорал Устинов и шарахнул пудовой ладонью по хлипкому столику так, что подпрыгнули чашки. – Мерзавец! Вон из моего дома!
Цитрус не спеша, стараясь сохранять достоинство, поднялся с табуретки. В прихожей опять загавкала собачонка. Звякнул домофон. Цитрус едва успел сунуть руки в рукава куртки. Дверь открылась. На пороге стояла Маруся.
Секунду они молча смотрели друг на друга. Собачонка гавкала как безумная. Не дожидаясь, когда папаша отдышится в праведном гневе и выскочит из кухни в прихожую, Цитрус грубо оттолкнул Марусю и, ни слова не говоря, рванул вниз по лестнице.
* * *
Бедуинская палатка хлопала всеми своими лохмотьями и чуть не срывалась с места. Над пустыней кружил вертолет.
– Одевайтесь! – скомандовала Инга и бросила в лицо Натану Ефимовичу какое-то тряпье.
– В чем дело? – он растерянно тер глаза. Он никак не мог проснуться после бессонной ночи и плохо понимал, что происходит, откуда взялся этот назойливый гул и почему так трясется палатка.
– Быстрее! И без глупостей, профессор. Вы спрашивали, где мой шеф? Он в Тель-Авиве. Если вы сорвете операцию, от семьи вашего сына ничего не останется уже сегодня. Достаточно нажать кнопку. Взрывчатка в доме, в двух машинах, в гараже.
– Семью моего сына сейчас очень надежно охраняют, фрейлейн, и я с огромным удовольствием сорву вашу кретинскую операцию. Мне надоело!
Он страшно разволновался. Сейчас вертолет сядет. Наверняка это военные или полиция, это его ищут, ну кого же еще? Наконец-то! Могли бы и побыстрей… Арабы не посмеют устроить здесь перестрелку. Только бы не пролетели мимо.
– Ну садитесь же скорее, миленькие, хорошие мои, я здесь, я вас очень жду, – забормотал профессор себе под нос по-русски, вскочил на ноги, попытался вылезти из палатки.
– Вы будете одеваться или нет? – Немка преградила ему путь, саданула кулаком в солнечное сплетение.
Профессор вскрикнул от внезапной боли, упал на колени. Он никогда в жизни не ударил ни одного человека. Он даже сына своего Сережу ни разу не шлепнул в детстве. Но сейчас он размахнулся, чтобы вдарить этой девке, все равно куда, лишь бы она не мешала вылезти на воздух. Его моментально увидят с вертолета, он станет размахивать руками, он одет не как бедуин, на нем брюки и свитер, его седая голова сразу бросится им в глаза…
Инга, разумеется, была значительно сильней старика. Профессор сопротивлялся как мог, но она ловко скрутила ему руки, накинула на голову хламиду. От черной тряпки воняло чужим потом,
– Старый идиот, еврейская свинья! – орала Инга, перекрикивая гул мотора. Одевайся!
Натана Ефимовича затошнило от этой сумасшедшей хамки и от собственной беспомощности. А вертолет кружил совсем низко, но все не садился.
– Не ломай мне руки, дура. Я понял. Можешь не беспокоиться, я все понял, крикнул он, пытаясь высвободить лицо из вонючей черноты.
Она стала заматывать ему голову клетчатым бедуинским платком. Она очень спешила. Автомат болтался у нее на животе. Бренер знал, что где-то в складках ее одежды спрятан пистолет. Они оба стояли на коленях в низкой палатке, он покачнулся, сделал вид, что падает, обхватил Ингу руками, пытаясь нащупать оружие.
Или лучше сорвать автомат? Вот он, совсем близко, у лица. Металлический маслянистый запах смазки щекочет ноздри. Надо сначала передернуть затвор, дать короткую очередь от живота…
Двадцать лет назад, приехав в эту страну, он проходил годичные курсы военной подготовки, но это было давно, очень давно, он все забыл. Брезгливая ярость придала ему сил. Ему почти удалось сорвать автомат, но Инга уже держала у его лба пистолетное дуло, а в палатку влезали два здоровенных араба.
Через минуту он почувствовал спиртовой холодок на обнаженном локтевом сгибе. Игла легко вошла в вену. Арабы держали его так крепко, что он не мог шелохнуться. На лицо ему накинули широкий конец клетчатого платка. Он ничего не видел, почти задыхался. Когда он без движения упал на циновки, Инга достала из груды тряпья в углу свою сумочку-косметичку. В ход пошел ярко-красный контурный карандаш для губ, темно-серые тени для век. Но Бренер почти не чувствовал легких быстрых прикосновений к своему лицу. Он только успел услышать, что вертолет все-таки сел.
Бедуины вежливо поздоровались с израильскими военными, пригласили в большую палатку выпить чаю. Бедуины славятся своим гостеприимством. От чая военный патруль отказался. Обыск не дал ничего. Обычное тряпье, убогая утварь, пара верблюдов, старенький расхлябанный джип.
Военные не стали спрашивать документы. Никаких документов, удостоверяющих личность, бедуины никогда не имели. Это особенный народ. Единственные сохранившиеся на нашей планете прямые потомки древних египтян, носители таинственного культа бога Ра, кочевники, погонщики верблюдов, мирные, тихие торговцы бусами и глиняной посудой, которым ничего не надо, кроме пустыни. Века текут сквозь них, как песок сквозь пальцы.
В одной из палаток лежал на циновке больной, оборванный старик. Он крепко спал, даже не шелохнулся, услышав голоса. Лицо женщины, сидевшей с ним, было почти полностью закрыто платком. Знаками она показала, что не стоит заходить в палатку. Один из солдат зажег фонарик, чтобы рассмотреть лицо старика. В палатке было темновато. Луч выхватил из полумрака бледное дряблое лицо с запавшими, обведенными болезненной чернотой глазами. На носу и на щеках была заметна воспаленная, красная сыпь.
Ни офицеру, ни одному из солдат даже не пришло в голову взглянуть на цветной снимок профессора Бренера, который у каждого имелся в нагрудном кармане. А если бы кто-то и взглянул, то не заметил бы ни малейшего сходства между умирающим бедуином и холеным гладким профессором.
Женщина бережно прикрыла лицо спящего краем платка, защищая от яркого света, и махнула рукой, мол, уходите скорее.
– Она глухонемая, – объяснил молодой бедуин, который свободно изъяснялся на иврите, – старик ее отец. Он тяжело болен. У него пустынная лихорадка. Мы стараемся не подходить близко. А Фатима сидит с ним неотлучно, совсем не боится заразиться. Она очень хорошая дочь.
Судя по яркой сыпи, старик действительно страдал пустынной лихорадкой, или, по-научному, кокцидио-домикозом, причем в самой тяжелой форме. Без специальной защитной маски в палатку нельзя заходить. Такова инструкция. А защитных масок и перчаток с собой не было. Лучше не рисковать.
– Может, вам нужна медицинская помощь? Мы пришлем врача.
– Нет, офицер, спасибо. Вы же знаете наши обычаи, – улыбнулся молодой вежливый бедуин.
Офицер не сомневался, что от медицинской помощи они откажутся. Много веков бедуины лечатся своими древними методами. У них никогда не было врачей, из рода в род передаются тайны Пустынного знахарства.
Если кто-то из бедуинов попадает в обычный цивилизованный госпиталь и его пытаются лечить обычными методами, он почти всегда погибает. Младенцы, рожденные бедуинками не в пустыне, а в стерильных больничных условиях, начинают болеть и редко выживают. Так что предложение прислать врача для больного старика было чистой формальностью.
Сквозь глубокий обморочный сон Натан Ефимович услышал слабое, далекое жужжание. Он судорожно, по-детски всхлипнул во сне. Военный вертолет улетел и не вернется.
* * *
– Поздравляю тебя, Деннис. Они действительно были соседями.
– Я не ожидал, что вы так быстро получите сведения из Москвы. Спасибо, шеф. Насколько это точно?
– На сто процентов. В архиве голландского посольства есть не только московский адрес Бренера. Фамилия соседей по квартире Воротынцевы. Медицинская семья. Юрий, нейрохирург. Ирина, офтальмолог. Дочь Алиса, 1963 года рождения. Информация о соседях по общим квартирам считалась обязательной. Так что нам с тобой повезло. Спасибо дотошности израильтян, аккуратности голландцев и расторопности нашего агента. Правда, он предупредил, что его интерес к Бренеру зафиксирован МОССАДом.
– Понятно. Они сейчас вздрагивают при любом упоминании имени Бренера. А профессор между тем еще на их территории. Если, конечно, это работа Майн-хоффа.
– Ну а чья же еще?
– И зачем ему профессор?
– Скорее всего нет уже никакого профессора. Они его просто убили.
– Тогда почему это было обставлено такими сложностями?
– Чтобы израильтяне понервничали. И потом, Майнхофф всегда любил яркие театральные эффекты, ему нравилось, чтобы над его очередным спектаклем ломали головы разведки сразу нескольких стран. Думаю, труп Бренера никогда не найдут. Более того, довольно скоро начнет курсировать слух, будто профессор жив-здоров, продолжает работать, но уже не на Израиль, а на Ирак. Конечно, никто не поверит, но все испугаются.
* * *
– Карл, что происходит? Где ты был?
– Прости, Инга, надо было уладить кое-какие проблемы.
– Черт тебя дери, какие проблемы? Пора сматываться отсюда. Этот старый еврей ведет себя безобразно. Сегодня утром…
– Зачем ты его уколола? Мы должны привезти в Москву профессора, а не мешок с дерьмом.
– Не было другого выхода. Он чуть не сорвал всю операцию. Здесь сел патрульный вертолет.
– А что у него с лицом? Почему он в пятнах?
– Это грим. Я нарисовала ему сыпь, какая бывает при смертельной форме пустынной лихорадки, чтобы эти свиньи не вздумали подходить близко.
– Ты умница, Инга.
– Еще немного, и я прикончу его. Мне надоело сторожить еврейскую свинью, Карл. Мне надоела эта грязь, эта пустыня. Я устала.
– Я знаю, Инга. Не волнуйся. Осталось потерпеть не больше суток.
– Какие сутки? О чем ты говоришь! Все ухе готово, нас ждут. Мустафа сказал, он не может столько времени держать дыру на границе, особенно сейчас.
– С Мустафой я договорюсь. Не сходи с ума, лучше дай мне умыться и поесть чего-нибудь.
– Хорошо, Карл. Раздевайся, эта рубашка уже грязная. Ты поешь, поспишь пару часов, а ночью мы уходим.
Карл скинул легкую куртку, стянул пропотевшую ковбойку через голову.
– Что это? – Инга взяла в руки куртку и вытащила из внутреннего кармана желтый конверт, на котором стоял фирменный знак «Кодак».
– Тебе это неинтересно, Инга. Но она уже смотрела фотографии.
– Кто тебя снимал? Что это за ребенок? Карл, что вообще происходит?
– Я сказал, тебе это неинтересно. – Он протянул руку, чтобы забрать снимки, но она отступила на шаг, повернулась к нему спиной.
– Кто эта женщина? Кто она? – В голосе Инги послышались истерические нотки. – Ты говоришь, я сошла с ума? Это ты свихнулся, Карл! Это из-за нее мы здесь торчим столько времени? Из-за нее? Я должна знать! А мальчишка? Карл, этот недоносок похож на тебя! Я все поняла… – Она кричала, лицо ее покраснело, на глазах выступили слезы, она ловко, быстро рвала снимки, один за другим, и клочья сыпались на песок.
Натан Ефимович давно проснулся и сквозь тяжелую дурноту прислушивался к разговору у палатки. Он с трудом понимал быструю немецкую речь, но старался не пропустить ни слова.
Когда истерический крик Инги затих и шаги зашуршали по песку, Натан Ефимович тихо выполз из палатки, огляделся. Инга и Карл отошли метров на десять и не могли его видеть. Инга поливала из большой пластиковой канистры спину и голову Карла. Он фыркал и весело брызгался.
Бренер стал с любопытством рассматривать разбросанные цветные клочья. Несколько снимков уцелело. Молодая женщина у бассейна под пальмой. Длинные прямые пепельно-русые волосы, тонкое бледное лицо, большие голубые глаза вскинуты навстречу объективу.
– Господи, откуда я ее знаю? – удивленно пробормотал Бренер и быстро спрятал снимки под свитер, за брючный ремень.
* * *
– Вам надо выпить теплого молока, – сказал Ден-нис, услышав, как сипит Алиса, – а можно сырые яйца. Оперные певцы так лечат голосовые связки.
– Ничего страшного, – прошептала она в ответ, – немножко помолчу, и пройдет.
– Она еще ногу подвернула, когда бежала к пирсу, – сообщил Максимка, – но я в этом совершенно не виноват. Честное слово, у нее что-то с нервами. Я ее раньше никогда такой не видел.
– Перестань, – сердито просипела Алиса, – ты заплываешь на глубину, ловишь ядовитых морских ежей, болтаешь с кем попало и еще хочешь, чтобы я не нервничала.
– Мама, тебе вредно говорить, – фыркнул Максим.
Они ужинали в гостиничном баре. Деннис появился только к вечеру, сказал, что начальство никак не может дать ему спокойно отдохнуть, пришлось встретиться с представителями какой-то фирмы игральных автоматов, с которой его корпорация собирается подписывать крупный контракт.
– В общем, вам это неинтересно, – он махнул рукой, – но я вижу, вас нельзя оставлять даже на несколько часов. Сразу столько неприятностей.
– Никаких неприятностей, – поморщился Максим, – просто мама из всего делает проблему. Совершенно не надо было так кричать и нестись по камням. Я разговаривал с немцем на пирсе. У мамы было такое лицо, словно она увидела рядом со мной чудовище Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» или какого-нибудь маньяка с фотографии из газеты. Вполне нормальный немец.
– Да при чем здесь немец? – пожала плечами Алиса. – Просто я не люблю, когда ты долго в воде.
Ночью, когда Максимка уснул, они опять сидели с Деннисом за пластиковым столом и опять пили коньяк.
– С голосовыми связками уже все нормально, – заметил Деннис. – Как ваша нога, Алиса?
– Тоже нормально. Спасибо.
– А почему вы все-таки так испугались? Что случилось?
– Я не увидела Максима в воде. И у меня началась паника. Знаете, это обычное дело – панический, совершенно животный страх за ребенка. В общем, ничего конкретного.
– Понимаю. У меня пока нет детей, но я могу представить, как бывает страшно за ребенка. А что за немец? – спросил он небрежно и отхлебнул коньяку.
– Понятия не имею. Просто мне не нравится, когда Максим разговаривает с незнакомыми людьми.
– Ну, здесь не может быть никаких оснований для страха. Столько полиции, служба безопасности, да и Максим вряд ли пойдет куда-либо с незнакомым человеком.
– Я же сказала, – поморщилась Алиса, – ничего конкретного. Приступ глупого животного страха за своего детеныша. Мы, пожалуй, съездим завтра на Мертвое море, – быстро произнесла она и закурила, – а если проснуться пораньше, можно в Иерусалим.
Эта мысль ей только что пришла в голову и показалась вполне разумной. Надо уехать куда-то, хотя бы на день. Но не в Москву же срываться в разгаре счастливого отдыха, в самом деле.
– Семь часов пути, – задумчиво произнес Деннис. – Как бы рано вы ни проснулись, все равно, чтобы посмотреть город, придется там переночевать.
– Да, я об этом не подумала. Значит, отправимся послезавтра, я попробую отсюда по телефону заказать номер в какой-нибудь гостинице на одну ночь.
– Алиса, если вы разрешите мне к вам присоединиться, то можно ехать прямо завтра, я возьму на себя все проблемы с гостиницей. Я все-таки представитель компании «Холидей-инн».
– Я не знаю…
Она действительно не знала, что ответить. Конечно, семь часов за рулем, незнакомая дорога, незнакомый город. Говорят, если попадешь в арабский квартал, можно нарваться на неприятности. А они с Максимкой обязательно попадут в арабский квартал, по закону подлости. С Деннисом все-таки спокойней.
– Так вы берете меня с собой, Алиса? Уверен, со стороны Максима возражений не будет. Я, конечно, не напрашиваюсь. Но, честно говоря, мне очень хочется поехать с вами. Я все равно ведь собирался побывать в Иерусалиме, но терпеть не могу путешествовать в одиночестве.
– Хорошо, Деннис, поехали вместе, – вздохнула
Алиса.
– Какой тяжелый вздох, – Деннис усмехнулся, – наверное, вы сейчас думаете: «Боже, как мне надоед этот американец».
– Нет, Деннис. Вы не успели мне надоесть, хотя бы потому, что и суток не прошло, как мы познакомились.
– Ну, можно и за десять минут надоесть… Моей бывшей жене хватало трех минут. Но до этого мы успели прожить вместе восемь лет. А сколько лет вы прожили с отцом Максима?
– Деннис, я смотрела по карте, в Иерусалим надо ехать через Беэр-Шеву, произнесла она нарочито бодрым голосом после долгой, томительной паузы, – там, наверное, дорога перекрыта после теракта.
– Вряд ли, просто стоят усиленные военные посты, нас будут часто останавливать, проверять документы…
– Тогда мы будем ехать сутки. Тем более надо проснуться пораньше. Спокойной ночи, Деннис, – она поднялась и шагнула к двери.
– Подождите, – он тоже встал и мягко притронулся к ее руке, – давайте еще немного посидим.
– Уже поздно.
– Алиса, я все-таки задам вам вопрос, который не дает мне покоя. Вы с отцом Максима поддерживаете какие-нибудь отношения?
– Нет.
– Понятно… То есть, конечно, совершенно непонятно. Если бы у меня был такой сын… Простите, я, наверное, лезу не в свое дело?
Они продолжали стоять. Тень уже не падала на его лицо, и было видно, как он нервничает. Прямо юноша пылкий на первом свидании…
– Ничего, – Алиса слабо улыбнулась, – я привыкла к таким вопросам. Главное, чтобы их не задавали Максиму.
– Могу представить, сколько находится добрых взрослых, которые спрашивают: «Детка, а где же твой папа?»
– Именно так и спрашивают. Не только взрослые, но и дети. Раньше он огрызался, иногда плакал. А теперь отвечает вполне спокойно: «У меня только мама».
– А почему у Максима только мама?
– Вот этого, второго, вопроса уже никто не задает.
– А Максим знает, кто его отец?
– Извините, Деннис, я не люблю говорить на эту тему. Спокойной ночи.
– Я понимаю… простите… давайте сядем и выпьем еще коньяку. Черт, никогда не думал, что это так трудно.
– Ну и не надо напрягаться, – улыбнулась Алиса, – не надо задавать трудных вопросов. Особенно на отдыхе.
– Вы ничего не рассказываете о себе, и приходится задавать вопросы, – он налил коньяк, протянул ей стакан, – мне надоело болтать на общие темы. Вы мне очень нравитесь, Алиса, – он залпом выпил свой коньяк, – пролетит неделя, мы так и будем болтать ни о чем, а потом вы уедете в Москву, я отправлюсь к себе в Детройт и больше никогда вас не увижу.
Алиса зажмурилась на секунду. Ей вдруг до ужаса захотелось рассказать этому случайному, совершенно постороннему человеку то, что никогда никому она еще не рассказывала. Они ведь и правда расстанутся через неделю. А ей так надо выговориться сейчас, именно сейчас, чтобы хоть немного разрядить постоянную панику, которая мелко дрожит где-то в солнечном сплетении…
– Алиса, почему вы молчите? Я не сомневаюсь, в Москве у вас есть друг и меня вы терпите только потому, что Максиму со мной веселей. Если бы у нас было больше времени, я вел бы себя иначе. Мне кажется, вы боитесь чего-то. Вы все время напряжены. Вас напугал немец, который разговаривал с Максимом? Вам кажется, кто-то не случайно взял ваши снимки? Кто-то преследует вас? Не повторяйте еще раз про животный страх за ребенка. Я не поверю.
– Деннис, немец здесь ни при чем. Просто я боюсь воды. Максим говорил вам, я не умею плавать. В десять лет, как раз в его возрасте, я чуть не утонула, быстро проговорила Алиса.
– Но ваш сын отлично плавает.
– У меня остался подсознательный страх.
– Вы боитесь не только воды, но и людей. Меня тоже? Что с вами происходит, Алиса?
Она заметила, что так и держит в руке стакан с коньяком, быстро глотнула, поставила на стол. Деннис шагнул к ней, внезапным хищным движением притянул к себе и, прижав губы к ее уху, выдохнул:
– Почему вы молчите?
Она отстранилась, отступила на несколько шагов.
– Не надо, Деннис. Ничего не будет…
* * *
Сам не зная зачем, Натан Ефимович подобрал несколько уцелевших фотографий, стряхнул песок и спрятал под свитер, за брючный ремень, не разглядывая. Он едва успел вернуться назад, в палатку, улечься на циновку и закрыть глаза. Немец вошел, пригнувшись. Он был один, без своей сумасшедшей подружки.
– Я вижу, вы уже проснулись, профессор? – спросил он по-русски и присел рядом. – Как вы себя чувствуете?
– Как может себя – чувствовать человек, которого похитили, держат не просто в дерьме, а в полной неизвестности, бьют, вкалывают лошадиные дозы снотворного? – медленно проговорил Бренер, не поднимаясь и не открывая глаз. – Ваша боевая подруга скоро меня прикончит. Вы обещали, что мы отправимся в Россию. Какого черта мы здесь торчим?
– Вам осталось потерпеть совсем немного, господин Бренер.
– Вы, я вижу, приехали сюда, чтобы утешить не только Ингу, но и меня? Простите, по-моему, вы не настоящий бандит. Как-то все у вас несерьезно.
– Теперь я спокоен за вас, профессор. Вы не потеряли чувства юмора, стало быть, с вами все в порядке.
– Вас, кажется, зовут Карл?
– Да, – немец кивнул, – простите, что не представился вам сразу.
– Карл, скажите мне по секрету, как мужчина мужчине, мы застряли здесь потому, что у вас какая-то любовная драма? Честное слово, я не проболтаюсь вашей психопатке.
– А вы, оказывается, значительно лучше знаете немецкий, чем мне казалось, – он покачал головой, – нехорошо подслушивать, профессор, в вашем-то возрасте.
– Немецкий я знаю плохо, – Бренер сел на циновке, зевнул и потянулся с хрустом, – и ничего я не подслушивал. Просто ваша Инга так орала, что даже верблюды все поняли.
– Да, Инга несдержанный человек, – он кашлянул, – я хочу извиниться за нее, профессор. Она обошлась с вами довольно грубо. Но у нее не было выхода. Вы тоже вели себя не лучшим образом. Она отвечает за вас.
– Какие нежности при нашей бедности! – проворчал профессор. – Вы извиняетесь за Ингу. А за себя не хотите? Она отвечает за меня, вы отвечаете за эту вашу идиотскую операцию и желаете при этом остаться джентльменом?
– А вы бы предпочли, чтобы я вел себя иначе?
– Я бы предпочел оказаться дома или в своей лаборатории. Мне, знаете, не терпится поглядеть, как поживает мой подопытный кролик. Ваш тезка, между прочим. Тоже Карл. Белая шерстка, красные умные глазки. Милейшее создание. Я привил ему такую гадость, что бедняга должен был непременно издохнуть. Однако выжил. Знаете ли, я не ожидал такого счастливого исхода.
– Ваш подопытный кролик – мой тезка? – немец чуть нахмурился, потом улыбнулся. – И вам не жалко мучить животных?
– А вам не жалко убивать людей? – быстро спросил Бренер.
– Люди хуже животных. Собственно, людьми можно назвать процентов десять из тех, кто имеет человеческий облик. Остальные девяносто – двуногие существа, бессмысленные, безобразные. Вы тоже так думаете, профессор. То, чем вы занимаетесь в своей лаборатории, говорит само за себя. Пули и бомбы куда гуманней ваших вирусов. – Он произнес это очень быстро, на одном дыхании, и поднялся. – К сожалению, мне пора.
Оставшись один, Натан Ефимович вытащил фотографии. Господи, Москва… Настоящий, заснеженный московский двор. Разве можно не узнать? Вдали виден шпиль московской «высотки». Что это? Пресня? Университет?
На переднем плане мальчик лет десяти, румяный, в яркой курточке. Он целится снежком в объектив, смеется… А вот – тот же двор. Молодая женщина в дорогой дубленке. Раньше так одевалась только партийная и торговая элита да народные артисты. Теперь, говорят, многие в Москве одеты дорого и красиво. В метро ездят дамы в соболях и норках…
А вот та же русоволосая красавица под пальмой у бассейна. Наверное, этот снимок сделан здесь, в Эй-лате. Ну разве можно было такое себе представить в семьдесят восьмом?
Зашуршали шаги по песку. Натан Ефимович быстро спрятал фотографии. В палатку вошла Инга, держа в руках стандартную коробку с едой из придорожного кафе.
Бренер откусил холодную пиццу и чуть не подавился. Он вспомнил, откуда знает русоволосую женщину с фотографий. Еще бы не вспомнить. Алиса Воротынцева, дочка соседей по Трифоновке. Лисенок…
Глава 15
Авангард Цитрус с трудом продрал глаза, сел на кровати и долго, тупо глядел перед собой. Голова гудит, во рту помойка. Нельзя так напиваться в его возрасте. Нельзя. Однако пережить ту мерзость, которая" обрушилась на него вчера вечером, без пол-литра водки просто невозможно было. И он выглушил эти пол-литра в полном одиночестве в своей малогабаритной двухкомнатной квартире в Сокольниках. Он пил и матерился, про себя и вслух. Как мог он, прожженный, знающий цену всему в этой дерьмовой жизни, прошедший огонь, воду и медные трубы, Чечню и Сараево, трущобы Нью-Йорка и бардаки Амстердама, проколоться на пятнадцатилетней смазливой соплячке? Он-то, идиот, думал, девочка от него в восторге, девочка искренне, бескорыстно любит его.
Маруськино подлое предательство жгло душу. К часу ночи, когда в бутылке осталась только треть, а в глазах стояли слезы, он дошел до того, что трагически засомневался в своих мужских достоинствах.
Однако теперь, утром, даже на тяжелую похмельную голову, он вдруг подумал, что, в общем, не так все страшно, ибо в итоге ни копейки он не выложил. Была бы пятнадцатилетняя Мария Петровна Устинова чуть терпеливей и хитрей, могла бы запросто вытянуть из него и две тысячи, и десять тысяч. Вот тогда он был бы полнейшим кретином.
Цитрус потянулся, крякнул, слез с кровати и обнаружил, что спал одетый, прямо в партийной униформе. Хорошо хоть ботинки догадался снять.
Прямо под ухом что-то настойчиво тренькало. Он не сразу сообразил, что это сотовый телефон, и минут пять искал его под кроватью, на тумбочке, на журнальном столе, наконец обнаружил в кармане куртки, которая валялась на полу у кровати.
Телефон замолчал, но тут же опять затренькал.
– Авангард Иванович, – произнес в трубке приятный женский голос, – доброе утро. Вас беспокоит корреспондент журнала «Плейбой» Вероника Суркова. Я бы хотела взять у вас интервью. Когда вам удобно со мной встретиться?
Цитрус никогда, ни при каких обстоятельствах, даже в состоянии тяжкого похмелья, не отказывал журналистам. Главное – постоянно везде мелькать: на телеэкране, на страницах газет и журналов. Не важно, что пишут, пусть даже помоями обливают. Лишь бы писали. Стоит исчезнуть из поля зрения драгоценной публики хотя бы на пару месяцев – и сразу забывают, кто такой, как зовут. Знаменитостей много, а публика капризна и забывчива.
Цитрус мысленным взором увидел свою цветную фотографию на добротном журнальном глянце, и похмелье немного отпустило.
– Я свободен сегодня, в первой половине дня. Вы можете подъехать ко мне часа через полтора?
– Замечательно, – ответила корреспондентка, – продиктуйте, пожалуйста, адрес.
Он успел привести себя в человеческий вид, принял душ, побрился, растворил в стакане шипучую антипохмельную таблетку, потом сварил себе крепчайший кофе. Ровно через полтора часа раздался звонок в дверь.
На пороге стояла девушка не старше двадцати трех лет, очень высокая, худенькая, белокурая, с большим чувственным ртом и тонким, чуть вздернутым носиком. В первый момент он даже не понял, почему так тревожно вздрогнуло сердце. Остатки похмельной головной боли как ветром сдуло.
Перед ним стояла его Ирина. Разумеется, не настоящая, не теперешняя сорокапятилетняя графиня де Рожен, не чужая, надменная Ирка, вероломно бросившая его в Нью-Йорке и разбившая всю его жизнь. Нет, это была девочка Ирина из того счастливого и страшно далекого семьдесят первого года, в котором остался огромный, кровоточащий кусок его души.
Гарик Руденко уткнулся носом в светлые теплые волосы и завыл, как пес.
Авангард Цитрус улыбнулся, как неотразимый герой рекламы «Мальборо», пожал руку корреспондентке Веронике Сурковой, помог ей снять шубку, проводил в комнату, усадил в кресло.
– Я забыла вас предупредить, через полчаса подъедет наш фотограф, сказала она.
– Да, конечно, очень хорошо. Хотите кофе, Вероника?
– Спасибо. Чуть позже.
Даже улыбка у нее была Иринина. И в одежде что-то из далекого семьдесят первого. Узкие черные джинсы, расклешенные от колена, черный свитер «лапша» с высоким воротом.
Она вытащила из сумки маленькую коробку очень дорогих швейцарских шоколадных конфет с коньячной начинкой. Его любимых.
– Авангард Иванович, я как раз недавно перечитывала ваше «Альтер эго». Там вы так красочно описали, как голодали в Нью-Йорке и как вам хотелось шоколаду, что я не удержалась. Не смогла прийти к вам с пустыми руками.
– Спасибо. Это мои самые любимые конфеты. Вы мой роман перечитывали? То есть читали уже не в первый раз?
– В третий, – она взмахнула ресницами. Он закурил.
– А другие мои книги вы читали?
Он писал мало. За десять лет вышли в свет всего три романа. Был еще небольшой сборничек статей. Про последний роман «Ангелы из преисподней» говорили, что продается он плохо. Тридцатитысячный тираж пылится на складе.
– Ваш последний роман произвел на меня огромное впечатление. Вы затрагиваете такие глубины человеческой психологии, ставите такие сложные философские и общечеловеческие вопросы… – она красиво закатила глаза. Честно говоря, я проглотила ваших «Ангелов из преисподней» за одну ночь. Обидно, что вы сейчас так редко балуете нас своим потрясающим творчеством.
– Стало быть, я могу вас считать поклонницей своего творчества?
– Не только творчества, – она широко улыбнулась, достала из сумки диктофон, – вы, Авангард Иванович, весьма привлекательная личность. Ваше имя овеяно легендами. Вы бываете в самых горячих точках планеты, вы видели много страшного, тяжелого и при этом не ожесточились, остались романтиком в душе. Что помогает вам после стольких испытаний сохранить любовь и веру в человека?
– Без любви и веры просто нельзя жить, – он раздул щеки и выпустил струйку дыма в потолок, – если хотите, это инстинкт самосохранения. Я вообще очень верю в инстинкты. Душа вторична. В человеке главное – здоровый, крепкий, породистый зверь. Зверь с полномочиями Бога на земле.
– В последнее время о вас все больше говорят как о политике, о лидере партии «Русская победа». Кем вы сами себя ощущаете – политиком или все-таки писателем?
– Конечно, писателем. Просто, как всякий русский, я не могу спокойно наблюдать тот политический и социальный беспредел, который раздирает нашу страну. Поэтому приходится заниматься политикой, и слишком мало времени остается на творчество. Хотя, по большому счету, политика – это тоже творчество.
– И все-таки давайте поговорим о литературе. Насколько автобиографичны ваши романы? Я не спрашиваю о первом, об «Альтер эго». Но другие два – в них повествование тоже идет от первого лица. Насколько глубоко вы ассоциируете себя с героями?
– Почти полностью. Иначе я не могу писать. Все мои романы автобиографичны. Честный писатель обязан изображать самого себя, и только себя. Без исповедальности нет литературы. Но интересна исповедь только сильной личности. Хлюпики, нытики никому не нужны. Так и в политике. Лидер должен быть обаятельной, яркой, цельной личностью. Он должен нравиться толпе, женщинам, подросткам, старикам и старушкам. Он должен иметь фанатов, оголтелых поклонников и поклонниц.
– Ну, я не спрашиваю, имеете ли вы их. Это факт известный. Как вы относитесь к славе?
– Мне нравится быть знаменитым. Без этого для меня нет жизни. Слава сродни наркотику, только здоровью не вредит.
Авангард Цитрус глубокомысленно, основательно, с удовольствием отвечал на вопросы корреспондентки. Гарик Руденко барахтался в ярко-розовых воспоминаниях, как муха в клюквенном киселе.
– Что вы считаете главным достоинством женщины? – спросила корреспондентка.
– Красоту, нежность, покорность.
– На что вы прежде всего обращаете внимание?
– Как любой нормальный мужчина – на внешность. Мне нравятся высокие, худые, белокурые.
– А конкретней? Вы видите женщину целиком? Вас впечатляет общий облик или вы выделяете сразу что-то наиболее важное для себя? Например, глаза, грудь, ноги, руки…
– Руки, – Гарик Руденко схватил Ирину за руку, – пальцы, ладонь…
Авангард Цитрус оскалился, как мистер Мальборо с рекламного щита, ловко чмокнул пальчики корреспондентки Вероники и выпустил ее прохладную руку из своей раскаленной потной лапы.
Корреспондентка нисколько не смутилась. Она была вполне современной девушкой с прогрессивны ми, свободными от ханжества взглядами. В зеленых глазах влажно поблескивало понимание, спокойное и мудрое сострадание. Она улыбнулась, помахала длиннющими ресницами, быстрым легким движением поправила волосы, чуть вздернула подбородок.
– Давайте выпьем кофе, Вероника, – он судорожно сглотнул, – я, честно говоря, не успел позавтракать, мне срочно нужен крепкий кофе, а то голова плохо работает.
– Да, конечно.
Цитрус отправился на кухню. Ему надо было хотя бы на две минуты остаться в одиночестве, отдышаться, прийти в себя под лавиной нахлынувших чувств.
«А может, это поздний подарок судьбы? Может, это и есть настоящая моя любовь, а та, первая, была только призраком, грубым предисловием к волшебному роману?»
Он вернулся с двумя чашками в руках. Корреспондентка убрала в сумочку пудреницу, тряхнула волосами, улыбнулась.
– Скажите, Авангард Иванович, неужели в вашем первом романе все правда? спросила она, отхлебнув кофе.
Коробка с конфетами была открыта. Цитрус стал, не глядя, разворачивать тонкую серебряную фольгу и отправлять в рот одну конфетку за другой.
– Вы же сами определили жанр. Это дневниковое повествование. Исповедь. Все правда, Вероника, до последнего слова. Потрясающе вкусные конфеты. Почему вы не едите?
– Запрещаю себе есть сладкое. Берегу фигуру.
– Да, такую фигуру надо беречь. Мне, честно говоря, бывает жалко женщин. Столько запретов ради красоты, столько испытаний.
– Ну что вы. Смешно говорить об испытаниях. Это такая ерунда. Вот вам. Авангард Иванович, столько пришлось пережить. Я когда читала, у меня прямо мурашки по коже бегали. Вы так ярко все описываете, так подробно, – она вдруг поперхнулась и закашлялась.
Цитрус перегнулся через стол, осторожно похлопал ее по спине.
– Ой, простите, можно водички? – жалобно попросила она сквозь кашель. Можно сырую, из-под крана?
– Зачем сырую? У меня есть минеральная. В воде оказалось слишком много газа. Его окатило с ног до головы, когда он свинчивал пластмассовую крышку. Он выругался, стал вытираться бумажным полотенцем, почему-то ужасно разнервничался, подумал, что возвращаться в мокрых штанах неприлично, но не переодеваться же, пока она там, бедненькая, кашляет.
Она уже не кашляла, благодарно улыбнулась, отхлебнула воды, поставила стакан на стол. Он совершенно машинально допил залпом воду из ее стакана.
– У вас кофе остыл, Авангард Иванович.
– Вероника, давайте без отчества. Просто Гарик. – Он также залпом выпил свой остывший кофе и закурил.
– Хорошо, Гарик, – она кивнула, – ну что, продолжим? Я включаю диктофон.
– Да, конечно.
– Скажите, а стихи вы продолжаете писать?
– Нет. Это пройденный этап.
– Даже когда влюблены? Неужели ваш поэтический дар не рвется наружу под напором нежных чувств? – даже жалкая пошлятинка звучала из ее уст как музыка.
– Глядя на вас, Вероника, мне хочется писать стихи, – он вдруг почувствовал легкое, приятное головокружение, – знаете, со мной такого не было очень давно. Вы спросили про влюбленность… Я много лет ни в кого влюблен не был.
– Неужели? – Она рассмеялась. – Про вас столько ходит слухов на этот счет. Говорят, в последнее время вы увлекаетесь совсем молоденькими девушками, чуть ли не школьницами.
– Врут, – он тоже рассмеялся, хотя ничего смешного она не сказала, Вероника, милая, если бы вы знали, сколько про меня распускают грязных сплетен.
– Но это, должно быть, приятно. Это льстит мужскому самолюбию. Репутация плейбоя еще никому не вредила – ни писателям, ни политикам. Кстати, вы считаете себя плейбоем?
– Смотря какой смысл вы вкладываете в это слово. А вообще, я не люблю всяких американизмов, заимствований. Наш язык достаточно богат, чтобы найти в нем определение любому явлению…
Слова сыпались, как песок сквозь пальцы. В коробке одиноко поблескивала последняя конфетка. Он теребил мягкую цветную фольгу, скатывал в комочки. От сладкого во рту пересохло. Он допил остатки кофейной гущи из своей чашки. В ушах зазвенело. Вероника почему-то поплыла, понеслась перед глазами, как ведьма на помеле, хотя продолжала сидеть в кресле, закинув ногу на ногу. Он тряхнул головой, но дурнота не прошла. Впрочем, это была приятная дурнота. Он словно парил над комнатой, над белокурой красавицей.
– Гарик, вам нехорошо? – спросила корреспондентка, внимательно и сочувственно вглядываясь в его побледневшее лицо.
– Нет. Мне замечательно. Немного кружится голова, но это из-за вас, Вероника… Вы такая красивая… Как тебя называют близкие? Верочка?
– Ирочка.
– Ирочка? Господи…
– Почему вы так вздрогнули?
– Нет, все нормально. Разве я вздрогнул? Просто вы такая красивая, я боюсь, сейчас глупости начну говорить.
– А вы не бойтесь. Я выключу диктофон.
– Не стоит. Давайте закончим интервью.
– Хорошо. У вас двойное гражданство, американское и российское. Вы любите Америку?
– Терпеть не могу.
– А Европу?
– Ненавижу. Я люблю Россию.
– Но часто бываете за границей. Куда вы ездили в последний раз?
– В Швейцарию, – он засмеялся, – я был в Берне. Славный городишко. Но женщины там ужасны. Сплошные феминистки, синие чулки, амазонки, рыхлые, жирные, под мышками волосы не сбривают, фу-у, пакость, – он буквально захлебывался смехом, – от их волосатых подмышек и от их самостоятельности тошнит, я так истосковался по нашим русским красавицам. Представляете, всего за три дня успел соскучиться. – От смеха он стал икать. Из глаз брызнули слезы.
И вдруг он полетел куда-то, оторвавшись от дивана. Такая появилась легкость во всем теле, словно его накачали пузырьками, как газировку.
Между тем Вероника-Ирочка уже была не одна. То есть она продолжала сидеть в кресле напротив него, но почему-то вниз головой, и одновременно стояла рядом, держала его за руку, щупала пульс, закатывала рукав свитера и чем-то холодным прикасалась к коже.
– Вы летали в Берн. Это была личная или деловая поездка?
– Деловая… щекотно… Что ты делаешь, детка? Теперь у корреспондентки было четыре руки и две головы, причем одна мужская. А может, рук было вообще десять пар? Его трогали, вертели, ощупывали. Было щекотно и ужасно смешно.
– Кто тебя просил слетать в Берн? – Иринины теплые золотистые волосы касались его щеки, но она почему-то заговорила мужским голосом.
– Ирка, ты почему говоришь басом? Ужасно смешно…
– Азамат Мирзоев?
– Ну вот, сама все знаешь, а спрашиваешь.
– С кем ты встретился в Берне?
– С Карлом Майнхоффом, – приступ неудержимого хохота не давал говорить.
Теперь в комнате был Карл. Усатый белобрысый Карл. И сам про себя спрашивал. Это выглядело ужасно смешно. И еще была Ирина, такая нежная и прекрасная, что хотелось сразу, сию минуту, содрать с нее одежду.
– Привет, Карлуша. Слушай, выйди на кухню, покури. Я тут должен поговорить с любимой женщиной.
– Кто главный заказчик?
– У-у, сам Подосинский! Ха-ха, Карлуша, ты представляешь, По-до-синс-кий! – Цитрус выразительно указал пальцем в потолок, который плыл почему-то внизу, под ногами, и люстра росла из него, покачиваясь, как деревце на ветру. Слушай, Карл, выйди, а? Ты должен меня понять, как мужик мужика. У тебя ведь тоже такое было. Помнишь? Ты сам говорил, что дико влюбился в одну русскую.
– Как ее звали?
– Совсем свихнулся? Это ты должен знать, как ее звали.
– Я забыл.
– Ну вот. А я запомнил. Алиса ее звали. А мою любовь зовут Ирина. Вот я на твоем месте оставил бы тебя с любимой женщиной наедине. А ты, скотина, все никак не уходишь.
– Сейчас уйду. Где живет Алиса?
– Алиса живет в Стране Чудес, – Цитрус опять захохотал взахлеб.
– Где живет Алиса?
– В России. В Москве.
– Как ее фамилия?
– Вот чего не знаю, того не знаю, – Цитрус загрустил, беспомощно уронил голову на грудь и вздохнул с горестным всхлипом, – фамилию я не спрашивал, а ты мне не сказал.
– Хорошо. Что я должен сделать для Подосинского?
– А, фигня. Жида какого-то вывезти из Израиля.
– Имя?
– Натан Бренер.
– Адрес?
– Город Беэр-Шева. Санитарная станция.
– Чем занимается?
– Запрещенным оружием. Микробов разводит. Бактерии всякие, бациллы, в общем, гадость. Ирочка, зачем нам эта гадость? Слушай, Карл, ну ты мужик или нет? Выйди на минутку, а?
– Сейчас выйду. Как ты меня нашел?
– Ты же сам дал мне связной номер в Берне. Ну, помнишь, еще тогда, в Дублине, когда я брал у тебя интервью для французской газеты… Я позвонил, назвался, а потом ты ждал меня в кабаке у ратуши.
– Номер?
Цитрус без запинки отчеканил семь цифр телефонного номера в Берне.
– Пароль?
– Карл, ну ты что?! – он скорчился от хохота. – Какой пароль? Я сказал: «Привет, это Гарик Цитрус. Приехал на пару дней, хочу повидаться с Карлушей». Оставил свой гостиничный телефон. А потом ты сам позвонил и назначил встречу.
– Сколько мне заплатят за операцию?
– Много, Карл. А сколько ты хочешь? Яхта будет ждать в Порт-Саиде. Слушай, так ты чего, приехал уже?
– Как называется яхта?
– «Виктория». На мачте швейцарский флаг.
– Номер?
Цитрус медленно, без запинки, произнес регистрационный номер яхты. Все-таки поразительная была v него память на цифры.
– Цель операции?
– Я же сказал – вывезти профессора.
– Куда?
– Ну, ты бестолковый, Карл. В Москву, конечно А может, и не в Москву. Хрен их знает…
– Зачем?
– Э-э, Карлушка, много будешь знать, скоро состаришься, – Цитрус затряс пальцем перед усатой физиономией, – а то и вообще сдохнешь.
Опять металлический холодок на локтевом сгибе Сладкая газировка побежала по венам. Пузырики смеха забулькали в крови.
– Цель операции?
– Так на яхте все скажут… цель и точный маршрут… Ирина… где моя Ирочка? Не бросай меня, мы начнем сначала, я тебя очень люблю, ну иди сюда…
Цитрус вяло помахал рукой, отгоняя усатую галлюцинацию, призрак Карла Майнхоффа. Глаза его закатились. Голова упала на грудь.
Глава 16
Восточный Берлин, октябрь 1981 года
За полукруглым окном чердачной комнаты было холодно и темно. Шел дождь, вялый, унылый берлинский дождь. В такую погоду уроженец жаркой Палестины Махмуд Хамшари чувствовал себя скверно. Он чихал, кашлял, зябко поеживался, не снимал теплой кожаной куртки, хотя в комнате пылал камин.
– Выпей шнапсу, Махмуд. Согреешься, – сказала Инга Циммер и поставила перед гостем маленький граненый стаканчик.
– Да, Махмуд, давай выпьем с тобой за встречу, – улыбнулся Карл, – пройзт, дорогой, твое здоровье.
– Нет, – палестинец покачал головой, – нельзя мне. Ты забыл, Коран нам совсем не позволяет пить.
– Жаль. Мне так хотелось выпить с тобой. Сколько мы не виделись? Год или больше? – Карл отхлебнул шнапс и поставил рюмку. – Ты похудел, Махмуд. Но тебе идет. Хотя у вас считается, что мужчина должен быть толстым.
– И женщина тоже, – Махмуд усмехнулся, покосился на Ингу, – но ты, Инга, красивая, очень красивая. Хотя и худая.
– Я знаю, – улыбнулась в ответ Инга. – Кофе сварить тебе, Махмуд?
– Да, только покрепче.
– Она теперь умеет варить настоящий турецкий кофе. Между прочим, это ты, Махмуд, приучил меня к настоящему кофе. Помнишь, как в лагере, после тренировок, ты упрямо крутил ручную кофейную мельницу? Электрическая тебя не устраивала.
– Да, в электрической зерна дробятся, а в ручной перетираются. Вкус совсем другой.
– Вот этих тонкостей я до сих пор не понимаю, – Карл пожал плечами, какая разница, как смолоты зерна?
– Конечно, вы, немцы, пьете жидкую бурду. Знаешь, когда пахнет хорошим кофе, я сразу вспоминаю Мустафу-Левшу. Он любил есть кофейную гущу. Многие у нас на Востоке любят гущу.
– Меня, между прочим, тошнило слегка, когда он выедал эту черную кашицу со дна чашки, – заметил Карл.
– А ты знаешь, ведь мои люди выяснили, кто убил Левшу в Гамбурге в июле семьдесят девятого, – произнес Махмуд, задумчиво глядя мимо Карла, за окно, в мокрую черноту берлинской ночи, – мы ни одной минуты не верили, что наш Левша мог покончить с собой. Мы больше двух лет вели свое расследование. Левша был нашим лучшим боевиком. Он поражал цель с любого положения, мог стрелять, повиснув головой вниз. Он с трехсот метров попадал в подброшенную монету и с тридцати поражал ножом сердце либо другой орган человека – на выбор. Он бросал ножи с обеих рук. Его ведь называли Левшой не потому, что правая работала хуже. Просто для него не было разницы. Обe руки одинаково сильные и ловкие.
Высокий голос Махмуда звучал монотонно, тихо, и хотя Борил он на хорошем немецком языке, это напоминало печальную песню муллы с минарета. Он продолжал глядеть в окно, следил глазами, как ползут по стеклу длинные дождевые капли, и внезапно вспыхнувший ало-голубой огонь неоновой рекламы на противоположной крыше залил его бледное, обросшее бородой лицо совершенно покойницким цветом, мертвенно-сизым, с кровавым отливом.
За последний год Махмуд потерял почти всех своих товарищей. После двух неудачных покушений на премьер-министра Израиля вездесущий МОССАД устроил настоящую охоту за членами террористической организации «Эль-ислами».
В рамках МОССАДа была создана специальная группа, которая действовала вне всяких международных правил, нелегально отлавливая и убивая палестинских боевиков.
Спецслужбы и полиция разных стран смотрели на эту противозаконную акцию сквозь пальцы. На счету «Эль-ислами» было слишком много трупов, чтобы у кого-то поднялась рука остановить моссадовцев. К тому же мстители действовали профессионально, крайне осторожно и не оставляли никаких следов.
Рассыпавшихся по всему свету, меняющих мена и внешность палестинцев находили в Париже и Каракасе, в Вене и Асунсьоне.
Первым был убит представитель Организации освобождения Палестины в Риме сорокалетний Абдул Вади Каллари. Это произошло просто и буднично. Поздно вечером Абдул возвращался из гостей, был один и слегка навеселе. Он, в отличие от своих ортодоксальных единоверцев, любил выпить и не боялся разгневать Аллаха. Он говорил, что ему простятся мелкие слабости за то, что он убивал неверных.
Пока Каллари ждал лифта в подъезде своего дома, к нему подошел агент МОССАДа, выпустил в голову Двенадцать пуль из бесшумного пистолета и скрылся.
Римские власти официально объявили, что в ходе расследования открылись факты, указывающие на тесную связь Каллари с сицилийской наркомафией.
Через полтора месяца в Париже в доме представителя ООП Хусейна Аль Парси зазвонил телефон. Пар-си поднял трубку, представился и тут же был разорван на куски мощным взрывом. Для убийства выбрали момент, когда Парси находился один в доме. Ни семьи, ни прислуги рядом не было.
В многочисленных интервью высокие чины ООН, Интерпола, ЦРУ и другие компетентные чиновники, военные и штатские, заявляли, что слухи о некоей группе возмездия при МОССАДе явно преувеличены. Все спецслужбы имеют отделы по борьбе с терроризмом, и деятельность этих отделов нельзя считать незаконной. Когда речь идет о борьбе с терроризмом, правомерны любые средства.
Махмуд Хамшари, глава банды по прозвищу Черный Шейх, был главной целью моссадовцев. Чтобы отвлечь внимание от лидера, палестинцы решили на некоторое время заменить его подставным лицом.
Алжирец Сайд Алми-Хан возглавил «Эль-ислами» и тут же развернул активную деятельность по объединению всех палестинских группировок. Израильтяне забыли о Черном Шейхе и открыли охоту на Алми-Хана. Уже через месяц его автомобиль взлетел на воздух на тихой парижской улице. Черный Шейх был в ярости, организовал акцию возмездия. В Париже был убит атташе израильского посольства.
Но ярость и возмездие – это не те средства, которыми можно спасти свою жизнь. Махмуду приходилось скрываться, носиться по миру, менять внешность. Он уже никому не верил, даже своим. Именно свой продал израильтянам Алми-Хана, за большие деньги назвал адреса трех парижских любовниц алжирца.
За год было уничтожено двадцать лучших членов организации «Эль-ислами». Палестинцы не оставались в долгу. За каждый новый труп израильтяне получали не меньше трех трупов, а иногда сразу по несколько десятков покойников. Но сил у «Эль-ислами» становилось все меньше. Моссадовцы действовали не только пулями и бомбами. Они пускали в ход шантаж, подкуп, обещали жизнь, свободу и огромные деньги за информацию о Черном Шейхе. И это оружие оказалось страшнее огнестрельного. Жить хотели все. От свободы и денег было сложно отказываться. «Эль-ислами» разваливалась на глазах. Махмуд никому не верил. – Мы нашли убийцу Левши, – повторил он, продолжая глядеть мимо Карла, – это было трудно, но мы все-таки нашли.
Карл сочувственно кивнул, не спеша поднялся со стула, прошел по комнате к маленькому секретеру. В жестянке из-под печенья лежал заряженный пистолет «ТТ». Карл сел на столешницу секретера и небрежно положил руку на крышку жестянки.
– Конечно, прошло больше двух лет, – монотонно продолжал Махмуд, – и многое изменилось. Столько погибло людей после Левши, что можно и забыть. Но ты знаешь меня, Карл, я ничего не забываю и тем более не прощаю.
Махмуд сидел сгорбившись, вжав голову в плечи. Руки его были спрятаны в глубокие карманы просторной кожанки. Карл знал, Махмуд стреляет и метает нож не хуже покойного Левши.
Вошла Инга с кофейником и тремя чашками на подносе. На лице ее блуждала бессмысленная улыбка, зрачки стали огромными. Она шла по комнате на заплетающихся ногах, тихонько напевая себе под нос старинную песенку «Ах, мой милый Августин». Чашки и дымящийся кофейник угрожающе скользили по подносу.
«Морфий, – машинально отметил про себя Карл. – Укололась только что, уже второй раз сегодня. Пора класть ее в клинику».
Он как бы случайно сдвинул крышку жестянки, но не рассчитал, она упала с громким звоном и покатилась по полу.
Инга качнулась, поднос накренился, но Макмуд вскочил и подхватил его. Кофе не пролился, чашки не разбились. Инга продолжала бессмысленно улыбаться и напевать. Карлу хватило одной секунды, чтобы незаметно вытащить пистолет из жестянки и сунуть его за пояс джинсов, под свитер.
Махмуд поставил поднос на стол, опять сел и сунул руки в карманы.
– Все дерьмо, – громко сказала Инга и засмеялась, – вся эта жизнь дерьмо. Ты знаешь, Махмуд, он уже месяц не спит со мной, – она уселась на пол по-турецки рядом со стулом Махмуда, – вот ты говоришь, я красивая. Скажи, почему он со мной не спит? Наверное, он разлюбил меня. Как ты думаешь? Не знаешь? Я тоже не знаю. Если он меня бросит, я его убью, – она засмеялась еще громче, взахлеб, – сначала я убью ту проститутку, к которой он захочет уйти, а потом его.
Карл спрыгнул с секретера, подошел к Инге, поднял ее и, обняв за плечи, ласково произнес:
– Ты устала сегодня, майне кляйне, тебе надо поспать. Пойдем, я тебя уложу. Прости, Махмуд, я сейчас вернусь.
Он отвел ее на кухню. Там стояла узкая тахта, на которой иногда ночевали гости. Инга послушно улеглась, он накрыл ее пледом. Она обхватила его руками за шею, притянула к себе и горячо забормотала:
– Прости, Карл, я завяжу, обещаю тебе. Я лягу в клинику и завяжу. Только не бросай меня, ладно? Ведь я правда убью тебя, если бросишь.
– Хорошо, детка. Не волнуйся. Тебе надо поспать, – он поцеловал ее в висок и вернулся в комнату к Махмуду.
Кофе был уже разлит по чашкам. Махмуд вскинул на него черные воспаленные глаза.
– Колется она? – спросил он с сочувствием.
– Как видишь, – кивнул Карл, усаживаясь за стол.
– Вот и Стефани тоже кололась, – Махмуд отхлебнул кофе, – смотри. Карл, такие вещи плохо кончаются. Опасно иметь любовницу-наркоманку. Опасно и противно.
– Какая Стефани? – спросил Карл, не притрагиваясь к своей чашке.
– Девочка из Гамбурга, последняя любовница Левши. Стефани Хорст. Совсем юная, такая пухленькая, беленькая. Левше нравились женщины, похожие на сладкие булочки. Он вообще был сластена. Пей, Карл, твой кофе остынет.
Карл отставил чашку, вытянул сигарету из пачки, закурил.
– Ничего, я люблю холодный.
– Стефани стала колоться через год после того, как познакомилась с Левшой. С каждым днем ей надо было все больше денег. А Левша не любил бросать деньги на ветер. В это трудно поверить, Карл. Девчонка-наркоманка застрелила лучшего боевика «Эль-ислами». Потом она вложила пистолет в его левую руку и убежала. Три месяца назад мы нашли ее в грязном дешевом притоне в порту. Она нагло врала, все отрицала, а главное – проклинала Левшу. Глумилась над его памятью.
– Как же вы узнали, что именно она убила? – тихо спросил Карл.
– Ей было известно, когда и откуда Левша выстрелит в итальянца.
– То есть?
– Мы знали, что Селдоротти всегда останавливается в Гамбурге в «Принц-отеле». Горничная отеля была подружкой Стефани. Она сообщила ей, когда его ждут в очередной раз, и даже сказала, в котором часу. Стефани потребовала очень много денег за свою информацию. Левша пообещал, но не дал. Она убила его за это и еще потому, что знала, он собирался бросить ее. Потом она стала портовой проституткой, сначала дорогой, но с каждым месяцем все дешевле. Однажды проболталась клиенту, что если она кого-то ненавидит и желает смерти, то этот человек обязательно умрет. И привела пример с Левшой. А клиент оказался… В общем, долго рассказывать. Стефани уже нет. Она получила по заслугам. Знаешь, перед смертью она все-таки почти призналась. Она сказала, что еще десять раз могла бы убить Левшу и жаль, что хватило одного раза.
– Почему же полиция не вышла на ее след? – спросил Карл.
– Они с самого начала поверили в самоубийство. А мы нет. Если бы шакалы из МОССАДа не охотились на нас весь последний год, мы бы убили Стефани значительно раньше.
– И все-таки я не понимаю, – покачал головой Карл, – у Левши была отличная реакция. Как она умудрилась незаметно подойти и выстрелить первой?
– Незаметно подойти и выстрелить первым не сумел бы никто. Левшу мог убить только человек, которому он верил.
Карл загасил сигарету и спокойно выпил свой кофе. Теперь он знал: Махмуд разлил кофе по чашкам просто из вежливости и ничего особенного в его чашку не подсыпал.
О том, что информацию об итальянце передала Стефани Хорст, ему было известно. Знал он также, что Левша собирался расстаться со своей очередной любовницей. Остальное оказалось для него неожиданностью.
– Какие у тебя планы, Махмуд? – Карл закурил еще одну сигарету и откинулся на спинку стула.
– Выжить, – горько усмехнулся Махмуд.
– Ты собираешься что-то предпринимать, чтобы прекратилась охота?
– Что я могу? У меня почти не осталось людей. Лучшие убиты. Остальные продаются шакалам. Я никому больше не верю, Карл. Никому. Я думаю, надо взять заложников. Лучше детей. Совсем маленьких. Убивать по одному и поставить условие, чтобы они выпустили из тюрьмы пятерых моих людей и прекратили охоту.
– Не годится, – покачал головой Карл, – людей они, возможно, и выпустят, но охоту не прекратят, пока не убьют всех до последнего.
– Зачем ты мне это говоришь. Карл? Я сам понимаю, нужно что-то совсем другое. Только не знаю, что именно. Мне не на кого опереться. Я в каждом вижу предателя.
– Тогда надо опираться на предателей, – задумчиво произнес Карл.
– Шутишь? Мне сейчас совсем не хочется смеяться.
– Нет, Махмуд. Я совершенно серьезно. Акбар работает на МОССАД.
– Откуда ты знаешь? – Лицо его стало серым. Акбар был официальным представителем ООП в Лондоне. На МОССАД он работал уже полгода. Но Махмуд узнал о предательстве Али Акбара, ближайшего соратника, друга детства, всего неделю назад. И никак не хотел верить.
– У меня есть свои каналы, – грустно улыбнулся Карл.
– Значит, это правда?
– Люди обтачиваются легко, как морская галька, – глубокомысленно заметил Карл, – настоящий вождь должен быть свободен от иллюзий и сожалений. Знаешь, кто это сказал? Иосиф Сталин. Ты ведь настоящий вождь, Махмуд?
– Карл, я прошу тебя, не тяни. Я не понимаю, к чему ты клонишь? Если Акбар предатель, он будет убит.
– Не спеши. Он ведь еще не знает, что засветился. И моссадовцы не знают. Карл встал, подошел к книжным полкам и вытащил небольшой конверт. – Смотри.
В конверте была дюжина цветных фотографий. Махмуд долго молча разглядывал лицо черноусого мужчины, заснятого в профиль, анфас, крупным и общим планом, наконец поднял глаза на Карла:
– Кто это?
– Официант ресторана «Гемалт-хауз» Александр Крюгер. Сорок два года.
– Я вижу, что он официант, – рявкнул Махмуд, теряя терпение, и швырнул фотографии на стол.
– А больше ничего не видишь? Подойди к зеркалу. Ты забыл собственное лицо.
Махмуд опять схватил фотографии и стал быстро, судорожно перебирать их. Он был похож на игрока, который просадил казенные деньги и готов пустить себе пулю в лоб, но вот ему сказали, что в его колоде есть козырная карта.
– Если ты сбреешь бороду, Махмуд, и немного отоспишься, вы будете как братья-близнецы.
– Как, ты сказал, его зовут? – хрипло спросил Махмуд, продолжая перебирать снимки дрожащими руками.
– Александр Крюгер.
– Почему у него немецкое имя? Он не похож на немца.
– Его мать была еврейкой. Отец немец. Он родился в Казахстане. Пять лет назад женился на немке. В Берлине живет всего год. А в ресторане работает только второй месяц. Довольно неопределенная биография, и это очень кстати.
– Они не поверят, – покачал головой Махмуд.
– Разве за полгода сотрудничества Акбар обманул их хоть раз? Он сообщит им, что ты в Берлине, работаешь официантом в маленьком ресторане и зовут тебя теперь Александр Крюгер.
– Но ведь очень быстро все выяснится.
– И отлично, – кивнул Карл, – чем скорее, тем лучше.
Через две недели официант Александр Крюгер был застрелен у подъезда своего дома. Убийство смахивало на ритуальное. Тело его изрешетили тридцатью пулями из трех бесшумных пистолетов, с близкого расстояния, почти в упор.
Берлинская полиция моментально вышла на след кровавых злодеев, которые оказались агентами МОССАДа. На суде они вынуждены были признаться, что выполняли спецоперацию по борьбе с терроризмом. Все трое были приговорены к длительному тюремному заключению. Разразился чудовищный скандал. Средства массовой информации кричали, что сотрудники израильской разведки убивают невинных людей, не разбираясь, за одно только внешнее сходство с террористами.
Руководитель моссадовской спецгруппы Абрам Каган был смещен с должности. На его место назначили молодого перспективного сотрудника Якова Берш-тейна, который до этого руководил отделом, занимающимся разработкой агентуры в странах Варшавского Договора.
Это было вполне логичное назначение, так как основные базы по подготовке палестинских террористов находились на территории Советского Союза и ГДР. Берштейн имел богатую и сложную агентурную сеть, в которой были задействованы и палестинцы, и русские, и немцы. Он имел возможность выйти на след Махмуда Хамшари, но собирался всерьез заняться Черным Шейхом, когда сам возглавит отдел, когда уйдет наконец в отставку постаревший, надоевший шеф. А то получится несправедливо: один будет работать, другому достанутся лавры.
Каган догадывался, что молодой бойкий коллега приложил руку к его отставке. Но никто не знал, что идея сложной оригинальной операции пришла в голову агенту Штази Карлу Майнхоффу, когда он сидел в ресторане «Гемалт-хауз» и несчастный Александр Крюгер расставлял на его столике тарелки со свиными ножками и картофельным салатом.
Махмуда Хамшари застрелили через полтора года в Амстердаме.
Москва, январь 1998 года
– Ну что, ребята, поработали хорошо, – полковник Харитонов перекрутил назад видеопленку, чтобы еще раз просмотреть материал по наркодопросу Авангарда Цитруса. – Почему он опухший такой? Мешки под глазами. С похмелья, что ли?
– Да, вероятно, здорово перебрал ночью, – кивнула высокая худенькая блондинка, – я, честно говоря, заволновалась, когда он стал поедать конфеты одну за другой. Там ведь доза барбамила была распределена в расчете на то, что он съест не больше трех штук. А он как начал уплетать, ужас. Главное, я в кофе успела вылить препарат, ну, думаю, вырубится сейчас или вообще помрет, чего доброго.
Наталья Осипова, двадцатитрехлетняя сотрудница информационного отдела при службе безопасности, до сих пор волновалась, хотя все уже было позади. Ей впервые в жизни пришлось участвовать в такой операции.
Накануне, работая с материалами досье Авангарда Цитруса, она не обратила внимания, что Ирина Михайловна Удальцоба, ныне гражданка Фракции, графиня де Рожен, похожа на нее, Наталью, как старшая сестра. Зато Харитонов уловил это случайное сходство моментально. Тут же были найдены фотографии молодой Ирины Удальцовой.
– Повернись, – скомандовал Харитонов, придирчиво оглядывая девочку из информационного отдела, – так. Отлично. Теперь распусти волосы. Слушай, она тебе не родственница случайно?
– Нет. А что?
Главная сложность заключалась в том, что операция требовала скорости и стопроцентной секретности. Любое внимание к Цитрусу могло быть запросто зафиксировано людьми Подосинского. Идеально было бы, если бы даже сам Цитрус не знал, что из него вытащили информацию, поэтому Валерий Павлович решил отказаться от таких примитивных методов, как шантаж, похищение, запугивание. Заманчиво было шантажнуть стареющего нимфомана его связью с девятиклассницей Машей Устиновой, пригрозить уголовной ответственностью за совращение несовершеннолетней. Однако это долго и хлопотно.
Сначала полковник хотел прислать к Цитрусу под видом корреспондента профессионального гипнотизера, проверенного мастера гипно – и наркодопроса Ваню Логинова. Но не давала покоя мысль, что к Цитрусу лучше все-таки прислать женщину, причем определенного типа. Высокую худощавую блондинку не старше двадцати пяти лет.
Удивительное сходство девочки из отдела информации с первой роковой любовью Цитруса полковник счел настоящим подарком судьбы. Оставалось подготовить Наталью к операции.
Понятно, что одна она с задачей не справится. Наркодопрос требует определенного опыта и навыка. Работать с «сумеречной зоной», которую создает в сознании человека «сыворотка правды», должен профессионал.
Именно на этой стадии решено было подключить Ваню Логинова, которого Цитрус почему-то принял за Карла Майнхоффа, хотя гипнотизер-"фотограф" был темноволос и никогда не носил усов.
– Валерий Павлович, ко мне есть какие-нибудь вопросы? – спросил Иван, когда они еще раз просмотрели кассету.
– Спасибо, Ваня. Свободен.
Логинов ушел. Наталья замялась на пороге.
– А вообще, он мерзкий такой, этот Цитрус.
– Неужто не понравился? – Харитонов усмехнулся. – Ну вот, все вы, женщины, такие. Правильно Цитрус в своих произведениях о вас пишет. Коварные злодейки, не любите его, такого мужественного и красивого.
– По-моему, он вообще псих. И как только он мог стать лидером партии?
– Да нет там никакой партии, – махнул рукой полковник. – Кодла ряженых придурков, юношеский спортивный клуб, вокруг стая сумасшедших пенсионеров, а в серединке – наш приятель Цитрус со своими фрейдистскими комплексами.
– А боевики? – удивилась девушка.
– Шутовство все это. Ну, есть там пара-тройка приличных людей. Бывший мастер спорта по стрельбе, бывший чемпион Союза по вольной борьбе, пятиборец-чемпион. Имеют богатое уголовное прошлое. Учат молодежь благородному ратному делу, готовят кадры для частных охранных агентств. Ты ведь у нас девушка грамотная, знаешь, кто в основном за этими агентствами стоит?
– Бандиты.
– Правильно. Вот бандиты эту партию и кормят. Им так удобней.
– Ну хорошо, а митинги, собрания? А газета?
– Митинги? – хмыкнул полковник. – Ты хоть один видела?
– Нет.
– Ничего интересного. Собираются в каком-нибудь ДК, развешивают флаги со свастикой, споют хором свой гимн, поорут, побьют себя в грудь и разойдутся. А что касается газеты – убогие листочки, на дрянной бумаге, тираж в лучшем случае тысяча, а то и пара сотен. Краска мажется, печать ужасная, тексты с орфографическими ошибками.
– А почему о них тогда столько говорят?
– Потому что всегда удобно иметь карманного, домашнего злодея, чтобы на него сваливать все неприятности, чтобы им детей пугать, если не слушаются.
– То есть все наши фашисты, нацисты и прочие коричневые – это совершенно несерьезно?
– У нас, Наталья, столько всякого другого серьезного, что голова кругом идет, – вздохнул полковник.
– Валерий Павлович, а этот Цитрус только правду говорил? Или нес околесицу?
– Что тебе показалось околесицей?
– Ну, про какую-то Алису в Стране Чудес… Харитонов ничего не ответил, тяжело откинулся в кресле, прикрыл глаза.
– Спасибо, Наталья. Можешь идти. Ты молодец. Поздравляю с оперативным дебютом.
Глава 17
Ночью Алисе приснился кошмар, который преследовал ее многие годы. Однажды в десятилетнем возрасте она чуть не утонула в Черном море. Она качалась на сильных волнах, ее накрыло с головой, завертело, проволокло по острым камням. Папа вытащил ее на берег в полуобморочном состоянии, коленки были в крови, в ушах стоял тяжелый звон.
Когда она уставала, нервничала, когда наваливались мелкие и крупные неприятности, ей снилось, что она тонет в тяжелом горько-соленом море, дна нет, и волны швыряют ее, словно щепку. Она просыпалась с головной болью, с ощущением, что все в ее жизни ужасно и ничего исправить нельзя.
Папа говорил, что это наплывы подсознательного страха смерти, который есть в каждом человеке и проявляется по-разному, но особенно остро в переходном возрасте.
Переходный возраст прошел, а отвратительный сон все равно снился.
В восемьдесят третьем году двадцатилетняя Алиса впервые отправилась на море одна, без родителей. Она заснула в самолете Москва-Адлер, ей в очередной раз приснился знакомый, привычный кошмар. Отчаянно выдергивая себя из тяжелого горько-соленого сна, цепляясь сознанием за радиоголос («Приведите ваши кресла в вертикальное положение, пристегните ремни…»), она подумала, что надо наконец научиться плавать. И перестать бояться воды.
От Адлера до поселка Лазурный, возле которого находился международный студенческий лагерь «Спутник», было всего сорок пять километров, однако хитрый таксист повез двадцатилетнюю дурочку окольным путем, сложным и долгим. Они ехали по серпантину. Таксист кого-то подсаживал, высаживал, загружал в багажник то корзинки с фруктами, то огромные, опле-, тенные цветной сеткой бутыли с домашним вином, то отчаянно визжащий фанерный ящик с живым поросенком.
Таксист сразу углядел в аэропорту одинокую молоденькую москвичку в сиреневом платье, с огромным клетчатым чемоданом, с круглыми голубыми растерянными глазами. Быстро, чтобы не перехватили дурочку, взялся за чемодан, поволок его к своей машине и только потом спросил:
– Куда едем?
– Поселок Лазурный, студенческий лагерь, – она еле поспевала за ним, мелко цокая высокими каблучками.
– Восемьдесят, – небрежно сообщил таксист и запихнул чемодан в багажник.
– Да вы что! – Голубые глаза стали совсем круглыми, бледное, незагорелое личико вытянулось. – Мне говорили, это близко, полчаса езды.
– Это тебе в Москве говорили. Залазь, дочка. Так и быть, семьдесят.
На самом деле до Лазурного обычно возили за тридцать. Таксист дождался, пока она забьется на заднее сиденье, захлопнул дверцу, но сам не сел за руль, побежал к зданию аэропорта, чтобы прихватить еще кого-нибудь с московского рейса. Вернулся минут через десять, бросил в багажник еще один чемодан, усадил б салон пожилую тетку с двумя мальчиками-близнецами. Им надо было совсем в другую сторону, но голубоглазую можно катать до ночи. Ясно, такая права качать не станет, местности совсем не знает и со своим пудовым чемоданом никуда теперь из машины не денется.
Сначала он отвез тетку с детьми, потом развернулся и поехал к Лазурному хитрой далекой дорогой, подсаживая всех, кто голосовал.
Алису подташнивало в машине. За щекой таяла липкая барбариска. В окне мелькали атласные стволы эвкалиптов, бархатный кустарник карабкался на пепельно-розовые камни, ленивое вечернее солнце лежало на тонком облаке и долго не решалось скатиться вниз, в чистое неподвижное море.
– Все, дочка. Приехали.
Такси остановилось у чугунных ворот. Алиса отсчитала семьдесят рублей. Шофер уехал. Она осталась стоять у ворот со своим дурацким тяжеленным чемоданом. И зачем она набрала столько барахла? Зачем надела в дорогу босоножки на тонких высоких каблучках? Почему позволила так надуть себя пройдохе-таксисту? Ладно, в следующий раз надо быть умнее.
Ее поселили в трехместный номер. Соседки, две совершенно одинаковые, крошечные, как куклы, вьетнамки, целыми днями сидели на полу, вязали что-то длинное, широкое из одинаковых красных ниток, включали радио на полную мощь и подпевали тоненькими голосами, когда звучала какая-нибудь популярная песня. Никуда, кроме столовой, они не ходили. Даже на пляж. И каждый вечер жарили селедку на электроплитке.
Алиса не хотела ни с кем знакомиться. Утром, после завтрака, уходила подальше, на дикий пляж, где не было ни души, лежала с книжкой на горячих камнях. Днем отправлялась в горы, карабкалась по осыпающемуся светлому гравию к маленькому водопаду. Царапая ноги сухой колючкой дикого шиповника, залезала в темную лесную глушь, долго сидела на траве, слушая мерный гул ледяной воды.
Душными вечерами за открытым окном гремела дискотека, сквозь черную зелень пробивались разноцветные огни. В номере пахло жареной селедкой и дешевым мылом. Тихо щебетали вьетнамки у электроплитки. Алиса читала, лежа на своей койке, или просто закрывала глаза, отворачивалась к стенке, думала о маме с папой.
Они развелись за неделю до ее отъезда. Мама, офтальмолог, доктор наук, решила вторую половину жизни прожить для себя, ни о ком не заботясь. Но дело было даже не в этом. Отец, высококлассный нейрохирург, двадцать лет простоявший у операционного стола в клинике Бурденко, стал крепко пить к старости.
Многие годы он снимал водкой или чистым спиртом стрессы после тяжелых операций. Так делали все. Сначала пятьдесят грамм, потом сто, а дальше поллитра за вечер. Он являлся домой с глупой улыбкой на красном, потном лице, сообщал заплетающимся языком, что сегодня не совсем удачно поковырялся в чьих-то мозгах, иногда сразу засыпал, но случалось, начинал каяться, проклинать себя, просить прощения у жены и дочки, плакать, шмыгая носом и размазывая слезы по небритым щекам. Потом потихоньку доставал из портфеля очередную склянку со спиртом либо бутылку дорогого коньяка. Утром опохмелялся.
Операционная сестра Наташа, проработавшая с ним лет десять, все чаще говорила:
– Юрий Владиславович, у вас дрожат руки. Это стало слишком заметно. Заведующий отделением отстранил его от операций. Начались запои. Он все еще числился в клинике, но почти не работал.
Мама никогда не устраивала сцен, не вела долгих разговоров, не пыталась бороться, ибо считала, что у каждого свой путь, и если человек сам не понимает, ему ничего не втолкуешь, особенно в пятьдесят лет.
Ирина Павловна Воротынцева пропадала на работе с раннего утра до позднего вечера, дома общалась только с дочерью, а мужа перестала замечать. Он как будто умер для нее.
Алиса жалела отца, сначала пыталась прятать спиртное, выливала в раковину спирт и дорогой коньяк, потом просто плакала, умоляла, пробовала поговорить с мамой, сама нашла хорошего нарколога.
– Можно вшить «торпеду», есть и другие методы. Однако это должен быть его сознательный выбор. Но он не хочет. Ему все равно. У него уже начались необратимые изменения в мозгу. Ваш отец – хронический алкоголик, – сказал нарколог.
Все было бесполезно. Папа отказывался признать себя алкоголиком, лечиться не желал. Привычный, надежный, теплый мир медленно, но верно рушился, разваливался на глазах. Никто не был виноват, и никто ничего не мог поделать.
Когда Ирина Павловна сообщила, что подает на развод и намерена заняться разменом квартиры, Алиса предприняла последнюю отчаянную попытку повлиять на родителей. Она ушла из дома, шарахнув дверью, и сказала, что не вернется, пока они не помирятся.
Она ночевала у подруг, потом неделю прожила в общаге, в комнате двух своих иногородних сокурсниц. Был июнь, летняя сессия. Ни мама, ни папа даже не пытались ее разыскать. Позже оказалось, мама просто позвонила в институт, узнала, что дочь жива-здорова, сдает экзамены вполне успешно, и на этом успокоилась.
А папу, кажется, уже ничего, кроме выпивки, не интересовало.
– Ты взрослый, самостоятельный человек, – жестко сказала Ирина Павловна, когда Алиса вернулась домой, – с меня хватит. Он себя угробит, и я не желаю, чтобы это происходило у меня на глазах. Я не буду с ним жить даже ради тебя. Знаешь, я и так слишком многим жертвовала ради тебя. Бессонные ночи, пеленки. В первый год ты кричала так, что у меня лопалась голова. Каждый новый зуб резался с высокой температурой. Я потеряла год в институте, пришлось взять академку. Я спала на ходу, когда везла коляску. Потом – твои истерики по дороге в детский сад, твои дикие выходки в школе… Прости, детка, ты уже выросла. Я хочу пожить для себя.
Через два дня выяснилось, что Алисин курсовой проект на тему «Город будущего» занял третье место на общеинститутском конкурсе. В качестве приза она получила бесплатную путевку в международный студенческий лагерь «Спутник».
Алиса была рада, что не придется участвовать в эпопее размена трехкомнатной квартиры на проспекте Вернадского, к которой она уже успела привыкнуть. Семья переехала туда три года назад, когда старый дом на Трифоновке пошел на снос.
Ей больше всего на свете хотелось побыть одной. Она надеялась, что у моря, на теплом солнышке, сумеет успокоиться, свыкнуться с простым и страшным открытием, что теперь не нужна никому – ни маме, ни папе. Они ее вырастили, и довольно с нее. Чего она, собственно, хотела? Жить до старости у них под крылышком? Разумеется, нет. Просто Алисе казалось, они трое, мама, папа и она, будут всегда любить друг друга.
Папино пьянство было таким же предательством, как мамина ледяная рассудительная трезвость. Она не осуждала их, но видеть не хотела. Хотя бы некоторое время. Так что бесплатная путевка к морю оказалась очень кстати.
Еще в первый день в столовой за ужином она заметила, что белобрысый парень за соседним столом не сводит с нее бледно-карих прозрачных глаз. У него было загорелое до красноты лицо, офицерские аккуратные усы, крепкие крупные руки в густой штриховке светлых волосков. Он ловко вертел вилку между средним и указательным пальцами, получалось ровное быстрое колесо. А глаза глядели прямо на Алису.
С ней за столом сидели трое кубинцев. Девушки-мулатки болтали по-испански, громко смеялись, сверкая ослепительными зубами, живописно встряхивали жгуче-черными гривами, поводили смуглыми плечами. Совершенно шоколадный молодой человек таскал с их тарелок тефтели, они хлопали его по рукам и хохотали еще громче. На Алису эта веселая кубинская компания из Харьковского сельскохозяйственного института не обращала внимания.
А белобрысый за соседним столиком продолжал глазеть за завтраком, потом за обедом. Один раз Алиса не отвела взгляд, уставилась в ответ как можно надменней, холодней: мол, что вам надо, юноша? Получилась глупая игра в гляделки, от которой у Алисы пропал аппетит. А белобрысый преспокойно поедал бефстроганов с гречкой, не глядя в тарелку. Глазами он продолжал поедать Алису.
С ней пытались знакомиться. Подкатил красивый интеллигентный болгарин Стоян, потом сразу двое наших, Костя и Петя, комсомолькие вожди из Саратовского пединститута. Алиса вежливо, но твердо отказывалась от приглашений на дискотеку и в кино, не пошла играть в теннис с компанией югославов, фыркнула на кривоногого Ахмеда из Ливанасоторый спросил на ломаном русском, «пачыму такой красывый девушка савсэм одын и ны с кэм ны дыружит?».
Довольно скоро ее оставили в покое. Белобрысый не подошел ни разу, но игра в гляделки продолжалась.
Прошло пять дней. Однажды, лежа на своем любимом диком пляже, Алиса услышала шаги. Иногда сюда забредали компании, но места было достаточно, чтобы не подходить близко.
Сейчас не было ни души. Алиса подняла голову от книги и увидела, что к ней направляется шоколадный кубинец, сосед по столу.
– Привет, – сказал он, усаживаясь рядом на камни.
– Привет, – Алиса опять уставилась в книгу.
– Я думал, ты здесь голышом загораешь, а ты в купальнике. Зачем тогда уходить так далеко?
Он неплохо говорил по-русски. Она ничего не ответила.
– Знаешь, как меня зовут? Федя! Вообще-то, Фидель. Слушай, может, искупаемся?
– Не хочу.
– А что ты читаешь? – Он бесцеремонно сцапал книгу, захлопнул и громко, с пафосом, прочитал на обложке:
– «Генрих Белль. Бильярд в половине десятого». Кто такой? Почему не знаю?
Алиса молча попыталась отнять книгу. Он осклабился и спрятал руки за спину.
– Хорошо, – она встала, сунула ноги в шлепанцы и подняла с камней сарафан, – отдашь в столовой.
Он отбросил книгу, схватил ее за руку, резко дернул к себе, стал заваливать прямо на камни. Он был сильней, чем казался на первый взгляд. Изо рта у него пахло кислятиной, голубоватые белки глаз налились кровью, порозовели. Алиса на секунду расслабилась, давая расслабиться ему, а потом изо всех сил саданула коленом между ног, но промахнулась, попала выше, в живот. Он даже не заметил удара. Он сопел и пытался содрать с нее лифчик. Она закричала, вмазала ему головой в челюсть.
– Тихо, тихо, тебе понравится, – бормотал он, не реагируя на удары, – что ты ломаешься? Ну, тихо…
Алиса нащупала рукой гладкий тяжелый булыжник, и в этот момент шоколадный Федя отлетел от нее куда-то в сторону с жалобным стоном.
– Ты, говно черномазое, убью…
Это кричала вовсе не Алиса, а белобрысый, тот самый, который играл с ней в столовой в гляделки. Он даже не кричал, а спокойно, почти ласково, повторял всякие жуткие ругательства по-русски с немецким акцентом, при этом методично избивая негра, не давая ему подняться.
Алиса встала на ноги. Всего минуту назад она сама готова была убить этого несчастного Фиделя, и, в общем, могла, если бы успела шарахнуть булыжником по голове. Вполне могла.
Негр корчился на камнях, лицо его уже было разбито в кровь. Он пытался встать, но тут же падал на колени, получая один удар за другим.
– Перестань, – крикнула Алиса, – хватит!
– Ты считаешь, хватит? – белобрысый бросил на нее быстрый взгляд и тут же вмазал негру кулаком в зубы.
Потом легко, как пустой мешок, поднял кубинца за ворот футболки, заломил ему руки за спину и повернул лицом к Алисе.
– Врежь ему как следует.
Алиса замерла, глядя на негра. Он чуть закатил глаза, тяжело, хрипло дышал оскаленным кровавым ртом.
– Ну, давай! – Белобрысый держал его и со спокойной улыбкой глядел на Алису.
– Отпусти его, – тихо сказала она.
– Слушай, а может, его утопить? – задумчиво спросил белобрысый. Вообще-то таких надо топить не в чистом море, а в сортире.
Кубинец извивался, пытаясь вырваться. Он был выше белобрысого почти на голову, но у того оказалась железная хватка.
– Ты точно не хочешь ему врезать? Подумай, – сказал белобрысый, продолжая улыбаться.
– Нет, – крикнула Алиса, – отпусти его. Ее колотил сильный озноб, несмотря на жару.
– Ты понял, черное дерьмо, кто ты есть? Ты осознал, что с тобой будет, если вякнешь? Попытка изнасилования. Вылетишь из лагеря, из института. Немецкий акцент придавал его низкому спокойному голосу что-то механическое. Ты, черножопый, споткнулся и упал о горы. Ты летел по камням и разбил свою сраную рожу. Все, пошел вон.
Белобрысый пнул его коленом. Кубинец упал, потом вскочил на ноги, не оглядываясь, побежал по камням. Алиса посмотрела ему вслед. Он карабкался вверх, к лагерю, по узкой крутой тропинке. Он все время спотыкался и почти полз на четвереньках, пока не исчез в буйных зарослях горного кустарника.
Белобрысый не спеша подошел к кромке воды, присел на корточки, ополоснул руки в море. Потом поднялся, подошел к Алисе и, обтерев ладонь о светлые шорты, протянул ей руку с разбитыми костяшками пальцев.
– Меня зовут Карл Майнхофф.
Глава 18
Эйлат, январь 1998 года
«Я веду себя как идиот, – думал Деннис Шервуд, лежа в темноте в своем номере и глядя в потолок, – я все жду, что она бросится мне на шею и расскажет, кто она такая и что ее связывает с Майнхоффом. Конечно, она никакой не агент. Мне было бы легче с ней работать, если бы я ее подозревал. А так получается нечестная и, в общем, паскудная игра. Ребенок ко мне уже успел привязаться. Хорошо, что осталась всего неделя…»
Деннис с хрустом потянулся, сел на кровати, в темноте нащупал бутылку минеральной воды, сделал несколько глотков прямо из горлышка. Надо было поспать хотя бы четыре часа. Завтра тяжелый день.
Они, конечно, отправятся в Иерусалим. Для этого не надо напрашиваться, уговаривать Алису. Достаточно тихо постучать в окно, которое прямо над кроватью Максима. Мальчик просыпается рано. Он сразу загорится этой идеей, и Алиса не захочет его огорчать. День предстоит тяжелый потому, что пройдет в постоянном, ежеминутном напряжении.
Деннис не любил чувствовать себя виноватым. Конечно, ради того, чтобы выйти на реальный след Карла Майнхоффа, ухватить ниточку, которую никто пока, кроме него, Денниса, не ухватил, можно разыграть не просто влюбленность, а даже роковую страсть. Но дело в том, что именно сегодня капитан ЦРУ Деннис Шервуд с удивлением обнаружил, что испытывает к Алисе не только профессиональный интерес.
Деннис работал в разведке двенадцать лет. Он не видел в своей работе никакой романтики. Образ непобедимого, неотразимого Джеймса Бонда, покорителя дамских сердец, был для него такой же фантастикой, как чудище из фильма «Чужой».
Прыгать из самолета без парашюта прямо на голову кремлевскому генералу, укладывать из одного пистолета дюжину вооруженных до зубов злодеев, влезать в атомную подводную лодку через запаянный иллюминатор, при этом сохраняя девственную аккуратность прически и сверкающую чистоту белых штанов, Деннису не приходилось.
Беготня, стрельба, погони случались крайне редко и никакого восторга не вызывали. Была рутина наружного наблюдения, нудные долгие разговоры без всякого остроумного блеска, были многочасовые кружения по чужим городам с бесконечными проверками на предмет «хвоста». Все это требовало в первую очередь терпения, потом – логики, наблюдательности, отличной памяти, реальных знаний, интуиции, умения быстро справляться со стрессами и не пить, когда очень хочется напиться.
«А все-таки я вел себя как идиот. Вернее, как свинья. Вся штука в том, что она мне действительно нравится, эта Алиса. Я попытался ее поцеловать именно поэтому. Было бы лучше обойтись простыми добрососедскими отношениями, общаться с ребенком и не лезть к ней с нежностями. Я чуть не испортил всю игру своим напором. Теперь она замкнется еще больше. Если раньше была хоть маленькая надежда вытянуть из нее, почему она так боится Карла Майнхоффа и откуда она его знает, то теперь остается только ломать голову».
Деннис еще раз, очень подробно, прокрутил в памяти прошедшие два дня. Сначала фотографии, потом разговор в ресторане, реакция на сообщение о теракте. А ведь она очень внимательно прислушивалась к сообщению, которое передавали по Си-эн-эн, причем напряглась еще до того, как на экране появилась фотография профессора Бренера и прозвучало его имя.
Конечно, такого рода происшествия, да еще поблизости, заинтересуют любого и притянут к телеэкрану. Но слишком уж она была напряжена, слишком жадно вслушивалась в слова диктора, будто это касалось ее лично. Стало быть, она не просто знакома с Майнхоффом. Она знает, кто он, и боится. Да, она ужасно боится, только скрывает это от ребенка. Отсюда постоянное напряжение.
А потом, когда она сидела у двери номера, он решил не подходить сразу, понаблюдать со стороны. Она была уверена, что никто не слышит, и говорила сама с собой. Деннис не знал русского и не понял ни слова в ее быстром, нервном шепоте. Ни слова, кроме имени «Майнхофф». И вот тогда он окончательно убедился – никакой она не агент. Агент не произнес бы этого имени даже во сне. Просто испуганная одинокая женщина, которой не с кем поделиться своим страхом, не на кого переложить хотя бы малую часть какой-то своей странной, пугающей тайны.
То, что она жила в детстве в одной квартире с семьей профессора Бренера, это чистая правда. Но к делу отношения не имеет. Забавно, что единственная живая, ясная, не подозрительная и никому не опасная правда во всей этой мутной истории оборачивается блефом и только вносит путаницу, мешается под ногами. Блеф господина Случая, из которого ровным счетом ничего не следует.
Ну да, жила и не скрывает этого. Искренне беспокоится за своего бывшего соседа. А вот страх перед Карлом Майнхоффом – это уже серьезно. Вероятно, немец, с которым бередовал ребенок на пирсе, был именно он, Майнхофф.
Чего ради он так рискует?
Вообще, где, как они могли встретиться? Случайно познакомились, когда он учился в России? Ну и что? А если была любовная связь? Но из этого тоже ничего не следует. Ровным счетом ничего. С тех пор прошло не меньше пятнадцати лет.
Смешно подозревать в Майнхоффе такую сентиментальность, невозможно представить, что, встретив случайно здесь, в Израиле, свою любовь пятнадцатилетней давности, он изменил планы. Ведь он изменил планы. Он должен был перебраться через египетскую границу сразу после похищения, пока не улеглась первая паника. Однако он здесь и рискнул сам явиться на набережную за фотографиями…
Деннис достаточно хорошо изучил характер человека, за которым охотился почти десять лет. Он знал, Майнхофф в любовных связях крайне разборчив и осторожен, никогда не спит со случайными женщинами, со шлюхами и наркоманками из своей бандитской среды. Сколько раз к нему подсылали красоток-агентов, были среди них девушки всех национальностей, всех мастей, и ни одной не удалось затащить его в койку. Почти каждую быстро раскалывали, вытягивали всю информацию и убивали, иногда зверски, после долгих пыток.
Даже видавший виды бывший шеф Денниса полковник ЦРУ Майкл Стаут потерял самообладание, когда обнаружил в багажнике своей машины, припаркованной у штаб-квартиры в Стамбуле, растерзанный труп тридцатилетней Одри Лайн.
Одри была опытным и осторожным агентом, семь лет проработала в Турции, сама предложила операцию по внедрению в группировку турецких «Серых волков». Именно она сообщила о скрытых контактах руководства «Волков» с Майнхоффом. Об этих связях не знал никто. Было известно, что Майнхофф работал в основном с палестинцами, иногда с ирландскими республиканцами, имел контакты с итальянскими «красными бригадами». Но его турецкие контакты вскрылись впервые благодаря работе Одри Лайн.
Тогда, в восемьдесят седьмом, Майнхофф участвовал в разработке плана похищения главы миссии ООН в Стамбуле. Похищение должны были осуществить знаменитые турецкие «Серые волки». Одри успела передать эту информацию, и сразу, буквально на следующий день, – ее труп в багажнике. А главу миссии все равно похитили месяцем позже, и не в Стамбуле, а в Каире…
В общем, женщины никогда не были слабостью Карла. В бандитской среде принято менять подруг. Но рядом с Майнхоффом многие годы была одна-единственная. Инга Циммер.
Верная Инга сопровождала его повсюду, участвовала во многих операциях, пару раз спасла ему жизнь, готова была растерзать за него кого угодно. Никаких соперниц Инга не терпела. Говорили, что именно она раскалывает красивых агенток разных спецслужб и сама допрашивает их.
Про эту худенькую, очень светлую блондиночку с прозрачной кожей и ясными бледно-голубыми глазами ходили слухи не менее страшные, чем про самого Карла.
Пятнадцать лет назад, когда Майнхофф учился в России, в аспирантуре Института международных отношений, Инги с ним не было. Она лечилась от наркомании в берлинской клинике. Мог он, оставшись без присмотра, завести себе подружку? Разумеется. Неужели этой подружкой оказалась Алиса Воротынцева? Почему нет? Ей было всего двадцать. А он не был еще тем Майнхоффом, которым стал сейчас.
Сочи, июль 1983 года
– Я никогда не научусь плавать, отстань! – кричала Алиса, отбиваясь от сильных рук Карла, когда он пытался затащить ее на глубину.
Она могла проплыть по-собачьи при полном штиле десяток метров, но ей надо было непременно знать, что дно близко, под ногами.
– Ты же умеешь держаться на воде, этого достаточно. Да не брыкайся ты так! Плыви спокойно, не трать зря силы.
– Все, хватит, мне здесь выше головы!
– Я держу тебя!
– Нет! Отпусти, отстань!
Она вырывалась, выбегала на берег, а он уплывал на глубину. Ей нравилось, лежа на горячих камнях, смотреть, как он выходит из воды и солнце светит ему в спину, четко очерчивая силуэт.
После пляжа они играли в теннис или просиживали по три часа над шахматной доской на большой деревянной веранде, и Алиса всякий раз обижалась всерьез, если проигрывала.
На ночной дискотеке лихо отплясывали рок-н-ролл. Карл был отличным партнером, легко двигался, совершенно не уставал, Алиса тоже могла танцевать бесконечно.
В первый вечер после дискотеки они спустились к морю, вокруг не было ни души, и Алиса загадала:
«Если он сейчас попытается меня поцеловать, ничего не будет у нас. То есть будет легкий быстрый роман, который ничем не кончится. Мы больше никогда потом не увидимся. А если…»
Она не стала загадывать, что будет, если он не попытается ее поцеловать. Просто не стала, и все.
Он не притронулся к ней. Они сидели на остывших камнях, слушали шорох ночного спокойного моря и тихо разговаривали. Потом он проводил ее до корпуса.
На четвертый день знакомства они отправились с утра в горы, к водопаду. Тропинка была крутой, узкой, резиновые подошвы спортивных тапочек скользили по мелким камушкам. Влажная ткань футболки неприятно липла к обожженной коже. Алиса даже не успела заметить, когда получила солнечные ожоги. Вроде бы старалась не жариться на солнце, но плечи и спина стали красными и теперь ныли нестерпимо.
День был тяжелый, душный. Жесткие листья кустарника вдоль тропинки не шевелились, птицы молчали, подрагивал густой раскаленный воздух, дышать становилось все трудней.
– Смотри под ноги, в таких местах водятся гадюки, – сказал Карл.
– Я знаю. Слушай, может, вернемся, пока не поздно? Скоро начнется гроза. Алиса остановилась, балансируя на одной ноге, стянула тапочку, чуть не упала.
– Что случилось? – Карл подхватил ее за локоть.
– Камушек острый попал.
– Больно?
– Нет.
– Ты правда хочешь вернуться? Боишься грозы?
– Вымокнем до нитки, а потом придется скользить по грязи. Ливень размоет тропинку. – Она обулась, опираясь на его плечо.
– Ты сказала, что покажешь мне водопад. Представь, как это красиво водопад и ливень.
– Красиво, – кивнула она, – только очень уж мокро.
Он держал ее руку в своей, не отпускал, сжимал пальцы почти до боли. Потом внезапным резким движением поднес к губам. Жесткие усы защекотали ладонь. Он провел ее рукой по своему лицу.
– У тебя такие тонкие пальцы… Знаешь, как определить, чистая у человека порода или есть примеси?
– Знаю, – Алиса высвободила руку, – по форме хвоста, по густоте подшерстка, по толщине лап в щенячьем возрасте. Слушай, почему ты все время придуриваешься?
– Мне нравится тебя злить. Тебе очень идет, когда ты злишься.
Огромная, чернильно-лиловая, с коричневатым отливом туча разбухала, заполняла небо, пожирала куски ослепительной голубизны, добралась до раскаленного солнечного диска и словно поперхнулась, зашлась утробным громовым кашлем. Зашумели верхушки лиственниц, озоновый холодок ударил в ноздри.
Оскользаясь на крутой тропинке, они добежали до поляны. На краю чернел полуразвалившийся сарай, от него шла дорога к маленькому поселку. Едва они оказались под крышей, хлынул ливень. Ветер бил в гнилые стены, казалось, ветхий домик сейчас развалится.
Ливень перешел в град.
Пол в сарае был земляной, кое-где прорастала трава. У стены валялось несколько нетесаных занозистых досок. Карл стал деловито сооружать из них что-то вроде скамейки, положил одну на другую, снял рубашку, расстелил сверху, сел, вытянув ноги.
– Присаживайтесь, фрейлейн. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
Ветер выл и свистел, вспыхивала молния, крупные колючие градины залетали в пустой дверной проем. Стало холодно. Алиса села рядом, на край его рубашки. Несколько секунд они сидели молча. От его голого плеча веяло жаром.
– У тебя репей в волосах, – быстрым движением он расколол заколку и стал осторожно вытаскивать липкий репейник, – не больно? Я не слишком дергаю? Слушай, у тебя в Москве есть кто-нибудь? Можешь не отвечать. Это не так уж важно. Ну вот, кажется, все… У меня в Германии есть Инга. Хочешь, я тебе о ней расскажу?
– Зачем?
– А просто так. Очень светлая блондинка. Немножко блеклая, но в этом есть своя прелесть. Я не люблю, когда она красит ресницы. Чуть выше тебя ростом и немного полней. То есть она худая, но кость у нее довольно широкая. Глаза совершенно прозрачные, иногда кажется, что они стеклянные. Особенно если Инга под кайфом. Она медсестра и таскает морфий в больнице. Но началось у нее с марихуаны. У нас все курят марихуану. Ты пробовала?
– Нет.
– Ну и правильно. Не надо. – Он обнял ее за плечи, чуть развернул к себе, отвел тяжелую русую прядь с ее лица. – Холодно тебе?
– Не очень.
– Знаешь, о чем я думаю? Все-таки надо было прикончить черномазую сволочь. Он посмел к тебе прикоснуться, он, шоколадное дерьмо, трогал тебя своими вонючими лапами. Его за это убить мало. Он слишком уж легко отделался. Сходил в медпункт, повалялся в койке пару дней, и теперь с ним все в порядке. Меня тошнит, когда я вижу, как он сидит с тобой за одним столом.
– Перестань, Карл. Он попросил у меня прощения. Он сказал, на него что-то нашло, кровь горячая, и вообще, у них на Кубе к таким вещам относятся проще.
– Вот пусть и катится на свою поганую Кубу. Ненавижу черномазых.
– Карл, это не смешно, – поморщилась Алиса.
– А по-моему, смешно. В этом идиотском лагере каждая цветная сволочь чувствует себя таким же человеком, как я, как ты… Это игра в поддавки, Алиса. Ты живешь в одной комнате с двумя желтыми крысятами, они спят на соседних койках, воняют на тебя своей жареной селедкой. А в столовой ты ешь вместе с черномазыми, и вполне закономерно, что Фидель считает, будто ему все можно. Их нельзя распускать, Алиса. Знаешь, у вас, русских, есть хорошая поговорка: посади свинью за стол, она поставит копыта тебе в тарелку.
– Посади свинью за стол, она – ноги на стол, – машинально поправила Алиса, – имеется в виду хамство. А это – понятие международное.
– Это понятие зоологическое, Алиса. У черномазых хамство в крови. Свинья благородное животное. Они хуже животных.
– Карл, перестань. Я уже говорила, для меня расизм – что-то вроде сифилиса. Стыдная, мерзкая болезнь, от которой разрушается мозг.
– Я шучу, фрейлейн, – он широко улыбнулся, – я хочу поразить вас своей оригинальностью. А вы не поражаетесь. Вы слишком серьезно относитесь к моим словам и не желаете понимать шуток.
– Расизм – это не повод для шуток.
– Расизма не будет, если все расставить по своим местам, назвать своими именами и освободиться от лицемерия. У них другой состав крови, другой генотип. Они другие. Похожи на людей, но все-таки не люди. Ты это чувствуешь, просто считаешь неприличным признаться, даже самой себе. Ну, давай по-честному, могла бы ты, к примеру, влюбиться в этого Фиделя? Или в какого-нибудь вьетнамца? Могла бы ты выйти замуж за цветного, родить от него ребенка?
– Карл, таких романов и браков навалом, у нас в институте…
– Я спрашиваю о тебе. Другие меня не интересуют.
– Ну, разумеется, в Фиделя я бы не могла влюбиться. Но не потому, что он черный, а потому, что идиот. Идиоты бывают всех цветов, Карл. И между прочим, в расиста я тоже никогда бы не влюбилась.
– Ox, не зарекайся, – он усмехнулся и прижал ее к себе чуть крепче. Знаешь, если у нас с тобой что-то получится, это будет надолго и всерьез. Я уже не отстану, – он произнес это совсем тихо, она почти не расслышала слов из-за шума ветра и града, – я не размениваюсь по мелочам. До Инги у меня были всякие случайные девицы, потом она всех разогнала. Я понял, что по своей природе моногамен. Или как это по-русски? Однолюб. Я понял это благодаря Инге. Но я устал от нее. Ты пока еще ничего не решила, я чувствую, у тебя кто-то есть в Москве. Ты очень скрытная, Алиса. Решай скорей.
– Карл, в таких вещах нельзя ничего решить. Ты как будто сделку хочешь со мной заключить.
– Ну, в общем, это немного похоже на сделку. Только серьезней. Для меня, во всяком случае, – он прикоснулся губами к ее щеке, потом щекотные усы медленно заскользили по шее, – ты мне подходишь, Алиса.
– Ты какой-то механический, – она слегка отстранилась и посмотрела ему в глаза, – иногда мне кажется, будто ты робот. И шуточки у тебя какие-то железобетонные.
Он засмеялся и мягко пригнул ее голову, прижал к груди. Его сердце билось сильно, часто.
– Я живой, Алиса. Просто ты не даешь мне расслабиться. Ну, скажи мне, роботу, что-нибудь человеческое. Скажи: «Карлуша, я тебя люблю». Погладь меня по голове, поцелуй меня, очень нежно, сначала в глаза, потом в губы.
– Карл, я тебя пока что не люблю. Я тебя почти не знаю. Ты иногда говоришь такое, что становится страшно и противно. – Она высвободилась из его рук, встала, подняла с земли свой маленький рюкзачок, вытащила сигареты.
– Никто не любит бедного Карлушу, – он вздохнул, поднялся, взял у нее из рук зажигалку, – на самом деле я хороший. И совсем не страшный.
Они закурили, опять уселись на бревна, молча смотрели, как затихает град, как светлеет небо. Вокруг весело, возбужденно щебетали птицы. Ветер успокоился. Вдали стал слышен мерный гул водопада.
Глава 19
Эйлат, январь 1998 года
– Мам, просыпайся, мы едем в Иерусалим. Алиса открыла глаза и увидела Максимку, умытого, одетого, улыбающегося.
– Который час? – Она села на кровати. – Почему ты вскочил в такую рань?
– Половина восьмого. Деннис уже приготовил завтрак. Мам, ну вставай! Ты же будешь душ принимать полчаса, потом марафет наводить, а ехать долго.
– Подожди, какой Иерусалим?
– Ну вы же вчера вечером договорились с Деннисом.
– Доброе утро, Алиса, – послышался из-за приоткрытой двери бодрый голос. Завтрак уже готов, и времени у нас действительно мало. Я уже забронировал по телефону два номера в «Холидей-инн».
Она вздрогнула и машинально натянула одеяло до подбородка.
– Доброе утро, Деннис.
Он улыбнулся в ответ и ушел к себе в номер вместе с Максимом.
Только под горячим душем Алиса окончательно проснулась. Ну что ж, все к лучшему. С Деннисом покойней и безопасней. Если ему нравится смотреть на нее влюбленными глазами, пусть смотрит. Она ясно объяснила – ничего не будет.
Через двадцать минут, одетая, причесанная, подкрашенная, совершенно спокойная, она вышла во двор. За пластиковым столом сидели Максим и Деннис. Оба с аппетитом уплетали многослойные горячие бутерброды. Максим с набитым ртом возбужденно рассказывал историю, которая за неделю до Нового года случилась в его классе и потрясла его до глубины души.
– Мы втроем, Димка Мельников, Аня Кузьмина и я, записывали на магнитофон радиорепортажи, разыгрывали в лицах всякую ерунду. Мы делали пародии на популярные передачи, на ток-шоу, сериалы, конкурсы, на рекламу, подбирали подходящую музыку, говорили разными голосами. Получалось очень смешно. У нас уже было две кассеты, все знали, что мы этим занимаемся, мы давали слушать даже некоторым учителям, и все смеялись. И вот кто-то взял наговорил на магнитофон жуткую гадость про наших учителей, про директора школы, такую похабщину, ужас! Эту кассету подкинули прямо в сумку нашей классной руководительнице, да еще завернули в записку: «Новогодние поздравления от Кузьминой, Воротынцева и Мельникова». Потом оказалось, что точно такую же кассету подбросили директору. Было настоящее следствие. Сначала, разумеется, все стали думать на нас. Маму вызвали в школу… Мам, ты расскажи, как с тобой директор разговаривал.
Теперь ребенок даже к Алисе обращался по-английски. Он буквально за два дня стал болтать так лихо, что Алиса не могла нарадоваться. Раньше он только читал, запас слов позволял ему говорить вполне свободно, но он стеснялся грамматических ошибок, не правильного произношения. А теперь шпарил не останавливаясь и сам получал от этого большое удовольствие.
Деннис умел слушать. Мало кто умеет так внимательно, с таким искренним живым интересом слушать десятилетнего ребенка, особенно чужого.
– Что сказал вам директор? – он придвинул Алисе тарелку с горячим бутербродом, чашку чая.
«Надо же, запомнил, что я не пью кофе, – вскользь отметила про себя Алиса, – даже не предлагает…»
– Спасибо, – она улыбнулась, отхлебнула крепкого горячего чая, – с директором у нас вышел сложный разговор. Он охотно верил, что Максим и его друзья не могли сделать такую гадость. Но доказывал мне, что они все-таки виноваты. Они спровоцировали, подали идею.
– Но это же глупость! – покачал головой Деннис. – Даже не надо объяснять, почему это глупость. Потом выяснили, кто это сделал?
– Нет. То есть, конечно, догадывались… Знаете, там была омерзительная, недетская похабщина, и особенно дико это звучало потому, что произносилось детскими голосами. Пытались сверять голоса, но они были изменены. Самое ужасное, что единственной причиной выходки была всего лишь зависть, пошлая, жестокая зависть. Слишком уж смешно дети пародировали ведущих ток-шоу, слишком смеялись одноклассники и учителя. И все говорили, что получается талантливо… Конечно, историю в итоге замяли. Директор провел серьезную воспитательную беседу с классом…
На стоянке перед отелем Деннис внезапно ускорил шаг, первым подошел к красному «Рено», поставил сумку на широкий каменный бордюр. Алиса заметила, каким особенным, цепким взглядом окинул он стоянку. Потом обошел машину, заглядывая в окна, и вдруг присел на корточки, стал высматривать что-то под днищем автомобиля.
– Что случилось? – спросил Максимка.
– У меня расческа упала. Все, нашел. – Он распрямился и быстрым движением убрал что-то в карман куртки.
Г. Сочи, июль 1983 года
У Алисы после трех часов безостановочного рок-н-ролла и диско гудели ноги. Голова кружилась, глаза закрывались сами собой. В ушах все еще орала группа «Бони-М». Сил хватило только на то, чтобы почистить зубы и нырнуть в койку. Она провалилась в сон и не слышала, как звякнуло окно. Потом что-то мягко, тяжело стукнуло.
Алиса вздохнула во сне, перевернулась на другой бок. Скрипнула пружинная койка, и что-то теплое, колючее скользнуло по щеке. Алиса открыла глаза, вскочила, но закричать не успела.
– Тихо, разбудишь своих крысят, – губы Карла были у ее рта и не дали крикнуть.
– Ты с ума сошел? – прошептала она, опомнившись после долгого поцелуя. Как ты сюда попал? Дверь заперта.
– Окошко открыто.
– Но ведь второй этаж…
– Дерево под окошком. Накинь что-нибудь. Надень тапочки.
– Зачем?
– Потом скажу. Давай быстрее.
Он уже нащупал тапочки под кроватью и надел ей на ноги. Соседняя койка громко заскрипела.
– Алисия, сито силутилася? – тревожно пискнул тоненький голосок.
– Ничего, Ли. Спи, – прошептала Алиса.
– Китио пилисел?
– Никто. Спи.
– Безяблазия какая, – заворчала вьетнамка Сан Ли, перевернулась на другой бок и накрылась с головой одеялом.
– Карл, что вообще происходит? – зашептала Алиса. – Который час?
– Половина третьего.
Он стянул с нее ночную рубашку, на минуту прижался щекой к ее груди, потом схватил платье, висевшее на спинке кровати.
Заскрипела койка под другой вьетнамкой.
– Давай быстрее, – прошептал он, – я потом все объясню.
На цыпочках они вышли в коридор, он прикрыл дверь. Алиса успела удивиться, что английский замок, который обычно закрывался с громким щелчком, сейчас не издал ни звука. Карл крепко держал ее за руку и тянул за собой.
– Куда мы несемся? – спросила она, когда они выбежали на ярко освещенную главную аллею.
– Сейчас увидишь. Небольшой сюрприз. Они свернули, обогнули соседний корпус и через минуту оказались у коттеджей, которые находились в глубине парка, за основными четырехэтажными корпусами.
В коттеджах жила администрация и комсомольская элита из стран соцлагеря. Алиса знала, что Карл к элите не относится и живет в соседнем корпусе, в таком же трехместном номере, как у нее, вместе с поляком и арабом из Ливана.
Карл достал ключ из кармана, открыл дверь коттеджа, буквально втолкнул Алису внутрь, тут же захлопнул дверь. Было совершенно темно, и в первый момент Алисе показалось, что она ослепла. Не давая ей опомниться, он легко подхватил ее на руки.
– Карл, ты все-таки сумасшедший, – быстро прошептала она, на секунду отрываясь от его губ.
– Скажи: «Карлуша, я тебя люблю…»
Платье упало на ковер у широкой комсомольской кровати.
– Где ты взял ключ от коттеджа? Нас выгонят из лагеря… Пусти меня сейчас же…
– Я взятку дал директору. Это теперь мой номер. Я тебя никуда не пущу. Теперь уже никуда. Ну, скажи: «Карлуша, я тебя люблю».
– Я тебя ненавижу… ты расист, террорист, бандит с большой дороги…
– Я предупреждал: не зарекайся.
– Что значит – не зарекайся?
– Ты влюбилась в расиста.
– Ничего я в тебя не влюбилась. Ты все выдумал. Так нельзя…
– Потом поговорим, обсудим, что можно, что нельзя. Ну обними же меня, поцелуй бедного Карлушу, вот так… а говоришь, не любишь! Очень даже… никуда не денешься теперь, никому н отдам…
– Карл, а как же Инга?
– Алиса, нет никакой Инги. Ты чувствуешь, никого нет, только мы с тобой, майне либе, майне кляйне, их либе дих, Алиса…
Иерусалим, январь 1998 года
Машину вели по очереди. Патрули, военные и полицейские, были расставлены через каждые двадцать километров. Вежливые мальчики с автоматами заглядывали в окошко, спрашивали, куда они направляются, улыбались и желали счастливого пути.
Вдоль окон плыла мрачная, каменистая пустыня, иногда попадались поселения бедуинов. Подобия палаток, собранных из фанерных ящиков, развевающееся под ветром тряпье, женщины, похожие на призраков в своих длинных одеждах, печальные голенастые верблюды с ковровыми седлами на мягких горбах.
Максимка незаметно уснул на заднем сиденье. Алиса и Деннис почти не разговаривали. Надо было постоянно следить за дорогой, сверяться с картой.
В Иерусалим они попали только ввечеру. Деннис быстро нашел гостиницу «Холидей-инн».
– Сколько стоит номер? – спросила Алиса, когда они заполняли анкеты за столиком в холле.
– Нисколько, – улыбнулся он, – я уже оплатил оба номера, мне как сотруднику корпорации положены огромные скидки. Для меня это почти бесплатно.
– Тогда я угощаю вас ужином, – улыбнулась в ответ Алиса.
– Хорошо, – кивнул он.
Они оставили машину на стоянке перед гостиницей и отправились пешком в старый город. Было холодно. Огромные толпы туристов медленно сочились по узким кривым улочкам. Группа английских баптистов совершала крестный ход к храму Гроба Господня. Мускулистый молодой человек в строгом черном костюме нес на плече огромный крест, вслед за ним семенили старички и старушки. Процессия останавливалась через каждые десять метров, чтобы спеть пару псалмов, и приходилось стоять, ждать. Обойти их было невозможно.
– Так мы будем идти до завтра, – сказал Деннис, – если мы хотим попасть в храм Гроба Господня до закрытия, надо свернуть и найти другую дорогу.
– А если заблудимся, попадем в арабский квартал? – засомневалась Алиса.
– Мам, перестань. Здесь везде полиция. Мало ли что тебе рассказывали! Ничего с нами не случится, – решительно заявил Максимка.
Они нырнули в какую-то глухую подворотню, потом еще куда-то сворачивали, останавливались, сверялись с планом города, несколько раз спрашивали дорогу у полицейских, те объясняли: сначала прямо, потом направо и сразу налево через несколько метров, а потом еще раз налево…
Стало темнеть. Они поняли, что сегодня уже никуда не попадут. Надо просто выбраться из этого лабиринта, а завтра встать пораньше и опять отправиться в старый город.
Они огляделись, чтобы спросить, как пройти к Яффским воротам, но обнаружили, что вокруг совсем другая толпа, мрачная, грязная, и ни одного туриста, ни одного полицейского. Глухой неприятный арабский квартал. Они ускорили шаг, чтобы поскорей выбраться.
Улочка примерно в метр шириной вся состояла из арабских лавок. Приходилось все время смотреть под ноги. Глиняная и медная посуда стояла прямо на булыжнике, тут же были навалены горы платков, ковров, громоздились вешалки с одеждой, лотки с фруктами, орехами, пряностями, липкими жирными сладостями, что-то жарилось, кипело, отовсюду звучала монотонная мусульманская музыка, группки мрачных усатых мужчин стояли у крошечных грязных кофеен, женщины в длинных робах, в черных платках, прикрывающих лица, скользили мимо, не поднимая глаз. Чумазые детишки всех возрастов носились сквозь толпу с воплями, сшибая все на своем пути.
Мальчик лет четырех потянул Алису за рукав и, глядя жалобными черными глазами, полными слез, заканючил на ломаном английском:
– Шекель, плиз, ай хангри, плиз!
– Ни в коем случае! – крикнул Деннис.
Но Максимка уже протягивал малышу шекель. Тот выхватил монету и убежал. Моментально подлетели еще трое, им было лет по семь, они заорали хором, стали дергать за одежду, один вцепился в Алисину сумку, другой ухватил Максима за куртку.
– Шекель! Гив шекель!
Деннис оттолкнул арабчат, схватил за руки Максима и Алису и рванул вперед. Им вслед неслись крики, улюлюканье, смех. И вдруг что-то больно ударило Алису в спину. Боль чувствовалась даже сквозь теплую кожаную куртку и толстый свитер.
– Пригнитесь! – крикнул Деннис. – Быстрее! Не оглядывайтесь!
Бежать по кривой, заставленной горшками, лотками и вешалками улочке было трудно. Почти совсем стемнело. Сзади слышался мерный топот и уже не только детские, но и взрослые мужские голоса. Судя по крикам, за ними бежало не меньше десяти человек.
Алиса все-таки оглянулась. Их догоняла целая толпа подростков, еще один камень ударил в спину. Они свернули за угол и оказались на точно такой же улице. Ни одного полицейского, никаких туристов. И почти полная темнота. Здесь почему-то не было электричества. Слабо мерцали огоньки свечей и керосинок за окнами лавчонок, ярко, холодно светил месяц. Крики и топот приближались.
– Мамочка, я боюсь, – крикнул Максим, – мама…
Кто-то схватил Алису за шиворот, у нее стали выдирать сумку, пытались стянуть куртку, она почти ничего не видела в темноте.
– Максим, где ты? – она старалась перекричать множество голосов.
Толпа окружила их, превратилась в орущее многорукое чудовище, и нельзя было понять, где Максим, где Деннис. Сумку с деньгами и документами давно вырвали из рук, кто-то пытался разодрать «молнию» куртки. Алиса понимала, что ее бьют, но боли не чувствовала. Она продолжала кричать, звать Максима, закрывая лицо от ударов.
Вдруг совсем рядом кто-то страшно завизжал, потом – глухой удар о булыжник. Опять визг и удар. Алиса наткнулась ногой на что-то мягкое. Потом почувствовала, что ее перестали бить.
– Мама, я здесь!
Она кинулась на Максимкин крик, споткнулась, упала, но не на булыжник, а на человека, который, скорчившись, лежал у ее ног, тут же вскочила, разглядела в темноте силуэт сына.
– Где больно? Говори, где больно?! – Она стала быстро ощупывать его лицо, плечи, заметила, что он стоит, вжавшись в стену.
– Нигде не больно. Одевайся! – Он держал в руках ее куртку и сумку.
Не успев удивиться, она стала машинально засовывать руки в рукава куртки. В двух шагах от них быстро дергались, извивались четыре мужских силуэта. Слышались страшные глухие удары. Один упал, трое продолжали драться. Мелькал светлый свитер Денниса, в какой-то момент он оказался на земле, но тут же поднялся.
Совсем близко раздались крики, топот. Еще одна толпа, человек десять, выскочила из-за угла и подкатывала по узкой улице все ближе, словно жуткая черная волна, которая все сейчас сметет на своем пути. Алиса обхватила Максимку, закрыла его собой, они оба стояли, вжавшись в стену, и понимали, что кричать, звать на помощь бесполезно.
И вдруг грянул выстрел. На мгновение повисла мертвая тишина, потом опять крики и топот. Алиса крепко зажмурилась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она открыла глаза. Яркий свет фонарика ударил в лицо. Алиса сначала ослепла, а потом поняла, что перед ней стоит израильский полицейский.
– Что происходит? Кто стрелял? – спрашивал он по-английски. – Леди, с вами все в порядке? Вы меня слышите?
Полицейских было всего четверо, но толпа исчезла, растворилась в темноте.
– На нас напали, – ответила она, едва шевеля губами.
– Зачем вы ходите в такое время по арабским кварталам?
– Мы заблудились.
Алиса заметила, что никто уже не лежит на земле.
Значит, успели встать и убежать? Но упало не меньше трех человек. Они что, стали колотить друг друга?
В луче фонарика она увидела Денниса. Он разговаривал с другим полицейским.
– Я не знаю, кто стрелял. Нас пытались ограбить. Вероятно, у кого-то было оружие, – говорил он спокойно.
– Вам нужна медицинская помощь?
– Нет, спасибо.
– Вы хотите пройти в участок и написать заявление? У вас пропали деньги, документы?
– Нет, – уверенно ответил Деннис, – все в порядке.
Полицейские проводили их до выхода из старого города, который оказался совсем близко, через несколько улиц. Никаких вопросов им больше не задавали.
Когда они сели в такси, у Максимки началась истерика. Он дрожал, захлебывался слезами и повторял:
– Я только дал монетку… Он был такой маленький, такой несчастный… Я только дал ему монетку… – Все кончилось, малыш, не надо, успокойся, – шептала Алиса и гладила его по голове.
– А мы все-таки поужинаем сегодня в ресторане, – подал голос Деннис с переднего сиденья, – я голодный как волк.
– Как вы себя чувствуете? – спросила Алиса.
– Нормально. А вы?
– Вроде ничего.
– Деннис, почему вы не сказали, что знаете всякие восточные единоборства? – всхлипнув, спросил Максим.
– Какие единоборства? Я разве похож на Брюса Ли?
– Нет. Но вы их так лихо раскидали, даже успели отнять мамину сумку и куртку.
– Без куртки твоя мама замерзла бы и простудилась. А в сумке у нее документы и деньги. – Деннис обернулся, протянул руку, легонько взъерошил Максимке волосы. – Ты отлично держался. Кончай плакать.
В ярко освещенном холле гостиницы Алиса внимательно рассмотрела лицо сына. Он был очень бледный, глаза красные от слез, но никаких ссадин, только небольшая царапина на щеке. У Денниса она заметила кровоподтек на скуле. Увидев собственное отражение в зеркале, слегка отшатнулась. Нет, ссадин не оказалось, но лицо было каким-то чужим, бледным до синевы, волосы свисали спутанными прядями, в глазах застыл панический ужас, губы стали белыми и дрожали.
– Деннис, вы очень хотите в ресторан? – спросила она в лифте.
– Я хочу в ресторан! – заявил Максим. – Мы в последний раз ели на бензоколонке по дороге, это было сто лет назад. У меня в животе бурчит.
– Да, нам всем надо поужинать, – энергично кивнул Деннис, – я; например, ни за что не усну натощак.
Через полчаса они сидели в шумном мексиканском ресторане через квартал от гостиницы. Там готовили не только кошерную еду, и можно было заказать хороший кусок жареной свинины с острыми разноцветными соусами.
Максимка жмурился от удовольствия, уплетая сочное мясо, пахнущее живым дымком, шафраном и тмином, хрустел жареной картошкой, прихлебывал томатный сок, облизывался, как котенок. Щеки у него раскраснелись, а глаза уже начали слипаться.
Он быстро оправился после шока, ему хотелось есть и спать. Он все еще был возбужден, но уже не столько пережитым страхом, сколько подвигами Ден-ниса, который на его глазах буквально раскидал озверевшую толпу арабских подростков.
– Ох, как же вы дрались! Я такое только в кино видел! – говорил он с набитым ртом. – Вы мне покажете пару приемов?
– Что ты мог видеть в темноте? – пожал плечами
Деннис и отправил в рот кусок перченого мяса. – Я просто здорово разозлился, отбивался наугад, размахивал руками и ногами. Вряд ли это было похоже на кино. Конечно, кое-какие приемы рукопашного боя я знаю. Я увлекался карате и боксом, когда учился в университете. Но это было всего лишь хобби, разрядка после занятий.
– Нет, – покачал головой Максим, – вы дрались профессионально.
– Спасибо, – засмеялся Деннис.
Алиса почти не прислушивалась к разговору. Она смотрела на сына и думала, что одно из самых больших удовольствий – видеть, с каким аппетитом твой ребенок ест, как ему вкусно, как у него розовеют щеки.
Если бы года три назад ей сказали, что она сможет так запросто – ну, почти запросто – поехать с Максимкой зимой за границу, на море, кормить его в дорогом ресторане, покупать ему хорошие кроссовки, джинсы, легкие теплые куртки и сколько угодно фруктов… Если бы кто-нибудь пообещал ей такое счастье всего лишь три года назад, она бы решила, что над ней издеваются…
– Мам, ты мне мороженое возьмешь? Мимо их стола проплыл поднос, на котором возвышалось причудливое сооружение из разноцветного мороженого и фруктов, увенчанное шапкой взбитых сливок в россыпи тертого шоколада.
– А влезет? – с сомнением спросила Алиса. – У тебя там место еще осталось?
– На мороженое у меня всегда остается место.
«Неужели он тоже помнит, как просил сладенького, а я ничего не могла ему предложить, кроме куска хлеба, намазанного маргарином и посыпанного сахаром? подумала Алиса, подзывая официанта, чтобы заказать мороженое. – Нет, мы не голодали. Но все время были на грани. Я не могла найти постоянную приличную работу, каждая копейка была на счету. Стограммовую шоколадку я растягивала на несколько дней, долька утром, долька перед сном. Картошка с луком, но вареная, а не жареная. Меньше масла уходит. Гречка, геркулес… Конечно, мы не голодали…»
– Сколько шариков мороженого вам положить? Есть киви, ананас, персик… Вам сливки посыпать шоколадом или толчеными орехами?
– Два шарика, киви и персик. А сверху орехи, – ответил Максим официанту после долгих серьезных раздумий.
"Нет, он уже не помнит. Просто ребенок любит покушать. Получает удовольствие от еды. Мы же с ним не блокаду пережили, в самом деле! Ну иногда сидели на одной картошке и макаронах. Многие так живут. Я бы вообще не думала об этом, но первые семь лет жизни Максимке все время хотелось кушать. А я не могла его накормить вкусно, от пуза, хотя бы раз в неделю, не картошкой и макаронами, а хорошим мясом, курочкой, фруктами. Только когда был грудной, он наедался. Слава богу, молока у меня хватало… Да что я, в самом деле? Нас чуть не убили всего пару часов назад, а я вспоминаю эту несчастную картошку с макаронами и не могу просто радоваться, что все хорошо… Не могу. Потому что где-то в подсознании застряла занозой совершенно идиотская, абсурдная мыслишка: а вдруг то, что произошло в арабском квартале, как-то связано с Карлом? Вдруг он выследил нас, и это была не просто случайная попытка ограбления, а первая его атака? Правда, абсурд… Зачем ему это? Он тесно связан с исламистами, с какими-то очень страшными арабскими группировками. Я читала в газете… Ну и что? Разве нас с Максимкой это касается? Мы живем себе тихо, у нас свои проблемы, свои радости.
Я не знаю никакого Карла Майнхоффа".
Глава 20
Москва, сентябрь 1983 года
– Воротынцева, к проректору.
Завуч по воспитательной работе Галина Владимировна стояла в дверях аудитории, чуть склонив голову в пышных пергидрольных кудрях, уперев руки в широкие, обтянутые черной трикотажной юбкой бока. Взгляд ее не предвещал ничего хорошего.
– В чем дело, Галина Владимировна? – раздраженно спросил профессор искусствоведения, пожилой, маленький, как подросток, с аккуратной угольно-черной бородкой. – Неужели нельзя было подождать до конца лекции?
– Простите, Иван Геннадьевич, нельзя. Мне сказали, срочно. Воротынцева, давай быстрей, не копайся.
Аудитория молчала, провожая Алису сочувственными и любопытными взглядами.
– Что случилось? – тихо спросила она в пустом коридоре.
– Не знаю, не знаю, – завуч покачала головой и поджала губы.
– Галина Владимировна, ну пожалуйста, вы ведь знаете.
Они спускались по лестнице на третий этаж. Маленькая, круглая Галина шла впереди, нервно цокала высоченными каблуками. Вдруг остановилась и, развернувшись всем корпусом к Алисе, Произнесла страшным шепотом:
– Телега на тебя пришла.
– Какая телега? Откуда?
– Ну ты дурочку-то не валяй, – Галина прищурилась, – у тебя что, совсем мозги съехали?
– О чем вы? Я не понимаю…
– Как к иностранцу ночами в номер бегать – это она понимает, – быстро, одними губами пробормотала Галина. – Как кубинца до полусмерти избить – это она понимает. О господи, и откуда у тебя столько сил? В чем душа держится? Ты боксом, что ли, занимаешься? – Галина развернулась и быстро зацокала дальше вниз по лестнице.
– Каким боксом? Вы что… – прошептала ей в затылок Алиса.
– Моли бога, чтобы из института не вылететь. Это ж «Спутник», международный лагерь, там стукач на стукаче… Тьфу, никаких нервов на вас не хватит. И не вздумай… – она запнулась и сделала страшные глаза.
Они уже подошли к кабинету. В маленьком темном предбаннике между дверьми, обитыми мягким дерматином, Алиса зажмурилась на секунду. Что за бред? Оказывается, она до полусмерти избила Фиделя… Смех, да и только. Ну какой идиот это выдумал?
Она тряхнула волосами, прогоняя панический детский страх. Она не школьница. Ей двадцать лет. Они не имеют права лезть в ее личную жизнь.
– Заходи, заходи, Воротынцева.
Проректор был солидным, седовласым, с полным гладким лицом. Маленькие зеленоватые глаза глядели на Алису чуть исподлобья. Посверкивали очки в тонкой серебряной оправе, холеные пальцы вертели ручку «Паркер». Проректор слыл демократом, запросто общался со студентами, знал поименно почти всех старшекурсников.
Алиса стояла на ковре посреди просторного кабинета. У нее за спиной маячила кругленькая, испуганная Галина Владимировна. В глубине, в огромном кожаном кресле у журнального столика, сидел еще один человек. Алиса никогда прежде не видела его, а если бы и видела – ни за что не запомнила. Не человек, а серое, расплывчатое пятно. Костюм стального цвета, редкие бесцветные прилизанные волосы. Никакое лицо. Совсем никакое. Только в тусклых маленьких глазках было нечто необычное. Взгляд ледяной и пристальный. Когда на тебя так смотрят, через минуту начинают ныть зубы.
В кабинете повисла тишина. Чтобы немного успокоиться, Алиса стала разглядывать сувениры на полке стенного шкафа. Новенькая строительная каска. Сахарная голова – конус, обклеенный яркой бумагой с надписью «Бабаевский сахарорафинадный завод». Огромный окаменевший каравай, обвитый вышитым полотенцем с витиеватыми буквами «Хай живе…». Бронзовый бюстик Ленина. Чуть запыленный макет Московского Дворца молодежи.
Пауза затянулась. Никто не предлагал сесть ни Алисе, ни завучу. Наконец Галина Владимировна не выдержала и равнодушным голосом спросила:
– Александр Иванович, мне уйти или остаться?
– Идите, – проректор едва заметно кивнул. Когда мягкая дверь за Галиной закрылась, Алисе стало совсем уж зябко и одиноко.
– Ну что, Воротынцева, – с тяжелым вздохом произнес проректор, – что скажешь?
– О чем именно, Александр Иванович? – услышала Алиса свой бодрый голос.
– О чем? О твоем моральном облике, комсомолка Воротынцева. Тебе как лауреату конкурса было оказано высокое доверие. Ты получила путевку в международный лагерь, где отдыхает молодежь не только из социалистических стран, но и из стран капитализма. Ты представляла там не только наш институт, но и весь московский комсомол.
«Он совсем сбрендил, – с тоской подумала Алиса, – он никогда раньше так не разговаривал».
– Твою кандидатуру утверждал комитет комсомола института. Отличница, дисциплинированная, способная девушка. Ты опозорила всех, Воротынцева. И своих товарищей, и свой институт. – Он сделал небольшую паузу, набрал полную грудь воздуха и громко произнес:
– И свою страну!
– Чем? – тихо спросила Алиса. – Чем я опозорила свою страну?
– Ну не надо мне здесь изображать невинность, не надо! Какой позор, – он выразительно покачал головой, – пятно на весь институт!
«Он играет, – думала Алиса. – Он произносит заранее придуманный и заученный текст. Вполне добросовестно, но без вдохновения, даже с некоторой брезгливостью. Интересно, в чем же дело? Ведь не передо мной он так выпендривается…»
Серый человек в углу не произносил ни слова и не спускал с нее глаз. Алисе было противно оттого, что она до дрожи в коленках боится этого серого, но куда противней было наблюдать, как боится его солидный, важный пожилой проректор.
– Ну, что ты молчишь? – Александр Иванович вздохнул, перевел дух. – Скажи что-нибудь. Не стой, как соляной столб.
– Александр Иванович, – проговорила она медленно, спокойно и опять не узнала собственного голоса, – я стою как столб потому, что вы не предлагаете мне сесть.
– Садись, – буркнул проректор, дернув головой.
– Спасибо.
Алиса села и уставилась на серого. Пусть видит, что она его не боится.
– Сигнал о твоем безобразном поведении, Воротынцева, поступил даже не в институт, а в райком партии. Это значит, что я обязан принять самые решительные меры и отчитаться перед бюро райкома. Мне придется поставить вопрос перед комитетом комсомола и перед партбюро о твоем пребывании в институте и в комсомоле. Ты хоть понимаешь, что это значит? Четвертый курс, отличница… Так и будешь молчать? Давай выкладывай, как было дело.
Теперь его голос звучал почти тепло, даже сочувственно.
– Я не знаю, Александр Иванович, что мне говорить. В чем конкретно меня обвиняют?
– В аморальном поведении! В том, что ты ночевала в номере гражданина ГДР, аспиранта Института международных отношений! – теперь проректор почему-то закричал, да так, что даже покраснел от натуги. – Ну? Было такое? Отвечай!
– Было, – спокойно кивнула Алиса, – но мне кажется, это касается только меня и гражданина ГДР. А больше никого.
– Нет, милая моя! Ты ошибаешься! Это касается всех! И вообще, что за тон? Ты охолонись, охолонись, Воротынцева. Мы здесь не в бирюльки играем. Мало того, что ты в открытую спала с иностранцем, ты еще, – он смущенно откашлялся, – ты устроила безобразную драку с другим иностранцем, с гражданином Республики Куба, и нанесла ему тяжкие телесные повреждения.
Проректор перевел дух, откинулся на спинку вертящегося кресла. Алисе даже стало его жалко. Стыдно ему было, бедному, особенно стыдно произносить второе, ну совсем уж абсурдное обвинение.
– Александр Иванович, я не умею драться. Я никому не наносила тяжких телесных повреждений.
– Врач в медпункте подтвердил, что кубинского студента избили, – устало сообщил проректор, – и, по словам кубинца, это сделала ты, Алиса. Ты можешь внятно отвечать на вопросы?
– Могу.
– Какие отношения были у тебя с гражданином ГДР Карлом Майнхоффом?
– Ну, если я ночевала в его номере, то, вероятно, самые нежные, – сквозь зубы произнесла Алиса.
– Та-ак. Значит, ты не отрицаешь… Ну а кубинец?
«Что-то здесь не то. Мы ведь говорили потом с Фиделем, он попросил прощения и умолял, чтобы я никому не рассказывала. Я обещала. Что-то не то. Ни один нормальный мужчина не станет жаловаться, что его избила женщина. Фидель, конечно, не совсем нормальный, но не мог он… Это похоже на провокацию, грубую наглую провокацию».
– О каком кубинце вы говорите, Александр Иванович? Как его имя? В лагере было мнoгo студентов с Кубы.
Проректор стал нервно перебирать бумаги на столе, нашел какой-то листочек, пробежал его глазами.
– Фидель Диего Луис Кольвадорес, – прочитал он медленно, с листа, студент Харьковского сельскохозяйственного института.
– Фидель был моим соседом по столу. С ним, действительно случилась неприятность. К пляжу надо было спускаться по крутой каменистой тропинке. Он поскользнулся и упал на камни. Он правда здорово расшибся.
По лицу проректора стало видно, как он устал.
В коридоре задребезжал звонок. Кончилась лекция.
– Ладно, Воротынцева, – он покосился на серого, но тот так и сидел с непроницаемой физиономией, – перенесем разговор на среду. К четырем часам ты должна явиться на партбюро.
Алиса шла из института, не чувствуя ничего, кроме смертельной усталости и головной боли. Она решила, что в среду, перед тем как идти на это чертово партбюро, надо наглотаться каких-нибудь успокоительных таблеток, оглохнуть, отупеть и не слушать всей пакости, которую на нее станут выливать взрослые, разумные и, в общем, не злые люди. Ей предстоят еще две публичные порки, и надо как-то выдержать.
Она не собиралась продумывать линию поведения. Какая тут может быть линия? Каяться публично, мол, простите, дяденьки-тетеньки, я плохая девочка, больше не буду? Или оправдываться, доказывать им то, что они сами прекрасно понимают?
Алиса шла очень медленно, уставившись себе под ноги, и не замечала, что по тихому переулку в нескольких метрах от нее медленно едет черная «Волга». Переулок уперся в широкий шумный проспект. «Волга» притормозила, преграждая ей путь.
– Алиса Юрьевна, сядьте, пожалуйста, в машину. Серый молчун смотрел на нее своими тусклыми глазами и держал открытой заднюю дверцу. Впереди был тупой затылок безмолвного шофера. Ей захотелось рвануть вперед, через проспект, заорать «Помогите!», но она застыла как вкопанная.
– Мне надо с вами поговорить, Алиса Юрьевна. Садитесь.
– Зачем? – Она попятилась назад, чувствуя жуткую, тошнотворную слабость.
Дрожали коленки, кружилась голова. Одно дело – читать самиздат, слушать Галича, браво рассказывать анекдоты про КГБ в институтской курилке, и совсем другое, когда возле тебя останавливается черная «Волга».
– Чего вы так испугались? Мы просто подвезем вас домой и побеседуем по дороге.
Серый говорил вполне миролюбиво, правда, это плохо у него получалось. С таким лицом, с такими глазами хоть романсы пой, все равно останешься чудовищем.
«Будь что будет, – подумала Алиса, – если уж они взялись за меня, теперь не отвяжутся. Ведь не в застенки Лубянки меня повезут…»
– Вы представьтесь хотя бы, – бодро сказала она, – удостоверение покажите!
– Пожалуйста, – он сунул ей в лицо красную книжечку.
«Комитет государственной безопасности. Харитонов Валерий Павлович… Майор…» – прочитала Алиса.
– Алиса Юрьевна, вам был неприятен сегодняшний разговор у проректора? тихо спросил Харитонов, когда «Волга» тронулась.
– А вам он понравился? – Она вытащила из сумки сигареты и закурила, пытаясь унять нервную дрожь.
– Вы, надеюсь, понимаете, что разговор на партбюро будет еще неприятней, продолжал Харитонов, проигнорировав ее реплику, – а потом комитет комсомола. А дальше – отчисление из института. Вы хотите этого?
– Мечтаю! – фыркнула Алиса.
– Не надо иронизировать. Вы этого не хотите и боитесь. Но все зависит от вас.
– Ничего от меня не зависит. Ничего. Если вы добиваетесь, чтобы я стучала, так лучше сразу остановите машину. Пусть меня вышибут из института. Разумеется, я боюсь этого, но не настолько, чтобы стучать. Вы не по адресу обратились, товарищ майор. Или мне следует называть вас «гражданин начальник»?
– Перестаньте, – поморщился Харитонов, – охотно верю, что вы девушка мужественная, справитесь, переживете все грядущие неприятности. И будете чувствовать себя героиней. Это вас утешит отчасти, на некоторое время. В конце концов, высшее образование не главное, в нашей стране безработицы нет.
– Простите, можно короче? Я вам сказала, стучать не буду. Ничего подписывать не буду.
– Не надо меня торопить, Алиса Юрьевна. Я прежде всего хочу, чтобы вы ясно представляли ситуацию.
– Какую ситуацию? Да, я спала с иностранцем. Ну и что? В Москве и во всех больших городах полно иностранцев. А люди, как известно, делятся на мужчин и женщин, независимо от гражданства и национальности. Между мужчинами и женщинами иногда случается, что они спят друг с другом. Ни в одном уголовном законодательстве не сказано, что интимные отношения с гражданином другой страны преследуются по закону.
– А кто вам сказал, что вы подвергаетесь уголовному преследованию? Вас пока только судит общественность, речь идет о вашем моральном облике. Хотя у нас есть возможность привлечь вас и к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. Кубинский студент был жестоко избит, он вовсе не поскользнулся. Имеются свидетели, есть его показания.
– Ну вы же взрослый человек! – усмехнулась Алиса. – Это смешно. Он выше меня на голову и тяжелее в два раза.
– Такая хрупкая девушка, как вы, может быть очень сильной. Допустим, вы его не били. Тогда кто?
– О господи! Да никто его не бил.
– Алиса Юрьевна, – он тяжело вздохнул и тоже закурил, – вы любите своего отца?
– При чем здесь мой отец?
– Он болен и вряд ли выдержит судебный процесс, а тем более – зону. Пожилой, спившийся человек, больное сердце…
– Какой процесс?! Какая зона?
– Тише, не надо так кричать, – поморщился майор, – против вашего отца может быть возбуждено уголовное дело. Он оперировал в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности здоровье и жизнь своих пациентов. Больные умирали у него на столе либо после неудачных операций.
– Не все зависит от хирурга. Даже у самых лучших, у самых опытных случаются неудачи, есть безнадежные больные. Отец никогда не оперировал пьяным.
– При желании можно доказать обратное.
– Он никогда не оперировал пьяным! Никогда!
– Не нервничайте так, Алиса Юрьевна. У вас руки дрожат и пепел падает. Мне нужно, чтобы вы подробно рассказали, каков характер ваших отношений с гражданином ГДР Карлом Майнхоффом.
– Я уже ответила на этот вопрос в кабинете проректора.
– Я хочу услышать более подробный ответ.
– Не лучше ли просто посмотреть порнуху? У вас ведь наверняка есть видюшники в департаменте.
Повисла пауза. Серый глядел ей в глаза не моргая. Она выдержала взгляд, хотя сердце при этом колотилось как сумасшедшее. Она отлично понимала, что играет с огнем.
– Не надо мне хамить, Алиса Юрьевна, – процедил он сквозь зубы, – я имею в виду не интимные подробности вашей связи. Меня интересует, сколько раз вы встречались с Майнхоффом в Москве, после возвращения из лагеря, о чем разговаривали, знакомил ли он вас с какими-либо людьми. Вот это меня интересует.
– Мы расстались, – быстро проговорила она, – мы не встречались в Москве, и ни с кем он меня не знакомил.
– Не правда, – он улыбнулся, вернее, слегка дернул краешками губ, – вы продолжаете встречаться.
Из новенького кейса он извлек плотный конверт, вытащил небольшую стопку черно-белых фотографий и протянул Алисе. Она взглянула на ту, которая лежала сверху, и ее затошнило. Там были засняты они с Карлом в постели, в его комнате, в общежитии аспирантов МГИМО. Снимок получился четкий. Она брезгливо бросила пачку на сиденье. Фотографии разлетелись веером.
– Нет, вы уж полюбуйтесь, Алиса Юревна. Здесь не только то, что вы называете порнографией. Есть и вполне пристойные кадры. Вот, например, вы с Майнхоффом в ресторане «Пекин». Кто здесь с вами за столиком? Кто эти двое?
– Я не знаю.
– Допустим, – кивнул серый, – давайте смотреть дальше. Вот вы гуляете в парке Сокольники. Это было совсем недавно, в прошлую субботу. С кем вы там встречались? О чем он разговаривал с этим человеком? Тоже не знаете?
– Понятия не имею!
Серый держал снимок у нее перед носом. Они с Карлом сидят на лавочке. Рядом – небритый носатый кавказец. Она не прислушивалась к разговору. Даже на снимке видно, что она сидит отвернувшись, курит. А они беседуют, наклонившись друг к другу. Тот разговор длился не больше пяти минут.
– Послушайте, если вы могли все это заснять, то и разговоры могли записать на пленку, – сказала она чуть слышно, – и личности этих людей можете запросто выяснить через свои каналы. Зачем вам я?
– Хороший вопрос, – серый одобрительно кивнул, – я не сомневаюсь, мы с вами найдем общий язык. Отца своего вы очень любите. И маму, кстати, тоже, хотя предпочли жить с отцом после развода родителей. Ваша мама – отличный специалист, доктор наук. Она часто бывает за границей. Представьте, как нехорошо получится, если всеми уважаемый доктор Ирина Павловна Воротынцева будет задержана на таможне и в ее личных вещах обнаружатся, к примеру, наркотики. У вас нет выбора, Алиса Юрьевна. И вы напрасно хитрите со мной. Кубинца избил Майнхофф у вас на глазах. Парень пытался вас изнасиловать. Впредь вы будете говорить только правду о вашем благородном друге. Только правду.
– А почему вас так интересует мой благородный друг? Он что, шпион? С каких это пор к нам стали засылать шпионов из дружественной ГДР?
– Вот это уже не твое дело!
Хоть что-то человеческое мелькнуло в глазах серого: злость. Пусть не лучшая, но все-таки живая эмоция.
– А если мы расстанемся? Все ваши усилия не имеют смысла. Мы можем расстаться в любой момент.
Серый вдруг положил руку ей на плечо и произнес тихо, задушевно:
– Не думаю. Он тебя так любит, Алиса…
Дома в почтовом ящике она обнаружила повестку. Ее отца вызывали в прокуратуру. Он тут же напился до сердечного приступа, даже не пытаясь понять, зачем и почему его вызывают.
Поздно вечером зашла мама, сделала папе укол, потом они сидели на кухне, пили чай, и мама сказала, что ее поездка во Францию почему-то сорвалась.
– Я знаю, чьи это козни. Это Ларычев мне строит. Он пытался запороть мою диссертацию. Он доведет меня когда-нибудь до инфаркта. Он метит на завкафедрой и все сметет на своем пути, меня и первую очередь. Если я не выступлю с докладом в Париже… А что такое с твоим отцом? Почему его в прокуратуру вдруг вызывают?
– Не знаю…
В среду утром Алиса позвонила по телефону, который ей дал Харитонов, и сказала:
– Оставьте моих родителей в покое. Я согласна.
Теперь ей не надо было являться на партбюро.
Отцу позвонили из прокуратуры, вежливо извинились, объяснили, что произошла ошибка. Его однофамилец проходил свидетелем по делу о какой-то краже. Никуда ему являться не надо.
Ирину Павловну выпустили во Францию. В субботу она встретилась с Карлом, они поехали в Серебряный Бор, и там, в глубине огромного парка, она рассказала ему все, от начала до конца, почти дословно передала разговор с майором Харитоновым и текст документа, который ей дали подписать.
– Мы больше никогда не увидимся, Карл.
– Ты меня больше не любишь, Алиса?
– При чем здесь это? Ты что, не понял? Я должна на тебя стучать. Меня завербовало КГБ.
– А я тебя перевербую, – он засмеялся, – мы будем встречаться, и ты им станешь рассказывать то, что я тебе скажу. Мы им такие наплетем сказки, что мало не покажется.
– Карл, это КГБ. Ты хотя бы понижаешь, насколько это серьезно? Скажи, что ты натворил? Почему они так тобой интересуются?
– Я взорвал Кремль. Слушай, а что, твой отец правда оперировал пьяный?
– Когда он стал пить всерьез, перестал оперировать.
– А ты заметила, когда смотрела эти фотографии, как мне с тобой хорошо?
– Совсем спятил?
– Это не праздный вопрос. Обычно ты закрываешь глаза и не видишь моего лица.
– Прекрати…
– Скажи: «Карлуша, я тебя люблю!» Ты, кстати, еще ни разу этого не сказала.
– Что ты натворил, Карл? Я должна знать.
– Ты запомнила номер той черной «Волги»?
– Зачем?
– Запомнила или нет?
– 1123МК.
– А как фамилия этого серого придурка?
– Харитонов Валерий Павлович, майор госбезопасности. Зачем тебе?
– Жаловаться буду в ООН и в Международную лигу по защите прав человека.
Был теплый солнечный день, разгар бабьего лета Ни души вокруг. Мягкая чистая трава. Над головой покачивались высокие верхушки сосен, пронизанные солнцем. Алиса не могла избавиться от ощущения, что сейчас, вот сию минуту, их с Карлом кто-то снимает из густого кустарника. Ей даже чудились еле слышные щелчки. Но потом она перестала думать об этом. Правда, ненадолго, всего на несколько бесконечных минут.
Глава 21
Авангард Цитрус очнулся от собственного жалобного стона и не сразу понял, где находится. Его тошнило, знобило, рубашка была влажной от пота. А главное, было почему-то ужасно страшно. Он заморгал, стал тереть глаза, наконец приподнял голову, огляделся и немного успокоился.
В зыбком свете зимних сумерек он разглядел, что в комнате относительный порядок, только пепельница с окурками на журнальном столе. Он один у себя дома, в полной безопасности. Никого нет.
Он вдруг с тоской осознал, что страшно ему именно поэтому: никого нет. Он никому на свете не нужен. Ему пятьдесят, и впереди бездна одиночества, влажная чернота могильной ямы. Какая гадость…
Цитрус с кряхтением спустил ноги на пол, прошел на кухню, зажег свет. На столе стояла открытая бутылка минералки. Он стал жадно хлебать воду из горлышка, потом уселся на табуретку, закурил.
Такого с ним еще не было. Это не перепой, не похмелье. Нечто совсем иное. Плотный, вязкий, как деготь, туман в голове. На часах половина пятого вечера. На улице почти совсем стемнело.
Цитрус вернулся в комнату, зажег свет. Поймал себя на том, что тянет руку к телефону, чтобы позвонить Маруське. Отдернул руку, словно телефонный аппарат был куском раскаленного металла. Нет у него никакой Маруськи. Некому звонить. Девчонка оказалась такой же дрянью, как они все. Его опять предали, бросили, кинули, как полное дерьмо. Все они суки…
Он грязно, с оттяжкой, поматерился вслух, и немного полегчало. Но туман в голове все никак не таял.
Цитрус отчетливо вспомнил маленькую лохматую собачонку, которая захлебывалась лаем, старушку в огромных валенках, мерзкий разговор с Маруськиным отцом. Это было вчера. Потом, ночью, он пил водку один на кухне. А что было утром? Похмелье? Но он ведь не запойный алкаш. Не могло похмелье длиться до половины пятого вечера. Доконали его эти бабы…
Цитрус ожесточенно пнул босой ногой кресло, попал по металлическому колесику, вскрикнул от боли. Ноготь на большом пальце сломался до мяса. Кресло откатилось к стене. Он присел, чтобы рассмотреть пострадавший палец, и вдруг заметил несколько блестящих шариков на полу, под креслом.
Это были комочки фольги, красные, зеленые, золотистые. Он аккуратно развернул один. Обертка от конфеты. От его любимого швейцарского шоколада с коньячной начинкой. Фольга хранила отчетливый запах коньяка и шоколада. Во рту возник приторный горьковатый вкус. Перед глазами всплыло женское лицо в обрамлении прямых белокурых волос.
Ну конечно! Утром к нему приходила девушка, корреспондентка журнала «Плейбой», брала у него интервью. Как ее звали? Ирина… Нет, ее звали по-другому, но она была ужасно похожа на Ирину в юности. Он увидел ее и потерял голову, поплыл в теплой патоке воспоминаний. А потом вырубился. При ней или позже, когда она ушла?
В голове опять все запуталось, завертелось, словно какой-то упрямый механизм срабатывал в определенном месте воспоминаний и сознание зарастало туманом, дрожащей сеткой, как экран сломанного телевизора.
Вместе с девушкой приходил Карл Майнхофф.
Цитрус отчетливо вспомнил светлые усы, насмешливые светло-карие глаза. Ну точно, Карл был здесь! Они пили втроем, потом Цитрус вырубился, а гости ушли…
Карл мог прийти только с этой девушкой. Он никогда раньше не бывал у Цитруса в гостях, не знал нового адреса.
До недавней встречи в Берне они виделись в последний раз три года назад в Дублине. Цитрус взял у Карла большое интервью для французской неонацистской газеты, с которой в то время сотрудничал. Потом посидели в баре, поболтали и разошлись. Там было несколько ребят из ИРА.
И между прочим, тогда, в Ирландии, они расстались довольно прохладно. У них зашел разговор о женщинах, Цитрус выдвинул свою обычную сентенцию, что все они суки и каждой нужен грубый сильный хозяин. Карл ответил, что Цитрусу просто не везло с женщинами.
– Можно подумать, тебе везло, – усмехнулся Цитрус, – глядя на твою Ингу, этого не скажешь. Слушай, неужели у тебя нет никого, кроме нее? Про тебя болтают, будто ты аскет, однолюб. Это совсем не вяжется с твоим имиджем. Ты не волнуйся, я не для газеты…
– Да, я однолюб, – хмуро кивнул Карл, – и мне плевать на имидж.
– Значит, Инга – твоя единственная женщина, любовь на всю жизнь?
– Нет, не Инга.
Цитрус стал приставать к нему, пытаясь выведать, кто же, если не белокурая бестия фрейлейн Циммер.
– Не отстану, пока не скажешь. Обещаю, это строго между нами.
– Она русская, – сказал наконец Карл, – ее зовут Алиса. Но мы расстались, не виделись много лет. Я даже хотел на ней жениться.
– Ты? Жениться? – захохотал Цитрус. – Так что же тебе помешало?
– У нее был больной отец, она не могла его бросить и уехать со мной… А теперь отвяжись, чертов папарацци. Как у вас, русских, принято говорить, это было давно и не правда. И вообще, с тобой, старый потаскун, я не собираюсь обсуждать свою единственную чистую любовь.
Как всегда, нельзя было понять, шутит Карл или говорит серьезно.
Они еще долго сидели в баре, и чем больше наливались пивом, тем значительней расходились их взгляды на жизнь вообще и любовь в частности. В итоге чуть не поссорились. Расстались довольно холодно.
На самом деле Цитрус даже испугался, когда с легкостью согласился выполнить поручение Азамата – встретиться с Карлом и передать предложение самого Подосинского. Сначала согласился, а потом испугался. Вдруг бернский связной телефон, который дал ему Карл тогда, в Дублине, давно уже недействителен? Вдруг Карла вообще нет в Швейцарии? Все-таки три года прошло.
Однако все получилось. Цитрус просьбу выполнил, Карла нашел, поручение передал. А вот Азамат, сволочь такая, крутит теперь, не хочет платить за опасную работу. Оказывается, Карл уже в Москве. Иначе каким образом он мог попасть к Цитрусу домой? Все-таки был он здесь или нет? Почему так ясно стоит сейчас перед глазами светлоусое лицо?
Опять в голове все спуталось. Однако из путаницы вдруг проступило имя девушки, корреспондентки журнала «Плейбой». Вероника Суркова.
На нижней полке в книжном шкафу в стопке журналов он разыскал номер «Плейбоя» за прошлый год. На последней странице были напечатаны телефонные номера. Сейчас только пять вечера. Он должен кого-то застать в редакции.
Звонить пришлось долго. Сначала болтал автоответчик, потом было занято. Наконец послышался живой приятный женский голос:
– Приемная главного редактора…
– Добрый вечер. Вас беспокоит писатель Авангард Цитрус.
– Здравствуйте. Я вас слушаю.
– Сегодня ко мне приходила ваша корреспондентка Вероника Суркова. Мне надо уточнить кое-что в тексте интервью. Скажите, как мне с ней связаться?
– Простите, но у нас нет такой корреспондентки.
– То есть как? А кто же ко мне приходил?
– Как вы сказали? Вероника Суркова? Я попробую узнать, возможно, она работает внештатно, по договору.
В трубке зазвучала приятная мелодия.
– Вы слушаете? – спросил мужской голос через несколько минут.
– Да-да, я здесь. Здравствуйте, – радостно откликнулся Цитрус.
– Заведующий отделом культуры Владимир Николаев. С кем имею честь? Авангард Цитрус.
– Очень приятно. Чем обязан?
Цитрус еще раз повторил свой вопрос.
– Нет. У нас не работает корреспондентка Вероника Суркова и никогда не печатался автор с таким именем. Так что вас кто-то ввел в заблуждение.
Цитрус откашлялся, нервно хохотнул.
– Интересные дела… Что же мне теперь делать?
– Сочувствую, но ничем помочь не могу. Если вас это так беспокоит, обратитесь в милицию.
– Спасибо за совет. Я подумаю об этом, – он смущенно хохотнул. – Кстати, а вы не хотите и правда взять у меня интервью? Ну, хотя бы в качестве компенсации за неприятности.
– Простите, это не входит в наши планы, – ответили ему холодно и серьезно.
– А почему, можно узнать? Я все-таки достаточно известный человек, и вы могли бы…
– Да, вы известный человек. Но наших читателей интересуют люди несколько другого плана. Извините.
Москва, ноябрь 1986 года
Алиса открыла дверь и услышала громкий папин голос:
– Кто ты такой? Нет, скажи мне, кто ты такой? Специалист-кинолог? Или человековед? Ты расист, самый настоящий! Ты делишь людей на породы, как собак! Но и у собак нет лучших и худших пород. Между прочим, дворняги бывают умней и благородней породистых, элитных! А потроха у всех одинаковые! Это я тебе как врач говорю. Никакой голубой крови нет! Все это мерзкая фашистская чушь!
Алиса сняла пальто и сапоги, сунула ноги в тапочки, вошла на кухню. За столом сидел Карл. Год назад они окончательно расстались. Даже КГБ не сомневалось в этом. Ее оставили в покое.
Папа расхаживал по крошечной кухне в рваных шерстяных носках, в синих трениках с обвислыми коленками и старой тельняшке. Он был красный, совершенно пьяный и в первый момент даже не заметил Алису, так завелся от спора.
На столе стояла литровая бутылка «Посольской» водки, открытая банка черной икры, тарелка с толсто нарезанной ветчиной, блюдце с окурками. Карл никогда не приходил с пустыми руками. И сейчас принес всякие деликатесы из валютой.
Он поднялся и шагнул к ней, обхватил, попытался закружить. Она вырвалась из его рук.
– Что ты здесь делаешь?
– Может, ты хотя бы поцелуешь меня, майне либе? Это я, твой Карлуша. Мы тут беседуем с Юрием.
У тебя очень хороший отец.
– Папа, ты сошел с ума… Карл, ему нельзя пить. Он вшитый, понимаешь? Ему сейчас станет плохо, надо вызвать «Скорую»!
– Лисенок, не паникуй, – отец неуклюже присел перед ней на корточки, словно она маленькая, и смотрел на нее снизу вверх красными жалобными глазами, – ничего со мной не случится.
– Ты что?! Меня предупредил нарколог…
– Спокойно, доченька, ты, главное, не волнуйся.
– Что значит не волнуйся? Ты же врач, ты понимаешь, что с тобой сейчас будет? – Она схватила со стола бутылку. Там осталось меньше половины.
– Ну, не так много он выпил, – подал голос Карл, – если считать на двоих да с хорошей закуской…
– Ему ни грамма нельзя.
– Можно, можно, – Юрий Владиславович энергично махнул рукой, покачнулся, не удержал равновесия, свалился, опрокинул табуретку, несильно стукнулся затылком о край холодильника.
Алиса кинулась к нему, попыталась поднять за плечи.
– Карл, вызови «Скорую»!
– Не надо никакой «Скорой». – Юрий Владиславович поднялся, кряхтя и потирая затылок. – Лисенок, будь человеком, водочку не выливай, поставь на место. Когда я еще такой водочки выпью? Слушай, Карлуша, ты мне не ответил: кто ты такой, чтобы всех судить?
– Папа, – Алиса подошла к нему, провела ладонью по колючей потной щеке, папочка, посмотри мне в глаза.
– Подожди, дочка. Мы говорим о важных вещах.
– Папа, ты соврал? Ты договорился с Коробцом и он тоже соврал? Тебе не вшили ампулу?
– Коробец пытается лечить меня гипнозом. Мы решили подождать с ампулой, он громко икнул, – водочку поставь на место, а?
– Не беспокойся, – усмехнулся Карл, – я сначала выяснил, можно ли твоему папе пить. Я помню, ты говорила, что собираешься вшить ему ампулу. Он мне сообщил под большим секретом, что никакой «торпеды» пока нет, и только тогда я поставил на стол водку.
– Умный парень, отличный парень твой Карл. Но порет полнейшую чушь. Прямо фашист какой-то! Твой прадед дрался с ними в Первую мировую, твой дед долбал их под Сталинградом, а я вот пью на брудершафт. Хендэ хох, Карлуша! Лисенок, хватит, не дуйся. Сядь и выпей с нами.
Алиса молча поставила бутылку на стол и отправилась в свою комнату, звонить наркологу Коробцу.
– Ну, простите меня, – вздохнул Коробец, выслушав ее гневную тираду. – Я понимаю, получилось нехорошо. Я давно знаю Юру, надо смотреть правде в глаза. Он бы угробил себя, ему опасно вшивать ампулу. Мы сейчас пробуем гипноз…
– Анатолий Сергеевич, ну мне можно было сказать сразу? Я чуть с ума не сошла, когда увидела бутылку.
– Вы слишком остро реагируете. Так нельзя. Положив трубку, она несколько минут сидела в странном, тупом оцепенении. На ее письменном столе в старой керамической вазе стояло семь больших чайных роз. Их тоже принес Карл. По-хозяйски зашел к ней в комнату, налил воду, поставил цветы. Неужели опять все сначала? Завтра позвонят из КГБ или перехватят ее на улице: «Ваши отношения с Майнхоффом восстановились? Замечательно. Продолжим сотрудничество».
Он появлялся и исчезал когда хотел. Она не ждала его. Но каждый раз со жгучим стыдом чувствовала, как замирает сердце. Она говорила: хватит, я не люблю тебя. Мы слишком разные люди. Она давно перестала спорить с ним, не повторяла, что расизм – это неприличная болезнь.
Ему все было смешно и жизнь казалась чем-то вроде огромной уморительной хохмы. Люди с Лубянки выглядели шутами гороховыми, жалкими гномами, которых глупо бояться.
– Я просто болтал в пивной, что все вокруг дерьмо и миром правят старые пердуны. Многие со мной соглашались и слушали с удовольствием. Наши придурки из Штази решили, что я сколачиваю оппозиционную партию. У нас ведь нет диссидентов, мы стадо, еще послушней, чем вы. А нашим чекистам тоже хочется иметь своих Солженицыных и Сахаровых. За неимением лучшего на эту почетную должность избрали меня. Я не против. Я польщен. Но это развлечение долго не продлится. Очень скоро рухнет Берлинская стена, и я специально привезу сюда моток колючки, чтобы повесить на нем этого твоего серого майора Харитонова.
Алиса понимала, он морочит ей голову. Если бы его только заподозрили в диссидентских настроениях, ни за что не учился бы он в таком гэбэшном вузе, как МГИМО. Не светила бы ему престижная аспирантура. Когда он исчезал, она почти не вспоминала о нем, но стоило увидеть, и что-то с ней происходило.
Все казалось немножко нереальным, не стоящим внимания и долгих, мучительных размышлений. Рядом с ним было смешно и нелепо о чем-то думать, чего-то опасаться. Он красиво подхватывал на руки, щекотал губы своими светлыми усами.
– Ты скажешь, что в Парке культуры я встретился с лысым молодым человеком в полувоенной форме. Он говорил с украинским акцентом. Ты не слышала, о чем был разговор, только поняла, что я согласился на его предложение. Правда, торговался. Тебе покажут несколько фотографий. Ты выберешь вот этого.
Он держал перед ней черно-белый снимок. Со снимка мрачно глядел бритоголовый парень с совершенно ублюдочным лицом.
На самом деле Карл встречался при ней с пожилым толстым кавказцем, и не в Парке культуры, а на ВДНХ.
– Карл, мне страшно, – говорила она, – ты используешь меня в каких-то своих шпионских целях. Они ведь запросто могут узнать правду, и тогда…
– Хорошо, скажи им правду, – улыбался он, – настучи им на меня. И все будет нормально. Ты подружишься наконец с этой милой организацией и почувствуешь себя честной комсомолкой.
– Я хочу, чтобы ты исчез, – говорила она, зажмурившись, – никогда не звони мне, это последний раз.
– Конечно, последний раз. Ты ведь не любишь бедного Карлушу. Ты только поцелуешь меня на прощанье, вот так. И я отправлюсь на Красную площадь закладывать взрывчатку под мумию Володи Ульянова. Завтра меня уже не будет. Я сгину в застенках Лубянки и, умирая, буду шептать твое имя.
Он исчезал через неделю, потом появлялся месяца через три. Она рассказывала сказки серому майору. То ли майор был недостаточно прозорлив, то ли сказки были слишком похожи на правду, но ничего страшного не происходило. Алисе верили.
За ней ухаживали приличные, надежные молодые люди. Ее звали замуж. Она не хотела. Но не из-за Карла. Она знала, что не сможет бросить папу и никто чужой не выдержит рядом тяжело больного, безнадежно пьющего человека.
Представить совместную жизнь с Карлом было невозможно. Он никогда не заикался об этом, оба заранее знали – ничего не выйдет. Эта тема была у них как бы под запретом по взаимной молчаливой договоренности.
Год назад у Юрия Владиславовича случился второй инфаркт. Ей сказали, что надо готовиться к худшему и надежды нет. Она выхаживала отца, сначала в реанимационном отделении, потом дома. Он выжил. У нее началась обратная реакция – тяжелая, затяжная депрессия.
И тут появился Карл. Впервые ей всерьез, по-настоящему не хотелось его видеть. Совсем не хотелось. Она вешала трубку, когда слышала его голос. Она не открыла дверь, когда увидела его через «глазок» с большим букетом. Она знала он может простить, пропустить мимо ушей любые, самые резкие слова. Но молчание, запертая дверь оскорбят его по-настоящему. Он исчезнет. Все кончится.
– Я барон фон Майнхофф, последний барон. Я имею право судить и делить, по голосу было слышно, что он тоже пьян.
– А я князь, если хочешь знать. Я Воротынцев, мать твою! – орал отец. Мой род древнее твоего варварского баронства. Когда мой прадед женился на немке, урожденной фон Раушенберг, курляндской баронессе, это было почти мезальянсом. Вообще, вся история России – это сплошной мезальянс, неметчина. Вы нами правили триста лет, а все мало вам! Революцию нашу вы оплатили. Кто давал деньги большевикам? Кто пропустил Ленина в Петроград и оплатил ему проезд в мягком вагоне? – Юрий Владиславович шарахнул кулаком по столу. – Барон! Ты, Карлуша, сопляк из гитлерюгенда, а не барон! Спесь – первый признак плебейства! Спесь и снобизм! Это свойственно лакеям, нуворишам и партийным работникам!
Повисла тишина. Было слышно, как льется водка в стаканы.
– Значит, в тебе, Юра, княжеская кровь? – тихим, совершенно трезвым голосом спросил Карл. – А прабабка была курляндской баронессой? Ты не шутишь?
– Ничего ты не понял, Карл. – Юрий Владиславович печально покачал головой. – Для меня нет разницы, какая кровь. Третья группа, отрицательный резус. Остальное не важно. Дед был белым полковником, отец – красным рядовым, потом стал врагом народа, сгнил на Колыме как честный зек сталинского призыва. Все. Хватит об этом. Лисенок, свари нам картошечки.
Алиса стояла в дверном проеме, прислонившись к косяку.
– Папа, ложись спать. Поздно уже. Тебе, Карл, пора уходить.
– Я у вас ночую, – сообщил Карл.
– Нет, – она покачала головой, – ты ночуешь в гостинице.
– Доченька, мы уже договорились, он поживет у нас дней пять. Я раскладушку поставлю в своей комнате, – Юрий Владиславович слил последние капли водки к себе в стакан, – у него неприятности.
– Папа, ну какое тебе дело до его неприятностей?
– Не смей! Человек пришел к нам в дом! – Отец опять шарахнул кулаком по столу, но не сильно, и тут же поморщился, схватился за сердце. – Мне дела нет, что там у вас с ним было. Он мой гость, у него проблемы…
Последние слова он проговорил отрывисто, тихо. Губы побелели, на лбу выступили крупные капли пота.
Он покачнулся на табуретке. Карл вскочил, успел подхватить его.
– Ничего, доченька, не пугайся… немножко совсем заныло, сейчас пройдет. Карлуша, помоги мне до койки дойти.
Приступ был не сильный. Нитроглицерин снял боль. Алиса не стала вызывать «Скорую». Через двадцать минут Юрий Владиславович мирно похрапывал. Карл курил на кухне.
– Ты серьезно собираешься жить у нас пять дней? – спросила Алиса, усаживаясь напротив.
– Да. Ты ведь не выгонишь бедного Карлушу на улицу, в лапы КГБ? А, Лисенок, не выгонишь?
– Не называй меня так, – она поморщилась, – ты пока еще не член семьи. А что касается КГБ, то именно здесь они тебя и будут искать в первую очередь. Она поднялась и стала убирать со стола. – Карл, я устала играть в эти игры. Хватит с меня.
– Потерпи еще немножко. Мы скоро уедем отсюда.
– Мы?
– Да. Я приехал за тобой. Мне надо решить здесь кое-какие проблемы, сделать тебе загранпаспорт. Я забираю тебя в Германию. Я на тебе женюсь, Алиса.
Она застыла у раковины с грязной тарелкой в руках.
– Нет, Карл. Я не могу… не хочу.
– Можешь и хочешь! – Он засмеялся, подошел сзади, обнял ее. – Бросьте эти глупости, фрау фон Майнхофф. Я уже все решил, и вам, милая фрау, ничего не остается, как сказать свое нежное «да».
– Нет, Карл, – она передернула плечами, – я слишком устала и перенервничала сейчас, чтобы обсуждать такие серьезные вещи, но, в общем, и не надо ничего обсуждать. Я не выйду за тебя замуж. Ты темная неопределенная личность, шпион, бандит, неизвестно кто. Ты немец, наконец, а я русская. У меня папа больной, никому, кроме меня, он не нужен. Мы с тобой совершенно не подходим друг другу.
Она говорила и ожесточенно терла губкой тарелки, с грохотом ставила их в сушилку.
– Да! О, да, фрау Майнхофф, я не сомневался, что вы ответите мне согласием! Их либе дих, и вы меня тоже! У нас родятся чудесные красивые киндеры, о, я, натюрлих, майне либе. Мы будем жить долго и счастливо. – Он держал ее за плечи, зарывался лицом в ее волосы, скользил губами по шее, по затылку, смеялся в ухо и мешал мыть посуду.
– Перестань, Карл. Я серьезно… Перестань, не придуривайся…
– Лисенок, я тебя люблю, – он протянул руку, выключил воду, схватил Алису в охапку, – не возражай мне, Лисенок. Никогда мне не возражай. Я все равно умней и сильней, – он зажал ей рот своими горячими губами.
Из КГБ не звонили. Утром, по дороге на работу Алиса тревожно оглядывалась по сторонам, все время ждала, что рядом остановится машина. Но ничего не происходило. С девяти до шести она стояла за чертежной доской в своем конструкторском бюро.
– Ты так всю жизнь хочешь? С девяти до шести, за девяносто рублей в месяц? Ты посмотри на себя в зеркало! С таким лицом, с такой фигурой гнить в этой серости, в жалкой клетушке из двух комнат… Что тебе здесь светит? Очень скоро у вас в России все полетит вверх тормашками. Система прогнила изнутри, и, когда она рухнет, вонючие обломки посыпятся на ваши головы. Исчезнет еда. Введут карточную систему. Ты знаешь, что такое крушение империи? Это прежде всего голод, разруха, озверелые толпы на улицах. А потом по Москве пойдут танки, прямо по толпе, по людям. Вами всегда правили воры, но прежде они хотя бы стыдливо прикрывали свой срам фиговыми листочками коммунистической идеологии. Те, которые придут после них, срама не прикроют. Здесь, у вас, будет стыдно и страшно жить. Вы, русские, – суицидальная нация. Вы просто не умеете жить прилично, по-мещански, по-бюргерски. Я сам ненавижу тупой бюргерский быт, но он все-таки приличней вашего свинства.
Карл держал ее за плечи. Они стояли у большого зеркала в ее комнате. За стеной был слышен папин храп. Ледяной ноябрьский ветер бил в стекла. Батареи
Были чуть теплыми. За окнами стоял густой, тяжелый мрак.
– Мне завтра рано вставать, Карл. Я уже все тебе сказала.
– Ты врешь, Алиса. Ты врешь самой себе. Да, ты любишь своего отца, это я могу понять. Но ведь не настолько, чтобы хоронить себя здесь заживо.
– Я и не хороню. Я живу своей жизнью. Это родина моя, в конце концов…
– Ой, какие мы патриотки, ой, фрейлейн, я тронут до слез. Это тебя серый майор Харитонов научил так горячо любить советскую родину? Прислушайся, что там шепчут тебе твои благородные гены? В тебе, между прочим, голубая княжеская кровь и четверть немецкой, баронской. Я видел альбомы с вашими старыми семейными фотографиями. Твой отец неплохо знает историю рода до седьмого колена и очень сожалеет, что ты совсем не интересуешься своими княжеско-баронскими корнями.
– Карл, хватит. Меня, честно говоря, начинает тошнить, когда ты повторяешь свой бред про благородные гены и голубую кровь. И не надо приписывать моему отцу свою озабоченность этим вопросом. Если rf)H и гордится предками, то не потому, что они были князьями-баронами. Ладно, все. – Она попыталась стряхнуть его руки со своих плеч. – Я сказала, никуда не поеду. Замуж за тебя не выйду. Мы слишком разные, у меня своя жизнь. У нас ничего не выйдет, и ты сам это понимаешь.
– Но ведь ты меня любишь, Алиса. Вот это я понимаю, только это я хочу понимать. Только это.
– Карл, когда ты молчишь, мне кажется, что да, люблю. Но стоит тебе открыть рот, и я тебя почти ненавижу. Ты говоришь такие гадости, глупости… Хватит. Тема закрыта.
– Хорошо, Лисенок, я буду молчать. Я стану тихим, нежным, я всех пожалею, даже твою грязную родину, даже этого подонка серого майора. Всех. Я буду петь романсы сладким баритоном. За тихого нежного Карлушу ты согласна выйти замуж?
– Папа умрет без меня.
– Он и так долго не протянет.
– Сколько осталось ему – все его. Мы вошьем ампулу, он перестанет пить. Сейчас есть много новых методов, я вылечу его. Он не старый еще человек, и если бросит пить, то сердце…
– Через месяц мы будем в Лондоне. Потом в Сан-Франциско. Ты увидишь весь мир. У тебя будет достаточно денег, чтобы оплатить твоему отцу самое лучшее лечение.
– Карл, а откуда столько денег? Почему ты так уверен, что меня вообще выпустят из страны? Я завербована КГБ. Кстати, странно, что они не появляются. Я слишком многого не понимаю, прежде всего в тебе.
– А не надо ничего понимать. Всему свое время… Он говорил и стягивал с нее свитер, расстегивал лифчик, щелкал кнопками длинной замшевой юбки. Она не могла и не хотела возражать, спорить, задавать вопросы. Она уже все сказала, и не один раз. Она никуда не уедет, не выйдет за него замуж. Зачем он опять появился? Ну зачем?
На четвертый день, когда Юрий Владиславович ушел на очередной сеанс бесполезного гипноза к наркологу Коробцу, Карл выложил на Алисин письменный стол тонкую стопку каких-то бумаг.
– Ты должна заполнить это на пишущей машинке. В трех экземплярах, только не под копирку.
– Что это?
– Анкеты для ОВИРа. Завтра мы подаем заявление в твой районный загс. У вас положено ждать три месяца, но нас зарегистрируют через неделю. Анкеты ты заполнишь на фамилию Майнхофф. Ты Алиса фон Майнхофф.
– Карл, подожди, я не понимаю…
– Тебе и не надо ничего понимать. Ты будешь делать то, что я говорю. Я уже все устроил.
– Карл, я же тебе сказала, я никуда не поеду. Я не выйду замуж за тебя.
– Ну, перестань, Лисенок, хватит дурить. У нас очень много дел и мало времени. Садись за машинку, прямо сейчас.
– Я вовсе не дурю. Я никуда не еду, пойми ты наконец. Замуж за тебя я не выйду, отца не брошу, и это совершенно серьезно. Карл. Я не шучу, не ломаюсь и не собираюсь заполнять никакие анкеты. Я тебе сразу все сказала, с самого начала. Просто ты слышишь только самого себя.
Несколько секунд он смотрел на нее молча, и вдруг его рука взлетела, раздался хлопок, сначала Алиса не поняла ничего, а потом у нее перехватило дыхание. Это была пощечина, несильная, почти безболезненная, но самая настоящая пощечина.
– Уходи, Карл, – тихо сказала она после долгой паузы.
Он смотрел на нее исподлобья, тяжело дышал, и в глазах его появилось какое-то совсем новое выражение, одновременно жуткое и жалкое.
– Идиотка, – проговорил он сквозь зубы, – дура, я убью тебя.
– Охотно верю, – кивнула она, – ты можешь.
– Но ведь ты спала со мной, ты любишь меня, ты…
– Карл, хватит. Уходи.
– Стерва! Грязная русская свинья! – Он схватил ее за волосы, швырнул на тахту.
Падая, она сильно ударилась виском об угол письменного стола. Он сдирал с нее одежду, хрипло выкрикивая ругательства, немецкие и русские. Но она не слышала. Она провалилась в сплошной тошнотворный мрак.
– Ты врала мне, ты сводила меня с ума! Ты такая, как все, подлая пошлая стерва! Открой глаза! Ну, открой глаза, посмотри на меня, Алиса!
Из ссадины сочилась кровь. В руках у Карла была полумертвая вялая кукла вместо Алисы.
– Скажи, что ты меня любишь, хотя бы раз скажи… Предательница, дрянь, ненавижу…
Он уже не кричал. Он охрип и бормотал бессвязные, бессмысленные грязные слова, немецкие и русские вперемежку. Бросился вон из комнаты, но замер на пороге.
Из кармана своей кожаной куртки, висевшей на стуле, Карл вытащил маленький пятизарядный «вальтер», шагнул к растерзанной, бесчувственной кукле. Долго, не отрываясь, он глядел на бледное, осунувшееся лицо, на спутанные пепельно-русые волосы.
Веки плотно сжаты, губы чуть приоткрыты. Кровь на виске, на щеке. Рука с пистолетом поднялась, щелкнул предохранитель. Дуло уставилось в лоб, потом медленно скользнуло к груди.
У Алисы затрепетали веки, глаза приоткрылись и тут же распахнулись в ужасе. Она увидела пистолет, увидела безглазую усатую морду какого-то причудливого животного. Самым странным было то, что по гладко выбритым щекам этой кровожадной неведомой зверюшки катились крупные слезы. Алиса боялась шевельнуться, боялась нечаянно крикнуть или застонать. Мощная волна головной боли притупляла страх.
Рука с пистолетом вяло опустилась. Двигаясь медленно, как сомнамбула, он стянул свою кожанку со спинки стула и, волоча ее по полу, не оглядываясь, вышел из комнаты. Алиса продолжала лежать не шелохнувшись. В прихожей хлопнула дверь. Этот звук отозвался в голове новой волной боли. Она опять потеряла сознание.
На следующий день начались телефонные звонки из КГБ. Алиса лежала с тяжелым сотрянием мозга. Звонили очень настойчиво, Юрий Владиславович не давал ей трубку, говорил: она больна.
– А что с ней такое? – интересовался вежливый мужской голос.
– Сотрясение мозга.
Алиса слышала папины ответы из соседней комнаты. Она, хоть и плохо соображала, сразу поняла, кто это. А через два дня заявился майор Харитонов собственной персоной, прямо в квартиру. Папе он представился как сослуживец из конструкторского бюро, даже торт принес.
– Майнхофф меня расколол, назвал гэбэшной шлюхой, избил, исчез навсегда и теперь уж точно не появится, – сказала Алиса.
На некоторое время ее оставили в покое.
Глава 22
Иерусалим, январь 1998 года
По дороге в гостиницу Максимка клевал носом. Стоило ему уронить голову на подушку, и он моментально уснул. Алиса погасила ночник у его кровати, вспомнила, что он не умылся и не почистил зубы на ночь. Ладно, имеет право после таких приключений.
Все. Горячий душ – и спать. Она смертельно устала. В ванной, стянув свитер, она обнаружила несколько синяков на руках и на плечах. Господи, если бы не Деннис… У них ведь было оружие. Кто-то выстрелил. Могли убить запросто.
Глядя в зеркало, Алиса с удивлением заметила, что плачет. Слезы теку! сами собой. Дело даже не в этом жутком нападении, не в синяках. Просто они с Максимкой совершенно беззащитны и никому не нужны. Повезло, что рядом оказался этот американец, чужой, случайный человек.
Сколько их было в ее жизни, чужих и случайных? Нет, на самом деле совсем не много. Всего трое. Последний – стоматолог Миша. Но уже достаточно. Слишком быстро привыкает Максимка к мужчине, который оказывается рядом, и слишком тяжело потом переживает. Ей-то самой уже не больно… Впрочем, не правда. Ей тоже больно, но себя не так жалко, как сына.
Алиса протянула руку, чтобы включить воду, но вспомнила, что все туалетные принадлежности, тапочки и халат так и остались в большой сумке. Она выбежала из ванной, достала сумку из стенного шкафа и вдруг услышала какую-то тихую возню за дверью.
Сердце подпрыгнуло к горлу, стало трудно дышать. Ей показалось, кто-то поворачивает круглую дверную ручку. Она знала точно, дверь заперта, внизу, в холле, вооруженная охрана, как везде в этой стране, да и вообще – все глупости. Не мог он выследить, послать своих людей. Не мог – по одной простой причине: ему это совершенно не нужно.
Но тут же с панической ясностью она представила себе, что за дверью сейчас стоит Карл Майнхофф собственной персоной и пытается тихо войти. Она помнила, как бесшумно он умел двигаться, открывать и закрывать двери, подходить сзади так, что даже дыхания не слышно, и никакая интуиция не подскажет: осторожно, обернись…
Алиса бросилась в ванную, схватила свитер, натянула, путаясь в рукавах, наконец решительно шагнула к двери и громко произнесла по-английски:
– Кто там?
– Алиса, простите, вы не отвечали на стук, я подумал, вы в ванной, и решил подождать.
Конечно, это был Деннис. Кто же еще? Она открыла дверь.
– Максим уже спит? – спросил он шепотом.
– Да. Я тоже собиралась ложиться.
– Простите, – он виновато улыбнулся. – Знаете, я не могу уснуть. Я все-таки не киногерой, не Брюс Ли и здорово перенервничал сегодня. Думал, засну как убитый, а вот – не могу. И потом, я успел привыкнуть к нашим вечерним разговорам. К хорошему быстро привыкаешь. Давайте спустимся в бар, посидим немного.
– Ладно, – кивнула Алиса, – только совсем недолго. Я боюсь, Максим проснется и испугается, если меня не будет в номере.
Они спустились на первый этаж. В холле, у стойки администратора, стояло трое вооруженных охранников, еще один расхаживал у стеклянной двери.
«Ну что я паникую? – устало подумала она. – Надо наконец прийти в себя и избавиться от этого идиотского, беспричинного страха. Ну да. Карл узнал меня. Он забрал фотографии на всякий случай, просто потому, что попал в кадр. Неприятно, что на пленке много наших с Максимкой кадров. Почти вся пленка отснята, частично в Москве, частично здесь, в Эйлате. Там есть кадры, где Максим в нашем московском дворе. Карл запросто узнает дом, кусок переулка. И что? Помчится в Москву, на свидание? Чушь. Зачем ему эти хлопоты? На пирсе он оказался случайно, совершенно случайно. Он ведь тоже человек, и почему бы ему не искупаться в море? Он так здорово плавает… Он увидел Максимку, сработало простое любопытство. На этом все кончится. Уже кончилось…»
Однако она чувствовала, что обманывает себя. Ничего не кончилось. Она достаточно хорошо знала Майнхоффа. Почти сразу, заметив их с Максимкой в том грязном кабачке, он все понял. И теперь не оставит их в покое…
– Алиса, вам коньяк или виски?
– Что?
Они уже подошли к столику в глубине пустого ресторана. Она продолжала стоять, тупо глядя на разноцветных рыбок, плавающих в подсвеченном аквариуме.
– Алиса, с вами все в порядке?
– Да… простите… мне коньяку, совсем чуть-чуть, – она тяжело опустилась в кресло, закурила.
Деннис отошел к стойке и вернулся через несколько минут с двумя рюмками на маленьком подносе.
– Неужели вы до сих пор переживаете? – спросил он, усаживаясь напротив.
– А вы? – она улыбнулась. – Вы ведь не можете уснуть. Представить жутко, что могло случиться с нами, если бы вы не оказались рядом. У них ведь было оружие, кто-то выстрелил. Неужели у арабских подростков есть огнестрельное оружие?
– Не знаю, – он пожал плечами, – я впервые столкнулся с арабскими подростками. Но, значит, есть, раз прозвучал выстрел.
– Я задам вам дурацкий вопрос, – медленно произнесла она, глядя мимо Денниса, на аквариумных рыбок, – как вы думаете, могло такое произойти… ну, скажем, не случайно? То есть мог кто-то заранее следить за нами и ждать подходящего момента? Простите, я, наверное, говорю глупости.
Он поймал ее ускользающий взгляд и долго, не отрываясь, смотрел в глаза, потом осторожно притронулся к ее руке.
– У вас ледяные пальцы, Алиса. Вы боитесь чего-то или кого-то. Вы старательно прячете свой страх, чтобы Максим не заметил. Мужчина, который забрал ваши фотографии, вовсе не случайный человек. Вы здесь кого-то встретили, и вам страшно. Такие вещи нельзя держать в себе. Если есть реальная опасность, то она угрожает не только вам, но и Максиму. Расскажите мне. И будем думать вместе. Одной вам не справиться, Алиса.
– С чего вы взяли, Деннис? – она изо всех сил попыталась улыбнуться. Ничего такого… вам показалось. Я просто очень замкнутый человек, мне многие это говорили…
– Перестаньте, – он покачал головой, – вы ведь не меня обманываете, а себя.
Она опустила голову, волосы упали на лицо. Он молчал и все еще прикрывал ладонью ее тонкие ледяные пальцы.
– Да, – произнесла она спокойно, – я обманываю себя. Мне очень страшно. Но вряд ли вы сумеете помочь нам с Максимом. И потом – я никогда никому не рассказывала… Я запретила себе даже думать об этом, но сейчас, здесь… Нет, я не могу, – она откинула волосы, резким движением выдернула руку из-под его теплой ладони, – я одиннадцать лет молчала об этом.
– Одиннадцать лет? – тихо переспросил Деннис. Она не ответила, достала сигарету, он щелкнул зажигалкой. Она долго не могла прикурить. Руки дрожали. Наконец, глубоко затянувшись, она произнесла:
– Деннис, вы знаете, кто такой Карл Майнхофф?
– Это знает каждый, кто хоть иногда смотрит телевизор и читает газеты, Деннис быстро отхлебнул коньяку, – Майнхофф – международный террорист, которого много лет не могут поймать.
– Да, – она нервно усмехнулась, – он бандит, жестокий, сумасшедший, помешанный на своем баронском происхождении. Он убийца с принципами, с идеей. Сейчас он здесь, в Израиле. Я видела его в Эй-лате. Он узнал меня, а я – его. Я сфотографировала его в кафе, просто потому, что не могла поверить своим глазам. Я ведь читала, он погиб три года назад в Северной Ирландии. Вы правы насчет этих снимков. Никакой случайности не было. Их забрал Карл. Я сделала чудовищную глупость, когда стала его фотографировать. Но у меня был шок. Я так надеялась, что его нет на свете и никто никогда не узнает… А потом я увидела, как они разговаривают на пирсе. Максим и он. Я закричала и сорвала голос, побежала и подвернула ногу. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, – орать, бежать. Но нет ничего бессмысленней. Дело в том, что Карл Майнхофф – отец Максима.
Алиса говорила очень тихо, но Деннису показалось, что она кричит. К ним направлялся улыбающийся, круглолицый бармен с рыжими усами.
– Извините, мы уже закрываемся.
Деннис быстрым движением опрокинул в рот каплю коньяку, оставшуюся на дне рюмки, потом встал, обошел стол и взял Алису за плечи.
– Пойдемте.
Они не произнесли ни слова, пока ехали в лифте, пока шли по коридору. Он открыл дверь своего номера, пропуская ее вперед. Она замерла на пороге.
– Меня-то вы не боитесь, Алиса? – спросил он, мягко улыбнувшись. – Бар закрыт, в вашем номере спит Максим, мы можем разбудить его. Больше поговорить негде. Заходите.
Она вошла, уселась в кресло, съежившись, обхватив плечи руками.
– Кто-нибудь, кроме вас, знает? – спросил Деннис.
– Теперь да.
– Вы имеете в виду меня?
– Я имею в виду Майнхоффа. Он все понял, когда увидел нас в кафе. Он все понял потому, что для него это важно. Благородная баронская кровь. Сын. Его кровь. Его собственность. – Она говорила быстро, отрывисто, и опять Деннису показалось, что она кричит, хотя это был почти шепот. – Надо знать Карла, а я его знаю. Мы познакомились пятнадцать лет назад. Все произошло не сразу. Потом еще четыре года он то и дело возникал в моей жизни. Я понятия не имела, кто он. Просто немец из ГДР, аспирант Института международных отношений. Он приезжал в Россию. Это, конечно, была не любовь. Что-то совсем другое…
Москва, январь-август 1987 года
Ирина Павловна Воротынцева расхаживала по своей просторной, стерильно чистой кухне из угла в угол, держа в руках телефон на длинном проводе.
– Сколько можно тянуть! – кричала она в трубку. – Он уже потерял человеческий облик. Неужели вы не понимаете, что гипноз для него – как мертвому припарки?
– Я не могу взять на себя такую ответственность, – вздыхал в трубке нарколог Анатолий Коробец, – вы ведь знаете, что будет, если он сорвется хотя бы один раз. Мы потеряем его.
– Лично я его уже давно потеряла. Меня беспокоит не он, а дочь. Она живет с ним, она взвалила на себя это, и я не могу не думать о ней. Если бы вы видели, на кого она похожа… Ну я прошу вас, поговорите с Юрием в последний раз. Терять уже нечего.
– Ирина Павловна, а почему вы сами не можете с ним поговорить?
– Пыталась уже, – Ирина Павловна остановилась и тяжело уселась на табуретку напротив Алисы, – он ссылается на вас. Будто бы вы хотите еще подождать. До лета.
– Весна – тяжелое время для сердечников.
– Он прежде всего алкоголик, а потом уже сердечник! Вы можете на него повлиять. Простите, что я так резко разговариваю с вами, но повторяю, мне страшно за дочь. Два месяца назад у нее было сотрясение мозга. Я не сомневаюсь, головокружения у нее начались на нервной почве. А что будет дальше?
Алиса сидела, низко опустив голову, ковыряла вилкой кусок жареной рыбы. Ей было неприятно слушать этот разговор, она отговаривала маму звонить Коробцу, но Ирина Павловна, человек решительный и жесткий, все-таки набрала номер.
– Хорошо, – устало согласился Коробец, – я попытаюсь поговорить с ним еще раз. Но обещать ничего не могу. В любом случае до мая мы будем обходиться гипнозом.
– Почему ты не ешь? – спросила Ирина Павловна, положив трубку. – Я сорок минут стояла в очереди за этой рыбой, пожарила специально к твоему приходу, как ты любишь, с лучком.
– Прости, мамуль, не хочется.
– Алиса, что с тобой происходит? Ты зеленая, на тебя смотреть страшно.
– Ничего, мамуль. Со мной все в порядке.
– А все в порядке, так давай ешь!
– Не могу… – Алиса судорожно сглотнула. – Тошнит меня, мамочка. Это бывает после сотрясения.
Ирина Павловна долго молчала, потом, не глядя на дочь, тихо спросила:
– Сколько у тебя недель, Алиса?
– Четырнадцать.
– Что будем делать?
– Не знаю, мамочка.
– То есть как – не знаю? Ты что, успела за десять дней, которые мы не виделись, выйти замуж?
– Нет, – глухо пробормотала Алиса, – замуж я не вышла.
– Хотя бы скажи, кто он?
– Теперь это не имеет значения.
Ирина Павловна встала, громко двинув табуреткой, вышла из кухни, вернулась, держа в руках раскрытую записную книжку. Она так нервничала, что несколько раз сбилась, набирая номер.
– Кирочка, здравствуй, дорогая. Как у тебя дела? Да… надо же… я тебя поздравляю… Кира, ты можешь принять мою Алису прямо завтра? Да, очень срочно… говорит, четырнадцать недель… нет, об этом речи быть не может… Ну, что делать? Я понимаю, срок большой, но она молчала все это время. Она ведь у нас такая вся из себя сложная… Спасибо… да, конечно… спасибо, Кирочка, целую тебя.
Положив трубку, Ирина Павловна стала капать себе в рюмку валериановые капли.
– Пять… восемь… – сосредоточенно считала она, – завтра к половине девятого ты должна быть у Киры Александровны на Покровке. Она все сделает в тот же день. Под общим наркозом… одиннадцать… пятнадцать… – Ирина Павловна опрокинула рюмку в рот, сильно поморщилась. – Почему ты рассталась с Колей Иевливым? Ну почему? Такой чудесный мальчик, воспитанный, умный, перспективный, из интеллигентной семьи… А чем тебе Годунов не угодил? Квартира, машина, загранкомандировки… Вышла бы за Годунова и рожала бы на здоровье. Я, конечно, понимаю, разница в возрасте, но тогда выходила бы за Колю. Вы с ним ровесники. Ну, от кого ты залетела? От кого? От этого твоего сумасшедшего немца? Что ты молчишь, Алиса? Почему ты все время молчишь?
На следующее утро Алиса, пошатываясь от слабости после бессонной ночи, вошла в кабинет Киры Александровны Ярославцевой, бывшей сокурсницы Ирины Павловны по Первому медицинскому институту.
– Ты действительно ужасно выглядишь, детка, – сказала Ярославцева, – ну, давай раздевайся. Что же ты дотянула до четырнадцати недель? Ты уже большая Девочка… Ладно, времени мало. Я договорилась насчет анализов, сделаем все прямо сегодня, завтра тебя отпущу домой. Давай, детка, не копайся. У меня сегодня тяжелый день.
Алиса продолжала стоять, глядя в пол.
– Ну, ты что застыла? Будет общий наркоз, новый французский препарат, ты ничего не почувствуешь. – Кира Александровна стала тщательно мыть руки у раковины. – Халатик есть у тебя? Мама предупредила, чтобы ты привезла все свое? Тапочки, халат, рубашку… Да что с тобой?
Алиса дрожащими руками открыла сумку, вытащила запечатанную коробку французских духов «Клима», поставила на стол. Вчера мама сказала, что денег Кира не возьмет, и передала для нее эти духи.
– Спасибо, спасибо, детка, – улыбнулась Ярославцева, – это мои любимые.
Алиса присела на краешек стула, стала медленно снимать сапоги, вытянула из сумки пакеты с тапочками, с халатом и ночной рубашкой. Потом ей сделали анализ крови, и уже через час в маленькой операционной ее ждал анестезиолог со шприцем в руках. Вошла Кира Александровна в марлевой маске, с растопыренными пальцами в стерильных перчатках.
– Ну, давай, деточка. Что ты опять застыла? Нельзя к этому относиться как к трагедии. Эй, Алиска, ты плачешь, что ли? Прекрати сейчас же! Что за детский сад? Возьми себя в руки.
– Ну, мы долго рыдать-то будем? – подал голос анестезиолог. – Давай, барышня, быстренько в кресло. Сопли и слезы убрать! Тоже мне великомученица! Давай, у меня через двадцать минут плановая операция.
– Простите, – прошептала Алиса, едва шевеля губами, – простите, я не могу… Я домой поеду. Не могу.
– Ну, здравствуйте! – Ярославцева всплеснула руками в перчатках. – Это что за новости такие? Ну-ка давай, быстренько залезай в кресло! Раз-два, и готово.
– Кира Александровна, простите, я не могу его убить. Он там живой… Он ни в чем не виноват…
– О господи, – анестезиолог выразительно закатил глаза, – я в последний раз спрашиваю, мы ложиться в кресло будем или нет?
– Нет.
– Если ты рассчитываешь, что я уйду на пенсию и буду сидеть с твоим ребенком, то ты очень ошибаешься! – кричала вечером мама в телефонную трубку. Где он, твой немец? Ты соображаешь, что творишь со своей жизнью? И не только со своей, с моей тоже! Сначала встань на ноги, устройся на приличную работу, замуж выйди! Ты хоть понимаешь, что значит быть матерью-одиночкой в наше время?! На что ты собираешься жить? На жалкое пособие? Ты думаешь, я увижу твою крошку и сердце мое дрогнет? Не жди этого! Мало мне проблем с твоим отцом, так ты еще… по какому праву?.. Там только сгусток клеток… каждая женщина через это проходит, каждая… и не надо раздувать проблему, делать из простейшей хирургической операции трагедию. Почему ты молчишь?! Почему ты все время молчишь?
– Не волнуйся, мамочка, – тихо сказала Алиса, дослушав до конца, – я вовсе не надеюсь, что твое сердце дрогнет. Я обещаю, мой ребенок не доставит тебе никаких хлопот.
Когда живот у Алисы заметно округлился, опять возник на ее горизонте серый майор Харитонов.
– Вас можно поздравить, Алиса Юрьевна? Вы ждете ребенка?
– Вы удивительно наблюдательны, товарищ майор.
– Если не секрет, кто отец?
– Ну какие могут быть от вас секреты? Совершенно случайная встреча с давним знакомым.
– А конкретней?
– Дорогой Валерий Павлович, – покачала головой Алиса, – мы с вами люди современные, разумные, не первый день знакомы. Этот человек женат, у него крепкая счастливая семья, дети. Я подошла к вопросу вполне прагматично. Хочу родить себе здорового ребенка. Мне уже двадцать пять, возраст не девичий. А что касается ваших подозрений – успокойтесь. Я бы ни за что не решилась родить ребенка от Карла. Он слишком неуравновешенный, слишком сложный, ну и вообще зачем мне эти проблемы?
Майор был удовлетворен ответом. Ее опять оставили в покое.
…В начале мая Юрию Владиславовичу вшили ампулу. Здоровье его без спиртного быстро шло на поправку. Его все чаще приглашали в институт Бурденко консультировать сложных больных. В июне он потихоньку начал покупать детские вещи, достал по записи немецкую коляску, чешскую кроватку.
– Папа, это плохая примета, – говорила Алиса, – нельзя ничего покупать заранее.
– Ты хочешь, чтобы я носился потом по всей Москве с высунутым языком? Ведь ничего просто так не купишь. Магазины пустые… А вот, смотри, это ботиночки для первых шагов, с твердой пяткой, одиннадцатый размер. А это костюмчик теплый, тоже на годик. У нас одна медсестра обещала принести финский зимний комбинезончик… Да, вот еще погремушки…
Август начался тридцатиградусной жарой и долгими частыми грозами. В пятницу, третьего числа, провожали на пенсию операционную сестру Наташу, с которой Юрий Владиславович проработал многие, годы.
После торжественной части отправились из актового зала в ординаторскую, где был накрыт стол.
– Ну кто же тебя, Юра, пить-то заставляет? Посидишь полчасика, лимонадом чокнемся, – уговаривали коллеги.
– Нет, ребята, я домой пойду, – упирался Юрий Владиславович. – Моя Алиса должна родить со дня на день.
– Так ты позвони ей, предупреди. Если что, номер ординаторской она знает. Возьмешь такси, через двадцать минут будешь дома.
– Если ты уйдешь, я обижусь. – Наташа никак не хотела его отпускать.
Юрий Владиславович махнул рукой, согласился. Он редко бывал в институте, скучал по работе, по коллегам, а тут – такое событие. Ну как же можно обидеть Наташу, с которой он проработал столько лет?
– Папочка, ты только не забывай, тебе ни глотка нельзя, ни капельки, сказала Алиса по телефону, – и не задерживайся слишком долго. Тетю Наташу поцелуй за меня.
В маленькую ординаторскую набилась толпа народу. Врачи, медсестры, санитары пили спирт, дорогой коньяк, который в изобилии дарили благодарные больные. В веселой неразберихе кто-то плеснул шампанского Юрию Владиславовичу в стакан. Он выпил залпом за Наташино здоровье и сначала ничего не почувствовал, даже не отличил от лимонада.
А потом, смеясь над чьим-то соленым анекдотом, подхватил чужую рюмку с коньяком, опрокинул в рот, быстро зажевал шоколадной конфетой с ликером. В сутолоке кто-то споткнулся, и целая мензурка чистого медицинского спирта вылилась Юрию Владиславовичу на рубашку. А потом он опять перепутал лимонад с полусладким шампанским. Ему хотелось пить, во рту пересохло.
Через несколько минут ему стало нехорошо. Заныло сердце, зашумело в ушах, бросило в жар, потом зазнобило. На лбу выступил холодный пот. В ординаторской было сильно накурено, душно, шумно. Он подумал, что надо выйти на свежий воздух, в тихий зеленый институтский сквер.
Собиралась гроза. Небо над сквером почернело. Юрий Владиславович взглянул на часы, подумал, что Алиса волнуется и, не дай бог, у нее начнутся схватки, а его не будет рядом. Надо успеть к метро до грозы. На такси жалко денег. У них сейчас так плохо с деньгами, каждый рубль на счету. А чувствует он себя вполне сносно, просто духота, воздух спертый. Лучше не возвращаться в ординаторскую, бежать домой не прощаясь.
Упали первые тяжелые капли. Юрий Владиславович направился к метро «Маяковская». Это совсем близко, дворами можно добежать за пять минут.
Он упал в тихом проходном дворе на Миусах, неподалеку от Института Бурденко. Две молодые женщины, спешившие спрятаться от грозы, остановились над ним на секунду.
– Мужчина, вам плохо?
– Да… мне плохо… – пробормотал он, хватая ртом спертый воздух.
Оглушительно ударил гром, женщины не разобрали его слов. Одна наклонилась, тронула его за плечо и поморщилась.
– Это ж надо так напиться! За версту разит! Хлынул дождь. Молния распорола черное небо над Миусами. Юрий Владиславович попытался подняться, но тело не слушалось. Не хватало воздуха. Капли дождя падали на лицо и казались раскаленными, тяжелыми, словно это была не вода, а расплавленный свинец.
Гроза кончилась, во дворе появились люди. Юрий Владиславович уже не дышал. Рубашка и брюки стали мокрыми, грязными. Но запах спирта не улетучился.
– Вот пьяни развелось! Надо бы в милицию позвонить, – сказала бабка с кошелкой, брезгливо обходя неподвижное тело.
Но она не позвонила в милицию. Она спешила в гастроном. Перед закрытием должны были «выкинуть» развесную сметану. Потом прошла молодая мамаша с ребенком.
– Дя-дя, – сказал двухлетний малыш, – дя-дя упал…
Молодая мамаша взяла ребенка на руки, обошла лужу и на грязного пьяницу даже не взглянула.
В девять вечера Алиса позвонила в Институт Бурденко. В ординаторской никто не брал трубку. Она стала набирать подряд все номера – приемного покоя, дежурной старшей сестры, заведующего отделением. Наконец выяснила, что Юрий Владиславович уехал домой, но когда именно – никто не заметил. Может, два часа назад, а может – час. Он ушел тихо, по-английски, ни с кем не простившись.
У Алисы пересохло во рту, сильно, тревожно забилось сердце. Она попыталась уговорить себя, что если он ушел из института час назад, то будет дома с минуты на минуту. А мог ведь уйти и позже. Самое разумное – подождать еще немного, а потом… Что, собственно, потом? Звонить в милицию?
Она знала, у папы с собой паспорт, постоянный пропуск в институт, записная книжка, где на первой странице записаны домашний адрес, телефон, имена ближайших родственников – дочери и бывшей жены.
У Алисы заныла поясница. Боль была несильной, тянущей и почти сразу отпустила. Алиса так нервничала, что не обратила внимания. Прошло двадцать минут. Зазвонил телефон. Она схватила трубку, не заметив второго приступа боли. Попросили какую-то Клавдию Васильевну.
– Вы не туда попали, – автоматически ответила Алиса.
Сердце стучало где-то у горла. Она заметалась по квартире, скинула тапочки, стала надевать босоножки. Невозможно просто сидеть и ждать. Она отлично знала папин маршрут, от института до «Маяковки», проходными дворами. Потом от метро до дома… А если ему стало плохо в метро? Нет, почему ему обязательно плохо? Может, он задержался, пережидая грозу? Он ведь ушел без зонтика… Гроза кончилась совсем недавно, ливень застал его по дороге, он спрятался в какой-нибудь подъезд и сейчас не спеша идет домой, дышит свежим озоновым воздухом.
Тяжелый, огромный живот мешал наклониться, застегнуть ремешки босоножек. Еще один приступ тянущей боли в пояснице заставил ее вскрикнуть. И тут опять зазвонил телефон.
– Воротынцева Алиса Юрьевна? – спросил незнакомый женский голос.
– Я слушаю…
– Воротынцев Юрий Владиславович, 1933 года рождения, вам кем приходится?
– Он мой отец…
Сильный звон в ушах не давал расслышать слова незнакомой женщины. Алиса поняла только, что надо прямо сейчас ехать в Институт Склифосовского, а больше ничего понимать не хотела.
Позже, когда прошло много дней и месяцев, она не могла вспомнить, каким образом доехала, на такси или на метро, как шла по коридорам, куда-то спускалась, поднималась, отвечала на вопросы, расписывалась на каких-то документах. В памяти образовался глухой провал. Небольшой временной отрезок, всего-то час или полтора, был пропастью, через которую всякий раз Алисина память перепрыгивала, зажмурившись, и не стоило вспоминать, ибо можно запросто сорваться в эту черную дыру.
Она очнулась, когда в нос ударил резкий запах нашатыря и чей-то чужой голос произнес вполне мирно, даже весело:
– Эй, ребята, она у нас здесь сейчас родит, чего доброго.
Алиса почувствовала наконец резкую, настойчивую боль и жутко испугалась, потому что там, где она находилась, нельзя рожать ребенка. Ни за что нельзя.
– Кому можно позвонить, чтобы за вами приехали? Где ваш муж?
– У меня нет мужа.
– А мать?
– Мама в Хельсинки на симпозиуме, – Алиса еле сдерживалась, чтобы не заорать от боли.
– Перевозку надо вызывать. Нам здесь только роженицы не хватает, – сказал кто-то.
Алису вывели в коридор, усадили на банкетку. Дрожал сизый люминесцентный свет, пахло формалином и хлоркой, боль раздирала все тело и не давала ни о чем думать. Специальная перевозка для рожениц приехала только через час. Врач и акушерка сердито обсуждали, успеют довезти или нет.
Не успели. Мальчик родился в машине. Он был крупный, крепенький, красный, как помидор. Он кричал мощным басом, отчаянно размахивал ручками и ножками. Алиса смотрела на сердитое маленькое личико, на мокрые темные волосики и не чувствовала ничего, кроме счастья. Оно было таким властным, огромным, таким ослепительным, что заполнило весь мир, и захотелось скорей позвонить папе, ведь как же так – он до сих пор ничего не знает.
Несколько долгих мгновений она почти верила, что морг Института Склифосовского, тело под простыней – это не правда, нелепый ночной кошмар, который сейчас развеется как дым и забудется навсегда.
– Как сына назовешь? – спросила нянечка в роддоме, помогая ей перелечь с каталки на койку.
– Моему папе очень нравится имя Максим, – быстро проговорила Алиса, – мы заранее решили, если будет мальчик… мой папа… папочка…
Она заплакала, вжавшись лицом в подушку.
Глава 23
– Конечно, это была не любовь. Что-то совсем другое. – Алиса смотрела куда-то мимо Денниса. – Если бы у меня за эти годы хватило мужества хотя бы раз подумать, разобраться, понять, что же это было, я, возможно, и сумела бы сейчас сформулировать. Но я запретила себе думать об этом. Все, что я чувствовала к Карлу, исчезло в тот момент, когда я шарахнулась виском об угол стола. Знаете, отшибло память, и все чувства отшибло. Напрочь. Так бывает при сотрясении мозга. Я стала жить так, будто нет никакого Карла Майнхоффа. И никогда не было.
– И все-таки вы решились оставить ребенка, – еле слышно произнес Деннис.
– Нет, – она покачала головой, – я почти сразу приняла твердое решение, что ребенка не будет. Ну в самом деле, как можно рожать от человека, который для меня перестал существовать? Разумеется, было бы логично избавиться от ребенка. Мне жилось бы куда спокойней, удобней, я нашла бы хорошую работу, вышла замуж, родила бы потом другого ребенка. Я уже приняла твердое, разумное решение. Моя мама была совершенно права, и правы миллионы женщин, для которых это всего лишь досадная, но несложная хирургическая операция. Мне просто в последний момент стало до ужаса жалко ребенка, которого уже никогда не будет. Другим, желанным, своевременным, правильным детям суждено родиться, а этому нет. Никогда. Жалость оказалась сильней здравого смысла, нормальной житейской логики. Я сама не ожидала, что так получится.
– Ваши родители знали, от кого ребенок?
– Папа знал все. Почти все. Но папа умер. А маме я потом сказала, что отец ребенка вовсе не Карл, просто случился у меня другой роман, именно поэтому я \ рассталась с Карлом. В общем, она поверила. Какая разница, кто отец, если нет никакого отца? Мальчик здоровый, умный, развивается нормально. Мама, конечно, любит его, но видимся мы редко. У нее новый муж, много работы, она преподает, ее приглашают читать лекции в Англию, во Францию, в Америку, она написала два учебника по глазным болезням…
– А Максим? Он ведь спрашивал, кто его отец?
– Погиб его отец, – она тряхнула волосами, – разбился в машине. Мы учились вместе, потом встретились, была короткая любовь, а через несколько дней он погиб. Он был замечательным, чудесным человеком, самым лучшим. Я не только Максима, но и себя сумела убедить в этом. Правда, когда я впервые увидела в какой-то газете фотографию Карла, узнала, кто он, прочитала о террористическом акте в Северной Ирландии, потом про захват заложников в Амстердаме, потом… Знаете, я запрещала себе искать информацию о нем, но все время почему-то натыкалась на очередной взрыв или на убийство какого-нибудь политического деятеля. А потом я узнала, что он погиб. Он не один раз погибал, и кто-то из журналистов заметил, что нет на земле человека, который читал бы про самого себя столько некрологов… А вообще, Деннис, я вам ничего не рассказывала. Я все выдумала. Нет никакого Майнхоффа.
– Простите меня, Алиса, – он резко встал, подошел к креслу, в котором она сидела, сжавшись в комок, – простите, но сейчас уже нельзя играть в жмурки. Все это было, и все это правда. Опасная и для вас, и для вашего ребенка. Я много читал о Маййкоффе. У нас в Америке издавалась о нем книга, очень подробное исследование. Там много фактов и фотографий. Я помню его лицо. Максим…
– Нет! – она вскинула руку, словно защищаясь.
– Максим похож на него, Алиса. Очень похож. Майнхофф не оставит вас в покое.
– Но ведь это нелогично, Деннис. Вы прекрасно знаете, что в наше время, когда есть банк спермы, и отцовство для многих – пустой звук… Ну, подумаешь, какая-то русская родила от него ребенка десять лет назад. Он бандит с мировым именем, у него может быть дюжина детей в разных странах…
– Не обманывайте себя, Алиса, – покачал головой Деннис, – если бы ваше с ним знакомство ограничилось двумя неделями в студенческом лагере, вы еще могли бы тешиться иллюзией, будто ему все равно и он не станет искать встречи со своим сыном. Но вы слишком хорошо его знаете. Вы ведь сами сказали – его сын, его кровь, его собственность. Фотографии. Встреча на пляже. Разве этого не достаточно, чтобы понять: он не оставит вас в покое?
– А если я сообщу в полицию? – быстро спросила Алиса.
– Вас не выпустят из страны. Вами будет заниматься МОССАД. Не уверен, что они обеспечат безопасность вам и Максиму. Более того, я не исключаю, что они попытаются использовать эту информацию в своих целях, далеких от целей вашей безопасности… Простите, я неловко выразился, в общем, мне кажется, полиция вам не поможет. Да и слишком уж много придется объяснять. В их глазах вы будете…
– Да, я знаю, как буду выглядеть в их глазах. Бывшая любовница международного террориста. Но главное даже не в этом. Я не могу допустить, чтобы Максим узнал правду. Не могу. Он слишком маленький, для него это станет страшным потрясением. И, честно говоря, я не знаю, чего больше боюсь – Карла или этой правды…
– Но все-таки что-то вы чувствовали к нему, – медленно произнес Деннис, это не была случайная интрижка. Вы встречались на протяжении четырех лет. Неужели в нем, тогдашнем, не было ничего пугающего или хотя бы странного для вас?
– Было. Конечно, было. Но я привыкла не придавать особенного значения словам, болтовне. Я сама человек не слишком разговорчивый и чужие слова часто пропускаю мимо ушей. Папа с детства внушил мне, что судить о человеке можно только по его поступкам, но никак не по словам. Многие болтают сегодня одно, завтра другое. Карл болтал глупости, он издевался над всем миром и тут же смеялся над собой. Он умел смеяться над собой. Это мне нравилось.
– Наверное, не только это?
– Конечно, не только. Если бы я знала, если бы могла объяснить… голос, усмешка, разрез глаз, походка, запах. Меня страшно тянуло к нему, вопреки здравому смыслу, вопреки его злой болтовне и всяким моим подозрениям.
– Вы подозревали, что он не просто болтун, а серьезный преступник?
– Нет.
– Но вы сказали «подозрения»….
– Оговорилась.
– Я читал где-то, что в советской России контакты с иностранцами фиксировались КГБ. Вас не беспокоила эта организация?
– Нет. Граждане социалистических стран были не совсем иностранцами, а студенты и аспиранты, которые учились в Москве, – тем более.
– А сейчас вы что-нибудь чувствуете к нему?
– Я уже сказала, – Алиса поморщилась, – он перестал существовать для меня одиннадцать лет назад. Сейчас есть только страх и отвращение. Я не хочу, чтобы мой сын когда-нибудь узнал, что его отец убийца… Ладно, Деннис. Я очень устала. Уже светает. Спасибо вам, и спокойной ночи, – она соскользнула с кресла.
Он шагнул к ней, быстро, молча обнял, прижал к себе так сильно, что несколько секунд она не могла шелохнуться. Она чувствовала его живое тепло, чужое, ненадежное, обманчивое, но все-таки живое. Он отвел губами прядь с ее щеки, и ей захотелось плакать от собственной слабости, от одиночества, оттого, что сейчас непременно произойдет, а потом она себе не простит. Нет ведь опять никакой любви, вообще ничего нет. Только страх и слабость, и желание спрятаться, вжаться лицом в чужое плечо, дать себе короткую передышку.
– Мама! Мамочка! Ты где?
Максимкин сонный голос звучал в тишине сквозь тонкую стенку так отчетливо, словно ребенок находился здесь, в комнате. Алиса резко отстранилась, Деннис быстро поцеловал ее в губы, растерянно уронил руки, шагнул вслед за ней в коридор.
– Спокойной ночи. – Она тихонько прикрыла дверь своего номера.
Деннис ушел к себе и слышал сквозь тонкую стенку, как она что-то ласковое, нежное говорит сыну по-русски, напевает колыбельную песенку, и ребенок сонно, недовольно бормочет в ответ. Деннису стало жаль, что он не понимает ни слова.
* * *
Чем больше Авангард Цитрус думал, тем мучительней хотелось ему начать действовать. Голова его была устроена таким образом, что больше двух, ну максимум трех абстрактно-логических ходов сряду в ней не помещалось. Он был человеком действия, чувствовал себя комфортно и уверенно только в стихии бурных событий, когда становился центром внимания, и все вокруг кипело, и всем, буквально всем было до него дело.
Сидеть на тихой кухне, бороться с искушением выпить еще рюмку, курить до тошноты, варить себе кофе, расхаживать из угла в угол и размышлять о том, что же с ним произошло и как теперь поступить, – это было невыносимо. А тут, как назло, предательски молчал телефон. Товарищи по партии отдыхали после бурных юбилейных торжеств.
Цитрусу было тревожно и неуютно. Ему надо было срочно привести в порядок самого себя, справиться с горькой путаницей, которая царила в голове. Интуиция подсказывала ему, что прошлым утром в его квартире с ним произошло нечто неприятное, нечто опасное и двусмысленное. Но он гнал прочь это разрушительное чувство.
Картина странного происшествия с мнимой корреспонденткой, Карлом. Майнхоффом и конфетной фольгой постепенно прояснялась, наполнялась четкими радостными красками.
Шутник Карл решил разыграть его, подурачиться, оттянуться после сложной, опасной операции. Он приехал в Москву, познакомился с девушкой, попросил позвонить Цитрусу, представиться корреспонденткой хорошего мужского журнала и узнать адрес Га-рика. Потом они втроем надрались до беспамятства. А девушка случайно оказалась удивительно похожа на Ирину. Вполне нормально, что после такого веселья никто ничего не помнит.
Кто-нибудь другой на месте Цитруса обязательно подумал бы, с чего это вдруг Карлу Майнхоффу так приспичило развлечься именно в такой компании? Конечно, с Цитрусом они знакомы очень давно, но оба уже не молодые люди, и сейчас отношения их носят чисто деловой характер. Что, Карлу Майнхоффу в огромной Москве некуда больше пойти с красивой молодой блондинкой, кроме как в гости к Авангарду Цитрусу?
Озадачивали и другие мелочи, например, куда девалась посуда после бурной пьянки? Красивая блондинка оказалась такой доброй и сострадательной, что вычистила дом одинокого писателя после утренней гульбы, чтобы он не расстраивался, проснувшись в грязи? Но почему, перемыв посуду, она не догадалась вытряхнуть окурки из пепельницы? И почему пьянка эта происходила утром, а не вечером? И куда потом подевались дорогие гости? Тихонько ушли, закрыв за собой дверь? Стало быть, они напились не так сильно, как он, и были в состоянии соображать? Тогда почему бросили его в тяжелом беспамятстве?
Но Цитрус не стал задавать себе этих глупых вопросов. Занудная вязкая логика противоречивых мелочей злила, раздражала. Когда он вертелся перед зеркалами в спальне наедине с самим собой, он рефлекторно выбирал наиболее выигрышные позы и ракурсы. Любую ситуацию он старался повернуть таким боком, чтобы выглядеть в ней как можно привлекательней, чтобы казаться самому себе и окружающим человеком значительным, ярким, единственным и незаменимым. В желании Карла Майнхоффа нагрянуть к нему домой с красивой блондинкой он не усматривал ничего странного.
Беспокоило другое. Почему соврал Азамат, будто Карла еще нет в Москве?
Сначала Цитрус рассудил так: Азамат его кинул. И с этим надо что-то делать. Нельзя позволить, чтобы об тебя вытирали ноги. Но, подумав еще немного, рас-" судил иначе: хитрый кавказец ведет какую-то свою игру. Возможно, он скрывает факт появления Карла в Москве не только от Цитруса, но и от самого Подосинского.
Зачем? Ну, это и ежу понятно. Карл похитил профессора, который занимается разработками сверхмощного биологического оружия. Азамат решил заполучить этого профессора вместе с секретом смертоносных бактерий и не отдавать Подосинскому такое ценное приобретение. Все просто и логично, как в крепком американском боевике.
Теперь надо очень быстро и осторожно воспользоваться ситуацией, в обход Азамата выйти, на Подосинского, сообщить ему о предательстве кавказца, выступить в его глазах ценным и честным союзником.
Именно ради Геннадия Ильича Цитрус полгода назад свел довольно близкое знакомство с противным кавказцем Азаматом. Он все ждал, что в один прекрасный день ему представится счастливая возможность познакомиться с Геннадием Ильичом, заинтересовать его своей яркой творческой индивидуальностью, и тогда всесильный меценат вложит настоящие деньги в рекламу его книг, пойдут миллионные тиражи, потом начнут снимать фильмы по его романам, потом… О, потом будет еще много всего приятного и интересного.
Не было рядом с ним никого, кто мог бы шепнуть на ухо: Гарик, ты уже большой мальчик. Так не бывает в жизни, чтобы явился добрый сильный дядя и купил для тебя настоящую, прочную, надежную славу, любовь многомиллионной прихотливой публики.
Сейчас, сидя в своей маленькой прокуренной кухне, он пришел к простой и радостной мысли, что настал наконец момент, когда можно выйти на Подосинского.
Конечно, были среди многочисленных приятелей Цитруса люди, лично знакомые с Геннадием Ильичом. Но шуточное ли дело – позвонить и попросить: слушай, брат, сведи-ка меня с господином Подосинским, желательно прямо сегодня.
Лихорадочно листая свою записную книжку, перебирая в голове имена. Цитрус остановил свой выбор на журналисте Петре Малькове.
Мальков был фигурой тихой, незаметной. Он сторонился скандалов, никогда не стремился к популярности. Слово «журналист» было золотыми буквами написано на его визитке, но журналистикой Петр Мальков никогда в жизни не занимался.
Он делал деньги на том, что помогал различным коммерческим структурам вклиниться в информационное пространство, посредничал в создании косвенной рекламы, владел в совершенстве искусством знакомить бизнесменов с нужными чиновниками, сводить, разводить, нейтрализовать, натравливать, мирить, ссорить. Но сам не ссорился никогда ни с кем. Он умудрялся сохранять теплые приятельские отношения даже с теми, кто серьезно пострадал в результате его бурной посреднической деятельности.
Главной и единственной его страстью были деньги. Он успел заработать на своей тихой беготне вполне приличный капиталец, но аппетиты продолжали расти. Он ввязывался во все более сомнительные аферы, влип в пару-тройку скверных историй, чудом остался жив, потом чуть не сел на скамью подсудимых, на время совсем затих, исчез куда-то, но недавно всплыл опять. И не просто так, а уже под теплым крылом господина Подосинского.
Каким образом он умудрился войти в круг приближенных Геннадия Ильича, не знал никто.
Цитруса с Мальковым связывало несколько лет довольно тесного приятельства, был период, когда Петр отирался возле маленьких новорожденных партий, пытался стать полезным их лидерам, вклинивал их в информационное пространство, зарабатывая на этом вполне приличные суммы.
Не утруждая себя дальнейшими размышлениями, Гарик набрал домашний номер Петра Малькова и наговорил на автоответчик, что очень срочно, прямо сегодня, необходимо встретиться.
Ответный звонок раздался через Пятнадцать минут. А через час Мальков и Цитрус сидели в небольшом подвальном ресторане на Остоженке.
* * *
Деннис почти не сомневался, что в Иерусалиме никто за ними не следил. То, что произошло вчера в старом городе, ни малейшего отношения к Карлу Майнхоффу не имеет. Нападение было случайным, такое происходит в арабских кварталах если не ежедневно, то раз в неделю.
Майнхофф не нападет на Алису и Максима. Ему нужен его сын живой, здоровый и не напуганный. При всей своей жестокости Майнхофф сентиментален. Или это называется как-то иначе? Отцовские чувства. Могут они быть развиты у бандита? Разумеется. Тем более других детей у него нет. Инга Циммер бесплодна.
Похищать ребенка он не станет. Ему не захочется выглядеть в глазах мальчика злодеем. Что же он предпримет? Выберет подходящий момент, попытается договориться с Алисой? О чем?
«Алиса, скажи ему, что я хороший. Тебе он поверит. Скажи, чтобы он меня любил. Здравствуй, малыш, я твой папочка. Посмотри, как мы похожи!»
Пока в его поведении нет никакой логики. Только эмоции. Такого с ним еще не случалось. Он рискнул остаться в стране после теракта, он разгуливает по Эйлату, купается в море. Он рискует, подставляется, лишь бы увидеть мальчика. Отцовские чувства сыграли с ним злую шутку.
Вообще, нормальные человеческие чувства – непозволительная роскошь для террориста. Хочешь быть бандитом – изроль жить по законам ненависти, не суйся на другую территорию. Там тебя не ждут. Ничего, кроме неприятностей, ты за свой красивый порыв не поимеешь.
На ребенка его сейчас можно ловить, как на живца. Это гадко, неблагородно, но кто же говорит о благородстве, когда дело касается Карла Майнхоффа?
Деннис был уверен, здесь, в Израиле, брать Майнхоффа нельзя. Без МОССАДа не обойтись. Это значит, что в лучшем случае Карл будет убит, а скорее всего ускользнет.
В МОССАДе есть силы, заинтересованные, чтобы террорист никогда не был пойман и никогда не раскрыл рта на судебном процессе, в какой бы стране этот процесс ни состоялся. Деннис даже знал, кто конкретно не допустит, чтобы Майнхофф предстал перед судом.
Внутри МОССАДа существует сильная многочисленная группа, представляющая интересы крайне правой оппозиции. Эта структура выступает против мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Ее люди причастны к убийству премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в ноябре 1995-го.
«Мы достаточно сильны и умны, чтобы достичь мира со всеми арабскими странами», – заявил Рабин в своей речи перед многотысячной толпой на площади Царей Израилевых в Тель-Авиве.
А через несколько минут по нему открыл стрельбу двадцатишестилетний студент юридического факультета Игаль Амир, член молодежной экстремистской организации «Эйляль».
«Я сделал это во имя спасения душ, преданных Ра-бином», – заявил молодой убийца на суде.
Позже подняли вопрос о его психическом здоровье. Да, вероятно, будущий юрист был не вполне здоров. Фанатизм – религиозный, расовый, политический всегда граничит с болезнью. Но за фанатизмом одиночным и массовым, как правило, стоит холодный хитрый расчет вполне здоровых и уравновешенных людей, сотрудников спецслужб, правительственных чиновников, денежных магнатов, которые умело и незаметно используют чье-то кровавое безумие в своих интересах.
Интересы эти ничего общего не имеют с древними и вечно живыми иллюзиями о том, что всех людей можно поделить на правых и виноватых, плохих и хороших. Это совсем другая, скрытая от постороннего понимания сфера жизни, в которой непримиримые враги оказываются связанными сложной сетью взаимовыгодного сотрудничества. Израильские правые экстремисты, выступающие против любых мирных договоров с арабами, тесно контактируют с палестинскими террористическими группировка". Русских коммунистов подкармливают теневики-миллиардеры из капиталистической Европы. Миротворцы втайне раздувают военную истерию, спецслужбы, призванные отвечать за безопасность глав правительств, организуют покушения на них.
Редко из этого темного бездонного омута смертельных страстей всплывают имена и факты. Ничего никогда не проясняется до конца.
Деннис знал, кто конкретно помешает арестовать в Израиле Карла Майнхоффа. Полковник МОССАДа Яков Берштейн, принадлежащий к правой оппозиции, замаранный связями как с ультрасионистскими организациями, так и с ультраисламистскими, имеющий контакты в среде русских неофашистов и итальянских «красных бригад». Полковник не раз пользовался услугами Майнхоффа, но доказать это не сумеет никто, кроме самого Карла.
Разумеется, окончательное решение остается не за Деннисом, а за господином Вильямом Барретом, сотрудником посольства США в Израиле, атташе по связям с общественностью, резидентом ЦРУ, шефом-куратором Денниса.
Вдруг шестидесятилетнему Вилли, человеку осторожному, лишенному тщеславия, отягощенному старомодными предрассудками, придет в голову честно отдать лакомый кусок в зубы местным властям? Вилли собирается в отставку, на пенсию, и может напоследок преподнести коллегам из МОССАДа такой вот славный подарок.
Но, сдавая Майнхоффа, Вилли невольно подставит Денниса, засветит его перед израильскими властями как агента-нелегала. Это нецелесообразно. Это если не конец карьеры, то весьма неприятный поворот в ней. Разведчик не должен быть известен чужой спецслужбе даже в качестве союзника и добровольного помощника.
Деннис решил не спешить, подождать хотя бы сутки, не выкладывать шефу-куратору потрясающую новость сразу. Сначала самому переварить, обдумать, выработать четкую позицию для разговора, подобрать железные доводы, чтобы Вилли уразумел: нельзя отдавать Майнхоффа МОССАДу. Нельзя ни за что.
* * *
Максим распахнул шторы, солнечный свет залил маленький гостиничный номер.
В первый момент Алиса не могла понять, где они, в Иерусалиме или уже в Эйлате. Вторую ночь подряд она почти не спала, ложилась под утро.
Возвращались из Иерусалима страшно долго. Ночью хлестал ливень. С гор хлынули потоки размытого песка вперемежку с камнями. Дорога была перекрыта селями, пришлось ждать четыре часа, пока расчистят узкое горное шоссе.
Остаток пути ехали на очень маленькой скорости. Трасса была мокрой, скользкой, «дворники» не успевали расчищать ветровое стекло, залепленное крупным частым градом. Ветер был таким сильным, что машина дрожала на ходу. В Эйлат они попали перед рассветом.
– Малыш, я посплю еще капельку, полчасика. – Она повернулась на другой бок и накрылась одеялом с головой.
– Ну мам, ты что?! Катер отправляется через сорок минут! Деннис уже ушел на пристань покупать билеты.
– Какой катер? Какая пристань?
– Ну мы же договорились сегодня нырять. Ты что, забыла? Вставай, мы опоздаем!
Даже после душа Алиса чувствовала себя разбитой. Глаза слипались. Она наспех глотнула чаю, Максимка нетерпеливо тянул ее за руку, всю дорогу до пристани они почти бежали.
Деннис ждал их в маленьком открытом баре у кассы. Перед ним стоял высокий стакан с апельсиновым соком.
– Доброе утро, – он виновато улыбнулся, – я пытался отговорить Максима. Мы все не выспались, можно было бы и завтра понырять. Но ребенку не терпится. Оказывается, в его электронной игрушке есть будильник. Он разбудил меня в восемь утра и никаких Моих возражений не желал слушать.
Народу на прогулочном катере оказалось много. Алиса надеялась прикорнуть на мягком кожаном диванчике в закрытом трюме, но все диванчики оказались заняты. Пришлось остаться под ветром, на открытой палубе.
Девушка-экскурсовод рассказывала в микрофон по-английски о желтых акулах, серых муренах, ядовитых морских ежах и хищных кораллах, в которых запутываются любопытные рыбешки, а потом от них остаются лишь скелетики.
Алиса лениво прислушивалась, и все меньше ей хотелось отпускать сына нырять с маской.
А Деннис между тем в десятый раз подробно объяснял Максиму, как надо дышать и двигаться. Максим слушал его, чуть приоткрыв рот и сосредоточенно кивая.
– А может, вы попросите, чтобы мне выдали акваланг? Мне уже скоро одиннадцать. С двенадцати лет можно…
– Только после специальной подготовки. Как бы я ни просил, никто тебе акваланг не даст. Да ты его и не поднимешь. Всему свое время.
Рядом с Алисой дремал древний сгорбленный старец-араб. Ветер трепал длинную седую бороду, платок, обвитый черным обручем, был надвинут низко на лоб, до бровей. Глаз не было видно за темными очками.
– Стоило брать на прогулку такого древнего дедушку, – прошептал Максим Алисе на ухо, – какая ему разница, где спать?
Матросы стали разносить горячий завтрак. Жареная баранина, рыба, гора желтого пряного риса, овощи. Деннис выбрал баранину, Алиса и Максим – рыбу. Тарелки давали прямо в руки. Было вкусно, но неудобно есть без стола, ветер уносил бумажные салфетки, рис сыпался на колени.
У старика-араба опрокинулся пластиковый стакан с минералкой. Старик засуетился, неловко вытянул из широких складок своего балахона носовой платок, и на палубу посыпались деньги. Зазвенела мелочь, бумажки закружились на ветру. Большое арабское семейство с кучей детей было где-то далеко. Старик кряхтел, жалобно бормотал что-то. Ему было трудно согнуться и разогнуться. Деннис, Максим и Алиса бросились ему помогать.
– Ну вот, взяли дедушку на прогулку и забыли о нем, – проворчал Максим, интересно, кто-нибудь из этих арабов будет нырять?
Во время завтрака на палубу вышли люди, закутанные в пестрые одежды с ног до головы, увешанные бусами и колокольчиками. В программу увеселительной прогулки входило выступление экзотического бедуинского ансамбля. Артисты били в бубны и барабаны, пели протяжные песни, приплясывали, притопывали, пытались завести довольно вялую утреннюю публику, но только две пожилые американки и крошечная девочка-израильтянка не отказались выйти на середину палубы и поплясать в хороводе.
Наконец ансамбль откланялся. Публика вяло похлопала в ладоши.
Катер тем временем подплыл к специальному месту, огороженному крупной сетью от акул, бросил якорь. Желающим выдали акваланги и маски. Алисе было холодно смотреть, как Максим и Деннис раздеваются на ледяном ветру до плавок.
– Я тебя очень прошу, малыш, будь разумным. Не отплывай от Денниса.
Ей не нравилась эта затея. Она понимала, что Деннис будет рядом, ныряет много народу, все предусмотрено, развлечение рассчитано на туристов, а не на профессионалов ныряльщиков, спасатели наготове, надежная сеть от акул, стопроцентная гарантия безопасности. Еще ни разу никто не утонул во время этих увеселительных прогулок.
– Опять, что ли, нервничаешь? Ты забыла, это ты боишься воды, а не я. Вон, смотри, девчонка еще младше меня, тоже ныряет! Там ужасно красиво, такие рыбы, такие кораллы, я всю жизнь об этом мечтал, – возбужденно тараторил Максим.
Человек двадцать ныряльщиков с аквалангами и масками стали по очереди прыгать в воду. Алиса перегнулась через перила. Вода была такая прозрачная, чистая, что можно разглядеть каждую ракушку, каждую песчинку на дне. А глубина не меньше десяти метров.
Прямые солнечные лучи пронзали насквозь прозрачную толщу. Фантастические кораллы шевелили лепестками-щупальцами. Бледно-зеленые, сиреневые, ядовито-багровые, толстые, как змеи, тонкие, как во лосы, с мельчавшими соцветьями на концах, они извивались, переплетались, пропускали через себя юрких ловких рыбок, отливающих разноцветными фосфоресцирующими красками.
Деннис почувствовал легкое головокружение, сухость во рту и удивился. Он был опытным ныряльщиком. Никаких проблем с давлением, с сердцем. Да и глубина несерьезная.
Не надо было так наедаться, вот что. Целая гора риса с бараниной… Но было очень вкусно, и аппетит разыгрался на свежем воздухе. Нырять лучше на голодный желудок.
Максим тронул его за плечо и быстро поплыл к причудливому лиловому кораллу, в котором запуталось несколько морских коньков. Деннис поплыл следом, но тут же потерял мальчика из виду.
Внезапно коралл стал расти, двигаться прямо на него. Гигантские соцветья колыхались, тянули толстые щупальца, собирались, как пальцы, в, щепоть, потом раскрывались, пытаясь схватить, сжать, расплющить в огромном кулаке. Чудовищное растение всасывало Денниса, словно он был крошечным морским коньком.
Его бросило в жар, внутри все пылало и пульсировало. Он попытался всплыть на поверхность, но вода давила на него всей тяжестью. Кислород перестал по ступать через шланг, Деннис тянул в себя воздух, но в баллоне был вакуум.
«Что-то не так с кислородом? Нет, не может быть. Баллоны и шланги тщательно проверяют, компания несет ответственность… Звон в ушах… что-то с моими легкими и с сердцем… Господи, как сжимается сердце… оно всегда бьрто здоровым…»
Деннис попытался сорвать с себя маску, оттолкнуться ногами, но тело стало непослушным, вялым, как мертвые водоросли.
Шупальца коралла обвивали, душили, он был внутри многорукого лилового хищника и никак не мог вырваться, всплыть на поверхность.
Зачем он ел рис с бараниной? Странный незнакомый привкус, однако здесь столько разных экзотических пряностей.
Перед глазами неслась радужная ослепительная рябь, и почему-то сыпались дождем звонкие шекели, летали легкие купюры, старик-араб ворчал что-то, жалобно кряхтел, не мог согнуться, белая борода трепетала на ветру, под темными очками сверкали молодые глаза…
Ныряльщиков под водой не было видно, они отплывали подальше от катера. Алиса то и дело смотрела на часы. Наконец голова первого ныряльщика показалась у специального мостика. Он сорвал маску, что-то быстро сказал на иврите матросу на мостике и тут же нырнул опять. Спасательная команда засуетилась. Сразу трое стали надевать акваланги, через минуту на палубе появился врач в белом халате.
Алису зазнобило, она передернула плечами, подошла к матросу, тихо спросила по-английски:
– Что случилось?
– Все в порядке, мэм.
У мостика показалась голова Максима. Он быстро вскарабкался, сорвал маску с трубкой. Лицо его было совершенно белым. Он бросился к Алисе и не мог сказать ни слова. Его трясло как в лихорадке. Алиса закутала его в полотенце, стала растирать, почувствовала, что у ребенка стучат зубы.
– Малыш, что с тобой? Кто-то утонул?
– Нет, мамочка, нет, пусти, я сейчас… – Он вырвался из ее рук, бросился в толпу любопытных, сгрудившихся у мостика.
– Пожалуйста, разойдитесь, господа! – кричали матросы. – Разойдитесь, вы мешаете!
– Мальчик, отойди. Чей это мальчик? Уберите ребенка!
– Это мой… – опомнилась Алиса, быстро взяла Максима за плечи, отвела к скамейке.
Из воды один за другим вылезали ныряльщики. Она решила пока не задавать ребенку вопросов. Кому-то стало плохо под водой, Максимка очень впечатлительный, он испугался. Надо дать ему успокоиться. Он дрожит.
Она растерла его досуха, натянула футболку, сверху теплую фланелевую ковбойку.
– Малыш, вот сухие трусики, сними плавки. Он послушно, как автомат, переодела под длинной рубашкой, влез в джинсы, и Алисе стало страшно. Никогда она еще не видела своего ребенка в таком состоянии. Он продолжал молчать, и зубы у него все стучали. Она присела на корточки и быстро зашнуровала его кроссовки.
Когда пространство палубы открылось, Алиса увидела, как перекладывают на носилки какого-то мужчину. Лицо было закрыто кислородной маской. Носилки подняли.
– Внимание! Кто-то еще остался в воде? Мы снимаемся с якоря!
– Подождите! – спохватилась Алиса. – Там остался человек. Максим, где Деннис?
– Мама, не кричи, – произнес Максим хриплым шепотом, – Деннис там, на носилках.
– Господа, внимание, – раздался голос в громкоговорителе, – во время подводного плавания у одного из пассажиров случился сердечный приступ. Прошу вас сохранять спокойствие. Родственников или знакомых мужчины, которому стало плохо в воде, прошу пройти на нижнюю палубу. Повторяю…
Алиса собрала одежду Денниса – белый свитер, светло-серые холщовые брюки, черную куртку, с которой он не расставался. Ей показалось, что в одном из карманов лежит небольшой тяжелый предмет. Все карманы были застегнуты на «молнии».
Спускаясь по узкой лестнице, она задела курткой о перила, послышался глухой металлический удар. Алиса осторожно прощупала карман и удивилась: зачем Деннису понадобилась такая здоровенная зажигалка в форме пистолета? Он ведь не курит…
Матрос проводил их в маленькую каюту. За столиком сидел человек взеленой униформе с офицерскими погонами.
– Скажите, пожалуйста, из какой вы страны и как ваше имя? – спросил он по-английски.
– Мы из России. Моя фамилия Воротынцева.
– У вас есть с собой какие-нибудь документы? – Он перешел на русский, причем заговорил без всякого акцента.
Алиса достала из сумочки свой паспорт.
– Кем вам приходится этот человек? – Офицер пролистал ее паспорт, быстрым профессиональным взглядом скользнул по лицу, потом по фотографии.
– Знакомый. Он американец. Мы живем в одной гостинице. В соседних номерах. Его имя Деннис, фамилию не знаю. Что с ним такое?
– Сердечный приступ. Где и когда вы познакомились?
– Здесь. Я же сказала, мы живем в соседних номерах.
– Где его одежда?
– Вот, у меня.
– Разрешите, – офицер поднялся, взял из рук Алисы черную куртку, прощупал карманы. На миг лицо его изменилось, густые темные брови едва заметно дрогнули.
«Ой, батюшки, Деннис таскает в кармане самый настоящий пистолет, никакую не зажигалку. Вот почему он всегда в этой куртке, и, стало быть, в Иерусалиме стрелял Деннис, а вовсе не арабы…» – испуганно подумала Алиса.
Полицейский вытащил бумажник Денниса, раскрыл, просмотрел содержимое.
– Сколько времени вы знакомы?
– Три дня.
– Он отдыхает здесь один?
– Да. Он говорил, что приехал в Израиль в командировку. Он сотрудник корпорации «Холидей-инн», живет в Детройте. Больше я ничего не знаю о нем.
Офицер листал синий паспорт Денниса.
– Что говорит врач? Как он себя чувствует? – шепотом спросил Максим.
Офицер быстро взглянул на него и ничего не ответил.
– За время вашего знакомства господин Шервуд жаловался на сердце или на кровяное давление? Говорил, что страдает какими-либо хроническими заболеваниями? – обратился он к Алисе.
– Нет. Об этом не заходила речь. Но мне казалось, Деннис совершенно здоровый человек. Скажите, офицер, что с ним? Можно его увидеть?
– У господина Шервуда имелось удостоверение о том, что он прошел курс обучения в школе по нырянию и подводному плаванию?
– Насчет удостоверения не знаю. Но он говорил, что подводным плаванием занимается много лет. Господин офицер, вы не могли бы все-таки ответить, как он себя чувствует? Я хочу побеседовать с врачом.
– На ваших глазах мистер Шервуд принимал вчера вечером или сегодня утром алкоголь?
– Нет.
– Наркотики?
– Нет, – Алиса нахмурилась, – почему вы не можете ответить на простой вопрос: как чувствует себя Деннис Шервуд? Что с ним? Я хочу его увидеть. Я хочу поговорить с врачом.
– Потому, леди, – он перешел на английский и понизил голос, – потому, что врач констатировал смерть. Господин Шервуд умер под водой. Врач уже ничем не мог ему помочь. Вот так, леди. Я не хотел при ребенке…
Катер причалил. На пристани, у трапа, ждала машина «Скорой помощи». Вынесли носилки. Тело было полностью закрыто простыней. Максим уткнулся лицом Алисе в плечо. Толпа пассажиров стала спускаться по узкому трапу. Алиса тупо смотрела, как прошествовало многочисленное арабское семейство, потом французы. Девочка лет восьми, которая тоже ныряла с маской, всхлипывала на ходу, что-то возбужденно рассказывая родителям.
Арабский дедушка отстал от семейства. О нем, кажется, опять забыли. Он, сгорбившись, проковылял к трапу. Алиса машинально проводила его глазами. Он обернулся, взглянул прямо на нее сквозь темные очки, застыл на миг, задерживая остальных, а потом, как бы опомнившись, сбежал по трапу на пристань. Быстро, ловко, совсем молодо. И тут же растворился в небольшой толпе.
Всю дорогу до гостиницы Максим молчал и плакал.
– Мамочка, давай улетим домой. Я не смогу здесь отдыхать, загорать на пляже, развлекаться… Я хочу домой. Мне здесь страшно…
Алиса чувствовала только ледяную пустоту внутри. Когда они вошли в номер, она отыскала конверт с обратными билетами. На конверте был телефон авиакомпании.
– Здравствуйте. Я хочу поменять билеты, – произнесла она деревянным голосом в трубку, – мы должны улетать через пять дней в Москву из Тель-Авива. Нам необходимо улететь раньше. И, если возможно, прямо из Эйлата, – она назвала фамилию и номер рейса.
– Есть два места на восьмое, отлет в три сорок пять утра, но только из Тель-Авива, из Бен-Гуриона. Из Эйлата самолеты летают в Москву раз в неделю. Ближайший рейс через четыре дня, – ответила девушка на другом конце провода.
Алиса прикинула: если выехать завтра утром, к вечеру они будут в Тель-Авиве. Ночью улетят. Утром будут в Москве. Все нормально.
– Да, спасибо. Этот рейс нам подходит. Положив, трубку, она села рядом с Максимом, обняла его за плечи.
– Мамочка, он так бился… у него были судороги… я все видел. Он выгибался дугой, как будто сошел с ума, пытался сорвать с себя маску прямо под водой, и не мог. Я сначала взял его за руку, но он вырвал руку, он как будто не видел меня, не чувствовал ничего. Его пытались поднять на поверхность четверо мужчин, а он отбивался руками и ногами. Это никакой не сердечный приступ. Что-то другое. Что-то психическое, как будто у него были галлюцинации. Он бился, дрожал, а потом сразу обмяк и стал весь как тряпочный. Он умер там, под водой. Совсем умер, мамочка. Он очень здоровый, сильный, даже не курил. Он арабов в Иерусалиме раскидал, как профессионал…
«Эпилепсия? – подумала Алиса. – При эпилепсии вряд ли человек решился бы нырять с аквалангом. Но если все было именно так, как Максимка рассказывает, это действительно не похоже на сердечный приступ». Уж про болезни сердца Алиса знала почти все. Конечно, всякое бывает в воде, даже с совершенно здоровыми людьми. Но слишком неожиданно. Деннис отлично себя чувствовал, ел с аппетитом, улыбался. Крепкий, сильный, совершенно здоровый сорокалетний мужчина…
– Малыш, в жизни много случается ужасных вещей. – Она гладила Максимку по голове, произносила какие-то глупые утешительные слова, старалась изо всех сил держать себя в руках.
Ей тоже хотелось плакать. От того, что она совсем мало знала этого американца, жалость не убывала, вспухала внутри удушливой, горячей волной, подкатывала к горлу.
Стоял теплый солнечный день, из бассейна слышался веселый плеск, смех, курортная жизнь шла своим чередом. Надо было как-то убить остаток этого ненужного дня. Невыносимо идти на пляж, в ресторан, даже просто гулять па нарядной набережной.
Алиса включила чайник, взяла Максима за плечи, отвела его в ванную, умыла холодной водой, умылась сама.
– Давай-ка, малыш, попьем чайку и будем потихоньку собираться.
И вдруг зазвонил телефон. Алиса вздрогнула. Еще ни разу никто не звонил им в номер.
В трубке молчали.
– Вас не слышно. Перезвоните, – сказала Алиса. Но трубку класть не стали. До нее доносилось тихое чужое дыхание. Самое скверное, что она поняла, кто это молчит и дышит. И сразу перед глазами возник арабский старец в темных очках, легко и молодо сбегающий по трапу.
Когда наконец послышались гудки отбоя, она бросилась вон из номера.
– Максимка, не клади трубку! Я сейчас…
– Мам, ты что?! – Максим такудивился, что даже всхлипывать перестал.
– Потом объясню!
Перед тем как войти в фойе, она замедлила шаг, несколько раз глубоко вздохнула. У стойки администратора стояло трое полицейских.
«Стоп. Это тебе не Россия. Если ты сейчас станешь просить, чтобы выяснили, откуда был звонок, то возникнет столько вопросов, что тебе придется задержаться в этой стране до старости. Да и какой смысл выяснять? Что тебе это даст? Звонили по сотовому либо из городского таксофона…»
Она шагнула к стойке.
– Простите, я хочу предупредить, завтра рано утром мы уезжаем.
– Из какого вы номера, мэм? – вскинула глаза девушка-администратор.
– Из восьмого.
– Но у вас еще осталось пять дней.
– Обстоятельства изменились. Нам… Алиса запнулась, заметив, как внимательно смотрят на нее трое полицейских.
Глава 24
Среди ночи Натан Ефимович проснулся оттого, что вокруг него разговаривали, суетились. В глаза ударил яркий свет фонарика.
– Все, профессор, мы уходим, – сказала Инга, тронув его за плечо, надеюсь, никаких сюрпризов с вашей стороны не будет? Одевайтесь. – Она бросила ему черную хламиду и клетчатый платок. Сама она была одета как бедуинка.
– Опять маскарад? – спросил Натан Ефимович, сладко зевнув.
– Не огорчайтесь, профессор. Есть один приятный сюрприз для вас, произнес мужской голос по-русски.
Бренер оглянулся. У него за спиной сидел на корточках старик-араб с седой бородой. Вглядевшись, Натан Ефимович с трудом узнал Карла.
– Отлично выглядите, партайгеноссе.
– Спасибо, – улыбнулся немец.
Его лицо было освещено фонариком снизу, и улыбка получилась карикатурно-злодейская. Так в старых советских фильмах подсвечивали физиономии актеров, игравших белогвардейцев, фашистов или шпионов, чтобы они выглядели совсем уж свирепо. Карл был фашист-араб лет семидесяти, если не обращать внимания на молодой жадный блеск светло-карих глаз.
– Хватит болтать. Карл, – рявкнула Инга, – нас ждут. Что вы там копаетесь, профессор? – Ее раздражало, что они говорят по-русски. Она не понимала ни слова.
– Надеваю ботинки, фрейлейн. Слушайте, а мне обязательно надо влезать в эту половую тряпку? Вы не могли достать что-нибудь почище? Ведь воняет.
– И должно вонять, – усмехнулась Инга, – вы бедуин. Старый, больной, вонючий бедуин. Сейчас я наложу вам легкий макияж, и будет все окей.
Инга надела ему на голову платок, закрепила обручем и стала бесцеремонно рисовать что-то на его лице. Карл держал фонарь. Натан Ефимович с удивлением заметил, что от нее пахнет спиртным. Такое было впервые.
– Не знаю, кто из нас двоих крепче воняет. Карл, ваша дура еще и наклюкалась на радостях, – сказал он по-русски, – она мне глаз не выколет своим косметическим карандашом?
– Может, – кивнул Карл, – но не спьяну, а от обиды. Она очень ранимая, нежная девочка, совсем не понимает шуток. Так что вам не стоит дразнить ее, профессор.
– А в зеркало можно взглянуть?
– Не советую, – покачал головой немец-бедуин, – это вряд ли доставит вам удовольствие, да и некогда уже.
Бренера усадили в джип между Ингой и Карлом. Двое арабов сидели на переднем сиденье. За рулем молодой, тот, который хорошо говорил на иврите.
Когда джип тронулся, Бренер почувствовал, что разбитый корпус машины тоже маскарад. Внутри отличный, мощный мотор от «Мерседеса» последней модели.
Некоторое время ехали молча. Шоссе оказалось совсем близко. В свете фар вспыхнул первый дорожный указатель. Ашкерон. Значит, они уже у египетской границы. Сейчас будет въезд в сектор Газа. Там патрули. Первые и последние израильские патрули, которые попадутся у них на пути.
– Через несколько минут нас остановят, профессор, – тихо произнес Карл, я хочу спросить: есть необходимость вкалывать вам сейчас снотворное или вы будете вести себя разумно? Учтите, одно слово на контрольном пункте, и вы умрете. Сразу, в ту же секунду. А через несколько часов умрут ваши внуки, ваш сын и невестка.
– Но и вам не поздоровится в таком случае, – заметил Бренер, – в Израиле отменена смертная казнь, однако пожизненное заключение вам будет гарантировано. Если начнете сопротивляться при аресте, вас с удовольствием пристрелят. А что касается внуков и сына, я уверен в их безопасности по одной простой причине: их охраняют очень тщательно, не столько ради спасения их жизней, сколько ради того, чтобы выйти на вас. Стоит кому-то из ваших людей мелькнуть в радиусе нескольких километров, и…
– Вы думаете, мы вас застрелим? – перебил его немец. – Ничего подобного. Инга всадит вам смертельную дозу диплацина. Вы умрете мгновенно; но никто этого не заметит. Более того, вы просто не успеете произнести ни слова. У Инги потрясающее чутье. Вы только захотите открыть рот, а уже будете на том свете. Что касается Тель-Авива, то вынужден вас разочаровать. Никто из моих людей в поле зрения полиции не мелькнет. Все обложено хитрой взрывчаткой. Достаточно нажать кнопку на пульте.
– Ну, положим, ваша пьяная подруга экстрасенсорными способностями не обладает, и сказать солдатам на контрольно-пропускном пункте пару слов я успею. Про Тель-Авив – ерунда. Взрывчатку давно обнаружили. А скорее всего их переселили куда-то.
Помолчав немного, немец печально произнес:
– Мне не нравится ваше настроение, Натан Ефимович. Вероятно, без снотворного не обойтись. Это все-таки лучше, чем яд.
– Ладно, Карл, – поморщился Бренер, – я хочу еще пожить и поработать. Не нервничайте. Буду сидеть тихо.
Через пятнадцать минут джип остановили на контрольно-пропускном пункте перед въездом в сектор Газа. Яркие прожектора били в пыльные стекла.
– Осторожно, господа, – с улыбкой сказал молодой араб, который сидел за рулем, – у нас в машине человек, зараженный пустынной лихорадкой. Приезжали сюда к знахарю, который может вылечить болезнь на последней стадии. Но все без толку. Умирает старик. Вот, возвращаемся домой, в Египет.
Натан Ефимович чувствовал, как Инга у него за спиной, под длинным концом платка, держит наготове шприц. Одно неверное движение – игла войдет под лопатку. А солдатам кажется, что молодая бедуинка нежно обнимает больного старика.
Он почти не сомневался, что шприц наполнен не ядом, а все тем же снотворным. Они рассчитывают на шоковый эффект. Предупредили, что умрет, значит, как минимум несколько минут после укола будет молчать. А потом уснет. Конечно, они стараются не злоупотреблять снотворным. Понимают, как это действует на мозги. Но если он вякнет, кольнут в ту же секунду. И черт их знает, может, правда всадят диплацин. Диплацин блокирует проведение импульсов в нервно-мышечных санапсах. А проще говоря, прекращает работу сердечной мышцы. Моментальная остановка сердца.
Солдаты осмотрели машину со всех сторон, заглянули в багажник. Единственным на пятерых бедуинов документом были водительские права на имя Саид-Алимех-Хусейн-бека, жителя Египта. И номера на джипе были голубые, египетские. Желтые, израильские, с которыми он стоял в пустыне Негев, перед отъездом свинтили.
– Счастливого пути, – вежливо улыбнулся офицер.
Последний израильский контрольный пункт остался позади. Инга убрала свой шприц. Натан Ефимович усмехнулся. Второй раз в жизни он почувствовал себя предателем родины. Двадцать лет назад добровольно уезжал из России. Сейчас его насильно волокут обратно, и он как бы предает Израиль.
«Хватит рефлексировать, паршивый интеллигент, – сказал он самому себе, расслабься, Натанчик, и получай удовольствие от жизни, потому что неизвестно, сколько тебе еще осталось. Ведь скорее всего тебя используют в, какой-то международной бандитской комбинации, и живым ты вряд ли выберешься…»
– Чтобы вам не было слишком уж тяжело расставаться с землей обетованной, могу сообщить, какой замечательный вас ждет сюрприз, – Карл сверкнул в темноте глазами, – путешествие на яхте по Средиземному морю до берегов Греции. Каюта со всеми удобствами. Отличный стол. Вы только представьте, уже через несколько часов вы примете горячий душ, вам подадут вкусный ужин, вы уснете на чистом белье, и море будет ласково плескаться под ухом, и сны будут сниться светлые, радостные, как в раннем детстве.
* * *
Разговор не ладился. Цитрус выглядел плохо. Он выглядел как человек, который явился, чтобы о чем-то просить. Мальков чувствовал: сейчас попросит о какой-нибудь сложной услуге, причем бесплатной. Одалживаться будет на правах старого приятеля. Мальков терпеть не мог таких вещей.
А Цитрус все тянул, ничего интересного не сообщал, вяло ковырял вилкой остывший свиной шашлык, жирный, жилистый, пересоленный, и мямлил что-то невнятное.
– Зря ты не взял севрюгу, – заметил Мальков, отправляя в рот ломтик свежайшей, запеченной на углях, пахнущей дымком рыбы, – шашлык тебе достался неудачный. А у меня севрюга отличная.
– Все равно мне есть не хочется, – Цитрус отложил вилку, закурил и несколько минут тупо смотрел в окно, мимо которого двигались по замерзшей грязи ноги прохожих.
– Давно хотел побывать в этом подвале. Хорошо, что ты меня вытащил, сказал Мальков и ловко подцепил зеленую маслину, – у вас, я слышал, был партийный юбилей?
– Ага, – Цитрус рассеянно кивнул.
– Ну так давай выпьем за здоровье вашей партии, – усмехнулся Мальков и поднял коньячную рюмку. – Прозит! Хайль, Цитрус! А ты чего смурной такой?
Гарик не знал, как лучше приступить к главной теме разговора. Всего час назад, на кухне, все казалось так просто и понятно: Мальков выводит его на Подосинского, он сообщает Геннадию Ильичу о предательстве Азамата, и завязываются между миллиардером и писателем самые теплые, доверительные отношения. А сейчас, глядя в голубые, холодные, хитрые Петькины глаза, он терялся, не мог подобрать нужных слов. Наконец, ожесточенно раздавив окурок в пепельнице, произнес самым будничным, самым равнодушным тоном, на какой был способен:
– Слушай, Петька, ты не знаешь случайно, Подосинский сейчас в Москве?
Мальков едва заметно двинул бровями, не спеша прожевал последний кусок севрюги и таким же равнодушным тоном ответил:
– Понятия не имею.
После долгой неприятной паузы, мучительно сглотнув и закурив еще одну сигарету, Цитрус сказал:
– А можешь узнать для меня, в Москве он или нет?
– Зачем тебе? – быстро спросил Мальков.
– Очень надо. Позарез надо, Петька, причем не только мне, но и ему тоже.
Мальков откинулся на спинку стула и весело, от души рассмеялся. Цитрус смотрел на его блестящие белые зубы, на крепкий щетинистый подбородок, ритмично дергающийся от смеха, на прищуренные голубые глаза, прикрытые длинными, черными, девичьими ресницами, и больше всего на свете ему хотелось врезать кулаком по этой счастливой, сытой, смеющейся физиономии.
– Я вижу, Гарик, вы здорово пили на своем партийном юбилее, – сказал Мальков, отсмеявшись, – перебрал ты, брат. И не проспался.
– Петька, сведи меня с Подосинским. Очень прошу. Никогда ни о чем не просил, а теперь надо позарез, и ты зря гогочешь. Я не могу тебе всего рассказать, это не мой секрет, – Цитрус заговорил горячо, быстро, даже привизгивал на высоких нотах.
– А чей же? – прищурился Мальков.
– Я уже сказал. Это касается Подосинского. Кинули меня, понимаешь? Но не только меня, его тоже могут кинуть. Так совпало. Кроме меня, никто пока не догадывается, и предупредить некому.
– Подожди, так ты вроде знаком с этим, как его? – Мальков защелкал пальцами. – Ну, чеченец, Мирзоев, кажется? Да, точно, Азамат Мирзоев. Через него проще выйти на Подосинского, чем через меня. Они старые приятели.
Цитрус нервно заерзал на стуле, лицо его сморщилось, побледнело, он показался совсем старым и несчастным.
– Нет, Петька, это исключено… Черт, не могу я тебе всего рассказать. Слишком все сложно. Человек, которому Подосинский доверяет, может здорово его подставить, и надо предупредить заранее. Еще раз повторяю, никто, кроме меня, пока не догадывается.
«Сейчас заплачет», – отметил про себя Мальков, глядя в покрасневшие отечные глаза Цитруса.
– Ох, Гарик, пора тебе боевики писать, – покачал он головой, – чувствую, дозрел до хорошего боевика. Смотри, какую здесь мне интересную интригу выложил, но при этом ничего конкретного не сказал.
Цитрус перегнулся через стол и задышал шашлычно-табачным духом Малькову в лицо:
– Человек, который меня кинул, может меня теперь замочить. Запросто. Большой резон ему меня замочить. А если заранее предупредить Подосинского, то резона уже не будет. Ну ты можешь мне, Петька, жизнь спасти, а?
Цитрус, конечно, преувеличивал. Ему хотелось во что бы то ни стало пробить стену Петькиного насмешливого равнодушия. Но он здорово завелся и сам поверил в то, что говорит. Ему уже казалось, что Азамат и правда пришлет к нему киллера.
– Я должен знать, в чем дело, – Мальков вяло поковырял ложкой апельсиновое суфле и подумал, что напрасно заказал себе десерт после сытной порции севрюги с жареной картошкой и соленьями.
– Не могу, – жалобно простонал Цитрус, – ни одного имени не могу произнести вслух, понимаешь?
– Не понимаю, – покачал головой Мальков, – как я тебе помогу, если не знаю, о чем речь?
– Ну хорошо, я попробую обрисовать тебе ситуацию, не называя имен, зашептал Цитрус. – Меня попросили связаться с одним очень известным человеком, съездить за границу, встретиться с ним и передать предложение другого, еще более известного человека. Тот, который попросил, обещал, разумеется, гонорар. Выплатил аванс. Мелочь, копейки. А остальное я должен был получить, как только тот, из-за границы, приедет в Москву. То есть факт его приезда означает, что дело сделано. Мне говорят, будто его еще в Москве нет, а он уже здесь. Значит, мне врут, меня кидают.
– Подожди, а при чем здесь Посинский?
– Как – при чем? – обиделся Цитрус. – Именно его предложение меня попросили передать тому человеку, который как бы не приехал, но на самом деле уже приехал. Слушай, Петюня, если я прав, а я наверняка прав, – Подосинский должен будет меня отблагодарить за такую информацию. От него скрывают, что задание выполнено, хотят воспользоваться за его спиной… В общем, я хорошо с тобой поделюсь, от души.
– Ну, это понятно, – саркастически хмыкнул Мальков, – это само собой. Ты лучше скажи, в чем суть предложения, которое тебя просили передать?
– Ну ты даешь, Петька! – нервно хохотнул Цитрус. – За такую информацию убивают, тебе ли не знать? Я даже иносказательно не могу…
– Фиг с тобой, не надо, – легко согласился Мальков, – только скажи, ты точно знаешь, что он уже в Москве? Насколько надежные у тебя сведения?
– На сто процентов. Он был у меня дома. С какой-то бабой. Мы пили вместе. Я это точно помню.
Мальков долго молчал, откинувшись на спинку стула и опустив длинные девичьи ресницы. Лицо его ничего не выражало, кроме сытости после вкусного ресторанного ужина.
– Ладно, не страдай, великий русский литератор, – произнес он наконец с теплой улыбкой и потрепал Цитруса по плечу, – дело ведь не в том, что я не хочу или боюсь. Я уже понял, тебе очень надо. Но я просто не могу. Не такие у меня с ним близкие отношения, чтобы прямо завтра вас, как ты выразился, «свести». Эти дела просто так, в один день, не делаются. Да и нет его сейчас в Москве.
– А где он?
– На Кипр улетел, – тяжело вздохнул Мальков. – Слушай, Гарик, а ты, может, преувеличиваешь? Может, не так все страшно? Люди, которые рядом с Подосинским, никого просто так не кидают. А уж его самого – тем более. Все ведь жить хотят, Гарик, не только ты один.
– Меня кинули не просто так, а с серьезным расчетом. Там не в деньгах дело, – Цитрус обреченно покачал головой, – я не преувеличиваю. Слушай, а он надолго улетел на Кипр, не знаешь?
– Ну, откуда мне знать? Дня на три-четыре, наверное.
– А потом, когда вернется, может, ты как-нибудь найдешь способ?
– Я уже понял, Гарик, что для тебя это очень важно. Обещать не стану, но если вдруг представится возможность – сделаю.
«Он сжалился, он добрый, – усмехнулся про себя Гарик, – он великодушный. Я должен ему, гаду, в ножки поклониться и ждать теперь, вздрагивая от каждого телефонного звонка, когда его светлости представится возможность…»
– Спасибо тебе, Петя, – проговорил Цитрус серьезно и даже с некоторым пафосом, – я в долгу не останусь.
Вернувшись домой, на свою одинокую кухню, Цитрус почувствовал себя еще гаже, чем прежде. Все он не правильно сделал. Унижался перед Петькой Мальковым, как бедный родственник, как неудачник, умолял сильного счастливого приятеля словечко замолвить. А толку – никакого.
* * *
Поздно вечером, когда Максимка уже уснул, в дверь постучали.
– Добрый вечер. Я сотрудник американского посольства. Меня зовут Вильям Баррет. Можно войти?
– Да, конечно. Здравствуйте.
Высокий худой старик в светлом костюме, с редким седым ежиком вокруг гладкой лысины, шагнул в номер, крепко пожал Алисе руку.
– Портье сказал, вы уезжаете завтра утром. Простите, что я так поздно. Мне пришлось ждать результатов вскрытия, заполнять множество бумаг, отвечать на вопросы. Я бы хотел поговорить с вами о Деннисе, если не возражаете.
– Не возражаю, мистер Баррет, – слабо улыбнулась Алиса, – только давайте выйдем во двор. Я боюсь, мы разбудим ребенка.
– Да, конечно. Для вашего мальчика это сильное потрясение. Он ведь тоже был в воде.
Они вышли, сели за пластиковый стол. Алиса закурила.
– Я хорошо знал Денниса, он был моим другом, – Баррет тяжело вздохнул, – в последний раз мы с ним встречались здесь два дня назад. Я приехал на неделю из Тель-Авива с семьей, отдохнуть. Деннис мне рассказывал о вас. Собственно, я пришел совершенно неофициально. Мне просто хочется поговорить с вами. Так получилось, что вы оказались… для вас это, возможно, новость, но вы много значили для него. Я бы ни за что не сказал это, если бы он был жив…
– Хотите чаю, мистер Баррет?
– Нет, спасибо. Знаете, мне трудно говорить о Деннисе в прошедшем времени, поэтому прошу меня простить, если буду сбиваться.
– Что показало вскрытие? – тихо спросила Алиса.
– Острая сердечная недостаточность. Бывает, даже у совершенно здоровых людей. Крайне редко, но бывает. Сорок лет для мужчины в этом смысле критический возраст.
– Сердечная недостаточность? Это совершенно Точно?
– Да. Врач объяснял мне полчаса назад, что это может произойти на фоне кажущегося здоровья. Врач несколько раз повторил, что здоровье бывает именно кажущимся. Но я, честно говоря, все равно не понял. А почему вы спросили?
– Я знаю, что такое скоропостижная смерть. Действительно, бывает, но крайне редко, и обязательно на фоне какого-нибудь хронического заболевания. Дело в том, что все эти заболевания, ревматизм, например, гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, все-таки дают о себе знать, особенно если человек следит за собой. А Деннис, насколько я успела понять, к своему здоровью относился серьезно.
– Да, Деннис очень следил за собой. И потом, он раз в году проходил обязательную диспансеризацию, как все служащие системы «Холидей-инн». Знаете, компании, которые выплачивают своим служащим солидные пособия по болезни, относятся к здоровью сотрудников весьма внимательно, проверяют на предмет курения, употребления спиртного, поощряют занятия спортом.
– Да, я слышала об этом, – кивнула Алиса, – и еще я знаю совершенно точно, что практически все болезни, которые могут стать причиной скоропостижной смерти, при современных способах диагностики можно обнаружить заранее, принять какие-то меры, во всяком случае, поставить человека в известность… В общем, если бы Деннис был болен, он знал бы об этом. Он не стал бы нырять с аквалангом.
– Алиса, откуда такие познания в медицине? Деннис сказал, вы архитектор по специальности.
– Ну, особых познаний нет. Просто мой отец был врачом, и мама у меня тоже врач, я читала много всякой медицинской литературы. А вообще, когда молодой, сильный, спортивный, совершенно здоровый человек вот так внезапно погибает без всяких внешних причин, это не может не вызвать подозрений. В это отказываешься верить.
– Судебные медики проверили все очень тщательно. Ведь компания несет ответственность. Если выяснилось бы, например, что акваланг был неисправен, у них могли возникнуть очень серьезные неприятности.
– А если что-то оказалось в еде? – быстро спросила Алиса и тут же спохватилась:
– Нет, я понимаю, это ерунда. Все ели, на катере было человек пятьдесят, не меньше, и все ели. Мы с Максимом тоже.
– Почему вам такое пришло в голову, Алиса?
– Скажите, мистер Баррет, Деннис не страдал эпилепсией? – спросила она в ответ.
– Нет. Вы совершенно правы в том, что он был очень здоровым человеком. Я знал его студентом. Я ведь тоже родом из Детройта и преподавал в университете. Деннис учился у меня. Почему вы спросили про эпилепсию?
– Просто мой сын очень подробно рассказал мне, как все произошло. У Денниса были страшные судороги под водой. Он бился, словно у него начался припадок либо галлюцинации. Он отбивался от людей, которые пытались поднять его на поверхность. Невозможно представить Денниса, который… в общем, в голову лезет множество вопросов. Разумеется, напрасных и глупых.
– Мне эти вопросы вовсе не кажутся напрасными и глупыми. С трудом верится в случайность, – он произнес это очень тихо и медленно, – однако местная полиция категорически отрицает какой-либо криминал.
– Конечно, – кивнула Алиса, – ну какой может быть криминал? Несчастный случай…
Они помолчали. Алисе стало не по себе под пристальным взглядом добрых, мягких светло-голубых глаз американца. Совсем недавно они точно так же сидели с Деннисом, и тоже взгляд у него был слишком пристальный, неприятный. Возникло тревожное чувство: какой-то вкрадчивый подтекст стоит за словами, за вопросами. Чего-то от нее хотят – нечаянной оговорки, а возможно, нервного приступа откровенности. Так смотрят на человека, которому есть что скрывать.
– Знаете, Деннис говорил мне, что вы выглядите напуганной, вы зажаты, неконтактны, – американец быстро притронулся к ее руке, – ему показалось почему-то, что вы здесь случайно встретили неприятного старого знакомого, и эта встреча подействовала на вас угнетающе. Впрочем, Деннис большой фантазер. Я сказал ему, что он, вероятно, пытается найти уважительную причину вашего прохладного отношения к нему. Я спросил: а тебе бы хотелось, чтобы русская леди после двух дней знакомства бросилась к тебе на шею? Он ответил: да, именно этого мне хочется. Ужасно хочется. Вы всерьез ему понравились, Алиса. Он ведь очень одинокий человек. Есть отец, сестра и племянник. С женой он развелся два года назад.
– Да, я знаю, – кивнула Алиса.
– Так кто был прав? Я или он? – Баррет слабо улыбнулся.
– Что вы имеете в виду?
– Вы были в постоянном напряжении оттого, что случайно здесь кого-то встретили или просто ухаживания Денниса вас тяготили? Я понимаю, что лезу не в свое дело, но хочу вам сразу объяснить. Мне придется сообщать отцу и сестре Денниса, сопровождать тело в Детройт. Я знаком со стариком. Ему семьдесят шесть лет. Можете представить, в каком он будет состоянии. Единственный шанс хоть как-то смягчить страшный удар – очень много говорить, подробно рассказывать о последних днях. Старику будет все важно, каждая деталь, каждый штрих. Вот поэтому я и спрашиваю вас о том, о чем бы ни за что не спросил в иной ситуации. Вы понимаете меня, Алиса?
– Если это так важно, вы можете сказать отцу Денниса, что случайная русская леди, с которой его сын познакомился в Эйлате, ответила ему полной взаимностью, влюбилась по уши.
– Именно так я и скажу. Хотя, конечно, это не правда… Я старый сентиментальный человек, но вы вряд ли поверили сейчас в мою сентиментальность. Ладно, Алиса, буду с вами откровенен. Дело не в отце Денниса, хотя, конечно, мне придется встретиться с ним. Дело совсем в другом. Местная полиция заинтересована, чтобы случившееся не стало серьезным событием в жизни курортного города. Смерть американского гражданина должна быть скоропостижной смертью, вызванной скрытым внутренним недугом, но никак не внешними причинами. Даже несчастный случай им удобней исключить.
– Я понимаю, – кивнула Алиса.
– Это хорошо, что вы понимаете. Так вот, у них, у израильтян, свои интересы, а у меня, американца, свои, совсем другие. Я бы все-таки хотел выяснить точно, совершенно точно, почему умер Деннис Шервуд, мой бывший студент. У посольства есть такая возможность. Небольшая, конечно, но есть. И без вашей помощи нам будет значительно трудней это сделать. Вы – единственный наш свидетель. Я не имею права задерживать вас здесь, везти в Тель-Авив, чтобы там вы дали подробные свидетельские показания нашей службе безопасности. Да и не стал бы я этого делать, даже если бы имел такое право. Я не сомневаюсь, что вы расскажете мне очень подробно о последних днях, часах и минутах Денниса. Ведь вам нечего скрывать, Алиса. Поэтому вы все расскажете. Я прав?
– Конечно, – кивнула Алиса, – я расскажу.
Глава 25
«Вот не провел бы я столько времени в грязи, разве доставила бы мне такое удовольствие обыкновенная горячая ванна?» – думал Натан Ефимович, закрывая глаза и с наслаждением вдыхая свежий сосновый аромат.
Ванна, положим, была не совсем обыкновенная. Овальная джакузи нежно-розового цвета. Краны, краники, сливные дырочки – изысканные композиции из матового фаянса и сверкающего хромированного никеля, настоящие произведения санитарно-технического искусства.
В хитром зеркальном шкафчике с раздвижными дверцами имелся полный набор дорогих гигиенических средств – несколько сортов зубной пасты и шампуней, ополаскиватели для волос и для рта, гели для бритья и после бритья, баночки с кремами, мужской одеколон «Рафаэлло», щетки и щеточки для зубов, для ногтей, для волос, для массажа лица и тела, еще множество всяких милых мелочей. Кроме того – пушистые полотенца, пара халатов, тапочки.
Если учесть, что все эти миллиардерские радости не на твердой земле, не на какой-нибудь вилле, а посреди моря, внутри белоснежной, отделанной мореным дубом посудины, то прямо дух захватывает. Умеют жить умные люди, умеют себя любить и уважать, дай им бог, бандитским мордам, всяческих проблем и неприятностей…
Конечно, в первый момент собственное отражение в зеркале подпортило удовольствие. Но Бренер просто зажмурился, чтобы не видеть свою осунувшуюся, поросшую седой щетиной, покрытую красно-серыми пятнами физиономию, свалявшуюся, как войлок, шевелюру, черные круги под тусклыми усталыми глазами. Так, зажмурившись, постанывая, покряхтывая, скинул ненавистную бедуинскую хламиду, свернул в ком вместе с собственной грязной одеждой и, прежде чем залезть в волшебную джакузи, швырнул все это пинком за дверь ванной комнаты, повернул ручку, радостно отмечая, что впервые за эти дни он остался один, за запертой дверью, совершенно один, и нет рядом ни дуры Инги с ее пушкой, ни мрачных амбалов-арабов, ни вежливого Карла.
То есть, конечно, вся компания здесь, на яхте, однако их не слышно и не видно. Журчит водичка, небольшая, скромная с виду яхта покачивается на мягких волнах Средиземного моря. И что самое поразительное – все ближе к России подплывает эта красивая посудина, игрушка какого-нибудь бандита-миллиардера. Греция, потом Болгария, а дальше… Ну почему, спрашивается, от одной только мысли о Москве так больно и сладко вздрагивает сердце?
Натан Ефимович засмеялся. Как просто размякнуть старому еврею. Довольно лишь горячей ванны с сосновым ароматом после трех дней вонищи-грязищи. Благородные бандюги везут его не в трюме с гнилой соломой и шустрыми крысами, не в железном ошейнике на цепи, а со всеми удобствами. Как равного, мать твою… Интересно, неужели яхта принадлежит гражданину России? Хотелось бы посмотреть на это чудо. Для человека, покинувшего Советский Союз в 1978-м, русский миллиардер – это действительно чудо, что-то вроде марсианина или двухголового теленка.
«Посмотришь еще, наглядишься, – сказал себе Натан Ефимович, – лучше подумай, как станешь выкручиваться из бандитской игры. Однако чего сейчас-то думать? Я пока не знаю ни игроков, ни правил. Этот Карл, вероятно, очень крупный международный террорист. Жалко, я не любитель теленовостей и газет. Было бы не вредно в моей ситуации хоть немного разбираться в политике».
Он вылез из ванной и увидел в зеркале уже совсем другое лицо, порозовевшее, гладкое, довольное. Оставалось только побриться. А потом еще бы и поесть. А потом – выспаться по-человечески, на чистом белье.
Ужинать, сидя за столом, а не на корточках, было удивительно приятно. Настоящие фарфоровые тарелки вместо картонок из придорожного кафе. Серебряные приборы, хрустальные бокалы, маленькая уютная столовая или кают-компания, в общем, скромное помещеньице для миллиардерских трапез.
– Угощайтесь, Натан Ефимович, – улыбнулся немец, – кошерных блюд на этом судне, конечно, нет. Но вы, надеюсь, не придерживаетесь кошерной диеты?
Он давно снял свой маскарадный костюм, он был теперь такой же гладкий, чистый, розовый, как Натан Ефимович. Инга, тоже чистая, но мрачная молчаливая в отличие от своего приветливого партайгеноссе, то и дело подливала себе виски, опрокидывала в рот стакан за стаканом и почти не прикасалась к еде.
– Я не придерживаюсь никаких диет. – Бренер положил в рот сочный кусок жареной свинины. – Очень вкусно. Кто же все это готовил?
– Прислуга, – небрежно бросил немец, – ваше здоровье, – он отхлебнул виски, – а вы совсем не пьете?
– Я люблю коньяк. Виски терпеть не могу.
– А говорите, не придерживаетесь диеты, – засмеялся немец, – коньяк здесь тоже есть.
Он встал, открыл зеркальный бар, достал матовую толстобокую бутылку «Камю».
– Сколько дней мы будем плыть? – Бренер пригубил коньяк.
– Дня четыре, не больше.
– Жаль. Когда еще доведется попользоваться за счет бандитских капиталов? Скажите, неужели хозяин всего этого счастья – русский?
– Ну, не совсем, – улыбнулся Карл, – он примерно такой же русский, как вы, то есть еврей. Но гражданин России. И, кстати, он вовсе не бандит.
– А кто же?
– Банкир, политик.
– Как фамилия?
– Вы многого от меня хотите, – развел руками немец, – потерпите, он скоро сам лично вам представится.
– А все-таки между нами, мальчиками, зачем я ему понадобился?
– Ну-у, Натан Ефимович, – Карл укоризненно покачал головой, – всему свое время. Честно говоря, не разбираюсь я в этих играх.
– Неужто? – прищурился Бренер. – А зачем тогда вы в них участвуете?
– Платят хорошо, – он ухмыльнулся, – работа не скучная, не пыльная.
– Сколько вы знаете языков, Карл?
– Английский, русский, испанский, арабский, иврит. Пять, кроме родного. Правда, не все так хорошо, как русский, но мне хватает.
– Вы могли бы зарабатывать деньги как-то иначе.
– Мог бы, – кивнул немец, – а если учесть, что я закончил исторический факультет Берлинского университета с отличием, да еще аспирантуру Института международных отношений в Москве, то я вообще мог бы стать дипломатом или профессором, как вы.
– И что же вам помешало?
– Азарт. Я люблю рисковать.
– Если я правильно понял, вы террорист?
– В определенном смысле, – кивнул Карл с комической важностью.
– Есть у вас какая-нибудь программа, цель?
– А почему вы думаете, что они должны быть?
– Ну, надо ведь чем-то оправдывать риск, жестокость, убийства, – пожал плечами Бренер, – я плохо разбираюсь в политике, но каждому школьнику известно, что у террористических группировок должна быть некая красивая сверхзадача переделать мир, осчастливить человечество, отомстить, изменить что-то в истории и в географии, оттяпать кусок земли у одного государства и передать другому, истребить каких-нибудь врагов по национальному, социальному, или религиозному признаку. Наконец, просто доказать себе и другим собственную значимость. Ну как же без этого?
– А у вас, когда вы изобретаете в своей лаборатории всякую пакость, разве есть программа, цель?
– Я занимаюсь наукой. У науки нет никакой цели, как и у искусства. Это самодостаточные понятия.
– А мораль? – хитро прищурился Карл. – Вам интересно наблюдать, как размножаются вирусы и всякие бактерии? Как мучается подопытный кролик, мой тезка? Вы представляете себе, что так же будут мучиться люди, если плоды ваших исследований кто-то применит на практике? Женщины, дети, старики, совершенно невинные люди…
«Надо же, запомнил кролика, – усмехнулся про себя Бренер, – задела его за живое судьба подопытного тезки…»
– Плодами моих исследований можно по-разному распорядиться. Можно убивать, но можно спасать, лечить. Вот тут как раз и начинается мораль.
– Эйнштейн и Сахаров были гениальными учеными, высоконравственными людьми, – задумчиво произнес Карл, – но разве не лежит на них вина за появление атомного оружия?
– Убивать можно и топором.
– Правильно. Но масштабы разные. Или вы солидарны с Иосифом Джугашвили? Он довольно верно заметил, что гибель одного человека – трагедия, а гибель сотен тысяч – уже статистика. Оружие массового уничтожения изобрели такие, как вы, интеллигентные, тихие, гуманные люди. Так что еще неизвестно, кто из нас террорист, – Карл весело подмигнул, – мы с вами в одной лодке, профессор. В прямом и переносном смысле.
– Заткнитесь, вы, оба! – Инга шарахнула кулаком по столу, зазвенела посуда. – Карл, ты так много говоришь с еврейской свиньей, чтобы освежить свой русский? Чтобы легче общаться с твоей славянской проституткой?
Инга была сильно пьяна. Щеки ее пылали, светлые свежевымытые волосы падали на лицо, в глазах вспыхнул ледяной бледно-голубой огонь, не предвещавший ничего хорошего. Ни Бренер, ни даже Карл не успели заметить, каким образом в ее руке появился пистолет. Дуло заплясало перед глазами.
– Вы бы съели что-нибудь, фрейлейн, – осторожно произнес Натан Ефимович по-немецки.
– Молчать! Убью! Карл, учти, я все знаю. Я всегда все знаю. Ты только и ждешь, когда мы приедем в эту вонючую Россию, чтобы опять встретиться с ней. Не дождешься! Сначала я ее прикончу вместе с ее выродком. Он ведь твой, Карл? Какое счастье, у тебя есть сын! – она скорчила приторную гримасу. – Ты получишь деньги за эту операцию, купишь домик в Новой Зеландии и заживешь там в гнездышке со своим счастливым семейством.
– Инга, детка, убери пистолет, майне кляйне, – Карл расслабленно откинулся на стуле и закурил, – мы все устали, перенервничали, пора спать.
Инга щелкнула предохранителем. Рука ее тряслась, дуло перепрыгивало с Карла на Бренера и обратно. В дверях показался незнакомый здоровенный бритоголовый детина. Инга сидела спиной к двери, но просекла по реакции Карла и Натана Ефимовича, что там кто-то есть.
– Не дергайтесь. Тихо сидите. Оба. Одно движение стреляю. Ты, скотина, пошел вон отсюда!
Парень вопросительно уставился на Карла. Судя по выражению его квадратного лица, он не знал немецкого. Карл затянулся, стряхнул пепел и произнес по-русски:
– Все нормально, Эдик. У нас семейная сцена.
– Это прислуга? – усмехнулся Бренер.
– Совершенно верно, – кивнул Карл, – вы спрашивали, кто так вкусно приготовил свинину. Именно он, Эдик. Он вообще мастер на все руки.
– Карл, я не шучу. Ты меня знаешь. – Инга, выпятив нижнюю губу, сдула легкую прядь со лба.
Натан Ефимович заметил, что рука с пистолетом уже не так сильно трясется.
– Майне либе, – вздохнул Карл, – может, мы отпустим профессора и выясним наши отношения наедине?
– Нет. Он останется здесь. Это даст тебе шанс. Если ты продолжишь валять дурака, я сначала убью его. Тогда, возможно, ты одумаешься.
– Слушай, детка, что с тобой? У тебя очередной приступ ревности? Должен сказать, очень не вовремя.
Давай сначала завершим операцию, а потом займемся личными проблемами. Сейчас тебе лучше лечь спать. Ты много пила и ничего не ела. – Карл загасил сигарету, протянул руку к Инге.
Натан Ефимович осторожно приподнялся. Ему вовсе не хотелось схлопотать пулю от этой пьяной идиотки.
– Сидеть! – рявкнула она. – Вы оба не выйдете отсюда, пока я не узнаю все про твою русскую проститутку. Меня интересует имя, фамилия, возраст, адрес в Москве.
– Хорошо, – кивнул Карл, – только сначала объясни, почему ты так завелась? С чего ты взяла, что у меня есть какая-то женщина в России? А тем более – сын. Кто тебе сказал эту чушь?
– Никто. Я ее вычислила. Еще тогда, одиннадцать лет назад. Ты не просто так без конца мотался в Россию.
– Правильно, – спокойно кивнул Карл, – я там учился, у меня там было много дел.
– Много дел и одна проститутка.
– Детка, перестань, – он поморщился, – каждый раз, когда я приезжаю из какой-нибудь страны, ты мне устраиваешь сцены ревности. Ты же знаешь, как я тебя люблю, майне кляйне. Ну разве может кто-то с тобой сравниться? Тем более какая-то русская.
– Карл, не морочь мне голову. Да, я знаю, ты с ней расстался и забыл о ней. Но сейчас в Эйлате встретил опять. Более того, ты узнал, что она родила ребенка. Мальчика. И решил, будто это твой сын. Правильно, по времени все совпадает. К тому же мальчишка похож на тебя, я видела фотографии. И ты, Карл, распустил сопли. Ты всегда мечтал о сыне. Я не виновата, что не могу родить. Она все еще держала пистолет. Теперь уже рука не тряслась, но дрожал голос.
– Ты у меня фантазерка, – Карл ласково улыбнулся, – слушай, давай отпустим профессора? Я провожу его в каюту, а потом, наедине, все тебе объясню.
– Я сказала, он останется здесь.
– Послушайте, фрейлейн, – подал голос Натан Ефимович, – мне вовсе не интересно наблюдать вашу семейную сцену. Я устал, честное слово.
На самом деле ему было очень даже интересно.
Пистолет уже не пугал его. Натан Ефимович почти не сомневался – теперь она точно не выстрелит. Слишком уж затянулся разговор. Пьяный гнев остыл, с каждым словом, с каждой минутой ей все сложней нажать курок. Хотя кто ее знает?
– Хорошо, Инга, – Карл с хрустом потянулся, сцепил руки на затылке, если тебя так разволновали эти дурацкие фотографии… Да, я встретил в Эйлате одну старую знакомую из России. Много лет назад ее под меня старательно подкладывали сводники из КГБ. По моим сведениям, она продолжает тесно сотрудничать, теперь уже с ФСБ. Более того, я подозреваю, она владеет информацией об этой нашей операции. Я намерен встретиться с ней в России и кое-что выяснить.
«Господи, что за бред! – думал Натан Ефимович, стараясь, чтобы удивление никак не отразилось на его лице. – Алиса Воротынцева, Лисенок – агент КГБ? Дочка Юры и Иры, девочка из интеллигентной семьи… Гадость какая…»
– А ребенок? – тихо спросила Инга.
Профессору на миг стало ее жаль. Он догадался, что Карл врет ей. Не стал бы террорист ни за что выкладывать при нем, при Бренере, такую вот информацию. Слишком это серьезно. Не для ушей похищенного профессора. Видно, и правда, с Алисой был у него роман. Это можно представить. Он умен, образован, в нем есть определенное обаяние. Удивительно, какие фокусы выкидывает судьба, как странно тесен мир…
А Инга поверила с поразительной легкостью. Она смотрела на Карла преданными глазами и жадно ловила каждое слово.
«Если перефразировать Карамзина – и бандитки любить умеют», – усмехнулся про себя профессор.
– Ну, майне либе, при чем здесь ребенок? – Карл спокойно протянул руку через стол и погладил ее по щеке.
– Когда мы ее возьмем, – Инга потерлась щекой о его ладонь, – я сама буду ее допрашивать. Хорошо?
– Она не говорит по-немецки, – улыбнулся Карл.
– Ничего. Ты переведешь, в крайнем случае я допрошу ее по-английски. Мне уже приходилось это делать, моего запаса слов вполне достаточно, – Инга убрала наконец пистолет, и Натан Ефимович перевел дух.
– Английского она тоже не знает, – улыбнулся Карл, – она вообще безграмотная, глупая, некрасивая, и даже как агент – совершенно никуда не годится.
– Да, – радостно кивнула Инга, – она страшнее крокодила. Кстати, ты все-таки подобрал те фотографии, которые я не успела порвать? Отдай их мне, пожалуйста.
– Я и не думал их подбирать. Зачем? Я и так отлично знаю ее в лицо.
– Куда же они делись?
Натан Ефимович почувствовал, как бледнеет. Уцелевшие снимки лежали во внутреннем кармане просторной ветровки, которую ему выдали вместе с прочей одеждой здесь, на яхте.
Раздеваясь в ванной, он не забыл вытащить снимки из вороха своей грязной одежды, переложил их сначала в карман махрового халата, потом переодеваясь во все чистое в каюте, незаметно сунул в глубокий карман куртки.
* * *
Валерий Павлович Харитонов еще раз порадовался собственной дотошности, которая так раздражала некоторых его коллег. Вроде уже не было надобности ставить на прослушивание телефоны Цитруса. Писатель-политик стал отработанным материалом, все, что возможно, из него вытянули. Но Харитонов все-таки решил в течение нескольких ближайших дней проследить за нервным, непредсказуемым, болтливым Цитрусом.
Всегда любопытно и небесполезно знать, что остается в памяти человека, подвергшегося такому сложному психовоздействию, как наркодопрос. Под влиянием наркотика допрошенный, как правило, не помнит о содержании выданной им информации и не имеет представления о продолжительности сеанса. Но бывает, что в сознании происходят странные, необъяснимые смещения, особенно это касается людей с неустойчивой психикой, истероидных типов.
Под влиянием наркотика впечатлительный Цитрус принял гипнотизера Ваню за террориста Карла Майнхоффа. Потом проспался, попытался найти какие-то разумные объяснения своему странному состоянию. Думал, мучился, вспоминал, разгребал тяжелый туман в голове. Догадался позвонить в редакцию журнала «Плейбой». Получил там неутешительный ответ, что нет у них корреспондентки Вероники Сурковой. Растерялся. Стал думать дальше. А мог бы, между прочим, воспользоваться советом сотрудника журнала и позвонить в милицию на всякий случай.
Впрочем, вряд ли такой звонок имел бы последствия. В доме Цитруса ничего не пропало, он сам цел и невредим. Ему бы скорее всего сказали, мол, вольно же вам пускать к себе в дом кого попало, не спрашивая документов. Вы кто по специальности? Писатель? Ну вот, может, поклонница ваша. У вас ведь есть поклонницы?
Вряд ли Цитрус ответил бы «нет». На этом бы все и закончилось. Кому охота заниматься делом, в котором нет ни пострадавшего, ни признаков преступления.
А потом поступила информация о следующем звонке. Когда полковник услышал, что Цитрус срочно желает встретиться с Петром Мальковым, он встрепенулся, тут же распорядился отправить людей в кафе на Остоженке. И не пожалел об этом. Солидная пожилая пара чинно ужинала за соседним столиком, а на портативный диктофончик писался разговор Цитруса и Малькова.
Слушая запись, Харитонов легко смоделировал идиотскую схему, которая сложилась в болезненном воображении писателя.
Азамат отказался заплатить потому, что операция еще не завершена. Но Цитрус решил, что его обманули, кинули, потому что Карл Майнхофф уже здесь, в Москве. Вероятно, ему запомнилась собственная галлюцинация как единственная реальность, а истинные события ускользнули из памяти бесследно. Он решил, что Карл Майнхофф уже в Москве, стало быть, Мир-зоев соврал ему по каким-то своим подлым причинам.
Кому же хочется оставаться в дураках? Цитрус решил действовать, попытался выйти на самого Подосинского через Малькова. Интересно, сумеет ли он потом, когда мозги окончательно придут в порядок, понять, что теперь ему. Авангарду Цитрусу, остается бога молить только об одном: чтобы Петька не выполнил его просьбу и никому не заикнулся об их разговоре.
Впрочем, полковнику это было не так уж интересно. Какая разница, что подумал и решил «отработанный материал»? Какая разница, сколько глупостей он успел натворить и чем для него эти глупости могут обернуться?
Главное было в другом. Подосинский отправился на Кипр. Что ж, вполне логично, именно туда и причалит яхта «Виктория». Если, конечно, Мальков не выдумал это сгоряча, чтобы отвязаться от Цитруса.
Глава 26
Алиса вела машину по пустому утреннему шоссе. У нее слипались глаза. Ночью она не могла уснуть, все прокручивала в голове долгий разговор с американцем. И сейчас, проезжая по той же дороге, по которой всего два дня назад они с Деннисом ехали в Иерусалим, она продолжала мучить себя вопросом: не слишком ли была откровенна с человеком, представившимся сотрудником посольства США и другом Денниса?
С самого начала разговора Баррет настойчиво добивался от нее деталей, которые ни малейшего отношения к смерти Денниса не имели. Его интересовало, например, не возникало ли у нее здесь, в Израиле, неприятного чувства из-за обилия военных и полицейских патрулей, встретит ли их с Максимом кто-нибудь в Москве, сообщила ли она кому-то из близких о том, что возвращается раньше времени.
Он долго сочувственно расспрашивал, связано ли ее решение уехать домой только лишь с нервным потрясением ребенка, или есть еще какие-то причины.
– Тур стоит недешево, и компания не вернет деньги за неиспользованные дни. Вы не станете потом жалеть, что сгоряча уехали раньше? Сейчас наконец установилась чудесная погода, самое время отдохнуть. Первый шок пройдет, вы успокоитесь…
– Не только ребенок, я тоже не могу отдыхать здесь после того, что произошло.
– Значит, вы все-таки немного отвечали Деннису взаимностью? – спросил старик с неуместной игривой улыбкой.
– Какое это теперь имеет значение? – пожала плечами Алиса.
– Но из-за смерти совершенно постороннего человека вы бы не стали так переживать?
– Мои переживания – это неинтересно, мистер Баррет.
– Да, конечно… простите, – старик смутился, – просто я думал, вам нелегко сейчас, и если вы поделитесь со мной, вам станет немного легче.
– Спасибо.
– Деннис был прав, когда говорил, что вы замкнутый человек…
«Далась им моя замкнутость… – с раздражением подумала Алиса. – У американцев не принято изливать свои чувства, особенно печальные, первому встречному. Твои проблемы должны оставаться только твоими. Для всех, кроме самых близких родственников, ты обязан быть всегда „окей“. Верх неприличия на вопрос „как дела?“ ответить „плохо“. Если ты себе такое позволяешь, тебе обеспечено одиночество, неудачи в карьере и личной жизни. У нас, наоборот, неприлично быть „окей“. Надо повздыхать, на что-нибудь пожаловаться, хотя бы на несварение желудка или дурную погоду. А у них все всегда отлично – желудок, погода, настроение. Неамериканское любопытство Денниса к моим проблемам можно было оправдать чисто мужским интересом ко мне. А этот Баррет? Ему нужна информация, точная, детальная, конкретная. А зачем понадобились мои личные душевные трудности? Он такой сострадательный человек?»
Когда она рассказала ему о нападении в Иерусалиме, он стал выяснять, впервые ли с ней такое случилось.
– Впервые, – ответила Алиса, – я настоящий выстрел услышала впервые в жизни так близко.
«Не стоит говорить ему про пистолет, – решила она, – пусть считает, будто я не знаю о пистолете. Сам-то он наверняка знает…»
– Значит, полиция так и не выяснила, кто стрелял?
– Не было возможности, – пожала плечами Алиса, – арабы разбежались.
– Как вы думаете, мог кто-то заранее запланировать нападение?
– Странно… я о том же спросила Денниса, – выпалила Алиса и тут же прикусила язык.
Именно с этого вопроса и начался ночью в Иерусалиме поток ее откровений. Она сорвалась, не выдержала, выложила малознакомому человеку свою тайну, которую многие годы скрывала даже от себя. И вот этот человек мертв. Опять, кроме нее, никто не знает тайны. Конечно, Деннис погиб не из-за того, что узнал, просто потому, что был рядом с ней и с Максимом.
«Мы теперь как прокаженные, – усмехнулась она про себя, – и это только начало. Я больше никому не расскажу, никому… А все-таки я сама Деннису захотела рассказать? Или он осторожно подвел меня к этому? „Вы одна не справитесь, Алиса.. Вы чего-то боитесь…“ Между прочим, если кто и мог подстроить нападение в Иерусалиме, то только он, Деннис, – она даже вздрогнула от этого идиотского предположения. – Господи, как мне могло в голову прийти? Ерунда! Зачем ему?»
– Вы задали Деннису тот же вопрос? – американец вскинул брови. – И что он вам ответил?
– Деннис, как человек разумный, сказал, что это случайность. Мы сами виноваты. Забрели в арабский квартал, да еще поздно вечером.
– А почему вам пришло в голову, что нападение могло быть запланировано заранее? – слегка прищурившись, спросил Баррет.
– Мало ли что может померещиться со страху! улыбнулась Алиса.
– Ну а сейчас вам не кажется, что между этими двумя случайностями есть какая-то связь? Я спрашиваю потому, что мне, например, эта мысль не дает покоя.
– Нет, нападение никак не могло быть запланировано, – покачала головой Алиса, – ну подумайте сами. Предположим, кто-то следил за нами, шел по пятам и выбрал подходящий момент. Но такого момента могло и не быть. Напасть в еврейской части города никто бы не решился, там полно полиции. А заставить нас забрести в арабский квартал – для этого надо быть гипнотизером, ввести нас троих в состояние , глубокого транса. Но главное – кому и зачем это понадобилось? Мы накануне вечером еще не знали сами, что утром отправимся в Иерусалим. Сложно представить неких злоумышленников, которые на всякий случай ночевали на автостоянке у гостиницы, ждали до рассвета: а вдруг мы поедем в удобное для атаки место? Тогда уж было бы логичней с их стороны напасть сразу, на пустынном шоссе. – Она заметила, что уговаривает не столько американца, сколько себя.
– То есть вы считаете, что если за вами кто-то следил, то с самого начала? Еще здесь, в Эйлате…
– Я не считаю, что за нами кто-то мог следить, – быстро произнесла Алиса.
– А утром, на катере, еще до того, как Деннис прыгнул в воду, вас что-нибудь насторожило?
– Пожалуй, ничего.
– Слышу сомнение в вашем голосе, – улыбнулся Баррет, – все-таки было что-то необычное?
– Ничего, – покачала головой Алиса, – совершенно ничего необычного.
– Вы находились в трюме или на палубе?
– На палубе.
– Давайте по порядку, с самого начала. Вы поднялись на борт…
– Да, мы поднялись на борт. Народу было много. Все шло по программе рассказ экскурсовода, завтрак, бедуинский ансамбль.
– Никаких происшествий? Даже совсем незначительных? – Баррет слегка склонил голову набок и вдруг напомнил Алисе старого полысевшего сеттера, который прислушивается к далекому шороху живой дичи в кустах.
– Рядом с нами сидел пожилой араб. Во время завтрака у него опрокинулся стакан, он полез за платком, из кармана посыпались деньги. Ему было трудно наклоняться, мы все трое стали ему помогать, собирать деньги под скамейкой. Если это можно считать происшествием…
– Можно, – кивнул Баррет. – Как он выглядел?
– Очень пожилой. Длинная седая борода. Темные очки. Обычная арабская одежда, на голове платок.
– Он был один?
– Нет. По катеру бегало большое арабское семейство, множество детей разного возраста.
– А почему вы решили, что старик принадлежал к этому семейству?
– Ну, такой пожилой человек вряд ли отправился бы один на морскую прогулку, – неуверенно произнесла Алиса и подумала: «Правда, с чего я взяла, что арабский дед принадлежал к этому семейству? Просто сразу так решила, и все. А между тем никто из детей и взрослых ни разу не подошел к старику».
– Где стояли тарелки с едой, пока вы собирали деньги? – спросил Баррет после долгой паузы.
– На скамейке.
– Что за еда?
– Баранина и рыба с рисом, овощи.
– Содержимое ваших тарелок чем-то обличалось?
– Да. Деннис ел баранину, Максим и я – рыбу. Напитки в стаканах тоже были разные. У Максима виноградный сок, у Денниса – томатный, у меня минеральная вода.
Опять повисла долгая напряженная пауза. Алиса закурила и неуверенно произнесла:
– Когда мы причалили, мне показалось, что старик слишком молодо сбежал по трапу на берег.
– Вы сказали об этом полиции?
– Нет. Меня допрашивали только на катере. Сюда, в гостиницу, приходили полицейские, я видела их у стойки администратора, но со мной они не беседовали.
– Конечно, – Баррет усмехнулся, – зачем им с вами еще раз беседовать, если, по их мнению, Деннис умер без посторонней помощи?
– А вы, мистер Баррет, делились с ними вашими подозрениями?
– Разумеется. Меня вежливо выслушали, потом сообщили официальное заключение о причинах смерти.
– Вы все-таки считаете, Денниса убили? – тихо спросила Алиса.
– Вы тоже так считаете. А возможно, догадываетесь, кто и почему.
Глаза его моментально сделались колючими, холодными, от трогательного участия не осталось и следа.
«Эй, мистер, а ведь вы такой же сотрудник посольства, как тот человек на катере – старый араб, – подумала Алиса, – то есть, возможно, вы и работаете в посольстве, но служите в ЦРУ. Вы меня мастерски допрашиваете, используя целый спектр специальных приемов. Вы пытались мне понравиться, сначала последовательно поиграли на эмоциях: на женском самолюбии, на сострадании к несчастному отцу Денниса, потом признались, что ваша сентиментальность – блеф. Далее вы взяли деловой тон, перешли к фактам. Ну а теперь вы пошли в атаку и провоцируете меня. Ну что ж, я сообщила вам все, что могла. Добавить мне нечего».
– Простите, мистер Баррет, – произнесла Алиса, спокойно выдержав его взгляд, – вы знали Денниса многие годы. Я – всего несколько дней, следовательно, ваши собственные догадки и предположения куда существенней моих.
– Денниса убил человек, который плыл с вами на катере в костюме араба, с приклеенной седой бородой. Когда вы собирали его рассыпанные деньги, он добавил яд в еду либо в томатный сок. Больше никто не мог этого сделать.
– Да, вероятно, вы правы, – медленно произнесла Алиса, – у него была такая возможность – незаметно добавить яд. Тогда все понятно – и про судороги под водой, и про острую сердечную недостаточность.
– А что именно вам понятно, Алиса? – В ярком фонарном свете было видно, что зрачки его сузились до точек.
– Картина смерти. Человек в арабском костюме рассчитал все с точностью до минуты. Ведь было известно, когда катер бросит якорь, когда ныряльщики начнут прыгать в воду… Однако зачем? Почему? И кто он такой, этот маскарадный дед?
– Скажите, вам знакомо имя Карл Майнхофф? – быстро спросил Баррет.
– Впервые слышу.
– Этой ложью вы вредите прежде всего себе и своему сыну.
– Послушайте, мистер Баррет, у нас с вами был серьезный разговор, а теперь начался диалог немого с глухим. Вы чего-то добиваетесь от меня, обвиняете во лжи. А по какому праву, собственно? Я не понимаю…
– Все вы прекрасно понимаете, – поморщился Баррет, – много лет назад, в России, вы познакомились с Майнхоффом, международным террористом. Не знаю, какие у вас с ним были отношения, что вас связывало. Здесь, в Эйлате, вы случайно встретились с ним и узнали друг друга. Теперь он ходит за вами по пятам. Он убил Денниса. Карлу Майнхоффу что-то надо от вас, у него какой-то очень серьезный интерес. А у вас – страх, растерянность, паника, детское желание спрятаться, удрать от опасности. Не удерете, Алиса. Вы вляпались в очень скверную игру, и лучше скажите мне правду. Я помогу вам. Поверьте, у меня есть такая возможность.
– Мистер Баррет, я вам все сказала, – Алиса откровенно зевнула, прикрыв рот ладонью. – Чего вы от меня хотите? Какой террорист? Завтра нам вставать чуть свет. Простите. Спокойной ночи…
Она здорово переиграла. Любой человек на ее месте, услышав такое, удивился бы, возмутился, но не стал бы равнодушно зевать. Однако исправлять ошибку было поздно. Баррет, судя по его лицу, моментально просек фальшь и сделал соответствующие выводы.
– Если у вас осталась капля здравого смысла, Алиса, позвоните по одному из этих телефонов. – Он вытащил из кармана визитную карточку и ручку. – Здесь мой сотовый и рабочий. Это Тель-Авив. Я буду там уже сегодня. И еще я напишу вам номер, по которому вы можете позвонить в Москве. Вы просто назовете свое имя, передадите привет от Вилли Баррета, и вам помогут. Говорить можете по-русски.
– В чем мне помогут, да и с какой стати?
– Хватит валять дурака, Алиса. Не потеряйте карточку, спрячьте ее получше. Всего доброго.
Когда его шаги в коридоре затихли, Алиса подумала, что он совершенно прав. Она вляпалась в очень скверную игру, причем не здесь, не сейчас, а страшно давно, пятнадцать лет назад, в студенческом международном лагере. И никто не поможет ей выпутаться. За каждым предложением «помочь» стоит все та же игра. Деннис Шервуд с его ухаживаниями, влюбленностью, долгими задушевными разговорами тоже, оказывается, был игрок. Скорее всего он из ЦРУ. Они давно охотятся за Карлом, как и многие секретные службы. Между прочим, хотели бы давно поймали. С их-то возможностями, агентурой, аппаратурой…
По обе стороны дороги простиралась пустыня. Серые груды спрессованного песка, желтые, облитые свежим утренним солнцем холмы у горизонта. Изредка виднелись вдали палатки бедуинов. Максимка крепко спал на заднем сиденье. У него тоже была трудная ночь. Он вскрикивал, вертелся, один раз даже заплакал во сне.
Проснувшись сегодня утром, он опять стал вспоминать, как лихо Деннис отбился от арабов и потом, в машине, первые полчаса пути говорил без умолку. Засыпая, пробормотал с тяжелым вздохом:
– Знаешь, мамочка, мне кажется, пока мы о нем говорим, он как бы не совсем умер…
Алиса прищурилась, вглядываясь в далекий дорожный указатель. Название городка было написано на иврите огромными буквами, а по-английски меленько, издали не разберешь. Кажется, здесь развилка. Надо повернуть направо.
Холмы подступали к обочине. Именно здесь они застряли с Деннисом, когда возвращались из Иерусалима в Эйлат. Хлестал дождь, выл ветер, потоки воды смывали окаменевшие песчаные глыбы с высоких отвесных холмов. Били в лицо прожектора военного кордона.
Теперь светит солнце, на небе ни облачка, они с Максимкой возвращаются домой, уже завтра будут в Москве. Если бы славный американец Деннис Шервуд не начал прихлестывать за соседкой по гостинице, выполняя свой служебный долг, был бы сейчас жив.
Дорога стала петлять. Из-за поворота на небольшой скорости выехал белый седан, остановился и резко просигналил. Из открытого окна появилась рука, пришлепнула мигалку к крыше машины. Алиса съехала к обочине. Из седана вышел полицейский.
– Куда вы направляетесь, мэм? – спросил он по-английски.
– В Тель-Авив.
– Откуда?
– Из Эйлата.
Этот вопрос каждый раз задавали на контрольных пунктах солдаты, после чего с улыбкой желали счастливого пути. Но полицейский был настроен иначе.
– Пожалуйста, ваши документы.
Алиса протянула в окошко водительские права.
– Паспорт, пожалуйста.
Максимка заворочался на заднем сиденье. Полицейский долго разглядывал документы, потом вежливо попросил пройти в его машину.
– А в чем дело? Я ничего не нарушала.
– Вы превысили скорость.
– Ничего подобного. Я ехала, как положено, девяносто километров.
– Будьте любезны, пройдите в мою машину, мэм. Оставалось подчиниться. Документы были у него.
– Малыш, не волнуйся, я сейчас вернусь, – сказала она Максиму, заметив, что он приоткрыл глаза.
– А что? Почему? – сонно пробормотал ребенок, поднимаясь.
– Ничего страшного. Говорят, скорость превысила. В полицейской машине на специальном табло светилась цифра «сто». Алиса не сомневалась, что почти всю дорогу ехала на скорости девяносто, а то и восемьдесят километров.
– Ваша аппаратура неисправна, – сказала она, – здесь не правильные показатели.
– Вы нарушили, мэм, и обязаны заплатить штраф.
– Хорошо. Сколько? – Она открыла сумочку.
– Нет. Не здесь и не сейчас, – покачал головой полицейский, – я выпишу вам квитанцию. В Тель-Авиве вы заплатите по ней в любом банке.
– Сколько?
– Тысячу шекелей.
Алиса поперхнулась. Это больше трехсот долларов. У нее на карточке осталось двести долларов, и около пятидесяти в шекелях лежит в кошельке..
– Простите, я не ослышалась? Тысяча шекелей за нарушение, которого не было? – медленно произнесла она, глядя в ледяные серые глаза.
– Вы превысили скорость. На этой трассе ограничение девяносто километров. Вы ехали со скоростью сто, следовательно, подвергали опасности себя, своего ребенка, а также других водителей. – Он уже заполнял какой-то бланк на иврите.
– Самая большая опасность на этой дороге – встреча с вами, сэр.
– Я понимаю, – кивнул он, продолжая заполнять бланк.
– Подождите, офицер. Могу я взглянуть на ваши документы?
– Пожалуйста. – Он сунул ей в лицо маленькую пластиковую карточку с цветной фотографией.
– Я не знаю иврит. Напишите мне английскими буквами ваше имя, фамилию, звание.
– Да, конечно. Если вы хотите пожаловаться, оспорить штраф, вы можете обратиться в суд в Тель-Авиве.
– Какой суд? Мы улетаем сегодня ночью. У меня просто нет этой суммы.
– В таком случае вас не выпустят из страны. Алиса достала из кошелька сорок шекелей и протянула полицейскому.
– Возьмите, офицер. И давайте разойдемся по-хорошему.
– Вы предлагаете мне взятку, мэм?
У него было совершенно неподвижное, чистое, гладкое лицо. Чуть вздернутый нос, тонкие губы. Никаких эмоций эта физиономия не выражала. Вообще никаких. Только рот двигался, как отдельный механизм.
– Я хочу с вами договориться по-человечески, – Алиса заставила себя улыбнуться, – возьмите деньги, офицер, и простите меня, если вам показалось, будто я нарушила правила.
– Вы хотите дать взятку должностному лицу? Это грубое нарушение закона. Я вас арестую, мэм.
– Слушайте, вы не сумасшедший? – спросила Алиса, прищурившись и внимательно вглядываясь в серые застывшие глаза.
– Уберите деньги, мэм. Вот ваша квитанция. Здесь на полях я написал свое имя и звание по-английски.
– Вы соображаете, что творите? Вы офицер полиции, должностное лицо, занимаетесь грабежом на дороге! Я ничего не нарушала. Я иностранка, сегодня улетаю домой. Даже если я на каком-то участке пути и превысила скорость, все равно это абсурд. Ни в одной стране мира нет таких огромных штрафов…
– Не я устанавливаю суммы штрафов. Вы нарушили правила и обязаны заплатить. Еще раз предупреждаю, что в случае неуплаты вас не выпустят из страны. Счастливого пути, мэм.
– Подождите. Объясните мне, зачем вам это нужно? Вот лично вам – зачем? Если так хочется денег – я вам их предлагаю. Но этот штраф – вы же не положите его в свой карман! Или вам идет надбавка с каждой жертвы?
– Я вас больше не задерживаю, мэм. Вот ваши документы и квитанция.
– Человек в полицейской форме грабит женщину с ребенком посреди пустой дороги, причем не для себя лично, а в пользу государства. Да вы бандит, самый настоящий! – не выдержала Алиса. – Вы хуже бандита. Административный зомби, вот вы кто.
– Вы оскорбляете меня при исполнении служебных обязанностей. Я вас арестую, мэм.
– Если будете продолжать в том же духе, сэр, кто-нибудь рано или поздно пристрелит вас на этой дороге. И будет совершенно прав. Я вам этого не желаю.
Алиса не кричала, говорила вполне спокойно, но в голосе и в глазах предательски дрожали слезы. Еще не хватало разреветься при этом дегенерате. Она чувствовала свою абсолютную беспомощность перед ним и почему-то вдруг вспомнила такое же гладкое, такое же мертво-неподвижное лицо с механическим ртом. Майор ФСБ Харитонов разговаривал с ней примерно так же много лет назад.
– А пошел ты… – Алиса вылезла из полицейской машины и, прежде чем подойти к своей, вытащила из паспорта квитанцию, на глазах у полицейского быстро разорвала ее в мелкие клочья и сдунула с ладони прямо в ветровое стекло его машины.
Глава 27
– Надеюсь, вы не будете храпеть, партайгеноссе? – спросил Натан Ефимович, когда Карл погасил свет в каюте.
– Разве я храпел прошлой ночью?
– После бедуинской палатки и грязных циновок, на чистом белье, в нормальной постели я спал как убитый. Если бы яхта взорвалась, я бы вряд ли услышал.
– Болячка вам на язык! – рассмеялся Карл.
– Типун, а не болячка, – поправил Бренер.
– Мне очень нравятся русские пословицы и поговорки, но я постоянно путаю слова. Кстати, что такое типун? Разве не то же, что болячка?
– Не совсем. Это птичья болезнь, хрящеватый нарост на кончике языка.
– Какая гадость…
– Карл, так вы храпите или нет?
– Кажется, нет. А вы? Я ведь тоже спал, как убитый сурок.
– Опять запутались в словах, – улыбнулся Бренер, – а насчет храпа – не знаю. В последние три года мне не у кого было спросить об этом.
– Вам одиноко после смерти жены?
– Да. Мы прожили вместе почти сорок лет.
– Можно позавидовать, – по голосу Карла было слышно, что он улыбается, знаете, я с детства терпеть не мог то, что принято называть спокойной семейной жизнью. Мои родители, скучные пошлые люди, классические бюргеры, привили мне стойкое отвращение к однообразию семейного быта. Я привык слоняться по миру, ночевать где придется, мне нравится риск, постоянная смена декораций. Но сейчас вдруг позавидовал вам. Вы с женой любили друг друга, растили сына, и сорок лет вам, вероятно, никогда не было скучно вместе. Или я ошибаюсь?
– Нет, – тихо произнес Натан Ефимович, – вы не ошибаетесь. Нам с Марией Даниловной действительно никогда не было скучно вместе. Ни разу за сорок лет. А к чему вы клоните, Карл? Рисуете благостную картину тихого семейного счастья, чтобы настроить меня на сентиментальную волну, а потом пригрозить гибелью моего сына и внуков? Хотите поставить мне очередные условия? Я догадываюсь, что утром мы причаливаем, не знаю, правда, куда именно. Но причаливаем. Вы готовите меня к разговору с заказчиком, чтобы я был покладистей и не возражал?
Бренер не видел в темноте лица Карла, но почувствовал тяжесть его взгляда. В тишине стало отчетливо слышно, как бьется вода в круглый темный иллюминатор.
– Утром мы будем на Кипре, – сказал наконец Карл, – там действительно вы встретитесь с тем, кого называете заказчиком.
– А дальше?
– Не знаю. Дальше ему решать, что с вами делать. Моя часть работы выполнена. Мы с вами завтра распрощаемся, и мне, честно говоря, даже грустно немного. Я успел к вам привыкнуть, профессор. Мне приятно говорить по-русски. Почему-то на этом языке проще всего вести задушевные беседы.
– Вы не похожи на человека, у которого есть потребность в задушевных беседах, – заметил Бренер.
В темноте вспыхнул огонек зажигалки. Карл закурил. Натан Ефимович хотел сказать, что не стоит курить в закупоренной каюте. Потом всю ночь придется дышать табачным дымом, и лучше бит выйти на палубу. Но сдержался, промолчал.
Карл тоже молчал. У Натана Ефимовича слипались глаза, он отвернулся к стене и уже почти заснул.
– Скажите, зачем вы прикарманили фотографии, которые искала Инга? внезапно спросил Карл.
Вопрос был задан тихо и задумчиво, но Бренер вздрогнул и сел на кровати.
– Какие фотографии?
– Ну не надо, не дергайтесь. Я нашел их в кармане вашей куртки. Нет, я не обыскивал специально. Просто здесь, на яхте, нам с вами выдали одинаковые куртки, я перепутал, полез в карман и очень удивился. Я не собираюсь приставлять вам дуло к виску и устраивать допрос с пристрастием. Мне просто интересно. Вы что, знаете эту женщину?
– Мне показалось, эта женщина похожа на дочь моих московских соседей по коммуналке. Прошло много лет. Когда мы уехали, ей было пятнадцать. Я подобрал снимки, чтобы разглядеть как следует.
– Разглядели? – голос Карла стал чуть напряженней, или это только показалось?
– Да. Но все равно я не уверен, она ли это. Слишком все странно, слишком много лет прошло. Я знаю, жизнь любит выкидывать всякие фокусы, и мир ужасно тесен, однако мне сложно представить ту девочку в качестве агента ФСБ и вашей бывшей любовницы.
– Как звали дочь ваших соседей? – быстро спросил Карл.
– Почему вас это волнует? Ну подумайте, какое это имеет сейчас значение? Говорим мы об одном человеке или о разных людях – не все ли равно? Для меня это очень давнее прошлое, совсем другая жизнь. Прошло двадцать лет, и, кроме нежных ностальгических воспоминаний, ничего не осталось.
– А вы не допускаете, что у меня тоже могут быть свои нежные воспоминания? – усмехнулся Карл. – Как же ее звали, ту девочку?
«Есть ли смысл врать и выдумывать? – устало спросил себя Бренер. – Я могу назвать ее сейчас как угодно. Проверить он не сумеет, да и зачем ему это проверять? Такое прошлое никому ничем не угрожает. Это случайный, теплый и в общем совершенно лишний проблеск в грубом, жестоком рисунке теперешних событий. И незачем смешивать одно с другим…»
– Ее звали Наташа, – сказал он равнодушно.
– Жаль, – так же равнодушно ответил Карл, зевнул и загасил сигарету, оказывается, мы действительно говорим о разных людях. Женщина на снимках всего лишь похожа на вашу бывшую соседку. Это не она, потому что мою русскую знакомую зовут Глафира.
– Как? Глафира? Удивительно редкое имя.
– Спокойной ночи, профессор. Завтра будет тяжелый день.
– Спокойной ночи, Карл, – Бренер опять отвернулся к стене и натянул одеяло, – простите, а вы не могли бы выкинуть окурок? Он будет вонять всю ночь.
– Да, конечно. – Карл встал и прошлепал босиком к туалету.
– Вы хотите взять себе снимки вашей Глафиры? – спросил Натан Ефимович.
– Зачем?
– Если я правильно понял смысл вашего семейного скандала с Ингой, мальчик на фотографиях – ваш сын?
– Разве я говорил это?
– Нет. Вы говорили совсем другое. Но вы обманывали несчастную, нервную, преданную Ингу. Вы боитесь ее ревности, и правильно делаете.
Карл ничего не ответил, молча улегся на свою койку. Они больше не произнесли ни слова, но еще долго не могли уснуть.
Проснувшись под утро, Бренер нащупал в полумраке свою куртку, покосившись на Карла, сунул руку во внутренний карман. Как он и предполагал, снимков там уже не было.
Карл спал очень крепко, отвернувшись к стене, и совсем не храпел.
* * *
В аэропорту Бен-Гурион выстроились огромные очереди к стойкам, за которыми работали сотрудники службы безопасности. Молодые люди и девушки в элегантной униформе, подтянутые, улыбчивые, допрашивали каждого пассажира:
– Кто, кроме вас, находился в помещении, когда паковался багаж? Оставались ли собранные вещи без присмотра хотя бы на несколько минут? Покупали вы какие-либо сувениры? Где именно? Ваши покупки были упакованы на ваших глазах? Обращались ли к вам с просьбами незнакомые либо малознакомые люди накануне отлета?..
И так до бесконечности.
Максимка дремал, сидя на чемодане. У Алисы слипались глаза. Наконец они подошли к стойке. Девушка в униформе приветливо улыбнулась, задала все положенные вопросы про багаж и сувениры, попросила открыть чемодан, тщательно в нем порылась. Потом долго, сосредоточенно листала паспорт.
– Какие города, кроме Эйлата, вы посещали на территории Израиля?
– Мы ездили в Иерусалим.
– Это была экскурсия?
– Нет. Мы брали машину напрокат в фирме «Баджет».
– Из Эйлата в Тель-Авив вы тоже ехали на машине?
– Да. Мы сдали машину в представительство фирмы прямо здесь, в аэропорту, три часа назад.
– Вас останавливала дорожная полиция?
– Нет, – Алиса почувствовала, что предательски краснеет.
– Спасибо, – улыбнулась девушка и вернула паспорт, – проходите. Счастливого пути. До регистрации оставалось полтора часа.
– Ну вот, а ты нервничала, – сказал Максимка, когда они уселись за столик в кафе, – они еще не знают про этот дурацкий штраф. Пока до них дойдет, мы уже будем в Москве. Вообще, у нас здесь получился не отдых, а какой-то ужас, вздохнул ребенок, – домой хочу. Никогда в жизни так не хотел домой, как сейчас.
– Уже сегодня будем дома. – Алиса всгала. – Что тебе взять, малыш?
– Гамбургер, колу и мороженое.
Когда она вернулась, за их столиком сидела смуглая, совсем молоденькая девушка в ярком свитере. Уши ее были закованы дюжиной серег-колечек, тугими колечками вились короткие ярко-рыжие волосы. Пальцы тоже были унизаны серебряными кольцами и перстнями. Она потягивала спрайт из банки через трубочку и лучезарно улыбнулась Алисе.
– Я говорил ей, что здесь занято, – зашептал Максимка, – но она не понимает ни по-русски, ни по-английски.
– Чем она тебе мешает? Больше нет свободных столиков.
– Да ну, противная какая-то, – поморщился Максим, – вся в колечках. Только в носу не хватает. Знаешь, как у нас в классе таких называют? Парнокопытные.
– Почему парнокопытные?
– Посмотри, какие у нее «платформы»! Сантиметров двадцать, не меньше.
– Максим, перестань. Нехорошо.
– А, – он махнул рукой, – она ни бельмеса не понимает по-русски.
– Все равно некрасиво. Тебе нравятся тетки, которые у нас во дворе сидят на лавочке, перемывают всем косточки, и мне в том числе?
– Нет, – фыркнул Максим, – они злые дуры.
– Ты сейчас очень, на них похож.
– Ладно. Больше не буду. Слушай, мам, о чем еще тебя спрашивал тот американец, друг Денниса, который ночью приходил?
– Я тебе уже все рассказала.
– Не все. Вы очень долго разговаривали. Я просыпался несколько раз. Да, кстати, а кто такой Майн-кампф?
– Что?!
– Ну, я точно не расслышал. Американец тебя спрашивал про какого-то Майнкампфа.
– Тебе приснилось, – Алиса улыбнулась, – ешь свой гамбургер. Остынет.
– Ничего не приснилось. Я точно слышал. Он назвал это имя.
– Ничего подобного американец не говорил; И это вовсе не имя. «Майн кампф» называется книга, которую написал Гитлер. «Моя борьба» в переводе с немецкого, – быстро проговорила Алиса.
– Вы что, говорили с американцем про Гитлера?
– Нет, конечно.
– Но я точно слышал, как он сказал «Майн кампф»!
– У тебя от усталости и от переживаний каша в голове, – вздохнула Алиса, просто недавно, перед отъездом, ты смотрел «Индиану Джонса» Спилберга. Там есть сцена, когда Индиана, переодетый в фашистскую форму, на каком-то митинге удирает от нацистов с дневником своего отца, прорывается сквозь толпу и вдруг сталкивается нос к носу с Гитлером.
– Да, точно! – обрадовался Максим. – Там в дневнике было написано, где спрятан Священный Грааль, за которым все охотились. Гитлер взял и поставил автограф. Он думал, это его книжка. А потом я тебя спросил, неужели Гитлер писал книги, и ты рассказала про «Майн кампф». Мам, неужели Денниса все-таки убили?
– Максим, перестань. Давай поговорим о чем-нибудь другом.
– Я же все видел своими глазами. Если бы у него была какая-нибудь болезнь типа эпилепсии, это было бы заметно. И он ни за что не стал бы нырять.
– Кроме эпилепсии, есть множество болезней, от которых человек может внезапно умереть, тем более под водой. Мало ли чем он болел.
– Мам, он был здоровый, как Брюс Ли. Он вообще ничем не болел. Никогда.
– Ну откуда ты знаешь?
– Он сам мне рассказывал, как в детстве завидовал своей сестре, когда она болела и не ходила в школу.
– Но это в детстве. К сорока годам могут появиться всякие болезни. Да и у совершенно здорового человека может случиться кровоизлияние в мозг. И вообще, малыш, я очень тебя прошу, давай наконец сменим тему.
– Слушай, может, Деннис был какой-нибудь секретный агент? Разведчик? Я ведь видел, как он дрался в Иерусалиме.
Весь день Максим говорил только об этом. Его не заинтересовали ни парк аттракционов, ни огромный игрушечный магазин. Гуляя по Тель-Авиву, он не закрывал рта, задавал одни и те же вопросы, строил всякие версии, делал выводы. Утренняя встреча с полицейским только подлила масла в огонь. Ребенок высказал предположение, что все это было подстроено нарочно и каким-то образом связано с внезапной смертью Денниса.
– Максим, хватит фантазировать, – в который раз попыталась остановить его Алиса, – случилось несчастье, человек погиб. Не надо из этого делать приключение, ладно?
– Ничего не приключение, – надулся Максим, – мне ужасно жалко Денниса. Он был очень хороший. А ты, мамочка, между прочим…
– Подожди, – поморщилась Алиса, – кажется, наш рейс объявляют.
Действительно, радиоголос сообщал по-английски, что начинается регистрация на московский рейс. Девушка с колечками осталась сидеть за столом.
Очередь к стойке регистрации двигалась довольно быстро. Вопросов уже не задавали.
Алиса поставила небольшой чемодан на весы. Мужчина за стойкой взял билеты, пролистал Алисин паспорт, долго смотрел на экран компьютера, потом быстро, тихо заговорил в маленький микрофон, пришпиленный к его кителю. И вдруг кто-то тронул Алису за плечо.
– Извините, пожалуйста, госпожа Воротынцева, вам придется пройти со мной, – обратилась к ней по-английски высокая израильтянка в полицейской форме.
* * *
Зыбкие бесформенные страхи, которые мучили Авангарда Цитруса уже третий день подряд, обрели наконец вполне четкие очертания. Запахло реальной, непридуманной опасностью. Можно сказать, завоняло на всю квартиру, на весь окружающий мир. Он вдруг понял, что сам накликал на себя беду по дурости, из-за глупого мальчишеского куража, который в пятьдесят выглядит нелепо, как мини-юбочка на толстой старухе.
Теперь ему казалось, что до разговора с Мальковым у него была всего лишь безобидная, вполне терпимая депрессия. Голова болела, плохо работал а душа требовала событий, привычного круговорота. Душа не терпела одиноких кухонных застоев. И вот на больную тяжелую голову выдумал он всю эту идиотскую комбинацию, вообразил, будто есть у него шанс приподняться над самим собой, нырнуть с головой в гущу значительных событий, еще немного поиграть в шикарного знаменитого мужика, побыть на виду, чтобы вокруг все кипело и булькало.
Надо же быть таким идиотом! Петька Мальков сейчас может запросто заложить его Азамату. Это он толь-, ко для виду долго вспоминал, как зовут Мирзоева. На самом деле они отлично знакомы. Более того, именно через Мирзоева Петька вошел в ближайшее окружение Геннадия Ильича.
Была там какая-то темная история с липовым банком. Мальков по обыкновению активно внедрял жуликов в информационное пространство, организовал мощную косвенную рекламу на телевидении, на радио, в газетах, даже какие-то благотворительные балы в Дворянском собрании устраивал. И в результате влип довольно крепко. Банкиры тихо испарились вместе с вкладами доверчивого населения, были объявлены в розыск. Доверчивое население собиралось на справедливые демонстрации, общественность негодовала. Срочно потребовался конкретный живой виноватый, чтобы на него направить волну опасных антибанковских эмоций.
Сложилось так, что никого, кроме Петра Малькова, не осталось на роль козла отпущения. А он успел засветиться, слишком активную развернул кампанию. И чуть не сел.
Именно Мирзоев вытянул его тогда из дерьма, поднял со скамьи подсудимых, однако с условием, что он, Мальков, выведет чеченцев на улизнувших умников-банкиров.
Мальков вывел. Мирзоев отнял у умников все деньги и остался вполне доволен. А Петюня сумел надолго заинтересовать чеченца своей персоной, и взаимовыгодное сотрудничество продолжалось вполне успешно по сей день.
Так что Петька Мальков прежде всего человек Мирзоева, а потом уж Подосинского. Цитрус только одного не понимал: почему эта простая мысль не пришла ему в голову чуть раньше?
И что теперь делать? Вызывать своих ребят-боевиков, просить, чтобы охраняли от чеченцев? Придется объяснять – почему. Врать, сочинять что-то героическое – опасно. Руководитель боевиков Степан Казанцев, бывший чемпион-пятиборец, непременно начнет выяснять подробности через своих солнцевских братков. И многое может узнать, а потом с удовольствием публично разоблачит, изничтожит.
Говорить правду невозможно. Весь этот расово неполноценный клубок, чеченец Мирзоев, еврей Подосинский… нет, не поймут его товарищи по партии. Не отмоешься потом.
Значит, выпутываться надо самостоятельно. Никакие доблестные соратники на помощь не явятся и грудью от чеченской пули не заслонят. Так-то вот, ура-Цитрус.
Лицо Карла стояло перед глазами как живое. Рядом зыбко маячило прекрасное лицо фальшивой корреспондентки, похожей на Ирину в юности. Но остальное терялось в вязком черном тумане.
Цитрус вдруг вспомнил своего приятеля, якутского поэта, студента Литературного института, с которым общался в начале семидесятых, в незапамятные «брючные» времена.
Однажды, выглушив за ночь около двух литров водки, якут на рассвете вышел из общежития на улице Добролюбова и очень удивился, обнаружив, что стоит у знаменитого рижского Домского собора. Долго соображал, где находится, в какой стране, в каком городе, и вообще, «какое нынче на дворе тысячелетье».
Позже он клялся, что совершенно не помнит, каким образом доехал до вокзала, как купил билет и сел в поезд, купейный был вагон или плацкартный. Черная дыра в памяти. Глухая пустота. Однако, чтобы проделать долгий путь от общежития Литинститута до Домского собора, не попасть при этом ни под машину, ни под поезд, ни в милицию, ни в психушку, надо довольно прилично выглядеть, связно говорить, деньги заплатить за билет.
История с якутом так потрясла воображение молодого поэта Цитруса; что он потом даже у какого-то психиатра поинтересовался: может такое быть? Психиатр ответил, что бывает всякое. У коренных северных народов особенная генетика. Им пить вообще нельзя. Во-первых, моментально спиваются, во-вторых, совсем себя не контролируют. В Канаде, например, на Баффиновой Земле, где живут эскимосы, строжайший сухой закон. Но якутский поэт скорее всего приврал для красоты.
Сейчас, путаясь в закоулках своей памяти, Цитрус без конца подходил к одной и той же черной яме. И ему стало казаться, что он проваливается в пропасть, летит вверх тормашками в холодной свистящей бесконечности, на лету переходит в другое измерение, то вырастает, то уменьшается, как Алиса в Стране Чудес, и если вынырнет, то может оказаться где угодно – в Риге у Домского собора, у белого кролика за чайным столом, у эскимосов на Баффиновой Земле или в собственной квартире в компании Карла Майнхоффа.
– Алиса… – произнес он громким шепотом. – При чем здесь Алиса? Я никогда не читал эту дурацкую английскую сказку. Я что, совсем спятил? А может, мы не только пили, но и кололись?
Задрав рукава свитера, он стал при ярком свете разглядывать свои локтевые сгибы, но никаких следов иглы не обнаружил.
Он и не мог их обнаружить. При наркодопросе обычно используются специальные инсулиновые иглы, очень тонкие. Точки от уколов остаются крошечные и заживают моментально.
Было три часа ночи. Он выпил две таблетки седуксена, забился под одеяло, успел провалиться в тяжелый нездоровый сон и не слышал, как открывается железная дверь его квартиры.
Вспыхнул свет, одеяло сдернули. Он открыл глаза и увидел черное дуло у переносицы.
Цитрус машинально поднял руку, чтобы потереть сонные, полуслепые от яркого света глаза, и тут же получил чудовищный удар в живот, скатился с тахты на пол.
Их было трое. Стандартные, квадратные, тупорылые. Один русский, двое кавказцев. Они кинули ему на ковер джинсы и свитер, но ботинки надеть не дали. Еще несколько раз ударили, предупредили, что, если рыпнется по дороге, пулю получит моментально. Так, босиком, он спустился по лестнице. Совершенно не почувствовал ледяной корки под ногами, пока шел к черному джипу.
Глава 28
– В чем дело? – тихо спросила Алиса, чувствуя, как подкашиваются колени.
– Небольшая формальность.
– Но мы можем опоздать на самолет!
– Не волнуйтесь. Давайте не будем задерживать очередь. Пройдемте со мной, – полицейская быстро схватила со стойки паспорт и билеты.
– Подождите, почему вы взяли мои документы? – возмутилась Алиса.
– Вам все вернут, не волнуйтесь. Не забудьте свои чемодан.
– Но я должна сдать его в багаж!
– Сдадите позже.
Алиса увидела, что рядом с ними стоит не только эта женщина, но еще двое мужчин-полицейских.
– Мамочка, я боюсь, – прошептал Максим;
Могу я знать по какому праву нас задерживают? – нарочито бодрым голосом поинтересовалась Алиса. – Кто будет нести ответственность, если мы опоздаем на самолет?
– Если возникнут проблемы, мы дадим вам возможность поменять билеты.
В сопровождении трех полицейских они вошли в неприметную дверь, на которой не было никакой таблички. За дверью оказалось просторное помещение, несколько столов с компьютерами, много народу в полицейской форме и в штатском, гул разговоров, мелодичное позванивание телефонов. Кто-то сосредоточенно глядел в экран компьютера, кто-то перекусывал, присев на краешек стола. На Алису и на Максима не обратили ни малейшего внимания.
В глубине была еще одна дверь. За ней – маленькая прокуренная комната без окон, с одним письменным столом и парой стульев. За столом сидел молодой человек в полицейской форме. Женщина зашла вместе с ними, передала молодому человеку документы, что-то тихо проговорила на иврите и удалилась.
Молодой человек принялся листать паспорт, потом, как бы спохватившись, вскинул глаза:
– Присаживайтесь, пожалуйста, Алиса Юрьевна, – ироизнес он по-русски без всякого акцента, – меня зовут Аркадий Кантор, я сотрудник дорожной полиции.
– Господин Кантор, по какому праву нас задержали? Мы можем опоздать на самолет, – Алиса старалась, чтобы голос не дрожал, хотя, в общем, это не имело значения.
– Госпожа Воротынцева, к нам поступило сообщение, что вы нарушили правила дорожного движения, превысили скорость на трассе.
– Я ничего не нарушала.
– Нет, вы нарушали. Вы превысили скорость. Вас останавливал полицейский?
– Да. Но я не поняла, чего он от меня хотел. Я плохо говорю по-английски, а он не знал русского. Мы-с ним так и не нашли общего языка.
– Можно взглянуть на ваши водительские права?
Алиса протянула ему маленькую пластиковую карточку с цветной фотографией, в девяносто четвертом году. Водитель с четырехлетним стажем не может не знать: если его останавливает дорожная полиция, это означает, что он нарушил. А за нарушение положено платить штраф. Что же вам не ясно? Даже если бы полицейский говорил с вами по-китайски, вы обязаны были заплатить.
– Я предлагала ему деньги.
– Штраф платят по квитанции. Вы предлагали взятку. Между прочим, это преследуется по закону.
– Хорошо, допустим, – вздохнула Алиса, метнув взгляд на настенные электронные часы, – и сколько полагается платить по вашим законам за превышение скорости?
– Сумма обозначена в квитанции.
– А разве мне ее выдали? – спросила она удивленно.
– Разумеется, – кивнул полицейский, – если пришли сведения о штрафе, значит, вам должны были выдать квитанцию. Без нее банк не примет у вас деньги.
– Мне пытались всучить какую-то бумажку. Однако я не читаю на иврите. И плохо говорю по-английски. Я вообще не поняла, чего хотел от меня полицейский на шоссе. Мало ли, может, это был переодетый грабитель? У вас здесь полно бандитов, террористов…
– Госпожа Воротынцева, – жестко произнес Кантор, – вы нарушили закон и должны заплатить штраф. Сумма составляет тысячу шекелей. Пока вы не заплатите, мы не можем выпустить вас из страны.
– Но вы понимаете, что это абсурд? Если и было небольшое превышение скорости, то оно никому ничем не угрожало. Пустая трасса, и кстати, никаких знаков ограничения на том участке, где меня остановили, не было. Ни в одной стране мира нет таких огромных штрафов за незначительные нарушения. Тысяча шекелей – это больше трехсот долларов. У меня просто нет сейчас такой суммы. У меня только двести долларов на кредитной карточке, – она вытащила кредитку из сумки, – вот, возьмите, снимите в качестве штрафа всю наличность.
Алиса говорила очень медленно, во рту пересохло, язык стал наждачным и еле шевелился. На стене, над головой молодого человека, электронные часы показывали, что до отлета осталось час сорок минут.
– При всем желании я этого сделать не могу. Штраф принимается только наличными и только по квитанции.
– Ну хорошо, – кивнула Алиса, – вы не можете выпустить меня из страны. У меня нет ни квитанции, ни достаточной суммы. Что дальше? Мы с сыном будем жить в аэропорту Бен-Гурион? Мы опоздаем на самолет, пропадут билеты. Денег, чтобы купить новые, у меня нет.
– Вы нарушили и должны заплатить, – сказал молодой человек.
– Повторяю, я ничего не нарушала. Если вы хотите получить от меня деньги пожалуйста, я сниму всю наличность с моей кредитной карточки и заплачу.
До отлета самолета осталось час тридцать пять.
– У вас есть знакомые в Израиле, с которыми вы могли бы связаться? – в черных глазах молодого человека мелькнуло что-то, похожее на сочувствие. Будет достаточно, если кто-то поручится за вас, возьмет на себя обязательство оплатить недостающую часть суммы.
Алиса задумалась. В кармане лежала визитная карточка сотрудника посольства США. Назвать его имя? Или позвонить самой: «Простите, мистер Баррет вы не могли бы одолжить мне сто долларов?»
Невозможно обращаться с такой просьбой к малознакомому человеку. Стыдно. Конечно, потом можно перевести деньги на его счет из Москвы через банк. Но в любом случае на самолет они опоздают. Билеты можно сдать не позже чем за час до отлета, и то вернут лишь пятьдесят процентов стоимости. Скоро уже не останется этого часа. Стало быть, придется просить не сто, а почти тысячу на билеты. Причем не факт, что удастся взять билеты на завтра. Придется где-то ночевать, чем-то питаться сутки, а может, и двое, и трое суток… О господи, ну что за бред, в самом деле!..
И вдруг Максимка, который все это время сидел, сжавшись в комок и глядя в пол, встрепенулся, вскочил и радостно крикнул:
– Бренер! Сережа Бренер! Он живет здесь, в Тель-Авиве!
В комнате стало тихо. Молодой человек сверлил Алису глазами. Она заметила, что он весьма нервно крутит в пальцах почти выпотрошенную сигарету.
– Кто такой Сережа Бренер? – спросил он наконец, и на лице его при этом было написано полнейшее равнодушие.
– Да, у меня действительно есть знакомый в Тель-Авиве, Сергей Натанович Бренер. Но я не знаю ни адреса, ни телефона. Мы не виделись двадцать лет.
– Если вам известны имя и дата рождения, то вовсе не проблема найти этого человека и связаться с ним. Это можно сделать очень быстро, – задумчиво произнес Кантор, – другое дело, уверены ли вы, что он согласится оплатить ваш штраф.
Несколько секунд Алиса молчала. Они с Сережей росли вместе, но расстались подростками. Теперь взрослые, совершенно чужие люди. Она представила: глубокой ночью телефонный звонок: привет, Серега, это Алиса Воротынцева. Слушай, у меня самолет через час, ты не можешь за меня поручиться, меня не выпускают из страны, мне не хватает ста долларов, ваши гадкие полицейские дерут такие штрафы… Впрочем, если было бы наоборот, если бы вдруг позвонил Серега в Москве, в такой же вот ситуации, для нее бы никаких вопросов не возникло, даже спросонья, в два часа ночи.
– Да, – кивнула она полицейскому, – давайте попробуем. Бренер Сергей Натанович, родился 17 мая 1963 года в Москве. В Израиле живет с 1978-го.
– Подождите, пожалуйста, здесь, – Кантор быстро поднялся и вышел, прихватив с собой зачем-то Алисин паспорт и билеты.
– Ну что, мамочка, молодец я у тебя? – спросил Максимка. – Я чувствую, мы все-таки улетим сегодня домой.
– Вот когда сядем в самолет, тогда будем радоваться.
Кантора не было минут десять. А время шло. Электронные минутки прыгали очень быстро.
– А вдруг твой Сережа Бренер куда-то уехал? – спросил Максимка тревожно. Мамочка, что мы будем делать? Слушай, а может, бабушке в Москву позвоним, чтобы она выслала?
– Я уже думала об этом. В принципе – можно, но получится ужасно долго. Этот самолет мы в любом случае пропустим.
– Ну куда он задевался, этот гад? – проворчал ребенок, и тут дверь открылась.
– Все нормально, госпожа Воротынцева, – полицейский протянул Алисе ее паспорт и билеты, – вы можете лететь. Мы приносим вам свои извинения. Счастливого пути.
– То есть как? – опешила Алиса. – Вы что, уже связались с Бренером?! Так быстро?
– Нет. Мы не связывались с Бренером. Только что поступило сообщение, что определитель скорости в машине дорожной полиции был неисправен. Вас задержали по ошибке. Еще раз приносим вам свои извинения.
Не задавая больше вопросов, совершенно ошалевшие, Алиса и Максим рванули прочь, промчались через зал отлета к стойке регистрации; у которой уже не было никакой очереди, прошли пограничный контроль и отдышались только в салоне лайнера, на своих законных местах.
* * *
Яхта стояла. В круглых иллюминаторах сверкало утреннее солнце. Карла в каюте не было. Сквозь громкие крики чаек приглушенно звучали голоса и смех, то ли с палубы, то ли из кают-компании. Натан Ефимович сел на кровати и прислушался.
– Ну и вот, он говорит: мужик, а мужик, почем продаешь собаку? А тот ему отвечает: десять кусков, блин, «зелеными». А этот спрашивает: чего ж так круто, блин? А тот отвечает: это не собака, это крокодил, блин. Три куска негру в Африке заплатил, блин, чтоб мне его поймали, два куска за транспортировку, и пять – пластическая операция, блин.
– Эдик, откуда у вас взялась эта мода – повторять «блин» через слово? спросил Карл. – Раньше просто матерились, а теперь еще и блины пекут. Кстати, у старых уголовников «печь блины» обозначало «делать фальшивые деньги».
– Ну это, в натуре, блин, вместо мата используется, – стал важно объяснять Эдик, – вроде как ругнулся, но по-приличному.
– Карл, вы, я вижу, специалист по уголовному сленгу, – произнес незнакомый мужской голос, высокий, глуховатый, без всякого акцента, – откуда такие познания?
– От любопытства. У меня вообще в голове много всякого мусора, – хохотнул Карл. – Ну, Эдик, давай еще.
– Значит, стоит «мере» «шестисотый» на светофоре, а рядом «Запорожец», блин, серенький, облезлый. Ну и это, из «Запорожца» дед выглядывает и говорит: мужик, а мужик, у тебя бумаги нет для факса? У меня, блин, кончилась… монотонно забубнил охранник.
Бренер оделся, умылся, поднялся на палубу. Утро было ясным, безветренным, очень холодным. Яхта одиноко стояла на якоре у какого-то совершенно пустого, дикого каменистого пляжа. Ярко-голубое небо, редкие пушистые облака. Холод продирал до костей. Натан Ефимович застегнул куртку, поднял воротник, огляделся.
В нескольких метрах от кромки воды стоял белый сверкающий вертолет. Рядом на камнях сидели и задумчиво курили два молодых амбала в коротких дубленках. Над вертолетом кружили крикливые жирные чайки.
За пляжем начинались пологие розовато-бежевые холмы, утыканные вдоль извилистого шоссе столбами электропередачи.
«Вот сейчас, если тихонько спрыгнуть на берег, прошмыгнуть за вертолетом и бегом по шоссе, до ближайшего поселка, потом на рейсовый автобус, а дальше, в плацкартном вагоне, прямо в Москву. – Бренер мечтательно зажмурился, сладко, с хрустом, потянулся и тут же рассмеялся про себя. – Господи, какой рейсовый автобус? Какой плацкартный вагон? Что за бред в голову лезет? Мы ведь на Кипре. Просто пейзаж напоминает Крым. Кажется, будто там, за холмами, Феодосия или Судак. Правда, ужасно похоже на пляж у поселка Солнечный. Мы с Манечкой и с Сережей отдыхали под Феодосией в семидесятом году. Снимали комнатку у бабки в поселке, ходили на такой же дикий пляж. Когда штормило, гуляли по холмам, которые когда-то были горами. Древние горы, плавные, округлые, облизанные за тысячелетия ветрами…»
Из кают-компании его заметили и окликнули:
– Доброе утро, профессор.
Стол был накрыт к завтраку. Карл курил, раскинувшись в низком кресле, Инга, все такая же мрачная, пила кофе из большой толстобокой кружки и на Бренера не взглянула. Охранник Эдик стоял навытяжку. За столом сидел щуплый, неказистый, лет пятидесяти человечек в белых брюках и толстом белом свитере. Несколько длинных черных прядей, протянутых от виска к виску, прикрывали бледную лысину. Маленькие, глубоко посаженные черные глазки смотрели тревожно и почему-то немного жалобно.
– Здравствуйте, Натан Ефимович. Заходите, присаживайтесь. Меня зовут Геннадий Ильич, – он привстал с кресла и протянул профессору руку.
Бренер машинально ответил на рукопожатие. У Геннадия Ильича была вялая влажная кисть, вкрадчивый, глуховатый голос.
– Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Вы, вероятно, и есть заказчик?
– Он самый, – улыбнулся Геннадий Ильич. «Вот тебе и постсоветский миллиардер, хозяин яхты, вертолета и прочего добра. Ничего особенного. Довольно неприятный тип. Похож на пройдоху-снабженца или на директора большого гастронома», – подумал Бренер, усаживаясь в кресло.
– Чай? Кофе? – любезно предложил Эдик.
– Блин, – тихо сказал профессор.
– Не-е, блинов-то нету, – Эдик тревожно захлопал глазами.
Карл весело рассмеялся.
– Я вижу, вы в полном порядке, Натан Ефимович, – заметил хозяин яхты.
– Знаете, все время хочу удрать, – произнес Бренер задумчиво, – прямо так и подмывает смыться потихоньку. Эдик, налейте мне, пожалуйста, кофе, обратился он к охраннику, – и расскажите еще какой-нибудь анекдот про «новых русских».
– Насчет сбежать – это смешно, но уже не так, как «блин», – заметил хозяин яхты, – давайте сначала позавтракаем, а потом поговорим о делах.
– Если можно, давайте сразу о делах, – Бренер отхлебнул кофе, – мне просто не терпится узнать, кто вы и зачем я вам понадобился.
Карл загасил сигарету, поднялся и, не сказав ни слова, вышел на палубу. Инга продолжала сидеть, ни на кого не глядя и прихлебывая кофе.
– Ну что ж, давайте сразу, – кивнул Геннадий Ильич, – дела у нас с вами такие. Отсюда вы направитесь в Швейцарию. В Берне состоится несколько пресс-конференций, на которых вы подробно расскажете о своей работе.
– Подождите, как в Швейцарию? А Россия? Мне сказали, меня повезут в Россию…
– Нет. Свое заявление вы сделаете в Берне. Вам и семье вашего сына будет гарантирована полная безопасность в том случае, если вы совершенно добровольно покаетесь перед мировой общественностью, расскажете о варварском, бесчеловечном оружии массового уничтожения, которое угрожает гибелью всей нашей планете. Вы скажете, что вас замучила совесть и вы решили прекратить этот биологический кошмар.
– И вы считаете, мне поверят? – тихо спросил Бренер.
– Разумеется, – кивнул Подосинский, – кому же еще верить, если не вам?
– Нет, в том, что касается биологического оружия, мне скорее всего поверят. Но насчет добровольного раскаяния… Вы не похожи на наивного человека. Мое похищение в Израиле было обставлено с такой помпой, что смешно говорить о доброй воле.
– Не волнуйтесь. Мы смоделируем ситуацию таким образом, что никто не усомнится в вашей искренности. Нам предстоит еще оговорить множество деталей, но не здесь и не сейчас. Сейчас наша с вами задача прийти к согласию по общим вопросам. А частности обсудим позже.
– Такую частность, как моя дальнейшая судьба, мы тоже будем обсуждать позже? – усмехнулся Бренер, глядя в упор в маленькие черные глазки собеседника. – Я уже понял, что вы хотите скомпрометировать израильское правительство с моей помощью. Зачем вам это – не знаю, но думаю, дело всего лишь в деньгах. Очень большие деньги – это уже политика. То есть вы собираетесь на моих публичных откровениях заработать свои большие деньги.
– Это не совсем так, – широко улыбнулся Подосинский, – не стоит делать из меня матерого циника, акулу капитализма. Давайте сформулируем нашу задачу несколько по-другому. Я с вашей помощью приостанавливаю страшную гонку биологического вооружения. Да, мне это выгодно. Но не только из-за денег. Я стратег. Я смотрю в будущее. В мире, зараженном вирусами, над которыми вы работаете по заданию израильского правительства в своей лаборатории, деньги не понадобятся никому. Даже мне. Я хочу не только получить свой куш, но и подстраховаться на будущее. Разве плохо сочетать полезное с приятным?
– Лично мне в этой высокой драме отводится довольно низкая роль. Я предаю интересы страны, в которой прожил двадцать лет и к которой, знаете ли, у меня нет претензий. Меня и мою семью не обижали в Израиле.
– Вы никого не предаете, – покачал головой Геннадий Ильич, – вы спасаете мир от возможной катастрофы.
– Ох, давайте немного сбавим тон, – поморщился Бренер.
– Тон вполне уместен, – серьезно произнес Подосинский, – я вовсе не преувеличиваю.
– Ладно, как вам угодно, – махнул рукой Бренер, – меня интересует одно: потом куда меня денете? Я ведь понимаю, что в Израиль уже вернуться не смогу.
– А куда вы сами хотите?
– В Россию.
– Вы это серьезно? – вскинул брови Подосинский. – Вы желаете продолжить свои разработки в России?
– Никаких разработок я продолжать не желаю, – покачал головой Бренер, – я просто хочу прожить остаток жизни на родине.
– Простите, в каком качестве?
Инге надоело сидеть и слушать непонятную русскую речь. Она встала и вышла из каюты. Эдик молча убирал посуду со стола. Где-то на яхте находились еще трое арабов, но их не было видно.
– В качестве тихого московского пенсионера, – Бренер сразу почувствовал себя спокойней, когда вышла Инга, и принялся за еду. – Сколько стоит маленькая однокомнатная квартирка где-нибудь на Самотеке или на Мещанской, не знаете случайно?
– Случайно знаю, – улыбнулся Подосинский, – тысяч за пятьдесят можно купить вполне приличную.
– Ну, такая сумма у меня найдется. И еще останется на жизнь. Буду самому себе выплачивать небольшую пожизненную пенсию. От вас мне понадобится только помощь в переводе денег из швейцарского банка в какой-нибудь надежный российский, я в этих делах ничего не понимаю, а также новое имя и соответствующие документы. Вы ведь собираетесь использовать меня в качестве свидетеля?
– Именно так, – кивнул Геннадий Ильич.
– Ну вот, – Бренер аккуратно намазал французский паштет на тонкий ломтик поджаренного ржаного хлеба. – Во всем цивилизованном мире существуют специальные программы защиты свидетелей. Если я откажусь выполнить ваши условия, меня убьют через пару дней. Если соглашусь и выступлю с заявлением, меня прикончат не позже чем через месяц мстители из МОССАДа. Семью моего сына вряд ли кто-то тронет. Вам в случае отказа будет достаточно моей смерти, МОССАД просто не рискнет, да и зачем? Сын за отца не отвечает. Но меня они прикончат непременно. Либо посадят лет на двадцать как предателя родины.
– Ну зачем же так мрачно? Понятно, что вернуться к прежней жизни и к работе на Израиль вы уже не сможете. Однако существуют другие варианты. Позже, можно будет найти доказательства, что вас все-таки заставили выступить. Когда информация о биологическом оружии станет известна всему миру и комиссия ООН посетит лабораторию в Беэр-Шеве, можно будет спокойно заняться вашими личными проблемами. Хороший адвокат без труда докажет, что вы действовали по принуждению, и тогда вряд ли вас кто-то посмеет тронуть. Побоятся еще одного скандала. Я должен знать главное. Когда все кончится, на кого, на какую страну вы бы хотели работать? Если на Россию – можно подумать и об этом варианте. Ваши мозги очень дорого стоят, профессор. Не забывайте об этом. И не смущайтесь, выдвигая свои условия.
– Вы не поняли, Геннадий Ильич. Я не хочу больше работать. Вообще не хочу.
– Да, этого я действительно понять не могу, – Подосинский развел руками. Вы один из лучших специалистов в мире, вы еще совсем не стары. Вы могли бы зарабатывать огромные деньги. Да и не только в деньгах дело. Ведь вы ученый, вы не сможете жить без своих исследований.
– Смогу. Очень даже отлично проживу, – усмехнулся Бренер.
– Ну, это сейчас вам так кажется. Вы устали, перенервничали, столкнулись с мрачной стороной жизни, о которой прежде не имели представления. Но когда все кончится, вы…
– Оно никогда не кончится, – покачал головой профессор, – вся эта ваша международная политическая помойка, сдобренная деньгами и человеческими потрохами, будет существовать вечно. Я хочу стать тихим московским пенсионером, играть в домино на бульваре, прибегать к открытию углового продмага и занимать очередь за свежей «Докторской» колбаской.
– В Москве давно нет очередей, профессор, – улыбнулся Геннадий Ильич, продмаги превратились в чистые красивые супермаркеты, в которых не меньше сортов колбасы, чем в любом супермаркете Нью-Йорка, Парижа или Тель-Авива.
– А «Докторскую» производят? – забеспокоился Бренер. – Или закупают всю колбасу у финнов?
– Производят, – кивнул Подосинский, – не хуже, чем двадцать лет назад.
– Ну хорошо, – вздохнул Бренер, – я куплю себе «Докторской» в супермаркете, заберусь на диван и буду смотреть футбол по телевизору, «Спартак» – «Локомотив». И еще буду читать книжки, на которые всю жизнь у меня не хватало времени. Пушкина хочу перечитать, всего, не спеша, с первой до последней строчки, с примечаниями, сносками, личными письмами, черновиками и набросками. Так же не спеша перечитаю Гоголя, Чехова, Бунина. Знаете, во время приключений, которыми я обязан вам, дорогой Геннадий Ильич, я пару раз чуть не умер. И вот представьте, меня теперь мучает одна странная мысль: вот умру, так и не перечитав спокойно, без спешки, мою любимую русскую классику. Впрочем, вряд ли вы меня поймете. Вы из тех, кто всегда спешит, и Пушкина только в школе проходили.
– Нет, почему? Я тоже иногда… правда, редко. Но бывает, перечитываю. Это успокаивает нервы и помогает отвлечься.
– Так вот, я тоже хочу отвлечься. Но не на полчасика перед сном, а на всю оставшуюся жизнь. Ну сколько мне еще осталось? Лет десять, спасибо, если пятнадцать. Этот последний драгоценный кусок я бы хотел прожить совсем иначе. Сидеть в кресле под торшером в маленькой московской квартирке, прихлебывать чаек вприкуску с карамелькой и смаковать строчки из «Медного всадника» или из «Капитанской дочки». А потом выйти погулять на бульвар, на Тверской или на Гоголевский. Знаете, особенно хорошо весной, когда совсем сходит снег, высыхает грязь, женщины надевают легкие туфельки, прорезываются первые листочки, крошечные, нежные, как молочные зубки у ребенка, и все кажется трогательным, беззащитным. А осенью есть короткий промежуток, обычно в конце сентября, когда еще совсем тепло, воздух прозрачный, ясный, как душа старика, который никому за свою долгую жизнь не сделал больно. Много света и покоя, грустная ясность ухода… Господи, о чем я? Простите, – Натан Ефимович, опомнившись, смутившись, взглянул в насмешливые черные глаза Подосинского, – я разболтался с вами. Вы человек деловой, вам четкость нужна. В общем, я хочу домой. В Москву. Это мое условие.
– Хорошо, – кивнул Подосинский, – я понял вас. Мы подумаем о таком варианте. А вы не будете скучать по сыну, по внукам?
– Разумеется, буду. Но что поделаешь? У них там своя жизнь. Они привыкли. Я не сумел, – Бренер допил свой остывший кофе, закурил, – ладно, давайте оставим лирику. Мне нужны гарантии.
– Какие конкретно?
– Ну хотя бы российский паспорт. Конечно, с другим именем.
– Это я вам обещаю. Сразу после ваших пресс конференций вы получите российский паспорт, мы решим ваши банковские проблемы. Как я понял, вы держите деньги в швейцарском банке, а не в израильском?
– Да, сын посоветовал перевести все туда.
– Ну что ж, это облегчит задачу. Вы удовлетворены?
– Пока это только слова, – покачал головой Бренер, – а мне нужны гарантии. Зачем вам возиться со мной, когда я уже буду использован? Фальшивые документы это дорого, хлопотно. Вы – человек занятой.
– Вы все равно остаетесь свидетелем, – улыбнулся Геннадий Ильич, свидетелем моего участия в этой операции. Видите, я откровенен с вами.
– Так откровенны бывают с кандидатом в покойники, – медленно произнес Бренер, – вам выгодно будет меня убрать потом, когда я все расскажу. Получится дешевле и надежней.
– Послушайте, Натан Ефимович, а такую простую старомодную вещь, как порядочность, вы совершенно скидываете со счетов? – спросил Подосинский, чуть прищурившись и внимательно глядя на профессора.
– Я вас не знаю. У меня нет оснований рассчитывать на вашу порядочность, быстро произнес Бренер и отвернулся, – однако, если я правильно вас понял, иных гарантий у меня нет?
– Поверьте, Натан Ефимович, мое честное слово – это серьезная гарантия. Это значительно надежней, чем вам кажется.
– Значит, мне остается верить вам на слово?
– Ну что же делать, – вздохнул Подосинский, – я не могу вам предложить других вариантов. Если вы отвлечетесь от своих недавних переживаний и подумаете, то поймете, что не так все страшно. Конечно, методы, которыми я действую, не совсем благородны. Согласен. Однако цель вполне гуманна. Я не злодей, не бандит. Я богатый человек, которому не безразличны судьбы других людей и целых стран. От гонки вооружения не выиграет ни Израиль, ни Ирак. Я не
Прав?
– Вам, Геннадий Ильич, нет дела ни до Ирака, ни до Израиля. То есть судьбы этих двух стран и их затяжного конфликта интересны вам постольку, поскольку на этом можно наварить капиталец. Вы торгуете нефтью…
– Откуда такая осведомленность? – поднял брови Подосинский. – Вы читаете газеты? Увлекаетесь теленовостями? Возможно, вы видели мою фотографию и узнали меня?
– Ничего подобного, – покачал головой Натан Ефимович, – газет я вообще не читаю, телевизор почти не смотрю. Вас вижу впервые, хотя догадываюсь, что вы достаточно известная и влиятельная личность.
Я сказал, что вы торгуете нефтью, просто потому, что это лучше, чем торговать оружием или наркотиками. Я всегда склонен думать о собеседнике как можно лучше, даже если собеседник заказал и оплатил мое похищение.
– Спасибо. Я тронут, – Подосинский слегка склонил голову, – надеюсь, вы понимаете, что в моей идее открыть миру секретные разработки смертоносных вирусов нет ничего злодейского? Средства не совсем благородны, но цель гуманна. Нет?
– Я не согласен со знаменитой сентенцией о том, что цель оправдывает средства.
– Теоретически я тоже не согласен. Но, к сожалению, жизнь устроена так, что между благородными целями и низкими средствами сложно найти компромиссный вариант.
И вдруг послышался страшный, истерический крик:
– Карл! Где ты? Карл! Свинья несчастная, подонок!
В каюту влетела Инга. Глаза ее сверкали, короткие светлые волосы были встрепаны, лицо раскраснелось.
– Его нет на яхте! – крикнула она. – Он ушел и ничего не сказал! Почему ваши свиньи у вертолета его не задержали?
Подосинский растерянно взглянул сначала на нее, потом на Бренера.
– В чем дело? Почему она так орет? – тихо спросил он.
– Разве не понятно? – пожал плечами профессор.
– Кроме «Карл» и «швайн», я ничего не понял. Я не знаю немецкого, только английский. Они что, поссорились? Они ведь любовники, насколько мне известно?
– Она кричит, что Карла нет на яхте. Спрашивает, почему ваши охранники позволили ему уйти.
– По-моему, она пьяна, – заметил Геннадий Ильич, – скажите ей, что она тоже может отправиться В город на несколько часов. До вечера есть время.
– Скажите сами. Она понимает по-английски. Я стараюсь с ней разговаривать как можно меньше.
Инга между тем бессильно упала в кресло, закурила и тихо произнесла:
– Он не вернется. Он полетит в Россию, к своей проститутке, к своему выродку. Я найду и убью всех троих.
– Что она говорит? – шепотом спросил Подосинский.
– Ей кажется, Карл ее бросил, – так же шепотом ответил профессор.
– Не хватало мне здесь мелодрамы, – поморщился Геннадий Ильич. Успокойтесь – обратился он к Инге по-английски, – Карл должен вернуться. Вы тоже можете отправиться в город, соблюдая определенную осторожность. Вам надо купить теплую одежду, мы ведь возвращаемся в зиму.
Инга ничего не ответила. Она беззвучно плакала и растирала слезы по щекам.
Глава 29
Черный джип давно выехал за город. Спутники Цитруса молчали, иногда лениво перекидывались короткими пустыми репликами.
Он уже успел сказать им, что нельзя его сразу убивать, он знает кое-что важное, и если они замочат его сгоряча, потом пожалеют об этом. Ничего, кроме «завянь, падаль!», он не услышал в ответ.
За темными окнами проплыла какая-то голая редкая рощица, несколько смутных покосившихся избенок, потом качнулись яркие огни придорожного кабака. Джип трясло на скользком ухабистом шоссе. Связанные за спиной руки ныли, босым ногам было холодно. Ужас сменился безразличием, вялой тоской.
«Хоть бы ГАИ остановила или шина прокололась. А может, поторговаться с ними? О чем? Что я могу предложить? Денег? Смешно… Информацию? Ну вот, я предлагаю. А им не надо. Они тупые исполнители и сделают то, что им приказано».
Джип свернул с шоссе на проселочную дорогу. Вокруг был мрак, даже от снега не делалось светлей. На миг Цитрусу показалось, что он уже где-то в глубокой преисподней и рядом с ним тупые широкоплечие черти с бритыми затылками. Пролетарии загробного мира. Они тихо деловито матерятся, шипят слюной сквозь зубы, от них воняет не серой, а вполне приличным мужским одеколоном.
За голыми деревьями забрезжил свет. Через минуту джип уперся в высокие железные ворота. Горели яркие фонари. Ворота автоматически разъехались.
Ни слова не говоря, Цитруса вытолкнули на снег. Он тут же упал. У него страшно кружилась голова, ноги не держали. По расчищенной дорожке его повели к трехэтажному каменному дому, за шиворот впихнули в ярко освещенную гостиную.
Раскинувшись в бархатном кресле, за низким журнальным столом сидел Азамат в трикотажном спортивном костюме.
– Азамат, ты ничего не понял. Петька Мальков тебе наплел про меня, но ты не понял. Я сейчас все объясню, – быстро, хрипло затараторил Цитрус прямо с порога.
– А чего босой-то? – послышался голос из угла гостиной.
Цитрус взглянул и увидел, что на угловом диване сидит Петька Мальков. Рядом на маленьком круглом подносе коньячная рюмка, плоская, широкая, как блюдечко, ломтики лимона на тарелке и хрустальная пепельница. Почему-то от этого натюрморта Гарика затошнило так, что он испугался: сейчас вырвет прямо на персидский светлый ковер.
– Давай, Зоя Космодемьянская, выкладывай подробности, а то мы тебя действительно не поняли, – Мальков взял в ладонь плоскую рюмку, пригубил коньяк и облизнулся по-кошачьи.
Азамат молчал, сосредоточенно ковырял во рту зубочисткой, и казалось, этот процесс занимал его значительно больше, чем присутствие босого писателя с бледным, разбитым в кровь лицом.
– Дайте выпить мне, – прохрипел Цитрус, – выпить и покурить.
Азамат едва заметно кивнул громилам, которые стояли в дверях. Один из них не спеша подошел к столу, плеснул коньяку в рюмку, поднес ко рту Цитруса. Гарик жадно хлебнул, коньяк обжег разбитый рот.
– Развяжите руки ему, – пробасил Азамат, – пусть покурит.
От первой затяжки Гарика повело. Он почувствовал, что упадет сейчас, шагнул к пустому креслу и рухнул в него, как в яму.
– Я думаю, тебя тоже подставили, Азамат, – произнес он все так же хрипло, но уже немного спокойней, – я расскажу все по порядку. Но только есть детали, которых не помню.
– Ничего, мои ребята помогут тебе вспомнить, – утешил Азамат, – давай начинай. Слушаем тебя.
– Три дня назад мне позвонила девка, представилась корреспонденткой журнала «Плейбой», сказала, что хочет взять интервью. Я продиктовал ей адрес, она приехала. Мы поговорили, она записывала на диктофон. Что было потом, точно не помню. Вроде мы выпили. И пришел Карл Майнхофф.
– Что, прямо домой к тебе пришел? – Азамат шевельнул бровями.
– Как и когда он появился, я не помню. Но он был в моей квартире. Корреспондентка сказала, что через час подъедет фотограф, но это был Карл.
– Раньше он бывал у тебя в гостях?
– Нет. Никогда. Потом, когда я проспался, никого не было. Я хреново себя чувствовал, будто меня наркотиками накачали. Позвонил в журнал «Плейбой», чтобы узнать телефон корреспондентки и выяснить у нее, – что же произошло, откуда она знает Карла и почему пришла ко мне вместе с ним. Но в редакции мне сказали, у них такой корреспондентки нет. Ее звали Вероника Суркова. Я уверен, это не настоящее имя.
– Ладно. И что вы делали втроем?
– Не помню. Туман в голове.
– Надо вспомнить, Гарик.
Цитрус заметил, как Азамат кивнул громилам, и все внутри сжалось.
– Я вспомню… я сейчас… я сам, – пробормотал он. Громила уже выдернул его из кресла.
– Не надо, я сам, – и тут же поперхнулся от легкого, несильного удара под ребра, – мы пили, кажется, водку и говорили…
– О чем?
– Я сейчас… не бейте больше…
Громила вопросительно взглянул на Азамата. Тот чуть нахмурился, показал глазами, мол, хватит пока с него, потом посмотрел на Цитруса и ласково сказал:
– Встань, Гарик, не валяйся на полу. Гарик тяжело поднялся с ковра и опять рухнул в кресло, дрожащей рукой взял свою сигарету, которая все еще дымилась в пепельнице, судорожно затянулся.
– Мы очень много пили, Азамат. Я боюсь перепутать. Только одно помню ясно, – он зажмурился и медленно, по слогам, произнес:
– Алиса.
– Какая Алиса?
– У Майнхоффа была в Москве баба много лет назад. Ее звали Алиса. Он мне как-то сказал о ней, еще давно, в Ирландии. Ты ведь знаешь, в начале восьмидесятых он учился здесь, в аспирантуре МГИМО. У него была любовь с какой-то Алисой. Вот про нее мы и говорили.
– Ты ее знаешь?
– Нет. Никогда не видел.
– Как фамилия?
– Карл не назвал фамилию. Он только говорил, еще тогда, в Ирландии, что это единственная женщина, на которой он хотел жениться.
Мимолетный разговор трехлетней давности, пустой треп за липкой стойкой бара в Дублине вспыхнул в памяти неожиданно ясно, как свет далекого спасительного маяка.
Азамат хочет узнать, кто такая Алиса. Его интересует любая информация о Карле Майнхоффе. Это шанс. Это спасение. Все остальное – черный мертвый туман, в котором нельзя уцепиться ни за одну реальную деталь. Говорить надо только правду, если поймают на лжи, опять начнут бить. Сочинять ничего нельзя, ведь неизвестно, насколько осведомлен Азамат.
– Мы говорили о женщинах. Спорили, – судорожно сглотнув, забормотал Цитрус, – я удивился, почему Карл столько лет с Ингой Циммер.
– Погоди, не тараторь, – поморщился Азамат, – когда и где вы говорили? У тебя дома три дня назад или в Ирландии три года назад?
– У меня все спуталось в голове, – жалобно простонал Цитрус, – мы оба раза говорили про эту Алису.
– Ладно, валяй, рассказывай, что помнишь, – махнул рукой Азамат, – потом будем разбираться.
– Да, я постараюсь ничего не упустить. Я спросил его про Ингу. Я видел ее в Дублине. Она совершенно железная баба, может замочить кого угодно, не моргнув глазом. Я сказал Карлу, что с такой женщиной, как Инга, не сумел бы и дня прожить, и спросил, неужели никого, кроме нее, нет? Он ответил, мол, была одна. Русская. Но та все получилось очень сложно. Он хотел на ней жениться, увезти к себе в Германию, но у нее был отец больной, она не могла его бросить. А теперь ему все равно, кто рядом. К Инге он привык. Алису любил по-настоящему. И до сих пор забыть не может, хотя расстались они не лучшим образом. Я спросил, мало, что ли, баб? Он ответил: такая одна. Я очень удивился, что в Карле есть это…
– Что «это»? – подал голос Мальков из своего угла.
– Ну, такие, как он, обычно меняют девок, живут на полную катушку. Покупают себе фотомоделей, стриптизерок, групповухой балуются, в общем, не утруждают себя всякими сложностями, используют одноразовых…
– Люди разные бывают, – задумчиво произнес Азамат, – не все такие грязные, как ты. Ну, что там еще про Алису?
– Ничего, – испуганно заморгал Цитрус, – больше ничего.
– Ну, прид-дурок, – с оттяжкой процедил Мальков, – надо же быть таким идиотом, – он покачал головой.
– Чтоб ты знал, Гарик, – Азамат вытащил зубочистку изо рта и стал внимательно ее рассматривать, – Карла Майнхоффа сейчас нет в России. До сих пор нет. А теперь подумай, дорогой, откуда в твоей дурной голове могла вся эта туфта возникнуть?
– Это не туфта, – прошептал Гарик, – корреспондентка ко мне точно приходила. Я потом нашел под креслом фантики от конфет, которые она принесла. Это мои любимые конфеты, шоколадные с коньячной начинкой. Я их сам себе никогда не покупал и один не стал бы есть.
– Какие фантики? засмеялся Мальков. – Что ты плетешь? Совсем у тебя крыша съехала, брат Цитрус. Меньше надо на партийных митингах орать.
– Не влезай, Петька, – тихо сказал Азамат и стал пристально вглядываться в глаза Цитруса. Он смотрел на него так, словно перед ним был загадочный неодушевленный предмет.
– Значит, про Алису вы говорили в Ирландии? Это ты точно помнишь?
– Совершенно точно, – кивнул Цитрус.
– А потом у тебя дома, три дня назад?
– Да. Но это я помню смутно.
– Скажи мне, Гарик, ты колешься? Травку куришь?
– Нет, – Цитрус энергично помотал головой, – совсем нет.
Азамат бросил вопросительный взгляд на Малькова. Тот пожал плечами и ничего не сказал.
– Но бутылки остались? Что-нибудь осталось, кроме фантиков? – продолжал допытываться Азамат.
– В том-то и дело, что не осталось никаких следов. Как будто в квартире убрали, пока я спал.
– Что вы пили?
– Не знаю. Я точно помню, что я варил кофе для корреспондентки. А потом дыра, провал. Только лицо Карла и голос.
– С акцентом? – быстро спросил Азамат. И тут Цитрус вспотел. Он стал мокрым, словно его окатили из ведра холодной водой.
– Без акцента… Карл говорил без акцента… но этого быть не может.
– Коля, позови быстренько Елену Петровну, – тихо распорядился Азамат.
Один из амбалов вышел и через минуту вернулся с полной пожилой женщиной в белом халате. Она была похожа на обыкновенную докторшу, участкового терапевта из районной поликлиники. На ногах растоптанные тапочки, на голове стандартная рыжая «химия», короткие мелкие кудряшки. Круглое мягкое лицо, оранжевая помада на тонких губах.
– Елена Петровна, пожалуйста, посмотрите хорошенько его вены.
Докторша подошла к Цитрусу, закатала рукава свитера, вытащила маленькую лупу из кармана халата, стала внимательно разглядывать локтевые сгибы. Прикосновение ее холодных жестких пальцев было отвратительно.
– Нет, Азамат Мирзоевич, следов иглы не вижу. Но они могут быть в паху, на лодыжках.
– Елена Петровна, вы осмотрите его хорошенько и сделайте анализ крови. Он не наркоман, но, возможно, ему ввели дозу какого-нибудь сильного наркотика. Из тех, что вызывают галлюцинации.
– А в чем дело-то? – осведомилась докторша.
– Дырка у него в памяти. Если, конечно, не сочиняет… В общем, надо проверить, обрабатывали его как-то или он заврался.
– Так необязательно наркотики. Может, гипноз? – Докторша взяла Цитруса за подбородок, приблизила к нему лицо и заглянула в глаза. – По-моему, он легко поддается.
– С чего вы взяли? – Цитрус дернул головой. – С чего вы взяли, что я легко поддаюсь гипнозу?
– Три дня – большой срок, – задумчиво произнесла докторша, не обращая внимания на реплику Цитруса, – в крови может не остаться следов. Молекулы барбитуратов очень быстро разрушаются в организме. Придется делать мембранную хроматографию. Это дорогое удовольствие. Вы мне точно скажите, Азамат Мирзоевич, что вам нужно узнать. А я разберусь.
– Я подозреваю, его как-то обработали и допросили. Помните, был уже такой случай? Гипнотизер из ФСБ вытянул информацию у одного моего боевика, а потом мы долго голову ломали, гадали, как случилась утечка? Боюсь, здесь у нас именно такой вариант. Вы уж разберитесь с ним, Елена Петровна, только побыстрей.
– Ясненько, – кивнула докторша, – сделаем.
* * *
Видеокамера в маленькой комнате при отделении полиции аэропорта Бен-Гурион была вмонтирована высоко, под самым потолком. В эту комнату обычно приводили задержанных, подозреваемых в перевозе наркотиков, иногда их оставляли одних в закрытом наглухо помещении, как бы давая шанс что-то быстро перепрятать или уничтожить. Задержанные, словно утопающие, отчаянно хватались за эту соломинку, но камера в потолке фиксировала каждое движение.
Майор МОССАДа Аркадий Кантор использовал специальное помещение и видеокамеру в иных целях. В случае с гражданкой России Воротынцевой Алисой Юрьевной речь шла вовсе не о наркотиках. Надо было провести сложный допрос, требовалось понять психологические реакции, отделить правду от лжи, уловить оттенки чувств и эмоций. Следовало заснять ее лицо крупным планом, но расположение камеры такой возможности не давало. Алиса и Максим получились нечетко. Лиц не видно, только головы, плечи и колени.
– Вполне можно было обойтись звукозаписью, – заметил полковник МОССАДа Яков Берштейн, просмотрев пленку на большом экране в своем просторном кабинете, – мимика здесь не видна, проанализировать психологические реакции невозможно. А фотографий ее у нас и так есть в достаточном количестве. Но вообще, Аркадий, надо сказать, чтобы там вмонтировали камеру как-то иначе. На всякий случай.
– Да, конечно, они послушают, – хмыкнул Кантор, – не наше помещение, у нас там права птичьи. Они трясут в своей каморке наркоманов, им нужен глаз под потолком.
– Ладно, черт с ней, с камерой. Пусть торчит где угодно. Так почему ты не спросил Воротынцеву про американца? Если я тебя правильно понял, весь твой хитрый план с задержанием на шоссе и штрафом был направлен именно на разговор об американце. Кстати, скажи, пожалуйста, а что бы ты стал делать, если бы она не порвала квитанцию и заплатила штраф?
– Исключено, – покачал головой Кантор, – ни один нормальный человек в такой ситуации платить не станет.
– Однако ты бы отлично выглядел, если бы она оказалась ненормальной и заплатила, – ехидно заметил полковник.
– Ну, я и так выглядел отлично, – засмеялся Кантор, – я честно, вежливо извинился перед возмущенной женщиной. Бюрократический абсурд существует в любом государстве, и в России его не меньше, чем в Израиле. А про американца я раздумал спрашивать, когда ребенок назвал имя Сергея Бренера. Я-то ждал, что она попытается связаться с Вилли Барретом, я не сомневался, что она обратится именно к нему. Больше-то не к кому. А тут – бабах, Сергей Бренер! Хотел бы я посмотреть, какое было бы у вас лицо, полковник, если бы вы оказались на моем месте.
– Удивленное, – рассмеялся Берштейн, – у меня было бы ужасно удивленное лицо. Хорошо, что я не оказался на твоем месте. Ты у нас ведь артист, небось и бровью не повел.
– Я понял, что ее больше ни о чем нельзя спрашивать, надо срочно отпускать. С извинениями. – Аркадий Кантор уселся на ручку кресла и принялся пощипывать короткие жесткие усы. – Там двое в самолете ее ведут и в Москве будут вести очень плотно. Но знаете, сегодня утром я получил ответ от нашего агента из Москвы. Воротынцева Алиса Юрьевна в восемьдесят третьем году была завербована КГБ. Вербовал ее майор Харитонов.
– Хорошие новости, – полковник тихо присвистнул. – Ей было двадцать, чем она занималась в то время?
– Училась в архитектурном институте. Информация получена из спецкартотеки Лубянки, часть которой три года назад удалось перекачать в компьютер, доступный нашему агенту. Там зафиксирован факт согласия на сотрудничество, число, подпись, фамилия и звание вербовщика. Все.
– В те годы пытались вербовать каждого десятого советского гражданина, особенно из интеллигенции, из студенческой среды, – заметил полковник, – но из тех, кто давал согласие, далеко не каждый добросовестно стучал. Бывало, вербовка носила случайный, формальный характер. Мне приходилось ловиться на эту удочку не раз, когда я работал с делами эмигрантов из бывшего Союза.
– Да, но обычно в картотеке имеются какие-то дополнительные данные. Причины вербовки, предполагаемый характер информации. А здесь – ничего. Кантор сполз с подлокотника в кресло, откинулся на мягкую спинку, прикрыл глаза. – Беда в том, что я послал запрос на нее три дня назад, когда был зафиксирован ее контакт с американцем. А ответ пришел только сейчас.
– Ну и что? Не вижу в этом никакой беды.
– Мои люди вели ее как профана, а не как профессионала.
– Понятно, – кивнул полковник, – и тебе кажется, она засекла наблюдение?
– Не знаю. С этой Воротынцевой я вообще ничего не могу понять. Первый шок у меня был ночью, когда ребенок выпалил имя Бренера, а она спокойно подтвердила факт своего давнего знакомства с сыном профессора. Именно тогда я и заподозрил, что она вовсе не пешка, а ферзь в этой игре. Мне даже пришло в голову, что не я ее прощупываю, а она меня.
– А тебе не пришло в голову, что профессионал не стал бы переть напролом и так рисковать? – улыбнулся полковник.
– Какой же здесь риск?
– Ну, предположим, связался бы ты с Сергеем Бренером, а он никакой Алисы Воротынцевой не знает, не помнит, в глаза не видел.
– Она подчеркнула, что они не виделись двадцать лет. Вот вы, например, можете навскидку, прямо сейчас, вспомнить кого-то, с кем двадцать лет не виделись?
– Сразу не смогу, но, если подумаю, вспомню.
– Сергей Бренер тоже вспомнил. Причем моментально, – усмехнулся Кантор, я связался с одним из моих людей, работающих в охране семьи. Он придумал совершенно нейтральный повод, упомянул в присутствии Бренера ее имя. Тот заволновался, стал спрашивать, где она? Можно ли ее найти как-нибудь? Оказывается, они выросли в одной квартире, ходили в один детский сад, в одну школу. В общем, трогательная и совершенно невинная история. Подстроить, договориться заранее в такой ситуации просто невозможно. А для простого совпадения это как-то слишком сложно.
– Похоже, не мы первые уперлись в этот тупик, в правдивую и трогательную историю о детской дружбе, – усмехнулся Берштейн. – Между прочим, если бы ко мне четыре дня назад не поступили сведения, что агентура ЦРУ в Москве интересовалась в голландском посольстве старым московским адресом Бренера, мы бы так и прозевали американское вмешательство в операцию. Вот теперь кое-что сходится, а то я ломал голову, зачем здешнему резиденту адрес коммуналки, из которой Бренеры уехали двадцать лет назад?
– То есть, вы считаете, Воротынцева озадачила покойного Шервуда точно так же, как меня?
– Ну а с какой стати его куратор срочно запросил московский адрес Бренера?
– Однако они вряд ли успели узнать, что Воротынцева была завербована КГБ.
– Ну, теперь это для них не столь важно. Они вне игры. Шервуд владел уникальной информацией, он никому не верил, работал в одиночку и не любил делиться даже со своим куратором, – Берштейн потянулся в кресле, сцепил руки на затылке. – Ну, есть еще что-нибудь интересное?
– Кое-что есть, – кивнул Кантор, – мой агент вел их в аэропорту. Вот запись разговора в кафе.
Кантор поставил кассету. Кабинет наполнился шумом аэропорта Бен-Гурион, потом сквозь неразборчивый многоязыкий гул голосов прорвался отчетливый, громкий детский шепот:
«Я говорил ей, что здесь занято, но она не понимает ни по-русски, ни по-английски…»
«Чем она тебе мешает? Больше нет свободных столиков», – ответил спокойный женский голос.
Некоторые куски разговора полковник прослушал дважды. Потом встал с кресла и молча прошелся по просторному кабинету из угла в угол.
– С таким ребенком можно запросто завалить задание. Как говорят русские, я бы с ним в разведку не пошел. Слишком уж он сообразительный и любопытный, слишком много вопросов задает.
– А я бы пошел, – Кантор опять стал пощипывать свои короткие усики. – Но только его надо предупредить, что это разведка, а не увеселительная прогулка.
Глава 30
Стоя под горячим душем, Алиса сквозь шум воды услышала, как зазвонил телефон, и удивилась. Они прилетели ранним утром, сразу легли спать и проснулись только в пять часов вечера. Никто пока не знал, что они уже дома. Алиса не успела даже маме сообщить об этом, не хотелось объяснять, почему они вернулись раньше, и вообще она решила устроить небольшой тайм-аут, ни с кем не общаться в ближайшие два дня, тем более что сегодня пятница. Впереди выходные.
– Я подойду! – крикнул Максим.
Ей почему-то стало не по себе. Она хотела крикнуть в ответ, что подходить не надо, пусть звонят. Они ведь договорились три дня не высовываться. Но он уже взял трубку.
– Это тебя, – сообщил ребенок, когда она вышла из ванной, – какой-то мужчина. Я сказал, чтобы он перезвонил минут через десять.
– Ты не заметил, он говорил без иностранного акцента? – спросила Алиса и тут же прикусила язык.
Но Максим принял ее слова за шутку и весело рассмеялся:
– Мамочка, кончились все иностранные акценты. Мы уже дома. И у нас, между прочим, пустой холодильник.
– Ладно, я волосы высушу, и выйдем купим что-нибудь. – Алиса включила фен. – Ты пыль вытер в своей комнате?
– Там нет никакой пыли. Все чисто.
– Ну конечно, – усмехнулась Алиса, – нас дома не было неделю, и ни пылинки не нападало.
Она провела рукой по матовой деревянной поверхности своего туалетного столика. Действительно, ни пылинки. Но этого не может быть. Даже когда пылесосишь раз в три дня, все равно на мебели, на книгах, на стекле книжных полок оседает тонкий слой пыли. А если уезжаешь из дома на неделю, то, слой этот становится толстым, заметным с первого взгляда.
Алиса посмотрела на книжные полки, на свой письменный стол. Такое впечатление, что кто-то совсем недавно аккуратно прошелся тряпочкой по всей комнате.
– Кстати, мама, – ехидно прищурился Максим, – скажи, пожалуйста, зачем ты трогала мою конструкцию?
– Какую конструкцию?
– У меня на полу стоял город «Лего». Я его собрал перед отъездом. А сейчас там все сбито.
– Ничего я не трогала, – пожала плечами Алиса, – может, оно само порушилось?
– Мам, ну что ты говоришь? Как «Лего» может само порушиться? Там же все скреплено. Я почти неделю собирал этот город.
– Ну значит, не до конца собрал или забыл, как было.
– Я все собрал до конца, точно по картинке. Пойдем, посмотришь.
Прямо на полу посередине Максимкиной комнаты стояло огромное сооружение, сложные разноцветные башни, мостики, домики, целый город, собранный из нескольких сотен мелких деталей конструктора.
– Знаешь, что самое интересное? – произнес Максим, задумчиво глядя на игрушечный городок. – Его не просто порушили. Его потом попытались восстановить, чтобы было незаметно. – Максим вытащил из ящика брошюрку, приложение к конструктору с рисунками разных сооружений. – Видишь, вот здесь была крыша зеленая треугольная с трубой, а теперь плоская, красная, без трубы. Флажок был на желтой башне, а теперь на коричневой. Вот тут был мостик, его переставили совсем в другое место.
– Подожди, ты не путаешь? Ты ведь не можешь все помнить, здесь столько мелких деталей.
– Каждую деталь, конечно, помнить не могу, – кивнул Максим, – но, когда мы уезжали, все было в точности как на картинке. А теперь – сама посмотри.
Но Алиса не успела посмотреть. Опять зазвонил телефон.
– Здравствуйте, Алиса Юрьевна.
Она узнала этот вкрадчивый высокий голос, хотя прошло много лет. И сразу ноги стали ватными, комната мягко поплыла перед глазами.
– Харитонов Валерий Павлович вас беспокоит. Вы слушаете?
– Да, Валерий Павлович, я слушаю. Здравствуйте.
– С приездом. Как долетели?
– Спасибо, нормально.
– Что же так мало отдохнули? Не понравилось вам в Израиле?
– Простите, у вас ко мне какое-то дело? – сухо поинтересовалась Алиса, стараясь, чтобы голос не дрожал.
Максимка застыл рядом и смотрел на нее испуганно. Ему, как всегда, моментально передалось ее состояние.
– Алиса Юрьевна, нам с вами надо встретиться, желательно сегодня. Сейчас половина шестого, я могу подъехать к вам к шести.
– Нет, – почти выкрикнула Алиса, – я сама подъеду куда скажете.
– Понимаю. Вы не хотите, чтобы Максим присутствовал при нашем разговоре. Ну что ж, давайте сделаем так. Я в шесть буду ждать вас в машине у вашего дома. У меня лиловый «Ауди», 123 МК. Вы спускайтесь, а там решим, где можно спокойно посидеть и побеседовать.
Он говорил так буднично, так спокойно, словно добрый старый знакомый приглашал уютно посидеть в каком-нибудь кафе и поболтать. Алиса попыталась настроить себя именно на такой спокойный лад, хотя бы на те полчаса, которые она будет рядом с Максимом, потому, что ребенок уже побледнел. Ему опять страшно. Хватит с него. Ничего страшного не происходит. Добрый старый знакомый. Заказчик.
– Это по работе, малыш, – сказала она и поцеловала его в нос, – ну что ты на меня так испуганно смотришь? Мне надо будет уйти на пару часов. А ты пока поставь себе какой-нибудь фильм, полежи, отдохни. Мы, кажется, купили кассету перед отъездом, но посмотреть ее не успели. Я принесу что-нибудь вкусненькое, и мы с тобой поужинаем.
– Мама, ты что, не понимаешь? – произнес он громким шепотом. – У нас кто-то был дома.
– Перестань. Не выдумывай.
– Это ты не выдумывай, будто все хорошо! Предположим, конструктор обрушился сам по себе. Это возможно. У соседей сверху или за стеной была вечеринка, там плясали так, что все тряслось, и некоторые детали могли упасть. Но чтобы сама собой спрыгнула одна деталь, а на ее место встала другая… Кто-то был у нас дома. Все продолжается. Они следят за нами, – он говорил громким, отрывистым шепотом и чуть не плакал.
– Кто «они», малыш?
– Те, которые убили Денниса. Мы с тобой свидетели, и теперь нас тоже убьют. Вся эта история с полицейским-зомби, который выписал тебе огромный штраф, и с другим полицейским, в аэропорту, – не просто так. Не случайно. Даже я, ребенок, это понимаю. Я заметил, какое лицо было у полицейского в аэропорту, когда я назвал имя Сережи Бренера. А знаешь почему? Ты забыла, а я нет. Ведь профессор, которого похитили террористы, – Сережин папа? Ну и вот. Здесь все как-то связано, мамочка. Я не выдумываю, честное слово.
Алиса присела перед ним на корточки, посмотрела ему в глаза снизу вверх и тихо, виновато произнесла:
– Ладно, малыш. Я должна тебе признаться. Мне очень стыдно, но это я трогала твой конструктор. Ты ведь знаешь, со мной такое бывает. Помнишь, когда мы купили «Лего», я играла в него больше, чем ты? Я все-таки архитектор, мне всякие фантазии приходят в голову, особенно когда я вижу какую-нибудь интересную конструкцию.
– Ты, мамочка, правду мне говоришь? – с надеждой спросил Максим и тихо всхлипнул. – Ты точно говоришь мне правду? Или нарочно это выдумала, чтобы меня успокоить?
– Ну вот еще, буду я на себя наговаривать! Думаешь, мне приятно признаваться тебе в таком варварстве? Я ведь все время рычу на тебя, когда ты залезаешь в мой компьютер или в мою готовальню. А сама, видишь, порушила твой конструктор.
– Ладно, все, – вздохнул Максим, – но больше так не делай, хорошо?
– Конечно, не буду.
– А ты не могла бы сейчас не уходить? Пригласи этого знакомого домой.
– Нет, малыш. Это совсем чужой человек. Если я каждого заказчика буду к нам приглашать, дом превратится в проходной двор.
– А кстати, откуда он узнал, что ты уже прилетела?
– Он вообще не знал, что я куда-то улетала, и просто позвонил потому, что ему надо там кое-что…
«Господи, сколько еще мне придется врать ребенку?»
– Ну ладно, иди, встречайся со своим заказчиком, – проворчал Максим. Только можно, я открою банку ананасового компота?
– Конечно, малыш.
* * *
Заляпанный грязью серый «Фольксваген» – пикап был припаркован почти у самого подъезда, но не бросался в глаза потому, что к вечеру двор заполнили машины всех марок и цветов.
Двое «наружников» в пикапе промерзли до костей. Трехлитровый термос давно опустел, без горячего чая было совсем скверно. Один из них мог бы согреться глотком коньяка, но только один, потому что кому-то ведь надо будет потом вести машину. Очень хотелось хлебнуть из маленькой плоской бутылки, однако оба терпели из солидарности.
Из приемника звучали голоса, детский и женский. Было отлично слышно каждое слово.
– Смотри-ка, здорово она сообразила с конструктором, – заметил один из мужчин, когда прозвучало признание Алисы, будто это она потихоньку трогала город «Лего». – Не хочет, значит, ребенка пугать. А зачем тогда его таскает с собой на оперативные задания?
– Для отвода глаз, – буркнул второй мужчина, закуривая десятую по счету сигарету за этот вечер, – черт, наследили мы с тобой в квартире выше крыши. Говорил я тебе, не надо было пыль вытирать.
– Это лучше, чем оставлять отпечатки.
– И конструктор этот хренов не надо было трогать.
– Так это ты его сшиб, говорил я тебе: смотри под ноги, когда в комнату заходишь. Ладно, еще не факт, что она профессионал.
– А это выяснится очень скоро. Если она профессионал, то наши «жучки» найдет и снимет.
Подъехал лиловый «Ауди» и чуть не вмялся бампером в пикап.
– Ну что, на хвост будем садиться? Или здесь подождем? – спросил один из «наружников».
– Засветимся, – покачал головой его коллега, – надо здесь ждать. Тем более через полчаса нас сменят. Если мы сейчас «хвостить» начнем, неизвестно, когда освободимся. Я промерз как собака. Да и вернется она очень скоро.
Из подъезда выскользнула женская фигура в длинной дубленке, огляделась, заметила под фонарем лиловый «Ауди». Из машины ее тоже заметили и тихо просигналили. В темном окошке пикапа несколько раз щелкнула фотокамера со сверхчувствительным объективом.
– Слушай, а кто такой этот Харитонов Валерий Павлович? – спросил один «наружное» другого. – Он у нас как-нибудь обозначен?
– Елки! – спохватился другой. – Он у нас «Хрен» называется! Вербовщик ее, полковник ФСБ в отставке. Сегодня начальник охраны акционерного общества «Шанс».
– Ну и чего? Все-таки будем «хвостить»?
– Ни в коем случае.
* * *
– Знаете, Алиса Юрьевна, вы почти не изменились за эти годы, – сказал Харитонов, бесцеремонно вглядываясь в ее лицо.
– А вы, Валерий Павлович, очень даже изменились, – усмехнулась Алиса, внешне, во всяком случае.
– Что, постарел?
– Нет. Вы стали джентльменом. В прежние времена мы с вами встречались в какой-то облезлой дыре, на так называемой конспиративной квартире. А сейчас вы привезли меня в приличный ресторан. Раньше на вас был москвошвеевский серый костюм и казенные коричневые ботинки. И физиономия у вас была, пардон, совершенно казенная. А сейчас вы одеваетесь в дорогом бутике, лицо у вас стало добродушней, мягче. Почти человеческое стало лицо, с чем вас и поздравляю. И пахнет от вас не «Шипром», а чем-то более дорогим и пристойным.
– Спасибо, – рассмеялся Харитонов, – очень приятно все это слышать. Что будем заказывать? Вы есть хотите?
– Нет. Только яблочный сок. Ну и еще коньячку для храбрости, грамм пятьдесят, не больше.
– Пожалуйста, большой овощной салат, два шашлыка, – обратился он к официантке, – два яблочных сока, сто грамм «Камю».
– Я же сказала, что не хочу есть, – напомнила Алиса.
– Ну не надо, не скромничайте. У вас глаза голодные, – широко улыбнулся Харитонов, и Алиса заметила, что он вставил отличные фарфоровые зубы, – я ведь знаю, вы прилетели рано утром. Дома наверняка пустой холодильник, в магазин выйти не успели.
– Да, – кивнула Алиса, – дома пустой холодильник и голодный ребенок. Так что долго мы здесь не задержимся.
– Все зависит от вас. А для Максима можно взять что-то вкусное отсюда. Здесь упаковывают в специальные мешочки, можно заказать еду на вынос.
– Я тронута. Вы даже знаете, как зовут моего сына.
– А как же, – прищурился Харитонов, – я даже знаю, кто его отец. Эй, Алиса Юрьевна, вы побледнели? Вам нехорошо?
– Мне отлично.
– Ну, тогда давайте не будем терять время. Скажите, пожалуйста, почему вы не использовали до конца такой дорогой тур и раньше срока вернулись в Москву?
– Нет, – покачала головой Алиса и достала сигареты из сумочки, – так не пойдет. Давайте по-другому. Сначала вы скажете, что вам от меня нужно, а потом все остальное.
– Мне? – Харитонов щелкнул зажигалкой, давая ей прикурить. – Мне от вас совершенно ничего не нужно. Я просто хочу вам помочь. По старой дружбе.
– Ох, Валерий Павлович, – устало вздохнула Алиса. – Сейчас из вас патока потечет. Я не могу так разговаривать.
– Алиса, я действительно хочу помочь вам, – улыбка не сходила с его лица, искренняя, добросердечная улыбка, – разумеется, с условием, что вы поможете мне.
Принесли шашлык. Он выглядел очень аппетитно, но Алиса уже поняла, что не сможет проглотить ни кусочка.
– Валерий Павлович, вы женаты? – внезапно спросила она. – У вас есть дети?
– Да, – он растерянно кивнул, – я женат, у меня две взрослые дочери и годовалый внук.
– Вам неприятно, когда новые ботинки натирают пятки?
– Алиса, я не совсем понимаю, вы это к чему спрашиваете?
– А если во время серьезного заседания у вас начинает громко бурчать в животе, вы смущаетесь? Или не обращаете внимания?
– В чем дело, Алиса Юрьевна? – добросердечная улыбка медленно сползала с его лица.
Теперь перед ней сидел старый знакомый, все тот же тусклый страшный дядька из КГБ с ледяными глазами.
– А если в зубе дырка, вы сразу идете к врачу или ждете, когда разболится? – Алиса хлебнула коньяку, поднесла рюмку к глазам и посмотрела сквозь нее на Харитонова. – А в детстве вы прогуливали школу? Или вам родители разрешали иногда оставаться дома?
– Прекратите, – прошипел он сквозь зубы, – хватит дурака валять.
– Почему вы вдруг занервничали, Валерий Павлович? – ласково улыбнулась Алиса. – Разве в моих вопросах есть что-то неприличное, оскорбительное для вас? Они не более бестактны, чем тот вопрос, который вы задали мне: почему мы раньше времени уехали из Израиля. – Она вздохнула и взяла еще одну сигарету из пачки. – Я вас страшно боялась, когда мне было двадцать. Никого на свете я не боялась так, как вас. Вы мне снились в самых тяжелых кошмарах. Знаете почему? Ни за что не догадаетесь.
– Ну, догадаться несложно, – он сдержанно кашлянул, – если бы кто-то в институте или Кто-то из ваших друзей узнал о нашем сотрудничестве, вас бы стали презирать. Это ведь стыдно – стучать «гэбухе». Это едва ли не самая стыдная вещь для интеллигентного человека. А уж тем более стучать на своего любовника, на человека, с которым вы спали, от которого родили ребенка.
Он сверлил ее глазами. Он сделал особое ударение на последних словах. Она спокойно улыбнулась. Ей стало легче, хотя бы потому, что теперь она точно знала, о чем пойдет речь.
– Нет, – она покачала головой, – вы не угадали. Я боялась вас потому, что вы казались мне не совсем живым. То есть не совсем человеком. Это был почти мистический страх перед неведомым существом. У вас не было никаких нормальных чувств, присущих любому человеку. Совесть, жалость, сострадание, смущение, раздражение, гнев, радость… У вас все это как бы ампутировали. Вот поэтому при виде вас, при одном только звуке вашего голоса по телефону у меня дрожали коленки. Я больше не желаю испытывать это унизительное, мерзкое ощущение. Я просто не сумею общаться с вами, если не увижу в вас хоть что-то живое. Не знаю, поняли вы меня или нет…
– Я вас понял, – кивнул Харитонов, – могу ответить на все ваши вопросы по порядку. Если трут новые ботинки, я сначала их разнашиваю дома и заклеиваю пятки пластырем. Перед ответственными заседаниями стараюсь не есть сырые овощи и кисломолочные продукты. К зубному иду сразу, как только появляется дупло, боли не жду. Школу иногда прогуливал, но очень редко и осторожно. Кажется, все? Вы удовлетворены?
– Вполне, – кивнула Алиса, – ешьте свой шашлык. Остынет.
– Теперь вы можете мне ответить, почему раньше времени улетели из Израиля? – Он стал снимать вилкой куски мяса с шампура.
– Нам там надоело, – вздохнула Алиса, – не понравилось. Во-первых, холодно. Во-вторых – жуткие цены, и вообще как-то неуютно.
– Да что вы говорите? – покачал головой Харитонов и положил в рот кусок мяса. – И вам не жаль было пропавших денег? Я знаю, вы неплохо зарабатываете на своей фирме, но не столько, чтобы выбросить на ветер около пятисот долларов из-за плохой погоды. Просто в Израиле вы встретились с отцом своего ребенка. Совершенно случайно. Раньше никто не знал, что у Майнхоффа есть сын, даже он сам не знал об этом. Но вот он увидел вас и Максима. На него это произвело очень сильное впечатление. Максим ведь похож на отца, удивительно, но на него он похож куда больше, чем на вас.
– Валерий Павлович, – рассмеялась Алиса, – вы, кажется, теряете квалификацию. Откуда у вас эти романтические фантазии?
– Вы отлично держитесь, я уже оценил ваши актерские способности. Чтобы сразу прекратить этот балаган; я вам скажу, что у меня есть документальное подтверждение.
– Простите, подтверждение чего?
– Того, что Воротынцев Максим Юрьевич является родным сыном Карла Майнхоффа.
– Ну вы даете, Валерий Павлович, – Алиса залпом допилаконьяк, оставшийся в рюмке, – как же можно такое документально подтвердить?
– Это вы даете, Алиса. А еще дочь медиков! Будто не знаете, что существуют методы определения отцовства. Делается специальный анализ крови, затем составляется подробное заключение. Конечно, результаты не всегда бывают точными. То есть специалисты могут сказать точное «нет». Положительный ответ имеет разные степени вероятности. В случае с вашим сыном степень вероятности получилась самая высокая. Девяносто процентов. Оставшиеся десять можно компенсировать поразительным внешним сходством и сроками.
– Я не верю вам, – покачала головой Алиса, – вы меня опять провоцируете. Вы просто физически не могли этого сделать. Не имели такой возможности.
– Ну почему? – криво усмехнулся Харитонов. – Это было совсем несложно. Когда Майнхофф учился в аспирантуре, он, как все студенты и аспиранты МГИМО, проходил обязательную диспансеризацию. Меня, знаете ли, в молодости коллеги называли Плюшкиным. Помните этого героя из «Мертвых душ»? Так вот, я всегда считал, что в моем оперативном хозяйстве все может пригодиться. Информация, которая сегодня кажется мелочью и ерундой, завтра становится бесценной. Я на всякий случай получил копию результата нескольких анализов крови, общего, клинического. Ну, мало ли что? Вдруг, например, придется опознавать разложившийся или до крайности изуродованный труп? Там есть группа, резус, всякие генетические подробности, в общем, все необходимые данные. Этих данных достаточно в том числе и для определения отцовства. Нет, тогда такой вариант мне еще в голову не приходил. А потом, когда у вас родился сын, ему в роддоме тоже сделали анализ крови, уже строго специальный, по моей просьбе. В общем, у меня имеется заключение судебных медиков, в котором и сказано про самую высокую степень вероятности.
– Плюшкин жил в мерзкой грязной нищете, – медленно произнесла Алиса, – он собирал всякий хлам, который никогда не стал бесценным. Зачем вам эта высокая степень вероятности? Кому это сейчас интересно?
– Прежде всего Карлу, – улыбнулся Харитонов, – у него ведь нет других детей.
– Ну и что?
– Он очень разволновался, увидев вас с ребенком. Так разволновался, что на это обратили внимание сотрудники израильской разведки МОССАД. И еще кто-то. Например, американец, ваш сосед в гостинице, с которым вы так подружились. Кажется, его фамилия была Шервуд? Он погиб не случайно. И вы это прекрасно знаете. Его убил Карл.
– По официальному заключению, он умер от острой сердечной недостаточности. Из-за этого мы и уехали. Мы не могли спокойно отдыхать дальше. Карл здесь совершенно ни при чем. О том, что он был в это время в Израиле, я впервые слышу от вас.
– Ладно, допустим, – легко согласился Харитонов, – я вам не верю, но допустим, вы от меня впервые об этом услышали. Я поставил вас в известность.
– Ну хорошо. Что дальше?
– Майнхофф не относится к тому типу мужчин, которым безразличны их дети. Тем более единственный сын. И вы, как мне кажется, тоже до сих пор не совсем безразличны ему. Он ведь так вас любил, Алиса.
– Ну, Валерий Павлович, вы переходите на чужую, незнакомую для вас территорию. Смотрите не ошибитесь, – покачала головой Алиса.
– Да почему же на чужую? – вскинул брови Харитонов.
– Да потому, что все это зыбко, неопределенно. Все это из области красивых чувств, а не железных фактов, на которые можно опираться в оперативной работе.
– Красивые чувства иногда становятся железными фактами, – глубокомысленно заметил Харитонов, – Майнхофф, такой осторожный, такой хитрый, просчитывающий каждый свой шаг, Майнхофф, водивший за нос самых опытных сотрудников спецслужб, вдруг совершенно глупо и легкомысленно засветился перед МОССАДом, перед ЦРУ. С чего бы это?
– У любого человека бывают проколы, срывы, ошибки, – пожала плечами Алиса, – самых неуловимых когда-нибудь ловят.
– Ну, положим, есть такие, которых не ловят никогда. Вы говорите – все зыбко, неопределенно в области красивых чувств? Но бывает так, что в оперативной работе они становятся существенней железных фактов, и нам с вами это отлично известно.
– Что значит – нам с вами? – возмутилась Алиса. – Наше с вами сотрудничество закончилось одиннадцать лет назад. Я сыта по горло. Вы все крутите вокруг да около, пугаете всякими анализами крови, в которые я не очень верю, а что вам надо от меня, до сих пор не сказали. У меня ребенок голодный сидит один дома. Давайте закругляться, Валерий Павлович.
– Будто вы до сих пор не поняли, что мне надо? – Харитонов прищурился.
– Не поняла. Честное слово, не поняла.
– Мне нужен Майнхофф. Вы должны сообщить мне, как только он появится.
– А почему вы думаете, что он непременно появится? – тихо спросила Алиса.
– Вы сами так думаете. И очень боитесь. Весь ваш кураж шит белыми нитками. Я могу вам помочь.
– Бросьте, – махнула рукой Алиса, – одиннадцать лет назад мы расстались. Очень нехорошо расстались. Я вам говорила, он расколол меня, назвал гэбэшной шлюхой, избил. У меня, если вы помните, даже было сотрясение мозга.
– Вы мне тогда сказали не правду, – покачал головой Харитонов, – и продолжаете врать сейчас. Он вас не расколол. Он предложил вам выйти за него замуж и даже принес анкеты для ОВИРа. А вы отказали ему. Обидели, оскорбили до глубины души. И тогда между вами произошел резкий разговор.
– Вы что, свечку держали? – усмехнулась Алиса.
– Ваши выездные документы оформлялись через мой отдел.
Алиса поперхнулась яблочным соком, закашлялась до слез. Харитонов налил в стакан минеральной воды и протянул ей.
– А вы что думали? – спросил он, когда она откашлялась. – Все было уже готово. Ваш отказ явился полной неожиданностью не только для Карла, но и для меня. Но это уже дело прошлое. Сейчас вам надо сыграть любовь и раскаяние. Уверен, вы сумеете. Вы согласитесь на все его предложения, как бы абсурдны они вам ни показались.
– Вы с ума сошли, товарищ майор…
– Полковник, – поправил Харитонов.
– Почему бы вам, товарищ полковник, если вы так уверены, что Карл появится, не установить за мной наружное наблюдение?
– Это само собой. Но этого недостаточно. Вы же не хотите оказаться вместе с сыном в роли заложников? Вы не хотите, чтобы вокруг вас началась стрельба? Карл мне нужен живой, тепленький. Я хочу взять его очень тихо, без всяких эксцессов. А для этого мне нужна ваша помощь.
– А если он все-таки не появится?
– Ну, на нет и суда нет, – развел руками Харитонов.
Алиса нашла глазами официантку, позвала ее, попросила упаковать свой нетронутый шашлык и принести счет.
– Значит, мы договорились? – спросил Харитонов, доставая бумажник. – Вот телефон, по которому вы в любое время дня и ночи можете со мной связаться. Достаточно сказать любую фразу. Например, «простите, наша встреча отменяется». А дальше я как-нибудь сам сориентируюсь, чтобы он ничего не заподозрил, если будет рядом.
– Стало быть, мои выездные документы оформлялись через ваш отдел, задумчиво произнесла Алиса, тоже вытаскивая бумажник, – это интересно… А зачем вам понадобилось, чтобы я вышла замуж за Карла?
Подошла официантка. Алиса отсчитала половину суммы.
– Уберите деньги. Я сам заплачу, – сказал Харитонов и вложил кредитку в кожаную папку со счетом. – Кстати, если вас интересуют мои бытовые привычки, то, приглашая женщину в ресторан, я всегда плачу сам.
В машине она повторила свой вопрос:
– Зачем вам понадобилось, чтобы мы с Карлом поженились?
– Ну, разве это так сложно понять? – улыбнулся Харитонов, включая зажигание. – Наше с вами сотрудничество стало бы еще плодотворней и интересней.
– А если бы я, оказавшись в Германии, вышла из-под вашего контроля? – тихо спросила Алиса.
– Если бы да кабы… Ну, жить-то вам хотелось, Алиса Юрьевна, и сейчас хочется. К тому же ваши родители оставались бы здесь. Вот вам, кстати, насчет зыбкости чувств. Я ведь вас подцепил тогда, в восемьдесят третьем, исключительно на чувствах простых и понятных. На любви к маме с папой.
– Скажите, а вы не опасались тогда, в восемьдесят шестом, что у Карла могли возникнуть подозрения на мой счет? Слишком уж все гладко получалось. Меня, кстати, очень удивило, когда он принес анкеты из ОВИРа, сказал, что все уже готово. Насколько я знаю, не так просто в те годы выпускали за границу, даже в соцстраны.
– Фирма веников не вяжет, – хмыкнул Харитонов. – Он ничего не заподозрил потому, что у него брали деньги. Взятки. Он давал, а у него брали. Он вас как бы выкупил.
– Много потратил, не знаете?
– Порядочно, – кивнул Харитонов.
Глава 31
Инга отказалась идти в город. Она слонялась по яхте мрачной тенью, ни с кем не разговаривала и, как успел заметить Натан Ефимович, периодически прикладывалась к бутылке.
Уже стемнело, а Карла все не было.
– Мне пора, – сказал Подосинский, – странно, что он до сих пор не вернулся. Я не могу улететь, пока его не увижу.
Было заметно, что он нервничает.
– Ничем не могу помочь, – пожал плечами Бренер.
– Да, я понимаю, – рассеянно кивнул Подосинский и в десятый раз взглянул на часы. – Скажите, когда она орала, что он ее бросил, это была просто истерика? Или у них действительно произошел какой-то конфликт?
– Геннадий Ильич, – покачал головой Бренер, – мне еще не хватало разбираться в их конфликтах.
– Нет, ну это ерунда какая-то. Я просто очень устал. У меня дела стоят, пробормотал Подосинский и вышел на палубу.
– А что вы так беспокоитесь? – произнес ему вслед Бренер. – Основная часть их работы уже выполнена.
– Он должен довезти вас до Берна, – ответил Подосинский, оглянувшись.
– Разве Инги и трех арабов не достаточно? – удивился Бренер.
– Нет.
«А ведь Карл говорил мне ночью, что сегодня мы расстанемся, – вдруг вспомнил Натан Ефимович, – стало быть, он действительно не вернется. И правильно. Он не дурак. Он просчитал ваш хитрый план, уважаемый Геннадий Ильич».
План был действительно хитрый. Подосинский выложил его Натану Ефимовичу очень тихим шепотом, хотя, кроме верного Эдика, никто на яхте по-русски не понимал.
По прибытии в Швейцарию террористы будут арестованы местной полицией, и освобожденный профессор должен обратиться к швейцарским властям с официальной просьбой созвать пресс-конференцию. Разумеется, ни Карл, ни Инга, ни арабы этого знать не должны. Для них все выглядит иначе. И профессор, естественно, ни слова им не скажет. Он ведь не сочувствует террористам, которые его так жестоко похитили. Но он должен знать, что произойдет в действительности, и быть готовым.
Террористы уверены, что в Берне просто передадут Натана Ефимовича из рук в руки людям Подосинского, получат свои деньги и исчезнут куда им угодно.
«У Подосинского есть какая-то договоренность со швейцарскими спецслужбами или с Интерполом, – догадался Бренер, – исчезновение Карла путает ему всю игру. Он не мог предположить такое. Он не сомневался, что бандиты доведут дело до конца, ведь с ними должны расплатиться те люди, которым они якобы передадут меня в Берне. И у них нет оснований подозревать подвох… Впрочем, это уже мои домыслы. Неужели Кард действительно просто зял и смотался без денег? Но как сумел он просчитать все заранее? И зачем тогда вообще взялся за эту операцию? Или он заподозрил неладное сегодня утром, когда Подосин-ский сообщил, что обстоятельства изменились и меня надо переправлять в Швейцарию, а вовсе не в Россию?»
Бренер вышел на палубу, поднял воротник куртки, закурил.
– Скажите, Геннадий Ильич, они работают исключительно за деньги? Или есть еще что-то идеологическое?
– Бандиты? Да, в основном за деньги. Что касается арабов, они работают еще и против Израиля. Это их идеология. Но тоже, разумеется, не бесплатно. На одной идеологии далеко не уедешь.
– А Майнхофф и его фрейлейн?
– Только деньги.
– Ну, тогда он непременно вернется, ведь вы, как я понял, еще не расплатились с ними?
– Смешно, в самом деле, – хмыкнул Подосинский, – вы меня утешаете.
– А я вообще сострадательный человек. Мне даже эту бандитку Ингу жалко. Кстати, вот и она. Почти трезвая.
Инга появилась на палубе причесанная, слегка подкрашенная. Спиртным от нее не пахло. Вероятно, она успела принять душ, привести себя в порядок и выпить какую-нибудь антиалкогольную таблетку.
– Думаю, больше нет смысла ждать, – спокойно произнесла она по-английски, – мы завершим операцию без Карла.
– Может, его просто арестовала полиция? – предположил Бренер.
– Исключено, – покачала головой Инга, – вы не знаете Карла. Его невозможно арестовать. Здесь, на Кипре, у него надежные связи, он воспользовался ими, чтобы улететь в Москву. Он уже наверняка в самолете.
– Зачем ему в Москву? – чеканя каждое слово, произнес Подосинский.
По голосу было слышно, что новость эта для него более чем неприятна.
– Какая разница – зачем? – пожала плечами Инга. – Мы завершим операцию, вы расплатитесь со мной. Я получу его долю. Что вас не устраивает?
Подосинский промолчал. Он не мог сказать ей, что его не устраивает.
В спецслужбе любой страны найдется человек, который захочет получить лавры за арест знаменитого Майнхоффа. Подосинский через подставных лиц вышел на таких людей в Швейцарии.
Суета вокруг биохимика Натана Бренера должна быть тщательно продумана и организована. Без содействия местных властей не обойтись, возможны всякие неприятные сюрпризы, прежде всего со стороны вездесущего МОССАДа.
Безопасность профессора, быстрый и правильный подбор представителей средств массовой информации, частичная закрытость предстоящего судебного процесса над террористами и прочие необходимые условия гарантировались в том случае, если Карл Майнхофф попадет в руки конкретных людей из Бернской тайной полиции и Интерпола.
Зная, что у международного террориста есть серьезные связи в Швейцарии, опасаясь, что каким-нибудь невероятным, причудливым образом слухи о готовящейся в Берне ловушке могут просочиться, Геннадий Ильич подстраховался. О том, что конечный пункт операции вовсе не Москва, а Берн, Карл узнал от него только сегодня утром. Неужели все-таки хитрый террорист заподозрил что-то и решил исчезнуть?
Разумеется, арабы с Ингой запросто могли доставить профессора к месту назначения. Самая трудная часть операции уже позади. Но швейцарцам и Интерполу нужен был Майнхофф. Именно Майнхофф был им обещан в качестве награды за содействие. Геннадий Ильич крайне редко давал твердые, определенные обещания, но если уж давал, то выполнял. Малейший изъян в репутации мог осложнить жизнь и поломать планы.
Планы Геннадия Ильича простирались в необъятную, ему одному ведомую даль. Он строил умопомрачительные конструкции, создавал хитрые сложные механизмы вроде бы из воздуха, потому что руками ведь не пощупаешь, не заглянешь внутрь, не подглядишь через щелочку, одним глазком, как тйм все крутится, вертится, как цепляются друг за друга колесики и шестеренки, каким образом приводятся в движение государства со своими деловитыми важными чиновниками, банки и концерны, нефтяные месторождения и бандформирования.
Хмуро уставившись во мрак холодной кипрской ночи, Геннадий Ильич нервничал всерьез.
– Инга, вы можете дать моему человеку кипрские связи Карла? – быстро спросил он.
– Пожалуйста, – равнодушно кивнула немка, – но там тоже скажут, что он полетел в Москву. Вы напрасно потеряете время и деньги.
– А в чем, собственно, дело? Почему именно в Москву? – Он закурил и стал расхаживать по палубе. – Нет, мне просто любопытно… Конечно, операция будет завершена без него, вы все получите сполна, в том числе и долю Майнхоффа, однако я хотел бы знать…
Инга долго, напряженно молчала. Бренер искоса взглянул на ее сосредоточенное лицо и понял, что сейчас она решает для себя очень важный вопрос: сказать ли заказчику об истинной причине исчезновения Карла или выдумать нечто нейтральное.
Любопытно, что она ни секунды не сомневалась: Майнхофф полетел в Москву, чтобы встретиться со своим сыном. Значит, есть у нее основания, значит, верит она в свое острое, болезненное чутье. Ревнует страшно. Сделала над собой усилие, прекратила пить, взбодрилась, замыслила что-то. Ясно что. Убьет. Всех троих.
– Я не говорю по-русски, – вдруг произнесла она тихо и задумчиво, как бы размышляя вслух, – я совсем не знаю эту страну. Я скажу вам, почему он туда полетел, но есть одно условие.
– Слушаю вас, – встрепенулся Подосинский.
– Вы поможете мне их найти.
– Кого?
– Женщину и мальчика.
* * *
В гостиную, шаркая тапками, вошла докторша Елена Петровна, зевнула, прикрыв ладошкой рот, и сообщила:
– Работали с ним, Азамат Мирзоевич, очень профессионально. Лошадиная доза барбамила плюс гипноз. Поддается моментально. Вот, посмотрите на досуге. – Она положила на журнальный стол видеокассету.
– Спасибо, дорогая. Что бы я без вас делал? – улыбнулся Азамат. – Да вы присаживайтесь. Коньячку?
– Не откажусь, Азамат Мирзоевич, – докторша села в кресло, – я не могу гарантировать, что восстановила точно все, о чем он говорил с теми людьми. Но думаю, всю информацию, какую знал, выложил. Они профессионалы и выпотрошили его до донышка.
– А сейчас он помнит что-нибудь? – спросил Мирзоев, наливая даме коньяк.
– Память я ему подчистила, все лишнее убрала. Вы таких указаний не давали, но я сделала. На всякий случай. Мне ведь не трудно, а человеку такое облегчение. – Она вздохнула и поджала тонкие оранжевые губы. – А вообще, ему пора лечиться. Давно пора. Нервное истощение у него, на грани патологии. Пограничное состояние. Может сорваться.
– Он что, псих, что ли? – хмыкнул Мальков. – Ну, точно, я давно догадывался.
– Нет, он не псих, – покачала головой докторша, – я сказала: на грани. На такой грани, Петька, ты тоже балансируешь. На одной ножке.
Мальков презрительно фыркнул и отвернулся. Он знал, придворная докторша его не жалует, и отвечал взаимностью.
Психиатра Елену Петровну Терехову приближенные Мирзова называли между собой Торчила. Кличка эта возникла от смешения имени черепахи Тортиллы и глагола «торчать». Елена Петровна была мудра и флегматична, как героиня известной сказки, но при этом торчала везде, где ее не просили, словно гвоздь в ботинке.
Докторша на глазок подмечала малейшую слабину в человеке и сообщала хозяину: у Ивана возникла слишком серьезная тяга к алкоголю, Хамзат балуется наркотиками, у него зрачки нехорошие, Петр перестает контролировать себя при виде крови, шалеет, есть признаки скрытого садизма, Руслан может наболтать лишнего в постели и подцепить венерическое заболевание, очень несдержан в связях. И так далее.
Иногда к ее помощи прибегали при допросах, с ней консультировались по поводу скрытых неврозов и психической прочности чиновников и бизнесменов, которых надо было купить, продать, припугнуть, подставить или скомпрометировать. В общем, она была специалистом широкого профиля.
Она повидала многое, знала еще больше, никогда не наговаривала на человека напрасно, считала, что убийство – мера крайняя, нежелательная и существует множество иных способов нейтрализовать того, кто мешает.
– Так он в принципе больной или здоровый? – поинтересовался Азамат.
– У него есть признаки мании величия, почти патологические. Очевидные сексуальные расстройства, гебоидный синдром. В период полового созревания злоупотреблял мастурбацией, страдает мазохизмом в скрытой форме. В общем, пограничная личность, ярко выраженный параноидальный тип.
– Елена Петровна, дорогая, можно по-простому? – взмолился Азамат. – Я ваши медицинские термины не очень понимаю.
– Так вас что именно интересует?
– Болтать он будет еще?
– Я же сказала – память подчистила ему. Но вообще, вы зря с ним имеете дело, Азамат Мирзоевич. Очень неустойчивый тип. От таких лучше держаться подальше. – Докторша отхлебнула коньяку, еще раз зевнула, тяжело поднялась. Неустойчивый, но в общем не опасный. Вы сами кассетку-то поглядите, а потом, если будут еще вопросы, пусть кто-нибудь из ребят разбудит меня. Спать хочу, не могу.
– Спасибо, Елена Петровна. Идите, дорогая, отсыпайтесь. А ты, Петька, поставь-ка мне кассету.
Цитрус на пленке был похож на живого мертвеца. Он говорил сначала совсем вяло, бессвязно, бормотал, всхлипывал. Веки плотно сжаты, лицо серое, впалые щеки в седоватой щетине.
– Яхта будет ждать в Порт-Саиде… Карл, как мужик мужика, пойми меня… выйди на минутку… Алиса живет в Стране Чудес…
Нет, он не повторил на сеансе у Елены Петровны дословно все, что сумел вытянуть из него предыдущий гипнотизер. Имя Подосинского испарилось из его больной, истерзанной памяти.
– Это ж надо так раскиснуть, смотреть противно! – презрительно фыркнул Мальков. – Может, пристрелить, чтоб не мучился?
– Кровожадный ты человек, Петька, – проворчал Азамат, – не жалко тебе старого приятеля? За что же его мочить? Нажали на человека, лишили воли. Неизвестно, как бы ты, дорогой, выглядел на его месте.
– Нет, я просто спросил, – смутился Мальков, – я как раз наоборот, хотел сказать, что мочить его не надо.
– Вот спасибо, дорогой, – усмехнулся Азамат, – я бы никак без твоего умного совета не обошелся.
– Нет, ну я в том смысле, что, если они с ним работали, а потом труп найдут, это нехорошо, это сразу может насторожить их, – Мальков совсем запутался в словах, даже вспотел от волнения. – Я просто хотел сказать, что Цитрус хоть и дурак, а фигура заметная.
– Дураки часто бывают заметней умных, – глубокомысленно заметил Азамат, Аллах с ним, пусть живет. Ты вот лучше соберись с мыслями и подумай, есть ли у тебя знакомые, которые учились в Институте Международных отношений с восемьдесят второго по восемьдесят четвертый. Желательно в аспирантуре.
– Есть. А что? – не задумываясь, выпалил Мальков.
– Узнай для меня, дорогой, что это за Алиса такая, мне стало интересно, кого любил в те годы Карл Майнхофф. Я хочу знать, как у нее теперь дела. Где живет, где работает. Только очень быстро и совсем тихо узнай. Чтобы никто не понял, почему ты вдруг интересуешься.
* * *
Алиса была по-своему права, заметив, что Валерий Павлович Харитонов ступил на чужую территорию, когда принялся рассуждать о высоких чувствах. Но тут необходимо уточнить: не на чужую, а на ту, которой нет вовсе. Пустота; вакуум. Потому что нет никаких высоких чувств. Если и дано их испытывать человеку, то исключительно к себе самому, ни к кому другому.
Человек все и всегда в этой жизни делает исключительно ради себя. Каждый сам себе драгоценен, а другие могут быть полезны, либо опасны, либо безразличны.
Валерий Павлович считал себя достаточно тонким психологом, чтобы понимать не только явные, но и скрытые мотивы, которые движут людьми. Все вполне примитивно: материальная корысть, инстинкт самосохранения, тщеславие. Вот три кита, на которых держится жизнь. Анализируя самые странные, бескорыстные на первый взгляд и вроде бы необъяснимые поступки совершенно разных людей, всегда рано или поздно приходишь к одной из этих отправных точек: корысть, инстинкт самосохранения, тщеславие. Ничего иного человеку не дано. Всегда утыкаешься носом в рыхлое дерьмо человеческих страстей и страстишек, подернутое тонким слоем так называемой морали. И вот в этом дерьме Валерий Павлович чувствовал себя как дома. Это была его родная, обжитая и знакомая территория. Он понимал людей, он их видел насквозь и знал, чего от них ждать.
Он всегда довольно точно мог прогнозировать чужие действия. Однако сейчас, как ни напрягал свои умные многоопытные мозги, не мог ответить на единственный вопрос: явится Карл Майнхофф в Москву, чтобы увидеть своего единственного сына, о существовании которого только что узнал, или не явится?
Ну в самом деле, зачем ему это надо? Жил же он одиннадцать лет без этого белобрысого мальчишки, делал свои дела, прятался, водил за нос разведки всех стран, имел при себе Ингу Циммер, и этого было ему вполне достаточно.
Собственная железная логика подсказывала Валерию Павловичу, что напрасно он ждет Майнхоффа здесь, возле женщины с ребенком. Однако объективная информация совершенно противоречила его собственной логике. И это противоречие терзало душу.
Почему Карл, который никогда не рисковал и умел проскользнуть сквозь игольное ушко, вдруг так неуклюже, так идиотски засветился перед ЦРУ и перед МОССАДом? Из-за ребенка. Полковник не находил иных объяснений, а это, единственное, его совершенно не устраивало. Плавать в пустоте, в вакууме, который иные именуют областью высоких чувств, отставной полковник не умел. А учиться в его возрасте поздновато.
На Карла Майнхоффа у полковника Харитонова имелся собственный богатейший архив, который, вопреки всем правилам, хранился у него дома, теперь уже не в обычной канцелярской папке, а в компьютере, в специальном засекреченном файле.
Пятнадцать лет назад, когда Харитонову поручили разработку агента Штази, аспиранта МГИМО, он почти сразу почувствовал, что этот молодой человек очень далеко пойдет.
За Штази вообще и за молодым перспективным агентом Майнхоффом в частности стояло много всего. Западная группа войск, расположенная на территории ГДР, представляла собой совершенно особую структуру. Внутри этой прогнившей, развращенной структуры происходили сложные процессы. Дерьмо бродило и переваливалось через край, словно кто-то кинул палочку дрожжей в отхожее место. Бойкая торговля оружием, поставки наркотиков в воинские части, секретные базы, на которых осуществлялась подготовка арабских террористов, чтобы потом с их помощью контролировать ситуацию на Ближнем Востоке.
Оружием торговали, как помидорами на рынке. Часто посредниками при продаже крупных партий становились агенты Штази. Таким образом они не только зарабатывали деньги, но получали нечто большее – компромат на высоких чинов Советской Армии, ГРУ и КГБ.
Сотни новеньких автоматов Калашникова, противотанковых и противопехотных мин и прочего добра нелегально, при посредничестве Штази, переходили из рук доблестных советских воинов в руки крупных террористических группировок.
По непроверенным данным, Майнхофф был связан с западногерманскими и французскими неофашистами, с Ирландской революционной армией (ИРА), с турецкой неофашистской организацией «Серые волки», с исламскими фундаменталйстами, с арабским «Черным сентябрем», даже с «Красной армией Японии».
Список был длинным. Казалось, весь террористический «бомонд» планеты окутан сетью связей этого молодого немца. Харитонов не сомневался, что по крайней мере три четверти информации – блеф. С Майнхоффом произошло вот что: он был агентом, но так глубоко внедрился в бандитские круги, что застрял там надолго и всерьез. Он как бы вошел в роль, а выйти из нее уже не удалось.
У Майнхоффа имелась черта, совершенно лишняя для человека его профессии. Он был яркой независимой личностью. А агент должен всегда оставаться серым пятном. Агент должен быть скромным и обязан подчиняться.
Однако свой врожденный «изъян» Карл с лихвой компенсировал высоким интеллектом. Он не желал никому подчиняться и давно бы погиб, если бы не был таким умным и хитрым. В результате вокруг него, как снежный ком, накручивались самые невероятные слухи и мифы. Некоторые из них он сам распространял, то ли забавляясь, то ли издеваясь над кем-то.
В далеком восемьдесят третьем году майор Харитонов работал в так называемом «жидовском» секторе.
Он занимался израильской организацией Сахнут, которая развернула на территории СССР весьма активную нелегальную деятельность.
Агенты Сахнут не только помогали советским евреям, пожелавшим выехать на историческую родину, но и всячески подогревали это желание в тех, кто еще колебался. Они переманивали крупных ученых, в том числе и засекреченных, устраивали нелегальные побеги из страны, подделывали документы, выкрадывали печати и штамповали их на паспорта. В ход шли не только деньги и обещания светлого будущего на земле обетованной, но и запугивание, разжигание антисемитизма, распространение слухов о предстоящих еврейских погромах. Именно Сахнут стоял в качестве одной из добрых фей-крестных у колыбели национально-патриотического общества «Память».
Казалось бы, КГБ не должен был препятствовать еврейской эмиграции. «Да пусть хоть все уедут, воздух чище станет», – говорили в кабинетах, в курилках и в столовых. Говорили вполголоса, интимным шепотком, однако так, чтобы другие слышали. Антисемитизм считался хорошим тоном. Он не выходил из моды. Сами по себе цели сионистской организации Сахнут вовсе не противоречили внутренним убеждениям большинства сотрудников КГБ вообще и «жидовского» сектора в частности. Проблема состояла в другом. Уезжать или не уезжать советские евреи должны были не по собственной прихоти, не по воле некоей израильской организации, а с высочайшего соизволения главных органов советской страны.
Агенты Сахнут тщательно отлавливались и судились за шпионаж и подрывную деятельность. Из материалов, поступивших к Харитонову, следовало, что агент Штази Карл Майнхофф связан с агентурой Сахнут в Москве. Цепочка была сложной и непостижимой для постороннего понимания.
Контакты Штази и Сахнут проходили через Организацию освобождения Палестины. Действовали все те же правила игры: крайне правые тесно контачили с крайне левыми, сионисты сотрудничали с антисемитами. Крайним, зарабатывающим деньги на этой своей кровавой «крайности», всегда по пути друг с другом.
Их интересы совпадают. Чем круче конфликт, чем больше страха и крови, тем им всем интересней.
Задача Харитонова в разработке Карла Майнхоффа прежде всего сводилась к тому, чтобы через него выйти на нескольких серьезных агентов Сахнут в Москве.
Но получалось черт знает что. То и дело вылезали совсем другие связи хитрого немца: чеченская и азербайджанская мафия, украинские националисты, русские национал-патриоты, прибалтийские неофашисты. К работе Харитонова это отношения не имело. А делиться с другими отделами он не желал. Да в общем, если честно, ничем конкретным поделиться не мог. Фиксировался, к примеру, какой-нибудь любопытный контакт, но тут же ускользал, не подтверждался.
Харитонов держал немца в плотном кольце осведомителей. Кроме постоянной московской любовницы, Алисы Воротынцевой, ему удалось завербовать еще нескольких друзей и приятелей общительного аспиранта Майнхоффа. Велось постоянное наружное наблюдение. Однако ни один контакт с агентурой Сахнут не всплывал. А начальство торопило, трепало нервы, требовало конкретных результатов.
И тут случилось невероятное. Майнхофф примитивно и нагло вышел на самого Харитонова, встретился с ним лично и предложил сделку. Он сдает майору всю известную ему агентуру Сахнут, а майор помогает оформить выездные документы Воротынцевой.
– Я хочу на ней жениться, – сказал он, – мне надо, чтобы вы ее выпустили.
Харитонов сначала слегка опешил, потом потребовал, чтобы Карл назвал ему имя расколовшегося осведомителя. Ведь только таким образом немец мог узнать о существовании майора Харитонова. И Карл тут же назвал имя. Это был его сокурсник по аспирантуре, хороший, добросовестный парень, который стучал на Майнхоффа лучше всех, можно сказать, от души, не из страха, а ради будущей карьеры.
– Он мне признался по пьяни, что завербован, и рассказал о вас, простодушно заявил немец.
Харитонов спокойно обмозговал ситуацию и пришел к выводу, что она для него выгодна со всех сторон.
Он наконец раскрывает нескольких крупных агентов Сахнут и докладывает об этом начальству. Воротынцева уезжает в Германию, но из-под контроля не выходит. Уж она-то никогда не расколется и будет продолжать работать на Харитонова как миленькая. В этом майор не сомневался. Он ведь был тонким психологом.
В общем, все складывалось отлично. Сделка была заключена к обоюдному удовольствию. Вопрос о том, согласна ли сама Воротынцева стать женой Майнхоффа и уехать с ним в ГДР, даже не поднимался. Смешно об этом говорить. Ну какая нормальная советская девушка откажется выйти замуж за иностранца?
Агенты Сахнут, которых сдал Майнхофф, оказались настоящими, не липовыми. Впоследствии Харитонов получил за эту удачную операцию звание подполковника. Неожиданный отказ Воротынцевой выйти замуж за Майнхоффа явился глупым неприятным сюрпризом для Харитонова, но не более. В общем он был вполне доволен итогами своей работы. И все-таки что-то свербило в душе, не давало покоя.
Только теперь, через многие годы, он понял, что именно. Все поступки Майнхоффа и Воротынцевой не укладывались в обычные харитоновские схемы. Эти двое жили и действовали по какой-то своей идиотской логике, которую многоопытный Валерий Павлович совершенно не понимал.
Ну разве стоила Алиса Воротынцева такого риска, таких жертв? Майнхофф ловко лавировал, талантливо ускользал со всеми своими связями и вдруг взял и сам выдал агентуру, за которой так долго и безуспешно охотился Харитонов. Сломался на девчонке. Ну спрашивается, чем она лучше других? Да, красивая, неглупая. Но их ведь полно – красивых, неглупых. Бери – не хочу. Почему Майнхофф так сильно захотел именно эту, единственную?
А Воротынцева? Ну с чего это вдруг она взяла и отказалась от такого выгодного замужества? Конечно, ГДР – не совсем заграница, но все-таки. Любая на eе месте вцепилась бы в немца мертвой хваткой.
Ну ладно, предположим, вожжа под хвост попала. Поссорились и расстались. Бывает. Но тогда с какой стати она не сделала аборт, родила ребенка от Майнхоффа, за которого отказалась выйти замуж? Ради чего рискнула стать матерью-одиночкой в нашей-то счастливой советской стране?
И почему сейчас, через многие годы, Майнхофф опять рискует, уже ради ребенка, о котором совсем недавно и понятия не имел?
Ну где здесь логика, спрашивается? Где здесь нормальные, понятные человеческие мотивы – материальная корысть, тщеславие, инстинкт самосохранения?
Харитонов злился и мучился, чувствуя себя на чужой территории. Здесь не пахло знакомым, родным дерьмом низких страстей и страстишек. Пахло чем-то совсем другим, чего Харитонов не желал понимать и принимать.
Все это было неприятно, но, разумеется, отступать он не собирался. Валерию Павловичу необходимо было взять живого Майнхоффа. Так вышло, что на этого немца была поставлена вся его дальнейшая карьера. А возможно, даже жизнь.
Формально задание своего шефа, президента акционерного общества «Шанс», он выполнил, коварные планы Подосинского раскрыл, шефу все подробно изложил. Однако за этим заданием немедленно последовало другое. Выслушав доклад, шеф занервничав, даже вытянул сигарету из пачки Харитонова, хотя был некурящим, и стал ходить по кабинету из угла в угол.
– Возьми мне его, Валера, – сказал он, – очень тебя прошу.
– Кого? – сделав простодушное лицо, поинтересовался Харитонов.
Но президент акционерного общества «Шанс» не счел нужным ответить кого. Он знал, что начальник охраны его прекрасно понимает.
– Это же гениальный ход, – бормотал президент, продолжая метаться по своему просторному кабинету, – это же эксклюзив, Валера. Ты представляешь, что будет, если немец станет свидетельствовать против Подосинского? Как поступит Генаша Подосинский, когда узнает, что немец у меня, живой и готовый все рассказать?
«Генаша выцарапает у тебя немца когтями, а потом ты сам погибнешь при загадочных обстоятельствах», – усмехнулся про себя Харитонов, а вслух произнес, печально покачав головой:
– Это невозможно. Это действительно гениально, но совершенно невозможно.
– Что именно? – Президент остановился, резко развернулся к Харитонову всем корпусом. – Что именно невозможно, Валера?
– И то, и другое, – невозмутимо глядя ему в глаза, ответил Харитонов. Во-первых, никому еще не удавалось поймать Майнхоффа. Даже убить его не удалось, а это куда проще, чем взять живым. Но если предположить невероятное, если все-таки вдруг повезет, он не станет свидетельствовать против Подосинского.
– Ну есть ведь способы заставить, – не унимался президент, – деньги, страх, боль, шантаж… ну я не знаю. Ты специалист, Валера.
– Сначала надо взять, а это невозможно.
– Ну, тогда грош тебе цена, полковник Харитонов, – процедил президент сквозь зубы, – мне не нужен такой начальник охраны. Мне не нужен такой человек.
Последнее прозвучало откровенной угрозой. Подумав несколько секунд, президент смягчил тон:
– Валера, это не только мой шанс. Это наш с тобой шанс. Ты понимаешь, дурья башка? Ну что ты уперся: невозможно, невозможно! – Последние слова он произнес противным жалобным голосом, как бы передразнивая Харитонова. Захочешь – сумеешь. Наверняка у тебя есть какие-нибудь хорошие крючки для этого немца. Ведь есть?
– Я так сразу сказать не могу. Мне надо подумать.
– Ну и отлично. Думай. Действуй. Сконцентрируйся только на этом. Все остальное побоку.
Харитонов не стал рассказывать шефу, какие у него имеются крючки. Зачем такому занятому, такому нервному человеку, как президент акционерного общества «Шанс», лишняя информация?
Глава 32
Пылал свет во всех окнах. Еще на лестнице Алиса услышала, что в квартире страшный шум. Было включено все – оба телевизора, маленький на кухне и большой в комнате, радио, кассетный магнитофон. Она открыла дверь, и звуковая волна чуть не сшибла ее с ног.
– Максим! Ты где? – Она сняла сапоги, прошла в кухню, выключила телевизор и радио, бросила на стол ресторанный пакет с шашлыком, потом выключила второй телевизор.
– Максимка, ау! Я покушать принесла. В детской было пусто. Кровать разобрана. На смятой подушке сидела старая плюшевая обезьяна. Из магнитофона хрипел какой-то модный эстрадник. Алиса выключила музыку. Стало тихо. Городок «Лего» посреди комнаты был наполовину разобран. Рядом валялась картонная коробка с деталями конструктора.
– Малыш, где ты? – прошептала Алиса, присела на кровать, потом вскочила, бросилась в ванную, заглянула в туалет, в большой стенной шкаф в прихожей, почувствовала, что уже совершенно бессмысленно мечется по пустой квартире.
Остановившись посреди прихожей она крепко зажмурилась на секунду, чтобы остановить головокружение и хотя бы немного успокоить бешеное сердцебиение.
Входная дверь закрывалась на английский замок. Открыть отмычкой или стандартным ключом ничего не стоит. Домофон значения не имеет. Между девятью и десятью вечера половина подъезда выходит гулять с собаками. Посторонний человек может прошмыгнуть вместе с собачником. Если он не выглядит как бомж, его пропустят без всяких вопросов и сомнений. И двоих пропустят, и троих. Она сама сколько раз пропускала посторонних не глядя!
Но кто-то мог заметить… Нет, что за ерунда? Максимка большой мальчик, он добровольно ни с кем не ушел бы, а тащить его силой, рискуя быть замеченным…
Пуховая зимняя куртка, теплые сапоги – все на месте, на вешалке в прихожей. Шапка и шарф в рукаве.
Она вернулась в Максимкину комнату. Головокружение не прекратилось. Комната плыла перед глазами с дикой скоростью.
Могли надеть другую куртку, старую дубленку. Она висит в шкафу в детской. Ведь не потащили же его раздетого, в старых джинсах, в тонкой фланелевой ковбойке, в домашних тапочках.
Она шагнула к шкафу, шарахнулась лбом о железную лестницу спортивного комплекса, вскрикнула и сквозь нестерпимый звон в ушах, совсем издалека, услышала:
– Мам, ты уже пришла?
Сначала она заметила тапочки на полу, потом медленно подняла глаза вверх, к потолку.
От потолка до крыши большого старинного платяного шкафа тянулось ветхое байковое одеяло, в которое она заворачивала Максима, когда он был совсем маленький. Огромные гвозди вбиты в потолок, к ним привязаны обувные шнурки, продернутые по углам одеяла. Получилось что-то вроде палатки. Из этой самой палатки и торчала взлохмаченная Максимкина голова.
– Классное у меня гнездо? – спросил он, отодвинул край одеяла и ухватился за лестницу спортивного комплекса. – А ты давно пришла? Я там, кажется, заснул. Слушай, залезай ко мне, посмотри, как я все оборудовал. Мам, ну ты чего? Я всего три гвоздя вбил в потолок, видишь, штукатурка не осыпалась, никаких лишних дырок нет. Ну, ты лезешь ко мне? Или я спускаюсь.
– Спускайся, – тихо сказала Алиса.
– А ты покушать принесла? Я голодный ужасно. Вы где были с этим твоим знакомым?
Он спрыгнул с лестницы. Алиса молча обняла его, потом присела перед ним на корточки и взяла за руки.
– Малыш, мы сейчас уедем. На несколько дней. Ты спокойно одевайся, я тоже быстренько соберусь.
– Куда?!
– К тете Лизе на дачу.
– Почему?
– Я тебе потом все объясню.
– Что, прямо сейчас? Поздно уже, я есть хочу.
– Я принесла шашлык из ресторана. Разогрею, ты поешь. А я пока позвоню тете Лизе. Мы заедем к ней за ключами.
– Хорошо, – кивнул ребенок и не стал больше задавать вопросов.
Лиза Семенова, институтская подруга Алисы, была, пожалуй, единственным человеком, к которому можно обратиться в такой ситуации. Они общались довольно часто. У Лизы было четверо детей, муж занимался каким-то серьезным бизнесом. Теплая старая дача, доставшаяся Лизе в наследство от дедушки-генерала, находилась в сорока километрах от Москвы, на станции Луговая. Зимой там никто не жил. Только иногда приезжали покататься на лыжах.
Алиса выложила шашлык в микроволновую печь. Потом набрала номер, который знала наизусть. К счастью, Лиза оказалась дома.
– Слушай, а вы ведь должны были вернуться позже, – удивилась она. Случилось что-нибудь?
– Случилось. Я потом тебе расскажу. У тебя сейчас на даче живет кто-нибудь?
– Никого. Я, между прочим, с самого начала тебе предлагала ехать ко мне на дачу, а не в Израиль. В сто раз дешевле и здоровей. Я так и знала, что ты выкинешь кучу денег на этот отдых и тебе не понравится. Холодно там было? Мыв прошлом году ездили в это же время, я ни разу так и не искупалась.
– Можно, мы с Максимом поживем там несколько дней?
– Конечно… А что у тебя с голосом? Ты не заболела?
– Нет. Мы минут через сорок подъедем к тебе за ключами… Ты прости меня, я тебя не очень напрягаю?
– С ума сошла? Пустой теплый дом простаивает. Только белье постельное захвати. И еды там никакой нет. Подожди, вы что, прямо сейчас хотите ехать? Поздно ведь. Может, завтра с утра? Серега вас отвезет. Он вроде бы свободен в первой половине дня.
– Нет, Лизонька, спасибо, мы сегодня отправимся. Прямо сейчас.
– Понятно… А у тебя разве машина на ходу?
– Должна завестись. Просто обязана завестись… Максим справился с шашлыком за пять минут, залпом выпил чашку чая. Алиса побросала в большую сумку два комплекта постельного белья, теплые свитера, шерстяные носки, всякие туалетные мелочи. По дороге можно остановиться у какого-нибудь круглосуточного супермаркета, купить запас продуктов дня на три.
Алиса не была уверена, заведется ли машина. Свою «шестерку» она загоняла на зиму в крытый гараж, который находился довольно далеко от дома.
«Ничего, в крайнем случае можно доехать и на электричке. От станции до дома минут пятнадцать ходьбы, сумка вовсе не тяжелая», – спокойно рассуждала про себя Алиса, в последний раз оглядывая квартиру и поторапливая Максимку. Он никак не мог решить, взять ли ему с собой старого, одряхлевшего томагошу, или освоить на даче новую, более совершенную игрушку, в которой жила целая стая компьютерных существ.
Глаза у ребенка слипались, он выглядел усталым, подавленным, растерянным. Он боялся задать лишний вопрос.
Ужас, который прожег Алису насквозь за те несколько минут, пока она искала Максима, теперь сменился холодной спокойной решимостью. Она совершенно отчетливо поняла, что в квартире у них кто-то успел побывать, произвести аккуратный обыск.
Так же ясно она отдавала себе отчет, что странная история со штрафом и задержкой в аэропорту Бен-Гурион имеет одну конкретную подоплеку: за ней теперь следит МОССАД. Несомненно, в Москве они продолжают слежку. Именно поэтому так легко отпустили.
Значит, МОССАД. Или люди Харитонова? А может, ЦРУ? Или московские бандиты, с которыми наверняка остались у Карла прочные связи? Разбираться некогда, да и как она разберется? Разве есть у нее такая возможность? Надо тихо сматываться из квартиры. Здесь теперь не безопасно.
«А все-таки зачем они сюда приходили? – спросила она себя. – Зачем им обыск? Ничего интересного они найти не могли…»
Она вдруг вспомнила, как много лет назад Карл Майнхофф снимал «жучков» в этой же квартире. Он таинственно прошептал ей на ухо: «Пора тараканов морить», и, сделав комически-загадочное лицо, развинтил телефонную трубку, потом влез на стремянку и снял сетку с кухонной отдушины, разобрал тройники и удлинители.
Часть «жучков» не тронул, просто освободил в квартире небольшое пространство для «интимных разговоров» и предупредил, что спокойно можно себя чувствовать только в Алисиной комнате, в ванной, особенно если пустить воду, и в туалете. Но все равно говорить лучше совсем тихо.
Алиса бросила взгляд на старый коричневый тройник, торчавший из розетки в кухне. Потом подняла глаза к потолку и взглянула на сетку отдушины. Те, кто слушает, теперь знают, что она собирается удирать. И знают, куда именно.
– Идиотка, – тихо выругала себя Алиса, – раньше не могла додуматься?
В одну секунду она прокрутила в голове телефонный разговор с Лизой. Пока для тех, кто слушает, информация сводится только к двум конкретным вещам: какая-то Лиза и какая-то дача. Все. Станцию в разговоре никто не называл. Значит, небольшой запас времени есть.
– Мам, я готов, – сообщил Максим, застегивая «молнию» куртки, – а ты что, еще не одета?
– Малыш, раздевайся, все отменяется, – подмигнув ребенку, Алиса надела на него шапку, быстро шепнула на ухо:
– Подыгрывай, нас слушают!
Несколько секунд Максим смотрел на нее с ужасом, а потом вдруг громко и отчетливо произнес:
– Хорошо, тогда я ложусь спать.
– Да. Уже поздно. Если хочешь, я могу рассказать тебе сказку про муравьеда Филимона, – так же громко и четко ответила Алиса.
Максим недоуменно поморгал, а потом крикнул почти радостно:
– Конечно, мамочка, очень хочу! Ты так давно не рассказывала, – он побежал в детскую, отыскал в ящике кассету.
Сказка про муравьеда Филимона была чем-то вроде сериала, который несколько лет подряд сочиняла Алиса, укладывая ребенка спать. Последняя серия кончилась года три назад. Максим уже давно засыпал без сказок. Однако, когда он был маленький, без Филимона не обходился ни один вечер. Алиса успела тихо возненавидеть это хитрое животное с длиннющим подвижным носом, толстым брюшком и быстрыми коротенькими лапками.. Чтобы немного облегчить себе жизнь, она записала несколько историй про Филимона на магнитофон. Иногда ребенок милостиво соглашался заснуть не под живой мамин голос, а под кассету.
" – Разве это похоже на нос? Это просто сучок торчит из моей норы, – сказал Филимон, – ты иди своей дорогой и не обращай внимания.
– Как бы не так, – прорычал тигр, – я тебя вижу, ты меня не обманешь, ты спрятался во-он на том дереве и висишь вниз головой…
– Что ты! Разве я могу вниз головой? Разве я похож на обезьяну? На дереве висит моя тень вверх ногами, а я притаился за муравейником…"
Тихо, почти бесшумно закрылась входная дверь. В детской горел ночник и продолжал звучать спокойный Алисин голос.
– Ты не знаешь, у нас чердак открыт? – шепотом спросила она на лестничной площадке.
– Ты же не разрешаешь мне туда лазить, – прошептал в ответ Максим.
Пешком они поднялись на последний этаж. На железной чердачной двери висел большой амбарный замок.
– Только учти, – предупредил Максим, – чтобы потом меня не ругала.
Он вытащил из кармана своего маленького рюкзачка перочинный ножик, ковырнул пару раз, и замок с грохотом упал на пол вместе с петлями, которые, оказывается, держались на разболтанных винтах.
– Взломщик малолетний, – прошептала Алиса.
– Там перед Новым годом кошка окотилась, – объяснил ребенок, – мы ходили кормить ее по очереди вместе с Колькой из третьего подъезда. В третьем тоже чердак открыт. Под ноги смотри внимательно. И не ругай меня потом, когда выберемся. Обещаешь?
– Не буду.
Третий подъезд находился в торце дома, с другой стороны. Никто их не мог заметить, даже случайно. И все-таки Алиса решила доехать до Лизы на метро, а потом уж забрать машину из гаража.
– Странно, что она не перезвонила, – задумчиво произнес «наружник», сидевший в старом черном «Опеле»у подъезда.
Два часа назад этот «Опель» приехал на смену серому «Фольсквагену». Двум «наружникам» предстояло провести здесь почти всю ночь.
– Уложит ребенка и перезвонит, – зевнув, ответил второй, – слушай, как ты думаешь, она эти бредни про муравьеда сама сочиняет или книжка такая есть?
– А хрен ее знает. Все-таки странно, что не перезвонила. Должна была ведь предупредить, что не приедет за ключом.
– Да ладно тебе. Все видно, как на ладошке. Если что, не упустим. Слышь, может, к ларьку сбегать?
– Подожди. Не нравится мне это. Слишком уж быстро она поменяла решение. Странно, что вообще решила ехать к кому-то на дачу, и еще более странно, что тут же передумала.
– А у женщин вообще семь пятниц на неделе.
– Гришка сказал, она просекла их. Могла запросто догадаться про «жучки».
– Тогда зачем стала звонить из квартиры?
– Сначала позвонила, а потом спохватилась.
– Никуда она не денется. Давай я все-таки смотаюсь к ларьку, он закрывается в одиннадцать, надо ведь пожрать купить. Всю ночь сидеть.
– Ладно, иди. Только посмотри на окна. «Наружник» выскочил из машины, взглянул вверх, с удовлетворением отметил, что в нужном окне на четвертом этаже горит свет, и побежал в сторону метро, к коммерческому ларьку. Прохожих в переулке не было. В дрожащем фонарном свете он заметил силуэты женщины и мальчика. Женщина несла на плече большую сумку, у ребенка за спиной был рюкзачок. Они шли очень быстро. На повороте «наружник» обогнал их и оглянулся на всякий случай.
* * *
– Мам, ты мне можешь наконец объяснить, что происходит? – шепотом спросил Максимка в полупустом вагоне метро.
– Я понимаю не больше, чем ты. Кто-то побывал у нас дома. Когда я вернулась и мне показалось, что тебя нет, я подумала, что оставаться в квартире опасно. После наших израильских приключений я теперь всего боюсь. Ты ведь знаешь, какая я трусиха.
– А почему ты думаешь, что на даче, в пустом поселке, безопасней?
– Потому что в ближайшие сутки никто не будет знать, где мы. Я плохо соображаю, когда за мной следят, когда в квартире подслушивающие устройства, а у подъезда машина с чужими людьми.
– Откуда ты знаешь про подслушивающие устройства и про машину?
– Тройник на кухне поменяли. Поставили точно такой же, но на нашем было несколько капель белой масляной краски. В тройники и вообще во всякие электроприборы очень удобно вставлять подслушивающие устройства.
– Откуда ты знаешь?
– Читала.
– Ну а кроме тройника?
– У сетки отдушины в прихожей была паутина. Я ее не снимала по твоей просьбе. Ты где-то слышал, что пауков убивать нельзя. Теперь паутины нет. Ну ладно, твой паучок мог переселиться. Но не захватил же он с собой наклейку от жвачки, которую ты прилепил в уголок, когда у нас был ремонт?
– Она могла сама отклеиться, – неуверенно возразил Максим.
– Могла, – кивнула Алиса, – но почему-то целый год после ремонта держалась.
– А еще где-нибудь заметила?
– Нет. Я не стала больше искать. Но наверняка есть еще.
– А машина?
– Черный «Опель» почти у самого подъезда. Там сидят двое мужчин. Когда меня подвез мой знакомый, он осветил фарами людей в «Опеле». Я нарочно задержалась немного, медленно шла к подъезду, все ждала, выйдут они или нет. Не вышли. Кому охота зимой, поздним вечером, сидеть в темной холодной машине?
– Ну, мало ли, может, просто разговор серьезный. Там ведь печка.
– Вот они и греются потихоньку у нашего подъезда. Чтобы нас с тобой слушать, им надо быть где-то рядом. Маленькие, незаметные подслушивающие устройства передают звук только на небольшое расстояние.
– А зачем им нас слушать?
– Этого я пока не знаю. Я уже сказала, чтобы начать нормально соображать, мне надо успокоиться. Сначала надо спрятаться, а потом разбираться, в чем дело. Ты со мной согласен?
– Нет, – честно признался Максим.
Она не ожидала другого ответа. Пока в ее поведении не было никакой логики, и ребенок это чувствовал. Они убегали потому, что за ними гнались. Кто именно и зачем, она пока не могла объяснить ни ему, ни себе. Она действовала инстинктивно, просто потому, что, кроме инстинкта самосохранения, опереться было не на что. Сейчас она понимала только одно: в квартире оставаться нельзя.
– Мам, – спросил ребенок совсем тихо, когда они вышли из метро «Беговая» и оказалисв пустом темном переулке у дома Лизы, – нас не убьют?
– Нет, малыш. Если бы у них была такая цель, они давно могли это сделать, – спокойно и рассудительно ответила Алиса.
– Ну мы же ни в чем не виноваты… Я боюсь, мамочка. Ты только не оборачивайся. Смотри, тень.на сугробе. За нами кто-то идет.
– Это просто прохожий. Не бойся.
На пороге Лизиной квартиры у нее мелькнула мысль: а не оставить ли Максима здесь? Стальная дверь, несколько хитрых замков… Но завтра утром дети Лизы пойдут гулять, и Максим с ними. Чтобы эта надежная дверь его защитила, надо либо рассказать Лизе все как есть, либо выдумать какую-нибудь правдоподобную легенду. Но тогда получится, что вся семья будет закупорена за этой дверью.
Нет, наваливать на институтскую подругу и ее мужа свои трудности, излагать им всю историю целиком, с начала до конца, невозможно: Врать, подставляя их вместе с детьми, – тем более невозможно. Хватит того, что она отправляется на их тихую добротную дачу.
– Вы чайку попьете? – шепотом спросила Лиза. – Дети только что уснули, Серега футбол смотрит.
– Нет, Лизунь. Поздно уже. Нам надо еще еды купить по дороге, так что доберемся не раньше часа ночи. Мы даже раздеваться не будем. Ты прости, что так получилось…
– Да что ты все время извиняешься? Что за манера дурацкая? Слушай, а это никак не связано с твоим последним заказом?
– Что – это?
– Ну, вы ведь прятаться собираетесь, если я правильно тебя поняла.
– Собираемся, – кивнула Алиса, – но не от кого-то конкретно, а вообще. Мы не отдохнули толком, хотим пару дней пожить в тишине, чтобы никто не трогал. При чем здесь мой последний заказ?
– Я тебе говорила, чтобы ты не строила особняк этой дуре (Лиза назвала фамилию стареющей эстрадной звезды), она с бандитами дружит. Я, когда ты сегодня позвонила, сразу об этом подумала. Твои на фирме не случайно отказывались на нее работать.
– Ну, работать на нее отказывались исключительно из-за ее дурного характера.
– Да уж, редкостная стерва, – хмыкнула Лиза, – может, ты ей чем-то не угодила или случайно узнала какую-нибудь ее страшную тайну, например, что у нее на голове парик, а во рту вставная челюсть, и она подослала знакомых братков, чтобы ты молчала?
– Да, конечно, я подглядела в щелку, как она вынимает стеклянные глаза и в коробочку кладет на ночь, – засмеялась Алиса.
– Нет, я серьезно. Серега, между прочим, как узнал, с кем ты связалась, сразу сказал, что могут быть неприятности. Очень вредная тетка. Учти, если что, у Се-реги один хороший знакомый открыл недавно частное детективное агентство. Там ведь пустой поселок, запросто достанут. Вдруг ты правда ей не угодила?
– Я ей угодила, и никто на меня не наезжал. Ну кому я нужна? Ты, Лизуня, дрянных детективов начиталась, и тебе мерещатся всякие изощренные ужасы. Просто мы совсем не отдохнули в Израиле. Американец из соседнего номера погиб прямо на глазах у Максима. Нырял с аквалангом… В общем, мы хотим до понедельника побыть на воздухе, в тишине, чтобы нас никто не трогал. У Максимки впереди третья четверть, самая длинная и противная, у меня куча работы. Я даже маме еще не звонила. Мы так решили.
По дороге к метро опять мелькнула тень, и Максимка запаниковал:
– Мам, тот же человек. Я его уже видел. Он следит за нами.
– Тебе показалось.
– Нет.
Алиса вовсе не исключала такую возможность. Этот ли молодой человек в короткой дубленке с поднятым воротников или кто-то другой, но следить за ними могли.
Огромный многоэтажный гараж, в котором зимовала машина, находился за Белорусским вокзалом. Можно было доехать на метро, с пересадкой на «Баррикадной», а можно на двадцатом троллейбусе. Ловить такси Алиса не хотела. Во-первых, денег в обрез, во-вторых, за такси удобно следить на машине. Передвигаясь пешком или городским транспортом, значительно проще обнаружить слежку и уйти от «хвоста».
Она вдруг поймала себя на том, что старательно вспоминает полушутовской шпионский инструктаж, который давал ей когда-то Карл. Они вдвоем петляли по Москве, пересаживались из троллейбуса в автобус, вскакивали в закрывающиеся двери вагонов метро. Они играли в кошки-мышки с людьми из КГБ.
«Надоели, придурки, – ворчал Карл, – ну кто же так работает? Вон, смотри, у киоска топчется, покуривает, вроде бы длинноволосый хиппарь в рваных джинсах, а на ногах новенькие казенные ботинки».
Пятнадцать лет назад Алиса испытывала детскую мстительную радость, наблюдая из окошка удаляющегося троллейбуса, как «хиппарь» в казенных темно-коричневых ботинках отбегает от киоска, мечется, растерянно оглядываясь по сторонам.
«Пусть передаст горячий комсомольский привет товарищу Харитонову!» смеялся ей на ухо Карл.
«Был бы он сейчас рядом, мы ушли бы от всех „хвостов“, – с неожиданной тоской подумала Алиса, – мы бы спрятались, исчезли и показали бы им всем большой веселый кукиш. А Максимке не было бы так страшно… О господи, о чем я? Я совсем с ума сошла? От кого мы, собственно, удираем? Из-за кого весь этот кошмар? Он ведь убийца, мерзавец, международный террорист. Он убил Денниса у нас на глазах…»
На троллейбусной остановке не было ни души. Алиса стряхнула варежкой снег с лавочки, поставила сумку.
– Сейчас подъедет троллейбус, мы войдем в переднюю дверь и попытаемся выскочить из задней. Если не успеем на этой остановке – значит, на следующей. Троллейбус будет пустой, и наш «хвост» засветится, – быстро прошептала она Максиму на ухо.
– Вот он, – прошептал в ответ Максимка и показал глазами на мутную пупырчатую стенку остановки. Сквозь нее зыбко вырисовывался темный мужской силуэт, подсвеченный со спины фонарем.
Закачались провода, из-за поворота показался троллейбус. Он был почти пустой. Открылись только передние двери. Не спеша вышла старушка, за ней выпрыгнула юная парочка. Силуэт за пузырчатым пластиком исчез. Максим поставил ногу на высокую ступеньку, Алиса оставалась внизу. Мужчина в короткой дубленке замаячил у нее за спиной. Она поднялась вслед за Максимом, застыла на секунду, как бы преграждая мужчине путь.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка… – проговорил механический голос в кабине водителя, а потом сам водитель сердито заворчал в микрофон:
– Женщина, проходите, не надо стоять в проходе. Мужчина, вы едете или как?
Алиса сделала шаг от двери, ухватилась за поручень. «Хвост» решительно впрыгнул в троллейбус.
– Мама! Ты сумку оставила! – крикнул Максим во все горло.
Двери качнулись, но еще не успели закрыться. «Хвост» стоял у кабины и протягивал водителю мелочь на талон. Алиса и Максим выскочили. Водитель громко выругался им вслед, захлопнул двери и тронулся.
Подхватив сумку, они бросились прочь от остановки, свернули за угол, потом нырнули в темную арку, оказались в большом проходном дворе, огляделись, прошмыгнули в узенький проход между «ракушками».
– Мам, а может, это правда твоя заказчица подослала бандитов? – спросил Максим, отдышавшись.
– Нет никаких бандитов. Мы едем на дачу к тете Лизе. Нам надо отдохнуть, наверстать упущенное.
– Знаешь что, мамочка, хватит морочить мне голову.
– Знаешь что, сынок, не приставай ко мне с вопросами, очень тебя прошу. Я не могу разговаривать на бегу на такие серьезные темы.
– А мы сейчас не бежим. Мы стоим. И у меня, между прочим, полные ботинки снега.
– Я взяла запасные носки. В машине переоденешься.
Постояв еще несколько минут, убедившись, что «хвост» в короткой дубленке благополучно уехал в троллейбусе, они направились к метро. В вагоне и в переходе оглядывались по сторонам, на «Краснопресненской» вошли в одну дверь, в последний момент выскочили из другой, дождались следующего поезда.
Путь к гаражу лежал через платформы Белорусского вокзала. На всякий случай они пошли по той из них, к которой прибыл поезд из Варшавы, мужественно двинулись сквозь толпу челночников, наслушались всяческой брани в свой адрес, так как продирались против движения.
Огромное темное здание гаража выглядело жутковато. Машина стояла на пятом этаже. Надо было подняться по тускло освещенной лестнице, пройти вдоль черных зарешеченных загонов для машин. Бетонные стены отражали каждый звук, шаги звучали как-то особенно гулко, и даже шепот казался оглушительным в тишине пустого мрачного здания.
– Мам, а если она не заведется? – спросил Максим.
– Поедем на электричке.
Алиса открыла ворота своего отсека, включила свет, достала из шкафчика тряпку, стерла пыль с ветрового стекла. Максимка тут же забился на заднее сиденье, вывалил все из сумки, нашел шерстяные носки, стал разуваться.
– Только сразу сложи все назад, – предупредила Алиса, усаживаясь за руль, – может, и правда не заведемся.
Она включила зажигание. Мотор поурчал и заглох.
– Мам, давай здесь переночуем, а завтра утром слесарь придет, – зевнув, сказал Максим, – здесь ведь есть какой-то дежурный слесарь. Так неохота на электричке…
– Подожди, не паникуй. Заведемся. Ты же знаешь, наша старушка всегда поначалу капризничает. Мотор опять заурчал.
– Старушка, миленькая, ты у нас такая хорошая, – заговорил Максим смешным умоляющим голоском, – заведись, пожалуйста, довези нас до дачи. Так холодно и неуютно в электричке, а потом еще пешком, в темноте.
Вроде бы все было в порядке. Алиса разбиралась в машине ровно настолько, чтобы на ней ездить. Кое-что она успела усвоить, когда заезжала в автосервис, но самостоятельно влезать в мотор ни за что бы не решилась. «Шестерка» была старая, подержанная, с фокусами. Иногда она просто так не заводилась, без всяких разумных причин. Максим начинал разговаривать с ней как с живым существом, и случалось, что она, как бы смилостивившись, трогалась с места.
– Не старайтесь, Алиса Юрьевна. Вы все равно никуда не поедете сегодня.
Оба, Алиса и Максим, вскрикнули от неожиданности.
Прямо перед машиной стоял мужчина. Он возник из воздуха, из густой темноты пустого гаража, подошел совершенно беззвучно и заговорил сразу очень громко, чтобы его услышали сквозь сердитое порыкивание мотора и закрытые окна.
Опомнившись, вглядевшись, Алиса узнала Валерия Павловича Харитонова.
Глава 33
Темно-синий микроавтобус «Форд», в каких обычно путешествуют по европейским дорогам молодые семьи среднего достатка с детьми и домашними животными, остановился у придорожного торгового комплекса на окраине небольшого городка в предгорий Швейцарских Альп.
Было два часа ночи. Мокрый снег превращался в дождь, не долетая до земли. Автостоянка перед торговым комплексом была почти пуста, черный блестящий асфальт отражал ярко освещенные витрины. Красные огоньки праздничных гирлянд, еще не убранных после Рождества и Нового года, расплывались в мелких лужах, как пятна крови.
Из микроавтобуса выпрыгнул высокий черноволосый мужчина в джинсах и непромокаемой теплой куртке.
– Ахмед, не забудь купить мне пару пачек «Мальборо-лайт», – напутствовал его молодой женский голос по-немецки.
Мужчина кивнул и зашагал к стеклянным дверям торгового комплекса. Когда бесшумные двери сомкнулись у него за спиной, на стоянку въехал огромный туристический «Икарус» с затемненными окнами.
Ахмед не спеша проходил вдоль полок продовольственного супермаркета, заполняя корзину банками колы, упаковками с готовыми бутербродами, пактами чипсов и печенья. Когда он завернул за угол и его не стало видно с автостоянки, какой-то рассеянный белобрысый очкарик налетел прямо на него со своей полной корзинкой, толкнул довольно сильно, тут же извинился по-французски с вежливой улыбкой. Ахмед мрачно выругался, а через секунду задергался, словно в припадке. На его запястье защелкнулся браслет наручников, намертво пристегнув его к рассеянному очкарику.
Свободной левой рукой палестинец попытался выхватить пистолет из кармана куртки, но руку тут же больно заломили назад.
– Швейцарская полиция. Вы арестованы, – услышал он за спиной.
Следующие пятнадцать минут прошли в полной тишине.
– Черт, куда он подевался? – пробормотала Инга Циммер, напряженно вглядываясь сквозь окошко в освещенное нутро торгового центра.
Там было пусто. Ни единого покупателя.
– Сейчас придет, – невозмутимо ответил один из арабов.
– Что он там застрял? Нам надо уезжать. Слушай, Мустафа, у твоего товарища расстройство желудка, что ли? – Инга приоткрыла окно возле водительского места и закурила.
– Я пойду посмотрю, – предложил маленький носатый Мустафа.
– Давай сходи, пусть поторопится, – вяло кивнул большой, круглый, поросший медвежьей шерстью до глаз Алихан.
Из троих арабов он был старшим и главным.
– Здесь я распоряжаюсь, – напомнила Инга. – Никто никуда не пойдет. Ждем еще пять минут и уезжаем.
Мустафа и Али выругались на своем языке. Им было противно слышать такие слова от женщины. Как это – женщина ими распоряжается? Однако приходилось мириться. В отсутствие Карла все командирские полномочия автоматически переходили к Инге.
– У меня расстройство желудка! – подал голос Натан Ефимович Бренер. – Мне надо в туалет!
– Обойдетесь, – бросила ему Инга через плечо.
– Вы что, с ума сошли? – возмутился профессор.
– Я провожу его, заодно посмотрю, где там Ахмед, – сказал Мустафа.
– Сидеть! – крикнула Инга.
Однако задняя дверца уже открылась. Профессор спрыгнул на мокрый асфальт. За ним Мустафа. Со стороны казалось, что молодой черноволосый паренек восточной наружности ведет по пустой площади пожилого седого человека, заботливо поддерживая его под локоть. На самом деле в левый бок профессора было уперто дуло маленького пятизарядного «вальтера».
Тем временем из «Икаруса» высыпала на площадь шумная толпа туристов. Вглядевшись, можно было заметить, что среди них нет ни одного старика, ни одного ребенка и всего три женщины, остальные – крепкие молодые мужчины. Все в широких дутых куртках.
Натан Ефимович в сопровождении заботливого Мустафы был уже внутри супермаркета.
– Простите, где у вас туалет? – спросил он у девушки за кассой.
– В глубине зала, направо, – ответила она по-немецки и тут же воскликнула:
– О, молодой господин где-то сильно испачкал куртку! Вот здесь, на правом рукаве, на локте, ужасное пятно! Это свежая масляная краска, у нас есть хороший пятновыводитель, надо скорей, пока не высохло.
Девушка-кассирша, совсем молоденькая, белокурая, быстро и возбужденно тараторила по-немецки.
– Где? Что? – Мустафа рефлекторно, всего на долю секунды, ослабил хватку, пытаясь разглядеть пятно на своем правом локте.
Хрупкая швейцарская девушка моментально с неженской силой заломила его руку назад и выбила пистолет. А потом полицейские, выскочившие словно из-под земли, защелкнули наручники.
– Швейцарская полиция. Вы арестованы. Из окон «микрика» никто ничего не заметил. Туристы между тем разбрелись по площади, слонялись, разминали ноги после долгой езды. Но вдруг в несколько секунд сгруппировались в плотное кольцо вокруг темно-синего «микрика». Из неорганизованной толпы они превратились в отряд спецназа. Это были бойцы-коммандос из швейцарской антитеррористической группы «Штерн». Над площадью деловито застрекотал вертолет и завис на высоте десяти метров над крышей «микрика».
– Инга Циммер! Алихан Исмаил-паша! Сопротивление бесполезно, вы окружены, – произнес громкий голос, – выходите из машины с поднятыми руками.
Площадь осветилась ярчайшими прожекторами. Капли дождя вспыхивали, как падающие звезды. Десяток дул были направлены в окна «микрика». Спецназовцы успели надеть черные шлемы. Под куртками виднелись бронежилеты.
Инга обмякла, словно ей перебили хребет, бессильно откинулась на сиденье и на секунду закрыла глаза.
– Выходи, Али-хан, – произнесла она шепотом, – если хочешь жить, выходи с поднятыми руками.
– Он нас подставил, будь он проклят, шайтан… – пробормотал Али сквозь зубы. – Все это было подстроено. Так неожиданно, так просто… Я хочу, чтобы он сдох, твой Карл…
– Заткнись и выходи из машины, – рявкнула Инга, не глядя на него.
– А ты? – спросил Али, вздергивая автомат.
– Я им нужна живая. Ты – необязательно. Я много знаю, и они хотят меня выпотрошить. А ты пустой, Али-хан. Ты им не нужен. Если не сдашься, они пристрелят тебя. Бросай автомат и вали отсюда, понял? – Она резко развернулась к нему.
В руках у нее была небольшая, объемом литра на полтора, банка из светлого металла цилиндрической формы. Али заметил надпись на иврите, длинную, в несколько строк, какие-то цифры, маленький значок, череп с перекрещенными костями, а потом, приглядевшись, прочитал по-английски: «Осторожно! Опасно для жизни!»
– Что это? – спросил он шепотом.
– Консервы, – усмехнулась Инга.
– Ты прихватила в Беэр-Шеве? Отлично! С этим мы прорвемся.
– Я, – уточнила Инга, – я с этим прорвусь. А ты давай вали отсюда. Сдавайся.
– Ах ты сука! – рявкнул Али. – Отдай! – Он потянулся, чтобы выхватить у нее контейнер, но тут же получил удар острым металлическим ребром банки по горлу. Рука его, сжимавшая готовый к стрельбе автомат, дернулась, и короткая очередь прошила изнутри бок «микрика».
С площади тут же ответили сдержанной стрельбой, пока только по колесам. «Микрик» задрожал и стал оседать на сдувающихся шинах.
Али-хан выронил автомат. Он не мог дышать. Он широко открыл рот, судорожно ухватился руками за горло и глядел на Ингу глазами, полными ужаса. Она спокойно выстрелила ему в рот из своего маленького изящного «браунинга».
Снаружи выстрела никто не услышал. Над площадью опять звучал громкий радиоголос:
– Повторяю, сопротивление бессмысленно. Двое ваших людей арестованы. Заложник освобожден. Бросайте оружие. Выходите из машины с поднятыми руками.
Инга быстро обшарила карманы мертвого Али, вытащила бумажник, в котором были доллары и швейцарские франки. На глазок вполне приличная сумма. Считать она не стала. Небольшой автомат повесила на шею, под просторную куртку, и застегнула «молнию» до горла. В глубокие карманы положила свой «браунинг» и ручную гранату. В небольшую спортивную сумку бросила пару коробок с патронами, новенький необстрелянный «кольт» Али-хана. Все это она проделала пригнувшись, так, чтобы ее не было видно сквозь окна.
– Внимание! Повторяем. Инга Циммер… – терпеливо гудел радиоголос.
Инга уселась на водительское сиденье и спокойно закурила. Снаружи ее отлично видели. Повисла тишина, только мерный рокот вертолета гудел в ушах.
– Подождете, свиньи, – произнесла Инга довольно громко, – будете все стоять и ждать.
Докурив до фильтра, она открыла дверцу, вышла из машины. В ее поднятых руках был металлический контейнер. Спецназовцы на площади замерли.
– Уберите вертолет! – прокричала Инга.
Натан Ефимович вышел из полицейской машины вместе с шофером и уставился на контейнер.
– Что у нее в руках? – тихо спросил молоденький шофер.
– Я не вижу издали, – ответил Бренер.
– Она держит какую-то бомбу… Но я никогда таких не видел раньше.
– Это контейнер с биологическим оружием. Бинокль есть у вас?
– У меня нет… Но я достану.
Вертолет опустился на крышу торгового центра и затих. Над площадью повисла гробовая тишина. И в тишине прозвучал громкий крик Инги:
– Всем бросить оружие! Крышка контейнера свинчена. Пломбы нет. Если в меня выстрелят, контейнер взорвется. Автомобиль с полным баком и заложник! Заложник в наручниках! Быстро!
К Натану Ефимовичу подбежал командир спецназа с биноклем. Линзы были достаточно сильные, чтобы разглядеть с большого расстояния каждую буковку на контейнере.
– Зрелые штаммы бластомикоза. Распространяются воздушно-капельным путем. Летальность девяносто процентов. Боюсь, придется выполнить все условия
Этой идиотки, мы теперь все ее заложники, – медленно проговорил Бренер.
– А дальше? Что делать потом с этим контейнером? Она будет носиться с ним по стране, и в любую минуту…
– Внутри есть дополнительная пломба. Но она недостаточно надежна. Если контейнер будет находиться в относительном покое, ничего не произойдет. Однако при любом резком толчке, при падении на твердую поверхность дополнительная пломба может вылететь. Мне надо поговорить с тем человеком, который решится пойти к ней в заложники.
– Оружие на землю, я сказала! – крикнула еще раз Инга и подняла контейнер высоко над головой. – Если в меня выстрелит снайпер, контейнер взорвется. Всем отойти! Машину и заложника оставить на площади! Наручники! Чтобы руки за спиной!
– Контейнер должен находиться в покое, – наставлял между тем Бренер здоровенного детину лет тридцати. – Думаю, наручники ваши легко расстегнутся. Первое, что вы сделаете, – вставите основную пломбу и завинтите крышку. Это просто. Вы разберетесь. А уж потом все прочее – драка, стрельба, засада, на ваше усмотрение. Но только чтобы контейнер не прострелили.
– Я понял, – кивнул швейцарец.
Словно в замедленной съемке, спецназовцы отступали. На площадь выехал черный седан и остановился в десяти метрах от Инги. Человек, сидевший за рулем, вылез, оставив дверцу распахнутой, и направился к отступившему оцеплению. Ему навстречу шел заложник. Руки его были за спиной стянуты наручниками.
– Стоять! – рявкнула Инга. – Снимите с него куртку! Бронежилет снимите! Быстрее!
Все было сделано, как она сказала. Заложник стоял перед ней в джинсах и тонком свитере. Руки опять были за спиной, в наручниках.
– В машину! На переднее сиденье! – скомандовала Инга.
Контейнер она выпустила из рук, только когда села за руль. Теперь смертоносная консервная банка лежала у нее на коленях.
– У нас была возможность прикончить ее, мы могли это сделать не один, а десять раз, – произнес командир спецназа, глядя вслед удаляющемуся седану.
– Что же вас остановило? – поинтересовался Бренер.
Он знал, что по плану Подосинского при аресте Ингу Циммер должны были непременно застрелить.
– Нам дали указание взять ее живой, – ответил сквозь зубы командир спецподразделения.
* * *
Максим был так измотан, что внезапное появление незнакомого человека из темноты его не напугало и почти не удивило.
– Мам, кто это? – спросил он, зевнув.
– Милиционер, – соврала Алиса. Харитонов усмехнулся, галантно распахнул дверцу и даже подал ей руку, помогая вылезти из машины.
– Мне не понравилось, как мы с вами расстались, Алиса Юрьевна. Давайте-ка я отвезу вас с ребенком домой. Моя машина внизу.
– И давно вы нас здесь ждете, Валерий Павлович?
– Около сорока минут. Я, знаете ли, почему-то почувствовал, что вы захотите удрать, спрятаться куда-нибудь в укромное место и отсидеться. Чтобы не допустить такой глупости с вашей стороны, я решил провести ночь в вашем гараже. Видите, я не ошибся. А кстати, куда вы собрались ехать в такое позднее время, если не секрет?
– Теперь уже не секрет. На дачу к подруге. «Значит, все-таки МОССАД, отметила про себя Алиса, – значит, не он нашпиговал квартиру „жучками“. Интересно, кто там еще? ЦРУ?»
– Понимаете, Валерий Павлович, – произнесла она задумчиво, – боюсь, я не сумею уснуть в квартире, напичканной подслушивающими устройствами.
– А, ну это не проблема, – улыбнулся Харитонов и открыл заднюю дверцу, вылезайте, Максим Карлович. Я смотрю, вы уже засыпаете.
Алиса вздрогнула. Харитонов весело подмигнул ей.
– Юрьевич, – равнодушно поправил Максим и опять зевнул во весь рот.
– Еще одна такая выходка, и я вообще не стану никогда больше с вами разговаривать, – шепотом предупредила Алиса, пока они спускались по лестнице.
– Простите, оговорился.
В машине Максим тут же уснул на заднем сиденье.
– Черный «Опель» от моего подъезда уберете? – спросила Алиса.
– Уже убрали. Это МОССАД. С ними проблем не будет. Они занимаются незаконной разведывательной деятельностью на нашей территории.
– За нами шел молодой человек в короткой дубленке.
– Да что вы говорите? – покачал головой Харитонов. – Какое безобразие! И где же он теперь?
– Понятия не имею. Мы оторвались от него.
– Ну и славно. А вообще, Алиса, вам не надоело играть в эти игры?
– Надоело, – кивнула Алиса, – тошнит уже.
– Вот и слушайтесь меня. Я все-таки профессионал. Сейчас у нас с вами одна общая задача: дождаться нашего дорогого друга. Чем скорее он явится, тем скорее все кончится. А если вы удерете, начнете прятаться по чужим дачам, вы всем очень усложните жизнь. Себе в первую очередь. Пока он вас отыщет там, вы издергаетесь от страха и напряжения, к тому же вряд ли там есть телефон под рукой. В общем, сидите-ка вы дома, Алиса Юрьевна. Дома оно всегда лучше. А «жучков» мы снимем, не беспокойтесь.
– И поставите новые, свои. А у подъезда будет дежурить какой-нибудь «Форд» или «жигуленок».
– А как же? Без этого нельзя.
– Ладно, машина пусть стоит. Но «жучков» не надо. У нас ведь есть статья о неприкосновенности жилища?
– Молодец, Алиса. Вы уже торгуетесь, – засмеялся Харитонов.
– Я не могу находиться в помещении, которое наполнено чужими ушами. Это плохо действует на психику. Я все время буду думать об этом, буду бояться вдруг заговорю во сне и скажу что-нибудь неприличное?
– Говорите на здоровье что угодно. Чужие уши как-нибудь стерпят.
– Нет, я серьезно. Это мое условие. Пока, между прочим, единственное. Вы же сами понимаете, как только он появится, я тут же вам сообщу, да и «наружка» ваша засечет. И вообще, Валерий Павлович, раз у нас с вами общий интерес, давайте общаться по-джентльменски.
От машины до подъезда Максим шел с закрытыми, глазами, он спал на ходу. Алиса сразу заметила, что черного «Опеля» у подъезда уже нет. В квартире Харитонов повел себя совершенно по-хозяйски, Алисе показалось, что он был здесь совсем недавно и все знает, каждый уголок.
Он снял ботинки и достал гостевые тапочки из коридорной тумбы, отправился в ванную мыть руки.
– Вы укладывайте ребенка, а я займусь «жучками». Максимка спал так крепко, что ему не мешал ни яркий свет в детской, ни возня Харитонова. Алиса отправилась на кухню приготовить чай. И тут обнаружила, что в доме нет ни чая, ни сахара, ни хлеба.
– Валерий Павлович, я сбегаю в супермаркет, пока вы тут возитесь, сообщила она шепотом, – я ведь так и не успела купить никакой еды.
Он аккуратно вытащил плоский блестящий кругляшок с тонкими проводками из-за батареи центрального отопления и вскинул глаза на Алису:
– Половина второго ночи. Не время ходить по магазинам.
– И все-таки я пойду. У нас здесь круглосуточный супермаркет в двух шагах.
– Ну, давайте. Я подожду, – легко согласился Харитонов.
Оставшись один, он прошелся по квартире, размышляя, как лучше воспользоваться внезапным уходом хозяйки. С «жучками» он уже разобрался. Квартира как прослушивалась, так и будет прослушиваться, только уже не олухами из МОССАДа, а его людьми. Одного олуха час назад сняли по его наводке ребята из ФСК. Второго ищут и скоро найдут.
В квартире был беспорядок. Хозяйка еще не успела разобрать вещи после возвращения. На стуле у ее тахты висели джинсы. Взгляд Харитонова наткнулся на бумажный прямоугольник, который валялся у ножки стула. Он поднял. Это была визитная карточка, выпавшая, вероятно, из кармана джинсов.
«Посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле. Атташе по связям с общественностью мистер Уильям Баррет. Тель-Авив…» Дальше шел адрес и шестизначные тель-авивские телефонные номера. С обратной стороны был от руки написан еще один номер, семизначный. Возможно, московский.
Недолго думая, полковник спрятал визитку к себе в карман.
* * *
Алиса вышла из подъезда, огляделась, спокойно обошла машины, стоявшие во дворе. Все они были пустыми. Значит, люди Харитонова либо не приехали еще, либо прячутся где-то дальше, в соседнем дворе. Пустячок, но приятно.
Алиса отправилась за покупками в половине второго ночи не только потому, что дома не было никакой еды. Ей стало интересно, кто теперь дежурит у ее подъезда. Она хотела определить для себя, насколько оперативен Харитонов. С самого начала закралось подозрение, что теперь за ним стоят уже не славные органы, а нечто совсем другое. Слишком дорого и элегантно он был одет, слишком шикарная была у него машина. Да, конечно, КГБ стал теперь иной организацией, название сменилось, но вряд ли зарплаты сотрудников, даже полковников, столь велики. Ну никак не верилось в это.
Еще в ресторане она обратила внимание на золотые часы «Ролекс», тускло поблескивающие на его запястье, заметила платиновый перстенек, украшающий толстый мизинец. Черный топаз, с диагональю из пяти довольно крупных бриллиантов. И такие же запонки, такая же галстучная булавка. Скромненько, но со вкусом.
«А не бандитом ли вы заделались, уважаемый Валерий Павлович? – подумала Алиса. – Ведь известно, что многие ваши коллеги, отставные майоры и полковники, идут в охранные структуры. А что обычно охраняют в наше время? Большие деньги и больших людей».
Снег поскрипывал под ногами, свежий ночной морозец пощипывал лицо. Было так приятно идти в одиночестве по родному переулку в магазин за продуктами, молчать, дышать, слушать тишину.
В пустом супермаркете она сосредоточенно выбирала продукты. Денег осталось совсем мало. На карточке двести долларов, и никаких заначек. Она все потратила на поездку в Израиль. Сколько времени придется прожить на эти двести долларов, неизвестно. Вряд ли ей сейчас дадут выйти на работу и взять очередной заказ.
Вряд ли она вообще когда-нибудь вернется к прошлой нормальной жизни. Возможно, этих двухсот долларов как раз и хватит до конца…
«Стоп. Прекрати, – одернула себя Алиса, – не раскисай! Никто не заинтересован, чтобы мы погибли. Мы нужны им живые и невредимые, Ну в самом деле, почему я так страшно паникую? Что, Карл схватит Максима или меня, приставит дуло к виску и использует в качестве заложников? И ради этого он заявится в Москву? Разумеется, нет. Но он может озвереть, когда поймет, что я его подставила и собираюсь сдать Харитонову. И в общем, он будет прав, потому что это такое паскудство, такое… Господи, о чем я? Он ведь бандит, террорист, хладнокровно отправлял на тот свет целые автобусы с заложниками, он спокойно отравил американца Денниса Шервуда, он держал дуло у моего лба одиннадцать лет назад. Но не выстрелил… А собственно, почему они все так уверены, что он жаждет познакомиться поближе со своим сыном? С чего они взяли?»
Она начала тупо убеждать себя, что все это бред и Карл Майнхофф здесь не появится.
На обратном пути она почти бежала. Ей вдруг стало противно оттого, что Харитонов сидит в ее квартире, и Максимка может проснуться.
Свернув за угол, не успев войти во двор, она резко остановилась. В тишине почудились мужские голоса. Она осторожно выглянула из-за угла дома и заметила два мужских силуэта под фонарем. Один стоял, другой присел на корточки у какой-то машины. На всякий случай Алиса решила подождать, пока они уйдут.
Ушли они буквально через минуту. Вернее, убежали. Она едва успела отступить в темноту между домами, они промчались мимо нее и исчезли за поворотом в конце переулка.
Подождав для верности еще несколько минут, Алиса направилась к своему подъезду и машинально бросила взгляд на ту машину, которая стояла на отшибе, под фонарем и возле которой только что возились двое мужчин.
Это был темно-лиловый «Ауди» полковника Харитонова.
Глава 34
– Не дергайся, – предупредила Инга заложника, – если что, контейнер упадет и взорвется.
Продолжая вести машину, она одной рукой извлекла из кармана своей спортивной сумки одноразовый шприц-ампулу и моментальным движением всадила иглу заложнику в плечо, сквозь тонкий свитер. Он сильно вздрогнул и через минуту потерял сознание.
Машина ехала вверх по горной дороге со скоростью сто километров в час. Снег залеплял ветровое стекло. Седан поднимался все выше в горы, дорога становилась скользкой, извилистой. Вверху стрекотало несколько полицейских вертолетов.
– Инга, не делайте глупостей, – заговорило переговорное устройство в машине, – если с контейнером что-то произойдет, вы первая пострадаете. Через тридцать минут после заражения ваша кожа и слизистая покроются язвами. Уродливыми, очень болезненными волдырями. То же самое произойдет внутри вас. Будут поражены легкие, печень, лимфатические узлы. Вы станете кашлять кровью. Температура поднимется выше сорока. Ваше тело превратится в одну сплошную гноящуюся язву. Прежде чем вы умрете, вам придется страшно мучиться не меньше сорока восьми часов. Ни один наркотик не снимет боль.
Инга узнала голос профессора Бренера и тихо рявкнула:
– Заткнись, еврейская морда!
– Инга, что с заложником? – произнес уже другой, незнакомый голос.
– Притомился и уснул.
– Что вы ему вкололи?
– Не твое собачье дело!
– Если вы его убьете, у вас останется значительно меньше шансов.
– У вас их не останется вовсе, если я вскрою контейнер.
– Послушайте меня, Инга, вам гарантируется жизнь, если вы остановитесь, спокойно закроете пломбу, завинтите крышку контейнера и выйдете из машины, – в разговор опять вступил Бренер, – вы совершенно одна сейчас, вам не от кого ждать помощи. Вы не справитесь, и сами знаете это. К тому же вы наверняка заражены, но пока в легкой форме. Контейнер уже не герметичен. Если вы не будете терять время, вас сумеют спасти. С каждой минутой шансы уменьшаются.
– Кончай свои еврейские штучки, – рявкнула она в ответ, – не надо делать из меня идиотку. Ты забыл, у меня среднее медицинское образование.
– Посмотрите на себя в зеркало. У вас покраснели глаза, у вас появились пятна на лице. Вас знобит и бросает в жар. Вы заражены, Инга, вам нужна медицинская помощь.
– Заткнись, ублюдок, – она взглянула в зеркало. По лицу скользили пестрые тени снежинок. Ее зазнобило, потом бросило в жар. Она зажала контейнер между коленями, оторвав руку от руля, осторожно завинтила крышку, а потом спокойно и громко произнесла:
– Ну хватит! Мне надоело ваше вранье. Заткнитесь все и слушайте меня. В машине мина с часовым механизмом. У вас будет ровно двадцать минут, чтобы обезвредить ее. Контейнер останется на переднем сиденье. Заложник очухается не раньше чем через тридцать минут, но и потом довольно долго не сможет координировать свои движения. Я уйду, и у меня в руках будет дистанционный пульт. Если вы попытаетесь меня убить, я успею нажать на кнопку пульта, и взрыв прозвучит раньше. Вы меня поняли?
– Мы вас поняли, Инга. Мы дадим вам уйти, – ответил незнакомый голос по-немецки, с сильным французским акцентом.
– Разумеется, дадите. Вам прежде всего придется заняться машиной. И учтите, у меня есть еще один контейнер. Я захвачу его с собой.
Она стала постепенно сбавлять скорость. Впереди был туннель. Машина нырнула в него и тут же остановилась. Заложник застонал и приоткрыл глаза. Инга достала еще одну ампулу и опять всадила ему в плечо. Потом вытащила из сумки небольшую мину, положила на пол, под переднее сиденье. Затикал часовой механизм.
Инга открыла дверцу и выскользнула из машины. Сверху из вертолетов было видно, как фигура в светлой куртке выбежала из туннеля и бросилась в рощицу, тянувшуюся вдоль пологого склона.
Снайперы держали ее на прицеле, но ни один не выстрелил.
* * *
– Ну что, Максим не просыпался? – спросила Алиса с порога.
– Нет, все нормально, – ответил Харитонов.
– Квартиру успели обыскать? – Алиса, села на скамейку в прихожей и сняла сапоги.
– Зачем? Я отдыхал, вот нашел альбом со старыми фотографиями. Вы, оказывается, храните несколько снимков Карла.
– Просто забыла порвать и выбросить, – буркнула Алиса, забирая альбом у него из рук.
– А, ну-ну. А то я думал, мало ли, может, скучаете иногда по своей первой романтической любви. Все-таки почти четыре года были вместе. Кстати, почему вы не вышли за него замуж?
– Валерий Павлович, отстаньте, пожалуйста, – произнесла Алиса с мягкой улыбкой, – вам сейчас надо думать не о моей первой романтической любви, а о своей машине.
– Что вы имеете в виду? – Харитонов напрягся.
– Вам придется спуститься и посмотреть, все ли в порядке с вашим замечательным «Ауди».
– Слушайте, вы можете по-человечески объяснить, в чем дело?
– А стоит ли? – задумчиво спросила его Алиса и прошла в кухню. – Выгодно ли мне это? Я лучше промолчу, вы еще немного посидите здесь, я угощу вас чаем, вы проинструктируете меня подробно, как мне и моему ребенку, двум жалким червячкам, которых вы насадили на крючок, вести себя, чтобы вам было удобней поймать здоровенную рыбину, то есть террориста Карла Майнхоффа. Вы меня припугнете, конечно, еще разок, для верности. А потом уйдете, спокойно сядете в свой красивый автомобиль и – бабах! От вас живого места не останется. Ну с какой стати мне предупреждать вас, товарищ полковник? Зачем мне спасать вам жизнь?
– Прекратите, я уже оценил ваше благородство. Что вы там увидели?
– Два молодых человека возились возле вашей машины, а потом убежали, Алиса разложила продукты, пересыпала сахарный песок из пакета в банку, убрала в холодильник масло, сыр и колбасу.
– Как они выглядели? – тихо спросил Харитонов.
– Молодые, крепкие. Я не приглядылась. Темновато сейчас, даже под фонарем. Вероятно, вам придется вызвать специалистов.
– Они заметили вас?
– Нет. Вряд ли они дали бы мне уйти, если бы заметили.
Валерий Павлович ничего не ответил и схватился за телефон.
Через полчаса подъехала оперативная группа. Харитонов ушел во двор наблюдать, как будут разминировать его «Ауди».
Оставшись одна, Алиса почувствовала, что у нее закрываются глаза. Она заперла дверь на все замки и на цепочку, быстро ополоснулась в душе. Перед тем как лечь спать, она зашла к Максимке.
Горел ночник. Одеяло съехало на пол, ребенок разметался по кровати. Алиса подняла одеяло, накрыла его, поцеловала. Лоб был влажный и горячий.
– Мама, бежим! Там кто-то есть… – произнес он громко, отчетливо и опять сбросил одеяло.
Алиса принесла градусник, села на кровати, придерживая его руку.
– Мамочка, холодно, – бормотал Максим, не открывая глаз, – он идет за нами. Я боюсь.
– Все хорошо, малыш, никого нет. Мы с тобой дома, – шептала Алиса, поглаживая его влажные волосы.
– Почему он сказал «Карлович»? Я ведь Юрьевич… Он так пошутил? Максимка открыл глаза и резко сел на кровати.
Алиса едва успела подхватить градусник. Тридцать восемь и пять.
– Ложись, у тебя высокая температура. Сейчас я оботру тебя уксусной водичкой, дам тебе панадол, и ты будешь спать. А завтра вызовем врача.
– Почему он сказал «Карлович»? Кто такой Карл? Почему ты не отвечаешь? Максим заплакал.
– Он так пошутил, малыш. Он вообще не знал твоего отчества. Ляг, пожалуйста. Если будешь плакать, температура еще выше подскочит. Ну что ты, маленький мой? Ну пожалуйста, не плачь…
Максимка всхлипывал, уткнувшись лицом в ее плечо.
– Мамочка, это был не милиционер… Он такой мерзкий, на серого слизняка похож. Ты больше с ним не общайся, ладно?
– Конечно, малыш. Он больше никогда не появится. Вообще, все плохое кончилось. Главное, чтобы ты поскорей поправился. Укладывайся и перестань плакать. Я сейчас приду. – Она поправила подушку, встала, закрыла форточку.
На кухне она приготовила уксусную воду для обтирания, взяла из холодильника бутылку с детским панадолом в сиропе и чуть не выронила все это из рук, когда проходила по коридору.
Английский замок входной двери щелкнул. Потом послышался скрежет ключа в нижнем, запасном замке. Дверь приоткрылась, дернулась. Звякнула цепочка. Дверь дернулась еще раз.
Стараясь не издать ни звука, Алиса поставила на тумбочку все, что держала в руках, молнией кинулась на кухню, схватила самый здоровенный нож, вернулась в прихожую, вжалась в стену у двери и перестала дышать.
И тут раздался короткий звонок. Кто-то надавил на кнопку снаружи. А потом послышался тихий голос Харитонова:
– Алиса, снимите цепочку. Я не хочу ее перекусывать. Она вам еще пригодится.
– Что вам надо? Я вызову милицию! – крикнула она в ответ.
– Ну вы впустите меня, и я вам все объясню.
– С какой стати мне вас впускать? Кто вы, собственно, такой, Валерий Павлович? Вы ведь теперь не в органах служите и официальным лицом не являетесь.
– Алиса Юрьевна, снимите цепочку, иначе мне придется ее перекусить.
– Зубами? – нервно усмехнулась Алиса.
– Кусачками.
– Ну, точно, – она сняла цепочку и открыла дверь, – я все правильно поняла. Вы теперь бандит, а не чекист.
Харитонов быстро вошел в квартиру, закрыл дверь. Лицо его было бледно-зеленым. Алиса положила нож; взяла миску с уксусной водой и бутылку с панадолом.
– У меня заболел ребенок. Сначала я займусь им, а потом вы мне объясните, зачем опять заявились сюда. Если ваши объяснения покажутся мне недостаточно убедительными, я вас выставлю за дверь.
Не дожидаясь его ответа, она направилась в детскую. Максимка уже спал. Она не стала будить его, чтобы дать ложку панадола, осторожно обтерла влажной салфеткой. Лоб был уже не таким раскаленный, во сне температура немного снизилась. Она не стала гасить ночник, дверь оставила приоткрытой и вернулась к Харитонову.
Он сидел и курил на кухне. Она с удивлением заметила, что рука с сигаретой дрожит.
– Что, Валерий Павлович, перенервничали? – спросила она сочувственно, уселась напротив и тоже закурила. – Ну, что вы хотите еще мне сказать? Я вас внимательно слушаю.
– Почему вы решили, будто я больше не работаю в органах? – Голос его был немного хриплым, покрасневшие глаза придавали его лицу нечто жалкое, кроличье.
– Как говорит мой сын, прикид у вас бандитский.
– А, это? – он мельком взглянул на свой перстень. – Это подарок от товарищей по службе, за выслугу лет.
– Понятно, – кивнула Алиса, – документы имеются у вас какие-нибудь, товарищ Харитонов?
– Что? – он удивленно заморгал.
– Удостоверение служебное можно посмотреть?
– Вы это серьезно, Алиса Юрьевна? – он прищурился и даже вроде приободрился немного.
– Вполне. Я ведь должна знать, кого пустила к себе в дом глубокой ночью.
– Пожалуйста, – он вытащил из внутреннего кармана пиджака пластиковую карточку с цветной фотографией.
«Акционерное общество „Шанс“. Начальник отдела безопасности», – прочитала Алиса и вернула карточку.
– Замечательно, Валерий Павлович. И зачем же понадобился этому самому «Шансу» террорист Карл Майнхофф?
Харитонов загасил сигарету и уставился на Алису воспаленными злыми глазами. Он молчал очень долго, она уже потеряла терпение. Ей страшно хотелось спать, был четвертый час ночи.
– Алиса, вы хотите, чтобы вас оставили в покое? – произнес он наконец медленно, почти по слогам. – Вы хотите, чтобы этот человек никогда больше не возник на вашем горизонте ни в Москве, ни в Израиле, ни в Северной Гвинее?
– Я не собираюсь в Северную Гвинею, – перебила его Алиса.
– Не надо ловить меня за язык! – он побагровел и шарахнул кулаком по столу.
– Валерий Павлович, – Алиса поднялась с табуретки, – будьте так любезны, убирайтесь вон!
– Не-ет, Алиса Юрьевна, я не буду так любезен. Я никуда не уйду. Мне необходимо остаться в вашей квартире и дождаться звонка. Майнхофф позвонит вам, и я должен присутствовать при разговоре.
Алиса, ни слова не говоря, вышла из кухни в прихожую, взяла в руки телефон, но тут же застыла, не успев набрать 02. Щелкнул предохранитель пистолета. Дуло вжалось в спину, между лопатками.
– Не надо вызывать милицию, Алиса. Это не в ваших интересах. Я успею исчезнуть, пока они доедут, и никто не поверит вам, что уважаемый человек, отставной полковник ФСБ, вломился ночью к вам в квартиру. Нет следов взлома и борьбы, из дома ничего не пропало, – голос Харитонова у Алисы за спиной звучал спокойно, но слышалась все-таки нервная хрипотца.
– Тогда почему вы так испугались? – спросила Алиса, не оборачиваясь, все еще чувствуя холодок дула между лопатками.
– Я вовсе не испугался. Просто мне постоянно приходится предупреждать всякие глупости с вашей стороны, и я, честно говоря, устал от этого.
– Главной моей глупостью было то, что сказала вам о двух незнакомцах у вашей машины. Я, идиотка такая, подумала в этот момент о вашей жене, о двух дочерях, о годовалом внуке.
– Для вас это был совершенно нормальный поступок, и нечего считать себя героиней, – процедил сквозь зубы Харитонов, – люди вашей породы не способны себя защитить и пожертвовать чужой жизнью. Это органически не свойственно вам. Вы всегда будете размышлять, рефлексировать, изводить себя всякой дрянью, которую принято называть угрызениями совести. Так что не считайте себя героиней и не ждите от меня благодарности.
– Вам не кажется, что лекцию по психологии удобней читать без пистолета в руках? – тихо спросила Алиса.
– Это не лекция. Я просто называю вещи своими именами.
– Хорошо, я поняла. Для меня нормально спасти вам жизнь, а для вас нормально после этого упереть дуло мне в спину.
– Совершенно верно. Вот мы и расставили с вами все точки над "и". Мы знаем, чего нам ждать друг от друга. Это к лучшему. Это облегчит общение.
– Никакого общения быть не может. Карл убьет вас. Или вы надеетесь перехитрить его? Не лезьте, Валерий Павлович, вы не выберетесь живым.
– Это мое дело. А вот у вас очень мало шансов, Алиса, если будете продолжать в том же духе.
– Но ведь вы не выстрелите, Валерий Павлович. Вы напрасно меня пугаете. Я вам живая нужна. Так что уберите вашу пушку от греха подальше, а то я чувствую, у вас ручки дрожат, нажмете там что-нибудь ненароком.
– Не обольщайтесь. Я могу обойтись и без вас. Одного Максима будет вполне достаточно, – медленно произнес Харитонов, но пистолет все-таки убрал.
Глава 35
Туннель был просвечен насквозь прожекторами. С миной, которую оставила в машине Инга Циммер, возились страшно долго. Удалось обезвредить за три минуты до взрыва. Бывший заложник долго не приходил в себя. Его увезла «Скорая». Никто пока не знал, что именно вколола ему сумасшедшая девка, и опасались неприятных последствий.
Злосчастный контейнер был заснят десятком фото – и телекамер. Пресс-конференция профессора Бренера началась стихийно, прямо на обочине шоссе. Репортеры набежали как из-под земли, и даже спецназ оказался бессилен.
– Сколько жизней может унести эта штука? – выкрикнул первый лихой юноша-репортер, пробившийся через оцепление.
– Счет идет на сотни тысяч, – устало произнес Бренер в микрофон, инфекция распространяется на радиус около пяти километров, учитывая взрывную волну, может распространиться дальше. Штаммы очень жизнеспособны, сохраняются в воздушной среде до десяти дней. Устойчивы к температурным колебаниям от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов по Цельсию. Передается воздушно-капельным путем. Каждый зараженный моментально становится источником инфекции, и заболеют все, кто войдет с ним в контакт.
– Существуют какие-либо методы профилактики и защиты? – выкрикнул тоненький голосок из толпы журналистов.
– Существуют, – кивнул Бренер, – к некоторым видам биологического оружия уже разработаны системы защиты. Но штаммы бластомикоза, которые находятся в этом контейнере, устойчивы к любым вакцинам и антибиотикам.
– Каким образом будет уничтожен контейнер? Похоронен, как ядерные отходы?
– Ни в коем случае. Живая культура бластомикоза, как чумы и холеры, способна сохранять болезнетворность под землей сотни лет. Единственный способ уничтожить штаммы – растворить контейнер в большом количестве азотной или серной кислоты.
На следующее утро фотографии профессора Бренера с контейнером в руках были помещены на первых полосах всех газет, не только швейцарских, но европейских и американских. Заголовки гласили:
«В результате блестящей операции бойцов швейцарского спецподразделения „Штерн“ освобожден из рук террористов гражданин Израиля профессор-биохимик Натан Бренер…»
Все события прошедшей ночи излагались с потрясающими, душераздирающими подробностями. Так, одна уважаемая французская газета уверяла своих читателей, будто все четверо террористов были заражены новейшим вирусом «никарагуанского бешенства», который они подцепили при похищении профессора из лаборатории в Беэр-Шеве. Натан Ефимович никогда в жизни не слышал о таком вирусе. Оказывается, он влияет исключительно на психику и никак не вредит физиологическим функциям организма, даже наоборот, повышает энергетику, делает зараженного силачом-суперменом. Человек становится чем-то вроде непобедимого киборга, лишенного страха и жаждущего крови.
Сам профессор якобы не заразился только потому, что был заблаговременно вакцинирован. Он вообще делал себе прививки от всех инфекционных заболеваний, над которыми работала его лаборатория, о чем сам заявил в интервью корреспонденту уважаемой газеты.
Далее говорилось, что злосчастный контейнер, наполненный вирусами этого самого «никарагуанского бешенства», на самом деле не будет уничтожен. Швейцарские спецслужбы намерены тайно использовать его в своих целях под руководством профессора Бренера.
Другая газета, немецкая, оказалась более скромной и сообщила всего лишь о том, что известная террористка Инга Циммер вскрыла контейнер с бластомикозом, заразилась и теперь бегает по Альпам, распространяя инфекцию.
Но все издания были единодушны в одном: Израиль оскандалился. Только что урегулированный усилиями ООН арабо-израильский конфликт опять обострился. Представители ООН инспектируют иракские секретные объекты, а оказывается, израильтяне производят по-тихому чуму двадцать первого века, тем самым подвергая страшной опасности весь мир. Теперь неизвестно, когда и чем разрешится международный кризис.
Следующей по важности новостью стала паника на бирже, лихорадка на рынке ценных бумаг. Запрыгали цены на нефть, стали падать и подниматься курсы разных валют.
Впрочем, экономические новости Натана Ефимовича не интересовали. Он ничего не понимал ни в акциях, ни в биржевой лихорадке, ни в ценах на нефть.
Глава 36
– Алиса, у вас есть раскладушка? – спросил Харитонов как ни в чем не бывало.
– Обойдетесь, – буркнула Алиса, – будете сидеть на кухне. Я вас не приглашала. Вас здесь нет.
Она захватила подушку и одеяло со своей тахты, ушла к Максимке в комнату и закрыла дверь. Стараясь не шуметь, разложила старое кресло-кровать, завела маленький будильник на девять, забилась под одеяло.
Только что ей казалось, стоит лишь положить голову на подушку, и она заснет как убитая. Но никак не получалось. Она кожей чувствовала присутствие Харитонова за стенкой, и в этом было что-то из фильмов ужасов, из детских необъяснимых страхов, которые окатывают среди ночи ледяной волной, медленно под-, ступают к кровати из темных углов, тянут длинные скользкие щупальца к лицу, к горлу, не дают шевельнуться, заорать на всю квартиру, и кажется, ты совершенно один в мире, и нет спасения.
От того, что в отставном полковнике товарище Харитонове не наблюдалось ничего мистического, от того, что он был вроде бы живым существом, из мяса и костей, и новые ботинки ему иногда натирали пятки, и в животе у него бурчало от молочнокислых продуктов, становилось почему-то еще страшней.
Максимка застонал, позвал ее, не открывая глаз. Она прижала ледяную ладонь к его горячему лбу. Не меньше тридцати восьми. Он всегда болел с высоченной температурой. Иногда температура подскакивает у него просто от возбуждения. Его нельзя назвать нервным ребенком, просто слишком развито воображение.
У него тоже бывают необъяснимые ночные страхи. Он, как Алиса в детстве, боится темноты. Он терпеть не может оставаться дома в одиночестве, включает свет во всех комнатах, в ванной и в туалете, врубает на полную громкость оба телевизора, радио и магнитофон. Днем под этот грохот делает уроки, вечером спокойно засыпает при ярком свете и оглушительном шуме.
Он давно не расспрашивает о своем отце, о человеке, придуманном Алисой. Он знает, нету него отца, но глубоко верит, что когда-нибудь появится, пусть не родной, это не важно. И что теперь будет, если он узнает о Карле Майнхоффе? Не удастся соврать и схитрить. Придется сказать правду.
Вот твой отец, малыш. Он неплохой человек, правда, международный террорист, профессиональный убийца, которого ловят все спецслужбы мира, а так в общем ничего. Ты только не волнуйся, его сейчас арестует этот серый дядька, которого ты назвал слизняком. Это справедливо. Он преступник, стало быть, должен сидеть в тюрьме, как сказал один из твоих любимых киногероев, Глеб Жеглов. Ты ведь согласен с этим, малыш. Вор должен сидеть в тюрьме, а убийца тем более. Я тоже согласна…
Алиса не заметила, как уснула. Разбудил ее негромкий стук в дверь. Ей показалось, она проспала всего несколько минут, однако на часах было восемь. Стук повторился, Алиса услышала, что в прихожей надрывается телефон. Максимка перевернулся на другой бок, тяжело вздохнул. Прежде чем открыть глаза, Алиса пощупала его лоб. Температура упала. Ребенок спал крепко и был мокрый, как мышонок.
Накинув халат, Алиса выскользнула за дверь.
– Возьмите трубку, – сказал Харитонов.
Он был без пиджака, без галстука, в рубашке навыпуск. Алиса поняла, что он не постеснялся улечься на ее кровать, поверх покрывала, укрылся пледом, и вполне нормально выспался. Ремни, к которым крепилась кобура, он тоже снял, но пистолет лежал у него в кармане брюк.
В трубке молчали. У Алисы пересохло во рту.
– Алло, я слушаю, – повторила она в третий раз, и откуда-то издалека, словно с другой планеты, тихий низкий голос произнес почти без акцента:
– Доброе утро. Лисенок.
* * *
Вдали, на склоне, заманчиво дрожали огоньки отелей. Больше всего на свете Инге хотелось сейчас принять горячий душ, съесть большой прожаренный бифштекс с французским картофелем, выпить водки, а потом, забившись под пуховую перину в уютном номере маленького горного отеля, проспать часов десять, не меньше.
Но она знала, что служащие всех окрестных отелей и лыжных баз уже получили по факсу ее фотографии и подробное описание. Везде ее ждут переодетые агенты и арестуют через несколько минут после того, как она переступит порог. И еще она знала, что прежде всего ей нужны лыжи, не горные, а обычные, пластиковые, самые легкие, крупномасштабная карта, рюкзак вместо сумки, запас продовольствия и толстый теплый свитер.
У Инги кружилась голова, подташнивало от голода, перед глазами расплывались ослепительные разноцветные круги. От тяжелой сумки, наполненной железом, ныло плечо.
Внизу показалась ровная редкая цепочка огней. Через полчаса Инга спустилась к узкому шоссе. Мимо проехало несколько грузовиков, но она не решилась голосовать. Сейчас главное не привлекать к себе внимания. Чем меньше народу ее увидит, тем лучше.
Наконец за склоном появились первые дома. Инга с облегчением отметила, что вышла к небольшой деревне как и рассчитывала. Ей нужен только магазин. Вряд ли владельцы деревенских лавок успели получить факсы с ее портретами.
Между тем стало светать. Над горами поднималось холодное солнце. Снег сверкал на вершинах. Деревня просыпалась, и хозяин универсального магазина ничуть не удивился, когда женщина в светлой куртке постучала в стеклянную дверь.
– Сейчас, мадам, мы уже открываемся. Инга шагнула внутрь, быстро огляделась и, не обнаружив ничего подозрительного, направилась в угол, в котором стояли горные лыжи. Взглянув на себя в огромное зеркало, она слегка отшатнулась. На бледном, почти синем лице были красные пятна, глаза слезились, слипшиеся, заиндевелые пряди падали на лоб. Она знала, что пятна эти всего лишь результат нервного напряжения и смертельной усталости. Обыкновенная крапивница, не более. Однако слова профессора Бренера об ужасных язвах и волдырях все еще стояли в ушах.
Отвернувшись от зеркала, она занялась лыжами и ботинками.
– Мадам, вам нужна моя помощь? – спросил добродушный толстяк-хозяин. Посмотрите, это новейшая модель…
– Нет, – буркнула Инга, – я сама, спасибо. Она очень торопилась, примеряя ботинки. Подобрав нужный размер, не стала снимать, в коробку запихнула свои промокшие насквозь кроссовки. Свитер и рюкзак схватила первые попавшиеся. Затем побросала в корзину большую банку говяжьей тушенки, несколько пачек сухого печенья, двухлитровую бутылку минеральной воды, упаковку нарезанной твердой колбасы, пакетики с орехами и сушеными фруктами, блок сигарет, путеводитель с крупномасштабными картами и еще кое-какие мелочи.
– Вам помочь отнести лыжи к автомобилю? – спросил хозяин, когда она подошла к кассе.
– Нет, – она еле сдерживалась, чтобы не наорать на этого румяного сонного швейцарца, и даже заставила себя улыбнуться, но вместо улыбки получилась болезненная гримаса.
– Мадам, вам плохо? – заволновался хозяин.
– Спасибо, все в порядке, – она вытащила бумажник убитого Али-хана и положила на никелевую тарелку у кассы пачку франков.
Хозяин удивился, что такая большая сумма платится наличными, но вида не подал. Инга упаковала в объемный рюкзак свою спортивную сумку, сверху уложила свитер и пакет с продуктами.
– Если вы без машины, мадам, мой сын мог бы вас подвести, здесь совсем недалеко прокат автомобилей.
– Спасибо. Я доберусь на лыжах.
– А в каком вы остановились отеле? – не унимался хозяин. ,
– Благодарю вас, всего доброго. У вас здесь очень красиво. Сегодня отличная погода. До свидания, – отчеканила Инга, как автомат, и быстро вышла.
Утреннее горное солнце брызнуло в глаза. Инга надела темные очки, отошла подальше от магазина, бросила рюкзак прямо на снег у обочины шоссе и встала на лыжи. Она чувствовала, что много пройти не сумеет. Надо сделать привал, поесть, разобраться с картой и подремать хотя бы час.
Она не знала, удастся ли найти подходящее место. Вокруг был снег, ухоженные деревни, лыжные базы и отели. Ни заброшенных сараев, ни развалившихся пустых домов. Ей предстояло проделать огромный путь, и не раз придется где-то останавливаться на ночлег. Инга шла к итальянской границе, к перевалу Сим-плон.
Спустившись по крутому склону, она не спеша поехала по заснеженному лугу. На краю что-то темнело. Скоро стало видно, что это каменный остов дома, остатки какого-то хозяйственного строения. Инга удивилась такому везению.
Крыши не было, но поперек обломанных стен лежало несколько неструганых досок. Доски были и внутри, на полу. Она стряхнула снег, отстегнула лыжные крепления, поставила лыжи в угол, вытянула из рюкзака новый свитер, положила его под голову, попробовала улечься на доски, примериться, сумеет ли вот так, прямо здесь, поспать хоть немного. Но, как только легла, почувствовала, что встать уже не может. Не было сил. Ничего больше не хотелось – ни есть, ни сверяться с картой. Она закрыла глаза и провалилась в обморочный сон.
* * *
– Здравствуй, Валера, – очень медленно проговорила Алиса в трубку.
Там, на другом конце, замерли, молчали несколько секунд, а потом голос почти без акцента так же медленно произнес:
– Значит, я не буду богатым, раз ты сразу меня узнала.
– Нет, Валера, не будешь. Ты собирался морить у нас тараканов, но все отменяется. У меня заболел ребенок.
– Максим болен? Что с ним? – тревожно спросил Карл Майнхофф.
– Кажется, простудился. Вот сейчас собираюсь вызвать врача из районной поликлиники. Температура высокая. Так что тараканы пока пускай поживут. Счастливо, Валера. Спасибо за заботу.
– Подожди, вы ведь совсем одни, некому сходить в аптеку и за продуктами. Давай я подъеду к вам, привезу еду, лекарства какие-нибудь. Скажи, какие ему нужны лекарства?
– Нет, Валера, ни в коем случае. У Максима может быть опасный грипп, ты заразишься. Потом, когда он поправится, мы обязательно встретимся. Потом, ладно?
Не дождавшись ответа, Алиса нажала кнопку отбоя. У нее было такое чувство, словно она только что в одиночку за несколько минут разгрузила вагон кирпичей. Она еще не успела ничего решить, а уже разыгрывала импровизированный спектакль перед Харитоновым и предупреждала Карла. Она была бы рада объяснить самой себе, почему так поступает, но не могла, не было времени сориентироваться. Инстинкт сработал прежде разума и логики. Был ли это инстинкт самосохранения или какой-то противоположный, самоубийственный, Алиса пока не знала.
Карл понял ее с первого слова. И тут же подыграл. Практически она ему все сказала, предупредила. Дальше – будь что будет.
Она старалась не встречаться взглядом с Харитоновым. Он стоял совсем близко и дышал ей в лицо. От него веяло кислым нездоровым запашком пожилого мужчины, который с утра не почистил зубы. Не сказав ему ни слова, Алиса тут же набрала номер детской поликлиники. Она не успела удивиться, что вместо гудка в трубке послышался щелчок и ей сразу ответили. Обычно в районную поликлинику, в «вызов на дом», приходится дозваниваться не меньше получаса. Там всегда занято.
– Будет доктор, в первой половине дня, – заверил ее вежливый мужской голос вместо обычного ворчливого, старушечьего.
Но этому Алиса не придала значения. Она знала, что иногда в регистратуру детской поликлиники сажают студентов-практикантов. На Харитонова она не взглянула, молча отстранила его рукой, ушла в Максимкину комнату и закрыла за собой дверь.
Он тут же ворвался вслед за ней.
– Кто вам звонил?
– Не надо орать, – поморщилась Алиса, – ребенка разбудите.
Но Максимка уже проснулся. Он открыл глаза, резко сел на кровати, растерянно, испуганно уставился на Харитонова.
– Мамочка, я заболел. Горло болит. А который час?
– Доброе утро, малыш, – Алиса поцеловала его, поставила градусник, – ты лежи, не вскакивай. Сейчас померим температуру, потом я тебе чайку принесу.
– Мам, почему он еще здесь? – шепотом спросил ребенок. – Он что, ночевал у нас?
– Да. Ты не обращай на него внимания, – прошептала в ответ Алиса.
– Вы можете мне ответить, кто звонил? – Харитонов повысил голос, он явно нервничал.
– Вы же все слышали, – повернулась к нему Алиса, – звонили по поводу тараканов. Я договаривалась еще до отъезда.
– С кем конкретно вы договаривались? Как называется фирма?
– Это не фирма, это мой знакомый, который подрабатывает таким образом.
– У вас нет никаких тараканов, – Харитонов сунул руки в карманы брюк, и у Алисы больно стукнуло сердце. Сейчас он вытащит пистолет, при Максимке…
– Да что вы, у нас полно тараканов. Просто они вылезают в темноте. Как только зажигается свет, они прячутся. – Алиса посмотрела на градусник. У Максимки было тридцать семь и пять. Он обнял Алису за шею, притянул к себе и прошептал на ухо:
– Мам, пусть он уйдет, я его боюсь. Харитонов услышал и, растянув губы в улыбке, произнес противным приторным голосом:
– Максим, неужели я такой страшный? Ты уж прости, приятель, мне придется еще немного побыть у вас в гостях.
– Зачем? – хмуро уставился на него Максим. – Разве мы вас приглашали?
– Нет. Не приглашали. Работа у меня такая, – Валерий Павлович вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.
* * *
– Почему вы считаете, профессор, что у террористки нет второго контейнера? – Вопрос этот задавался уже в десятый раз, но Бренер отвечал спокойно и терпеливо.
– Образец, который она держала в руках, представлял собой опытный экземпляр. В момент моего похищения он находился в лаборатории, а не в спецпомещении, где хранятся готовые образцы. Она прихватила этот контейнер потому, что он случайно попался ей под руку. Однако я не могу дать точную гарантию. Я просто предполагаю, рассуждаю логически.
Прямой эфир на Бернском телевидении длился уже второй час. В студии разрывались телефоны, без конца поступали вопросы по Интернету. Бренер никогда не думал, что прямой эфир – это так тяжело. Значительно тяжелей, чем многочасовые пресс-конференции при полных залах журналистов. Там все-таки живые лица, а здесь стеклянные глаза телекамер.
Он отвечал на десятки вопросов, дурацких и разумных, злобных и доброжелательных, хитрых и наивных. Корреспонденты из разных стран возмущались беспределом, который творился в Израиле с бактериологическим оружием.
– Мы верили этой стране! – с пафосом заявила бойкая молодая журналистка из «Америкэн экспресс», – Израиль предал весь наш цивилизованный мир.
– Над бактериологическим оружием работают и в Пентагоне, – устало говорил Бренер, – во всем цивилизованном мире, в нашем с вами мире накопилось столько смерти, что сейчас достаточно искры. Уверяю вас, научно-исследовательский центр в Беэр-Шеве охранялся ничуть не хуже, чем подобные учреждения в Америке, в Германии, в России, в Японии. То, что случилось со мной, – это не обвинение лично Израилю. Это предупреждение всем нам, без исключения.
– Вы не боитесь преследований со стороны израильских спецслужб? Вы не боитесь мести? – выкрикнул толстый пожилой обозреватель «Пари-матч».
– А вы бы на моем месте боялись? Толстяк не успел ответить, его перебил другой корреспондент:
– Вы имеете какие-либо сведения о семье вашего сына? Вы не опасаетесь за судьбу родственников? Ведь они остались в Израиле!
– Я полагаюсь на здравый смысл. Сын за отца не отвечает, это признавал даже такой беспощадный человек, как Иосиф Сталин. Я говорил по телефону со своим сыном. У них все нормально.
– Ваше решение выступить перед международной общественностью является абсолютно добровольным или есть элемент принуждения с чьей-либо стороны?
– Мое решение абсолютно добровольно. Я наблюдал много раз, в каких мучениях погибают подопытные животные в моей лаборатории. Когда меня похитили террористы, я понял, насколько зыбкая граница отделяет людей от такой же мучительной смерти.
– А раньше вы разве не понимали этого?
– Я ученый, меня увлекал процесс исследования, познания. Впрочем, я не хочу оправдываться. Моя вина останется со мной до конца жизни.
– Вы, конечно, не вернетесь в Израиль. В пользу какой страны вы намерены продолжить свои исследования?
– Я не собираюсь продолжать свои исследования. Возраст позволяет мне стать просто пенсионером. Но уверяю вас, во многих странах есть молодые ученые, талантливей и упорней меня, которые работают и будут работать в этой области. Я хочу еще раз предупредить не только Израиль, но и другие страны, что биологическое оружие было первым оружием массового уничтожения в истории человечества. Оно может оказаться последним. После его применения просто не будет человечества. Древние греки и римляне перебрасывали трупы зараженных людей и животных через стены вражеских крепостей, заражали реки, озера и колодцы, кидали в воду тела умерших от чумы и проказы. Это было первое биологическое оружие, которое уносило тысячи жизней. В своем сегодняшнем варианте оно справится с миллионами.
Лица сливались в одну безликую массу, голоса звучали в ушах, как гул взлетающего реактивного самолета. Вопросы сыпались горохом. Иногда он почти отключался, отвечал автоматически. Ему вдруг вспомнилось судилище на грязной овощной базе в Москве в семидесятом году.
Сотрудников НИИ гоняли на базу с сентября по декабрь не реже двух раз в месяц. Кандидаты и доктора наук копались в гнилой капусте, обстругивали черные склизкие кочаны до кочерыжек. Девочка-лаборантка попыталась вынести через проходную гроздь страшно дефицитных бананов, и был устроен товарищеский суд совместно с сотрудниками базы.
Воровали все – и грузчики, и экспедиторы, и закинутые им в помощь доктора-кандидаты. Считалось верхом глупости выходить за ворота с пустыми руками. Но девочку поймали за руку при показательном рейде и судили с таким удовольствием, с таким самозабвенным кайфом, что довели до истерики.
Странная ассоциация, однако что делать, если все так похоже! Только вместо грязного красного уголка овощебазы роскошные конференц-залы, вместо под-датых экспедиторов в синих халатах элегантные, трезвые, промытые до блеска журналисты и политики. А психология все та же. Никому не стыдно.
Америка и Западная Европа клеймят Израиль, перепуганные любители горнолыжного спорта собирают манатки, требуют от туристических фирм возмещения убытков. Владельцы отелей в панике. Богатые родители срочно забирают из знаменитых швейцарских школ своих детей, владельцы школ тоже в панике. По тихим прекрасным Альпам бегает сумасшедшая Инга Циммер, и никто точно не знает, есть у нее контейнер со смертоносными штаммами или нет. И никто ее не может поймать.
Каждая крупная держава нечиста на руку в смысле производства запрещенного оружия, но сейчас вот благодаря показательному рейду террористов попалось государство Израиль. И все с удовольствием осуждают, клеймят, швыряют камни, словно сами без греха. А выводов для себя никто не делает.
После третьей пресс-конференции Бренер понял, что во всем происшедшем есть только один положительный момент: его личный выбор, его твердое решение не участвовать больше в этой грязной самоубийственной гонке. Он бы не решился остановиться, если бы не произошло с ним то, что произошло. Исследовательский азарт – страшная вещь. Это как наркотик. Ты не осознаешь, что производишь смерть, ты думаешь совсем о другом, о сегодняшнем неожиданном результате, о разгадке увлекательных головоломок, которые сочиняет гениальная бесстрастная природа.
Натан Ефимович опомнился и встряхнулся, когда понял, что ведущий телепрограммы уже второй раз повторяет свой вопрос:
– Вы несколько дней находились бок о бок с бандитами. Как вам кажется, способна Инга Циммер вскрыть второй контейнер, если он все-таки находится у нее?
– Инга Циммер способна на все. И если контейнер у нее в руках, то это более чем опасно. В таком случае остается надеяться на ее собственный инстинкт самосохранения, потому что она должна пострадать в первую очередь. И ей это отлично известно.
– Но вы говорили, что Циммер крайне неуравновешенный человек.
– Любой человек хочет жить, даже неуравновешенный. Она террористка, но не самоубийца.
– Но среди террористов есть немало фанатиков, которые легко жертвуют собственной жизнью, – возразил ведущий, – получается, что мы все должны полагаться на здравый смысл сумасшедшей бандитки, которая хладнокровно прикончила своего товарища.
– Полагаться надо прежде всего на оперативность спецподразделений и полиции.
Вечером в дверь его номера постучали. Он уже собирался ложиться спать. При нем было два вооруженных охранника, которые вели круглосуточное дежурство.
Вместе с охранником вошел высокий худощавый человек в дорогом костюме, с дипломатической улыбкой на устах. Он представился сотрудником российского консульства и после нескольких вежливых дежурных фраз протянул Натану Ефимовичу темно-синюю книжицу с золотым двуглавым орлом. Бренер открыл и не поверил своим глазам. Он держал в руках российский загранпаспорт с собственной фотографией.
– Почему синий? – спросил он, ошалело глядя на своего гостя.
– Дипломатический, – ответил тот с теплой улыбкой.
– А он не фальшивый?
– Настоящий, – сделав комически-серьезное лицо, заверил дипломат.
– А анкеты? ОВИР? Ну я не знаю, это как-то слишком просто… – бормотал Бренер. – Я что же, теперь гражданин России?
– Конечно. Внутренний паспорт вам будет выдан в Москве.
Глава 37
Звякнул домофон, и пожилой женский голос сообщил, что это доктор из детской поликлиники. Харитонов скрылся в Алисиной комнате и плотно прикрыл дверь.
Доктор, полная флегматичная женщина, осмотрев и послушав Максимку, сказала, что у него всего лишь ОРЗ.
– Горлышко красное, в бронхах и в легких все чисто. Антибиотики пока давать не надо. Обильное питье, витамины. Есть у вас клюква, мед, шалфей?
– Нет. Но я выйду, куплю. Скажите, а что, наш участковый Нелли Григорьевна болеет?
– Да, у нас сейчас половина поликлиники болеет. Новая волна очень неприятного гриппа, с тяжелыми осложнениями. Вам повезло, что у вас всего лишь ОРЗ. Когда ребенок поправится, не спешите отправлять его в шкоду.
– Да, спасибо, я поняла.
– Мамочка, а вы сами-то не больны? – Доктор внимательно взглянула Алисе в лицо. – Вы как себя чувствуете?
– Я? Нет, со мной все в порядке…
– В порядке? Ну и хорошо. А то некоторые мамочки так нервничают, когда дети болеют, что сами могут захворать. Все болезни от нервов, так что вы берегите себя. Значит, температуру сбивать, только если выше тридцати восьми. Горлышко полощите каждые два часа, если нос забит, можно капельки закапать, но не злоупотребляйте, чтобы слизистую не пересушить. Ингаляцию сделайте, лучше всего с чесноком. Он нормально переносит чеснок?
– Да, вполне, – кивнула Алиса, – подождите, я запишу.
Она взяла тетрадный листок из Максимкиного ящика и стала очень быстро писать.
– Посмотрите, пожалуйста, я все правильно записала? – она протянула доктору листок.
«У нас в квартире вооруженный преступник. Он в соседней комнате, за стенкой. Пожалуйста, вызовите милицию. Не задавайте вопросов вслух, здесь все слышно».
На лице полной пожилой докторши не отразилось никаких эмоций, даже удивления.
– Да, вы все правильно записали, – спокойно произнесла она и, взяв ручку у Алисы, быстро чиркнула на том же листочке: «Вы знаете, кто он и что ему нужно?»
«Харитонов Валерий Павлович, начальник охраны акц, общ. „Шанс“. Связан с крупными бандитами. Он меня шантажирует. Его люди наверняка наблюдают за домом».
– Не волнуйтесь, мамочка, все будет хорошо, – громко произнесла доктор и написала на листочке:
«Какое у него оружие?»
«Я видела только пистолет», – чиркнула Алиса.
– Пожалуй, я пришлю к вам сестру, пусть поколет мальчика витаминами, чтобы поднять иммунитет. – Доктор быстрым движением убрала исписанный листок в карман халата. – Прямо сегодня, часика через два.
– Как поколет? – вскочил Максим. – Вы же сказали, ничего серьезного. Я не хочу, я не люблю уколы!
– Такой большой мальчик, и боится уколов, – доктор взъерошила Максимке волосы, – не стыдно тебе? Лежи, не вскакивай. У нас очень опытная сестра, она умеет делать совсем не больно, ты ничего не почувствуешь.
В прихожей Алиса помогла пожилой женщине надеть пальто.
– Оставьте дверь незапертой, – быстро шепнула ей докторша, – поставьте замок на предохранитель.
– Вы думаете, они так скоро приедут? –Опросила Алиса одними губами, испуганно глядя в маленькие зеленоватые глаза.
– Скоро, не переживайте.
– А если он заметит, что дверь не заперта?
– Скажите, что забыли, а потом опять потихоньку откройте. Вообще, ведите себя как можно спокойней. Он ничего не должен заподозрить, – она ласково притронулась к Алисиной ледяной руке теплыми мягкими пальцами. – Все будет хорошо.
У подъезда доктора ждал скромный белый «жигуленок» с красным крестом. Тяжело опустившись на переднее сиденье рядом с молодым молчаливым шофером, доктор вытащила из объемной сумки радиотелефон, набрала номер и произнесла в трубку:
– Это, конечно, полное безобразие, Азамат Мирзоевич, ну какой из меня педиатр? Хорошо, что у ребенка нет ничего серьезного.
– Елена Петровна, голубушка, не ворчите, – улыбнулся в трубку Азамат, что там происходит?
– Там много чего происходит, – вздохнула Терехова и стала не спеша докладывать о результатах своего визита.
* * *
Харитонов в который раз пытался связаться со своими «наружниками», но их сотовый не отвечал. Механический голос талдычил, что абонент временно недоступен. Машины не было видно из окон. Ей следовало стоять на углу, у торца дома, чтобы не привлекать внимания. Еще несколько наблюдателей должны были распределиться по двору. Радиосвязь с ними пропала. Он позвонил в офис.
– Юра, пришли еще людей, мне не нравится это, – сказал он своему заместителю, – срочно выясни, в чем там дело, куда все исчезли.
– Там все нормально, Валерий Павлович. Они пообедать отошли, а телефон в машине оставили.
– Что, сразу все ушли обедать?
– Я сейчас же проверю, вы не волнуйтесь.
– Придурки! – рявкнул Харитонов. – Уволю всех, к едрене фене!
– Валерий Павлович, люди устали, на улице мороз. Ничего экстремального пока не произошло, – успокаивал заместитель.
– Запись телефонного разговора включи мне.
– Какого именно?
– Обоих!
– Минуточку, – в трубке щелкнуло, и Харитонов услышал:
– «Алло, это поликлиника? – Да. – Можно вызвать врача на дом? – На что жалуетесь? Температура вечером тридцать восемь и пять, утром тридцать семь и пять, горло болит. – Пожалуйста, фамилия ребенка, год рождения, адрес…»
– Почему там мужской голос? – спросил Харитонов, когда его заместитель опять взял трубку. – Там в регистратуре бабки сидят. Почему молодой мужской голос?
– Ну, мало ли, в нашей поликлинике иногда тоже мужчины берут трубку.
– Ладно, а другой разговор?
– К сожалению, не успели записать. Да вы не нервничайте, там все нормально.
– Что значит нормально?! Какой был голос?
– Ребята сказали, обыкновенный. Без акцента.
– Без акцента, – грубо передразнил Харитонов, – записать надо было! Что вы мне здесь бардак развели? Я тебя уволю, идиот, ты понял меня? Срочно присылай людей…
– Слушаюсь, Валерий Павлович. Положив трубку, заместитель усмехнулся и пробормотал себе под нос:
– Неизвестно, кто из нас идиот.
Сегодня ранним утром, в половине восьмого, когда Юрий Сергеевич Глушко вышел из дома и стряхивал снег со своей машины, собираясь ехать на службу, к нему подошли трое. Они говорили вежливо и спокойно. И выглядели вполне прилично. Ничего в них не было от стандартных отморозков, одеты дорого и скромно, лица интеллигентные.
– Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, – сказали они, – вы человек семейный, у вас двое детей, жена-красавица, родители пожилые. Сколько вы получаете на своей службе? Три тысячи долларов в месяц? Ну разве это деньги для такой большой семы Мы предлагаем вам один только аванс тридцать тысяч, а потом еще столько же. Но дело даже не в деньгах. Вот сейчас вы уедете на службу и не сможете нормально работать, все время будете дергаться. Ребят из вашего штата вам никто не даст, чтобы охранять семью. Нанять толковых людей на вашу зарплату невозможно, да и времени на это у вас уже нет.
– Короче, чего надо? – мрачно спросил Юрий.
– Да, в общем, ничего особенного. Ваш шеф сейчас проводит одну операцию, и от вас требуется, чтобы вы выполняли не его указания, а наши.
– Так он же меня потом по стенке размажет.
– Не успеет.
– Ну конечно, вы его остановите! – саркастически усмехнулся Глушко.
– Не мы. Президент вашего концерна. Милиция, в конце концов.
– А вы сами-то откуда?
– Узнаете, но чуть позже.
Он понял: эти трое представляли весьма серьезную структуру. Не потому, что они солидно выглядели. Дело было в другом. Они разговаривали спокойно и мирно, они не просто грозили, размахивая пушкой перед носом, как это стали бы делать мелкие отморозки. Они пытались объяснить, убедить. То есть чувствовали свою силу и предпочитали работать серьезно, основательно, без грубого шального наскока.
– Очень интересно… – пробормотал он с нервозной усмешкой.
– Да, это действительно интересно. Харитонов решает свои личные проблемы за счет службы безопасности «Шанса». Знаете, ради чего задействовано столько людей? Ради того, чтобы шантажировать беззащитную женщину, мать-одиночку, у которой на руках больной десятилетний ребенок. Неужели вам не противно в этом участвовать? Вы, отец двоих детей…
– А вы, значит, хотите благородно защитить женщину с ребенком?
– Мы много чего хотим. В том числе и защитить. Послушайте, Юрий Сергеевич, пока не поздно, не ввязывайтесь вы в интриги вашего шефа. Вы же знаете, он человек крайне жестокий, неуравновешенный.
– Мой шеф действует в интересах фирмы.
– Нет, он действует в своих личных интересах. Эта женщина знает слишком много о его прошлой работе в КГБ, достаточно много, чтобы посадить его на скамью подсудимых.
– Нет, ребята, вы что? Так дела не делаются, – попытался возразить Глушко, – вы мне сейчас что угодно можете рассказать. Харитонов – человек аккуратный, вряд ли он мог серьезно засветиться перед кем-то… – он запнулся.
По двору бежала его четырнадцатилетняя дочь Настя.
– Папочка, хорошо, что ты еще не уехал. В школу подбросишь меня?
Школа находилась в двух шагах, в соседнем переулке. Но Насте нравилось, когда отец подвозил ее на машине.
– Нет, Настюша, я спешу.
Не обращая внимания на трех незнакомых людей, девочка подбежала к нему, притянула к себе, быстро чмокнула в щеку.
– Пап, а ты чего бледный такой? Ну ладно, я побежала.
– Настенька, ты не беги, дорогу переходи осторожней, – напутствовал ее один из троих незнакомцев, – там опасный перекресток перед школой.
– Ладно, – весело крикнула девочка в ответ и исчезла за поворотом.
– Ну как, Юрий Сергеевич, мы договорились? – спросили его. – Там ведь действительно опасный перекресток, и ждет наша машина.
В руках одного из своих собеседников Глушко заметил переговорное устройство.
– Да, мы договорились, – Юрий Сергеевич взял у них из рук увесистую пачку долларов.
Сейчас, сидя в своем офисе, он думал о том, что действительно лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
* * *
Натан Ефимович не спешил уезжать из Швейцарии. Ему хотелось дождаться каких-нибудь конкретных новостей об Инге Циммер. Было не по себе оттого, что сумасшедшая безжалостная немка скрывается где-то в Альпах и в руках у нее может оказаться второй контейнер.
Когда он говорил в интервью, что она не могла прихватить второй контейнер при похищении, он вовсе не кривил душой. Он был уверен на девяносто девять процентов: Инга наврала, чтобы ее боялись ловить. Но все-таки один процент вероятности оставался и не давал покоя.
В каждом выпуске новостей швейцарское телевидение сообщало: продолжаются поиски… владелец магазина деревни Сант-Мориц заявил, что к нему заходила женщина, похожая на Ингу Циммер. К сожалению, это произошло до того, как ее фотографии были показаны по телевидению. Она купила лыжи, спортивный рюкзак, продукты, расплатилась наличными и с … самого начала показалась лавочнику несколько странной.
Шофер рефрижератора уверял, будто подвез некую лыжницу к небольшому городку в окрестностях Бри, неподалеку от итальянской границы, у перевала Сим-плон. Он заподозрил, что имеет дело с разыскиваемой преступницей, однако она выглядела значительно старше, чем на снимках, поэтому он не был уверен, к тому же опасался агрессии с ее стороны.
Глубокой ночью, в последний раз включив телевизор, чтобы посмотреть новости перед сном, Натан Ефимович вздрогнул.
– В горах, на перевале Симплон, обнаружен металлический предмет цилиндрической формы. Район оцеплен в радиусе трех километров спецподразделениями. Начаты мероприятия по антибактериологической защите населения.
– Какие, к черту, мероприятия? – взвился Бренер. – Если он вскрыт, то уже ничего нельзя сделать.
– Министры Швейцарии и Италии по чрезвычайным происшествиям расходятся во мнениях о целесообразности эвакуации местного населения. Из-за начавшегося снегопада видимость затруднена, пока невозможно точно определить, что представляет собой обнаруженный предмет, снабжен ли он взрывным устройством.
Не успел комментатор закончить репортаж, в номере взвизгнул телефон.
– Господин Бренер, нам необходима ваша консультация.
– Разумеется, я готов вылететь к Симплону прямо сейчас.
– Как вылететь? – опешили на другом конце провода. – Мы вовсе не собирались подвергать вас такому риску, вы пожилой человек, еще не пришли в себя после похищения, нам просто нужно…
– Присылайте машину. И не забудьте приготовить емкость с соляной кислотой, не меньше десяти литров.
– Профессор, мы вас правильно поняли? Вы что, собираетесь лететь прямо на перевал?
– Ну надо ведь разобраться с этим контейнером. Кто же, если не я? Давайте, я жду, не будем терять время.
В вертолете Бренера всегда тошнило. Он прикрыл глаза, попытался расслабиться. Прежде всего надо понять, зачем она оставила контейнер. Ее никто не пытался задержать на перевале. Граница между Швейцарией и Италией открыта. После шофера рефрижератора ее вообще никто не видел, во всяком случае, сообщений не поступало.
– Какого объема контейнер? – спросил он сидевшего рядом офицера спецназа, не открывая глаз.
– Такой же. Полтора килограмма.
– Вы сумели разглядеть маркировку?
– Мы смотрели в оптический бинокль. Там есть знак, череп с костями, и крупная надпись по-английски: «Осторожно, опасно для жизни».
– Что еще? Какие-нибудь надписи на иврите?
– Слишком мелкие буквы. Мы не поняли, какой это язык. К тому же контейнер сверху был припорошен снегом. Сейчас он занесен полностью.
– Это скверно, – задумчиво произнес Бренер, – хуже быть не может. Как вам кажется, зачем ей это понадобилось? У нее ведь не было никаких препятствий на пути. А что, если она просто решила его выбросить?
– Выбросить? – удивился офицер.
– Ну да, – кивнул Бренер, – вот вы бы стали таскать с собой по Альпам такую дрянь? Представьте, вы на лыжах, у вас тяжелый рюкзак, там автомат, пара-тройка ручных гранат, коробки с патронами и еще продукты. Полтора килограмма – не такой уж большой вес, однако, учитывая, что она все-таки женщина, к тому же страшно устала… И еще, я ведь припугнул ее тогда, в машине. У нее остался подсознательный страх, и она решила избавиться от контейнера. А что из этого следует?
– Вы хотите сказать, что там нет взрывного устройства? – спросил офицер с усмешкой. – Однако вы оптимист, профессор. Вы еще вчера уверяли нас, будто второго контейнера у нее вообще нет.
– Ошибся, – вздохнул профессор, – хотя, чтобы окончательно признать свою ошибку, я должен разглядеть, что там валяется в горах. И все-таки зачем она это сделала?
– А зачем совершают террористические акты? – прищурился офицер. – Может, она решила так отомстить швейцарским властям.
– Да, возможно, – пробормотал профессор.
Вертолет приземлился на специально оборудованной площадке в нескольких километрах от пограничного города Бри. Метель утихла, небо расчистилось. Как только стало светать, Натан Ефимович в сопровождении двух добровольцев, специалистов по взрывным устройствам, отправился на лыжах к перевалу. На всех троих были специальные защитные костюмы.
Натан Ефимович отставал. В последний раз он катался на лыжах лет двадцать пять назад. Но постепенно руки привыкли к палкам, к тому же лыжи были не горные, простые, из очень легкого пластика. Скользя по сверкающему снежному насту, вдыхая чистейший, как родниковая вода, альпийский воздух, он подумал, что, если все кончится хорошо, он обязательно будет раз в неделю кататься на лыжах где-нибудь в Серебряном Бору.
Оцепление давно осталось позади. Сопровождающий вертолет летел совсем низко, оттуда по рации сообщили, что объект обнаружен. Контейнер находился на возвышении, порывистый ветер сметал снег. С вертолета при помощи прибора дальнего видения разглядели на белоснежном насте крошечную серую точку.
Спецназовцы включили свои портативные миноискатели.
– Осторожней с палками, профессор, – предупредил один из них, – старайтесь отталкиваться как можно реже и легче.
– Это полнейшее безумие, – тихо сказал его напарник, – сейчас, если шарахнет…
– Перестань, – оборвал второй, – все равно нет другого выхода. Эта дрянь не может валяться здесь вечно.
Бренер поднес к глазам бинокль, пытаясь разглядеть серый металлический кругляшок, торчащий из снежного холма. До контейнера оставалось около пятидесяти метров. У Бренера стукнуло сердце. Вслед за спецназовцами он скользнул на лыжах вниз, потом стал медленно подниматься на холм, ставя лыжи поперек, «елочкой».
Остановившись на секунду, еще раз взглянул в бинокль, но ничего не мог рассмотреть, глаза слезились от ветра и яркого солнца. До контейнера осталось несколько шагов.
– Отойдите. Я сам, – крикнул Бренер спецназовцам. – Лягте на снег. Чтобы ни одной открытой части кожи. Наденьте маски. Вы слышите меня?
Вертолет стрекотал совсем низко, ветер завывал, и офицеры с трудом могли его расслышать.
– Подождите, мы должны проверить, – крикнул в ответ один из них, – стойте, не двигайтесь!
– Если что, я просто упаду на него, – прокричал Бренер, – и потом сверху, с вертолета, как было запланировано, моментально давайте кислоту. Моментально. Вы поняли?
Они поняли. Они отступили назад, в низину, отцепили лыжи, надели защитные маски, упали на снег лицами вниз.
Бренер совершенно неожиданно для себя быстрым шепотом прочитал «Отче наш» и успел удивиться, откуда взялась в голове эта христианская молитва. Он не был иудеем, но и христианином тоже себя не считал.
В трех метрах от контейнера он перекрестился щепотью из трех пальцев, как православный. Потом, закрыв нос и рот защитной маской, которая висела у него на шее и в общем не особенно защищала, он стал осторожно разгребать снег вокруг контейнера.
Вертолет стрекотал у него над головой. Сверху было видно, как профессор медленно, осторожно выкапывает контейнер. Через минуту он сорвал защитную маску, неуклюже, как-то боком, плюхнулся на снег, держа в руках предмет цилиндрической формы. С вертолета взглянули в бинокль, увидели его лицо, и в первый момент не могли понять, что происходит.
Бренер смеялся. Он хохотал, слезы текли ручьями из его покрасневших глаз. Смеха не было слышно, и с вертолета казалось, что профессор плачет навзрыд.
По приказу с вертолета спецназовцы вскочили, нацепили лыжи, поднялись на холм к Бренеру.
– Ну, мать твою, ой, не могу, – повторял он по-русски, задыхаясь от смеха.
В руках у него была пустая консервная банка. Бумажная этикетка ободрана. На гладкой жести красовался череп с костями, под ним надпись «Осторожно, опасно для жизни», а дальше шли надписи по-немецки и по-французски, всякие скабрезности, шедевры типа тех, которые пишут на стенках общественных уборных. Все это было нанесено на жесть при помощи набора переводных картинок, какие обычно покупают металлисты и прочая дурная молодежь для нанесения оригинальных устрашающих татуировок. Они держатся довольно долго и смываются с кожи только при помощи специального раствора.
Глава 38
– Мне нужен телефонный номер вашего знакомого, который собирался морить у вас тараканов, – Харитонов возник на пороге Максимкиной комнаты совершенно бесшумно.
Алиса поила ребенка чаем, вздрогнула и расплескала чай на пододеяльник.
– Слушайте, выйдите отсюда! Вы понимаете, что ребенок болен, у него высокая температура? Выйдите и закройте дверь. – Она поставила чашку с чаем на тумбочку у кровати и стала вытаскивать одеяло из мокрого пододеяльника. – Я чуть не ошпарила его из-за вас. Убирайтесь вон, Валерий Павлович!
– Прекратите орать. Я уже сказал, что никуда не уйду. Телефон, быстро!
Алиса вовсе не орала. Это он вопил, как базарная баба. Лицо его налилось багровой краской. Он был уже в пиджаке, в галстуке, даже, кажется, умыться успел.
Максимка смотрел на Харитонова с ужасом, глаза его наполнились слезами. Алиса чувствовала, что ребенок дрожит и сейчас расплачется.
– Я не помню наизусть. Мне надо посмотреть в книжке, – медленно проговорила она, – я прошу вас, уйдите, пожалуйста. Дайте мне спокойно перестелить постель ребенку.
Она бросила на пол промокший пододеяльник, накрыла Максимку пледом. Чистое белье лежало в шкафу в ее комнате.
– Сначала вы найдете телефонный номер этого вашего Валеры, потом будете перестилать постель.
Максимка громко всхлипнул. Алиса села к нему на кровать, прижала его голову к груди и тихо сказала:
– Валерий Павлович, я не двинусь с места, пока вы не выйдете из комнаты.
Повисла тишина. Алиса слышала, как быстро, тревожно, колотится у ребенка сердце. Он был таким горячим, температура подпрыгнула до тридцати девяти.
Харитонов шагнул к кровати, грубо схватил Алису за локоть и вдруг замер, перестал дышать.
Через секунду Алиса отлетела в другой конец комнаты, шарахнулась головой о батарею. Боль оглушила и ослепила ее на несколько мгновений. Она очнулась от жалобного Максимкиного крика, вскочила на ноги и сначала увидела широко открытые глаза сына, потом Харитонова, который притиснул к себе мальчика и держал дуло у его виска.
– Не двигаться! Брось оружие! – орал Харитонов. В дверном проеме стоял Карл с пистолетом в руке.
* * *
– Как это могло произойти? – медленно проговорил Геннадий Ильич Подосинский, выслушав доклад своего «наружника». – Как вы его пропустили? Он что, призрак? Через стенку просочился?
– Я не знаю… Возможно, через чердак, мы только что проверили, там, оказывается, чердак проходной и несколько дверей открыто.
– Почему только сейчас проверили? Раньше не могли?
– В таких домах обычно чердаки закрыты. Да и дом оцеплен со всех сторон, честно говоря, я сам не понимаю, мистика какая-то.
– Ладно, подключай меня напрямую, чтобы я слышал, что там делается в квартире.
В квартире было тихо. Никто не кричал. Было слышно, как капает вода из крана то ли в ванной, то ли на кухне. Потом в гробовой тишине раздался глухой металлический стук.
– Бросил оружие, – заметил Азамат.
– Кто именно? – с усмешкой спросил Подосинский.
Азамат ничего не ответил. Он отвратительно себя чувствовал. Подосинский свалился как снег на голову и заявил, что будет сам лично контролировать операцию, причем, надо же было этому случиться, в самый неприятный момент.
Сначала все шло спокойно. Петька Мальков подсуетился на удивление быстро, разыскал сокурсника Майнхоффа по аспирантуре, и тот за небольшие деньги вспомнил фамилию девушки Алисы, рассказал, что она училась в архитектурном институте.
Выяснить адрес и телефон Воротынцевой Алисы Юрьевны не составило труда. Полученную информацию Азамат счел резервной и не собирался предпринимать никаких шагов в этом направлении, но тут позвонил Подосинский с Кипра и сказал, что надо срочно выяснить все о женщине, с которой встречался Майнхофф в Москве.
Азамат не без удовольствия ответил, что все уже выяснено, и выдал свою резервную информацию.
– Это не все, – жестко произнес Геннадий Ильич, – узнай, что она делала в последние две недели. Поставь «наружников» к дому. Выясни дату рождения ребенка и достань его фотографии.
И тут на голову Азамата обрушился целый шквал сюрпризов, последним из которых был сам Подосинский, вернувшийся с Кипра раньше времени.
– Почему пустили Харитонова в квартиру? – спросил он с порога.
– Мы подключились позже. Попытались убрать его, заложили взрывчатку в машину. Но он каким-то образом обнаружил и вызвал своих людей. Там еще до них вертелся МОССАД. В общем, полный финиш. Не хватало только ЦРУ и Интерпола для коллекции.
– Тем более надо действовать очень быстро, – сказал Подосинский. – Они мне нужны живые. Все трое. Майнхофф, женщина и ребенок. И чтобы никакого шума.
Был засечен телефонный звонок Майнхоффа, по специальной экспресс-технологии опознан голос, было также зафиксировано, что звонил он из таксофона в нескольких кварталах от дома. Но перехватить по звонку не успели.
Планировалось сначала тихо убрать Харитонова из квартиры и спокойно ждать Майнхоффа, который рано или поздно обязательно появится. Никто не мог рассчитывать, что это произойдет прямо сегодня, сейчас. Из прослушанного телефонного разговора следовало, что Алиса предупредила Карла о Харитонове, назвав его Валерой. Правда, никто не понял, что она имела в виду, говоря про тараканов, но это уже не важно. Главное, она предупредила: приходить ему сейчас нельзя ни в коем случае. Лучше переждать. А он вот возьми и заявись именно тогда, когда его не ждали.
– Безобразие какое, – подала голос Елена Петровна Терехова, которая сидела тут же, прихлебывая остывший чай, – больной мальчик, с высокой температурой, издерганная женщина и два бандита с пистолетами. Разве можно так работать, Азамат Мирзоевич?
– Вы совершенно правы, Елена Петровна, так работать нельзя, – кивнул Подосинский.
– Между прочим, это вы, Елена Петровна, придумали, чтобы она оставила открытой входную дверь, – проворчал Азамат.
– Будто ваш Майнхофф и так не вошел бы? – хмыкнула Терехова. – Не переношу, когда страдают дети. Терпеть этого не могу.
– Может, попытаться пустить группу захвата? – задумчиво произнес Мирзоев.
Но Подосинский раздраженно махнул рукой. Стали опять слышны какие-то звуки в квартире.
– Отпусти ребенка, Харитонов, – произнес Карл, – я бросил пистолет. Отпусти ребенка.
– У тебя наверняка есть второй, – хрипло ответил Харитонов.
– Нет.
– Раздевайся! – Валерий Павлович не кричал, а шипел, как вода на раскаленной сковородке.
– А почему ты так уверен, что я готов делать то, что ты скажешь? Я сейчас просто уйду, и ты останешься ни с чем. Предположим, ты выстрелишь. Но это меня не остановит. Тебя арестуют, Харитонов, – Карл говорил очень медленно и спокойно, акцент звучал сильней, чем обычно.
– Он здорово нервничает, – заметила Терехова, – он, конечно, не уйдет.
– Ты никуда не уйдешь, Майнхофф, – прохрипел Харитонов, – ты ведь не хочешь, чтобы я прострелил голову твоему единственному сыну?
– С чего ты взял, что это мой сын?
– Ну хватит валять дурака, Майнхофф. Я знаю все твои штучки. Ты сейчас начнешь изображать, будто тебе дела нет до мальчишки. У меня имеется даже документальное подтверждение твоего отцовства, Карл.
– Иди к черту, Харитонов, какое подтверждение?
– Результаты специальных анализов, задокументированные и заверенные несколькими судебными медиками. Самая высокая степень вероятности. Плюс сроки и внешнее сходство.
– Покажи, – тихо сказал Карл.
– Ну ты что, совсем меня за идиота держишь, Майнхофф? – усмехнулся Харитонов. – Так я и полезу сейчас в карман пиджака.
– Полезешь. Иначе я уйду. И можешь делать с ними что угодно. Я вовсе не уверен, что это мой сын.
– Прекрати надо мной издеваться! – взревел Харитонов. – Раздевайся! Я должен видеть, что у тебя больше нет оружия! Ну! Я прострелю ему башку! Раздевайся!
И тут послышался какой-то приглушенный быстрый шум, что-то мягко стукнуло, и коротко, сухо треснул выстрел.
* * *
Алиса издала страшный, сдавленный крик, ничего не видя вокруг, кинулась к Максиму. Лицо его было в крови, глаза закрыты. Она не заметила, как Харитонов медленно сползает на пол. Она припала ухом к груди ребенка и ничего не слышала, кроме страшного стука собственного сердца.
Карл шагнул к ним, присел на корточки, взял руку мальчика, стал щупать пульс.
– Уйди, – хрипло прошептала Алиса, – уйди…
– Нашатырь есть у тебя в доме? – спокойно спросил Карл.
– Вызови «Скорую», пожалуйста… – Она не могла плакать. Она смотрела на кровь, которая была на лице Максимки и на ее руках, и не могла плакать.
– Где у тебя лекарства? Ты слышишь меня, Алиса? Обморок у ребенка, нужен нашатырь!
– Ты выстрелил… ты… – Внезапно она вскочила, схватила пистолет Харитонова, который валялся на полу у кровати, и направила дуло в Карла.
– Совсем с ума сошла? Ты мать или кто? У тебя ребенок в обмороке. Ну, соображай быстрее! Надо приводить его в чувство, это же вредно, столько времени без сознания! Где аптечка у тебя? В ванной? На кухне?
И тут послышался слабый тихий стон:
– Мама…
Алиса выронила пистолет и кинулась к кровати. Максимка приоткрыл глаза.
– Мамочка, я весь мокрый… Что это липкое? Пойдем в ванную, мне надо вымыться, – Максимка попытался приподняться, но не смог, упал на подушку и выдохнул еле слышно:
– Мамочка, кружится голова, мне ужасно плохо.
Карл, ни слова не говоря, подошел и осторожно взял его на руки, понес в ванную.
– Вы кто? – спросил Максим, обнимая его за шею.
Карл ничего не ответил.
* * *
– Как же он умудрился кончить Харитонова? – Азамат загасил сигарету и тут же закурил следующую.
– Знаете, господа-товарищи, от этих ваших радиоспектаклей свихнуться недолго, – проворчала Терехова и тоже закурила.
Все, кто находился в комнате, уставились на нее, словно видели впервые. Елена Петровна была яростной противницей курения.
– Надо было доводить мальчика до обморока, – продолжала она, закашлявшись от первой затяжки, – а теперь там труп в детской комнате. Безобразие.
– Именно потому, что ребенок потерял сознание, Карл получил возможность выстрелить. Я с самого начала подозревал, что у него есть второй пистолет, задумчиво произнес Геннадий Ильич.
– Какие будут дальнейшие указания? – спросил «наружник» по радиосвязи.
– Пока никаких, – ответил Подосинский, – наблюдайте за домом.
– Гена, ты что? – удивился Мирзоев. – Надо брать его. Теперь ведь можно.
– Ну дай ты людям отношения выяснить, – поморщился Геннадий Ильич.
Терехова загасила сигарету и резко поднялась.
– Я могу идти? – спросила она.
– Вы мне нужны, Елена Петровна, – сказал Подосинский, – останьтесь, пожалуйста.
– Зачем?
– Я хочу, чтобы вы слышали, как они будут выяснять отношения.
– И так все ясно, – ответила Терехова довольно резко, но на место все-таки села.
– Что именно вам ясно?
– Ладно, Геннадий Ильич, – она махнула рукой, – решили слушать, так уж давайте помолчим.
* * *
– Мам, ты можешь мне объяснить, кто он такой и откуда взялся? – спросил Максимка.
Алиса быстро обмыла его теплым душем, завернула в махровую простыню. Его била сильная дрожь. Карл ушел на кухню, сидел там и курил.
– Потом, малыш. Сначала ты выпьешь чаю, успокоишься, а потом мы поговорим. Хорошо?
– Я уже успокоился.
– Ну конечно, у тебя зуб на зуб не попадает, – Алиса вытащила его из ванны, – держись за шею, я тебя отнесу.
– Мам, ты что, я же тяжелый!
– Ну-ка, давай я его возьму. – Карл открыл дверь, отстранил Алису, понес Максима в ее комнату.
Алиса сняла покрывало со своей кровати, откинула одеяло. Карл уложил Максима, накрыл, быстрым неловким движением погладил по взъерошенным влажным волосам и сел рядом.
– Сейчас сюда приедет милиция, – сказала Алиса, – прямо сейчас. С минуты на минуту.
– Когда ты успела? – тихо спросил Карл.
– Я написала записку детскому врачу, попросила, чтобы она вызвала милицию. Мне надо было как-то избавиться от Харитонова. Странно, что их до сих пор нет.
– Ну вот, я тебя избавил от Харитонова без всякой милиции.
– Он… этот, которого убили… он правду сказал? – медленно произнес ребенок.
– О чем? – взглянул на него Карл.
– О том, что вы… будто вы мой отец?
– А ты у мамы спроси.
– Мама, это правда?
Алиса долго молчала. Потом, глядя в упор на Карла, сказала:
– Ты понимаешь, что с минуты на минуту здесь будет милиция? У нас труп в соседней комнате. Труп отставного полковника ФСБ. Все в крови, и пистолеты на полу валяются.
– Не волнуйся. Сначала, будь добра, ответь ребенку на его справедливый вопрос, а потом разберемся с трупом.
– Карл, ты сумасшедший.
– Я много раз от тебя это слышал.
– Хорошо, ты хочешь, чтобы Максим знал правду?
– Я хочу знать правду! – крикнул Максим и тут же закашлялся.
– Малыш, посмотри внимательно и скажи, где ты раньше видел этого человека? Чтобы было проще, я напомню. Ты видел его в Израиле. Трижды. Первый раз в том кабачке на рыночной площади. Второй раз он разговаривал с тобой на пирсе. В третий раз ты видел его на катере, когда погиб Деннис. Только он был в гриме, с приклеенной седой бородой, в арабском костюме. Помнишь того деда, который рассыпал деньги по палубе?
Максимка вгляделся в лицо Карла и неуверенно произнес:
– Да, я видел его в ковбойском кабачке. Ты очень нервничала и стала зачем-то фотографировать. Потом я разговаривал с ним на пирсе, он сказал мне, что нельзя ловить морских ежей, у них ядовитые колючки. Ты почему-то так испугалась, что сорвала голос и подвернула ногу. Но на катере в арабском костюме был совсем другой человек.
– Малыш, его трудно было узнать, – мягко напомнила Алиса, – грим, темные очки, борода, арабский платок. Мы с тобой много раз говорили, как опасно обманывать себя и принимать желаемое за действительное.
– Мама, я не обманываю ни себя, ни тебя. Я того арабского деда запомнил на всю жизнь. Я его отлично разглядел. Видел глаза.
– Он был в темных очках.
– Он снимал их дважды. У него были темные, почти черные глаза. Нос у него был толстый, картошкой, и лицо широкое. Нет, мамочка, Денниса убил совсем другой человек.
– Это сделал МОССАД, – тихо произнес Карл, – американец шел за мной, и они его убрали.
– Вот видишь! Он не убивал. Ну а теперь скажи мне.
– Да, малыш, это твой отец, – произнесла Алиса совершенно чужим, деревянным голосом. – Его зовут Карл Майнхофф. Он международный террорист.
– Но он живой! Он не погиб в автокатастрофе до моего рождения. Пусть кто угодно: террорист, бандит. Он не убивал Денниса. Может, он вообще никого не убивал, кроме этого серого… – Максимка быстро взглянул на Карла. – Если вас посадят в тюрьму, я буду вас ждать.
– Карл, тебе пора уходить, – сказала Алиса.
– А почему ты решила, что я собираюсь уходить? Я хочу принять душ, чаю выпить. Я, наконец, хочу с сыном своим побыть. Хотя бы немного.
– Карл, тебя арестуют.
– Ну и пусть. Максим ведь будет меня ждать.
– Вот теперь давайте группу захвата, – скомандовал Подосинский, – только очень тихо, чтобы соседи ничего не поняли.
– А если окажет сопротивление?
– Не окажет, – подала голос Терехова.
– А с трупом что делать?
– Не должно быть никакого трупа. Харитонов исчез. Пропал без вести. В квартире все убрать, кровь замыть. С оружия снять отпечатки.
Глава 39
Москва, май 1998 года
С площади Белорусского вокзала по Тверской двинулась небольшая мрачная толпа. Пожилые, неопрятные, крикливые мужчины и женщины несли красные флаги со звездами и свастиками. Следом вышагивали молодые люди и девушки в полувоенной униформе. На плакатах написаны были лозунги: «Позор продажной дерьмократии!», «Долой кровавое правительство!», «Россия для русских!», «Коммунизм – это молодость мира».
На длинных палках красовались портреты Ленина, Сталина, Дзержинского, Берии. Какая-то крошечная писклявая женщина даже волокла, щебеча без остановки, портрет Гитлера, но соратники быстренько заставили убрать. Откровенно фашистской символики на первомайской демонстрации не допускалось. Коварные власти могли придраться к этому.
В толпе мрачно пели «Интернационал». Иногда прорывались дребезжащие оглушительные голоса особенно старательных пожилых певуний. Толпу тактично сопровождала милиция. День обещал быть жарким. В десять утра светило яркое горячее солнце. Толпа не спеша подкатила к площади Маяковского и притормозила. Здесь должен был состояться митинг.
Натан Ефимович Бренер стоял на углу, у выхода из метро «Маяковская» и, напрягая глаза, с интересом вглядывался в надписи на транспарантах. Он ждал Алису и Максима. Они договорились встретиться в десять, погулять вместе по праздничному Центру. Но опаздывали, как всегда.
Натан Ефимович так увлекся зрелищем этой невероятной первомайской демонстрации, так старательно вглядывался в транспаранты и лица, мелькающие в маленькой полусумасшедшей толпе, что не заметил, как выскочили из метро Алиса с Максимкой.
– Простите, мы опоздали, – Алиса чмокнула Натана Ефимовича в щеку, Максим пожал ему руку.
– Мы опять проспали, – сообщил Максимка, – я маму еле разбудил.
– Ничего, я привык. Вы всегда опаздываете, – улыбнулся Натан Ефимович, до сих пор не могу забыть, как в начале февраля, когда я только нашел вас, мы договорились покататься на лыжах и и вас ждал сорок минут на кругу у Серебряного Бора. Ведь бог знает что о вас думал. Промерз насквозь, простудился, между прочим. А сейчас совсем другое дело. Тепло, солнышко светит. А главное, ужасно интересно.
– Натан Ефимович, – хмыкнула Алиса, – я никогда не думала, что вы такой злопамятный человек…
– Ужасно злопамятный, – кивнул Бренер, – так люблю поворчать, прямо язык чешется. Сижу целыми днями один в своей тихой квартире и думаю, на кого бы мне поворчать? Слушай, а почему у них свастика такая фигурная?
– Это чтоб покрасивей было, – объяснил Максимка.
– Я хочу посмотреть на их митинг.
– Ничего интересного, – фыркнул ребенок, – сейчас будут орать всякие глупости. Пойдемте лучше в итальянскую пиццерию или в американский бар, позавтракаем. Мы ведь с мамой как вскочили, так и побежали. Позавтракать не успели.
– Ну немного постоим, послушаем и пойдем, – сказал Бренер, – отсюда все отлично видно. Я такого не мог себе представить. Нет, по телевизору видел, конечно, но все равно не верил. Даже сейчас не верю своим глазам. Ни тебе танков, ни ровных шеренг. Транспаранты кое-как намалеваны, красные флаги несет не весь советский народ, а горстка сумасшедших. А рядом свастика.
На импровизированную трибуну поднялся пожилой седой человек. Голова его казалась четырехугольной из-за выбритых висков. Темные очки поблескивав ли на солнце.
– Товарищи! Сегодня особенный день. Большой праздник. Наш с вами праздник. День международной солидарности трудящихся! День борьбы пролетариев за свою свободу! За свое справедливое господство над миром жирных болезненных дегенератов!
– Ура, Цитрус! Да здравствует Цитрус! – завизжали голоса в толпе.
– Граждане! Товарищи! – Авангард Цитрус потряс над головой сцепленными в огромный кулак руками, горячо поприветствовал слушателей и продолжил речь: Прогнившее ельцинское правительство пытается сделать вид, что не замечает нас и не боится. На самом деле эти жирные тупые чиновники трясутся от страха! Они чувствуют нас! Они чувствуют нашу мощь! Россия ждет нас с трепетом, как единственного, сильного и красивого жениха ждут в разоренном доме. Он уничтожит врагов, все отстроит молодыми руками под крепкие песни… За нами будущее! За нами победа!
– Русская победа! Русская победа! Цитрус! Ура, Цитрус! – стала скандировать толпа.
И вдруг Натан Ефимович, ни слова не говоря, схватил Максима и Алису за руки, потянул их так резко, что они чуть не упали.
– Что случилось? – удивилась Алиса.
– После объясню! – Бренер тащил их вперед по Тверской, к Центру.
– Куда мы бежим?
Натан Ефимович не мог говорить от волнения. Сердце прыгало от желудка к горлу. Только что он случайно заметил в зеркальной витрине бледное белоглазое лицо. Он узнал бы это лицо даже в кромешной темноте.
Он не оглядывался. Он чувствовал, как вспыхивают у них за спиной сумасшедшие глаза бледно-голубым ледяным огнем. Инга Циммер рядом, быстро продирается за ними сквозь неторопливую толпу нарядных москвичей, которые гуляют по праздничной Тверской, не обращая внимания на грозные крики митингующих у памятника Маяковскому. Взрослые и дети смеются, глазеют по сторонам, едят мороженое. У детей в руках разноцветные воздушные шарики.
Ни Максим, ни Алиса больше не задавали вопросов. Им передался страх Натана Ефимовича. Они неслись по Тверской, не оборачиваясь.
«Она не могла выследить… это случайность… необязательно, что у нее с собой оружие, – задыхаясь на бегу, думал Натан Ефимович, – если бы меня не было с ними, она успела бы выстрелить… Они ведь не видели ее никогда и не сумели бы узнать. Может, подойти к милиционеру? Вон сколько милиции».
Он все-таки оглянулся. Сумасшедшие глаза были совсем близко. Он успел заметить, что Инга постриглась совсем коротко, под мальчика, и покрасила волосы в черный цвет. Черные узкие джинсы. Черная футболка. Через правую руку перекинут черный пиджак.
«Может, я ошибся? – мелькнуло в голове. – Может, это вовсе не она?»
На секунду они замедлили бег. Черный пиджак соскользнул на асфальт. Рука с пистолетом вскинулась. Кто-то ахнул.
Пистолет не выстрелил, негромко, тяжело стукнул об асфальт и тут же исчез, подхваченный чьей-то случайной шальной рукой.
Инга Циммер упала навзничь. Паренек в серой легкой куртке, который только что сильно и быстро толкнул ее в спину, проходя мимо, спрятал руки в карманы куртки и спокойно пошел дальше, растворился бесследно в праздничной яркой толпе.
– Натан Ефимович, что случилось? – отдышавшись, спросил Максим. – Почему мы так бежали?
– Там, кажется, кому-то плохо? – заметила Алиса, проводив взглядом машину «Скорой», которая с тихим воем вырулила из переулка за рестораном «Минск».
– Там убили Ингу Циммер, – тихо ответил Бренер, – она не успела выстрелить.
ЭПИЛОГ
Черный «Линкольн» плавно вырулил на Садовое кольцо. Была глубокая ночь. Яркая полная луна повисла на тонком шпиле краснопресненской высотки.
– Эй, я смотрю, ты засыпаешь, Азамат? – спросил Геннадий Ильич, тронув Мирзоева за плечо. – Это уже старческое. Ты взбодрись. Давай выпьем.
– Ты хочешь помянуть Ингу Циммер? – лениво поинтересовался Мирзоев.
– Нет. Ингу я хочу забыть. Я нервничал из-за нее больше трех месяцев. Теперь я спокоен.
– Вот за это и выпьем.
– Ну давай, – зевнул Азамат. Геннадий Ильич плеснул густого, как мед, коньяку в крошечные рюмки. Чокнулись. Выпили.
– Есть у меня неплохая идейка, – задумчиво произнес Подосинский и отбил легкую быструю дробь по салонному столику, словно сыграл гамму на невидимых клавишах, – хочу быстренько провернуть кое-что в Германии. Прячется там один любопытный человек, вор в законе. Его скоро должны убить, но он мне нужен. Знает много интересного. Убить ведь дело нехитрое, это никогда не поздно. Я хочу, чтобы сначала рассказал, что знает.
Азамат молчал. Он прекрасно понял, какого вора в законе имеет в виду Подосинский. Он молчал долго и думал о том, что выкрасть этого «любопытного человека» невозможно. Убить – да. А довезти до России или до любой другой точки земного шара живым и невредимым – нельзя. Будь ты хоть трижды гений.
– Кто же за такое возьмется, Гена? – спросил он после долгого задумчивого молчания.
– Карл Майнхофф.
– Ты прости меня, Гена, но даже он не сумеет.
– Сумеет, – Подосинский откинулся на мягком диване и прикрыл глаза. Очень постарается. У него здесь сын.