
НИКОЛАУС АРНОНКУР
Музыка языком звуков
Путь к новому пониманию музыки
Предисловие
Для начала — цитата из интервью, данного Николаусом Арнонкуром Мартине Хельмиг, журналистке “Berliner Morgenpost”. Говоря о годах своего обучения игре на виолончели в Венской высшей школе музыки и пробуждении интереса к искусству Барокко, маэстро вспоминает: "Прежде, чем играть трудную романтическую литературу, обычно получаешь музыкальный "корм" из барочных произведений. Я был очень разочарован, находил их скучными и стерильными. С другой стороны, я читал, что современники приходили от этой музыки в неистовство — бросались на пол, рвали на себе одежду. Тогда я подумал: мы делаем что-то не так". Здесь, как мне кажется, находятся ключи и к весьма своеобразной философии музыки, с которой мы ознакомимся в первых главах книги, и к некоторым важным моментам исполнительской деятельности Арнонкура. Начну с философии.
Отношение мастера к месту "классической" музыки в современной цивилизации не слишком оригинально, хотя его изложение гораздо убедительнее, чем у многих записных культурологов, которых "упадок музыки" интересует только по долгу, так сказать, службы. Трудно согласиться с тем, что музыка в целом превращается лишь в "украшение" жизни общества — это относится только к той "классической" музыке, преимущественно инструментальной, которую в последнее время все чаще называют "артифицированной" (т.е. предназначенной для специального исполнения в особых условиях) и сравнивают с музыкой "неартифицированной", бытовой. Последняя и есть та самая музыка, от которой современные слушатели — по крайней мере, определенная их часть — "впадают в неистовство" и рвут на себе одежду (не хуже наиболее чувствительной части аудитории виртуозов-кастратов эпохи барокко). Однако данное обстоятельство едва ли интересует Арнонкура. Главная его цель, как представляется, состоит в том, чтобы спасти музыку Барокко даже не от забвения, а от чего-то худшего, чем забвение, — от непонимания. От той культурной ситуации, в которой шедевры XVIII века находят эмоциональный отклик у публики лишь в интерпретации Ванессы Мей. Это и делает его описание кризиса серьезной музыки столь красноречивым и убедительным.
Обратимся к тем лекарствам, которые предлагает Арнонкур. Они, вроде бы, тоже вполне обычны, и главное из них — внимательное чтение нотного текста. Известно, что в 1994-м году исполнению симфоний Бетховена с Венским филармоническим оркестром предшествовали 70 (!) часов репетиций маэстро. Флейтист Венской филармонии Кейт Брагг говорил: "Он предъявляет большие требования к терпению и обязательности исполнителей. Они не привыкли прорабатывать каждую отдельную ноту каждой отдельной фразы". Арнонкур не просто предлагает прорабатывать каждую ноту, он предлагает совершенно новый подход к нотной записи, основанный на глубочайшем знании как исполнительских традиций, так и музыкальной эмблематики, музыкальной риторики ("реторики", как ее ныне именуют) эпохи барокко. Благодаря ценнейшей информации, которую находим буквально в каждом разделе, открываются совершенно новые возможности прочтения хорошо известных текстов (Арнонкур как исполнитель, известно, избегает играть музыку "второразрядных" композиторов). Я вначале собирался перечислить "наиболее интересные" разделы книги, но потом понял, что это безнадежное занятие, поскольку интересно буквально все. Особо, пожалуй, отмечу лишь вопросы музыкальной системы и строя, которые изложены в манере, весьма непривычной для отечественного музыковедения, ориентированного на Холопова, а не Римана. Здесь более всего чувствуется, что писал практик, имеющий солидную теоретическую подготовку, а не "чистый" теоретик, свободный от забот об исполнении музыки. В общем, едва ли необходимо в качестве традиционного заключения говорить о том, что "сделано нужное и полезное дело". Надеюсь, практические результаты, которые неизбежно последуют за внимательным чтением этой книги, не замедлят порадовать исполнителей, а также их слушателей.
Игорь Приходько, музыковед.
I. ОСНОВЫ МУЗЫКИ И ЕЁ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Музыка в нашей жизни
От средневековья до Французской революции музыка была одной из важнейших основ нашей культуры и жизни. Ее знание считалось обязательной частью общего образования. Теперь же музыка является разве что украшением, позволяющим заполнить пустые вечера посещением оперы или филармонии, украсить официальные торжества, отогнать, включив радио, наскучившую тишину домашнего одиночества. Отсюда парадокс — кругом звучит значительно больше музыки, чем прежде (чуть ли не постоянно), но теперь она уже не имеет для нас былого значения, оставаясь разве что “милым украшением”.
Ныне преобладают абсолютно иные ценности, отличающиеся от признававшихся таковыми людьми предыдущих столетий. Сколько сил, терпения и любви стоило нашим предшественникам строительство святынь и соборов! — и как мало внимания они уделяли вещам, предназначенным служить удобству существования. Современный же человек, как правило, больше интересуется автомобилями или самолетами, чем какими-то скрипками, куда большее значение придает схеме электронного устройства, чем симфонии. Тем не менее цена, которую платим за теперешние удобства, высоковата: безрассудно пренебрегаем интенсивностью жизни ради комфорта, забывая о существовании ценностей, потеря которых необратима. Коренное изменение роли музыки продолжается по возрастающей в течение последних столетий. Это связано с изменением отношения к современной музыке, да и к искусству вообще: пока музыка была важной составной частью жизни, до тех пор отражала современность, поскольку, собственно, была языком, повествующим о невыразимом словами, и понять ее могли только современники. Она изменяла людей — как слушателей, так и музыкантов; создавалась каждый раз заново — соответственно существующему образу жизни и новым духовным потребностям. (Не из тех ли соображений люди постоянно возводят себе новые дома и шьют новую одежду?) Старинная же музыка, то есть музыка предшествующих поколений, не могла поэтому быть и не была ни понятной, ни востребованной. Лишь иногда, в исключительных случаях, вызывала удивление своим мастерством.
Когда музыка покинула средоточие нашей жизни, все изменилось: как украшение она должна быть прежде всего красивой. И ни в коем случае не должна беспокоить или ужасать. Современная музыка не отвечает этим требованиям, поскольку — подобно всем другим видам искусства — является отображением современного состояния духа. Если бы мы стремились честно, без поблажек проанализировать наше духовное состояние, то неутешительные выводы побудили бы к изменению устоявшейся, налаженной жизни, и оказались — вследствие нашей инертности — нежелательными. Парадоксально: мы отвернулись от современного искусства, поскольку оно беспокоит нас, но ведь оно и должно волновать и тревожить. То есть мы не хотим думать, а только стремимся к прекрасному, чтобы избежать серой обыденности. Таким образом, искусство — а в особенности музыку — мы упростили до роли обычного украшения. Теперь возвращаемся к прошлому, к старинной музыке, ибо находим в ней такую желанную красоту и гармонию.
На наш взгляд, такое возвращение к старинной музыке (то есть ко всему, что создано предыдущими поколениями) могло произойти только в результате ряда недоразумений. Теперь востребована музыка “прекрасная”, которой современность предложить не в состоянии. Но исключительно “прекрасная” музыка в отдельности никогда не существовала. Категория “прекрасного” является одной из составных всей музыки, и, сделав ее единым критерием, мы вынуждены отвергнуть или проигнорировать все иные составляющие. Это своего рода нивелирование, сведение музыки лишь к “прекрасному”, стало возможным лишь с того времени, когда ее не смогли или не захотели понимать как целостность. И как только мы стали воспринимать старинную музыку (которую считаем единственно настоящей) только лишь в качестве милого украшения повседневности — то сразу же перестали ее понимать как единое целое, иначе бы не смогли упростить и свести ее к явлению исключительно эстетического порядка.
Итак, ныне мы находимся в практически безвыходной ситуации: все еще верим в силу и власть музыки, но вместе с тем должны признать, что она оказалась оттесненной на периферию — раньше волновала, сейчас только нравится. Но мы не должны с этим мириться; скажу прямо: если бы я считал эту ситуацию безвозвратной, то перестал бы заниматься музыкой вообще.
Убежден — в скором времени все поймут абсурдность отказа от музыки (а именно это абсурдное упрощение и есть отказом), и мы сможем довериться силе музыки Монтеверди, Баха и Моцарта, а также всему тому, о чем эта музыка повествует. Чем больше мы будем стараться понять и овладеть ее языком, тем отчетливее увидим, насколько она выходит за пределы лишь “прекрасного”, насколько волнует и восхищает богатством своего языка. В результате — если мы хотя бы чуточку поймем музыку Монтеверди, Баха и Моцарта — будем лучше воспринимать и современную музыку, которая повествует нашим языком, соответствует нашей культуре и является ее продолжением. Не потому ли, что наша эпоха так дисгармонична и ужасна, нам и не хочется, чтобы искусство, которое ее отображает, вторгалось в нашу жизнь? Или мы, бесстыдно лишенные воображения, изъяли из нашего языка то, что является “невыразимым”?
Сделал бы свои открытия Эйнштейн, если бы не играл на скрипке? Разве дерзкие и новаторские гипотезы, прежде чем поддаться логическому осмыслению, не были только плодом воображения? Не случайно сведение музыки к сугубо “прекрасному”, чтобы сделать ее общепонятной, произошло именно во время Большой Французской революции. В историческом процессе повторялись периоды, когда старались упростить эмоциональное содержание музыки настолько, чтобы она стала понятной любому. Все те усилия оказались напрасными и привели к новым сложным и разнородным явлениям. Музыка может быть доступной любому только тогда, когда девальвируется до примитива. Или если каждый изучит ее язык.
Самые большие последствия вызвали попытки упрощения музыки и создания ее обобщенного понимания, предпринятые в результате Французской революции. Тогда впервые в масштабе большого государства попытались подчинить музыку новым политическим идеям; тогда же переработали для Консерватории учебную программу, которая впервые в истории музыки была предельно унифицирована. И до сих пор все, кто занимается европейской музыкой, учатся по этой программе, а слушателям — в соответствии с этим — растолковывается: для того, чтобы понимать музыку в целом, нет необходимости ее изучать, а достаточно ощущения “прекрасного”. Таким образом, каждый считает, что может взять на себя смелость вынести приговор ценности музыки и качеству ее исполнения — такая убежденность уместна лишь относительно произведений, написанных после революции, но ни в коем случае не музыки предшествующих эпох.
Я глубоко убежден — для сохранности европейской духовной жизни решающей будет способность научиться жить в согласии с нашей культурой. В сфере музыки это требует двух направлений деятельности.
Во-первых, музыканты должны учиться по-новому, то есть согласно с методой, что была обязательной два столетия до нас. В музыкальных школах же учат музыке не как языку, а как технике исполнительства — технократическому скелету без жизни.
Во-вторых, общее музыкальное воспитание следует переосмыслить, и оно может занять в нашей жизни соответствующее место. Благодаря этому, значительные произведения прошлого предстанут перед нами в новом свете, мы заметим их разнообразие, которое нас так волнует и преображает. Лишь тогда снова сможем воспринимать новое. Нам нужна музыка: без нее нет жизни.
Об интерпретации старинной музыки
Поскольку музыка прошлого доминирует в современной музыкальной жизни, следует подробнее осветить связанные с этим проблемы. Существуют два совершенно разных подхода к музыке прошлого, которым соответствуют два не менее различных способа ее воспроизведения: первый — переносит ее в современность, второй — пытается показать ее через призму эпохи, в которую она возникла.
Первый способ — естественный и применяемый во все эпохи, имеющие настоящую живую современную им музыку. Он также является — и всегда был — единственно возможным на протяжении всей истории западной музыки, от начала возникновения полифонии вплоть до второй половины XIX века; еще и ныне среди выдающихся музыкантов много его сторонников. Подобная ориентация вызвана тем, что язык музыки всегда тесно связан с современностью. Так, в средине XVIII столетия считали, что произведения, написанные в начале века, безнадежно устарели, даже если они признавались настоящими произведениями искусства. Нас постоянно удивляет энтузиазм, с которым раньше современные композиции причислялись к необыкновенным достижениям. Старинная же музыка считалась лишь подготовительным этапом, в лучшем случае становилась предметом изучения или — иногда — обрабатывалась для какого-либо специального исполнения. При нечастом ее исполнении в XVIII столетии определенная модернизация считалась абсолютно необходимой. Но композиторы нашего времени, обрабатывающие старинные произведения, точно знают, что публика хорошо восприняла бы их и без обработки, которая ныне диктуется уже не абсолютной необходимостью, как было в предшествующих столетиях (если уж играли музыку прошлого, то лишь осовремененную), а личными вкусами аранжировщика. Такие дирижеры, как Фуртвенглер или Стоковский, исповедовавшие постромантический идеал, исполняли в том же духе всю старинную музыку. Так, органные произведения Баха были инструментованы для вагнеровского оркестра, а Пассионы исполнялись в гиперромантическом стиле с использованием огромного исполнительского состава.
Второй способ, декларирующий верность произведению, значительно моложе предшествующего, ибо возник только в начале XX века. С того времени музыка прошлого воспроизводилась все чаще “аутентичным” способом, и выдающиеся исполнители признали его идеальным. Они стремились трактовать старинную музыку как таковую и исполнять ее в соответствии с духом той эпохи, в которую она создавалась. Такое отношение к старинной музыке — не перенесение ее в современность, а наоборот, перемещение самого исполнителя в прошлое — служит симптомом отсутствия настоящей живой современной музыки. Нынешняя же — не удовлетворяет ни музыкантов, ни публику, большая часть которой откровенно уклоняется от нее. И чтобы заполнить возникающие пробелы, возвращаются к музыке прошлого. В последнее время как-то незаметно мы привыкли к тому, что под словом “музыка” подразумевается прежде всего старинная, современной же музыки это касается лишь в определенной степени. Такая ситуация абсолютно новая в истории. Проиллюстрируем ее небольшим примером: если изъять из концертных залов музыку прошлого и исполнять лишь современные произведения, то эти залы вскоре зазияли бы пустотой — точно так произошло бы и во времена Моцарта, если бы публику оставили без современной музыки, заменив ее старинной, например, барочной.
Бесспорно, фундаментом нынешней музыкальной жизни является музыка прошлого, в особенности музыка XIX века. Такого никогда еще не наблюдалось со времени возникновения полифонии. Причем раньше при исполнении музыки прошедших эпох вообще не ощущалась потребность в аутентичности, так необходимой сегодня: для эпохи, имеющей собственную живую культуру, исторический подход является, в сущности, абсолютно лишним. Подобное наблюдаем и в других видах искусств: например, раньше к готическому собору без колебаний достраивали барочный баптистерий, выбрасывали пышные готические алтари и заменяли их барочными, а сейчас все это дотошно восстанавливается и сохраняется. Впрочем, исторические ориентиры тоже имеют свои плюсы: впервые в истории западного христианского искусства мы можем выбрать любую точку зрения и охватить взглядом все достояние прошлого. Это также объясняет все большее распространение старинной музыки в концертных программах.
Романтизм считается последней живой эпохой в музыкальном творчестве. Музыка Брукнера, Брамса, Чайковского, Рихарда Штрауса и других композиторов еще была выражением своей эпохи, тем не менее на ней будто остановилась вся музыкальная жизнь: и сейчас, собственно, эту музыку слушают чаще и охотнее, а обучение музыкантов в консерваториях ведется согласно методик того периода. Но с тех пор, как бы не хотелось это осознавать, прошло уже много десятилетий.
Если мы сейчас и будем заниматься старинной музыкой, то все равно не сможем действовать подобно нашим предшественникам из великих эпох. Мы утратили непосредственность, позволяющую все приспосабливать к современности, для нас высочайшим авторитетом является воля композитора. Старинную музыку считаем порождением отдаленного прошлого, видим на фоне ее же эпохи и должны прилагать усилия для правильного воспроизведения, по крайней мере не в угоду историзму, а потому, что теперь это, пожалуй, единственный способ, благодаря которому можно сделать ее искусством живым и достойным уважения. Однако о достоверности исполнения можем вести речь лишь тогда, когда оно будет приближено к тому звуковому образу, который подразумевал композитор во время процесса создания. Наконец, это возможно только в определенной степени: первичная идея остается в сфере домысливания, в особенности если речь идет о музыке отдаленных эпох. Информацией, позволяющей понять намерения композитора, являются исполнительские указания, инструментовка и многочисленные, множество раз изменяемые манеры исполнительской практики, понимания которых композиторы, естественно, ожидали от своих современников. Это открывает нам широкое поле для исследований, хотя и создает вероятность грубой ошибки: например, исполнение старинной музыки только в соответствии с приобретенными знаниями. Существуют “музыковедческие” исполнения абсолютно безупречные с исторической точки зрения, но какие-то безжизненные. Из двух зол меньшим будет все же исполнение исторически фальшивое, но живое. Музыковедческие знания — не самоцель, они должны дать нам лишь средства для улучшения качества исполнения, поскольку действительно аутентичным (у автора werkgetreu — верным замыслу произведения) оно будет лишь тогда, когда произведение достигнет своего наиболее ясного и красивого выражения. А произойдет это — опять же таки — если знание материала и чувство ответственности соединятся с глубоким музыкальным воображением.
До сих пор мало внимания отводилось постоянным изменениям музыкальной практики; их даже считали несущественными. Бытовала мысль, что “развитие” идет от примитивных первичных форм через более или менее уловимую переходную стадию к окончательным, “идеальным” формам, которые во всех отношениях более совершенны, нежели “подготовительные стадии”. Это убеждение, как пережиток времени живого искусства, очень распространено и ныне. Люди того времени считали, что музыка, техника игры и инструменты “прогрессировали”, достигая пика собственно в их эпоху. Однако ретроспективный взгляд на всю историю музыки свидетельствует об ошибочности подобного убеждения: мы уже не можем вести речь о различной ценности музыки Брамса, Моцарта, Баха, Жоскена или Дюфаи — теория “прогресса” тут неуместна. Речь теперь идет о вневременности всех великих произведений искусства, но такая точка зрения — в своей распространенной форме — так же ошибочна, как и та, что отстаивает существование прогресса. Музыка, как и все виды искусства, тесно связана со своим временем; она есть живым выражением исключительно своей эпохи и до конца понятна только своим современникам. Наше же “понимание” старинной музыки разрешает нам лишь угадывать породивший ее дух. Поскольку она всегда отвечает духовной ситуации своего времени, ее содержание никогда не может превышать человеческую способность к пониманию, а каждое достижение с одной стороны компенсируется потерей с другой.
В общем, представление о природе и диапазоне изменений, которым подвергалась музыкальная практика на многочисленных этапах своего развития, недостаточно отчетливо. И не будет лишним кое-что уточнить. Например, нотация до XVII века включительно постоянно изменялась, а некоторые обозначения, уже считавшиеся с того времени “однозначными”, вплоть до конца XVIII века все еще трактовались по-разному. Теперешний музыкант подробно играет записанное в нотах, не ведая, что математически точная нотация распространилась лишь в XIX веке. Следующим неисчерпаемым источником проблем является множество вопросов импровизации, неразрывно связанных вплоть до конца XVIII века со всей музыкальной практикой. Способность различать отдельные фазы развития, принадлежащие соответствующим историческим периодам, требует основательных специальных знаний, практическое применение которых сказывается на форме и содержании исполнения. Наиболее же ощутимое различие дает звуковой образ (означает, между прочим, тембр, характер и силу звучания инструментов). Непрестанным изменениям в соответствии с духом времени подвергались прочтения музыкальной нотации и практика импровизации, изменялись и звуковые представления, и звуковой идеал, а вместе с ними и инструменты, способ игры на них и даже техника пения. В комплекс формирования звукового образа также входят размеры и акустика помещения.
В частности, нельзя говорить о “развитии”, имея ввиду изменения в способе игры, то есть в технике, так как техника, подобно инструментам, всегда полностью приспосабливалась к требованиям своего времени. Здесь можно было бы возразить: ведь требования к технике игры неустанно повышаются; это правда, но только относительно определенных видов техники, поскольку в других ее разновидностях эти требования уменьшились. Действительно, ни один скрипач XVII века не смог бы сыграть концерт Брамса, как ни один скрипач, играющий Брамса, не может безупречно исполнить сложные скрипичные произведения XVII века. Каждое такое произведение из разных эпох само по себе является одинаково сложным, тем не менее они совершенно различны и требуют абсолютно разной техники.
Подобные изменения можно заметить в инструментовке и в инструментах. Каждая эпоха использовала инструментарий, наиболее отвечавший ее музыке. В воображении композиторов звучали современные им инструменты; часто произведения создавались по заказу конкретных инструменталистов. К тому же всегда требовалась музыка, удобная для игры на конкретных инструментах: “неисполнимыми” были только произведения, написанные плохо, то есть автор сам себя подвергал осмеянию. То, что сейчас много произведений старых мастеров считаются почти недоступными для исполнения (например, голоса медных духовых инструментов в барочной музыке), объясняется тем, что музыканты берутся за них, располагая современными инструментами и современной техникой игры. Требование к современному музыканту играть на старинных инструментах с использованием старинной техники игры, является, к сожалению, практически невыполнимым. Следовательно, мы не должны укорять старинных композиторов за наличие трудноисполнимых мест в их произведениях или, что бывает чаще, считать музыкальную практику прошлого технически несовершенной. В каждую из прошедших эпох лучшие музыканты могли исполнять самые сложные произведения своих современников.
Все это позволяет представить, с какой огромной трудностью столкнется музыкант, заботящийся об аутентичности. Компромиссов не избежать: возникает множество вопросов, очень многих инструментов уже не существует или же нет исполнителей, способных на них играть. Тем не менее, когда нам удается достичь высокого уровня аутентичности, то получаем неожиданное богатство. Произведения являются нам в абсолютно новом свете, который сияет из далекого прошлого, а большинство проблем решаются сами собой. Воспроизведенные таким образом, они не только звучат правдивее с исторической точки зрения, но и получают новую жизнь, поскольку исполняются с использованием присущих именно им средств выразительности, следовательно, дают нам четкое представление о силе духа, благодаря которой прошлое было таким плодотворным. И тогда занятия старинной музыкой приносят не только чисто эстетическое удовольствие, но и обретают для нас глубокий смысл.
Понимание музыки и музыкальное образование
Многое свидетельствует о том, что человечество движется к общему упадку культуры, который влечет за собой и упадок музыки, поскольку она является важной составляющей нашей духовной жизни и как таковая может выражать только то, что является ее содержанием. Если ситуация на самом деле настолько серьезная (для меня это очевидно), то возникает вопрос — следует ли нам оставаться посторонними наблюдателями, дожидаясь времени, когда изменить что-либо будет уже поздно?
Большую роль тут сыграет музыкальное образование, причем словом “музыкант” хотелось бы назвать любого, кто профессионально принимает участие в музыкальной жизни, профессиональных слушателей, даже публику. Приглядимся, с этой точки зрения, к месту музыки в истории. Следует заметить, что во многих языках “поэзия” и “пение” называются одним и тем же словом. Иначе говоря, от момента, когда речь начинает выходить за пределы простой констатации фактов, она объединяется с пением, так как пение уже намного содержательнее может передать что-то большее, чем простая информация. Нам трудно это понять, ибо идея как таковая уже отсутствует в нашей концепции музыки. Слово, его сущность — благодаря музыкальным звукам, мелодии, гармонии — может стать более интенсивным, отсюда можно достичь понимания, превосходящего обычную логику.
Однако действие музыки не ограничивалось укреплением или углублением экспрессии речи; музыка со временем открыла собственную эстетику (правда, ее связь с речью всегда узнавалась) и большое количество специфических средств выразительности: ритм, мелодию, гармонию и т.п. Таким образом появился словарь, который придал музыке огромную мощь влияния на человеческое тело и дух.
Если присмотреться к людям, слушающим музыку, можно заметить: она заставляет их двигаться; чтобы усидеть неподвижно, надо сделать определенное усилие. Движения, вызванные музыкой, могут становиться все более интенсивными, вплоть до экстатического состояния. Тем не менее даже обычному переходу от диссонанса к консонансу соответствует напряжение и расслабление. В мелодии тоже можно найти подобное явление: каждая мелодическая линия подчинена определенным законам и — если мелодия тесно связана с этими законами — после четырех или пяти звуков становится ясно, какими должны быть шестой и седьмой; эта преемственность, это исполнение ожидаемого приводит к физическому расслаблению. Если композитор, стремясь вызвать напряжение, не оправдывает ожидаемого, одурачивая тем самым мелодическое воображение слушателя, то напряжение все равно придет к разрядке в другом месте. Этот чрезвычайно сложный процесс композиторы использовали в течение многих веков истории музыки Запада. Если сидеть на концерте и слушать действительно интенсивно, ощущается то нарастание напряженности, то ее спад: изменения, которые происходят в нашем кровообращении, в нашем “физическом слушании”. Касается это и чувств — начиная от настроений спокойных, уравновешенных или переполненных болью вплоть до порывов бушующей радости, неистовства или гнева. Музыка влияет так, что вызывает у слушателя реакции не только чувственные и физические, но и в духовной сфере. В этом смысле музыка выполняет также нравственную функцию — на протяжении столетий значительно влияет на душу человеческую, изменяя ее.
Конечно, музыка не является вневременной, наоборот, тесно связана со своей эпохой, необходима человеку для жизни, как и другие проявления культуры. На протяжении последнего тысячелетия музыка Запада постоянно была важным элементом жизни, что означало — жизнь и музыка неразлучны. Когда же это единство исчезло, необходимым стало новое понимание музыки. Размышляя о современном ее состоянии, различаем музыку “народную”, “развлекательную” и “серьезную” (понятие, которого я не признаю). Внутри отдельных групп еще сохранились остатки былого единства, но единство музыки и жизни, как и единство всей музыки, утеряно.
В народной музыке еще можно заметить определенную общность с культурой народа; тем не менее она, ограниченная анклавом, становится лишь частью традиций. (Что свидетельствует об упадке культуры, поскольку традиционные обычаи живы, а не должны быть чем-то, требующим сохранения. Если что-то называется словом “традиция”, это означает — имеем дело с явлением уже музейного характера). Вместе с тем, остатки былой функции музыки находим в развлекательной музыке: здесь чрезвычайно заметно физическое влияние на слушателей. Кажется, пора призадуматься: почему, с одной стороны, существует современная развлекательная музыка, которая выполняет в нашей культурной жизни абсолютно необходимую функцию, а с другой — нет никакой “серьезной” музыки, которая могла бы играть подобную роль?
В развлекательной музыке сохранилось многое из давнего метода понимания музыки: единство поэзии и пения, что было таким важным при зарождении музыки; единство слушателя и исполнителя; наконец, единство музыки и времени (развлекательная не может быть старше пяти-десяти лет, поскольку принадлежит настоящему). Благодаря ей можно лучше понять, чем была музыка в старину, ибо в своих пределах, при всей их ограниченности, развлекательная музыка является неотъемлемой частью жизни.
Возвратимся к нашему бедному родственнику — “серьезной” музыке, которую опять-таки нам удалось разделить на “современную” и “классическую”. Современная — которой (принято уже тысячу лет) “занимаются” серьезные и знаменитые музыканты — существует только для узкого круга заинтересованных, которые постоянно странствуют, но повсюду остаются неизменными в своем творчестве. Я не иронизирую, а считаю это скорее симптомом разрыва, который трудно осмыслить. Если музыка отдаляется от своей публики, то ни она, ни публика в этом не виноваты. В любом случае ошибка кроется не в искусстве как таковом, а лишь в духовной ситуации нашего времени. Это здесь должно бы что-то измениться, ведь музыка неминуемо есть отражением настоящего; итак, если хотим изменить музыку, прежде всего следует изменить настоящее. Это не кризис музыки, а отражение в ней кризиса нашего времени. Стремление изменить музыку столь же абсурдно, как и поведение врача, который хочет устранить симптомы вместо лечения больного. Итак, современную музыку не “вылечить” никакими усилиями “культурной политики” — например, поддержкой определенных, “нравящихся” нам направлений. Кто верит в такую возможность, — не понимает функции музыки в человеческой жизни. Настоящий композитор пишет — хочет он того или нет — в соответствии с требованиями духовной ситуации своей эпохи, иначе был бы пародистом, поставляющим имитации на заказ.
Итак, что же произошло? Мы “спаслись”: в момент, когда не стало единства между современным творчеством и жизнью, попытались убежать в прошлое. Так называемый “культурный человек”, для которого настоящее перестает быть живым, старается для своего времени спасти часть культурного, музыкального достояния последнего тысячелетия (которое впервые можно охватить взглядом), выделяя из него один или два составных элемента, ценных для него, поскольку он, как ему кажется, способен их понять. Именно так ныне исполняется и воспринимается музыка: во всем музыкальном наследии последнего тысячелетия мы выделяем только эстетический аспект, из него черпаем наше наслаждение. Просто выбираем ту часть, которая “прекрасна” и ублажает наш слух, при этом не принимая во внимание, что таким образом окончательно упрощаем музыку. Или нас вовсе не интересует, что в поисках “прекрасного”, которое во всей проблематике произведения является лишь малой частью, оставляем в стороне его суть?
Тут мы подошли к следующим вопросам. Какое место должна занимать музыка в нашу эпоху? Возможно ли ее преобразование? Целесообразны ли попытки каких-либо изменений? Действительно ли настолько фальшива та роль, какую музыка сейчас играет в нашей жизни? На мой взгляд, ситуация тревожная, и если не удастся ее исправить, чтобы наше слушание музыки, наша потребность в ней и наша музыкальная жизнь снова стали единым целым (в современной музыке это могло бы состояться при условии уравновешенности спроса и предложения, а в старинной музыке, классической — путем нового способа ее понимания), — крах неизбежен. Мы останемся лишь хранителями музея и сможем демонстрировать лишь то, что существовало когда-то; не думаю, что найдется много музыкантов, которых бы такая перспектива привлекала.
Теперь — о роли музыкантов. В средневековье существовало точное разделение на теоретиков, практиков и “целостных” музыкантов (“Gesamt” Musiker — нем.). Теоретиком был тот, кто знал закономерности музыки, но сам не музицировал. Не умел ни играть, ни сочинять, однако теоретически знал, из чего она состоит и как возникает. У современников теоретик пользовался незаурядным уважением, тем паче, что теория музыки трактовалась как самостоятельная наука, для которой реально звучащая музыка была просто безразлична (определенные остатки этой концепции еще до сих пор можно встретить среди музыковедов). А практик не имел никакого понятия о теории, но тем не менее умел музицировать. Его понимание музыки было инстинктивным; даже если он не мог ничего теоретически выяснить, даже если ничего не знал об исторических взаимосвязях, в любой момент был готов исполнять нужную музыку. Проиллюстрируем это на практике языка: лингвист понимает и исследует историю и структуру языка, человек же из народа не имеет о том никакого понятия, но может на этом языке, своего времени, хорошо и понятно общаться. Такой же была ситуация для певца или инструменталиста в течение 1000 лет западноевропейской истории: он не знает, но может, понимает, не зная.
Наконец, существовал совершенный музыкант, являющийся одновременно и теоретиком, и практиком. Он понимал и знал теорию, которая для него не была изолированным самодовлеющим, оторванным от практики знанием, мог сочинять и исполнять музыку настолько, насколько знал и понимал все ее взаимосвязи. Он пользовался в обществе большим уважением, нежели теоретик или практик, ибо владел всеми формами теоретических знаний и практики исполнительства.
Какая ситуация ныне? Сегодняшний композитор, бесспорно, музыкант в этом, последнем, значении. Владеет и теоретическими и практическими знаниями; единственное, чего ему недостает, — живого контакта с аудиторией, людьми, которым требуется его музыка. Сейчас почти отсутствует потребность в новой музыке, рождающейся собственно для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Практик, или музыкант-исполнитель, в принципе, остается таким же односторонним, как и в предшествующие века. Прежде всего его интересует исполнение, техническое совершенство, непосредственное признание или успех. Он не создает музыку, удовлетворяясь ее воспроизведением. Из-за отсутствия единства между эпохой и исполняемой музыкой, ему не хватает стихийного понимания последней, свойственного давним музыкантам-практикам, исполняющим произведения исключительно своих современников.
Наша музыкальная жизнь — в катастрофическом состоянии: везде есть оперные театры, симфонические оркестры, концертные залы, предложений для публики предостаточно. Однако играем там музыку, которую не понимаем, ибо предназначалась она для людей совсем другой эпохи. В этой ситуации сильно удивляет, что мы вообще не замечаем проблемы, считая, что здесь нечего понимать, поскольку музыка обращается непосредственно к душе. Каждый музыкант жаждет красоты и эмоций; это стремление естественно для него и является основой его самовыражения. Сведения о разрыве между музыкой и эпохой его не интересуют, да и не могут интересовать, поскольку он не осознает их значения. Результат: исполнитель представляет музыку в сугубо эстетических и эмоциональных категориях, игнорируя все иное ее содержание. Эта ситуация еще ухудшилась вследствие выпестованного в XIX столетии идеального образа артиста: романтизм сделал из него этакого сверхчеловека, который благодаря интуиции постигает таинства, недоступные простым смертным. Артист становился почти полубогом, начинал верить в свою исключительность и позволял поклоняться себе. Этот “полубог” — удивительный продукт романтической эпохи. Обратите внимание на фигуры Берлиоза, Листа или Вагнера, которые идеально соответствовали своему времени. И если Вагнеру на самом деле целовали полу халата, это в его время было совершенно нормальным. Образ артиста, появившийся в ту декадентскую эпоху, и в дальнейшем оставался в той же, словно окаменевшей, форме, как и многие другие вещи того столетия.
И вот вопрос: каким, собственно, должен быть артист? Ответ обусловлен тем, как ныне следует понимать музыку. Если музыкант действительно хочет взять ответственность за все музыкальное наследие — настолько, насколько оно может быть для нас интересным не только с эстетической и технической сторон, — он должен овладеть необходимыми знаниями. Этого не избежать. Музыка прошлого как целостность осталась для нас иностранным языком — оттого, что история постоянно в движении, отдаленность музыки от настоящего увеличивается, но отдаляется она и от своего времени. Отдельные аспекты могут иметь универсальную и вневременную ценность, но закодированная в музыке информация связана с эпохой и может стать понятной другим только тогда, когда получит хотя бы подобие объяснения. Если старинная музыка (в широком значении этого слова) еще вообще актуальна для современности, если она может возвратиться к жизни со всем тем, что ей свойственно — или, по крайней мере, со значительно более богатым содержанием, чем то, какое ей ныне обычно приписывается — это означает, что нужно заново научиться понимать эту музыку, в соответствии с присущими ей закономерностями. Мы должны знать, о чем она повествует, чтобы понять то, что можем выразить ее средствами. Итак, прежде всего знания, а к ним прибавляется чистое ощущение и интуиция. Без таких исторических знаний музыка прошлого, или так называемая “серьезная” музыка, не может быть адекватно интерпретированной.
Если говорить об образовании музыкантов, то раньше это происходило так: музыкант обучал учеников своей специальности, ибо отношение “мастер — ученик”, которое испокон веков существовало в ремесленничестве, было обязательным и в музыке. Чтобы овладеть каким-либо из ее видов, обращались к определенному мастеру, чтобы при нем обучиться его “специальности”. Учение касалось прежде всего техники композиции и игры на инструментах; к этому прибавлялась риторика (наука о законах выразительности), благодаря которой музыка могла говорить. Постоянно провозглашалось, особенно в музыке периода барокко (где-то с 1600 года до последних десятилетий XVIII ст.), что музыка является языком звуков. Речь — о диалоге, о драматическом обмене мыслями. Поэтому мастер посвящал ученика в тайны и все тонкости своего искусства. Учил не только игре на инструменте или пению, а также исполнению музыки (интерпретации). Эти естественные отношения не порождали проблем; стилистическая эволюция совершалась постепенно из поколения в поколение и обучение не требовало переучивания, а было просто органическим развитием и преобразованием.
В этой эволюции было несколько значительных переломов, которые поставили под сомнение отношения “мастер — ученик” и внесли в них изменения. Одним из таких переломов стала Французская революция. В большом перевороте, осуществленном ею, видим также принципиально новую функцию не только всего музыкального образования, но и музыкальной жизни. Система заменила отношения “мастер — ученик” новым учреждением — Консерваторией. Ее идею можно охарактеризовать как политико-музыкальное воспитание. Сторонниками Французской революции стали почти все музыканты. Пришло осознание, что через искусство, а в особенности через музыку, которая оперирует не словами, а лишь “волшебными напитками”, возможно влиять на людей. Несомненно, о политическом использовании искусства для явного или скрытого навязывания обывателям или подданным какой-то доктрины известно давно, тем не менее это никогда не проводилось так систематически.
Во французском методе, обработанном до мельчайших деталей с целью унификации музыкального стиля, велась речь о подчинении музыки общей политической концепции. Теоретический принцип такой: музыка должна быть настолько простой, чтобы стать понятной любому (правда, употребление слова “понятная” уже не соответствовало действительности); музыка должна умилять, захватывать, убаюкивать... независимо от образованности слушателя; она должна стать “языком”, который понял бы каждый, ему не обучаясь.
Подобные требования стали нужны и вообще возможны лишь потому, что музыка предшествующего времени обращалась прежде всего к “просвещенным” людям или к тем, кто знал ее язык. В странах Запада музыкальное образование всегда было важной частью воспитания. Когда же традиционное музыкальное образование устранили, то исчезло и элитарное сообщество музыкантов и просвещенных слушателей. Теперь музыка должна была обращаться ко всем: если слушатель не разбирался в музыке, надо устранить из ее языка все то, что требовало понимания. Композиторы должны были писать музыку, напрямую обращаясь к чувствам простейшими и наиболее доступными средствами. (Философия говорит так: если искусство лишь нравится — это означает, что оно предлагается уже только невеждам).
В соответствии с этой концепцией, Керубини в Консерватории положил конец давнишним отношениям “мастер — ученик”. Он поручил наибольшим тогдашним авторитетам написать учебники, которые должны были ввести в музыке новый идеал “egalite” (равенства). В этом духе Байо (Baillot) обработал свою “Скрипичную школу”, а Крейцер (Kreutzer) написал Этюды. Ведущие французские педагоги должны были воплотить новые музыкальные идеи посредством жесткой системы обучения. Технически речь шла о том, чтобы заменить рассказ зарисовкой. Таким образом начало развиваться sostenuto, длинная мелодическая линия, современное legato. Конечно, длинная мелодическая линия существовала и ранее, но она всегда состояла преимущественно из маленьких кирпичиков. Революцию в образовании музыкантов провели настолько радикально, что несколько десятилетий спустя во всей Европе начали учить музыке по системе Консерватории. На мой взгляд, совершенно гротескно, что и ныне эта система служит основой нашего музыкального воспитания! Так было уничтожено все, имевшее прежде глубокий смысл.
Интересно, что убежденным сторонником нового искусства музицирования стал и Рихард Вагнер. Дирижируя как-то оркестром Консерватории, он восторгался тем, что смена движения смычка вверх и вниз осуществляется неуловимо, что мелодическая линия приобретает широкое дыхание и что посредством этого с помощью музыки можно как бы рисовать. Потом часто повторял, что такого legato никогда не достигал с немецкими оркестрами. На мой взгляд, этот метод действительно хорош для музыки Вагнера и в то же время просто губителен для домоцартовской музыки. Короче говоря, современный музыкант получает образование, которого по сути ни сам ученик, ни его учитель не осознают. Он учится лишь по методике Байо и Крейцера, которая была приемлема для тогдашних музыкантов, и приспосабливает ее к музыке абсолютно других времен и стилей. Сейчас музыкантов учат, повторяя без переосмысления все теоретические основы, которые были уместны двести лет назад и которых сейчас уже никто не понимает.
Теперь, когда старинная музыка стала актуальной (хотим того или нет), музыкальное образование должно быть абсолютно другим, опираться на другие принципы. Нельзя ограничивать обучение лишь тем, в каком месте положить палец, чтобы получить определенный звук, или как достичь сноровки пальцев. Образование, направленное лишь на усовершенствование техники, готовит не музыкантов, а обычных акробатов. Брамс как-то сказал: чтобы стать хорошим музыкантом, надо чтению посвятить столько же времени, как и упражнениям за инструментом. Собственно, в этом суть дела и сегодня. Ныне мы исполняем музыку почти четырех столетий, следовательно, должны — в отличие от музыкантов прошлых эпох — учиться наиболее соответствующим способам исполнения для каждого типа музыки. Скрипач, владеющий совершенной техникой, обученный на образцах Паганини и Крейцера, не может ощущать себя готовым к игре Баха или Моцарта. Для этого он должен совершить определенные усилия — сызнова осмыслить и усвоить технические основы и содержание “повествующей” музыки XVIII века.
Это только одна сторона проблемы. Необходимо также склонить к значительно более широкому пониманию музыки и слушателя, который все еще, не осознавая того, остается жертвой инфантилизации, доставшейся в наследство от Французской революции. Красота и чувство являются для него, как и для большинства музыкантов, едиными составляющими, к которым сводится восприятие и понимание музыки. На чем основывается подготовка слушателя? На музыкальном образовании, полученном в школе и той концертной жизни, в которой он принимает участие. Но даже тот, кто не получил никакого музыкального образования и никогда не ходил на концерты, в какой-то мере просвещен музыкально, ибо в западном мире нет людей, которые бы не слушали радио. Звуки, ежедневно “заливающие” слушателя, просвещают его музыкально, подсознательно прививая понятия о ценности и значении музыки — положительные или отрицательные.
Еще один аспект, касающийся публики: на какие концерты мы ходим? Только на такие, где исполняется уже известная нам музыка. Это может подтвердить любой организатор концертов. Из различных предложенных программ слушатель выберет знакомую, что объясняется нашими слушательскими привычками. Тем не менее, если произведение и его развитие задумано так, что может ввести слушателя в состояние восторга и подъема, а иногда даже потрясения, то предпосылка здесь в том, что публика этого произведения не знает и будет слушать его впервые. Тогда композитор вместо того, чтобы оправдать наши ожидания, может внезапно шокировать нас, например, заменяя нормальную каденцию прерванной; тем временем прерванная каденция, о которой мы уже знаем, не будет именно таковой. Существует бесконечное множество таких средств, музыка их использует, чтобы через неожиданности и удивление вести слушателя к пониманию и переживанию, которые соответствуют идее произведения. Но сегодня неожиданность и шок почти исключены: слушатель классической симфонии, в которую композитором помещены сотни таких неожиданностей, уже за два такта перед соответствующим местом готовится услышать “как это сейчас будет исполнено”. Проще говоря, эту музыку уже нельзя исполнять, ибо она уже настолько известна, что не может нас ни захватить неожиданно, ни шокировать, ни очаровать - разве что лишь качеством исполнения. Тем не менее для нас ее привлекательность не стареет, поскольку и не ждем уже, что она будет пленять и удивлять; мы только хотим еще и еще черпать из нее наслаждение и сравнивать, кто и как ее исполняет. Какое-то “замечательное место” может показаться нам еще более прекрасным, а какое-то замедление — еще более или же, однажды, менее медленным. Такими сравнениями мелких исполнительских отличий и исчерпывается наше слушание музыки, в котором достигаем до примитивности смешного уровня восприятия. Наше стремление к частому прослушиванию любимого произведения — в прошлом абсолютно чуждое тогдашним слушателям — достаточно выразительно показывает основное различие между слушательскими привычками вчера и сегодня. Убежден — сейчас нет почти никого, кто захотел бы слушать новые произведения вместо хорошо знакомых. Мы — будто дети, которые хотят, чтобы им рассказывали одну и ту же сказочку, поскольку храним в памяти приятные впечатления первого прослушивания.
Если нам не удастся заново пробудить интерес к тому, чего еще не знаем (хоть давнему, хоть новому), если не удастся заново открыть значение влияния музыки на наш дух и тело, то любое музицирование потеряет свой смысл. Это бы означало бесполезность работы великих композиторов, наполняющих свои произведения музыкальным содержанием, которое сейчас нам ни к чему и которого не понимаем. Если бы они вкладывали в произведение только единственно для нас что-то значащую красоту — это стоило бы им значительно меньших усилий, времени и работы.
Техническое совершенство не является самодовлеющим. Кажется, следует снова начать учить музыкантов языку или, собственно, многим языкам, присущим разнообразным музыкальным стилям, и одновременно воспитывать слушателей так, чтобы они тоже понимали эти языки, и тогда наконец уйдут в прошлое и бессмысленно-эстетское музицирование, и монотонность концертных программ. (Или эти несколько произведений, которые играются от Токио до Москвы и Парижа, составляют квинтэссенцию западной музыки?) В результате исчезнет разделение музыки на развлекательную и “серьезную”, а также ее несоответствие собственной эпохе. Культурная жизнь снова обретет свое единство. Такой должна быть цель музыкального образования в наше время. Тем более, что существует уже много соответствующих учреждений, которые несложно переформировать, изменить их задачи, наполнить новым содержанием. То, чего удалось достичь Французской революции через программу Консерватории (радикальной перестройки музыкальной жизни), станет возможным и в наше время при условии, что мы будем убеждены в необходимости такой перестройки.
Проблемы нотации
Каким образом композитор увековечивает свои замыслы и желания? Как старается передать их своим современникам и потомкам? Вот вопросы, с которыми постоянно сталкивается каждый музыкант. Мы постоянно замечаем, что композиторы — имея ограниченные возможности, давая более или менее точные указания — стараются избегать чреватой многозначности. Каждый композитор начинает со временем пользоваться индивидуальной нотной записью, которую нельзя расшифровать без знания исторического ее контекста. И вдобавок, до сих пор распространен абсолютно ошибочный взгляд, будто нотные знаки, словесные обозначения аффекта и темпа, равно как и динамические указания, имели всегда то же значение, что и теперь. Причина в том, что на протяжении столетий музыка записывается с помощью одних и тех же графических знаков. Тем не менее, нотное письмо не является интернациональным и вневременным методом записи, действующим в течение веков: вместе со стилистической эволюцией в музыке, развитием мышления композиторов и исполнителей изменялось также и значение разнообразных знаков нотного письма. В расшифровке их содержания могут помочь трактаты, дидактические работы или параллели между музыкой и словом, хотя, опираясь только на них, мы также рискуем совершить ошибку. Итак, нотное письмо является исключительно сложной системой шифра. Каждый, кто хотя бы раз попробовал выразить с помощью нотной записи некую музыкальную мысль или ритмическую структуру, знает, что сделать это сравнительно легко. Но если попросить какого-либо музыканта сыграть записанное, убеждаешься, что звучит не совсем то, что задумано.
Таким образом, имеем нотное письмо, которое должно нас информировать как об одиночных звуках, так и о развитии целых произведений. Однако каждый музыкант должен осознать, что оно довольно несовершенно и заключенную в нем информацию не удается передать достоверно. Нотное письмо не дает нам ни одного указания относительно продолжительности звука, его высоты или темпа, ибо технические параметры такой информации нельзя передать с помощью музыкальной нотации. Продолжительность одной ноты можно было бы подробно передать с помощью единицы времени, высоту звука — точно выразить через частоту колебаний, а неизменный темп — обозначить с помощью метронома, но в музыке ничего наподобие неизменного темпа не существует.
Не удивительно ли, что такие совершенно разные по стилю и характеру произведения, как, например, опера Монтеверди и симфония Густава Малера, записаны с помощью одной и той же нотации? Если мы осознаем принципиальное различие между отдельными типами и видами музыки, тем более странным кажется тот факт, что одни и те же нотные знаки употребляются где-то с 1500 года, хотя эпохи и музыкальные стили очень различаются между собою.
Несмотря на идентичность графических знаков, можно выделить два принципиально различных способа их трактования:
1. Предметом записи есть произведение, то есть композиция, однако нотация не дает сведений относительно тонкостей его воспроизведения;
2. Предметом записи есть исполнение; при этом нотация становится сборником исполнительских указаний.
Итак, она показывает не форму и структуру композиции (как в первом случае), ключ к воспроизведению которых надо искать в другой информации, а лишь по возможности точно информирует о способе исполнения: необходимо играть так и так — произведение, так сказать, само собою родится во время исполнения.
До 1800 года музыку в основном записывали в соответствии с первым способом — как произведение, а в дальнейшем — в соответствии со вторым, как указания для игры. Тем не менее существует много исключений — например, табулатурная нотация для определенных инструментов, которая уже в XVI и XVII в. была записью не произведения, а лишь способа исполнения. Табулатуры подробно предписывали, как расположить пальцы на ладках и когда щипнуть струну (скажем, лютни) — таким образом, музыка возникала в процессе живого исполнения. Если просматривать такую табулатуру, невозможно представить звучание, а перед глазами имеешь только приемы — это крайний случай нотации как исполнительских указаний. В произведениях, написанных после 1800 года нормальным нотным письмом, понимаемым как совокупность исполнительских указаний (например, у Берлиоза, Рихарда Штрауса и многих др.), дается по возможности точный звуковой образ; музыка рождается только при неукоснительном исполнении написанных нот и соблюдении всех дополнительных указаний.

Итальянская лютневая табулатура. 1507 г.
Если же мы хотим играть музыку, созданную до 1800 года, где предметом нотной записи было произведение, — нам будет не хватать точной “инструкции к применению”. Чтобы ее получить, надо обратиться к другим источникам. Вообще этот вопрос поднимает еще и серьезную педагогическую проблему, поскольку в основном сперва учат читать ноты, а уж после — вникать в содержание музыкальной материи; считается очевидным, что нотное письмо служит всей музыке, и никто не говорит ученикам, что музыка, возникшая перед тем условно граничным 1800 годом, прочитывается иначе, чем родившаяся позже. Очень слабым, как среди педагогов, так и среди учеников, есть понимание того, что в одном случае имеем дело с уже представленным способом игры, а в другом — с композицией, записанной абсолютно иным способом. Два различных способа интерпретации одного и того же нотного письма — считаемого записью произведения или инструкцией к исполнению — должны быть разъяснены каждому ученику уже с самого начала его теоретического, инструментального или вокального обучения. Иначе он в обоих случаях будет играть или петь то, что “написано в нотах” (учителя чаще всего этим высказыванием формулируют свои требования), и не сможет правильно воссоздать нотную запись, предметом которой есть произведение.
Возможно, проще удастся объяснить это явление с помощью понятия орфографии — музыкального “правописания”, обоснованного наукой о музыке, теорией музыки, гармонией. Оно обуславливает определенные особенности нотации — например, часто не записываются задержания, трели и аподжиатуры, что обычно раздражает тех, кто считает, будто музыку нужно играть так, как она записана. Или не обозначены мелизмы: если их записать, то будет ограничено творческое воображение исполнителя, а оно-то как раз и необходимо для свободной орнаментации. (В XVII и XVIII веках ловкий исполнитель Adagio свободно импровизировал мелизмы, которые соответствовали содержанию произведения и углубляли его выразительность).
Просматривая любые давние ноты, стараюсь увидеть в них прежде всего произведение и установить, как следует его прочитывать, пытаюсь определить, что тогда означали данные ноты для музыканта. Нотация того времени — когда записывалось произведение, а не способ игры — требует от нас тех же знаний, которыми владели тогдашние музыканты.
Рассмотрим очевидный для современных музыкантов пример — венскую танцевальную музыку XIX столетия, польку или вальс Иоганна Штрауса. Композитор старался записать в нотах необходимое, на его взгляд, оркестрантам, сидящим перед ним; последние же, в свою очередь, совершенно точно знали, что такое вальс или полька и как следует их исполнять. А если бы дать эти ноты музыкантам, лишенным таких знаний и строго играющим лишь записанное в нотах, получилась бы совершенно иная музыка. Такого типа танцевальную музыку не удается записать точно так, как она должна исполняться. Часто какой-нибудь звук нужно сыграть чуть раньше или позже, немножко длиннее или не так коротко, как это видно из записи и пр. Если же эту музыку сыграть точь-в-точь, как она записана, даже с метрономической точностью, результат не имел бы ничего общего с намерениями композитора.
Если уж прочтение партитур Иоганна Штрауса ставит перед нами такие проблемы (хотя традиция их исполнения никогда не прерывалась), то что говорить о проблемах исполнения музыки, традиции которой были полностью забыты, и уже неизвестно, как она исполнялась при жизни ее автора. Представим себе, что произведения И.Штрауса не исполнялись лет сто, а потом их “открыли” и как интересную музыку заново исполнили. Лучше и не представлять, как бы это звучало! Подобное случилось, по моему мнению, с великими композиторами XVII и XVIII в., чья музыка не связана с нами непрерывной традицией, поскольку их произведения не звучали уже на протяжении столетий. Нет никого, кто мог бы убедительно объяснить, как нужно трактовать такую музыку и подходить к деталям исполнения.
Конечно, на эту тему достаточно информации в первоисточниках, но каждый прочитывает в них лишь то, что он сам себе воображает. Если, например, в текстах первоисточников читаем, что каждая нота может сокращаться наполовину своей записанной длительности, то это можно истолковать так, будто каждая нота удерживается лишь половину своей длительности. Но это можно понять и иначе, поскольку существует давнее правило: каждый звук должен заканчиваться замиранием. Тон возникает и исчезает — как звук колокола — “угасая”, и невозможно почувствовать, в какой точно момент он заканчивается, поскольку в воображении слушателя он существует и в дальнейшем, а это воображение не удается отделить от непосредственного слухового впечатления. Поэтому нотные длительности не удается точно очертить. Звук можно трактовать как ноту, выдержанную до конца, но также и как значительно сокращенную ноту, в зависимости от того, принимается ли во внимание представление слушателя о продолжительности звука или нет.
Кроме того, бывают случаи, когда буквальное соблюдение нот технически или музыкально невозможно; они указывают по крайней мере на то, что нотация и практика исполнения часто различаются между собою. Это отчетливо видно при аккордовой игре на смычковых инструментах (по технической причине невозможно удерживать все ноты) или если играешь на инструменте, который не позволяет выдерживать ноту в ее полной продолжительности (фортепиано, клавесин или любые щипковые инструменты). На клавесине или же лютне просто невозможно услышать длительность звучащей ноты: слышим лишь начало звука, который быстро угасает — остальное дополняет воображение; реальный же звук исчезает. Тем не менее это исчезновение не означает, что звук перестает существовать, — мы слышим “внутренним слухом”, пока его не оттеснит начало следующего звука.
Если бы этот звук длился с постоянной силой и в дальнейшем, терялась бы звуковая прозрачность композиции, а появление следующего звука становилось бы менее явственным. Подобное часто слышим на органных концертах (на этом инструменте теоретически каждый звук может быть выдержан именно так долго, как того требует запись). Реальность (длящийся звук) не лучше воображения (иллюзии того звука); наоборот, в определенных обстоятельствах эта реальность может даже препятствовать восприятию целого. Довольно отчетливо это можно наблюдать в “Искусстве фуги” И.С.Баха: все фуги, где тема выступает в увеличении, более выразительны на клавесине, чем на органе, хотя на органе можно выдерживать любые длинные звуки. На скрипке, например, не существует такого четырехзвучного аккорда, в котором удалось бы удержать все четыре голоса на протяжении целого такта, ибо если переходят на струну “ми” — от более низкого звука на струне “соль” уже ничего не остается. Невозможно сыграть так, чтобы звуки такого аккорда зазвучали одновременно. Это означает, что в любом случае (так всегда и надо поступать) нотную запись следует трактовать как графический образ композиции, исполнение же — как ее музыкальное отражение, соответствующее техническим возможностям, а также способности восприятия слушателя. Иначе говоря, звуки аккорда будут исполняться не одновременно, а поочередно. Это касается смычковых инструментов, лютни, иногда также клавесина и фортепиано, если, например, аккорд превышает размер руки, или клавесинист не желает играть все звуки одновременно.
Итак, недостаточно выучить учебники и утверждать: каждая нота должна быть сокращенной, в каждом звуке существуют активная и пассивная части. Даже при буквальном соблюдении изложенных в тех учебниках правил значительная часть старинной музыки может звучать как примитивная карикатура. И результат, вероятно, будет более деформированным, нежели в том случае, когда музыкально способный, но недоученный исполнитель сыграл бы “вопреки канонам”. Правила, помещенные в давних трактатах, интересны для исполнительской практики лишь тогда, когда становятся понятными — или, по крайней мере, когда из них можно почерпнуть какой-либо смысл, независимо от того, понятно или нет их первоначальное значение.
Лично я очень скептически отношусь к возможности полного понимания прошлого. Надо постоянно иметь в виду, что все трактаты XVII или XVIII в. писались для их современников, и каждый автор знал, что его читатель имеет определенный объем самоочевидных сведений, которые не стоит упоминать в трактате. Не мы были адресатами этих поучений, а его современники. Все те ценные сведения откроют нам свое значение лишь тогда, когда мы будем обладать вышеупомянутыми знаниями. Итак, ненаписанное (само собой разумеющееся) оказывается важнее самого текста! Так или иначе считаю, что изучение первоисточников приводит к частым недоразумениям, и цитаты из появившихся в последние годы их публикаций никогда не должны служить доказательством, ведь с помощью вырванных из контекста цитат можно настолько же легко доказать противоположное. Итак, я хотел бы прежде всего предостеречь от переоценки наших возможностей исторического понимания музыки. Лишь когда раскроем смысл давних поучений и предписаний, станет логичной музыкальная интерпретация, руководствующаяся этими правилами.
Сведения, известные нам на сегодняшний день, получены из ряда трактатов XVII—XVIII вв. Если кто-то познакомится хотя бы с одним источником такого типа, например, “Школой игры на флейте” Кванца, сразу вообразит, будто уже многое узнал. Далее попадется ему другой подобный источник, и в нем обнаружатся положения абсолютно иные, даже противоположные. Когда имеешь дело с работами нескольких авторов, то открывается много разногласий в подходах к аналогичным проблемам, и лишь при сравнении большого количества источников, обнаруживается, что разногласия эти сугубо надуманные. Исподволь начинаешь все видеть в соответствующих измерениях. Если сопоставить разные взгляды, выраженные в этих источниках, можно точно заметить тенденции, которым отдавали предпочтение отдельные авторы. Музыка и исполнительская практика были когда-то отнюдь не однородными. Один автор следовал традициям предков и его вкусы были определены прошлым. Другой — описывал музыкальные обычаи некоего региона или был энтузиастом какого-то новейшего направления. Все это относительно легко заметить, сравнивая источники. Мы убеждаемся, что обычное, общеупотребительное и для всех очевидное в этих текстах вообще не упоминается. Запись появляется преимущественно лишь тогда, когда живой тогдашней традиции начинает угрожать небытие или когда какой-нибудь почитатель уходящей из обихода традиции стремится замедлить ее исчезновение со сцены истории. Прекрасным примером тому служит “Defense de la basse de viole” Юбера Леблана (Hubert Le Blanc). Конечно, случались авторы, желавшие внедрить какую-нибудь новинку и готовые за нее “идти на баррикады”, как, например, Муффат, который под занавес XVII в. хотел распространить новейший французский стиль вне Франции. Он старался подытожить важнейшие признаки этого стиля для того, чтобы ознакомить с ними музыкантов, не имевших о них надлежащих знаний. Следует также обращать внимание на стилистическое соответствие источников: например, если играть произведение 1720 года в соответствии с правилами 1756 года, то ничего толкового не получится. Все подобные сведения надо рассматривать в контексте и каждый раз оценивать и анализировать заново.
Пример Иоганна Штрауса, приводимый ранее, уместен потому, что его музыка и сейчас играется в Вене с надлежащими традициями исполнения и в соответствии с намерениями композитора. Старшие из местных музыкантов еще сталкивались в юности с людьми, которые играли под руководством Штрауса. Здесь исполнители невольно ощущают — особенно не задумываясь — как в динамике раскладываются свет и тень; где играть коротко, а где длинно; как придать музыке специфический танцевальный характер, словом, знают, в чем заключается юмор. Всего этого недостает нам в старинной музыке, ибо мы не располагаем непрерывной традицией; выводы относительно темпа и незаписанных интерпретационных тонкостей мы можем сделать, исходя лишь из описаний, сохранившихся в источниках. Наши знания о старинных танцах, из которых можно было бы узнать кое-что о темпах, недостаточны, поскольку не имеют опоры в чисто физическом их ощущении. Если же мы знаем правила танцевальных шагов, то можем легко перенести их на музыку. Это дает нам конкретную, физически ощутимую возможность интерпретации записи. Танцы, опирающиеся на общеизвестные, постоянные ритмы и темпы, которые можно относительно легко реконструировать, должны трактоваться как важнейший источник информации о способах исполнения, темпах и различных акцентах.
Во всей прочей музыке основной ритм, темп и акценты можно понять из обозначений тактового размера и тактовых черточек, в начале XVII столетия имевших только ориентировочное значение. Они размещались “где-нибудь” (по крайней мере мне не удалось найти какой-либо смысл). Только в течение XVII в. тактовые черточки начали использовать “правильно” — в соответствии с нашими понятиями; с того времени они дают нам очень важные указания относительно акцентов. Благодаря этим указаниям иерархия акцентов, пришедшая из языка и, несомненно, существовавшая уже раньше, стала реальной системой. Для музыки XVII—XVIII вв. она была и есть чуть ли не самым важным и самым основным элементом, следовательно дальше я постараюсь изложить это подробнее. В ней находит свое отражение что-то очень естественное, а именно (объясняя упрощенно): после сильной доли такта, в соответствии с законами речи, наступает слабая, а после тяжелой — легкая. Отражается это и в игре. По той же причине музыкальные инструменты, например, смычковые, сделаны таким образом, что переход с форте на пиано, изменение сильного и слабого, тяжелого звука на легкий может выполняться естественно и легко. В особенности, если используем барочный смычок, — протягивание его вверх вызывает звук более слабый, чем вниз. Итак, сильные доли такта (то есть при 4/4 — “раз” и “три”) принципиально должны играться движением книзу. Для духовых инструментов существует целая палитра атак, благодаря которым можно достичь аналогичного различия, в игре на клавишных инструментах подобную функцию выполняет позиционная аппликатура (или аппликатурная группировка).
Нынешним инструменталистам часто кажется, будто желаемого можно достичь иными способами; в большинстве случаев это действительно так, поскольку движение смычка вверх тоже можно сакцентировать — но в обратном движении это выходит более естественно. Думаю, что и сегодня надо следовать сначала этим естественным путем, а иных способов исполнения искать уже тогда, когда первый перестанет удовлетворять. Проблема не нова: Леопольд Моцарт в своей “Школе игры на скрипке” указывал, что каждый акцент должен быть исполнен движением смычка вниз, в то же время Джеминиани утверждал, что надо также приобрести навыки исполнения акцентов другим способом.
В музыке минувших эпох существовали правила, писаные и неписаные, знание которых для тогдашних музыкантов было само собой разумеющимся, от нас же открытие этих правил требует определенных усилий. Одно из них провозглашало: диссонанс должен акцентироваться, а его разрешение должно, затухая, тесно к нему прилегать. Немало музыкантов — даже тех, кто много занимается старинной музыкой, — легкомысленно относятся к этому важному и очень естественному правилу, теряя таким образом возможность обнаружить выразительные акценты, расставленные композиторами именно посредством соответствующего размещения диссонансов — часто в нетипичных местах. Таким образом, иногда надо акцентировать четвертую слабую долю такта, тогда как затухающее разрешение диссонанса приходится на обычно акцентированную первую. Это очень существенное смещение ритма ныне, к сожалению, большинством музыкантов полностью нивелируется.
Еще одним примером различного интерпретирования современной и былой нотации может служить способ, которым обычно читаются и исполняются ныне (в отличие от XVIII в.) пунктирные ноты. Общепринятый сейчас принцип состоит в том, что точка удлиняет ноту точно на половину ее длительности, а следующая за ней короткая нота имеет точно такую же длительность, как и точка. В существующей нотации нет дифференцированных способов показать безграничные возможности исполнения пунктирных ритмов — от нот почти равных длительностей к очень острому пунктированию; на нотной бумаге все пунктирные ритмы похожи, независимо от их значения. Однако уже доказано и известно из многочисленных трактатов разных эпох, что существует практически безграничное количество вариантов исполнения пунктирных ритмов, свидетельствующих, прежде всего, об обострении пунктира; иначе говоря, короткую ноту после точки часто следовало играть не в “присущий” момент, а чуть ли не в последний миг. Распространенное ныне соотношение длительностей 3:1 раньше использовалось лишь в исключительных случаях.
В “новейших” интерпретациях часто прослеживается скрупулезный подход к продолжительности нот (или по крайней мере к тому, что понимается под этой продолжительностью), и ноты с точкой исполняются с почти математической точностью. Причина того, что ритмической точности уделяется такое внимание, естественна и объяснима — склонность музыкантов к недостаточно точному исполнению ритма, поэтому дирижер вынужден требовать хотя бы более или менее точной реализации записи.
Относительно артикуляционных знаков — наподобие лиг или точек — часто также возникают недоразумения; тот факт, что до 1800 года они имели другое значение, чем в более позднее время, известен не всем, следовательно, это различие не всеми принимается во внимание. За точку отсчета мы принимает преимущественно музыку XIX в., которая, внедряя автобиографическую концепцию музыкального произведения, радикально ограничила исполнительскую свободу. Детали исполнения записывались более чем подробно; каждый нюанс, мельчайшее “ritenuto”, малейшее изменение темпа — все это было обозначено. Поскольку относительно динамики, темпа и фразировки нотация не представляла уже никаких проблем, музыканты с рабской покорностью привыкли превращать нотный текст в звуки со всеми этими указаниями. Такой способ чтения нот и исполнения музыки закономерен для произведений XIX—XX ст., но абсолютно ошибочен для барочной и классической музыки. Тем не менее — очевидно, вследствие незнания — его применяют и здесь (причем в музыке любого типа и стиля). Результат более чем неверный (и притом фальшивый), ибо музыканты эпохи барокко исходили совсем из иных предпосылок, нежели современные. Музыкальная нотация XVIII в., исключая пару указаний относительно темпа и его изменений, почти совсем не предусматривала нюансов и не заключала в себе никаких знаков фразировки и артикуляции. Когда в XIX веке стали издавать старинную музыку, ее дополняли указаниями, которых “недоставало”. Поэтому в тех изданиях можно найти, например, длинные лиги, которые объединяли целые фразы, сильно перекручивавшие “язык” произведений и переносившие их, так сказать, в XIX век. Во всяком случае, было известно — лиги должно дополнить.
Еще большее недоразумение возникло в первой половине XX века вместе с волной так называемого аутентизма — старинные ноты были очищены от дополнений, сделанных в XIX веке, и произведения, естественно, стали исполнять тоже в очищенном виде. При этом придерживались взглядов XIX века, в соответствии с которыми по возможности все, что желал композитор, должно находиться в нотах — и наоборот: чего не было в нотах, то считалось нежелательным и расценивалось как своевольная вставка. Но композиторы эпохи барокко и классицизма не могли придерживаться правил, которых тогда еще не существовало. Для них решающее значение имели правила артикуляции, о которых — позднее. Эти правила тесно связаны с проблематикой нотации, так как обуславливают способ исполнения, который лишь изредка записывался в нотах и был отдан на усмотрение и вкус исполнителя. Это, кстати, очень ясно формулирует Леопольд Моцарт: “Не достаточно играть эти группы нот, просто используя указанные штрихи: надо исполнять их таким образом, чтобы изменение движения смычка сразу улавливалось ухом... Следует не только обращать внимание на записанные и указанные объединения звуков (лигатура), а также уметь, в соответствии с хорошим вкусом, самим уместно применять легато и стаккато там, где они вообще не обозначены... Я очень огорчался, неоднократно слушая скрипачей, уже достаточно сформированных, которые исполняли очень простые пассажи абсолютно вопреки намерениям композитора”. Здесь, с одной стороны, речь идет о том, чтобы выразительно реализовать предусмотренную и записанную с помощью точек, черточек и лиг артикуляцию (причем голые приемы штриха и атаки здесь недостаточны, их должна подчеркнуть динамическая игра), с другой же стороны — о том, чтобы найти соответствующую артикуляцию там, где композитор не оставил никаких указаний.
Вопреки тем требованиям в большинстве случаев с некоторого времени исполняется “очищенный” текст, а живая и полная фантазии интерпретация барочной и классической музыки, исходя из такой позиции “верности произведению”, называется “романтизированной” и стилистически фальшивой.
Способ записи речитативов также ставит перед исполнителем важные вопросы. Хотелось бы прежде всего обратить внимание на различие между итальянским и французским речитативами. В обоих случаях имеем дело с проблемой перенесения мелодии и ритма человеческой речи на язык музыки. Итальянцы делают это с присущей им беззаботностью, передавая ритм речи очень приблизительно, и во всех случаях для облегчения правописания в метре 4/4. Акценты появляются там, где это возникает непосредственно из речи — то ли на первой, то ли второй, то ли четвертой доле такта, а линия баса крайне упрощена, записана крупными длительностями (при этом известно, что их следует играть исключительно как короткие длительности, что служит еще одним примером расхождения между записью и желательной звуковой реализацией). От певцов ожидается, что они будут использовать исключительно ритм разговорной речи, а не записанный в нотах.
Странная вещь: это требование, такое понятное, постоянно дискутируется при постановке оперы или обучении пению. Все известные мне источники делают акцент на полнейшей свободе исполнения речитативов, которые записаны в размере 4/4 только ради удобства. Тюрк писал в 1787 году: “Отбивание ритма в речитативах есть наиболее нелепой привычкой, (...) полностью противоположной выразительности, и выявляет большое невежество исполнителя”; Хиллер — 1774 год: “Певцу остается (...) свобода решения, хочет ли он декламировать медленно, быстро ли, единым критерием (...) должно быть содержание слов (...). Известно, что речитатив везде исполняется без оглядки на метр”. На эту же тему Карл Филипп Эммануил Бах писал: “Речитативы исполняются (...) не считаясь с метром, несмотря на то, что в нотах их разделено на такты”. Неустанно также призывали певцов, чтобы они в речитативах больше рассказывали, нежели пели. Нидт: “Этот стиль должен приближаться больше к речи, чем к пению”. Г.Ф.Вольф — в 1798: “Это должна быть музыкальная декламация, пение, больше напоминающее речь, нежели обычное пение”. Шайбе: “Нельзя, однако, сказать о речитативе, будто он является пением (...) — это скорее пропетая речь”. Также и Руссо в Энциклопедии говорил: “Самый лучший речитатив — такой, в котором пения как можно меньше” (такой тип речитатива появляется опять же в немецкой музыке).
В местах, где свободная декламация с ритмом разговорной речи должна заканчиваться, пишется “a tempo” или какое-нибудь похожее указание; это означает — предшествующий раздел должен исполняться не метрически, а свободно, и что с этого места следует снова придерживаться метра.
Свобода такого типа вообще не соответствует рациональному французскому духу. Потому Люлли — будучи итальянцем — вывел из патетической речи французских актеров своеобразный кодекс речевых ритмов, которые старались точно отразить с помощью нотации. При этом, естественно, встречаются сложные размеры — такие как 7/4, 3/4, 5/4, что для орфографии старинной музыки было абсолютно невозможным. Единственно правильной записью таких метров считали соединения тактов на два и на четыре, на два и на три, или на четыре и на три. Следовательно, писалось 4/4 или 2/2 или 3/4; такт 2/2 был ровно вдвое быстрее.

Рамо. “Кастор и Поллукс”
Именно поэтому во французском речитативе часто в пяти тактах встречаются пять разных размеров. Ведь из последовательности тактов 4/4, 3/4 и 2/2 можно получить метры 7/4, 6/4, 5/4, 4/4, 3/4. Эта система позволяла образовывать более сложные тактовые размеры, в которых подразумевалось, что alla breve (2/2) должно быть именно вдвое быстрее чем 4/4. Будучи более точной (в отличие от итальянской), учитывая склонность французов к порядку, система делала возможным удивительно выразительное скандирование текста. Наверное, нужно еще обратить внимание на определенный тип “стенографической” нотации. Выражаясь точно, цифрованный бас есть ничем иным, как “шпаргалкой” партитуры, которая показывает исполнителю гармоническую основу произведения. Всего, что может быть сыграно, запись не вмещает — это зависит уже от знаний и вкуса исполнителя. Французские оперы XVII и частично XVIII в., где-то вплоть до Рамо, как и значительная часть итальянских опер (в особенности венецианских), записывались указанным способом стенографически: исполнитель имел перед собой некое подобие эскиза произведения, где часто ограничивались лишь записью басовой инструментальной линии и вокальных партий. Во французских операх временами появляются указания относительно использования инструментов. Такой способ записи опер предоставляет исполнителю возможность значительной свободы инструментовки произведения, состав же оркестра зависел от условий и вкусов. С того времени сохранились обработанные оркестровые голоса, которые позволяют произвести нам интересные сравнения действительно исторических исполнений, существенным образом отличающихся друг от друга. Одна и та же опера была оркестрована однажды с трубами и валторнами, потом — исключительно струнным составом; каждый раз средние голоса совершенно разные: произведение является то лишь трехголосным, то количество голосов возрастает до пяти.
Подобные расхождения возникают из-за того, что композитор писал лишь крайние голоса, отдавая остальное на усмотрение исполнителя. К сожалению, сейчас невозможно выяснить, что в этом плане происходило в итальянской опере, поскольку сохранившиеся материалы XVII—XVIII вв. касаются преимущественно французских опер. Тем не менее, в обоих случаях были те же принципы. Существуют также итальянские партитуры, в которых нотные строки, предназначенные для инструментальных голосов, оставались незаписанными; в таких местах исполнитель мог сам заполнить оркестровые партии. Композитор вообще этого не делал, поскольку считал это прерогативой исполнителя. Таким образом, произведение и исполнение были существенно разделены. Творческая свобода интерпретаторов, благодаря которой каждое исполнение становилось одноразовым, неповторимым событием, нынешним исполнителям вообще неизвестна и категорически чужда. Чтобы снова исполнять эту музыку более или менее адекватным способом, следовало бы то огромное богатство сведений, которые когда-то были совершенно очевидными, снова активизировать и приблизить к нынешним музыкантам. И не только к так называемым “специалистам” старинной музыки. Даже если проблема стилистической адекватности — благодаря слишком многозначной нотации — останется уже навсегда нерешенной (хвала Богу!), мы постоянно будем пребывать в поисках истины, неутомимо открывая новые ипостаси казалось бы знакомых шедевров.
Артикуляция
Под понятием “артикуляция” подразумевают способ, искусство произношения разных гласных и согласных звуков. В соответствии с лексиконом Майера (1903), “артикулировать” — означает “расчленять, что-то очень точно произносить; четко отличать отдельные части от целого, в особенности звуки и слоги”. В музыке под словом “артикуляция” понимают объединение и разделение звуков: legato и staccato, а также их соединения, часто ошибочно именуемые “фразировкой”. С проблемой артикуляции мы сталкиваемся прежде всего в музыке барокко или — несколько шире — в музыке от 1600 до 1800 г., когда по своему естеству музыка была ближе к речи. Все теоретики того времени неоднократно подчеркивали существующее сходство музыки и речи; часто музыку называли “языком звуков”. Упрощенно можно сказать так: музыка до 1800 года повествует, более поздняя — рисует. Первую надо понимать, так как все сказанное требует понимания, другая воздействует настроениями, требующими не понимания, а ощущения.
Артикуляция (в музыке XVII—XVIII вв.), с одной стороны, была для музыкантов чем-то очевидным — следовало только придерживаться общепринятых правил относительно акцентирования и лигатур или музыкального “произношения”, а с другой — в случаях, когда композитор стремился к особому артикулированию, — представляла и представляет желательный способ исполнения знаками и словами (например, точками, горизонтальными или вертикальными черточками и волнистыми линиями, лигами, такими словами, как: spiccato, staccato, legato, tenuto и т.п.). Здесь та же проблема, что и в нотации: артикуляционные знаки остались неизменными в течение веков, но их значение часто радикально менялось. Если какой-то музыкант, не зная языкового, диалогического характера барочной музыки, исполняет ее артикуляционные знаки так, как их интерпретировали в XIX веке (что случается довольно часто), то его интерпретация будет неуместно изображать, вместо того, чтобы повествовать.
Всем известно, как учатся иностранному языку, а музыка барокко и является для нас таким языком, поскольку мы уже не принадлежим тому времени. Следовательно, как в иностранном языке изучают слова, грамматику и произношение, так и мы должны изучать музыкальную артикуляцию, основы гармонии и учение о цезурах и акцентах. Но если даже и применим указанные знания при исполнении музыки, то все равно не добьемся должного музицирования; это будет разве что звуковое чтение по слогам. Оно может быть довольно правильным и удачным, но настоящее музицирование начинается лишь тогда, когда перестаешь думать о грамматике и словах, если уже не переводишь, а начинаешь просто говорить, то есть когда это становится нашим собственным, естественным языком. Именно такова наша цель. Итак, попробуем изучить “грамматику” старинной музыки. К сожалению, за нее часто берутся не лучшие музыканты. Постоянно сталкиваешься и с такими, которые хотя и знают музыкальную грамматику, но выполняют, будто склеротичные профессора лингвистики, что-то наподобие буквального перевода. Однако нельзя упрекать правила за то, что не удается их избежать.
В барочной музыке, как и в любой другой сфере тогдашней общественной жизни, все имеет определенную иерархию. Не хотелось бы здесь выяснять, хорошая она или плохая — об этом уже много написано и сказано — подтвердим лишь ее существование. Есть звуки “благородные” и “обычные”, “хорошие” и “плохие”. (Очень интересен для меня факт — и в музыке, и в социальных отношениях эта иерархия практически исчезает после Французской революции). В соответствии с работами теоретиков музыки XVII— XVIII ст., в обычном такте 4/4 существуют звуки хорошие и плохие, “благородные” (nobiles) и “простые” (viles), а именно: благородное “раз”, плохое “два”, менее благородное “три” и простое “четыре”. Понятие благородства, естественно, касается акцентирования. Итак, будет следующее:
ОДИН- два - три - (четыре)

Эта схема акцентуации, представленная здесь в виде кривой, отображает одну из основ музыки барокко. Она бывает увеличенной и тогда касается целых групп тактов (после любой “хорошей” группы наступает “плохая”). Ту же кривую можно подставить как под одиночный такт, так и под целую часть или даже целое произведение, таким образом придавая ему выразительную структуру напряжений и расслаблений. Эту схему также можно уменьшить и тогда приспособить ее к пассажам восьмушек и шестнадцатых. Итак, появляется сложная (и усложненная) сетка иерархий, которая руководствуется в каждом случае одними и теми же правилами упорядоченности. Она властвует в барокко повсюду; здесь проявляется единство концепции жизни и концепции искусства.
Если бы всю музыку той эпохи играть, точно придерживаясь вышеприведенной схемы акцентирования, то получится весьма утомительно и монотонно. Действительно так, монотонно — а это для барокко абсолютно чуждо, как и исполнение с механической равномерностью, которое так часто можно услышать.
Оба эти подхода ошибочны и вызовут скуку, ибо после десяти тактов уже доподлинно известно, что будет происходить в ближайшие полчаса. Слава Богу, существует еще несколько высших иерархий, которые разрушают монотонность акцентирования: сильнейшая из них — гармония. Диссонанс всегда должен акцентироваться, даже если выступает на слабой доле такта; разрешение же диссонанса (а каждый диссонанс имеет разрешение) не может быть акцентированным, поскольку иначе не было бы именно “разрешением”. Это можно сравнить с физическими ощущениями: если нам досаждает какая-то боль, которая постепенно отступает, то с момента ее исчезновения появляется чувство облегчения. (Леопольд Моцарт в своей “Школе скрипичной игры” для характеристики способа звучания разрешения употребляет очень удачное выражение “исчезая”). Таким образом, имеем еще одну мощную конкурирующую иерархию, привносящую ритм и жизнь в главную иерархию, которая является структурой, скелетом, схемой и опирается на незыблемый порядок. А этот порядок непрестанно нарушается акцентами диссонансов.
Существуют также две следующие вспомогательные иерархии, необычным образом нарушающие порядок главных акцентов: ритм и эмфазис. Если после короткой ноты следует длинная, она всегда акцентируется, даже если приходится на неакцентированную “слабую” долю; этим подчеркиваются синкопированные и танцевальные ритмы.

В свою очередь эмфатический акцент приходится на высочайшие звуки мелодии (часто певец имеет на то основание, если акцентирует высокие звуки и даже дольше на них задерживается). Итак видим, что на основную иерархию, обязательную в границах такта, накладываются многочисленные альтернативные иерархии. Благодаря им, этот несколько бездушный порядок постоянно изобретательно нарушается и варьируется.
“Уменьшение” перечисленных приемов акцентирования и применение их к группам восьмых и шестнадцатых приводит нас к артикуляции в точном значении этого слова. Средством выразительности здесь выступает способ объединения и разделения отдельных звуков, фигур и наименьших звуковых групп. Для артикуляции применяются несколько знаков: лига, вертикальная черточка, точка. Тем не менее раньше они редко употреблялись. Почему? Потому что их применение было для музыканта слишком очевидным, подобно обычному для нас общению на родном языке. Случайным было то, что Иоганн Себастиан Бах как учитель и кантор школы св. Фомы постоянно имел дело с молодыми и неопытными музыкантами, которые еще точно не знали, как следует артикулировать. Именно для них во, многих произведениях Бах выписал артикуляцию, вызвав этим раздражение своих современников, не одобрявших этого. Зато мы получили ряд образцов, указывающих, каким образом следует артикулировать барочную музыку, как ее произносить при помощи звуков. Руководствуясь этими образцами, можно более содержательно артикулировать произведения Баха и всех иных тогдашних композиторов, дошедших до нас без артикуляционных знаков или с очень незначительным их количеством. Ни в коем случае их нельзя играть одинаковым, неартикулированным способом.
Говоря об артикуляции, надо начинать с одиночного звука. Его извлечение очень наглядно описано Леопольдом Моцартом: “Каждый, даже наиболее громко извлекаемый звук может быть предварен едва заметной мягкостью, иначе не будет звуком, а лишь неприятным и непонятным шумом. Такое же впечатление кротости должно слышаться и в конце каждого звука”.
В другом месте: “Звуки эти должны играться сильно и быть выдержаны таким образом, чтобы постепенно угасать в тишине. Как звук колокола..., который постепенно исчезает”. Правда, Моцарт пишет также, что в случае пунктирных нот звуки следует точно выдерживать, но сразу же прибавляет, что точка должна быть “выдержанной на исчезающем в тишине звуке”. Это мнимое разногласие — типичный пример, как вследствие незначительного недоразумения может быть по ошибке интерпретирован текст источника. Кое-кто считает указание Моцарта относительно выдерживания звуков “доказательством” того, что уже тогда использовалось sostenuto или выдерживание данных длительностей одинаково громко до конца звучания ноты. Тем не менее, бесспорно, динамика “колокола” была тогда общепризнанной данностью и “выдерживание” означало только, что последующий звук ни в коем случае не должен исполняться слишком рано. Чтобы звук был выдержанным и не утратил своей силы (что теперь повсеместно применяется), он обязательно снабжался четким указанием tenuto или sostenuto. В таких случаях нужно задуматься, о чем здесь, речь, при этом не забывая, что давние авторы писали не для нас, а своих современников. Для нас же часто более важным является то, чего не писали, ведь не записывали того, что было само собой понятным и общеизвестным. Не существует ни единого трактата, после простого прочтения которого можно было бы подумать, будто знаешь все. Итак, с цитатами надо обращаться очень осторожно и принимать во внимание по возможности более широкий контекст. “Разногласия” всегда оказываются на поверку лишь недоразумениями.
Одиночный звук артикулируется как одиночный слог. Органисты часто спрашивают, как можно на органе достичь замирания звука. Я считаю — здесь важную роль играет пространство. Каждый орган встроен в какое-то помещение; для настоящего органного мастера пространство является частью инструмента. Раньше, еще каких-то тридцать-сорок лет назад, орган считался инструментом sostenuto. Но в последние десятилетия стало известно, что и на органе возможна необычно выразительная, повествовательная игра, а в хороших старых органах существовал способ формирования звука, близкий к “кривой колокола”. Лучшие органисты знают, как и когда — на хороших инструментах и в соответствующей акустике — заканчивать звук, чтобы достичь впечатления замирания колокольного тона и таким образом сделать игру выразительной. Это — иллюзия (как и “твердое” или “мягкое” туше пианистов), но в музыке учитывается только иллюзия, впечатление, которое возникает у слушателя. Фактическое состояние (органный звук не знает diminuendo, а фортепиано не может быть ударено твердо или мягко) здесь абсолютно несущественно. Надо всегда помнить — великие музыканты были также эмпирическими акустиками. В каждом помещении они совершенно точно знали, что надо сделать и как надо играть в том или ином пространстве, устанавливали всегда тесную связь между музыкой и помещением, в котором она исполнялась.
В музыке, появившейся чуть позже 1800 года, одиночный звук кажется мне в своем sostenuto двухмерным, плоским, в то время как идеальный звук старинной музыки, благодаря своей внутренней динамике, действует рельефно и становится трехмерным. Да и инструменты соответствовали этим звуковым идеалам — звука плоского и звука выразительного. Различие особенно заметно, если одну и ту же фразу сыграть поочередно — на барочном и современном гобое. Лишь тогда идеалы, лежащие в основе тех обоих звуков, становятся сразу понятными.
Перейдем теперь к звуковым группам и фигурам. Кто скажет, как должны играться быстрые ноты, например, восьмые в такте alla breve или шестнадцатые в allegro на 4/4? В соответствии с общепринятыми теперь правилами обучения, звуки одинаковой длительности должны быть сыграны или спеты настолько ровно, насколько это возможно — просто как жемчужины, одна к другой, все совершенно одинаковые! После Второй мировой войны некоторые камерные оркестры довели это правило до абсолютного совершенства, и тем самым установился строго определенный способ игры шестнадцатых, воспринятый во всем мире с огромным энтузиазмом (такое типичное исполнение получило совершенно несоответствующее название — “баховский смычок”). Во всяком случае, к выразительной игре такой способ исполнения никакого отношения не имеет. В нем есть что-то механическое, и только оттого, что наша эпоха безоглядно поклоняется машинам, этот способ не считается ошибочным. Но все же мы жаждем истины. Что же делать с этими шестнадцатыми? Большинство композиторов не размещали в нотах никаких артикуляционных знаков. Исключением был Бах, который — как уже упоминалось — оставил после себя большое количество артикуляционно отредактированных произведений. Например, в инструментальном голосе басовой арии из Кантаты BWV 47 (“Herz und Mund”) он артикулирует группу четырех нот таким образом, что под первой ставит точку, а следующие три залиговывает. Тем не менее, когда подобная фигура выступает в вокальной партии этой же кантаты с текстом “Jesu, beuge doch mein Herze”, здесь ноты лигуются парами:

Этот пример я лично считаю очень важным, поскольку Бах тем самым отчетливо утверждает, что для одной музыкальной фигуры может существовать несколько правильных артикуляций — в данном случае они выступают даже одновременно! Естественно, существуют также и абсолютно ошибочные варианты; наша задача — научиться их распознавать и избегать. Во всяком случае видим, что в одном и том же произведении композитор достаточно выразительно стремился к двум разным способам артикуляции одного и того же мотива. А та же точка под нотой указывает нам насколько точного исполнения этих двух вариантов он требовал.
Это приводит к следующим раздумьям. В масляной живописи при применении техники лессирования краски прозрачны: один слой всегда можно увидеть сквозь другой, проникнуть взглядом через 4-5 прослоек, вплоть до рисунка, расположенного под ними. Подобное происходит во время прослушивания музыкального произведения, исполняемого с хорошей артикуляцией: своим слухом мы будто странствуем вглубь, прислушиваясь к отдельным пластам, которые одновременно складываются в единое целое. Глубже наблюдаем “рисунок”, план; в одной плоскости находим акценты, связанные с диссонансами, в другой — голос, который, учитывая дикцию, ведется кротким legato; еще в иной — артикуляция будет сильной и твердой, и все это синхронизировано, происходит одновременно. Слушатель не в состоянии сразу постигнуть всего, что таит в себе произведение, он странствует сквозь его отдельные пласты и каждый раз слышит что-то новое. Эта многослойность имеет огромное значение для понимания музыки, которая никогда не ограничивалась простыми и однослойными построениями.
Подобно приведенному примеру, в вокальных партиях Баха очень часто встречается артикуляция, принципиально отличающаяся от артикуляции инструментального сопровождения. К сожалению, ныне такие отличия наиболее часто истолковывают как “ошибку” композитора и “исправляют” ее. Нам трудно понять и воспринять это огромное количество слоев и одновременность разыгрывания звуковых событий; мы стремимся к порядку в его простейшем виде. Но в XVIII веке требовали полноты и чрезмерности, в которые можно было вслушиваться независимо от места восприятия; ничто не было унифицировано, все просматривалось со всех сторон сразу! Не существовало синхронной артикуляции для инструментов, играющих colla parte. Оркестр артикулировал иначе, нежели хор. Большинство “специалистов от барокко” не задумывается над этим, они хотят все нивелировать, делать по возможности одинаковым, стремятся слышать в музыке не разнообразие, а красивые, простые звуковые вертикали.
Такая многослойность в артикуляции существует не только между вокальными и инструментальными голосами, но и внутри оркестра, даже между отдельными пультами оркестровых групп. В Мессе h-moll или в “Страстях по Матвею” находим множество примеров в инструментальных голосах, когда разные голоса имеют разную артикуляцию для одного и того же места. Однако насколько для наших влюбленных в порядок глаз это кажется невероятным, настолько же на практике звуковой результат получается замечательным, красочным и выразительным.
Что означает лига для смычковых, духовых, клавишных инструментов или певцов? Главное — что первая нота под лигой акцентирована, наиболее длинна, а следующие ноты — более тихие. Таков принцип. (Как видим, здесь нет ни одного упоминания о “равномерных” нотах, как того требует современное официальное обучение музыке). Конечно, существовали исключения, но во всех случаях нормой служит спад, затихание. После 1800 года лига приобретает абсолютно другое значение. Она перестает быть знаком, раскрывающим способ произношения, а становится техническим указанием. В барочной же музыке лига в качестве технического приема не применялась. Если мы не знаем этого различия в значениях лиг, то для нас все равно, расставлены лиги или нет; нынешние же музыканты стараются сделать артикуляцию неслышной, играя так, будто над всем произведением растянута одна огромная лига legato.
Важнейшим значением лиги в барочной музыке является акцент на первой ноте. Она, подобно синкопе или диссонансу, нарушает главную иерархию акцентов в такте. Собственно, эти нарушения и являются чем-то интересным; подобно тому, как при нарушении спокойствия раковины зарождается жемчужина, так и беспокойство в музыке вызывает напряженное внимание слушателей. Постоянно упоминается, что общение с музыкой изменяет слушателя. Тем не менее, это может произойти только тогда, когда музыка влияет на него и физически, и духовно. Представим доминантсептаккорд. Если мы его слышим, то ощущаем также и физическое напряжение: диссонанс требует разрешения. Если же оно наступает, то приносит разрядку и облегчение. Композитор оперирует этими физическими сдвигами, напряжением и разрядкой, которые ощущаются слушателем. Ни один слушатель не может противостоять внутреннему порыву, вызванному музыкой, — мы сами ощущаем и наблюдаем это в каждом концертном зале. Из этого явствует, что комплекс артикуляции в целом не только дело музицирования, но также и дело слушания. Хорошо артикулированная музыка воспринимается совсем иначе, нежели исполняемая ровно, невыразительно. Поскольку она апеллирует к нашему телу и чувству движения, склоняет наш ум к активному слушанию, к диалогу.
Очень важным артикуляционным знаком является точка. Конечно, считается, будто она сокращает ноту, ибо таково сейчас обязательное правило. Многие музыковеды в примечаниях к нотным изданиям называют точку “знаком сокращения” (Kurzungspunkte — нем.), хотя в период барокко такого понятия вообще не существовало. В многочисленных местах, где Бах поставил точку, всегда ее задачей было удержать исполнителя от того, что он обычно сделал бы. Там, где ему захотелось бы играть широко, точка означает сокращение; в местах, которые игрались бы очень краткими звуками, она является требованием опоры. Очень часто точку трактуют как знак акцента, тогда она может означать даже удлинение ноты. Во многих случаях точки означают только одно: “здесь не нужно лиговать!”. Не реже они указывают, что звуки, которые иначе игрались бы неравномерно (inegale), должны играться ровно. Иерархическая основа барочной музыки относится не только к противопоставлению “громко — тихо”, “сильно — слабо”, а также к разному времени продолжительности более длинных и более коротких звуков. Если над нотами появляются точки, — подобный вид разнообразия отменяется. Все ноты подвергаются уравниванию.
Наконец, находим точки в местах, где композитор хочет однозначно указать на окончание лиги. Все уже, наверное, видели рукописи Баха и других композиторов эпохи барокко; если они писали лиги, то это означало приблизительно следующее: здесь надлежит соединять, а исполнитель и сам знает, как это сделать; однако точка однозначно заканчивала эту лигу. Следует помнить — лига, начерченная вручную, довольно часто писалась второпях и не может иметь однозначности печатной лиги. Музыкант каждый раз должен решать, что имел в виду композитор, применяя ту или иную лигу; к сему добавляется еще индивидуальный характер почерка, условность знаков, а также почти магический гипнотизм, излучаемый каждым манускриптом.
Если же лиги перекинуты через большие группы нот, что у Баха и его современников случается довольно часто, — это скорее всего означает: музыкант должен здесь применить такую артикуляцию, к которой привык; от него требуется соответствующее исполнение. Длинная лига — следует ясно это осознавать — также может означать деление на множество коротких лиг.
Выше я уже упоминал, что диссонанс всегда должен связываться со своим разрешением. Это очень строгое правило, которым сейчас, к сожалению, часто пренебрегают. Тем не менее, существует несколько произведений (композитор должен иметь возможность нарушать правила ради достижения какого-либо специального эффекта), в которых точки размещаются и над диссонансом, и над его разрешением, то есть оба звука акцентируются; для тогдашнего слушателя это было подобно шоку, поскольку такое акцентирование абсолютно противоречит духу речи. Оно звучит как слово, которое мы, чтобы как-то особенно его подчеркнуть, неправильно акцентируем, ставя, например, ударение на обычно неакцентированный слог.
Ремарки spiccato и staccato появляются у Баха и Вивальди очень часто. Мы и сегодня их используем, но с измененным значением. Spiccato ныне означает “скачкообразный смычок” (Springbogen — нем.) и является указанием относительно смычковой техники. До создания французской Консерватории оно означало только игру отдельными, оторванными звуками — то же, что и staccato. Речь не о каком-то специальном приеме разделения, а лишь о том, что не следует играть ни legato, ни cantabile в длинной, слигованной линии — звуки должны быть отдельными. Очень часто возле нот крупных длительностей находим указание “largo e spiccato”. Для нынешних музыкантов это обозначение непонятно, даже внутренне противоречиво, поскольку largo (медленный темп крупными длительностями) и spiccato (скачкообразный смычок) взаимно исключают друг друга. Давнее же понимание этого указания касалось просто произведения в медленном темпе, когда звуки не должны связываться между собой.
В прелюдиях и других произведениях произвольной формы группы слигованных нот часто не совпадают с метрической группировкой — например, лигование по три ноты в квартальных группах. Отсюда получается еще один пример альтернативной (по отношению к главной) иерархической акцентуации, который дополнительно привносит в произведение совершенно новый ритм. Исключения такого типа придают музыке неспокойную, волнующую обворожительность. Вследствие наложения нескольких “иерархий” одна на другую на короткое время возникает мнимый беспорядок ритмической структуры. Можно понять, почему Хиндемит считал ритм сольных произведений Баха удивительно богатым.

Различная артикуляция одно и то же место может изменить до неузнаваемости: то сделать мелодическую структуру прозрачной, а то и совершенно непонятной. Изменив лишь размещение артикуляционных лиг, можно придать какой-то фразе такую ритмическую модель, что слушатель почти не сможет узнать мелодической последовательности звуков. Например, ритм мотивной имитации слышится отчетливее последовательности звуков. Итак, имитацию можно показать лишь ритмом. Что же касается артикуляции, то она такое мощное средство выразительности в наших руках, которое может просто стереть мелодию. Хочу внести ясность: артикуляция — это вообще важнейшее из средств выразительности для барочной музыки, имеющихся в нашем распоряжении.
Теперь несколько слов о динамике. Если речь идет об интерпретации, — каждый музыкант прежде всего интересуется динамическими оттенками (piano, forte и т.д.). Что играть громко, а что тихо — сегодня наиважнейший принцип интерпретации. В музыке же барокко подобное отношение к динамике не было столь важным. Суть ни одного тогдашнего произведения не изменялась в зависимости лишь от того, громко или тихо его исполняли. Во многих случаях динамику можно было просто поменять местами: вместо forte играть piano и наоборот; если только исполнение было красивым и интересным, оно всегда имело какой-то смысл. Другими словами, динамика не считалась неотъемлемой частью произведения. Правда, после 1750 года динамика начинает играть все более важную роль, но в период барокко она еще не имела такого значения — для той эпохи характерна динамика речи.
Это микродинамика, которая касается отдельных слогов и выражений. Это она, собственно, начиная с времен барокко, имела чрезвычайное значение, однако не называлась динамикой, да и касалась одиночных звуков или их наименьших групп; ее трактовали как понятие, связанное с артикуляцией. Итак, можно сыграть какое-то место сначала forte, а потом piano, тем не менее это не станет важной характеристикой произведения или интерпретации, а лишь дополнительным “привкусом”, наподобие украшения. Вместе с тем микродинамика очень важна, так как представляет произношение, от нее зависит понятность “языка звуков”.
В связи с артикуляцией и “музыкальным произношением” особого внимания заслуживает пунктирный ритм. Это один из праритмов человека, более древний, нежели равномерное staccato. Певцам и инструменталистам очень трудно исполнять последовательность совершенно ровных звуков. (В европейских консерваториях уже около двухсот лет много усилий расходуется на то, чтобы “окультурить” природную ритмическую нерегулярность, все еще существующую в любой народной музыке, и сделать одинаковые длительности идеально выровненными). Между такой равномерностью (в музыке барокко появлялась только изредка, четко обозначалась при помощи слов или точек) и очень острым пунктированием существует бесконечное количество градаций. Если, например, пассаж равномерных восьмушек будет сыгран несколько неровно, будто “свингуя” — так, чтобы первая восьмушка из двух всегда была немного длинней,— получим наиболее утонченную, на самом деле неуловимую форму пунктирного ритма. Следующей ступенькой будет приближение к триольному ритму, а в какой-то момент композитор испытает потребность записать этот ритм. Он поставит точку после длинной ноты, а следующую сократит на половину ее длительности. Это отнюдь не означает, что первый звук должен быть ровно втрое длиннее второго. Просто здесь имеется один длинный и один короткий звук — а то, насколько длинный и насколько короткий, решается на основании контекста. Итак, нотация указывает лишь одну из промежуточных ступенек.

Между первой и второй парой нот существует только прогрессирующее различие в пунктировании.
Природа подсказывает нам, что пунктирный ритм как таковой противится любому точному делению. Продолжительность длинного и короткого звуков определяется характером произведения и принципами стиля. Правда, существует несколько авторов XVII—XVIII вв., утверждающих, будто в пунктирном ритме короткая нота должна играться в последний миг, но мне кажется, что такое указание касается только особенно характерных случаев, о всех же других, очевидных, эти авторы молчат. Было бы серьезной ошибкой применять везде всякое правило дословно, без надлежащего понимания. Считаю догматиков наибольшими врагами “религии”. Слепая вера в источники опасна.
Нынешний способ игры пунктирных ритмов, когда пунктирная нота удерживается ровно втрое длиннее, чем следующая после нее короткая, является, правда, точным исполнением записи, но, наверное, в большинстве случаев неправильным. Поскольку вследствие этого появляется тип упорядоченного подритма, который и уничтожает суть пунктира. Конечно, виною тому несовершенство нотации. Не принято выражать желательные соотношения цифрами, нельзя, например, над длинной нотой написать 9, а над короткой — 2. В барочной музыке композиторы очень часто объединяли четверть с точкой и три тридцатьвторые ноты. Педантам, которых и в музыке предостаточно, это очень не нравится; они высчитывают, сколько тридцатьвторых имеет восьмушка — в сам раз четыре, — вписывают их и первую из них залиговывают с длинной нотой.

Композитор при желании тоже мог бы так написать. Тем не менее он захотел иметь одну длинную пунктирную ноту и три коротких. Этого не следует изменять даже в новых изданиях, ибо пунктирный ритм играется иначе, более свободно, чем точно выписанный.
В последние пятьдесят лет, стремясь достичь неверно понимаемой “аутентичности”, мы пришли, увы, к чистому нотному тексту и забвению или отбрасыванию всех добрых традиций, еще сохраняющих настоящий способ его прочтения. Старые пластинки (например, запись репетиции с Бруно Вальтером) свидетельствуют, что где-то около 1910 года еще знали и ощущали, как следует играть пунктирный ритм. Лишь когда Густав Малер начал настаивать на точном исполнении записанного, эти знания постепенно утратились. Сожалею, что идея соответствия нотному тексту убила настоящую верность музыке, и что забыто многое из ранее живых знаний. Теперь нужно с трудом возвращать эти сведения. То же, естественно, касается и артикуляции. Сейчас, ссылаясь на верность композитору (так называемую “верность произведению”, что состоит в воспроизведении нот, а не произведения), большинство музыкантов считает, что, если в нотах нет артикуляционных знаков, необозначенные группы нот следует играть без артикуляции — так, как они записаны. Этот часто цитируемый “аутентизм” представляется мне наибольшим врагом правильной интерпретации вообще, поскольку он приводит к звучанию только записанных нот, упуская содержание, заключенное в этой записи. Последняя как таковая вообще не может передать смысл произведения, являясь только отправным пунктом для этого. Верным произведению (Werktreue — нем.) в настоящем понимании этого слова будет лишь тот, кто найдет в нотах замысел композитора и в соответствии с ним сыграет эти ноты. Если композитор пишет целую ноту, имея в виду шестнадцатую, то верность не нотам, а произведению сохранит тот, кто сыграет шестнадцатую, а не тот, кто — целую.
Подытожу об артикуляции. Призываю изучать источники, стремиться узнать все возможное об исполнении и сущности лиг, пытаться точно ощутить, почему разрешение какого-либо диссонанса должно быть таким, а не другим, почему пунктирный ритм может быть сыгран тем или иным способом. Но, играя, необходимо забыть обо всем прочитанном. Слушатель не должен подозревать, будто мы играем то, чему научились: знания должны войти в наше естество, стать частью нашей личности. Не так уж важно, что и откуда мы узнали. Может случиться, что снова совершим несколько “ошибок”, играя вопреки букве. Но “ошибка”, возникающая из собственного убеждения, вкуса и ощущения, более убедительна, чем правильные теоретические взгляды, воплощенные в звуках.
Темп
Выбор соответствующего темпа исполнения или установление взаимосвязей между темпами в многочастных произведениях или в опере — одна из основных проблем в музыке вообще. В античной Греции и в монодии раннего средневековья все выглядело абсолютно иначе. Одно и то же произведение можно было исполнять в разных темпах. Подобно речи, скорость зависела от темперамента исполнителя: один говорит быстрее, другой — медленнее. В повествовании одиночное предложение также не имеет определенного, присущего ему темпа. Скорость рассказа не влияет на его содержание. В григорианском пении часто встречается широкий диапазон темпов, тем не менее это не вызывает впечатления разногласия с музыкой. Наверное, темп не играл здесь решающей роли.
Из литературных источников знаем, что в греческой музыке ритм и темп составляли единство. Это — из-за ритма поэзии, которая была исходным пунктом для всей музыки. В греческом языке поэзия и музыка были обозначены одним словом, и как пение, и как речитация поэтического текста. Отсюда можно сделать вывод, что он декламационно пелся или напевно декламировался. В античной Греции существовало три основных группы темпа и ритма:
1) быстрые состояли исключительно из мелких длительностей, использовались для военных танцев и выражения страстных, решительных чувств. Около 1600 года вместе с идеями Ренессанса появились в европейской музыке, подобно повторяющимся звукам, которые использовал Монтеверди на греческий лад (по Платону) в музыке Combattimento, иллюстрирующей битву, при этом досконально их объяснил и обосновал; ритмы, состоящие из крупных и мелких длительностей, связанные с танцевальными хороводами. Скорее всего близки к ритму gigue (жиги);
2) медленные состояли исключительно из крупных длительностей, встречались в гимнах.
Когда около 1600 года в европейской музыке начали использовать традиции греческой, это затронуло также и принципы аффекта. Первый и третий ритмы вошли в комплекс средств, служивших передаче аффекта. Первый характеризовался как пылкий, страстный, решительный, третий — как мягкий, пассивный, нерешительный.
В григорианском пении уже около 900 года для обозначения темпов использовались буквы; их значение сейчас интерпретируется по-разному. Над невмами (знаками, схематически фиксировавшие движения дирижера и ставшие первым христианско-европейским нотным письмом) ставились буквы С (celeriter), M (mediocriter), T (tarditer), или быстро, умеренно, медленно. В пассиональных чтениях с разделенными ролями темповые различия были предельно отчетливы: преступники всегда говорили быстро, а чем более святым был персонаж, тем более медленным становился темпоритм. Слова Христа декламировались очень медленно, наподобие гимна. В XVII веке этот принцип определенным образом применили к речитативам.
Темп становится проблемой с момента появления многоголосия. Темп и даже ритм должны были согласовываться хотя бы в некоторых местах. Тогдашняя невменная нотация оказалась для этого непригодной; нужно было придумать новый способ записи, который передавал бы информацию, относящуюся к темпу и ритму. На той ранней стадии многоголосое звучание представлялось таким замечательным и чудесным, что речь шла только об одном темпе — “медленно”. Многие источники вспоминают moroditas как способ продолжительного звучания этой замечательной музыки. Прекрасное многоголосие длилось бесконечно, его отнюдь не было слишком много. Независимо от этих очень медленных темпов, которые бытовали, наверное, исключительно только на первой фазе развития многоголосия, определенная согласованность и точность должны были властвовать по крайней мере в акцентированных местах (сейчас сказали бы “на раз в каждом такте”). В этих местах, где должны появляться консонирующие октавы, квинты и кварты, как раз и встречались все голоса. На безакцентных участках властвовала определенная ритмическая свобода, которую сегодня однозначно назвали бы балаганом. Отсюда возникало впечатление огромной самостоятельности отдельных голосов, объединение и метрическое упорядочение которых опиралось на широкомасштабный каркас акцентов и консонансов. Основной метр отбивался дирижером (например, свернутыми в свиток нотами).
Определить темп тогда было несложно. Как и в предшествующее время, понятия “быстро”, “умеренно”, “медленно” имели относительное трактование. Дальнейшее развитие нотации предопределялось ритмическими сложностями, которые очень рано появились в многоголосии. Музыка, исполнявшаяся при папском дворе в Авиньйоне в XIV веке — правда, только для узкого круга знатоков, — уже была настолько сложной, что даже сегодня воспроизведение ее ритмического течения по тогдашним нотам является неслыханно трудным делом. А с помощью нашей современной нотации ее вообще невозможно точно записать. Итак, практика показывает, что не каждую музыку можно записать посредством нашей нотации. Обнаруживается, наша вера в прогресс — оптимальная нотная запись, наилучшая техника, наиболее продуктивное земледелие и др. — безосновательна. Разнообразные системы нотации, использовавшиеся в прошлом, были не примитивными предшествующими стадиями современной нотации, а намного более подходящим для музыки того времени письмом. Музыкантам предлагалось определенное исполнение. Нотация как графический образ музыкального действия имеет в себе что-то гипнотическое, будто действительно побуждает к соответствующему исполнению. В каждую эпоху музыка пользовалась соответствующими графическими знаками; с помощью тогдашней нотации можно было передать промежуточные длительности и все, что касалось Rubat и агогики.
Бревис (

— длительность, равная нынешним двум целым нотам) была тогда краткой нотой, а сегодня — очень длинная. В tempus perfectum она отвечала трем ударам, а в tempus imperfectum — двум. Удлиняющую точку использовали только в сомнительных местах:

(обычно нота brevis в tempus perfectum и без точки длилась три удара).
О делении нот на более мелкие длительности информировало обозначение метра, находившееся в начале линейки (

= tempus perfectum;

= tempus imperfectum и др.).
Изначально ноты делились на три, что было делением совершенным (perfectum), деление на четыре — несовершенным (imperfectum). Это обосновывали мистикой чисел и тогдашней наукой о пропорциях.
Около 1300 года проблему темпа урегулировали с помощью сложной системы мензуральной нотации. Поскольку отправной точкой при этом служила неизменная основная длительность (integer valor), относительно которой отдельные элементы находились в определенном числовом соотношении, то такт, темп, длительности нот в период с 1300 года вплоть до XVI века были фиксированными. Это может показаться странным, но мы можем сегодня значительно точнее реконструировать темп произведения, появившегося около 1500 года, чем темпы музыки Монтеверди, Баха или Моцарта. В XVI в. эта система стала применяться меньше. Правда, теоретики и в дальнейшем учили ее точным правилам, но практически из них использовалось уже немного; от этой системы осталась чудесная теоретическая конструкция, лишенная звуковой реализации. Знаки старой нотации еще некоторое время употреблялись, но уже не означали точные пропорции; некоторые из них дошли до нашего времени

После 1600 года темповые различия выражались с помощью разных нотных длительностей. Некоторые из них даже назывались так: “очень медленно — обычно, ни быстро, ни медленно — умеренно быстро — очень быстро”. Такт и темп, поскольку все выражалось посредством длительностей нот, создавали единство. Первые ремарки были только подтверждением графического образа нот: tardo, lento, presto, allegro и т.п. появлялись в тех местах, где крупные или мелкие длительности определяли медленные или быстрые темпы. Перелистывая давние поголосники, рукописи и первые печатные издания, можно заметить, что обозначения этого типа появляются иногда лишь в одном голосе (там, где изменяются длительности нот), общий же темп остается неизменным. В каком-то произведении, например, могут появиться попеременно Lento и Presto (древнейшие обозначения медленного и быстрого), причем там, где записано Lento, фигурируют крупные длительности, а Presto помещено над мелкими. Также указания этого типа часто появляются только в голосах continuo, которые вообще записывали нотами крупных длительностей. Вероятно, такие указания информировали исполнителя basso continuo о том, что, например, в обозначенном месте солист играет мелкие длительности. В давние времена еще не знали партитуры, а партия солиста редко записывалась в нотах партии continuo. Если возле крупных длительностей партии continuo писалось allegro — это означало: солисту надлежит играть быстрые пассажи. Тем не менее иногда указания такого типа появляются в сольном голосе, и можно ясно видеть, что любое дополнительное изменение основного темпа в этом месте было бы наверняка невозможным, поскольку — например — дальнейшее удлинение нот крупных длительностей (чье время продолжительности зависит от коротких длительностей) лишало бы их музыкального смысла. В таких случаях темповые ремарки, не изменяя основного темпа, являются лишь подтверждением нотной записи. (С обозначениями такого плана можно встретиться в нотах вплоть до XVIII века — например, в некоторых кантатах Баха).
В XVII веке композиторы уже старались обратить внимание на желательный темп, посвящая ему некоторые соображения в предисловии к произведению. Применявшиеся в этих случаях обозначения с течением времени стали появляться как названия произведений, представляющие известные модели.
Хотелось бы вкратце показать, как из описаний и указаний появлялись точные обозначения темпа. Авторы XVI в. старались передавать свои пожелания такими, например, фразами: “с несколько подвижным тактом”, “чем быстрее, тем лучше”, “эту часть надо играть очень медленно”, “такт должен отбиваться быстро, иначе это не будет звучать достоверно”. В начале XVII в. в предисловиях к печатным нотным изданиям Фрескобальди (1615) уже встречаем указания, которые позже будут служить обозначениями как темпа, так и аффекта: “сначала надо играть медленно (adagio)... дальше играют более или менее ускоренно (stretti)... Партиты надо играть в соответствующем темпе (tempo guisto)... не следует начинать быстро (presto), a потом замедлять... пассажи в Партитах должны играться медленно (tempo largo)”. Эти слова, касающиеся темпа и происходящие из бытового итальянского языка, исподволь становились профессиональными обозначениями, относящимися, так сказать, к нотации, и помещались над нотными линейками. Тем не менее их содержание зависело от нотного текста, ибо не определяло темп абсолютной мерой. Во многих случаях следует считать их указаниями, касающимися более аффекта, нежели темпа. И, в сущности, аффект является фактором, определяющим темп произведения. Он бывает печальным или радостным — со всеми промежуточными состояниями и их многозначностью. Грусть ассоциируется с медленным темпом, радость — с быстрым. Первоначально Allegro означало аффект радости (в нынешнем итальянском языке и сейчас имеет то же значение), быстрый темп или просто мелкие длительности нот в нейтральном темпе. Важнейшие термины в XVII веке — Lento, Largo, Tardo, Grave, Adagio, Andante, Allegro, Presto. Итак, эти итальянские слова, использующиеся и по сей день, означали в музыке XVII столетия и темп, и характер, причем темп возникал из характера и наоборот. Часто в середине какого-либо отрывка Adagio появляется пассаж, обозначенный Presto; тем не менее, такое указание касается лишь одного голоса, в котором помещаются ноты мелких длительностей, общий темп остается неизменным.
Особое значение имеет соотношение темпов между собою. В музыке Ренессанса существовал основной темп, который выводился из естественных для человека явлений — например, из темпа шагов или сердцебиения, — и с которым соотносились все другие темпы. Существовала целая система сложных знаков, реликтами которой являются наши обозначения

alla breve и

для такта 4/4 (однако только как графические знаки, лишенные своего первичного значения). От корреляции темпов в XVII веке сохранилась на определенное время взаимосвязь между тактом на четыре и тактом на три, или двухдольным и трехдольным. Она эволюционировала и постепенно ослаблялась. Точное соотношение 2 к 3, согласно которому такт на три был триолью относительно такта на два, очень часто не было обязательным уже у Монтеверди. Это можно четко увидеть в местах, где один и тот же мотив переходит из такта на три к такту на четыре; тут часто случается, что целые ноты и половинки из трехдольного такта становятся в такте на 4/4 восьмерками и шестнадцатыми. Тогда основной темп просто продолжается.

Довольно однозначно это иллюстрируют определенные отрывки в поздних произведениях Монтеверди.
Итак, после XVII столетия темповые соотношения исподволь теряют свою былую точность; отныне становится труднее обнаружить закономерность, удивительно понятную в предшествующий период. Существует, правда, теория, в соответствии с которой вся “недирижированная” музыка барокко должна была исполняться принципиально в едином темпе, то есть с сохранением постоянных пропорций, когда такт отбивался ногой или тростью. Поэтому почти любое Adagio должно быть вдвое медленнее нежели Allegro, а этот принцип — обязательным вплоть до периода классицизма. Тем не менее я убежден, что на самом деле взаимосвязи темпов были более гибкими, и вообще нет потребности считать критерием темпа провинциальную привычку отбивать такт ногой. Существует несколько работ на эту тему, к которым следует относиться очень осторожно; их авторы вообще не были практикующими музыкантами, а выведенные ими теории на практике не применялись. Однако при критическом подходе можно и оттуда почерпнуть кое-какую информацию.
Постепенные изменения темпа, ускорения (accelerandi) и замедления, естественно, поначалу импровизировались, но, начиная с конца XVI века, некоторые композиторы ищут способы их отображения с помощью нотации. В этом контексте предисловия Фрескобальди опять приобретают особый вес. В нотах он выписывает трели шестнадцатыми, а в тексте подчеркивает, что их не надо играть ритмически “так, как записано”, а значительно более быстрее — veloce. Это означает, что запись шестнадцатыми была только приблизительным отражением идеи; предисловие же поясняло — речь идет о ритмически произвольном исполнении в импровизационном характере. Такой тип записи позднее был заменен значком трели (tr). Подобные методы записи использовали также английские композиторы и мастера гамбы — Морли и Симпсон; чтобы отобразить идею ритмической свободы они часто записывали начало быстрых пассажей шестнадцатыми, а их дальнейшее продолжение — тридцатьвторыми. Это был очень удобный способ для записи accelerando (ускорения). До его изобретения изменения такого типа старались приближенно записывать нотами; ускорение записывали этапами, а реализовываться оно должно было плавно. Известным примером является “Il trotto del cavallo” из Combattimento Монтеверди: композитор изображает здесь ускоряющийся галоп коня с помощью ритма, который неожиданно становится вдвое более быстрым.

Такое неожиданное ускорение на самом деле означает плавный переход к быстрому темпу (единственно возможный для реального коня), но тогдашняя нотация не могла этого записать иначе. Подобным методом, естественно, можно было выразить и обратный процесс — постепенное замедление (ritenuto), надо было только удвоить длительности нот. Такой способ записи темповых модификаций находим еще у Вивальди и Генделя; большей частью его исполняют не соответствующим образом, а “так, как написано” — именно, как неожиданное изменение темпа.
В XVIII веке определенные фигуры (группы нот) требовали соответствующего определенного темпа. Музыкальные “фигуры” (короткие последовательности звуков, своеобразные музыкальные кирпичики или “звучащие слова”), будучи внятно проартикулированными, требуют выразительного, связного течения музыки; в результате — определенность темпа. Определение метра и темпа — две совершенно разные сферы: такт (метр) является точно измеримым, темп же — неизмеримым (нерациональным) и должен от чего-то отталкиваться. Темп не возникает из определения метра, даже если указан при нем словесно. Музыканты говорили, что надо по содержанию самой пьесы разгадать, требует она медленного или быстрого движения (Леопольд Моцарт). При этом принимали во внимание только те “фигуры”, которые были исходными для выбора соответствующего темпа.
Во времена Баха темп произведения без дополнительных указаний определяли по четырем параметрам: музыкальному аффекту (его следовало “тонко отгадать”), тактовому размеру, наиболее мелким из всех наличествующих длительностей нотам и количеству акцентов в границах такта. Практические результаты, полученные по этим критериям, настолько соответствуют другим источникам (например, трактатам), что их можно считать достоверными.
Разумеется, нет и не было правил настолько твердых, чтобы темпы не могли подвергаться изменению под влиянием таких “внемузыкальных” факторов, как акустика помещения, численность хора или состав оркестра. С давних пор известно: большой оркестр должен играть медленнее маленького; в помещении с большой реверберацией надо музицировать медленнее, чем в “сухой” акустике и т.п. Один и тот же темп в действительности звучит по-разному в разных интерпретациях, причем важную роль играют не только пространство и состав исполнителей, а также и артикуляция. Игра ансамбля, отмечающаяся богатством артикуляции, представляется более быстрой и проворной, чем ансамбля, играющего широко и однообразно.
Вообще из источников следует, что давнишние музыканты использовали существенно более быстрые темпы, чем им сегодня приписывают; особенно в медленных частях. Также смело можно считать, что и быстрые части игрались быстрее и с незаурядной виртуозностью. Об этом свидетельствует и ориентация по пульсу (приблизительно 80 ударов в минуту после употребления пищи), и техника игры (шестнадцатые игрались — каждая отдельным движением смычка, а на духовых инструментах — двойным ударом языка). Сын Баха Филипп Эммануил информирует (данные из биографии Баха, написанной Форкелем), что его отец “при исполнении собственных произведений брал обычно очень быстрые темпы”.
Моцарт пользовался исключительным количеством разнообразных темповых обозначений. Например, Allegro у него очень быстрое и полное жизни. Время от времени он дописывал (нередко post factum) еще и объясняющие слова, такие как: aperto, vivace, assai. Значение Allegro aperto не совсем понятно. Если увидим обозначение Allegro aperto в незнакомом произведении, то может показаться, будто aperto ускоряет темп. Тем не менее, если сравнить между собою Моцартовские произведения, обозначенные так, то выяснится — их нужно играть несколько медленнее, менее бурно, возможно, и более просто, более “искренне”. Allegro vivace требует живости в произведении, и без того радостно-быстром; эта живость состоит в акцентировании мелких длительностей (как и в произведениях, обозначенных только vivace), и хотя общий темп несколько медленнее, впечатление движения и живости сильнее, чем в “нормальном” широком allegro. Такие обозначения часто понимают неправильно, и в результате музыка кажется неартикулированной и убыстренной. Allegro assai указывает на отчетливое ускорение.
Особенно много можно почерпнуть из корректур (к сожалению, они существуют только в рукописях, а не в печатных изданиях). “Allegretto” расскажет значительно больше, когда узнаем, что композитор — возможно, под влиянием работы с оркестром — поместил его вместо предшествующего “Andante”. (Такие чрезвычайно поучительные корректуры часто встречаются и у Генделя). Последовательность ремарок Andante — piu Andante — piu Adagio может привести к недоразумению, если не понимать их более раннего значения. Речь идет о том, например, должно ли piu Andante в четвертой части Thamos-Musik Моцарта (KV 345) быть более быстрым или более медленным, чем Andante. Поскольку тогда Andante (andare — ходить, двигаться) скорее считалось быстрым темпом, “ходом”, его усиление (piu) “более” соответствовало ускорению. В случае названного произведения — мелодрамы — такая интерпретация также отвечает содержанию; тем не менее часто данный отрывок исполняют совсем наоборот, с замедлением.
В конце хотелось бы затронуть еще несколько обозначений темпа и связанные с ними украшения (мелизмы). Сначала Grave (“серьезно”): это обозначение медленного темпа вместе с тем диктует нам, в принципе, не добавлять здесь никаких украшений. У Генделя, например, простота мелодии, в особенности в медленных частях, провоцирует каждого музыканта к импровизированию украшений. Это можно делать в Largo и в Adagio, но не в Grave. Вступления к французским увертюрам, обычно обозначенные Grave, имеют характер почтенный или торжественной походки; они не поются и не должны орнаментироваться.
Вместе с тем обозначение Adagio, помещенное в медленной части, не только разрешает, но и требует украшений. Часто указание Adagio можно встретить возле отдельных нот или тактов в середине части Grave, но из контекста видно, что здесь невозможно никакое изменение темпа. Это означает: здесь можно орнаментировать. Кванц говорит, что не нужно Adagio перегружать украшениями, тем не менее приведенные им примеры “экономного” орнаментирования представляются нам сейчас чрезмерными и перегруженными. Сегодня нельзя следовать всем рекомендациям давних учебников относительно импровизации и украшений, поскольку импровизация тесно связана с эпохой и стилем. Украшения, импровизированные музыкантом эпохи рококо в XVIII веке, нельзя приравнивать к орнаментированию в стиле рококо, выполняемому нами. Когда, например, какая-то из арий Моцарта изобилует чрезмерными украшениями, мы ощущаем совершенно явную безвкусицу. Вследствие этого вся ария становится упрощенной до уровня стилизации. Значительно лучше было бы выразительно и интересно исполнить простую мелодию, чем отвлекать внимание мастерским и акробатическим орнаментированием. Конечно, в музыке XVII—XVIII ст. есть много произведений, в самом деле предусматривающих импровизирование украшений и даже требующих этого.
Импровизация и орнаментирование с давних пор были искусством, требующим большой осведомленности, фантазии и изысканного вкуса; благодаря им каждое исполнение приобретало единственное и неповторимое своеобразие. Называя музыканта 1700—1760 гг. “хорошим исполнителем Adagio”, тем самым подразумевали, что он умел содержательно орнаментировать. Тогда стимулом к приукрашиванию могла стать простейшая мелодия, но нельзя было искажать заложенный в ней аффект. О настоящем искусстве орнаментирования можно говорить лишь тогда, когда вместе с украшениями сохраняется основной аффект. Для исполнителей барочных и моцартовских опер прежде всего было важным, чтобы орнаментирование соответствовало аффекту, выраженному в тексте. Певец должен с помощью надлежащих и спонтанно найденных украшений раскрыть и усилить выразительность простой мелодии. Украшения, демонстрирующие лишь технические возможности певца или инструменталиста, становятся обесцененной, пустой виртуозностью. Орнаментирование должно исходить из внутренней потребности, благодаря чему будет индивидуально подчеркнуто скрытое в произведении чувство.
Звуковые системы и интонация
Высота строя — вопрос особенно важный как для вокалистов, так и для; инструменталистов. Существует много давних текстов, сообщающих, что во Франции строй был выше или ниже, чем где-либо; или строй, использовавшийся в соборе, был выше или ниже, чем “в комнатах”, то есть местах, исполнения светской музыки. А на самом деле — кроме человеческой гортани, некоторых инструментов и давних камертонов, сохранившихся в неизменном состоянии, — не существует никаких достоверных эталонов. Исследуя старинные инструменты, констатируем, что те, которыми пользовались, например, в Италии во времена Монтеверди, имели строй нынешний и даже немного выше. Ожидаемый диапазон человеческого голоса для баса достигал низкого С (“До” большой октавы), что очень низко. Тем не менее давние авторы утверждали, что петь так низко могли только хорошо вышколенные басы, тогда как посредственные певцы, которых большинство, доходили всего лишь до G. Такова ситуация и сегодня. Итак, низкое С подвластно немногим певцам. (По этой нижней границе можно установить, что тогдашний строй в Италии не мог быть ниже — следовательно, “давний строй” может быть разным: в одном месте выше, в другом — ниже). В старину пели преимущественно в средних регистрах, очень редко используя высокий. Сейчас дело обстоит иначе: каждый певец и каждая певица стремятся больше петь в высоком регистре. Подлинные сопрано чувствуют себя несчастными, если не могут петь между d2 и d3. Тенора также хотели бы петь как можно выше; посмотрев на теноровые партии Монтеверди, они утверждают, что это должен исполнять баритон, так как для тенора они слишком низкие. Однако Преториус (1619) ясно говорит, что человеческий голос, “если находится в средине или немного ниже”, привлекательнее и приятнее для слуха, чем когда “должен силиться визжать высоко”. Он также отмечает, что инструменты лучше звучат в нижних регистрах; но вместе с тем признает постоянное повышение общего строя. Такая тенденция сохраняется до сих пор, будучи причиной постоянного повышения строя оркестра. Это может подтвердить каждый, кто прислушивался к строям разных оркестров на протяжении последнего тридцатилетия[1]. Таким образом, это важная проблема и для нынешних музыкантов.
Пожалуй, пора попытаться раскрыть причины этой досадной тенденции постоянного повышения строя. Играя на протяжении семнадцати лет в оркестре, я наблюдал, что дирижеры постоянно говорят: музыкант занижает, — тем не менее никогда не делают замечания, когда кто-то играет высоковато. Этому есть причина: если какое-то созвучие нечистое, ухо автоматически подстраивается к относительно более высокому звуку. И то, что звучит ниже, ощущается как фальшь, даже если объективно правильное. Все якобы низкие звуки так долго подтягивают вверх, пока они не становятся такими же высокими, как и те, что на самом деле высоковаты. Каков результат? Каждый музыкант, стараясь избежать замечания дирижера “Ты занижаешь”, сразу играет немного выше. (Это касается прежде всего вторых пультов духовых инструментов, в чей адрес такие замечания звучат чаще всего. Когда эти музыканты покупают новые инструменты, то сразу же подрезают их покороче, достигая таким образом повышенного строя). Единственное спасение, способное уберечь нас от беспрерывного повышения строя, — осознание причин и принятие нужного эталона. В вопросах чистоты интонации вообще не следует доверять ощущениям, иначе в конце концов ничего не будет строить. Из-за того, что никто не желает быть тем, кто занижает строй, в среде оркестровых музыкантов бытует поговорка: “Лучше немножко выше, чем фальшиво!” Считаю, если бы музыканты знали больше об интонации и не опирались исключительно на собственный слух и ощущения, строй удалось бы удержать на одной высоте.
Неоднозначна проблема чистоты интонации. Не существует единой натуральной системы интонации, обязательной для всех людей. Усваивается какая-то звуковая система — это может быть одна из пяти или шести систем нашей культуры, или еще какая-то, где мерой высоты звука являются пшеничные зерна или камешки, — и каждый, кто привык к такой системе, относительно нее будет и слышать, и петь. Во многих регионах Европы в народной музыке используются натуральные духовые инструменты (например, разного рода рожки), на которых извлекаются лишь натуральные тоны. На них можно играть мелодию только в четвертой октаве (от 8 до 16 натурального тона), причем кварта звучит очень “нечисто”, ибо одиннадцатый обертон лежит между “f2” и “fis2”, следовательно кварта с2-f2 несколько расширена.

В регионах, где играют на таких инструментах, подобным образом и поют эти интервалы. Вследствие привычки они ощущаются как чистые! Итак, надо помнить — нельзя одну звуковую систему считать общеобязательной нормой: то, что для нас звучит чисто, другим может казаться фальшью. Вместе с тем, чисто звучит все, что строит в границах данной системы. Наш слух сформирован в основном равномерно �����перированным строем фортепиано. Все двенадцать полутонов здесь настроены точно одинаковыми отрезками, следовательно, имеем дело только с одной тональностью, транспонированной по полутонам; к сожалению, в этой системе воспитан и наш слух. Итак, если на слуху имеем такую систему и слушаем музыку, интонация которой — хотя и самая совершенная — принадлежит другой системе, возникает впечатление, что исполнитель играет фальшиво. Но ведь интонационная система времен Монтеверди или XVII века была именно такой другой системой! Если бы сегодня услышали музыку, идеально сыгранную в той системе, такое исполнение показалось бы нам ужасно нечистым, фальшивым. И наоборот: имея на слуху другую систему — современную интонацию будем считать не менее фальшивой. Из этого явствует — здесь не существует никакой объективной и абсолютной правды. Чистоту интонации можно оценивать только в рамках одной системы. Если я интонирую чисто в границах одной системы, то моя интонация идеальна, даже если звучит фальшиво для слуха, воспитанного в другой системе.
К сожалению, в наше время, когда аутентичные и глубокие знания часто совершенно официально подменяются нелепой болтовней, а блеф господствует в общественных отношениях, общим явлением становится хвастать о вещах, ничего не зная о них. Никто даже и не старается узнать что-то, лишь повышает голос, будто понимает, о чем речь. А музыка принадлежит к сферам, где такое случается особенно часто. Почти каждый говорит так, будто сведущ, идет ли речь о чистоте интонации (“Разве вы не слышали, как фальшиво играли?”) или о тональности (“В кротком Es-dur'e...”), — и только аналогичное невежество собеседников спасает от разоблачения. Все, что касается интонации и тональности, стало — даже в специальной литературе — обычным блефом.
* * *
Музыка XVI—XVII ст. и в сфере интонации опиралась на так называемую теорию пропорций, руководствующуюся рядом простых тонов, а точнее — соотношением между частотами колебаний. Пунктом отсчета был основной тон, первый из ряда чисел и звуков, чью роль можно сравнить с точкой схождения в перспективе; он символизировал унитарность, единство, Бога. Чем проще числовые отношения, тем они благородней, лучше (даже в моральном отношении); чем сложнее и отдаленнее от единства — тем хуже, хаотичнее. Каждое созвучие выражалось при помощи числовых соотношений или пропорций (октава 1:2, квинта 2:3 и т.д.); их качество можно определить в зависимости от того, насколько эти соотношения близки к единству — к основному тону (С = 1, 2, 4, 8 и т.д.), а также в зависимости от их простоты. Наши понятия, почерпнутые из науки гармонии, не имеют здесь никакого значения — степень совершенства созвучий определяли числа. Можно и наоборот — все простые числовые соотношения представить себе как созвучие. На это опиралась Кеплеровская гармония сфер, а также архитектура, которая гармонично “звучит”; если видимые пропорции какого-то здания удавалось свести к простым числовым соотношениям, то их можно было видеть и слышать как “аккорды”. Палладио часто компоновал план своих зданий словно некую “окаменевшую” музыку. В соответствии с этой теорией, музыкальная гармония зиждилась на основе, подобной золотому сечению в архитектуре. В обоих случаях, благодаря простому, натуральному числовому соотношению, влияние на характер и дух человека имело организующее, упорядоченное начало. Барочная идея музыки как отражения или копии божественного порядка охватывала в те времена всю музыку, включая светскую. Поэтому противопоставление “духовное — светское” не имело тогда такого значения, как сейчас. Еще существовало единство, связывающее различные типы музыки; по сути вся музыка, независимо от формы, рассматривалась тогда как проявление духовного (sacrum). Гармонические интервалы в теории пропорций — отражение порядка, установленного Богом. Все консонансы соответствовали простым числовым соотношениям (2:3 — квинта, 3:4 — кварта, 4:5 — большая терция и т.д.). То, что было ближе к единству, считалось приятнее и совершеннее, нежели то, что соответствовало худшей пропорции или вообще было откровенно хаотичным. Пропорция 4:5:6 считалась совершенной: построенные на основном звуке (с1), ее числа непосредственно соседствуют между собою и представляют три разных, консонантных звука (c1-e1-g1), то есть мажорное трезвучие — совершенную гармонию и благороднейший консонанс (Trias musica). Это музыкальный символ Святой Троицы. (Интонация должна была точно соответствовать четвертому, пятому и шестому натуральным тонам!). Минорное трезвучие (10:12:15 или e2-g2-h2) имеет значительно худшую пропорцию: оно не опирается на основной тон; соответствующие ему числа отдалены от единства и не сопредельны, между ними существуют другие числа-звуки (11, 13, 14). Такое трезвучие считалось несовершенным, слабым и — в иерархически-отрицательном смысле — женским. (Царлино называет минорное трезвучие “affetto tristo” — досадным чувством). Таким образом, все созвучия были “морально” оценены; отсюда легко понять, что в старину каждое произведение должно было завершаться мажорным трезвучием: произведение не могло заканчиваться хаосом. (Иногда отступали от этого правила, но всегда по какой-то особой причине). В теории пропорций важную роль играли также инструменты. Например, труба, на которой извлекались исключительно натуральные тоны, становилась своего рода звуковым воплощением теории пропорций; ее можно было использовать только тогда, когда речь шла о Боге или о высочайшем почтении. C-dur и D-dur с трубами были зарезервированы для высочайшей власти; трубачи использовали эту ситуацию, возвышая себя над остальными музыкантами.
Числа играли огромную роль не только в теории пропорций, но и во всей музыке барокко. Например, у Баха постоянно встречаются числа, являющиеся арифметическими фокусами, магическими квадратами или отсылающие к каким-то отрывкам из Библии или к биографическим данным. Они закодированы разнообразными способами: это может быть количество повторяемых звуков или тактов, определенные длительности нот, разная высота звуков и т.д. В то время знание символики и алфавита чисел было настолько распространенным, что композитор мог включать в свои произведения зашифрованные таким образом послания, причем часть из них была несомненно понятна для слушателей или обнаруживалась в процессе чтения нот.
С давних времен с музыкой связывали — кроме чисел — разнообразные религиозные и астрономические символы. Иные капители испанских крытых галерей являются определенными мелодиями, как доказывает Мариус Шнайдер в своей книге “Поющий камень”: если передвигаться такой галереей от какого-либо определенного пункта, то скульптуры на верхушках колонн — будучи символическими фигурами из литературы и греческой мифологии и вместе с тем выполняя роль символов для определенных звуков — создают звуковую последовательность, становящуюся гимном в честь того святого, которому посвящен монастырь; выступающие между ними чисто орнаментальные капители исполняют роль пауз.
Кроме теории пропорций, в музыке барокко существовала — и существует по сей день — характеристика тональностей, являющаяся важным основанием для воспроизведения разнообразных аффектов. Она была тесно связана — возможно, даже ближе, чем теория пропорций, — с интонацией и ее различными системами. Упоминавшееся во вступлении краткое описание позволяет выяснить значение интонации как средства выразительности.
С самого начала для того, чтобы растрогать слушателя посредством музыки, старались воссоздать разнообразные душевные состояния. Музыкальное дифференцирование проявилось еще в музыке античной Греции, где отдельные звуки имели свою символику и характеристику. Они были воплощением символов (это касалось прежде всего звезд, времен года, мифологических животных или богов), которые представляли и вызывали определенные аффекты. Это в свою очередь приводило к своеобразной символике тональностей: гамме, построенной на определенных звуках, присваивали характеристику ее основных тонов; такие “тональности” должны были вызывать у слушателя соответствующие ассоциации.
Лады греческой музыки состояли из квинт, а не из последовательности обертонов третьей и четвертой октавы:
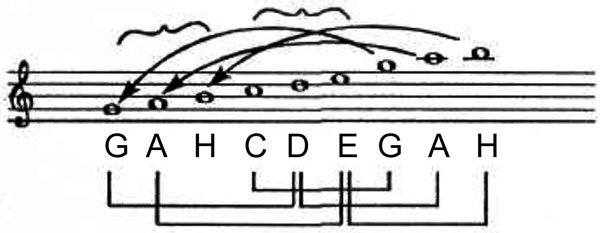
Пифагорийский лад.
Интервалы “G-H” и “C-E” являются пифагорийскими терциями.
Выстроенная таким образом пифагорийская гамма была обязательной интонационной системой для всей средневековой музыки. Представленная здесь терция (пифагорийская терция) — интервал значительно шире вышеописанной натуральной терции (4:5) и является не консонансом, а диссонансом. Одноголосная музыка в пифагорийской системе звучит очень хорошо и убедительно, подобно пифагорийской терции, размещенной в мелодической линии. Разные поочередные отрезки основной гаммы, начинающиеся каждый раз от другого звука, дали начало греческим ладам. От них возникли впоследствии модусы (modi) — церковные лады средневековья, носившие древнегреческие названия (modus дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский), каждый из них ассоциировался с определенной образной сферой. Пока музыка оставалась одноголосной, или же многоголосие опиралось на квинты, кварты и октавы — сохранялась пифагорийская система интонации; такой музыке она соответствовала лучше всего. Многоголосие смогло развиваться полнее лишь с момента практического внедрения натуральной терции, приятно звучащего консонанса. Мажорное трезвучие (trias musica) постепенно становилось центральным пунктом гармонии, определяющим тональность и порядок. В конце концов, под занавес XVII века из всех церковных ладов осталась только мажорная гамма. Это могло бы привести к серьезному оскудению средств выразительности, если бы не удалось придать различный характер каждой из транспозиций этой гаммы. Так, например, H-dur влияет по-иному, чем C-dur, несмотря на то, что построены они на основе одной и той же гаммы. Если ранее (в церковных ладах) различие состояло в сменной последовательности интервалов, — теперь мажорные тональности стали различаться только различной интонацией. Потребность тональных характеристик легла в основу хорошо темперированного строя.
От “Среднетонового” к “Хорошо темперированному” строю.
Как только приятно звучащая натуральная терция и вместе с нею мажорное трезвучие становятся основой нашей тональной системы, появляется и великое множество новых интонационных проблем в процессе игры на разных инструментах. К новой системе были достаточно приспособлены лишь натуральные духовые инструменты (валторны и трубы), для клавишных же (органа, клавикорда и клавесина) предстояло найти такую систему настройки, которая обеспечила бы октаве, имеющей двенадцать звуков, новую интонацию с чистыми терциями. Этой системой стал “среднетоновый” строй. В его основе — абсолютно чистые большие терции, получающиеся за счет других интервалов. (Следует однако уяснить, что на клавишных инструментах невозможно достичь “чистого” строя, а каждая система будет отдавать предпочтение определенным интервалам за счет других).
“Среднетоновый” строй

Все квинты от es до gis уменьшены на 1/4 коммы. Кроме того, остается “волчья” квинта (gis-es); она не употреблялась, ибо несколько расширена и является, собственно, уменьшенной секстой.
Все отмеченные терции — чистые. Остальные терции несколько увеличены и непригодны. Квинтовый круг не может сомкнуться.
В среднетоновом строе не существует энгармонической замены, ибо каждый звук имеет только одно значение: нельзя, скажем, звук fis считать звуком ges. Чтобы достичь строя в чистых терциях, надо все квинты значительно сузить; это и есть цена, которую нужно заплатить за чистые терции. Интересно, что в мажорном трезвучии с чистой терцией квинту практически не слышно, ведь она разделена этой терцией. Такой строй называется среднетоновым, поскольку большая терция (например, “с-е”) разделена точно посредине (нотой d), а не так, как в обертоновом ряду, в соотношении 8:9:10 (где мы имеем один большой целый тон “c-d” и один маленький “d-e”). Строй в чистых терциях, с точки зрения гармонии, кажется очень мягким и лишенным напряжений, но все пригодные для игры тональности звучат в нем одинаково. На инструменте, настроенном “среднетоново”, особенно интересно звучат хроматические гаммы и пассажи. Отдельные полутоны, играемые поочередно, вызывают исключительно красочное и разнообразное впечатление; каждый полутон имеет разную величину. Понятие хроматики здесь исключительно уместно. Fis является оттенком f. Хроматический полутон “f-fis” вызывает впечатление изменения окраски звука, тогда как полутон “fis-g” не хроматический, а настоящий солидный интервал. Нынешним музыкантам сначала очень сложно играть или петь чистые терции из-за нашей привычки к темперированному строю фортепиано — чистые терции кажутся малыми и фальшивыми.
Возвратимся к “хорошо темперированным” строям. Темперировать — означает выравнивать; некоторые интервалы сознательно настраивают фальшиво (но в пригодных для восприятия границах), чтобы можно было играть во всех тональностях. Наиболее примитивный из них — так называемый “равномерно темперированный” строй: октава делится на двенадцать одинаковых полутонов, а все интервалы — кроме октавы — не совсем чистые. В этом строе, наиболее часто употребляемом сейчас, все тональности теряют свои характерные особенности: звучат одинаково, отличаясь лишь высотой звуков. Тем не менее, если под названием “wohltemperiert” (хорошо темперированный) понимать хорошую и пригодную темперацию, как это было в XVIII веке, тогда этот — нынешний строй — будет одним из самых худших (кстати, он известен уже давно, но его внедрение стало технически возможным лишь после изобретения электронных аппаратов для настраивания).
В хорошо темперированных строях мажорные терции настраиваются неодинаково: терции f-a, с-е, g-h, d-fis настроены чище, т.е. они меньше других терций; соответственно квинты тоже различаются по строю. Играть можно во всех тональностях, но звучат они по-разному: F-dur меньше напряжен и значительно мягче E-dur'a. Отдельные интервалы разные в каждой тональности: одни более, другие менее чистые, в результате — каждая тональность имеет своеобразный характер. Это следствие разнообразных интонационно обусловленных напряжений, увеличивающихся при отдалении от центрального C-dur и вызывающих чувство тоски по замечательным тональностям, лишенным напряжений (F-dur, C-dur, G-dur).
“Хорошо темперированный” строй (по Веркмайстеру)

Четыре квинты уменьшены на 1/4 коммы (c-g, g-d, d-a, h-fis), все другие — чистые. Квинтовый круг сомкнут.
Все терции различны в своем приближении к чистоте. Эта дифференциация является источником характерного различия отдельных тональностей.
Лучше всего звучат терции f-а, с-е; приближены к очень хорошим: g-h, d-fis, b-d; хуже звучат es-g, a-cis, e-gis, h-dis. Все другие терцин — пифагорийские и ощутимо увеличены.
Во всяком случае, не следует скоропалительно утверждать, что какой-то музыкант играет фальшиво или чисто. Системы темперации очень разные, и если кто-то играет чисто в рамках системы нам не привычной, то мы его незаслуженно обижаем, обвиняя в нечистой игре. Я лично очень привязан к неравномерно темперированным строям, и нормальное фортепиано звучит для меня ужасно фальшиво, даже если отлично настроено. Прежде всего речь о том, чтобы каждый музыкант играл чисто в границах какой-то одной системы.
Практика показывает, что музыку XVI — XVII веков можно правильно исполнить лишь в строе с чистыми терциями. Если работаешь только с певцами или группой смычковых инструментов, можно не заботиться обо всех тонкостях среднетонового строя, что так важно для клавишных инструментов. Не следует стараться выравнивать восьмой и девятый обертоны и уменьшать квинты, однако надо добиваться абсолютной чистоты интонирования терций (каждый, в конце концов, так поступает с квинтами). Абсолютная чистота всех интервалов не так уж необходима, поскольку в каждом художественном действии таится тоска по совершенству. Тем не менее совершенство, если бы его удалось достичь, было бы нечеловеческим и, наверное, невыносимо скучным. Важная часть музыкального ощущения и музыкального слуха основана на напряжении, появляющемся между степенью чистоты, достигнутой в действительности, и тоской за совершенной чистотой. Есть тональности высокой степени чистоты — напряжения в них небольшие; иным до чистоты далеко — там напряжений больше. Интонация — очень важное средство выразительности. Тем не менее, нет ни одной интонационной системы, которая могла бы соответствовать всей музыке Запада.
Музыка и звучание
Если музыкант глубоко интересуется звучанием и ценит его роль в интерпретации, то обязательно сталкивается с проблемой исторического контекста. Сейчас нам в общих чертах известен состав ансамбля инструменталистов и вокалистов XIV века, исполнявшего музыку при папском дворе в Авиньйоне; состав придворных итальянских, бургундских, немецких капелл во времена Максимилиана (около 1500); мы можем более или менее детально обрисовать придворную баварскую капеллу, руководимую Орландо Лассо (около 1560); вокальное и оркестровое звучание времен Монтеверди (после 1600 года) достаточно хорошо задокументировано не только им самим, но и Михаэлем Преториусом (1619). После соответствующего изучения можем довольно легко представить звуковой образ оперы XVII столетия; считается, что сегодня без проблем можно реконструировать звучание Баховского хора и оркестра; известно нам кое-что о звуковом мире Моцарта; знаем звучание оркестра Вагнера. Конечное звено этой эволюции — нынешний симфонический оркестр.
Еще до недавнего времени музыкальная эстетика и инструментоведение подходили к этому общему комплексу вопросов, исходя из позиции, уже давно отброшенной в истории искусства, — будто мы имеем дело с эволюцией, приведшей от примитивных начальных форм, благодаря постоянным “усовершенствованиям”, к оптимальной ситуации — современному состоянию. Такая позиция не обоснована ни эстетикой, ни технической или исторической точкой зрения. В изобразительном искусстве с давних пор очевидно: имеем дело с независимым от любых оценок смещением акцентов, которое всегда выступает и обязано выступать параллельно с духовно-исторической и общественной перестройкой, — это начинают уже признавать и в истории музыкального искусства. Следует наконец понять, что инструментарий или “оркестр” определенного времени полностью соответствует своей музыке (и наоборот); касается это и отдельных инструментов. Для меня неопровержимо, что каждый инструмент на Момент его использования в профессиональной музыке достиг оптимальной стадии своего развития, на которой уже не могло быть тотальных усовершенствований. Каждое следующее изменение “к лучшему” приводило одновременно к худшему — потере других, в данный момент невостребованных ценностей. Эта гипотеза постоянно подтверждалась в течение длительной практики и в итоге приобрела для меня характер доказанного факта.
Вопросы, возникающие при каждом изменении инструмента, которое в момент его осуществления считают “усовершенствованием”, звучат так: готовы ли мы заплатить определенную цену (что вполне естественно) за то или иное “достижение”? Например, за большую силу звука пренебречь утонченностью нюансов и тембров, а также технической легкостью (фортепиано); за полное динамическое и интонационное выравнивание всех возможных для игры полутонов уплатить потерей специфической интонации для любой тональности и индивидуальной краски почти что каждого звука (флейта и др.). Такие примеры можно привести для любого инструмента. Большей частью увлечение каждым новым “усовершенствованием” обычно приводило к тому, что сначала не принималась во внимание необходимость вместе с тем чем-то жертвовать и вообще не осознавалась цена утраченного. Ныне, с позиции исторической перспективы, почти все “усовершенствования” можно отнести к изменениям в границах музыкальной эволюции.
Очевиден вывод: каждую музыку надлежит воссоздавать с использованием присущего для нее инструментария. Но возникает ряд проблем. Не означает ли для музыканта новый звуковой образ принципиально иное средство выразительности? Способен ли слушатель перескакивать от одного исторического звучания к другому, решится ли он — сознательно или нет — на один звуковой образ и одну эстетику звучания? Не касается ли этот вопрос других, второстепенных областей музыки: акустики залов, решающим образом формирующей звучание; системы интонации или того, что в звуковысотности считается чистым, а что — нет; каким образом зависят от этого комплекса реалий выразительные функции? И еще одно: является ли вообще музыка как таковая понятным языком независимо от эпохи (Ионеско: “Действительно ли мы понимаем Моцарта?”) — вот вопрос, не имеющий однозначного ответа, хотя так бы хотелось сказать “да”.
Вполне возможно, полный переворот, который произошел в нашей культурной жизни за последние сто лет, настолько изменил исполнение и слушание музыки, что мы почти не воспринимаем и не понимаем того, что выражал своей музыкой, например, Моцарт, и что его современники воспринимали с полным пониманием. Мы уже почти не можем представить, насколько музыка столетней давности (естественно, и более давняя) составляла неотъемлемую часть публичной или частной жизни: исполнялась при радостных или печальных, торжественных, религиозных или официальных событиях — причем это не было показухой, как сейчас. Я считаю, из всего содержания музыкального шедевра мы замечаем и понимаем сегодня лишь малую долю — прежде всего его эстетические составные, а много аспектов, возможно, очень важных, вообще не в состоянии распознать, так как утратили критерии, необходимые для их восприятия. Другое дело, что та маленькая частица, которая нам о чем-то еще повествует, настолько богата, что мы удовлетворяемся ею, не желая чего-то большего. Можно прибавить, что мы, утратив настоящее, обрели почти все прошлое, хотя, ограниченные узостью нашего понимания, замечаем только маленький его отрезок.
Следовало бы спросить себя, действительно ли мы в силе овладеть всей историей европейской музыки, или вообще — историей культуры? Можем ли мы как музыканты или слушатели вообще адекватно распорядиться стилистическим богатством музыкального языка? Если это так, то разнообразие звуковых образов и дифференцированное звучание каждой музыкальной эпохи не составляло бы проблемы, воспринималось бы во время слушания и облегчило усвоение значительно большего разнообразия музыки как таковой. Альтернатива, на которой основана современная музыкальная жизнь, откровенно неудовлетворительна — как относительно репертуара, так и звучания. Однообразный репертуар, исполняемый теперь повсюду, ни в коем случае не является результатом “приговора истории”, хотя его часто считают таковым! Значительная часть музыки никогда ранее не подвергалась так называемому “суду времени”. Приговор стали провозглашать лишь в XIX веке, и он полностью определялся тогдашними вкусами. Что же касается звучания, то нам подавали и подают скупой выбор в монолитном звучании XIX века, сделанный нашими прадедами в те времена, когда еще бытовала живая музыка: Бах — как Моцарт, как Брамс, как Барток. И что забавно, эту разновидность мы называем “современной” и считаем ее эталоном звучания нашего времени.
В дальнейшем уже невозможно, подобно предкам, наивно копаться в сокровищах прошлого; мы должны осознать смысл наших действий, иначе рискуем погрузиться в черную меланхолию. Мы верим — более глубокое понимание абсолютно возможно и следует пройти в этом направлении любую необходимую дорогу. Конечно, понимание и прочтение соответствующим образом музыкального произведения не зависит от звуковой реализаций. Первые и важнейшие шаги в направлении содержательной музыкальней интерпретации будут незаметными и по крайней мере внешне неброскими, однако наиболее сенсационными в истинном значении этого слова. Заметным будет лишь последний шаг, то есть игра на оригинальных инструментах. Она наиболее зрелищна и бросается в глаза особенностями исполнения, хотя очень часто проводится бессодержательно: имеет место отсутствие соответствующей музыкально-технической подготовки, а нередко — и насущной музыкальной необходимости. Таким образом, историческое звучание для многих произведений может служить очень существенной помощью, но в иных случаях — в силу своего зрелищного характера — может привести к бессодержательному звуковому фетишизму.
Старинные инструменты — да или нет?
Конечно, да или нет — зависит от обстоятельств! К сожалению, музицирование на старинных инструментах, то есть на тех, которые по какой-либо причине вышли из обихода, имеет настолько сомнительное прошлое, что почти никто не может говорить на эту тему спокойно, без лишних эмоций. Меня считают — и не без резона, — сторонником использования старинных инструментов. Однако, в виде исключения, хочу высказать несколько соображений, продиктованных подлинным пристрастием, присущим, надеюсь, и моему воображаемому собеседнику.
Достаточно взять в руки так называемый старинный инструмент, чтобы получить прозвище “пуританина”, “историка”, стилистического аскета, то есть того, кто — при нехватке интуиции — глубоко задумывается над каждой нотой. Невинное понятие “аутентичности”[2] получает отрицательное звучание, сторонникам же данного понятия a priori приписывается отсутствие артистической зажигательности, а часто и компетенции. Но почему? В идее верности произведению даже при изощренной софистике не удается отыскать ничего, что заслуживало бы осуждения; тот факт, что понятие это часто подменяют по ошибке верностью нотам, то есть, неверностью произведению, является не ошибкой этого невинного определения, а лишь результатом его неправильного применения.
Значение, которое в современном языке имеет слово “пуританин”, позволяет выразить что-то по сути правдивое с весьма некрасивым и обидный прищуром глаз — что, естественно, имеет свои последствия. Как уже упоминалось, независимо от того, являемся мы сторонниками или противниками старинных инструментов, на всех нас наложило свой отпечаток “возрождение” старинной музыки в 20-30 годах XX столетия. Сначала она трактовалась не как составная общей музыкальной жизни, а как движение с идеологической подпочвой, как “контрмузыка” — ее открывали и лелеяли в кружках воодушевленные дилетанты. Профессиональная музыкальная среда не обращала на нее внимания, но пионеры старинной музыки не придавали этому никакого значения, хотя круг ее приверженцев и оставался узким. Считалось, что в старинной музыке найдены “чистые” и “настоящие” ценности — к чему и стремились после Первой мировой войны молодежные движения, направленные против лживой морали тогдашнего общества.
Общепризнанную музыку, звучащую тогда в симфонических концертах и оперных театрах, считали высокопарной и лицемерной, а всю музыкальную жизнь — “искусственной”. Определение “романтический” приобрело отрицательную окраску, положительно относились лишь к тому, что считалось “объективным”. Технический блеск и совершенство были характерными особенностями профессиональной музыки, и уже потому к ним относились с подозрением. Вместе с тем музыка ренессанса и барокко, к тому времени совершенно забытая, полностью соответствовала новым идеалам: сыгранная и пропетая медленно, она не создавала технических проблем, а из-за отсутствия обозначений темпа и динамики удивительно идеально подходила для “объективного” музицирования.
Немного позже стали отходить от традиционного инструментария, заново открывая блокфлейту, гамбу и клавесин. Но отсутствие хороших образцов и непрерывной традиции стало причиной того, что поначалу скудное звучание воспринималось как суровое, настоящее и потому, собственно, прекрасное. Конечно, было много и таких музыкантов, которые, несмотря на скромность полученных результатов, предчувствовали наличие других звуковых и технических возможностей, находили в этой музыке свободные от идеологии ценности. В скором времени этим делом и заново открытыми инструментами заинтересовались несколько профессиональных музыкантов, не нашедших однако понимания и уважения со стороны своих коллег. Их деятельность считалась своего рода хобби; ее принимали неохотно, ибо она внушала опасение, что увлечение игрой на старинных инструментах приведет к снижению качества игры на “нормальных” при исполнении “настоящей” музыки.
Родом из тех, отдаленных уже, времен и те ошибки, серьезные последствия которых мы ощущаем по сей день. Наиболее характерным примером служит современный клавесин. Производители инструментов быстро открыли для себя новый рынок и удовлетворили постоянно возрастающее количество почитателей старинной музыки блокфлейтами, гамбами, а позже крумгорнами, барочными тромбонами и еще многими другими “старинными” инструментами. Конечно, домашнее фортепиано не могло приобщиться к игре в таком ансамбле, нужен был клавесин. При новоявленном промышленном выпуске клавесинов (за короткое время на них появился огромный спрос) не обращали внимания на еще сохранившиеся старинные инструменты, поскольку не желали отказываться от достижений современного производства фортепиано. Были выпущены клавишные инструменты разных размеров и по разной цене (сделанные, как фортепиано), их струны щипали плектры из твердой кожи, позже — из разнообразных искусственных материалов.
Эти инструменты назвали “чембало” (клавесин), хотя их звук был таким же далеким от звучания клавесина, как звук детских игрушечных скрипок от скрипок Страдивари. Ошибка прошла незамеченной из-за отсутствия критериев: музыканты не имели представления, как должен звучать клавесин; промышленность же пошла путем наименьшего сопротивления, выявляя спрос и стремясь прежде всего к его удовлетворению. Из-за всевозрастающего своего количества “чембало” вскоре стали общедоступными, их начали использовать для “стилевых” исполнений музыки Баха в рамках “большой концертной жизни”, слушатели привыкли считать их цыканье и звон “оригинальным звуком”. Интеллектуально независимые музыканты (такие как Фуртвенглер) отвергли этот “клавесин”, утверждая, что на нем нельзя играть музыку; рынок же затопили суррогаты, поскольку не было возможности послушать настоящий клавесин.
Понадобилось десятилетие, чтобы обнаружилось фундаментальное недоразумение. Еще много времени пройдет, пока все музыканты и почитатели музыки изменят свои ошибочные представления на правильные, пока все эти безобразные клавесины исчезнут из концертных залов. Что ж, пионерские времена имеют право на ошибку — при условии, что следующие поколения смогут ее обнаружить и исправить.
Этот необычайно интересный, с точки зрения истории культуры и влияния на производство инструментов, период начала движения за старинную музыку представляет собой нечто значительное, поскольку повлиял на становление профессиональных музыкантов, критиков и концертной аудитории. Если тридцать лет назад (около 1950 — прим. перевод.) музыкант современной ориентации проявлял интерес к возможностям стилевого исполнения музыки XVII—XVIII вв., считая, что найдет в ней высочайшие художественные ценности, его зачисляли чуть ли не в дезертиры и сектанты-дилетанты, а если к тому же он — по какой-то причине — выбирал старинные инструменты, к нему практически переставали относиться серьезно — по крайней мере в среде традиционных филармонических исполнителей. Приплыв же музыкантов из лагеря профессионалов упорными сторонниками старинной музыки воспринимался доброжелательно, даже если естественное стремление этих инструменталистов к совершенству давало повод подозревать, что — относительно идеологии — они служат не совсем тому делу.
Вдобавок оказалось, что на старинных инструментах можно играть так же хорошо, как и на других; речь пошла уже о том, почему тот или иной музыкант решался на то или иное звуковое решение.
Начальное предубеждение в ближайшие годы рассеется настолько, что никакие “внемузыкальные” аргументы — вроде корпоративных интересов или боязни перед дискриминацией — уже не будут влиять на решение. Ведь естественно, что каждый музыкант по возможности стремится играть на лучшем инструменте. Исторический или музейный аспект — как это когда-то делали и как это звучало? — может, конечно, заинтересовать на определенное время. Но если бы кто-то, исходя из такой заинтересованности, стремился сделать себе карьеру, то не стал бы музыкантом; такого человека я назвал бы скорее историком. Музыкант, в конце концов, всегда будет искать подходящий для себя инструмент. Дальнейшие размышления на эту тему ограничу обращением только к тем, кто из чисто музыкальных соображений какой-то инструмент ставит выше другого; те же, кто поступает так лишь из интереса к историческим случаям и фактам, не могут быть причислены — по моему мнению — к музыкантам, в лучшем случае они являются исследователями, но не артистами.
Сейчас в нашем распоряжении репертуар до сих пор небывалого, широчайшего диапазона; исполняются произведения, созданные на протяжении почти восьми столетий. При соответствующем знании исторических обстоятельств (приведенный ранее пример клавесина применим и к другим инструментам) можно использовать целый арсенал многочисленных инструментов из различных эпох. Музыкант должен, прежде всего, иметь право играть любое произведение на наиболее соответствующем инструменте и выбирать наилучшее звучание.
При реализации такого решения во внимание принимается только один критерий: что лучше всего можно сыграть на этом инструменте, а что — на другом? Все музыканты знают: не существует абсолютно совершенных инструментов и при использовании любого — как старинного, так и современного — приходится просто мириться с определенными недостатками. Если сравнить преимущества и недостатки наилучших инструментов из разных эпох, то следует подчеркнуть: речь не о стандартной эволюции — от плохих инструментов к все более лучшим, как в случаях с самолетами или фотокамерами, а лишь о том, что каждый инструмент, подобно каждой стадии его развития, имеет как плохие, так и хорошие черты. Это полностью осознавали как музыканты, так и мастера музыкальных инструментов. Итак, абсолютно естественно, что существует тесная взаимосогласованность между замыслами мастеров инструментов, с одной стороны, и замыслами исполнителей и композиторов — с другой. Много известных “изобретений” мастеров, несмотря на первоначальный успех, не получили признания у музыкантов (гекельфон, арпеджион и т.д.), в то время как другие — например, молоточковое фортепиано (Hammerklavier) — благодаря тесному сотрудничеству композиторов и музыкальных мастеров, переживали исключительно интересные метаморфозы.
С определенного времени эволюция кажется законченной: уже более ста лет наш инструментарий остается практически неизменным — факт, достойный внимания, если учесть, что в предыдущие столетия каждые несколько лет или, по крайней мере, при жизни каждого поколения почти все инструменты подвергались принципиальным изменениям.
Тем самым можно было бы двояко ответить на вопрос, поставленный в заглавии: либо “да” — ибо все инструменты, о которых идет речь, старинные, либо “нет” — поскольку эти инструменты, учитывая достигнутое совершенство, не требовали изменений уже свыше ста лет.
По-моему, только первый ответ предоставляет возможность какой-то дальнейшей перспективы, ибо эволюция инструментов задержалась не потому, что достигла совершенства — да это, наверное, и невозможно — а потому, что в настоящее время заколебались основы, возникло сомнение относительно сути западной музыки и — шире — западной культуры. И как только современное художественное творчество перестало соответствовать культурному спросу, — мы перестали смотреть свысока на искусство и музыку прошлого (взгляд, характеризующий каждую эпоху со здоровой культурой) и можем теперь оценить их по достоинству. Однако эта оценка — как в музыке, так и в изобразительном искусстве — перестала быть оцениванием в том смысле, что музыку определенной эпохи мы считаем лучше какой-то иной.
Относительно музыкального инструмента речь идет все же об “орудии”, своего рода техническом устройстве, поэтому вера в прогресс здесь удерживается дольше. Тем не менее музыкальный инструмент является также и произведением искусства. Имена великих музыкальных мастеров были и будут так же знамениты, как имена прославленных художников: Антонио Страдивари, Иоганн Кристоф Дэннер, Иоганн Вильгельм Хаас, Андреас Рюкерс, Андреас Штайн, Теобальд Бём и прочие — создавали не просто инструменты, а совершенные произведения искусства, которые нельзя улучшить, не испортив их при этом.
Если, например, возьмем скрипку Страдивари приблизительно 1700 года в том виде, в котором она вышла из его мастерской, оснастим ее распространенными тогда жильными струнами, подставкой, подгрифником, душкой и будем играть тогдашним смычком, то заметим, что она в самом деле звучит значительно тише, чем скрипки этого же мастера, переделанные в XIX или XX столетии и оснащенные струнами на современный лад, а играют на них новейшим смычком. Вместе с тем она (аутентичная, непеределанная скрипка) обладает огромным богатством утонченных звуковых качеств (обертоны, характер атаки, способ объединения звуков, баланс между низкими и высокими струнами), которых современный инструмент уже не демонстрирует.
Вероятно, следует вкратце напомнить, что давние смычковые инструменты, использовавшиеся испокон веков, постоянно подвергались изменениям. Их снова и снова переделывали, иногда довольно основательно, но — вопреки всем переменам стиля и вкусов — они спаслись и дожили до наших времен. Старые скрипки звучат теперь абсолютно иначе, чем двести-триста лет назад, а современный скрипач-виртуоз, услышав своего “Страдивариуса” в его оригинальной версии, был бы так же сбит с толку, как и Страдивари, если б мог услышать и увидеть, что потомки сделали с его инструментом. Практически нет сейчас инструментов старых мастеров, которые не были бы многократно переделаны — прежде всего ради усиления звука, а также его большей унификации и выравнивания.
Но характеристики наилучших старинных инструментов были очень старательно сбалансированы, отсюда любое улучшение путем перестройки становилось причиной ухудшения какого-либо другого компонента (прежде всего звукового). Все зависит от того, чему на данный момент придается большее значение. Если сравнить серебряную флейту Бёма с одноклапанной флейтой Готтетера, — можно убедиться, что на флейте Бёма все полутоны звучат похоже друг на друга, на флейте же Готтетера, благодаря разным размерам отверстий и необходимости применять вилочные приемы, почти каждый звук имеет другую окраску. Флейта Бёма звучит также значительно громче, но тембрально более убого, выровненно и однообразно. Конечно, ситуацию можно представить иначе, в зависимости от личных взглядов и вкусов. Если за идеал принимается звучание флейты Бёма, то флейта Готтетера будет плохим инструментом, поскольку извлекаемые на ней звуки неоднородны. Если же за звуковой идеал признать одноклапанную флейту, то в свою очередь флейта Бёма будет плохим инструментом, ибо на ней все звуки однообразны.
Эти и многие другие точки зрения можно найти в письменных свидетельствах разных эпох, и, надо признать, нелегко определить, что хорошо, а что плохо, — для этого сначала надо понять согласованность намерений композитора, исполнителя и мастера инструментов. Итак, если музыкант по каким-то соображениям предпочтет неоднородное звучание старинной флейты выровненному звучанию флейты Бёма (что с исторической точки зрения совершенно справедливо), — не следует такое звучание считать недостатком его интерпретации, подобно тому как критик, исповедующий противоположные взгляды, не должен считать недостатком исполнения выровненное звучание флейты Бёма.
Исторические раздумья на тему новаций в производстве инструментов до тех пор интересны, пока речь — об инновациях; теперь же — только о том, содержательна ли интерпретация сама по себе, и — если имеем дело с подготовленным слушателем — достаточно ли убедительна. Многие музыканты, в том числе и я, ссылаясь на опыт сравнений, утверждают, что преимущества и недостатки очередных этапов развития какого-либо инструмента точно соответствуют требованиям музыки того периода, откуда родом инструмент. Разнообразный колорит и тусклое звучание флейты Готтетера подходят для французской музыки, созданной до 1700 года, и абсолютно не соответствуют немецкой музыке после 1900 года, тогда как однородный звук металлической флейты Бёма оптимален для музыки этого времени и не подходит к репертуару XVII века. Такие сравнения позволительны для любого инструмента; правда, в отдельных случаях непредубежденную оценку может затруднить вопрос: возможно ли вообще сейчас играть на том или ином инструменте в соответствии с пожеланиями его создателей?
При выборе инструмента решающее значение имеет его объективное качество. Рядом с вопросом, на “современных” или же на старинных инструментах стоит играть, надо также спросить: что такое вообще — хороший инструмент? Если для кого-то чисто звуковая сторона интерпретации настолько важна, что он из художественных соображений должен выбрать инструменты какой-то определенной эпохи, то оценка качества этих инструментов должна быть для него не менее важной.
Иначе говоря: глупо ставить плохую барочную флейту выше флейты Бёма лишь только потому, что она барочная. Плохой инструмент остается плохим даже тогда, когда временно пользуется успехом у музыкантов и меломанов, у которых под влиянием моды наступила коллективная атрофия критицизма (как в случае упоминавшегося псевдоклавесина). Итак, мы должны быть осмотрительными, чтобы фальшивые пророки, как волки в овечьей шкуре, не заставили нас принимать фальшь за правду и плохое признавать хорошим. Любая мода на старинные инструменты не должна вести к тому, чтобы бесчисленные, лучше или хуже выточенные деревянные трубы с шестью или восемью отверстиями хвалили как “оригинальные инструменты” и использовали как таковые независимо от неадекватности их звука. Мы всегда должны апеллировать к своему слуху и вкусу, как к арбитру, и удовлетворяться только самым лучшим.
Музыкант, осознающий свою ответственность, не упустит ни единой оказии поиграть на аутентичных инструментах известнейших мастеров, послушать их и сравнить с ними все те копии, или чаще так называемые копии, которые ему подсовывают. Если наше ухо восприимчиво к тонкостям звучания и его настоящего качества, мы сможем легко отличить игрушечный звук фальшивых “оригинальных инструментов” от звукового богатства настоящих инструментов (или их качественных копий). Также и публика в дальнейшем уже не позволит обманывать себя плохими и убогими звуками, подсовывающимися как ценное “оригинальное барочное звучание”. Идея “оригинальных инструментов” не может ограничить наше право занимать свою позицию относительно взрывов энтузиазма по поводу якобы воскрешенного настоящего звучания старинной музыки. Историческая ошибка, допущенная при изготовлении клавесинов, не должна повторяться с другими инструментами. Итак, надо решительно отвергнуть низкое качество, что для настоящих музыкантов всегда очевидно.
По мере того, как музыканты знакомятся с особенностями разных исторических и национальных стилей западной музыки, они открывают глубокие связи между той музыкой и давними, а также нынешними условиями ее интерпретации. Тем не менее консервативные музыканты, развитие которых остановилось на музыке перелома XIX—XX вв., даже играя старинную музыку, в большинстве случаев отдают предпочтение инструментам их любимой эпохи, которые до сих пор забавно называют новейшим инструментарием.
Вместе с тем музыканты, открытые и для современной музыки, если вообще играют старинную музыку, то обращаются к оригинальным инструментам, поскольку считают, что таким образом обогащают свою палитру средств выразительности. Итак, видим, что размежевание, часто проводимое профессиональными критиками: интерпретация современная (на обычных инструментах) и интерпретация историзированная (на старинных инструментах), — полностью противоречит существу дела. Современность интерпретации заключается не в выборе инструмента, и, наверное, не в цитированном выше противопоставлении. Очевидно, интерпретация на старинных инструментах — а равно и на обычных — может быть исторической, но благодаря не инструментам, а позиции конкретного музыканта. Существенными мотивами такого решения должны быть только музыкальные достижения или потери, возникающие вследствие сделанного выбора.
К чисто звуковым и техническим аспектам приобщается еще и проблема интонации, которую не может обойти ни один музыкант, серьезно занимающийся доклассической музыкой. И здесь тоже, в результате попыток и раздумий, приходим к выводу: любая музыка требует определенной интонационной системы, а разные чистотерциевые или неравномерные темперации XVI, XVII, XVIII и XIX веков для воспроизведения старинной музыки так же важны, как и равномерная темперация (строй, уж никак не хорошо темперированный). Здесь также помогут старинные инструменты, ибо вопреки распространенной версии на хороших старинных инструментах можно играть так же чисто или нечисто, как и на “современных”, тем не менее очевидно, что тогдашние системы темперации все-таки легче реализовать на оригинальных инструментах.
Как последний аргумент использую проблему баланса внутри оркестра или камерного ансамбля. Каждая эпоха имеет свои чудесно согласованные между собой инструменты; композиторы пишут именно для такого оркестра, для данных звуковых соотношений. Если сейчас кто-то удовлетворится использованием инструмента, только носящего одинаковое или подобное предполагавшемуся вначале название, то в результате получит случайное звучание, имеющее мало общего с замыслом композитора.
Ни в коем случае не хотелось бы тут агитировать за “историческое” исполнение или за реконструкцию исполнения из прошлых веков — колесо Истории не повернуть вспять. Но вопреки всей нашей прогрессивности нам все же требуются искусство и музыка прошлого; звуковая одежда была и остается здесь второстепенным делом. Для меня оригинальное звучание становится интересным лишь тогда, когда среди многих возможностей, имеющихся в моем распоряжении, оказывается наилучшим для воспроизведения той или иной музыки сегодня. И как оркестр Преториуса считаю неподходящим для исполнения музыки Рихарда Штрауса, так и оркестр Р.Штрауса — для музыки Монтеверди.
Реконструирование оригинальных звуковых условий в студии
Каждое существительное в этом заголовке побуждает во мне различные эмоции и склоняет к извинениям, объяснениям и антитезам. “Реконструирование оригинальных условий” — сразу возникают многочисленные вопросы: что это за оригинальные звуковые условия — хорошие они или плохие, или, может, никакие, так зачем их воссоздавать? Почему не создать новые? И вдобавок “в студии”? Такая постановка вопроса совершенно разочаровывает; если кто-то вообразит реконструирование звуковых условий, то подумает прежде всего о готических или барочных соборах, где играли бы на так называемых оригинальных инструментах pi, может, даже пели бы оригинальными голосами, однако, принимая во внимание чисто научную точку зрения и экологию, можно также — не без резона — посетовать, что в аутентичные органы XVII столетия не удастся подать оригинальный воздух из той эпохи, очевидно имевший абсолютно другие звуковые свойства.
Не могу к этой теме отнестись объективно; любая возникающая мысль заставляет занимать предельно личную позицию. “Оригинальные звуковые условия”, например, означают для меня те, которые мог бы представить композитор для оптимального исполнения какого-либо произведения в свою эпоху. Эта идея интересна, поскольку для меня очевидно, что большинство композиторов задумывало свои произведения не только как абстрактные формальные композиции, но и как звуковую реальность. Конечно, влияние различных возможных факторов на процесс творчества у разных композиторов неодинаково и во многом зависело от господствующих тогда вкусов. Для музыканта, исполняющего чужие композиции, понимание замыслов автора очень важно. Не в каждую эпоху, не у всех композиторов и не во всех произведениях музыкальная субстанция равным образом зависит от звуковой реализации. Нидерландские композиторы XVI века оставляли открытым вопрос об окончательном звуковом образе своих произведений, для композиции не было важным даже то, будет она спетой или сыгранной. Означает ли это, что исполнители имеют полную свободу (при тщательном подходе к исполнению), или же такое бесконечное множество “правильных возможностей” имеет в себе нечто общее, страхующее его от неправильной интерпретации? Здесь я становлюсь на скользкий путь субъективных оценок, на котором, как известно, почти всегда (как и в естественных науках) преимущественно получается то, чего и ожидает исследователь. Итак, опираясь прежде всего на мое музыкальное ощущение, считаю — правильным интерпретациям свойственна некая общность, но при одном условии: я хочу композицию исполнить, а не переработать или воссоздать заново.
Эта общность может касаться: во-первых, тембров и способности их слияния в одном звучании; во-вторых, что значительно чаще, основы звукоизвлечения (будет звук удержан, подвергнут усилению или затуханию, как звук колокола); и, в-третьих, интонационной системы, то есть обусловленных правил, в соответствии с которыми одни интервалы интонируются чисто, а другие — как расширенные или малые; наконец, в-четвертых, — акустических условий. Общее и расхождения в этих пунктах должны быть выяснены до конца, оценены с точки зрения их важности для интерпретации и в дальнейшем использованы.
Если сжато: на мой взгляд, почти всегда существует довольно много вероятно правильных решений, но также — и это постоянно надо иметь в виду — несколько абсолютно ошибочных. Поскольку композиторы предусматривают определенное звучание для своих произведений, они записывают их идиоматически, то есть типичными для определенного инструмента, голоса или соответствующего оркестра приемами. Если, например, для музыки времен императора Максимилиана I существовало очень много разных возможностей “аутентичного” исполнения, то для симфонических поэм Рихарда Штрауса существует только один адекватный звуковой образ. На протяжении четырех столетий, разделяющих эти времена, постепенно происходили изменения, постоянно ограничивающие количество “правильных” возможностей.
Под оригинальными звуковыми условиями я понимаю соответственно все легитимные возможности, которые мог вообразить композитор. Ради порядка хочу сейчас исключить все посторонние привнесения в стиль другой эпохи; они, как и перевод литературного произведения на иностранный язык, всегда изменяют оригинал. Здесь предмет заинтересованности — произведение композитора, и мне следует приложить определенные усилия для изучения его языка.
Оригинальные звуковые условия очень интересны для музыканта, если они — не принимая во внимание эстетический аспект — могут привести к пониманию произведения. Тем не менее сугубо исторический вопрос: “Как это звучало тогда?” — для музыканта может иметь лишь информационную ценность; исполнителя же постоянно будет интересовать: “Как я могу это наилучшим образом воссоздать?” В современных дискуссиях, касающихся проблем звучания в разные эпохи, прежде всего речь идет об инструментальном звучании. Понятие “старинные инструменты” начинает восприниматься как мерило ценности, со всеми плюсами и минусами. И если еще лет 5 назад говорили: “Но это же удивительно прекрасно, даже на этих старинных инструментах”, — то сейчас слышим и читаем все чаще: “Это прекрасно, хотя и не использованы старинные инструменты”. Как видим, критерии подвергаются значительным изменениям. Тем не менее, я вовсе не уверен, что в вопросе о звуковых условиях речь, прежде всего, об инструментах. Я даже убежден, — с точки зрения звучания, музыкальная дикция, артикуляция и проблемы интонации в музыке XVII—XVIII веков значительно важнее, нежели инструменты, поскольку более непосредственно касаются музыкальной субстанции.
Интонация (имею в виду не настройку фортепиано, органа или клавесина, а лишь проблему точной высоты звука). Относительно нее сегодня в ходу категорический приговор: хорошая или плохая, чистая или фальшивая. Однако такой подход абсолютно неприемлем. Никакой общеобязательной чистой интонации не существует. Артист, интонирующий удовлетворительно или всегда одинаково, интонирует чисто в границах своей звуковой системы. Человеческое ухо напоминает чистый лист, на котором радио, настройщик фортепиано и учитель музыки записывают определенную интонационную систему. То есть, она должна быть сперва, так сказать, запрограммирована, а потом уж любое отклонение от этой программы будет восприниматься как фальшь. Таким образом, восприятие интонации сугубо субъективно. Впрочем, если каждая эпоха имеет свою, отличающуюся от других интонационную систему, то следует установить, возможно ли вообще с помощью одной-единственной распространенной ныне системы понятно воссоздавать музыку разных эпох. Предположим, что какой-то струнный квартет играет в совершенстве. Тем не менее, если музыканты играют квартет Моцарта в соответствии с методой, применявшейся в обучении на протяжении последних 60 лет (немного отступая от равномерно темперированного строя, чтобы добиться мелодического напряжения, и прежде всего повышая вводные тоны и большие терции), я это воспринимаю как явную фальшь. Поскольку квартет Моцарта был написан для интонации совсем другого типа, а я лично на протяжении лет так привык к различию интонационных систем — приобрел привычку будто “перепрограммировать” свой слух,— то моя способность к пониманию начинает здесь бунтовать. Однако мне все же ясно, что эти музыканты очень хорошо интонируют, ибо в границах своей системы они остаются достаточно последовательными. Но я почти не в состоянии следить за изменениями гармоний и понимать их, поскольку эта система интонации для меня неприемлема, просто никакая. В свою очередь, кто-то другой может воспринимать как фальшивую ту интонацию, которая кажется мне чистой. Очевидно, прежде чем приступить к оценкам, следует согласовать систему, в границах которой они будут выставляться.
Пусть это послужит примером значимости проблемы, на которую мы очень редко обращаем внимание и естественным, логическим продолжением которой является вопрос о значении разных мажорных и минорных тональностей. В равномерно темперированном строе они не могут различаться между собою ничем, кроме высоты звука. И меня с давних пор удивляет, что сегодня, в эпоху точных формулировок, все еще без каких-либо объективных оснований считают, будто разным тональностям соответствуют различные состояния духа; хотя уже совершенно нет никаких других тональностей вне транспозиций C-dur и a-moll. Так называемая равномерная темперация (зачастую ее путают с “хорошо темперированной”) в общем употреблении появилась довольно поздно, лишь в XIX веке, но и в этой системе, в соответствии с цеховой традицией настройщиков, до нашего времени сохраняются отклонения, которые действительно предопределяют разную степень чистоты отдельных тональностей, а отсюда — придание им разного характера на клавишных инструментах. Инструментарий периода до 1840 года давал возможность еще лучше их различать, так как на деревянных духовых и натуральных медных инструментах того времени, благодаря разнородным краскам звучания, которые соответствовали разным приемам, тональности звучали абсолютно по-разному. Кроме того, существовало еще немало приемов для энгармонических звуков; давние системы интонации — барочные и добарочные — действовали еще довольно долго, тогда как более поздние инструменты тяготели к хроматически выровненной гамме. Разумеется, настолько разные системы интонации имели большое влияние не только на характер отдельных тональностей, но и на созвучность в оркестре или ансамбле. Некоторые инструменты, в особенности XVII—XVIII веков, имеют богатый спектр звука с очень четко ощутимыми обертонами. Итак, очевидно, что оркестр, играющий трезвучие C-dur, звучит абсолютно иначе, если терции, то есть “е1” — пятый обертон баса — инструментами высокой тесситуры интонируются не так, как звучит ощутимый обертон басов. Эту разницу мы ощущаем как вибрацию, которая временами может приобретать характер трели. Здесь дело не только в “чисто-нечисто”, но и в очевидном эстетическом отличии; я убежден, что любая музыка решительно требует как соответствующей системы интонации, так и исторического инструментария, при этом очевидна их тесная взаимосвязь.
Акустика помещения, в котором исполняется музыка, также важная составная оригинальных звуковых условий. Проблема была когда-то четко определена, ведь композиторам требовались профессиональные знания и навыки, выходящие далеко за границы сведений о композиции и контрапункте. Поскольку они писали музыку для конкретного случая и конкретного помещения, то элементами, входящими в состав композиции, являлись также состав и сноровка исполнителей, качество акустики помещения и даже подготовленность слушателей. За плохо рассчитанное звучание, разительные ошибки исполнения, непонятность или же чрезмерную простоту произведения законно обвиняли композитора, который надлежащим образом не предусмотрел все компоненты. В идеальном случае музыку, написанную для маленьких помещений и небольшого круга слушателей, наверное, и сейчас надо играть в небольших залах, равно как на современных, так и старинных инструментах. Думаю, звучание инструментов было усилено не только потому, что увеличилось помещение, но и потому, что музыкальная динамика, с некоторых пор ставшая важной частью композиции, требовала беспрерывного усиления. Сыграв хотя бы раз громче, потом — чтобы не утратить первоначального впечатления — надо играть каждый раз все громче и громче, вплоть до болевого порога. И лучше, чтобы зал был побольше. В конце концов можно посадить симфонический оркестр, состоящий из 120-130 музыкантов с громкими инструментами. По-моему, ни размер залов, ни количество слушателей, постоянно увеличивающееся в наше время, не являются проблемой. Если подумать, то раньше так называемые “простые люди” в количествах, для нас невообразимых, также принимали участие в музыкальной жизни, поскольку много концертов происходило тогда в церкви во время богослужений. В больших соборах северо-итальянских городов каждое воскресенье для тысяч слушателей исполнялось, например, огромное количество каждый раз новой музыки — то есть можно сказать, что тогдашняя музыкальная жизнь была значительно интенсивнее и актуальнее, чем сегодняшняя филармоническая.
К сожалению, теперь каждый исполнитель поставлен в ситуацию, вынуждающую его играть в залах, акустика которых для определенного рода музыки далека от идеала. Тем не менее чрезмерная требовательность в этом вопросе могла бы стать просто губительной для музыкальной жизни: это означало бы, что с момента нахождения идеального зала (помещение, я в том глубоко убежден, является соавтором звукового образа), я концертировал бы только в нем и что публика просто должна была бы приходить только туда. Тут не обойтись без компромиссов. Однако существует опасность: если в таких компромиссах зайти слишком далеко, то в конце концов придется действительно играть в залах, где большая часть аудитории убедится, что ей предлагается весьма бедное звучание, независимо от того, произойдет это в результате использования инструментов, которые звучат тише, или благодаря использованному композитором маленькому составу (например, в III и VI Бранденбургских концертах И.С. Баха), который нельзя увеличить без изменения музыкальной структуры.
Существуют и большие залы с оптимальной акустикой для старинных инструментов, и маленькие — с очень плохой акустикой. (Качество акустики помещения не зависит только от его размеров; существуют маленькие залы с такой плохой акустикой, что в них вообще не следует музицировать) И все же я не считаю эту проблему неразрешимой, поскольку чем сильнее отложится в сознании убеждение, что определенную музыку в определенных акустических условиях можно исполнить лучше, тем чаще для музыки XVII—XVIII столетий будут использоваться залы, не пригодные для более новой музыки по причине весьма большой реверберации. Тем не менее именно в плохих залах, благодаря соответствующей манере исполнения, можно убедить публику, что дело совсем не в том, чтобы раствориться в звуке, а наоборот — в активном слушании. Даже если в результате малой реверберации звук может быть очень тусклым, то благодаря соответствующему исполнению каждая отдельная линия будет сформирована нужным для нее способом. Каждый слушатель, сумевший перешагнуть через нехватку блеска и полировки — так часто являющихся лишь прихотью — почувствует, что получил еще нечто, чего во всех распространенных исполнениях не распознал или не заметил, ибо все гибло там в звуковой массе и упрощалось до звучаний, лишенных глубины. А старинная музыка вообще не писалась плоскостно.
В связи с этим очень важно — большую или меньшую реверберацию имеет зал. О чересчур большой реверберации для музыки (то есть весьма сильных и длинных отголосках) свидетельствует то, что созвучия накладываются одно на другое, от чего страдает восприятие изменений гармонических функций. Чтобы музыка в данном случае была понятной, такое помещение вынуждает играть в медленном темпе. Здесь речь не о темпе быстрых нот, а о темпе изменений гармоний. Это один из важнейших критериев выбора соответствующего темпа: допустимая скорость исполнения произведения ограничена условием, чтобы отголосок предшествующих аккордов не искажал следующие. Известно, что ловкие композиторы будто встраивали в свои композиции не только акустику помещения, но также отголоски и эффекты слияния отдельных звучаний в одно целое. Если не принимать во внимание этот аспект, то много партитур периода барокко, а тем паче времен средневековья и ренессанса, будет прочитано ошибочно. Примечательные примеры полного владения этим комплексом находим в произведениях Баха. Нам известна акустика церкви св. Фомы, для которой написано большинство его произведений. Знаем, что она была тогда обшита деревом и ее реверберация более или менее отвечала реверберации зала Wiener Musikverein (Венского музыкального общества), то есть прекрасного концертного зала, в котором можно играть в очень быстрых темпах без риска, что все будет “смазанным”. Можно понять, почему Бах, вопреки своим любимым — по свидетельствам его сыновей — быстрым темпам, вместе с тем мог позволить себе быстрые изменения гармонии. Другие композиторы — например, Вивальди, — использовавшие поразительно быстрые темпы (которые итальянскими ансамблями большей частью играются также в высшей степени быстро), музицировали в звонких соборах. Поэтому изменения гармонии в произведениях, предназначенных для подобных интерьеров, размещались на таких временных отрезках, чтобы взаимно не затушевываться. Очевидно, быстрые ноты вообще не должны были слышаться как отдельные звуки, а скорее — должны были расплываться в отголоске, придавая целому мерцающее звучание. Если, например, некий композитор пишет быстрое арпеджио шестнадцатыми, способное в пространстве слиться в дрожащий аккорд, а нынешний исполнитель старается эти быстрые длительности воссоздать точно и ясно, то это означает, что последний просто перекручивает содержание такого арпеджио и искажает композицию — к тому же, благодаря не своей фантазии, а лишь неосведомленности! Существует опасность, что он хочет — как и некоторые критические слушатели — услышать партитуру вместо музыки, поскольку считает, что все расплывается в пространстве, и это ему не по душе, но лишь потому, что хочет услышать именно партитуру. Если бы он стремился услышать и музыку, то ощутил бы, что быстрые ноты, благодаря отголоску, дают эффект дрожащей размытой краски. Это уже импрессионистический способ письма, учитывающий присутствие реверберации в определенном зале. В связи с этим хотелось бы поощрить к переосмыслению нынешних интерпретаций Моцарта, учитывая и акустику помещения. Я убежден: большинство из того, что ныне так тонко оттачивают и хотят услышать четко очерченым, в действительности при реверберации должно распознаваться, но иметь значительно менее четкие контуры. В любом случае, если говорим об акустике помещения, прежде всего речь не о его размерах, а об отголоске и плотности звучания.
Насколько важно для музыки барокко пространство видно из того значения, которое придается полихоральной фактуре в барочном концерте. Размещение музыкантов в разных частях помещения здесь чрезвычайно важно. Большинство музыки того времени, в отличие от сегодняшнего дня, звучало не с эстрады, а с разных сторон помещения, которое таким образом будто “вкомпоновывалось” в музыку. Полихоральную исполнительскую практику часто применяли даже в произведениях, написанных для одного хора. Простую, четырехголосную музыку можно было исполнять полихорально, если исполнителей, играющих поочередно или вместе, разделить на несколько четырехголосных групп, отдаленных одна от другой в пространстве. (Существуют свидетельства о таком исполнении четырехголосных ричеркаров Виллаэрта). В кафедральном соборе Зальцбурга подобное распределение хора практиковалось еще во второй половине XVIII века. Мессы Леопольда Моцарта, предназначенные для исполнения одним хором, то есть общепринятым тогдашним способом, в главном соборе исполнялись полихорально, для чего использовались многочисленные деревянные галереи (эмпоры).
Аранжировка пространственного размещения была преимущественно делом исполнения, а не самого произведения. Концепция заполненного звуком помещения принципиально связывалась с религиозным замыслом. Музыка была не только исполнением произведения для слушателей, но и звуковой манифестацией сакрального пространства. Сам собор был выраженной в архитектуре хвалой Господу. Человек заходил внутрь, и когда начинали раздаваться звуки, то доносились они не из определенного места, а отовсюду, и объединялись с архитектурой; влияние этого пространства как единого целого могло быть ошеломляющим. Такого включения пространства в композицию требовала идея синтеза искусств, к сожалению, уже давно нами утраченная; сейчас целостности искусства не наблюдается. Тем не менее надо помнить, что для музыки барокко подобное единство звука и пространства имело первостепенное значение, благодаря чему она охватывала всего человека и преображала его.
Включение пространства — чаще всего сакрального — в композицию очень хорошо видно на примере “Vespro della Beata Vergine” К.Монтеверди. В этом произведении полихоральность неразрывно связана с замыслом, даже если представлена она нечетко. Один хор состоит из солистов, второй — cantus firmus - из хористов. Партиям “soli” каждый раз отвечает весь хор. Смысл такого распределения певцов особенно очевиден в Concerto “Duo Serafim”. Здесь требуется, чтобы музыка охватила все пространство, ибо представляет взаимно перекликающихся Серафимов. В “Audi caelo” реакция природы на пение ангелов проявляется как эхо. Этот эффект для Монтеверди был настолько важным, что в одном месте своего “Орфея” для нескольких слов эха он применил дополнительный орган с деревянными трубами (“organo di legno”). Места с таким эффектом являются важными составными концертирующих диалогов, как, например, в IV Бранденбургском концерте И.С.Баха. Для композитора эффект эха был настолько важным, что обе флейты, которым поручено его исполнение, даже обозначены “flauti d'echo”. Поэтому не следует отказываться от пространственного размещения инструментов; только тогда, когда “flauti d'echo” звучат с большого расстояния, удается реализовать замысел, имеющийся в композиции Баха.
Итак, если принять во внимание существенную роль пространства в музыке и исполнительской практике XVII—XVIII столетий, то можно заметить, насколько важным для музыки барокко (и даже для многих произведений Моцарта и Гайдна) было размещение оркестра и разделение инструментов в пространстве. Такое размещение как в нынешних симфонических оркестрах непригодно, поскольку партии диалогирующих между собою групп (часто четко разделенных) будут сливаться и взаимоотношения их останутся нераспознанными. В соответствии с барочной идеей размещения отдельные группы инструментов должны быть разделены настолько, насколько это возможно, чтобы их диалог был слышен даже издали. Он может происходить между solo и tutti, между большими и малыми группами оркестра, а также между отдельными инструментами. Его можно реализовать, имея в распоряжении, например, камерный оркестр и трио солистов, причем важным здесь будет четкое пространственное обособление обеих групп. Известно, что Корелли как-то выступил во дворце кардинала Барберини с концертом, в котором были задействованы сто смычковых инструментов, разделенных на группы разной величины и расположенных по всему дворцу. Отдельное размещение concertino (группы солистов, выделенные из ансамбля) и оркестра практиковалось везде для подчеркивания диалога или же усиления эффекта эхо. Особую проблему порождают в этом контексте концерты для нескольких клавесинов или фортепиано. Теперь их устанавливают так, что они стоят вплотную друг к другу, и задуманный композитором диалог между инструментами становится по сути неощутимым. Полученный эффект приближается скорее к звучанию одного усиленного клавесина или фортепиано, а не диалогирующих между собою инструментов. Стремясь к идеалу, стоило бы установить их как можно дальше друг от друга, чтобы получить оптимальный эффект раздельного звучания и вместе с тем избежать ансамблевых трудностей.
После того, как я изложил значение помещения и его акустики для полихоральной практики и расположения музыкантов, хотел бы вкратце заняться проблемой студии или места, в котором производится запись на радио или пластинки. Мы, то есть Венский Concentus Musicus, записываем пластинки с 1958 года. Сначала записывали на многих фирмах; прежде всего это слышно по разной технике звукозаписи. Здесь не обошлось без конфликтов, поскольку в музыке, которую мы играем, важная часть звукового впечатления зависит именно от помещения; как музыканты можем лишь тогда чувствовать себя хорошо, когда играем в помещении, которое и без звукозаписи было бы идеальным для определенного типа музыки. Итак, это означает, что для музыкантов только в том случае можно достичь оригинальных звуковых условий “в студии”, если она будет не студией, а прежде всего идеально приспособленным для музицирования помещением. А то, что со стороны техники звукозаписи это может выглядеть совсем иначе, пусть покажет пример: две совершенно разные ситуации, в которых мы когда-то находились, — это запись в помещении, полностью лишенном реверберации, и запись в идеальном барочном зале. В первом случае музыкальные условия были настолько неблагоприятны, что мы уже никогда не согласимся на повторение подобного эксперимента. Музыканты не слышали друг друга, собственное звучание казалось тупым и бесцветным, звуки вообще не сливались в пространстве. Инструменты очень плохо звучали в таком помещении, и настоящее, полное вдохновения музицирование было невозможным. В помещении же для прослушивания все может звучать абсолютно иначе, значительно лучше и правдивее, так как прибавляется искусственная реверберация, тем не менее исполнителям это отнюдь не помогает. Даже если окончательный звуковой результат может быть идеальным, все же сам метод бесчеловечен. Удачной в музыкальном отношении такая запись может получиться только случайно. Мы также пробовали другие комбинации, или же вынуждены были их применять. Однажды каждый инструмент был записан абсолютно отдельно, на отдельной дорожке, а окончательное микширование, стереофоническое разделение и добавление реверберации были сделаны значительно позже, без нашего участия. После всех этих экспериментов (с которыми мы имели дело вследствие разных подходов к студии и препарированию звукового образа), получив готовую пластинку, мы пришли к пункту, с которого начинали много лет назад — идеальное помещение для той или иной музыки побуждает к оптимальному музицированию, и только оно достойно записи и сохранения. Да и достигнутое в таком месте качество записи получается наилучшим. А как же оригинальные звуковые условия в студии? Они появляются только тогда, когда студия уже не является студией.
* * *
Возвратимся к исходному пункту моих рассуждений относительно названия раздела, вызывающего столько противоречий. Я старался рассмотреть оригинальные звуковые условия не только со стороны так называемых старинных инструментов, а как комплекс проблем, охватывающий значительно больше аспектов. Теперь — к решающему вопросу, от которого музыканты приходят в неистовство: “ре”-конструкция... Сразу же чувствую себя будто на территории ассирийских раскопок, среди археологов, реконструирующих древнюю святыню. Можно ли вообразить, чтобы выдающийся дирижер, даже если он стремится воссоздать музыку настолько правильно, насколько это возможно, в процессе исполнения испытывал бы ощущение, что “реконструирует” симфонию Бетховена? Мы ведь только музыканты, которые играют произведения Баха или Монтеверди, зачем же нам что-то реконструировать? Кто-то задолго до нас приходил уже к выводу, что в музыкальном отношении лучше исполнять произведение по возможности ближе к пожеланиям композитора и выполнять указания текста вплоть до последней нотки, мы же пришли к убеждению, что большинство произведений удается исполнить лучше, музыкально лучше, на оригинальных инструментах, чем на любых других.
Из этого и возникает впечатление реконструкции, но в действительности — это лишь углубление музыкальных знаний. Так же, как учатся играть на современных инструментах, можно учиться и на старинных. Тем не менее, в связи с отсутствием прямой традиции относительно интерпретации нотной записи и отсутствием критериев исполнительской практики, как ни крути, а приходится исследовать, сравнивать, изучать давние трактаты, поскольку все это является средством для достижения цели, а именно — по возможности лучшего исполнения музыки. Конечно, мы осознаем, что не повторяем сейчас интерпретаций XVIII века, да к тому же совсем не хотим этого делать. Просто воссоздаем музыку с помощью самых лучших из доступных нам средств, что является законным правом и обязанностью каждого музыканта.
Можно поставить принципиальный вопрос: зачем вообще играть музыку старинную, если есть новая? Это — не ко мне. Тем не менее, если уж явно наличествует определенный анахронизм, благодаря которому художественные исповеди прошлого, предназначенные для тогдашних людей, снова кажутся нам интересными и важными, то использование инструментов тех времен уже не является анахронизмом, в особенности если эти инструменты (а так оно, без сомнения, и есть) намного лучше, чем любые другие, приспособлены и для сегодняшнего исполнения этой музыки. Нынешнюю ситуацию я вижу такой: впервые в истории западной музыки в нашем распоряжении есть музыкальное наследие многих веков, нам известны разные звуковые системы и практические исполнительские концепции, мы также знаем звучание разных инструментов каждой эпохи. Современный исполнитель имеет свободный выбор наиболее соответствующих средств выразительности — если только он это осознает.
Чаще всего различают исторический и современный инструментарий, причем последний термин употребляется бездумно и без толку. Сугубо “современного” инструментария не существует, кроме пары инструментов, которые редко используются. Так называемые современные инструменты, как и музыка, созданная для них, имеют от ста двадцати до ста сорока лет. Забавно, когда, исполняя симфонии Бетховена обычным оркестром, говорят про “исполнение на современных инструментах”, а при использовании инструментов времен Бетховена — на “исторических”. В обоих случаях имеем дело с историей! Используются ли инструменты 1850 года, или 1820 — в этом нет принципиальной разницы. В одном случае мы наслаждаемся звучанием второй половины XIX века, а в другом — первой. Что же на самом деле больше соответствует произведению и его сегодняшнему пони манию — этим почти ничего не сказано.
Хотелось бы на нескольких примерах показать связи между музыкой и адекватным инструментарием: во времена барокко большую роль в понимании музыкального языка играла музыкальная символика, а также символика звучания и теория аффектов. Например, трубы олицетворяли божественную или светскую власть. Бах их часто применял в этой роли, причем нечистые гармоники (седьмой, одиннадцатый и тринадцатый обертоны, или b1, f2, а2) употреблялись для характеристики страхов, ужасов и дьявольщины. Они звучали хрипло и нечисто, что однако для слушателей было обычным, ибо они привыкли слушать последовательность гармонических звуков в музыке, написанной для труб и валторн. Итак, интонация, а также приятное звучание — понятие, в конце концов, довольно проблематичное — использовались как средства выразительности. Иногда только предусмотренный композитором “безобразный” звук в определенных построениях объясняет правду музыкального рассказа. На вентильной трубе эти звуковые отличия невозможно воспроизвести, поскольку на ней вообще играются все звуки до восьмого обертона, пропуская седьмой. Здесь все звучит так “хорошо”, насколько это возможно, тем самым теряя содержание. Или: h-moll на барочной поперечной флейте — удивительно легкая и блестящая тональность; c-moll — звучит глухо и трудна в исполнении. Тогдашний слушатель знал об этом, а овладение трудностями определенной тональности было составной виртуозности; кроме того, исполнительские сложности далеких тональностей, ощутимые в звуковой краске благодаря применению вилочных приемов игры, были элементом аффекта. На “современной” флейте Бёма c-moll звучит настолько же хорошо, как и h-moll. Фигурации флейты из сопрановой арии “Zerffiesse mein Herze in Fluten der Zahren” из “Страстей по Иоанну” чрезвычайно сложны и тембрально разнообразны, ибо в тональности f-moll почти для каждого соединения звуков необходимы вилочные аппликатурные приемы. Это наиболее полно соответствует аффекту арии, полной отчаяния. А на флейте Бёма звучат жемчужные, виртуозные фигурации, как будто написанные для очень удобной и самой легкой тональности. Таким образом, мысль, заложенная в инструментовке, не будет донесена до слушателя. Подобные примеры можно приводить без конца. Естественно, возникает вопрос, желательны ли еще сейчас и в дальнейшем безобразность фальшивых гармоник и вызванное вилочным приемом глухое звучание, которые тогда использовались как средства музыкальной выразительности? Раньше само собой понималось, что безобразное родственно прекрасному и что одно невозможно без другого. Безобразное и шершавое в старинной музыке играет важную роль, а в нашей — не находит места. Мы уже не хотим воспринимать художественное произведение как целостность, которая состоит из разных пластов; для нас существует исключительно одна составная: эстетически прекрасное, незамутненное наслаждение, почерпнутое из искусства. Мы уже не хотим изменяться под влиянием музыки, желаем лишь наслаждаться замечательными звуками.
Верю, что возможно избавиться от слуховых привычек, возникших вследствие недоразумений, и снова воспринимать разнообразную музыку Запада как целостность. Теперь хотел бы перейти к последнему вопросу — богатству и разнообразию западной музыки. Свыше семидесяти лет назад в концертных программах уже не преобладали современные произведения — вместе с произведениями Шенберга, Стравинского начала исполняться старинная музыка Монтеверди, Баха, Моцарта, Бетховена. Благодаря весьма специфическому процессу селекции, так называемое сообщество меломанов и музыкантов отфильтровало из молчащего, “неуслышанного” фонда нашего огромного музыкального наследия репертуар, состоящий из немногих произведений, которые исполняются и прослушиваются снова и снова. Этот репертуар, очевидно, общеизвестен, тем не менее музыка, главной задачей, которой было поражать слушателя неожиданностью, теряет силу своего влияния. Неустанное обращение к досконально известному приводит к постепенному отвращению от нового и еще непознанного; отбрасывается даже то, что редко исполняется, и в конце концов люди просто перестанут понимать и слушать музыку. В этой ситуации пластинка — последний шанс: слушатель имеет возможность общаться дома с интересующим его произведением настолько часто, чтобы его так или иначе сделать своим. Тем не менее использует он такую возможность очень редко, поскольку ротация распространенных вещей омрачает перспективу и гасит стремление к новым знаниям.
Часто говорят о приговоре времени. Но время может огласить свой приговор только тогда, когда его спросят. Ясно же, что в каждую эпоху существовало великое множество малоценных композиций, а при выборе самых лучших и интереснейших произведений из барочного репертуара артисты и издательства минувших сорока лет не всегда имели счастливую руку. Теперь с давней музыкой происходит нечто подобное, как и с так называемой классической: если что-то исходит не от Баха или Монтеверди, то его уже не слушают. Итак, наши надежды возлагаем на новую публику, которая, возможно, снова будет готовой слушать как новую, так и старинную музыку, сознательно воспринимая новую музыкальную эстетику.
Приоритеты или иерархия различных аспектов
Европейский “культурный человек” часто делает ошибку, выделяя из разнообразных групп равноценных проблем отдельные вопросы и лишь им придавая особое значение. Эта ошибка хорошо известна, на ней базируется разного рода сектантство, используя ее, можно перевернуть вверх ногами весь мир. Когда речь о музыке, то из многих аспектов, определяющих интерпретацию, произвольно выдергивается что-то одно. Если, например, мы сделали какое-то “открытие”, то заявляем, ссылаясь на него: только тот, кто совершает так, а не иначе, достоин уважения как музыкант. При этом, конечно же, нельзя недооценивать радости “первооткрывателя”; обычно тот, кому кажется, будто он открыл что-то особенное, преувеличивает значение своего открытия и считает все другие аспекты менее важными. Таким образом, очень легко из многих важных для интерпретации проблем выделить как главное что-то такое, что на самом деле является только частичным и второстепенным вопросом. Фанатики, которых много вокруг старинной музыки, часто говорят: все одинаково важно, не существует никакой иерархии; об интерпретации можно дискутировать лишь тогда, когда будут выполнены все условия. Тем не менее известно, что ни один человек не может выполнить всего, чего от него ожидают, — для этого мы слишком несовершенны и должны удовлетворяться частью ожиданий; альтернативы “все” или “ничего” не существует, так как невозможно “объять необъятное”.
Нам остается лишь как-то упорядочить различные требования для реализации правильной, адекватной интерпретации. Действительно, говорится, что все важно, тем не менее существуют вещи более и менее значительные, собственно потому и надо составить что-то наподобие списка приоритетов, иерархии важности.
Хотел бы привести интересный пример, иллюстрирующий нашу страсть придавать одиночной проблеме фундаментальное значение. Один известный скрипач, барочный исполнитель, среди многих правил и указаний исполнительской практики увидел одно, а именно, что каждый звук надо сокращать. Этот знаменитый скрипач-виртуоз годами играл в филармоническом оркестре, но с тех пор как он начал исполнять барочную музыку, его стало невозможно слушать, ибо то единственное правило он поставил выше всех других. Когда ему говорили: “Хорошо, существует правило, что звук должен быть сокращенным, но существует и другое, считающее образцом пение, — как их согласовать?”, — он не обращал на это внимания. Если человек маниакально сконцентрирован на каком-то одном вопросе и считает его важнейшим, ему можно говорить все, что угодно, он же вопреки здравому смыслу будет отстаивать свою точку зрения как наиболее существенную. Итак, надо найти какой-либо соответствующий и художественный способ решения таких проблем — иначе можно дойти до эксцентричных выводов. Надо всегда быть открытым для нового, но вместе с тем уметь исправлять возможные ошибки.
Затронем отдельные аспекты главных проблем интерпретации музыкального произведения: технические сложности, звук, вероятно, также и выбор инструмента, темп, историческую ситуацию, понимание нотации (насколько она представляет само произведение, а насколько — требует толкования). Далее имеем: проблемы социальной значимости определенного произведения в прошлом и теперь (настолько, насколько это влияет на интерпретацию); проблемы, которые возникают из трактования музыки как языка звуков; вопрос артикуляции мелких нотных длительностей, что соответствует произношению слов; систему мелодических пластов, создающих так называемую большую линию, в которой нельзя руководствоваться артикуляцией слов; и, в конце концов, вопрос исполнительского состава. Возможно, мы не упомянули еще какие-то вопросы; тем не менее, если детально изучим уже названные проблемы, то придем к выводу, что любая из них может считаться основной и важнейшей.
Есть люди, утверждающие, что какая-то музыка должна исполняться только малым или только большим составом. Понять суть проблемы можно лишь после выяснения той роли, которую вообще играет исполнительский состав. Что произойдет, если вместо десяти скрипок будем иметь лишь две или три? Утверждение: композитор имел в распоряжении три первых скрипки — значит, играйте его произведения малым составом, а другой имел десять — значит, играйте большим, — лишено смысла. Вопрос величины состава надо решать в зависимости от акустики помещения, музыкальной формы и звука инструментов. На величину нужного состава влияет ряд специфических аспектов. Моцарт исполнял свои ранние симфонические произведения в Зальцбурге очень малым составом; сейчас довольно часто считают, что для этих произведений лучше всего подходит именно такой (“моцартовский”) состав, а исполнение большим оркестром осуждается как “нестилевое”. Однако произведения того же времени Моцарт исполнял в Милане очень большим составом исполнителей, поскольку помещение было значительных размеров, а оркестр — хорошим и большим. А позже, в Вене, когда он исполнял свои давние зальцбургские композиции, количество струнных в оркестре иногда было большим, чем сейчас при исполнении позднеромантических произведений. То же самое можно сказать и о различных исполнениях произведений Гайдна. Размеры залов в Лондоне, Айзенштадте и Эстергази, бывших в его распоряжении, известны. Величина состава колебалась в границах от наименьшего камерного оркестра до очень большого количества исполнителей.
Рассмотрим иной аспект этой проблемы. Решающим критерием правильной интерпретации часто считается выявление “большой мелодической линии”. Тем не менее всегда, при представлении какого-либо одного элемента, другие — отодвигаются на дальний план. Итак, если протяженные мелодические линии, типичные для романтической музыки, появившейся после 1800 года, мы захотим выстроить в другой музыке, старинной, опирающейся на иные законы, то будем вынуждены отречься от выразительной артикуляции. Звуковая прозрачность произведения также пострадает. Очень часто в таких случаях характерные особенности одного стиля переносятся на другие; только некоторые музыканты осознают тот факт, что исполнительский стиль, в котором они чувствуют себя “как дома” (чаще это поздний романтизм), не следует переносить на музыку всех других эпох.
Следующий аспект касается инструментария. В последнее время предостаточно музыкантов, считающих, что если музыку какой-то эпохи исполнять на инструментах той же эпохи, то уже почти все предпосылки “правильного” исполнения соблюдены. Понимание этого вопроса на протяжении истории музыки Запада основательно менялось. Задумаемся, например, над значением выбора инструмента и звучания для музыки XVI столетия, которая часто даже не инструментовалась самим композитором. В то время практически не было различий между вокальной и инструментальной композицией; инструменталисты использовали те же произведения, что и певцы, приспосабливая их к своим инструментам. Так поступали лютнисты, клавесинисты, флейтисты или исполнители на смычковых инструментах — одно и то же произведение могло быть сыграно различными способами, и каждый из них был стилистически безупречен. Итак, для той музыки определенный способ звуковой реализации не имел большого значения.
Предыдущие соображения показывают, насколько важны приоритеты разных, возникающих перед нами музыкальных проблем и насколько кардинально они меняются в зависимости от произведений и эпох. Однажды может оказаться, что неправильная интерпретация делает музыку невыразительной, иногда же, несмотря на неизбежные грубые ошибки интерпретации, значительная часть произведения, олицетворяющая скрытый музыкальный замысел, может быть сохранена и передана слушателям. Мы не должны акцентировать внимание на том, насколько исполнение стилистически “правдивое” или “фальшивое”, а должны стремиться, чтобы оно имело силу убеждения; в результате станем значительно терпимее по отношению к иным, но рожденным тем же духом взглядам. А то, что наиболее убедительное исполнение преимущественно и наиболее правильное — уже другое дело.
Следовательно, для нас важен поиск естественного метода, позволяющего хотя бы приблизительно упорядочить разнообразные аспекты в соответствии с их значением. На первое место надо всякий раз ставить понимание произведения; все остальное будет подчинено этому. Итак: каким образом доходит произведение до слушателя, какую роль в этом играют стилистические черты? Или здесь речь о стиле эпохи (общее во всех композициях того определенного времени), или о личном в стиле композитора; или иначе, в чем отличие индивидуального стиля от стиля эпохи? Для музыканта очень важно уметь распознавать и различать эти факторы, ибо иное исполнение может оказаться таким стилистическим винегретом, что слушатель не сможет ничего понять (и ограничится универсальным “как это хорошо”). Прежде всего, если речь о стиле эпохи, стоило бы узнать и понять все доступное по этой теме, тогда стилистические особенности отдельных композиторов прояснились бы сами собой. Важные различия между стилями отдельных эпох наблюдаем, например, между:
1) поздним немецким барокко Баха, Генделя и Телемана
и
2) чувствительностью (Empfindsamkeit), галантностью, “штюрмерством” (Sturm und Drang), типичными для сыновей Баха и их современников; или между “выразительной” музыкой Венского классицизма Моцарта и Гайдна (происходящей непосредственно из предшествующего)
и
3) средним и поздним периодом творчества Бетховена, вплоть до времени Вебера и Мендельсона.
С точки зрения способа исполнения это в упрощенном виде означало бы:
1) выразительную игру, артикуляцию “слов” в малых звуковых группах, динамику преимущественно одиночных звуков, трактованную как средство артикуляции;
2) динамику крупного плана, неразрывно связанную с композицией (так называемое мангаймское крещендо), новую инструментовку, “романтическую” игру с тембрами (идиоматическое употребление духовых инструментов, педальные аккорды), острые динамические контрасты;
3) потерю деталей артикуляции в пользу крупных построений и линий legato, живописное использование звуковых красок (в это время влияние музыки значительно больше зависит от ее общего душевного состояния, чем jot отделки деталей).
Музыкальный язык XVIII века также знает подобные состояния духа, но там они всегда связаны с языком как таковым. Говорят тоже по-разному, в зависимости от того, рассказывают что-то печальное или веселое; душевное состояние изменяет дикцию речи. Вместе с тем в XIX в. изображались цельные музыкальные образы, которые могли удерживаться относительно долго; создавалось впечатление, что слушателя вводили в определенное состояние, но ничего ему не говорили.
Очень важно понимание стиля эпохи и способа мышления композитора в родную для него эпоху. Независимо от того, ведется ли речь о музыке артикулированной, “повествующей”, или о широких мелодических линиях, изображающих различные настроения.
Разумеется, музыкантам каждой эпохи ближе музыкальные идиомы их времени, поэтому им кажется, что с помощью этих идиом они должны также понимать и воссоздавать музыку других эпох. Таким образом, когда в XIX веке исполняли произведения Баха (для которых отправным пунктом понимания должна быть речь), то их интерпретировали в духе произведений этого времени — позднеромантической, чувствительной музыки широкого дыхания; это приводило к переинструментовке и замене артикуляции на “фразировку”. Понятие артикуляции полностью исчезло, артикуляционная лига стала обозначением штриха и указывает перемену смычка — по возможности наименее ощутимую. Даже невозможно представить что-то более противоположное настоящей артикуляции. Вместе с тем, если мы для понимания произведения будем придерживаться требований иерархии, обнаруживается, что артикуляция иерархически находится очень высоко и приобретает особое значение. Из-за того, что произведение может принципиально измениться от правильной или ошибочной артикуляции и от нее же непосредственно зависит его понимание, я размещаю артикуляцию в самом начале “списка приоритетов”.
Каждый музыкант старается на своем инструменте или своим голосом как можно лучше выразить то, что соответствует требованиям определенной музыки. Стоит заметить — развитие музыкальных инструментов всегда шло согласно желаниям композиторов и стилю эпохи. Длительное время считалось, что с технической стороны это развитие шло своим собственным путем, который вел — как это казалось из наблюдений — всегда от худшего к лучшему. Смычок, изобретенный Туртом (около 1760 года), должен был стать лучше смычков, применявшихся до него; флейта, которую изготовил Бём (около 1850), — лучше предшествующих флейт; и так со всеми инструментами.
Эта вера в прогресс еще до сих пор очень распространена — особенно среди тех, кто, как правило, хорошо ознакомлен с историей исполнительства. Похоже, подобное происходит потому, что они не в состоянии вообразить ту цену, которую надо платить за каждое улучшение. С исторической точки зрения, недостатки, от которых старались избавиться, были только мнимыми. Воображение композитора находилось, безусловно, в границах звукового мира его эпохи, а не в каком-то утопическом будущем. Видим, что исторические инструменты сохраняют свое значение в исполнительстве. Надо изучать их преимущества и недостатки, их особые свойства в сфере звучания, слияния тембров, динамики и не в последнюю очередь — интонации. Тем не менее, если кто-то отважится на последовательно “исторический” способ исполнения, то должен спросить себя, не вносит ли старинный инструмент, кроме своих преимуществ и недостатков, еще и другую черту, характеризующую его только во времени, которому он не принадлежит, то, есть сегодня: создаваемый им звук не звучит нормально для нашего времени, а имеет чужую, “экзотическую” окраску. Не существует сколько-нибудь непрерывной традиции игры, и совсем неизвестно, как на самом деле играли когда-то на тех старинных инструментах. Современный музыкант в редчайших случаях может полностью достичь тождества с их звучанием, Иногда на своем современном инструменте он может лучше реализовать звуковые и технические постулаты “исторического” исполнения, нежели в случае применения настоящего старинного инструмента, с которым не сжился ни музыкально, ни физически. Итак, здесь, в этой очень сложной области, надо всякий раз принимать решение, исходя из преимуществ или недостатков. Для примера рассмотрим проблему скрипичного смычка. Смычком, изготовленным в конце XVIII столетия Туртом, можно на протяжении всей его длины извлекать звук одинаково громкий, изменение направления ведения смычка можно сделать действительно неслышным и достичь почти идеальной одинаковости звука при ведении смычка вверх и вниз. Им можно играть чрезвычайно громко; старинный же смычок (нем. Springbogen, франц. sautille) звучит по сравнению с ним твердо и бубняще. За преимущества, сделавшие смычок Турта после 1800 года идеальным орудием для исполнения музыки “протяженных мелодических линий” уплачено потерей многих других свойств: при его использовании очень тяжело формировать гибкий звук, подобный звуку колокола[3], или завершить звук мягким угасанием, да и обязательное в старинной музыке различие звука при ведении смычка вверх и вниз, естественное при использовании барочного смычка, становится уже невозможным. Конечно, музыкант на это может ответить: но именно такое различие скверно, вверх и вниз должно играться одинаково, новейший смычок (Турта) именно потому лучше барочного, что только с его помощью можно извлекать одинаковый звук во всех регистрах. Тем не менее, если мы согласимся, что лучше всего исполнить музыку можно, стараясь воссоздавать ее адекватным способом, то заметим, что все надуманные недостатки барочного смычка являются одновременно и его преимуществами. Соединенные чаще всего парами (лигой и движением смычка), звуки звучат иначе “вверх”, чем “вниз”; одиночный звук приобретает динамический рисунок, напоминающий звук колокола; множество градаций между legato и spiccato получаются будто сами собой. Как видим, барочный смычок идеален для исполнения барочной музыки — очень убедительные аргументы свидетельствуют в его пользу. Хотя, конечно, нецелесообразно считать его идеальным во всех случаях и применять для исполнения музыки Рихарда Штрауса. Следует заметить, сейчас ситуация как раз обратная — смычок Турта считается идеальным для исполнения всей музыки.
Конечно, если нет другого смычка, то и современным (хотя он и сконструирован для игры legato, игры линеарной или звуковыми пластами) все же можно достичь умения барочной выразительной игры. Как музыканты, мы обречены сегодня исполнять музыку разных веков одними и теми же “орудиями”. Каждый оркестровый музыкант знает ситуацию, когда, например, в какой-то день он должен играть современную музыку, а на следующий — симфонию Моцарта или какое-либо произведение Баха или Густава Малера. Он не может изменить свое “орудие”, нельзя каждый день играть на другом инструменте. Это означает, что он должен быть так хорошо ознакомлен с разными музыкальными идиомами, чтобы на своем обычном инструменте играть совершенно разными способами. Однако это удается очень редко. Да, мы играем музыку пяти столетий, но чаще всего одним и тем же способом, в одном стиле. Если бы мы осознали существенные различия стилей и отказались от того злосчастного постулата трактования музыки как “универсального языка”, который должен быть общим для всех народов, культур и столетий и в принципе неизменным, — моментально ряд приоритетов сформировался бы сам собой. Произведение предстало бы художественным отображением эпохи и человека, которое предъявляет конкретные требования к исполнителю и слушателю. Мы были бы просто вынуждены вникнуть в эти требования относительно артикуляции, темпа, звуковых пропорций и пр. и выполнить их. Наконец, вероятно, мы уже не были бы удовлетворены нашими инструментами и обратились бы к тем, которые родом из той же эпохи, что и музыка: но исключительно потому, что они соответствуют произведению и лучше приспособлены для его исполнения. Таким, собственно, достаточно естественным путем — начиная от произведения и заканчивая “оригинальным” инструментом — музыкант приходит к оптимальной интерпретации.
Путь же, которым часто идут сейчас, приводит, по моему мнению, к ошибкам. Много музыкантов верит, что старинную музыку надо играть на аутентичных инструментах, абсолютно не ведая, на что они способны, а что им несвойственно. Эти музыканты берут в руки старинный инструмент, не понимая смысла — возможно, потому что были привлечены к игре на нем за хорошую плату, а возможно, потому что сами этим заинтересовались. Для них главным делом в интерпретации, своего рода гарантией качества, является сам старинный “оригинальный” инструмент, а не то, что характеризует его отличия и индивидуальные возможности. Но музыкант научился своему ремеслу на совсем другом инструменте, его звуковой идеал и способ музыкального мышления также походят оттуда. Когда он берет в руки барочный инструмент, то инстинктивно старается на нем реализовать те звуковые идеалы, к которым привык. Подобное происходит постоянно, и в результате появляются те жалкие ансамбли, которые якобы играют на старинных инструментах, но в их игре слышно тоску музыкантов за утраченным звуком, особенно потому, что им как бы не чуждо умение извлекать его.
Однако здесь у них не все получается: барочным смычком не удается сыграть красивое sostenuto — тем не менее пытаются; также нельзя достичь роскошной силы звука, однако попытки неустанно возобновляются. Результат достоин сочувствия, а слушатель думает: вот так звучат старинные инструменты, насколько же бедны были тогда композиторы, не имевшие лучших возможностей. Музыкант, такой манерой представляющий игру на старинном инструменте, никогда не достигнет правильного понимания и при первой же возможности избавится от него. Прежде всего он должен знать, почему решился играть на старинном инструменте, причем это решение должно возникнуть только из собственно музыкальных побуждений и никаких других. Тем не менее, если музыкальные причины для него недостаточно убедительны, лучше подождать и пока работать с таким инструментом, который кажется ему более естественным.
Вопрос приоритетов мне кажется особенно важным, если речь идет о выборе инструмента, тем паче, что этот путь чреват серьёзными ошибками. Если бы за старинный инструмент брались только из музыкальных соображений, а не потому, что он считается “аутентичным”, “историческим” или кажется интересным, то сотни тысяч так называемых “старинных” инструментов, которые, по правде говоря, являются таковыми только по названию, вообще не появились бы на рынке. Существуют целые склады блокфлейт, клавесинов, крумгорнов, цинков и тромбонов, которые очень трудно назвать музыкальными инструментами, — уже то, что они вообще издают какой-то звук, достойно удивления, ибо это исключительно заслуга мастерства некоторых музыкантов. Нужно быть Давидом Ойстрахом, чтобы на ужасных школьных скрипках изобразить какую-то музыку. Считаю, что те из нас, кто много играет “старинную музыку”, ни в коем случае не должны — а так, к сожалению, часто бывает — отдавать приоритет инструменту, считая орудие важнее музыканта.
Исключением из правила можно считать разве что инструменты, достаточно независимые от исполнителя относительно формирования звука или его краски. Считаю, что иметь адекватный инструмент значительно важнее для органной музыки, чем для музыки, например, скрипичной. В этих двух случаях иерархическое место инструмента не равноценно. Исполнение органных произведений на совершенно неподходящем инструменте просто невозможно; здесь действительно от инструмента зависит важная часть музыкальной экспрессии; во время же игры на духовых или смычковых инструментах эта зависимость значительно меньше.
По-моему, с нормальным оркестром, даже без оригинальных инструментов, можно исполнять классическую и доклассическую музыку значительно лучше, чем это сейчас довольно часто делается, и считаю, что путь к улучшению ситуации не в том, чтобы дать музыкантам в руки барочные инструменты. Они играли бы на них так безнадежно плохо, что после двух репетиций сами пришли бы к выводу, что из этого ничего хорошего не выйдет. Верю — и хотел бы задекларировать это моим постулатом в деле упорядочения приоритетов: музыкант прежде всего на своем инструменте должен открыть разные, соответствующие каждой эпохе средства музыкальной выразительности.
Итак, если попробовать поставить на первый план музыку, то вопрос инструментов отодвигается в иерархии приоритетов на довольно отдаленную позицию. В таком случае прежде всего надо стремиться — насколько возможно — к воспроизведению дикции и артикуляции этой музыки на имеющихся инструментах. Наконец, неотвратимо наступит такой момент, когда каждый впечатлительный музыкант почувствует потребность в другом, более соответствующем инструменте. Если к такому способу использования старинных инструментов “созреет” целая группа музыкантов, то они, конечно же, будут применять эти инструменты более убедительно и существенно лучше будут понимать их идиомы, чем все те, кто играет на старинных инструментах только ради распространенной моды.
Заканчивая изложение моих взглядов на иерархию различных аспектов, добавлю: для меня сразу же после произведения — которое всегда должно находиться на первом месте — идут вдохновение и фантазия исполнителя. Если речь об интерпретации, то ни один музыкант — хотя бы исполнял все с техническим совершенством, учитывал все требования артикуляции, наиболее точно придерживался источников, применял бы соответствующий инструмент в соответствующей темперации, выбирал бы хороший темп — не подходит для этой профессии, если ему недостает одной вещи: музыкальности, или — высказываясь поэтически — “поцелуя музы”. Таково жестокое свойство этой профессии: тот, кого муза забыла поцеловать, никогда не будет музыкантом. Я здесь высчитывал все приоритеты, иногда преувеличивая их и доводя до абсурда; сделал же так потому, что настоящий художник может позволить себе достаточно отклонений и, вдобавок, легко узнаваемых, если при этом ему удается увлечь слушателя и проникнуть музыкой в его сердце. Так, собственно, получается благодаря “поцелую музы”. А кто-то другой представляет достаточно интересную интерпретацию, но при этом не способен передать нам действительную сущность музыки — экспрессию, которая изменяет нас, воздействуя так непосредственно.
II. ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ЯЗЫК ЗВУКОВ
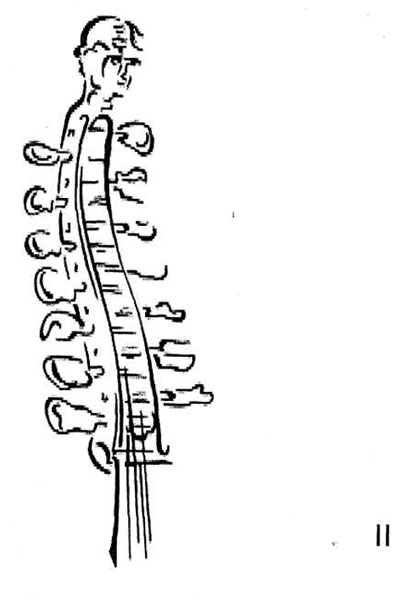
Виола да браччо и виола да гамба
Если присмотреться к используемым ныне инструментам, изучить историю любого из них, то в самом деле новейший — найти очень трудно, ибо практически все имеют многовековую историю. Воссоздать путь каждого инструмента, открыть исторические обоснования всех технических подробностей — удивительно интересная и важная задача для музыканта, занимающегося давней музыкой.
Из всех применяемых ныне инструментов лишь смычковые сохранили свою внешнюю форму на протяжении четырехсот лет. Все другие — соответственно с изменениями вкуса и постоянно растущими требованиями к техническим возможностям — были заменены новыми конструкциями с измененной внешней формой. Почему такая судьба не постигла смычковые инструменты? Или в данном случае изменений не требовалось? Не означает ли это, что звук современных скрипок идентичен звуку инструментов XVI столетия? Последний вопрос более чем принципиален: не только потому, что современные скрипки выглядят, как давние, но и потому, что музыканты значительно выше ценят старые инструменты, чем сделанные недавно. Все выдающиеся солисты играют на инструментах, которым свыше двухсот лет.
Скрипки, чью окончательную форму находим уже в XVI столетии, объединяют черты многих предшествующих инструментов: форма корпуса заимствована у фиделя и лиры да браччо, способ натягивания струн — у ребека. Скрипки (их в Италии называли виола да браччо — виола плечевая, в отличие от виола да гамба — виола наколенная) были сначала четырехструнными и настраивались — как и сейчас — по квинтам. Очень скоро, особенно в северной Италии, сформировались разные модели: одни имели более острый звук, богатый высокими обертонами, другие — более полное и округлое звучание. Так, в зависимости от желаемого звука и методики определенной школы, некоторые инструменты более выпуклы и выполнены из более тонкого дерева, другие — более плоские и толстостенные. Со второй половины XVII столетия признание получили южнонемецкие и тирольские скрипичных дел мастера. Сформированный Штайнером тип инструмента был воплощением идеала, обязательного для северного склона Альп. Вопреки вариантам моделей и звуковым представлениям, иногда значительно отличавшимся между собою, скрипки до конца XVIII века не подвергались никаким радикальным изменениям относительно звучания. Их всегда можно было приспособить к разным требованиям путем незначительных изменений: вместо глухой и скрипящей жильной струны “G” была применена струна, обвитая металлическим проводом, а более длинный и лучше сбалансированный смычок давал возможность достичь утонченной техники правой руки.
Огромные исторические перемены, повлиявшие под конец XVIII столетия на целостность жизни всей Европы, значительно переформировав ее, нашли свое отражение и в искусстве. Дух времени, противоборствующий страху и неверию (например, в композициях Бетховена), принципиально повлиял на звучание тогдашних инструментов. Динамическая шкала звука должна была расшириться — вплоть до границ возможного.
Динамическая шкала скрипок также перестала соответствовать требованиям композиторов и слушателей. В этот переломный исторический момент гениальные скрипичные мастера нашли способ, позволивший спасти инструменты (среди многочисленных жертв того переломного времени вместе с другими оказалась и гамба) — усилили натяжение струн, предельно используя технические возможности инструмента. Толщина струны прямо пропорциональна ее натяжению, а тем самым — нажатию, которое через подставку передается на верхнюю деку. Чем крепче струна, тем больше ее натяжение и тем сильнее надо вести смычок, побуждая ее к звучанию. Но конструкция старинных инструментов не предусматривала такого большого нажатия и не могла его выдержать, потому укрепили и пружины: предшествующие, старые, были вырезаны и заменены новыми, втрое или впятеро толще. Подобным образом укрепленная верхняя дека инструмента могла противостоять еще более сильному нажатию. Старую шейку также удалили. Вместо цельной, вырезанной вместе с улиткой из единого куска дерева, доклеена новая, поставленная наискось; к ней же прикрепили старую улитку. Таким образом обострялся угол натянутых на подставку струн и опять — в значительной мере увеличивалось давление на верхнюю деку. Увенчал успех этого “укрепления” новый смычок, сконструированный Туртом и сделавший возможной соответствующую игру на заново сформированном инструменте. Такой смычок — более тяжелый, чем давние (изначально очень легкие), сильно вогнутый, что приводило к возрастанию натяжения волоса при увеличении давления на струну. У него в два раза больше объем волоса, нежели в старинных смычках, и скреплен он — в отличие от округлого и ослабленного пучка в давних смычках — металлической скобкой, что придает ему форму плоской ленты.

Вышеуказанным процедурам, начиная с 1790 года и вплоть до нынешнего дня, подверглись все старые скрипки (староитальянские инструменты, используемые ныне солистами, модернизовали именно таким образом и теперь они звучат совсем иначе, нежели во времена своего возникновения). Переделанные скрипки вместе с новым смычком неузнаваемо изменились Понятно, что огромное преимущество игры более сильным звуком (более чем втрое) было оплачено значительной потерей высоких обертонов. Со временем такая неизбежность превратилась в добродетель: гладкое, округлое звучание скрипок стало идеалом, звук — еще более “выглаженным” необвитые жильные струны заменены теперешними, стальными и обвитыми Потеря высоких обертонов — неминуемый результат увеличения массы инструмента; причина не только в крепких перекрытиях и сильном натяжении струн, но и в других элементах, которые служат для регулирования строя массивном эбеновом грифе, струнодержателе и т.п. Не для всех инструментов эти операции закончились успешно. Некоторые, особенно легкие, с выпуклыми деками инструменты школы Штайнера, утратили свой тон, звук стал кричащим, оставаясь при этом слабым. Великое множество ценных старых инструментов было уничтожено — нижние деки не выдерживали давления душки и раскалывались. Эти воспоминания являются ключом позволяющим понять суть звучания давних смычковых инструментов.
Теперь сравните звучание барочных скрипок и современного концертного инструмента: “барочный” звук тише, но характернее интенсивной сладкой остротой. Звуковые нюансы достигаются разнообразной артикуляцией, в меньшей мере — динамикой. Современный инструмент, наоборот, имеет округлый, гладкий звук большого динамического диапазона. То есть его главный формообразующий элемент — динамика. И вообще, надо заметить, что звуковая палитра сузилась: в современном оркестре все инструменты имеют округлое звучание, лишенное высоких частот, а в барочном оркестре отличия между отдельными группами инструментов давали более богатые возможности.
На примере скрипок мы рассмотрели историю изменений в строении инструментов и в их звучании. Обратимся теперь к другим смычковым, прежде всего к виолам да гамба. Мне кажется, их родословная выводится непосредственно (даже больше, чем родословная скрипок) из средневекового фиделя. Одно можно сказать наверняка: обе семьи — и гамбы, и скрипки — возникли почти одновременно в XVI столетии. С самого начала они решительно разделены и различны. Существование этого разделения можно заметить благодаря рекомендациям, существующим в итальянских инструментальных произведениях XVII века: виолончель, хотя ее держали между ногами (или “да гамба”), обозначена как виола да браччо и принадлежит семейству скрипок, а маленький французский Pardessus de Viole является дискантовой гамбой, хотя обычно его держали на плече (“да браччо”).
Гамбы отличались от скрипок пропорциями: более укороченный корпус относительно длины струн, плоская нижняя дека и более высокие обечайки. Вообще были более тонкими и легкими. Форма корпуса отличалась от скрипок и не так четко очерчивалась, имела также меньшее влияние на звук инструмента. Важные черты заимствованы от лютни: квартово-терцовый строй и ладки. Уже в начале XVI столетия гамбы делались хорами, то есть изготавливались инструменты разных размеров для дисканта, альта, тенора и баса. Эти группы использовались главным образом для исполнения вокальных произведений, к которым — приспосабливая их к инструментальной версии — прибавлялись соответствующие украшения. В качестве примера можно привести упражнения Ортиса (Испания) и Ганасси (Италия), предназначенные для этой цели. Тогда скрипка еще не считалась изысканным инструментом и использовалась прежде всего для импровизаций в танцевальной музыке.
Под конец XVI столетия — когда в Италии постепенно начиналась экспансия скрипок как наиболее соответствующих итальянскому характеру инструментов — хоры гамб нашли свою настоящую отчизну в Англии. Виола да гамба исключительно подходила англичанам, о чем свидетельствует огромное количество замечательной и глубокой музыки для ансамблей от двух до семи гамб, написанной на протяжении ста лет. Эту музыку — как с исторической, так и звуковой стороны — можно сравнить разве что со струнными квартетами XVIII—XIX столетий. В каждой музицирующей английской семье имелся в те времена сундук с гамбами разных размеров. И если на континенте еще долго писали музыку для инструментов, бывших “под рукой”, не обращая особого внимания на их специфику, то в Англии сочиняли — с четким предназначением для гамбы — фантазии, стилизованные танцы и вариации. Гамба, благодаря своему строению и ладкам, имела звук более утонченный и выровненный, чем инструменты скрипичной семьи. А поскольку тончайшие звуковые нюансы были для гамбы важнейшим средством выразительности, предназначенная для нее музыка избежала перегруженных и динамически насыщенных интерпретаций.
Английские музыканты вскоре открыли и сольные возможности гамб. С этой целью была создана несколько меньшая, чем обычно, басовая гамба “in D”, называемая Division- Viol. Еще меньшую сольную гамбу называли Lyra-Viol. Последняя имела переменный строй (в зависимости от произведения), ее партия записывалась в виде табулатуры (приемов игры). Способ нотации и запутанное настраивание привели к тому, что в настоящее время никто уже не занимается замечательной и технически очень интересной музыкой, написанной для этого инструмента. В Англии гамбы, как сольный инструмент, обычно использовались для свободной импровизации. Яркие примеры этого искусства можно найти в “Division Viol” Кристофера Симпсона — пособии для обучения сольной импровизации на тему, представленную в басовом голосе. Такой способ импровизации являлся венцом искусства игры на гамбе, демонстрировал всестороннюю музыкальность, техническую сноровку, а также фантазию исполнителя. В XVII столетии английские гамбисты пользовались неслыханной популярностью на континенте. Когда в 1670 году Штайнер делал гамбы для собора в Больцано, то пользовался советами именно одного из них, считая его высочайшим авторитетом.
Тем не менее страной, где сольные возможности гамбы использованы до конца, стала Франция, и то лишь под конец XVII столетия. Диапазон тогдашней французской гамбы расширили, добавив низкую струну “А”. При Людовике XIV, благодаря поощрению самых изысканных почитателей музыки, появилось огромное количество произведений Марина Маре; великое множество приверженцев нашли также замечательные, смелые композиции двух представителей рода Форкере. (Технические требования в их произведениях были настолько высокими, что побуждали к поиску первоисточников и первых образцов такой виртуозности. Раньше, во времена Людовика XIII, модным и наиболее виртуозным инструментом была лютня.

В аппликатуре, записанной, наверное, во всех французских композициях для гамбы, можно четко распознать типичные для лютни приемы игры). Эти композиторы тоже расширили шкалу средств выразительности гамбы, обработав целую систему знаков, позволявших записывать запутанно-сложные и изысканные украшения, глиссандирование и прочие эффекты. Всякий раз их объясняли в предисловиях. Гамба достигла здесь вершины своих сольных и технических возможностей, а также — в определенной мере — общественных. В игре на ней совершенствовались даже знатные особы. Интимность звучания определяла гамбу как сольный инструмент исключительно для малых помещений, а извлечение чрезвычайно утонченных звуков было одновременно источником успеха этого инструмента и причиной его упадка. Игнорированные поначалу скрипки, громко звучащие даже в больших помещениях, исподволь получали признание, пока во второй половине XVIII столетия не вытеснили утонченную гамбу. Эту борьбу образно воссоздает полемика энтузиаста гамб Аббе Леблана (Abbe Le Blanc) с приверженцами скрипок и виолончелей. Суть звучания гамбы, ее деликатность и утонченность были настолько очевидными, что попытки ее “спасения” путем усиления звучания даже не предпринимались.
Нигде гамба не обрела такого значения, как в Англии или Франции. В Италии она начала выходить из моды уже в XVII веке при появлении скрипки. В Германии можно найти лишь небольшое количество композиций для гамбы, которые или опирались на французские образцы (многочисленные произведения Телемана), или довольно поверхностно использовали ее технические и звуковые возможности (Букстехуде, Бах и др.). Эти композиторы сочиняли подобные гамбовые произведения, не считая необходимым глубокое проникновение в природу инструмента; их можно было одинаково хорошо — без потерь в чисто музыкальной материи — представить в исполнении на других инструментах.
В XVIII веке, под конец эпохи гамб, временно стали модными выходцы из этой же семьи. Например, Viola d'amour и английский Violet использовались лишь как сольные инструменты.

Делались попытки достичь в них чего-то наподобие резонанса, с этой целью дополнительно натягивали сразу над верхней декой от 7-ми до 12-ти металлических струн. Сквозь дырки в шейке они протягивались к колкам и — в зависимости от количества — настраивались по какой-то шкале или хроматически. Эти струны не предназначались для игры, а служили только в качестве резонирующих. Виола д'амур была в XVIII веке действительно модным инструментом, продержалась и в XIX, уже после забвения гамбы, хотя и оставалась в глубокой тени.
В XVIII веке иногда изготавливались и басовые гамбы с резонансными струнами. Одним из наиболее удивительных инструментов такого типа был баритон.

Он имел размер и струны басовой гамбы. Резонансные струны служили не только для окраски звучания — во время игры их можно было касаться и большим пальцем левой руки. Таким образом достигали особого эффекта: довольно громкие (наподобие клавесинных) затронутые звуки не заглушались, звучали еще довольно долго, часто накладываясь один на другой. Если бы Гайдн не написал большого количества волшебных композиций, в которых отображены особенности баритона, сейчас бы уже вряд ли помнили об этом инструменте: кроме них, просто не существует больше произведений для баритона. Правда, сохранилось довольно много самих инструментов, некоторые даже из XVII столетия. Надо подчеркнуть, что этот инструмент предназначался преимущественно для импровизации, а благодаря дополнительным щипковым струнам на нем можно было и как бы аккомпанировать самому себе.
К сожалению, когда в пятидесятые годы снова открыли гамбу, мы уже утратили понимание исключительного ее звучания. То, на что не отважились в XVIII столетии, сделали теперь: много прекрасных старых гамб усилили и зачастую уменьшили до размеров виолончели.
Сейчас, когда уже на протяжении двух поколений собираются сведения об использовании барочных инструментов и так называемых барочных, отношение к ним изменилось. Уже никто не посягает на “улучшение” старых инструментов, а наоборот — исследуют возможности их настоящего звучания. При этом — как бы сама собою — проявилась истина: инструментарий каждой эпохи создает чудесно приспособленную целостность, в которой четко определено место каждого инструмента. Использование же отдельных старинных инструментов вместе с современными — абсолютно невозможно. Так, оригинальная, правильно настроенная гамба в современном струнном оркестре будет звучать весьма тонко; с подобной проблемой сталкивается немало гамбистов, ежегодно, исполняющих “Страсти” Баха. (По-моему, нет необходимости в компромиссе — сольную партию надо играть или на виолончели, или на укрепленной гамбо-виолончели).
Если мы согласимся, что звучание, а также оригинальные инструменты являются наиболее эффективными факторами, приближающими нас к давней музыке и предоставляющими неоценимую помощь при ее интерпретации, а кроме того — источником богатейших художественных стимулов, то не успокоимся, пока не подойдем к последнему из звеньев, составляющих длинную цепь закономерностей. Если мы приложим — и немалые — усилия, чтобы приладить и приспособить к себе целый инструментарий, то вознаграждением станет для нас убедительный звуковой образ, который и будет наилучшим посредником между нами и давней музыкой.
Скрипка — сольный барочный инструмент
Эпоха барокко вознесла сольное исполнительство на невиданную до тех пор высоту, и “должен был” появиться виртуоз, ибо перестали интересоваться анонимным искусством, а начали восхищаться артистом и обожествлять того, кто вытворяет невероятные штуки; эта эпоха является также периодом, в котором солисты достигли границ возможностей, определенных природой для каждого инструмента. И ни один из них не передавал так достоверно дух барокко, как скрипка. Ее появление на протяжении XVI столетия — словно результат постепенной конкретизации некоего определенного замысла. Скрипки приняли определенную форму — благодаря искусству гениальных мастеров из Кремоны и Брешии — от множества ренессансных смычковых инструментов, таких как фидель, ребек, лира, и многочисленных их разновидностей.
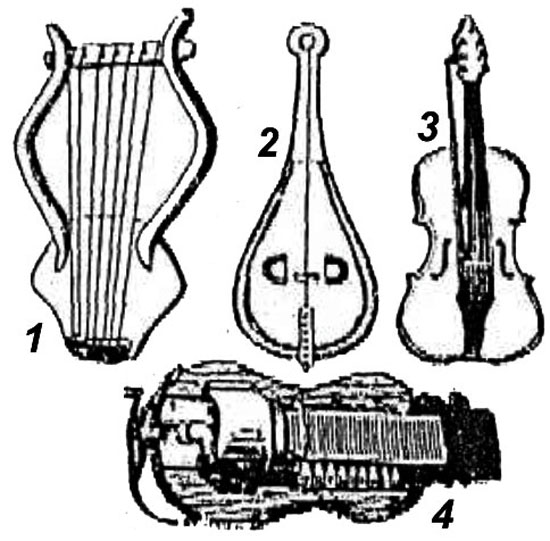
1. Древнегреческая лира.
2. Средневековая однострунная лира.
3. Лира да браччо.
4. Народная (колесная) лира.

Ангел играющий на фидели

Этот процесс проходил вместе с эволюцией самой музыки, поскольку в предшествующие века все элементы складывались в тонкую полифоническую ткань, анонимную часть которой составляли отдельные инструменты и музыканты. Каждый инструмент должен был очень четко проводить свою линию и одновременно дополнять общий звуковой образ своей характерной краской. Но около 1600 года появились новые тенденции. Музыкально-декламационная интерпретация поэтических произведений привела к распространению монодии, сольного пения с аккомпанементом. В recitar cantando (напевный речитатив) и в стиле concitato сформировались новые средства выразительности, объединяющие слово и звук в удивительную целостность. Эта волна принесла также и сугубо инструментальную музыку, солист освободился от ансамблевой анонимности, присвоил себе новую монодическую звуковую речь и начал “высказываться” исключительно с помощью звуков. Такой сольный вид музицирования считался своеобразным языком, в связи с чем возникла даже теория музыкальной риторики; музыка приобрела характер диалога, а одним из основных требований, стоявших перед всеми учителями музыки эпохи барокко, была способность обучить “выразительной” игре (“sprechendes” Spiel).
В Италии времени Клаудио Монтеверди композиторами становились исключительно скрипачи. Новый музыкальный язык барокко на протяжении невероятно короткого времени привел к появлению виртуозной литературы, длительное время считавшейся непревзойденной. Первые настоящие скрипичные соло написал Монтеверди в своем “Орфее” (1607) и в “Vespro” (“Вечерня”) (1610), а его ученики и последователи (Фонтана, Марини, Уччелини и др.) на протяжении следующих тридцати лет своими смелыми, часто причудливыми произведениями способствовали небывалому расцвету сольной скрипичной игры.
Дальнейшие десятилетия принесли некоторую успокоенность. Для скрипачей завершился период “бури и натиска”, техника игры стала уже настолько совершенной, что дальнейшее развитие ее несколько замедлилось. Как и сам барочный стиль, скрипки были итальянским изобретением, и если итальянское барокко (в народных разновидностях) подчинило всю Европу, то и скрипки стали важнейшей частью европейского инструментария. Быстрее всего они прижились в Германии: уже в первой половине XVII столетия при дворах немецких князей работали итальянские виртуозы. Вскоре там сформировался самостоятельный стиль сольной скрипичной музыки; характерной сообренностью такого стиля (позднее получившего название “типично немецкий”) была многоголосная, аккордовая игра.
Уровень скрипичной техники XVII—XVIII столетий теперь вообще оценивается неправильно. Сравнивая высокие технические достижения современных нам солистов со значительно меньшими возможностями музыкантов, живших сто лет назад, считают, что речь идет о беспрерывном прогрессе — будто бы чем дальше в прошлое, тем ниже уровень скрипичной игры. При этом забывают, что общественная переоценка профессии музыканта, которая состоялась в XIX столетии, связана как раз с регрессом. Анри Mapто (Henry Martial) около 1910 года утверждал: “Если бы мы смогли услышать Корелли, Тартини, Виотти, Роде или Крейцера, наши наилучшие скрипачи от удивления раскрыли бы рты и поняли, что искусство скрипичной игры сейчас в упадке”.
Много технических элементов современной игры, таких как vibrato, spiccato, летающее staccato и др., причисляются к изобретениям Паганини и (за исключением vibrato) считаются недопустимыми в барочной музыке. Вместо этого изобретен так называемый “баховский смычок”, который в местах разнообразной артикуляции, присущей стилю барокко, вводит абсолютное однообразие. Но тем не менее сама музыка и давние теоретические трактаты подробно описывали разные технические приемы, существовавшие в определенную эпоху, а также места, в которых эти приемы использовались.
Vibrato — прием настолько же древний, как и сама игра на смычковых инструментах, служил для имитации пения. О его существовании точные свидетельства встречаются уже в XVI веке (у Агриколы). Описания его (как нечто само собой разумеющееся) встречаются и позже (Мерсенне 1636, Норт 1695, Леопольд Моцарт 1756). Тем не менее всегда vibrato считали только разновидностью украшения, которое не применяли постоянно, а лишь использовали в конкретных случаях. Леопольд Моцарт замечает: “Существуют такие артисты, которые дрожат на каждой ноте, словно их трясет непрерывная трясучка. Tremulo (vibrato) должно использоваться только в тех местах, где того требует сама природа”.
Spiccato (скачкообразный смычок) — очень давняя разновидность штриха (в XVII и XVIII столетиях — просто четко разделенные ноты, а не отскакивающий смычок). Таким образом исполнялись незалигованные фигуры арпеджио или быстро повторяющиеся звуки. Вальтер (1676), Вивальди и прочие, стремясь к такому штриху, писали “col arcate sciolte” или короче — “sciolto”. Много примеров “бросаемого” смычка и даже длинные цепи “летающего” staccato можно найти в скрипичной сольной литературе XVII века (особенно у Шмельцера, Бибера и Вальтера). Встречаются также и разнообразнейшие оттенки pizzicato (с использованием плектрона или медиатора на грифе), появляющиеся у Бибера, или при аккордовой игре у Фарины (1626), или col legno (удары древком смычка) — все они хорошо известны уже в XVII веке.
Опубликованное в 1626 году “Capriccio stravagante” Карла Фарины (ученика Монтеверди) является просто непревзойденным каталогом скрипичных эффектов. Многие из них считались достижением значительно более позднего времени, некоторые же думали, что их открыли только в XX веке! Это произведение с двуязычным (итальянско-немецким) предисловием является важным свидетельством давней скрипичной техники. Здесь описана — как специальный эффект — игра в высоких позициях на низких струнах (в то время только на струне “Е” играли выше первой позиции): “... руку передвигают в сторону подставки и начинают... третьим пальцем указанную ноту или звук”. Col legno описано так: “... ноты надо извлекать, ударяя древком смычка, как в бубен, при этом смычок не может долго оставаться неподвижным, а должен повторять движение” — древко смычка должно отскакивать, как палочки барабана. Фарина советует игру sul ponticello (близ подставки) для имитирования звука духовых инструментов, таких как флейта или труба: “Звук флейты добывается нежно, на расстоянии пальца (1 см) от подставки, очень спокойно, как на лире. Так же извлекаются и звуки воинских труб с той разницей, что их надо извлекать сильнее и ближе к подставке”. Часто используемый прием барочной игры на смычковых инструментах — смычковое vibrato, имитирующее органный тремулянт[4]: “тремоло имитируется с помощью пульсирования руки, которая держит смычок (подобно тремулянту в органе)”.
Барочная техника левой руки отличалась от современной тем, что скрипачи старались избегать высоких позиций на низких струнах. Исключением были места bariolage, в которых различие красок между высоко прижатой низкой и пустой высокой струнами давало желаемый звуковой эффект. Использование пустых струн не только допускалось, но часто даже требовалось; пустые жильные струны не настолько отличались по звуку от прижатых, как нынешние металлические.
Барочный оркестр
В первой половине XVIII века оркестр, с точки зрения звучания и подбора тембров, представлял собой чудесно настроенный “инструмент”. Интенсивность отдельных голосов оставалась в четко очерченных пропорциях, Подобно барочным органам, характерное звучание любой из групп оркестра играло решающую роль в инструментовке: в tutti имели дело с четырех- или пятиголосной фактурой, звучание которой формировалось с помощью прибавления или убавления инструментов (духовые при этом исполняли преимущественно те же партии, что и смычковые). Конечно, для такой инструментовки чрезвычайно важным считалось то, каким образом отдельные инструменты сливаются в одно звучание. Например, звуковым скелетом барочного оркестра было соединение гобоя и скрипок. Такой вид colla parte, благодаря сольным концертирующим партиям, в которых тембры разных групп инструментов (трубы, флейты, гобои, струнные) отделялись от слитого звучания tutti, был довольно свободным; подобное особенно изобретательно и великолепно применял И. С. Бах.
Свойства позднебарочной инструментовки невозможно воссоздать современным оркестром. На протяжении столетий отдельные инструменты подвергались изменениям: большинство из них стали звучать громче, все изменили свою звуковую окраску. Современный оркестр в таком составе, как во времена барокко, имеет совсем другое звучание: инструменты делаются не с учетом их созвучия, как в органных регистрах, а соответственно задачам, свойственным классической и, особенно, романтической симфонической эстетике. Эти задачи совершенно противоположны: партии духовых инструментов композиторами XIX столетия трактовались obligate, и они, будто солисты, многократно преобладали над звучанием струнных. Единственный реликт давней техники colla parte — общая линия виолончелей” контрабасов, но под конец XIX века и она начала разделяться. Симфоническое звучание современного оркестра, примененное к музыке Баха, явственным образом влияет на стиль интерпретации и не улучшает понимании произведений. Пауль Хиндемит, композитор глубоких знаний, имел специфический взгляд относительно ремесла своих великих предшественников, В своем выступлении 12 сентября 1950 года во время “Баховских дней” в Гамбурге он затронул проблему исполнительской практики времен Баха и современный взгляд на эту тему:
“Малый состав, а также свойства звучания и способ игры сейчас часто считаются факторами, диктовавшими давнему композитору невыносимые ограничения... Тем не менее, ничто не доказывает правильности этого взгляда... Достаточно внимательно изучить его (Баха) оркестровые партитуры (Сюиты и Бранденбургские концерты), чтобы заметить, как он изобретательно использовал утонченные звучания, возможные благодаря звуковому равновесию между малыми группами инструментов, которое часто нарушается обычным удвоением голосов нескольких инструментов, подобно тому, если бы мелодическую линию сопрановой арии Памины поручили спеть женскому хору. Можем быть уверены, что Бах хорошо разбирался в инструментальных и вокальных средствах, имевшихся в его распоряжении, и если нам нужно представить его музыку так, как он ее представлял, то следует воссоздать тогдашние условия музицирования. Недостаточно использовать клавесин для реализации basso continuo. Должно иначе оснастить струнами наши смычковые инструменты, применить духовые с давними мензурами...” Как видим, требования Хиндемита значительно выходят за рамки того, что ныне общепринято считать “стилевым” исполнением. Принимая за точку отсчета исполнительскую практику, придем к тем же выводам, что и Хиндемит. Многолетняя практика и многочисленные концерты на оригинальных инструментах обнаружили особую взаимозависимость их звучания и сбалансированности.
Старинные инструменты звучали в помещениях, которые с акустической точки зрения отличались от современных концертных залов. В XVII—XVIII веках (благодаря каменным фундаментам, высоте интерьера и облицованным мрамором стенам) отголосок был куда большим, чем тот, к которому сейчас привыкли. А значит — звуки сливались значительно сильнее. Разложенные на мелкие длительности аккорды, которых много в тогдашних allegri, звучали в таких залах словно трепетные созвучия, а не тщательно гравированная последовательность одиночных звуков, как это происходит в современных концертных залах.
Иногда утверждают, будто темпы были тогда медленнее, а это нивелировало тот отголосок. К счастью, существуют источники, в которых темпы барочной музыки описаны с метрономической обстоятельностью. Таким источником является, например, учебник игры на флейте Кванца, где темпы описаны относительно пульса; или “Tonotechnique” падре Энграмелли, где время продолжительности звука, представленного в нотных длительностях, может быть легко вычислено. Просмотрев эти данные, выясним — это же надо! — что в начале XVIII века музицировали в значительно более подвижных темпах, нежели мы считали естественными для той поры. Нынешнее замедление темпов произведений Баха и Генделя сформировалось вследствие романтической монументализации их музыки, а также ничем не подтвержденного взгляда относительно ограниченных технических возможностей тогдашних музыкантов.
Понимание “тогдашних условий исполнения” вызовет новый подход к той музыке как к целому. Возникающие отсюда требования одинаково касаются как слушателей, так и музыкантов: и первые, и вторые должны это ясно осознать. Следует забыть динамическую и колористическую шкалу, к которой мы привыкли с детства, а также и “нормальную” динамику.
Надо вслушаться в новые, значительно более тихие звуки давних инструментов, пока не почувствуем себя среди них как дома. Тогда и откроется перед нами по-новому старый мир характерных и утонченных звуковых оттенков: настоящее барочное звучание станет реальностью.
В чем принципиальное различие между барочным и современным инструментарием? Смычковые инструменты, основа каждого ансамбля, выглядят в целом так же, как и двести пятьдесят лет назад; часто даже играют на экземплярах того времени. Но они подверглись в XIX веке основательным изменениям и переработке, были приспособлены к новым требованиям относительно громкости и красок. Большинство мастеровых скрипок, используемых ныне, изготовлены в период барокко, и все же они не являются сугубо “барочными скрипками”. Когда около 1800 года изменился звуковой идеал, все тогдашние инструменты были переделаны с главной целью — усиления их звука. Так возникли современные скрипки с сильным звуком — немодернизированные “барочные скрипки” звучат значительно тише, имеют более острый звук и богаче на высокие обертоны. Инструменты Якоба Штайнера и его школы исключительно хорошо соответствовали звуковому идеалу немецких композиторов периода барокко (Кетенской капелле, для которой Бах написал свои скрипичные концерты, принадлежали очень дорогие тирольские инструменты, вышедшие, возможно, из мастерской самого Штайнера). Для игры на них использовался короткий легкий смычок XVIII столетия. То же касалось и характера звучания альтов и виолончелей.
Барочный ансамбль смычковых часто дополняли разные духовые инструменты. Как уже говорилось — в отличие от классического или романтического оркестра — в tutti они никогда не имели самостоятельной партии: например, гобой играл те же ноты, что и скрипки, фагот — ноты виолончели. Присоединение духовых инструментов влияло исключительно на тембр звучания произведения и не искажало его гармонической целостности.
Деревянные духовые барочные инструменты внешне отличаются от современных прежде всего малым количеством клапанов, а также качеством дерева — почти все изготовлены со светло-коричневого самшита. Кроме того, внутренний конус высверлен иначе. Такие отличия тянут за собой абсолютно другой способ игры. Из семи-восьми отверстий шесть прикрываются пальцами, остальные — с помощью клапанов. Это позволяет извлекать диатоническую гамму, являющуюся основным звукорядом этого инструмента и в то же время идеальной для него тональностью. Большинство других тональностей тоже исполнимы, но только с помощью часто неудобных и сложных пальцевых комбинаций (вилочных приемов игры), благодаря которым можно извлекать все звуки основного звукоряда. Они отличаются от звуков, извлеченных при помощи “открытых” приемов: звучат приглушенно, менее естественно. Таким образом, каждая тональность и каждая звуковая последовательность приносят постоянное изменение “открытых” и “закрытых” звуков, которые, с одной стороны, придают тональности особое звучание, а с другой — наполняют богатством красок всю мелодическую линию. В то время подобное не считалось, по крайней мере, нежелательным; скорее наоборот — такую звуковую неоднородность ценили довольно высоко (лишь в XIX веке начали сознательно стремиться к равномерно выстроенной хроматической гамме, а точнее — к двенадцатиступенной полутоновой гамме). У давних духовых инструментов также совсем иные мундштуки (флейты) и трости (гобои и фаготы), высокие звуки извлекались не с помощью октавных клапанов, а передуванием. Все эти особенности вместе со своеобразной техникой игры составляли “барочный” звук, который у гобоя и фагота обогащен высокими обертонами, а у поперечной флейты — слабее, мягче и деликатнее звука современных инструментов.
Духовые инструменты периода барокко сконструированы так, что их звучание легко отличалось в сольных партиях и одновременно хорошо соединялось с другими инструментами подобной тесситуры, образовывая новую звуковую целостность. Очень характерный пример — гобой. (Сопоставление гобоя и скрипок составляет звуковую суть барочного оркестра). Кроме нормальных гобоев в строе “с1”, изготавливались также гобои d'amore (in “а”) и гобои da caccia (in “f”). Благодаря своей очень характерной краске, они использовались прежде всего в сольных фрагментах, хотя, бывало, удваивали средние голоса смычковых инструментов.
Поперечная флейта — типично сольный инструмент, и во всей барочной литературе наберется немного произведений, где она использовалась исключительно в качестве оркестрового инструмента. В наиболее известном произведении — оркестровой Увертюре h-moll —- благодаря проведению флейты colla parte со скрипками, Бах достигает новой краски. Обворожительность барочной поперечной флейты возникает от ее специфического “деревянного” звучания и постоянных изменений тембра, вызываемых поочередным использованием “открытых” и “вилочных” приемов игры.
Барочный фагот звучит и в самом деле как дерево, звук почти смычковый, вместе с тем “тростниковый”; относительно тонкая конструкция приводит к резонированию всего деревянного корпуса. Он будто нарочно задуман так, чтобы идеально совпадать с виолончелью и клавесином в basso continuo, одновременно придавая басовой линии очень выразительные контуры.
Барочная инструментовка в предназначенных для официальных торжеств композициях предусматривала применение труб и литавр. Они также вплетались в общую четырехголосную фактуру — чаще как тембр, прибавленный к гобоям и скрипкам. Трубу уже с первого взгляда можно отличить от современных инструментов — она, как и валторна, является натуральным инструментом, не имеет вентилей и представляет собой просто металлическую трубку. С одной стороны она заканчивается раструбом (голосовой чашей), с другой — имеет котловидный мундштук. Меняя напряжение губ, можно извлечь натуральные звуки (обертоны основного звука, соответствующие длине инструмента). На натуральной трубе “in С” можно извлечь только следующие звуки:

(На трубе “in D” — все на тон выше). В связи с тем, что одиннадцатый обертон f2 высоковат, “посредине между f2и fis2, никакой из них нельзя взять чисто; следовательно, имеем дело с музыкальным гермафродитом...” (Альтенбург, “Trompettenkunst” — “Искусство игры на трубе”, 1795), а обертон тринадцатый, а2, звучит слишком низко, эту фальшь старались выровнять передуванием или закрывали большим пальцем отверстие, транспонирующее всю шкалу инструмента на кварту выше, из-за чего f2 и а2 становились четвертым и пятым натуральными тонами и могли быть сыграны чисто. Этот метод, сызнова открытый О.Штайнкопфом, используется и в нынешних инструментах. Форма изгиба труб — округлая или продолговатая — различна: “Одни делают трубы выгнутыми, как рог почтальона, другие скручивают ужом” (Преториус, 1619). Устройство натуральной и современной вентильной трубы существенно различается по мензуре (соотношение длины и поперечного сечения). Современная труба “in С” при аналогичном сечении вдвое короче натуральной трубы, и большие расстояния, разделяющие звуки второй и третьей октав, “сокращаются” благодаря использованию вентилей. Этим же объясняется большое различие в звучании: длинный столб воздуха в натуральной трубе облагораживает и укрощает ее звук, поэтому она выступает достойным партнером для других барочных инструментов. С трубами в оркестровых произведениях барокко и периода классицизма всегда связаны литавры: подобная традиция восходит к тем временам, когда трубачи и литавристы (будучи первоначально военными музыкантами) фанфарами извещали о появлении высоких сановников, придавая событию надлежащий блеск и великолепие. Барочные литавры XVIII века сделаны иначе, нежели современные. На неглубокий корпус с очень отвесными стенками натянута довольно грубая кожа. По литаврам ударяли палками, сделанными из дерева или слоновой кости (без фильца!), “с наконечниками, выточенными в форме кольца” (Даниэль Шпеер, “Grundrichtiger Unterricht” — “Основательная подготовка”, 1687). Звучали они не грубо и приглушенно, как сейчас, а тонко и ясно, благодаря чему четко акцентировались аккорды труб. Тремоло у Баха часто исполнялось не быстрыми поочередными ударами деревянных палок, а их многократным подпрыгиванием (получалось постоянное рокотание, как на малом барабане).
Кроме таких стандартных инструментов барочного оркестра, существовали также другие, для специальных задач. Валторны, бывшие до конца XVII века чисто охотничьими инструментами, с 1700 года начали появляться и в “серьезной” музыке. Сначала композиторы использовали типичные для рога мотивы, применявшиеся во время охоты. Правда, еще раньше на натуральных валторнах исполняли романтично-певучие мелодии; звуки, находящиеся “между” натуральными, извлекались при помощи закрывания раструба рукой, что приводило к интересным тембровым эффектам.
“Душой” барочного оркестра был клавесин. Он не только помогал в ритмической организации музыкантам, играющим без дирижера, но как инструмент basso continuo обеспечивал гармоническое развитие произведения при помощи аккордов и дополнительных голосов. Тем не менее, чтобы во фрагментах tutti выделить басовую линию и придать ей больше силы, нижний голос часто поручался гамбе, виолончели или контрабасу, а иногда и фаготу.

Двухмануальный клавесин работы Гёрманса-Таскнна из коллекции Рассела в Эдинбургском музее исторических инструментов (1764-1783).
Клавесин — исторический инструмент, чье развитие закончилось в XVIII веке. Постоянная, неизменная динамика — одна из наиболее характерных присущих ему черт. Совершенной экспрессии и певучести (на этом инструменте высочайшей целью была игра cantabile) исполнитель достигал с помощью тончайших агогических нюансов. Конечно, звук клавесина сам по себе должен быть очень интересным и живым, чтобы слушатель не скучал из-за динамической монотонности. Исторические клавесины (сохранилось довольно много инструментов) соответствуют этому требованию идеально: их звучание полное и ясное, они оснащены несколькими рядами струн (регистров), из которых два соответствуют нормальной высоте звука (8-футовые голоса)[5], а один на октаву выше (4 фута). “Регистры” делают возможным различие solo и tutti (один из 8-футовых регистров громче, другой — несколько тише), включение октавы (4-футового регистра) придает блеск сольным партиям, объединение двух 8-футовых голосов делает звук удивительно певучим. Различные комбинации голосов должны использоваться так, чтобы подчеркнуть форму произведения; часто целые части игрались вообще без изменения регистровки.
Данный принцип, составляющий суть клавесина и клавесинной музыки, при новейшем открытии и возрождении этого инструмента в XX столетии часто игнорировался как исполнителями, так и производителями. Пробовали применить “опыт”, накопленный при изготовлении фортепиано, и модернизированному клавесину (первоначальному инструменту в форме закрытой, как скрипка, коробки) прибавили раму с распятой на ней декой — как у фортепиано. Как следствие — уменьшилось замкнутое пространство, в котором звуки сливались между собою и достигали свойственного им благородства. К трем основным регистрам прибавили еще нижнюю октаву (16 футов); такое дополнительное отягощение отобрало у других регистров полноту звучания. Неправильно понимая основы игры и звучания клавесина, максимально разделили регистры; механизм их включения перенесли в педали, что давало исполнителю возможность часто переключать их во время игры и тем самым достигать динамических изменений. В новых инструментах это вызвано необходимостью — динамическое разнообразие позволяет отвлечь внимание от очень убогого звука современных клавесинов. Они — на удивление — значительно тише давних, сквозь звук оркестра доходит лишь металлическое цыканье. Нынешние клавесины не похожи на старинные. Давний инструмент (или его точная копия) может стать — благодаря своему замечательному и интенсивному звучанию — центральным инструментом ансамбля. Недостаток равновесия звука (слишком тихий клавесин — слишком громкие духовые и смычковые), не учитывая совершенно иной акустики залов, является одним из самых существенных искажений оригинального звукового образа...
Динамические возможности барочного оркестра можно сравнить с барочным органом. Отдельные инструменты и их группы трактуются вообще как органные регистры. Добавление или устранение разных групп инструментов приводит к изменению динамической линии постоянно звучащего четырехголосия. Такая “режиссура звуковых групп” использовалась прежде всего для подчеркивания формообразующих структур, делала возможными эффекты piano-forte, привносила богатство микродинамических изменений, но никогда не была классическим “crescendo”.
Завершая тему, надо отметить, что звучание барочного оркестра было более тихим, но в то же время острым, агрессивным и более красочным, нежели звучание современного оркестра, возникшего в XIX веке с появлением новых музыкальных потребностей. Аналогичны отличия между барочными и романтическими органами.
Взаимосвязь слова и звука в инструментальной музыке барокко
Попытки использовать музыку для передачи впечатлений, с нею не связанных, делались давно. Такая дополнительная ее функция приобрела особое значение; правда, самые разнообразные способы и методы действуют взаимопроникающе, их не всегда удается распознать, тем не менее можно указать четыре главных направления: акустическую имитацию, музыкальное воспроизведение каких-то образов, музыкальное представление мыслей или чувств и, наконец, перевод языка слов на язык звуков. Особая обворожительность такой музыки в том, что все это — лишено текста, выражается исключительно музыкальными средствами.
Начиная с XIII века, композиторы применяли наиболее примитивную и вместе с тем наиболее забавную форму — обычное звукоподражание, например, голосам зверей или характерным музыкальным инструментам; подобное происходило в дальнейшем и в английской “соловьиной” музыке около 1600 года. Такой вид музыкальной шутки, разрабатываемый с отчетливой радостью, можно встретить в произведениях многих французских, итальянских, немецких композиторов вплоть до Бетховена, Рихарда Штрауса и даже более поздних мастеров. Намного сложнее передавать образные сцены в музыке. На протяжении веков образовались музыкальные формулы, вызывающие определенные ассоциации, которые и служат мостиком между образом и музыкой. Третьей возможностью в программной музыке является передача мыслей и представлений при помощи довольно сложных ассоциаций. Именно здесь, в музыке барокко, сглаживаются грани между программной и так называемой абсолютной музыкой. Барочная — всегда стремилась что-то выражать, хотя бы какие-то общие чувства, или вызвать определенный “аффект”. И, наконец, “язык звуков”, который, начиная где-то с 1 650 года, в течение двух столетий играл фундаментальную роль.
Гамбургский музыкальный директор, секретарь английского посла Иоганн Маттезон, один из самых образованных и проникновенных наблюдателей своего времени, назвал музыку “языком, благословенным на все века”. Насколько адекватно понимали выражение “язык”, свидетельствуют несколько цитат из Найдтхарта, Кванца и Маттезона (первое десятилетие XVIII века): “Окончательной целью музыки является передача всех аффектов с помощью одного лишь ритма так же совершенно, как это делает наилучший оратор” (Найдтхарт); “Музыка — это ничто иное, как художественный язык” (Кванц); “Если кто-то хочет взволновать других гармонией, должен знать, как изысканными звуками и причудливыми их сопоставлениями без слов передать все движения сердца. И таким образом, чтобы его склонности, инстинкты, знаки и сила, словно в настоящем языке, могли быть совершенно понятными для слушателя”; “Инструментальная мелодия (...), лишенная помощи слов и голосов, стремится поразить так же сильно, как и та, что делает это вместе со словами”; “Наш способ изложения музыкального материала только тем и отличается от риторических положений обычного языка, что иным является его объект или предмет; здесь надо иметь в виду те же самые шесть пунктов, обязательных для оратора, а именно: вступление, экспозицию, тезис, доказательство, возражение, выводы” (Маттезон). Почти все учебники и музыкально-теоретические разработки, появившиеся в первой половине XVIII столетия, посвящали риторике развернутые разделы; ее профессиональная терминология присутствует также и в музыке. Составлен каталог постоянных формул (музыкальных фигур), служащих для воспроизведения определенных аффектов и “риторических оборотов”; он был в некотором роде словарем музыкальных возможностей. Такие чисто вокальные формы, как речитатив и ариозо, часто принимали инструментальную форму; легко можно было представить соответствующий им текст. Этому последнему, маньеристическому, этапу предшествовал длительный период развития, начавшийся со времени эмансипации инструментальной музыки. Первые венецианские инструментальные канцоны конца XVI столетия появились под сильным влиянием французских chansons, тем не менее, определенные мотивные формулы, перенесенные с одной категории музыки на другую, не воспринимаются как цитаты. Подобное применение до 1600 года во французской и английской музыке Cantus firmus григорианского или светского происхождения вообще не показывает зависимости между текстом такого cantus и его новым использованием. (Имею в виду английские фантазии In Nomine, предназначенные для виолы, а также фантазии Du Caurroy, в основе которых лежат светские и церковные Cantus firmi). Реальные ассоциации, связанные со значением и развитием событий, или же ассоциации, являющиеся наиболее характерными особенностями “выразительной” инструментальной музыки, находим только в программной музыке, в особенности в музыкальных образах, воссоздающих звуки битвы или изображающих природу с подражанием голосам зверей и отголоскам охоты. Такие произведения, вообще-то довольно примитивные, воспринимаются исключительно как образы и не имеют никакой линии развития (что свойственно рассказу). Самыми первыми инструментальными произведениями, в которых музыка старалась что-то рассказать очень возвышенно, выразить что-то конкретное, пожалуй, были английские funerals и французские tombeaux XVII и XVIII веков. Они, вероятнее всего, созданы по типу погребальных од, посвященных конкретным лицам, и являются легко распознаваемым рассказом (с явным развитием), который на протяжении более ста лет совсем не изменился, а именно: вступление (человек умер) — выражение собственного состояния (грусть) — усиление грусти вплоть до отчаяния — утешение (мертвец, воскресший для вечного блаженства) — окончание (похожее на вступление). В произведениях этого типа очень рано сформировался определенный, более или менее постоянный запас формул: образцом для этих tombeaux, бесспорно, была погребальная речь, построенная в соответствии с основами риторики.
Особую форму, как будто вставленную в текст инструментальной музыки, находим в практике alternatim, применяемой в богослужениях. Здесь относительно рано уже используется орган как полноценная “замена” одной из поющих групп, выступающих попеременно: пение священника, кантора и общины. Лишенный текста язык инструмента понимали хотя бы потому, что использовались известные мелодии хоралов, а возникающая однозначность “языка звуков” создавала связь принципиального значения. Немного дальше пошел Марк Антуан Шарпентье в своей “Messe pour plusieurs Instruments”, где поочередно выступают клирики и большой оркестр при максимальном использовании возможностей практики alternatim. В некоторых разделах cantus firmus вообще пропущен или сокращен до неузнаваемости. Раздел мессы Gloria выглядел примерно так: “Священник интонирует Gloria in excelsis Deo, сразу за ним для всех инструментов наступает Et in terra; дальше Laudamus te для клириков, Benedictus te для гобоев; Adoramus te для клириков, Glorificamus te для скрипок; Gratias для клириков, Domine Deus для блокфлейт; Domine fall для клириков, Domine Deus agnus Dei для всех духовых инструментов; Qui tollis для клириков, Qui tollis для скрипок, гобоев и флейт... ” и т. д.
Цитата в инструментальной музыке является дальнейшей формой рассказа, ассоциированного с конкретным текстом. К инструментальным композициям, часто перегруженным символическим или зашифрованным значением, прибавлялись мотивы вокальных произведений, считавшиеся общеизвестными. Такие цитаты являются одной из основ музыкального языка и родственны музыкальным фигурам того времени. Эти фигуры — более или менее постоянные мелодические обороты — сформировались в XVII веке в речитативах и сольном пении для обозначения определенных слов и чувств. Потом они были отделены от текста и со временем стали чисто инструментальными фигурами, вызывая у слушателя ассоциации, связанные с их первичным вербальным значением или определенным аффектом. Содержание языка звуков в реальности значительно конкретнее, нежели мы теперь считаем, о чем нам и говорят источники.
Каждый музыкант в XVII и большей части XVIII веков осознавал, что музыка должна повествовать. Риторика со своей сложной терминологией стала предметом обучения в каждой школе, относилась — подобно музыке — к общему образованию. А то, что теория аффектов была с самого начала важной частью барочной музыки (нужно ощутить определенные аффекты, чтобы потом передать их слушателю) — делало сходство между музыкальным и ораторским искусством абсолютно естественным. Поскольку музыка была так называемым международным языком, подобно пантомиме или искусству мимики, она обладала и возможностью четко передавать различия языковых ритмов отдельных народов, что, безусловно, влияло на процесс формирования разных стилей.
Теоретики иногда подчеркивают, что композиторам и исполнителям нет надобности сознательно использовать общие риторические основы, как не обязательно знать грамматику для общения на родном языке: каждое нарушение правил — независимо от того, знают их или нет — будет ощущаться как неестественность. Композиторы и исполнители барокко пребывали в уверенности, что публика поймет их “язык звуков”; это кажется нам впечатляющим, тем более, что сейчас как у музыкантов, так и у слушателей, проблем с этим пониманием предостаточно.
Причина в том, что современная музыкальная жизнь принципиально отличается от барочной. Мы играем музыку, которая создавалась в течение четырех-пяти столетий (иногда такое происходит в одном концерте), а рассуждения о вневременности настоящего искусства уже стали настолько привычными, что мы, не задумываясь, без должного анализа сравниваем произведения разных эпох. Слушатель же в эпоху барокко имел возможность слушать только современную для него музыку, поскольку музыканты исполняли исключительно таковую; легко понять, что нюансы музыкального языка были тогда понятны обеим сторонам.
К сожалению, нам очень часто кажется, что “говорящая” музыка менее ценна, чем “чистая”, абсолютная музыка. Возможно, мы глубже бы поняли ту “повествующую” музыку, если бы осознали, что барочная и значительная часть классической музыки — “говорят”. Поняв же это, перестали бы пренебрежительно (а то и презрительно) относиться к музыкальным высказываниям.
От барокко к классицизму
На барочную и классическую музыку вообще часто смотрят сквозь призму конца XIX столетия — и так ее исполняют. Правда, постоянно проявляется стремление к осовремениванию интерпретации (например, отказываются от всех исполнительских традиций и полагаются исключительно на нотный текст, исполняя детально только то, что записано). Делаются и другие “попытки реформ”, но главное — вся “история музыки” или вообще все, что играется, начиная от раннего барокко вплоть до постромантизма, трактуется в едином стиле, а именно — в свойственном и наиболее характерном для музыки конца XIX — начала XX века, музыки Чайковского, Рихарда Штрауса, Стравинского.
Относительно музыки барокко — во всем мире предпринимались попытки создания для нее нового языка, собственно — нового открытия ее давнего языка, а точнее — воспроизведения языка, считающегося давним; тем не менее никто не может наверняка знать, как тогда было на самом деле, ведь не появится кто-то из того времени, чтобы подтвердить или осудить наши воззрения. Почему предпринимаются такие попытки в отношении барочной музыки? Отличие дикции, основных музыкальных структур здесь настолько очевидно, что многим музыкантам бросилась в глаза огромная пропасть между самой музыкой и стилем ее интерпретации; если различия между произведениями, возникшими, скажем, в конце XIX века и во времена Баха, такие большие, то, естественно, для них должны использоваться совершенно разные способы интерпретации. В результате интенсивных попыток разрешить эту проблему многие музыканты открыли новый музыкальный язык для эпохи Баха; таким способом стал доступен музыкальный словарь, оказавшийся очень убедительным. Конечно, каждое следующее “открытие” возбуждало бесконечные споры и дискуссии, но, по крайней мере, в сфере интерпретации музыки барокко наконец что-то сдвинулось. Уже не воспринимается что угодно за чистую монету; заносчивость и самоуверенность исполнителей, опиравшихся на плохо понятую традицию, сменились активными поисками верной интерпретации.
Новые основы интерпретации, отыскиваемые и открываемые в отношении барочной музыки, совсем не обязательны для музыки венских классиков. Резкий стилистический перелом, четко ощутимый каждым музыкантом и слушателем, не позволяет не замечать этих отличий. Никто не колеблется с определением стиля того или иного произведения: кто постоянно посещает концерты, услышит сразу, что произведение принадлежит к стилистическому кругу Баха или Гайдна. Стилистические различия ощущаются даже в произведениях одного времени; ведь еще при жизни Баха в Вене или Мангейме существовали композиторы, создававшие произведения в новом стиле galant, который еще называли стилем Empfindsamkeit (чувственность, сентиментальность); этих композиторов причисляют (при отсутствии специальных музыкально-теоретических знаний) к эпохе раннего Гайдна. В переходный момент, когда классицизм “прорастал” из барокко (оба понятия в данном случае относятся исключительно к музыке), состоялся общественный и культурный переворот, в результате которого изменилась функция музыки (о чем уже упоминалось). Теперь ее целью стало обращение и к необразованным людям. При различиях между произведением позднего барокко и классическим замечаем, что в классическом — мелодия находится на первом плане. Мелодии должны были быть легкими и приятными, тогда как аккомпанемент — по возможности более простым; слушатель должен был реагировать чувствами, профессиональные же знания, необходимые для восприятия барочной музыки, здесь совсем не нужны. Музыка впервые обратилась к слушателю, который ничего не обязан “понимать”. Из подобного способа мышления происходит распространенное и сейчас такое отношение к музыке, согласно которому ее совсем не нужно понимать, “если она мне нравится и затрагивает мои чувства, если приносит мне какие-то переживания, то уже хороша”. Граница, разделяющая барокко и классицизм, является одновременно границей между трудной и легкой для понимания музыкой. Именно легкость понимания классической музыки привела нас к убеждению, что здесь нечего понимать или знать, и воспрепятствовала созданию для нее соответствующего словаря.
Надо иметь в виду, что классическая музыка поначалу исполнялась и воспринималась людьми, знавшими идиомы барокко и не знавшими музыки Шуберта и Брамса. Это означает, что в классической музыке присутствует очень много барочных элементов, и то, чем она отличалась (с точки зрения современников) от минувшей, казалось новым, непривычным и возбуждающим. Сейчас иная ситуация: у нас на слуху Шуберт, Брамс и все, что было написано позже; мы слушаем классическую музыку совсем иначе, чем тогдашние слушатели. То, что для них было новым и волнующим, для нас — старо, тысячу раз повторено, особенно по причине более поздних гармонических и динамических инноваций. Испытав действие этих более поздних “раздражителей”, мы утратили спонтанную реакцию на первоначальные “раздражители” классицизма. Если речь об интерпретации, то путь, ведущий через романтизм, теряет смысл, когда лишает классическую музыку свойственного ей языка и значения.
Мы все еще невольно исповедуем романтический взгляд на музыку, не желая признавать, что ее надо понимать. Просто считаем, что музыка, которая не сразу до нас доходит, мало интересна и недостаточно хороша. А если бы мы усвоили словарь, необходимый для понимания классической музыки? Возможно, это не так уж и трудно — достаточно обучиться нескольким простым вещам. Тогда бы и стали мы по-новому слышать. Тогда смогли бы исключить эффект устарелости, которого, кажется, не избежать, если смотреть на классическую музыку сквозь призму романтизма; смогли бы — беря за точку отсчета понимание музыки в предшествующее время — уже сегодня, двести лет спустя, снова действительно понимать классическую музыку. Такой путь кажется мне наиболее естественным и эффективным, и к тому же, теперь вполне возможным.
Относительно периода классицизма — до сих пор не затрагивались вопросы, касающиеся исполнительской практики. Считалось, что здесь сфера интерпретации еще здорова, что здесь властвует согласие, что не надо изменять способ мышления и что все может оставаться, как прежде. К сожалению, — а может, к счастью — практика последних лет показала, что все выглядит иначе. Современная интерпретация классической музыки оказывается все более отдаленной от той, какой задумывали ее “классики”, одновременно вызывая растущую в сознании неуверенность и глубокую тревогу: не является ли избранный путь фальшивым и уместны ли старые взгляды? Чем следует руководствоваться, исполняя музыку всех эпох: только чувством или только нотным текстом? А отсюда уже недалеко до убеждения, что надо открыть новые — или воскресить прежние — пути, ведущие к правильному пониманию музыки и ее интерпретации.
В конце концов, давний слушатель тоже совсем по-иному относился к музыкальному переживанию. Он стремился слушать только что-то новое, то есть только ту музыку, которой никогда еще не слышал. Композиторы ясно осознавали, что произведение не может многократно исполняться для одной и той же публики. Поскольку намного больше интересовались именно произведением, нежели его воспроизведением, критики “расправлялись” исключительно только с произведением и, возможно, уже потом с исполнением. Такая ситуация диаметрально противоположна нынешней, когда обсуждаются и сравниваются лишь детали исполнения. Содержание произведения, знакомого до последней ноты, сегодня уже не является предметом дискуссий.
Раньше произведением интересовались, пока оно было новым, потом его откладывали, и в грядущих столетиях оно становилось лишь предметом изучения и анализа для композиторов — никто, даже сам автор, не думал о его исполнении в будущем. Если проследить за тем, как Бетховен, Моцарт или Бах работали с произведениями своих предшественников, то можно заметить, что они изучали их в библиотеках, приобретая композиторскую технику, но никогда не пытались исполнить какое-либо из них в соответствии с намерениями композитора. Если кому-то вдруг захотелось бы исполнить такое произведение, он должен был радикально его “осовременить”. Так сделал, например, Моцарт с музыкой Генделя: идя навстречу пожеланиям фанатичного почитателя музыкальной истории Ван Свитена, он перелицевал ту музыку на чисто моцартовский манер. Представим себе фразу: “Брамс — интересно было бы послушать, как он прозвучит сегодня. Пусть Штокхаузен подготовит партитуру какого-либо произведения, чтобы ее можно было исполнить и представить современной публике, ибо партитура, записанная Брамсом сто лет назад, сейчас явно не звучит”. Такой подход более или менее соответствовал бы отношению тогдашней публики к давней музыке. Взгляните на концертные программы конца XVIII и XIX столетий. Каждая премьера, каждое первое исполнение вплоть до времен Чайковского, Брукнера и Штрауса имели положительное качество актуальности; собственно это, а не воспроизведение давних сочинений, становилось большим событием, интересовавшим тогдашний музыкальный мир. Правда, в программах появлялась старинная музыка (около 1700 года так называли произведения более чем пятилетней давности), но ядром музыкальной жизни до конца XIX века оставалась современная музыка.
Каким было в XIX веке отношение к музыке прошлого, пусть объяснит такой пример: Иоахим, знаменитый скрипач, приятель Брамса и Шумана, в какой-то библиотеке нашел Концертную симфонию для скрипки и альта Моцарта. В письме Кларе Шуман он утверждал, что нашел музыкальный шедевр, но, естественно, его уже нельзя исполнить публично, однако это будет для нее — как для знатока — замечательным произведением для чтения с листа и, возможно, его когда-то удастся проиграть вместе. В XIX веке все чаще исполнялась музыка Бетховена и Моцарта, а также (иногда) те явно неуместные обработки композиций Баха и Генделя; составляли они, однако, незначительную часть концертного репертуара. Преимущество было за новой, современной тогда музыкой!
Публичное исполнение Мендельсоном в 1829 году баховских Страстей по Матвею освободило старинную музыку от пыли антиквариата. Отдавая давним временам дань уважения, окрашенную настоящей романтической любовью, совершенно неожиданно открыли в прошлом музыку, полную чувств. Решение отнести ее не только к интересным учебным экспонатам, но и заново исполнить, могло родиться исключительно в эпоху романтизма; мендельсоновское исполнение Страстей по Матвею современники оценили как музыкальную сенсацию, как исключительное, неповторимое событие. Ни один из них никогда раньше не слышал этого произведения, в рецензиях подчеркивали его необыкновенность и преисполненность высокими чувствами.
Мы уже выяснили, что к классической музыке следует подходить со стороны предыдущей эпохи, базируясь на давнем, барочном музыкальном языке. Разные типы форшлагов — длинные и короткие, акцентированные и неакцентированные — являются важнейшими художественными средствами, унаследованными классицизмом от барокко. Длинный форшлаг действует как помощь гармонии, неакцентированный короткий — выполняет ритмическую функцию. Все они записываются маленькими нотами перед “главной нотой”, а музыкант, пользуясь контекстом, должен сам решить, какой из них следует применить в данном месте. Вообще форшлаг должен быть длинным, если находится перед консонансом — тогда он диссонирует, вызовет приятную тоску, которая разрядится на главной ноте консонанса, заменит щемящее чувство радостным настроением. В давнем словаре барочной музыки в значительной мере уже закодирована интерпретация: для тогдашнего музыканта было понятно, что сам диссонанс надо сыграть громко (forte), а его разрешение — тихо (piano). (Следует попробовать сыграть несколько раз, чтобы убедиться в этом). Такую старинную манеру исполнения форшлагов унаследовала послебаховская генерация музыкантов. Уже Леопольд Моцарт в своей “Скрипичной школе”, опубликованной в 1736 году, пишет, часто ссылаясь на прошлое, что форшлаги существуют для того, чтобы пение, песню сделать интереснее и украсить диссонансами. Он утверждает, что ни одна “деревенщина” не спела бы народной песенки без форшлагов, и приводит пример подобной мелодии с форшлагами, “которую спел бы каждый крестьянин”. Я ее показывал нескольким просвещенным музыкантам-профессионалам, которые родом не из села, — и ни один не прибавил к ней форшлагов. Из чего можно сделать вывод, что “деревенщина” во времена Моцарта была более музыкальной, нежели нынешний музыкант. (Или же, ранее очевидное не обязательно является теперь таковым).
Форшлаги унаследованы новым стилем, но их значение и нотация неоднократно менялись. Одна из первопричин записи форшлагов в виде дополнительных маленьких нот — стремление “правильно” записывать диссонансы, поскольку запись нотами нормальной величины была бы в определенных случаях ошибкой; поэтому их записывали как форшлаги. По мере того, как правила музыкальной орфографии стали более гибкими, все чаще то, что должно было звучать, стали записывать нормальными нотами. Такие форшлаги уже невозможно увидеть, но можно почувствовать.

Давние правила исполнения форшлагов, должны касаться и записанных большими нотами; при этом чрезвычайно важно уметь их распознавать. Тут часто и допускаем ошибки, когда записанные таким образом форшлаги не отличаем от “нормальных” нот.
В трактатах XVIII века, описывающих форшлаги, находим сведения о трудностях их правильного исполнения — особенно тогда, когда они помещены не в виде маленьких нот перед главной нотой, а записаны как ноты нормальной величины; может случиться, что нераспознанный форшлаг будет предварен еще одним форшлагом. (Неопытными музыкантами это делается и сегодня). Леопольд Моцарт считал, что так поступают только “безголовые музыканты”. Нераспознавание форшлагов вызывает — как в цепной реакции — дальнейшие ошибки интерпретации. Трудно. Представить, насколько по-разному звучит одно и то же классическое произведение, когда все форшлаги распознаны, правильно исполнены или когда допущены ошибки. Характер произведения может совершенно измениться.
Главнейшее правило исполнения форшлагов провозглашает: форшлаг нельзя отделять от главной ноты. Это вполне естественно. Он является диссонансом, который не может быть отделен от своего разрешения — напряжение неотъемлемо от своего спада. Из-за предельной очевидности этого, довольно часто лига, связывающая форшлаг с разрешением, просто не записывалась. Композитор надеялся, что исполнитель их залигует и без дополнительных указаний. Теперь он уже не мог бы на это рассчитывать, поскольку мы привыкли играть ноты, а не музыку, которую они выражают. Неиспорченному доктринами музыканту никогда не придет в голову отделить разрешение от диссонанса. Тем не менее, когда учитель постоянно говорит ученику: “Здесь композитор не написал лиги — поэтому нельзя лиговать звуки”, то в конце концов ученик просто перестанет слышать эти звуки слигованными и начнет их разделять вопреки собственному музыкальному ощущению. Подобное зашло уже настолько далеко, что сейчас редко можно услышать симфонию Моцарта, в которой лиги исполнялись бы надлежащим образом. Почти никогда не услышишь, как разрешения возникают из диссонансов; вообще заметна тенденция к акцентированию разрешений, часто с них даже начинают новую фразу.
Музыка может потерять смысл точно так же, как и речь, когда, например, в каком-то предложении переставить запятую на два слова влево, а точку — на два слова вправо. Если прочитаем препарированный таким образом текст, он окажется абсолютной бессмыслицей. Понимание форшлагов, на мой взгляд, является одним из важнейших звеньев, соединяющих исполнительскую практику барочной и классической музыки. В позднеромантической музыке исполнитель должен играть только то, что записано в нотах. Но если подобным образом подойти к симфонии Моцарта, где не записаны элементарные вещи, очевидные для тогдашних музыкантов, то в результате получится бессмысленный лепет.
Еще одно важное средство выразительности, унаследованное классической музыкой от барокко, — репетиции звука (в строгом стиле были, как известно, запрещены). В старинной музыке (начиная с 1600 года) они появлялись только при ономатопоетике (звукоподражании) и дроблении ноты на составляющие. Репетиции — изобретение Монтеверди; впервые в “Combattimento di Tancredi e Clorinda” для передачи аффекта неистовой злости он сознательно раздробил целую ноту на шестнадцатые и использовал это как выразительное средство. С того времени репетиции употребляются только при определенных аффектах, чаще всего приближенных к первичной мысли Монтеверди — аффектах, связанных с эмоциональным подъемом. Во многих классических симфониях используется стереотипное движение восьмушек в басу и в аккомпанементе, передающее сильное возбуждение и напряжение (редко нами так теперь воспринимаемое, ибо для нас это лишенные какого-либо смысла простые повторения звуков или аккордов). Сейчас, исполняя классическую музыку, целые страницы восьмушек или шестнадцатых играют как обычные восьмушки и шестнадцатые, а не выразительные репетиции звуков, требующие определенного напряжения и возбуждения как исполнителя, так и слушателя. Конечно, это должно сказываться на интерпретации. Подобные повторения звуков часто встречаются уже в барокко, в стиле concitato, где используется изобретение Монтеверди в recitativo accompagnato.
Начиная с XVII века, существовал, кроме описанных, еще один очень утонченный способ повторения звуков, приближенный к vibrato. В итальянских органах уже в XVI веке получали звук с ритмическим колебанием, встраивая регистр, состоящий из двух труб одной высоты звука, настроенных не в резонанс. По аналогии с вибрирующим голосом певца, этот регистр назван voce umana (vox humana). Такое звучание использовалось после 1600 года в музыке для смычковых инструментов; называлось tremolo или tremolando и записывалось так:

Этот прием многократно и подробно описан как смычковое vibrato, в котором звук — благодаря пульсирующему нажатию — волнообразно усиливается и ослабевает, однако никогда не прерывается. В духовых инструментах такой же эффект, называемый fremissement, исполняется — как своего рода ритмическое vibrato — без применения языка, а только при помощи дыхания с использованием диафрагмы. Подобный эффект, вызывающий сильное впечатление, нашел применение преимущественно в тихих фрагментах аккомпанирующих голосов и почти всегда означает грусть, терпение, боль. Возможности дифференцирования, как и всех музыкальных средств выразительности, просто безграничны: от почти неслышного вибрирования — вплоть до staccato. Некоторые композиторы старались очертить его с помощью дифференцированной нотации. Смычковое vibrato иfremissement были средствами, применяемыми почти два столетия едва ли не всеми композиторами. Сейчас они вообще не распознаются — их нотация интерпретируется ошибочно, как указание, касающееся способа применения смычка. При этом забывают, что в XVII и XVIII столетиях не существовало никаких обозначений скрипичных штрихов, но каждый знак выражал стремление композитора обозначить артикуляцию или произношение.
Появление и развитие языка звуков
Около 1600 года, где-то в средине жизни Монтеверди, западная музыка пережила самый настоящий радикальный поворот, подобного которому еще не бывало и какой не мог произойти потом. К тому моменту музыка прежде всего была “омузыкаленной” поэзией: писались песни, мотеты и мадригалы светской или религиозной тематики, а душевное состояние стихов служило основой музыкального выражения. Задача состояла в том, чтобы пересказать слушателю не текст, а его предпосылку, ведь композитор черпал вдохновение в душевных состояниях, несомых поэзией. Например, любовный стих, передающий слова некоего влюбленного, принимал вид многоголосного мадригала настолько изысканной формы, что сам влюбленный превращался в абсолютно абстрактную фигуру. О реальном виде или каком-либо диалоге вообще не было речи; текст, в конце концов, становился совсем непонятным — из-за имитационного вступления отдельных голосов одновременно пелись разные слова. Такие же многоголосные композиции, но без текста, составляли богатый репертуар инструментальной музыки; просто они приспосабливались музыкантами для игры на разных инструментах. Такого рода инструментальная и вокальная музыка служила общепринятой основой репертуара и всей музыкальной жизни. Ситуация была замкнутой, без видимых возможностей дальнейшего развития, и могла продолжаться веками.
Вдруг, словно гром среди ясного неба, возникла мысль — основой музыки сделать слово, диалог. Такая музыка должна иметь драматический характер, ибо сам по себе диалог — драматическое явление, поскольку состоит из утверждения, доказательства, вопроса, возражения, конфликта. Мысль возникла — что вполне закономерно в ту эпоху — под влиянием античности. Глубокая заинтересованность древностью натолкнула на мысль, что в греческой драме не разговаривали, а пели. В кругах почитателей античности делались попытки оживить старинные трагедии, полностью сохраняя их первичный вид. Наиболее известной группой была флорентийская “Camerata”, сплоченная вокруг графов Корси и Барди, ведущую роль в ней играли Каччини, Пере и Галилей (отец астронома). Первые оперы Пере и Каччини имели действительно замечательные либретто, хотя с музыкальной точки зрения были откровенно слабыми. Но содержащиеся в них замыслы привели к возникновению абсолютно “новой музыки” — “Nuove Musiche” (название полемически-программной работы Каччини) — музыки барочной, музыки говорящей.
Сведения о Каччини в большинстве энциклопедий, к сожалению, очень далеки от того, что пишет он сам. Сейчас его считают мастером орнаментированного барочного пения. Но если ближе познакомиться с его научными трудами, которые значительно интереснее, чем все написанное о нем, — можно заметить, что он, определяя новые средства выразительности, важнейшим из них считал сценическую экспрессию. Колоратуры и всякого рода украшения рекомендуются только там, где они подчеркивают экспрессию слова или позволяют певцу скрыть недостатки сценического мастерства (“... пассажи были изобретены не потому, что они нужны, а... чтобы щекотать слух невежд, не понимающих, что это значит — петь с чувством”). Существенной новизной этих преобразований является то, что текст — часто в форме диалога — обрабатывался сугубо одноголосно, с сохранением ритма и мелодики речи. Для того чтобы слово передавалось с наилучшей экспрессией и наиболее понятно, музыка должна была оставаться исключительно фоном, ее задачей стало создание дискретной гармонической платформы. Все то, что до сих пор считалось чисто музыкальным делом, было отброшено как нечто несвойственное. В местах с особенно интенсивной экспрессией содержание слов подчеркивалось при помощи неожиданных гармоний. В такой новой форме — противоположной мадригалу, где отдельные слова и их группы часто повторялись, — репетиция слов не применялась. В нормальном диалоге слова повторяются лишь тогда, когда считается, что партнер их не понял, или когда стремятся придать им особый вес: так делали и в новой музыке, которую называли монодией. Галилей, единомышленник Каччини, подробно объясняет, что должен делать композитор: пусть прислушивается, как общаются люди разных слоев общества (во всех жизненных ситуациях), как развивается разговор или дискуссия между людьми высокого и низкого происхождения, как они звучат, — и, собственно, из этого пусть делает музыку. (Именно так представляли себе аутентичное исполнение греческих драм). Знаменательно, что стиль этот развивали не просвещенные композиторы, а именно любители и певцы.
Вместе с тем такие стремления абсолютно новы и довольно шокирующи. Чтобы понять насколько — попробуем перенестись в те времена: представим, что нам около тридцати лет и смолоду не слышали ничего другого, кроме замечательных мадригалов Маренцио, молодого Монтеверди и нидерландских композиторов, — многоголосную, сложную и эзотерическую музыку. Вдруг появляется некто и говорит, что настоящая музыка — прежде всего то, как люди говорят между собою. Такое, естественно, было возможно в Италии, где язык действительно звучит мелодраматично; достаточно послушать людей на рынке любого итальянского города, чтобы понять, что имели в виду Каччини и Галилей, или же выслушать защитную речь адвоката перед судом: добавить только пару аккордов на лютне или клавесине — и речитатив готов. Для влюбленных в музыку людей, которых монодия вырвала из их мира мадригалов, такое было — как уже упоминалось — шоком, и куда более сильным, чем тот, который в начале XX столетия вызвала атональная музыка.
Каччини утверждал: контрапункт является произведением дьявола, поскольку уничтожает понятность. Аккомпанемент должен быть настолько простым, чтобы к нему не прислушиваться, диссонансы должны размещаться только на определенных словах, для подчеркивания их значения. Все, что пишет Каччини в своем трактате “Nuove Musiche” о языке, мелодии и аккомпанементе, имело решающее значение для развития оперы, речитативов, а также сонаты. Каччини выделяет три типа декламационного пения: recitar cantando, cantar recitando и cantare — или напевный разговор, разговорное пение и пение. Первый тип соответствует обычному речитативу, близок более к языку, чем пению, и выглядит очень естественно. В случае cantar recitando — пения разговорного, или скорее декламационного — пение выступает кое-где на передний план; более или менее соответствует тому, что называется recitativo accompagnato. Cantare означает пение и соответствует арии.
Надо всегда помнить, что все это было абсолютно новым и неожиданным, как бы внезапно возникшим из небытия. В развитии музыкального искусства чрезвычайно редко происходит так, чтобы новое появлялось, не рождаясь из уже существующих вещей. (Обратите внимание: “новое” рождалось преимущественно из попыток верно воссоздать что-то старое, а именно музыку античных греков). Для двух следующих столетий это стало предпосылкой эволюции музыки, основанием того, что мне хотелось бы обозначить “говорящей музыкой”.
Необычная идея декламационного пения интересна для музыки и музыкантов лишь тогда, когда попадает в руки музыкального гения. Монтеверди был виднейшим композитором мадригалов своей эпохи, овладел искусством контрапункта со всеми его тонкостями задолго до появления нового типа музыки. Когда он со своей впечатляющей композиторской сноровкой вступил на примитивную стезю музыкальной декламации, то совершил там настоящую революцию. Конечно, он не мог полностью принять теорию и догматы, применявшиеся в кругах Каччини. Настоящий музыкант, как говорят, до кончиков волос, он не мог согласиться с тем, будто бы контрапункт является продуктом сатаны, а музыка не должна быть интересной, иначе станет отвлекать внимание от текста. Монтеверди постоянно искал средства выразительности; перенимая новые идеи, не трактовал их догматически. Со времени своих первых оперных попыток (около 1605 года) систематически работал над созданием собственного музыкально-драматического языка. В 1607 году написал оперу “Орфей”, год спустя — “Ариадну”, из которой, к сожалению, сохранилось только известное Lamento. С того времени каждое короткое, одно- или двухголосное произведение, каждый написанный им дуэт или терцет является своего рода экспериментом — маленькой оперной сценой, мини-оперой. Так постепенно он приходит к своим большим оперным произведениям. Насколько эта постепенность была осознанной, можно узнать у самого Монтеверди, который был высокообразованным человеком, дружил с Тассо, изучал классических и современных философов, точно знал, что и зачем он делает; очень тщательно искал музыкальное выражение для каждого аффекта, каждого человеческого чувства, каждого слова и каждой формулы языка. Известным примером его систематических поисков является написанная в 1624 году сцена “Combattiraento di Tancredi e Clorinda”. Монтеверди старательно выбирал текст, позволяющий ему выразить аффект неистового гнева. Рассказывает об этом так: “... в произведениях композиторов прошлых времен не мог отыскать ни одного примера возбужденного стиля, (... ) тем не менее зная, что противоречия наиболее поражают наши души, а потрясение должно быть окончательной целью хорошей музыки (... ), ценой неутомимых усилий старался отыскать тот тип музыки. (... ) Нашел описание поединка Танкреда с Клориндой, стремился выразить пением противоположные чувства: борьбу, мольбу и смерть”.
Как музыкант Монтеверди сразу ставит перед собой ряд вопросов: Правда ли это? Так ли это существенно? Действительно ли в музыке до 1623 года не было средств, позволявших выразить высочайшее возбуждение, или, похоже, они вообще тогда не требовались? Но все нужное, безусловно, существовало. И действительно: в лирическом искусстве мадригала не было ни взрывов гнева, ни состояний неистового возбуждения — как в положительном, так и в отрицательном смысле. Очевидно, за ненадобностью. Вместе с тем в драматическом искусстве без них абсолютно нельзя обойтись. Монтеверди обратился к Платону и нашел там репетиции звуков. Он пишет: “Я исследовал, что быстрые темпы, и это подтверждает философия, применялись в воинских танцах, полных пылкости (... ), потом понял, что целая нота может быть раздробленной на шестнадцатые, повторяющиеся одна за другой; прибавив к тому текст, выражающий гнев и возбуждение, я почувствовал в этом коротком примере искомое сходство с аффектом”.
Найденную возможность выражения аффекта сильнейшего возбуждения Монтеверди называет “stile concitato”. С того времени повторение звуков используется как выразительное средство, a concitato становится повседневным композиторским приемом. В равной мере такое определение, как и его музыкальное соответствие в XVII и XVIII столетиях, применялось в том значении, которое придал ему Монтеверди. Репетиции такого же типа встречаем у Генделя и даже у Моцарта. Монтеверди пишет, что сначала музыканты уклонялись от шестнадцатикратной игры одного звука в одном такте. Были поражены: от них требуют исполнения чего-то музыкально абсолютно неуместного, тем более что репетиции звуков в строгом письме запрещались. Прежде всего требовалось объяснить, что здесь они имеют “внемузыкальное”, драматическое, экспрессивно-чувствительное значение.
Благодаря concitato в музыку проникает нечто, чего еще не было: чисто музыкальный элемент, касающийся движений тела. Итак, подходим к важному аспекту музыкальной драмы. В драме невозможно представить диалог и развитие обстоятельств без действия: мимика, жест и движение всего тела нераздельны. Актер не может исполнить роль без определенных телодвижений. И насколько заново открытый Монтеверди драматический язык звуков интерпретирует и укрепляет экспрессию слова, настолько же и содержит в себе физическую акцию, акцию тела. Монтеверди был первым великим музыкальным драматургом, который использовал жест как элемент инсценизации. По моему мнению, музыкальная драма лишь тогда начинает существовать, когда содержит все вышеупомянутые элементы, объединенные с языком телодвижений.
В текстах опер или мадригалов существуют определенные, постоянно возвращающиеся слова-импульсы, с которыми связаны соответствующие им музыкальные фигуры. Постепенно — начиная от теории Каччини и его коллег, через Монтеверди, достигшего вершин совершенства, — подошли к формированию каталога музыкальных фигур. Монтеверди зашел так далеко, что применял разные фигуры, придавая какому-то одному слову разнообразное произношение, благодаря чему оно каждый раз приобретало иное значение, соответствующее данному контексту. Так интерпретация слов определялась самим композитором. С подобной ситуацией мы сталкиваемся разве что у Моцарта, а потом у Верди.
Произведения, написанные первой генерацией оперных композиторов, стали основой для обширного каталога фигур определенного значения, известных каждому просвещенному слушателю. Со временем пришли к обратной связи — отдельные музыкальные фигуры могли использоваться самостоятельно, без текста: слушатель помнил их первичное значение и воспринимал как конкретные рассказы. Такое перенесение начального вокального словаря в инструментальную музыку имеет огромное значение для понимания и интерпретации барочной музыки, произрастающей из древнейших проявлений декламационного пения, которое Монтеверди возвел до ранга большого искусства.
Благодаря этому становится понятной родственная связь между инструментальной и вокальной барочной музыкой. Здесь источник особого диалога между музыкальными построениями “абсолютной” музыки: сонат XVII и XVIII столетий, тогдашних концертов и даже симфоний, возникших уже в эпоху классицизма. Эти произведения, очевидно, сочинялись, исходя из характера речи, и часто инспирировались конкретной или абстрактной риторической программой.
Постепенно репертуар фигур, использовавшихся в монодии и речитативе, стал настолько обособленным, что около 1700 года начал восприниматься как каталог инструментальных оборотов. Бахом же снова применен в вокальной музыке. (Может, поэтому многие певцы считают музыку Баха сложной для пения, поскольку написана как бы слишком “инструментально”). Если внимательнее присмотреться к отдельным применяемым Бахом фигурам, — легко заметить, что они происходят из мелодической структуры речи. Это, собственно, и является дальнейшим развитием фигур, сформированных в монодии и декламационном пении, а также приобретением ими еще большей самостоятельности. У Баха риторическая составная указана исключительно отчетливо; он сознательно опирался на учение Квинтиллиана и в соответствии с его правилами писал свои произведения — причем настолько подробно, что правила те можно изучить заново в Баховских композициях. При этом использовал — спустя сто лет после Монтеверди — весьма усовершенствованный словарь языка звуков, перенесенный из итальянского языка в немецкий. Это перенесение было связано со значительным обострением акцентов. (Представители романских народов тех времен и так считали звучание немецкого языка сплошь твердым и “визгливым”, с чрезвычайно четкими акцентами). У Баха прежде всего бросается в глаза то, что весь арсенал контрапунктических средств объединен с принципами риторики.
Открытие монодии едва не привело к первой музыкальной “чистке”, которая могла бы стать причиной уничтожения музыки как таковой, если бы все руководствовались догматами “флорентийцев” и категорически отвергли бы мадригал и контрапункт — к чему шло примерно в 1600 году. Очевидно, такое было невозможным, ибо и сам Монтеверди после ознакомления с новым стилем монодии в целом не отрекся от сочинения, например, многоголосных мадригалов. Это стало источником необычайной стилистической разнородности, присутствующей у него даже в рамках больших композиций. В обеих поздних операх три техники — напевный разговор, разговорное пение и пение — на самом деле четко различаются, но в пении он иногда снова использует контрапунктические элементы давнего искусства мадригала.
У Баха искусство контрапункта, названное “prima prattica”, в отличие от новейшей драматической монодии, названной “seconda prattica”, получило такое значение, что имитационный и фугированный стиль снова был воспринят и в светской вокальной музыке. Так снова появляются произведения (как в нидерландской и итальянской музыке до 1600 года), в которых тексты не пелись одновременно, а накладывались террасами друг на друга, хотя отдельные голоса уже использовали отдельные фигуры. Музыкальный язык и музыкальная драматургия также использовались иначе — как дополнительное средство выразительности полифонического стиля (такого сложного мира контрапункта), примененное риторически и драматически.
Следующий этап эволюции приводит к Моцарту. Он обладал — как в свое время Монтеверди — знанием и умением использовать все известные к тому времени средства контрапункта, получившие свое развитие в период барокко. В послебаховские времена начался отход от сложной позднебарочной музыки, понимаемой только ограниченным кругом посвященных, в сторону новой музыки, “натуральной”, которая должна была стать настолько простой, чтобы ее мог понимать каждый человек, даже не слышавший никогда музыки. Моцарт решительно отверг концепции, лежавшие в основе послебаховской “чувствительной” музыки. Слушателя, который признавал ту или иную вещь прекрасной, ничего в ней не понимая, он называл именем “Papageno” (ит. — попугай), приобретавшее в его устах особенно отрицательное значение, — и подчеркивал, что сам пишет исключительно для знатоков. Придавал огромное значение тому, насколько он понятен именно для “настоящих знатоков”, и считал, что его слушатели разбираются в музыке и достаточно образованы. В те времена именно в околомузыкальной среде все чаще случалось, что люди вообще без образования с видом непревзойденных знатоков провозглашали приговоры, от чего Моцарта не раз охватывала ярость. Отец предостерегал Моцарта во время написания “Idomeneo” (декабрь 1780) от обращения исключительно к знатокам: “... советую тебе, чтобы в своей работе ты думал не только лишь о музыкальной публике, но и немузыкальной (... ), не забывай про так называемое popolare, щекочущее также и длинные уши (ишаков)”.
Хотя Моцарт имел в своем распоряжении весь арсенал выразительных средств позднего барокко, однако для реализации задуманной музыкальной драмы не мог воспользоваться как исходным пунктом схемой итальянской оперы seria, да еще и в ее застывшей форме. Поэтому перенял некоторые элементы французской оперы, где чисто музыкальная субстанция всегда подчинена языку (там вообще не было арий). Таким образом, сам того не подозревая, в какой-то мере предвосхитил возникновение музыкальной драмы. Зависимость от текста во французской опере XVIII века более четкая, чем в итальянской, где внимание концентрировалось на огромных схематических ариях. В каждой опере появлялась ария мести, ария зависти, ария любви или — в финале — ария “все снова хорошо”; собственно, ее можно было трактовать по-разному, что довольно часто практиковалось. Вместе с тем во французской опере сохранялись еще давние формы: речитатив, ариозо и маленькая ария; это и привело к тому, что она более соответствовала в качестве отправного пункта драматургической реформе, нежели итальянская opera seria. Теоретические основы той реформы наиболее ясно выразил Глюк, однако на практике только Моцарт придал музыкальной драме ощутимую весомость.
У него мы находим те же основы, что и у Монтеверди. Здесь речь не о поэзии, положенной на музыку, а лишь о драме, диалоге, отдельном слове, конфликте и развязке. У Моцарта подобное происходит не только в опере, но также — парадокс — и в инструментальной музыке, которая всегда драматична. У послемоцартовского поколения композиторов такой драматический, наполненный повествованием элемент все чаще исчезает из музыки. Причины — как уже говорилось — надо искать во французской революции и культурных ее последствиях, низведших музыку до прислужницы общественно-политических идей. Слушатель, одурманенный лавиной звуков, перестал быть партнером и превратился в потребителя.
На мой взгляд, именно здесь кроется причина нашего нынешнего абсолютного непонимания той музыки, которая была создана до французской революции. Я считаю, что музыку Моцарта — если сводить ее только к категории прекрасного — мы понимаем настолько же мало, как и музыку Монтеверди. А собственно, так и происходит: обращаемся к музыке, чтобы наслаждаться, очаровываться прекрасным. Когда читаем описания особенно “прекрасных” интерпретаций Моцарта, постоянно наталкиваемся на “моцартовскую радость” (формулировка, ставшая стереотипной). Если же вглядимся пристальнее, изучим произведения, которых касается такая формулировка, будем вынуждены задаться вопросом: почему же “моцартовская радость”? Современники описывали музыку Моцарта как изобилующую контрастами, проникновенную, волнующую, впечатляющую; такими эпитетами тогдашние критики пользовались, характеризуя его произведения. Как же дошло до того, что моцартовскую музыку свели только лишь к “радости”, к эстетическому наслаждению? Однажды после прочтения об одном из таких “радостных” исполнений, я предложил своим студентам поработать над моцартовской скрипичной сонатой, построенной на основе французской песни. Сначала ее играли очень хорошо, даже сказал бы, что скрипачка исповедовала идею “моцартовской радости”. Потом, немного поработав над этой сонатой, мы удостоверились, как сильно она “проникает под кожу”. В ней была не только “моцартовская радость”, но и вся гамма человеческих чувств — от счастья до грусти и страдания. Впрочем, временами я сомневаюсь, следует ли направлять студентов именно по такому пути?
Может случиться, что люди, придя на концерт, чтобы наслаждаться “моцартовской радостью”, вместо этого получат моцартовскую правду, которая испортит им хорошее расположение духа, отвратит их от музыки. Вообще-то мы все стремимся слушать и переживать что-то конкретное, ибо утратили свойственную былому слушателю заинтересованность. Возможно, мы вообще не хотим уже слушать того, о чем рассказывает нам музыка. Не сведется ли функция нашей музыкальной культуры только к тому, чтобы после преисполненного работой и конфликтами дня, мы могли почерпнуть из музыки лишь радость и покой? Разве она больше ничего не может нам предложить?
Таковы, собственно, рамки, в которых развивалась выразительная музыка, драматический язык звуков. В самом начале, у Монтеверди, она заменила собой счастливый мир искусства мадригала. А в конце, после Моцарта, в значительной мере была уже сама вытеснена плоской музыкальной звукописью романтизма и постромантизма. В выразительной музыке, в диалоге, который она проводит, никогда не велась речь исключительно о прекрасном звучании; она преисполнена страсти, часто пестреет довольно острыми конфликтами, которые, тем не менее, всегда разрешаются. Монтеверди как-то (вынужденно защищаясь от укоров в том, что его музыка не руководствуется правилами эстетики и недостаточно “прекрасна”) сказал: “Пусть все знатоки музыки еще раз вникнут в основы гармонии и пусть поверят мне, что современные композиторы должны руководствоваться только правдой”.
III. ЕВРОПЕЙСКАЯ БАРОЧНАЯ МУЗЫКА - МОЦАРТ
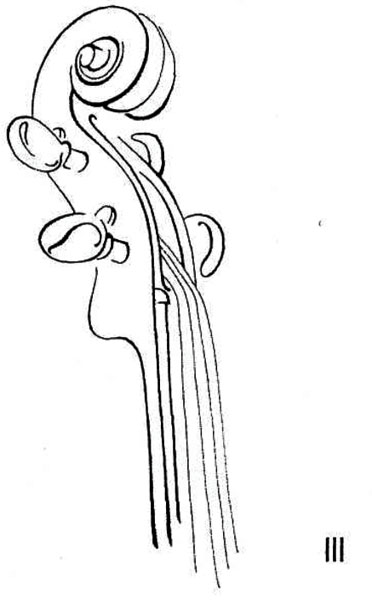
Программная музыка — opus 8 Вивальди
Проблема “абсолютной” музыки, в отличие от музыки программной, затрагивалась уже неоднократно. Концерты периода барокко, даже имеющие программные названия, причисляются преимущественно к “абсолютной” музыке. Причина в том, что сочинены они на чисто музыкальной основе и могут быть понятны и без знакомства с программой. Мне кажется, что здесь возникла путаница относительно понятий, истоки которых — в послеберлиозовском понимании программной музыки. В барочной музыке совсем другие критерии, “абсолютную” музыку здесь невозможно отличить от программной, поскольку вообще не существует беспрограммной барочной музыки, если таковую считать драматическим действием с неизвестным финалом, часто без конкретного содержания и представленную средствами риторики. Во многих эпохах и стилях объединение слов и музыки способствует укреплению выразительной силы слова — посредством соответствующих мелодических построений музыкально отображаются даже жесты и движения тела. Важнейшим импульсом для музыки периода барокко стало развитие — если не сказать изобретение — оперы. Драматическая монодия, введенная около 1600 года, задумывалась как напевная декламация текста, причем единственной задачей музыки было усиление выразительности речи; чисто музыкальную экспрессию отвергли как фактор, отвлекающий от чего-то более существенного — от текста. Вскоре сформировался целый каталог музыкальных фигур; пение должно было приспосабливаться к характеру и естественному ритму языка — и всегда подчиняться выражаемым чувствам. Подобные мелодические и ритмические фигуры постоянно связывались с определенными чувствами и группами слов. Потом они использовались — уже совершенно сознательно — как элементы, которые в соединении с текстом, а впоследствии и без текста, должны вызывать ассоциации, соответствующие содержанию слов или фраз. Во времена Вивальди этот процесс уже насчитывал сто лет и в отдельных регионах даже угас. Музыкальные фигуры в вокальной музыке, первоначально происходящие из естественного декламационного пения, развились до того, что понимание текста уже стало невозможным, даже необязательным — и это притом, что слушатель, пускай и немного, но разбирался в значении тех фигур. В Италии, родине барокко, музыканты овладели языком звуков легко и естественно, как прирожденные актеры. Фигуры, применявшиеся вначале только в вокальной музыке, уже к средине XVII века стали использоваться в чисто инструментальной музыке, из-за чего она превратилась в абстрактный, драматический язык звуков. Барочная инструментальная музыка преимущественно театральна: она представляет и сопоставляет, в соответствии с правилами риторики, явления природы, душевные состояния и чувства. Часто это происходит просто драматически, когда с помощью барочного языка звуков представляется некое событие, абстрактный или конкретный итог которого становится понятным лишь в конце музыкально-драматического действия.
Вивальди занимался всеми видами театральной инструментальной музыки. Как итальянец и оперный композитор владел также обширным словарем и чисто инструментальных музыкальных фигур. Понятия хоть “абсолютной” музыки, хоть “программной” в его случае представляются недостаточными. Музыка Вивальди повествует, рисует, выражает чувства, представляет явления и конфликты, и все это не поочередно, а одновременно и хаотически, как того требовал итальянский темперамент при передаче событий жизни в театре времен барокко. Вивальди, бесспорно, имел слушателей, которым такой язык был знаком и понятен, исходя из темперамента, лексики и возможности сравнения. Непосредственное влияние его музыки было, вероятно, очень сильным. Понимание такой музыки приходит к нам намного труднее: не остается ничего другого, как только ограничиться составными, какие еще понимаем, или попробовать слушать эту музыку заново, просто следя за развитием диалога, чтобы в конце концов понять его суть.
Большинство своих концертов Вивальди написал для своего коллектива — известного женского оркестра из Ospedale della Pieta в Венеции. В этом учреждении, которое было чем-то вроде приюта для беспризорных или сиротского дома (тогда в Венеции было много таких детей), Вивальди работал с 1704 года как учитель скрипичной игры, а с 1716 — как Maestro del concerti. Способные воспитанницы получали также и музыкальное образование, здесь создавались хоры и оркестры, а проходящие каждое воскресенье или в праздничные дни концерты были городским развлечением. Игру тех девушек превозносили путешественники: в 1668 году Петер Тостальо сообщает: “В Венеции существует женский монастырь, воспитанницы которого играют на органе, других инструментах и так чудесно поют, что нигде в мире не найти музыки такой же сладкой и гармоничной. Чтобы послушать эту ангельскую музыку, в Венецию собираются люди со всех сторон... ” Такой особый интернатский оркестр мог исполнить любые высочайшие профессиональные требования: экстремальные задачи, стоящие перед солистами, свидетельствуют — эти произведения писались для музыкантов, виртуозно владеющих инструментами. Когда Вивальди обращался к произведениям из их репертуара, чтобы подготовить к изданию, то обычно таковые перерабатывал. При сравнении можно заметить, что печатная версия часто технически значительно облегчена; несомненно, так делалось ради большей доступности этих произведений для публики. Эволюция Вивальди как инструментального композитора определялась, преимущественно, теми возможностями, которые он имел в Ospedale della Pieta; авангардный, часто экспериментальный характер его произведений объясняется тем, что здесь он имел возможность воплотить любые, самые смелые замыслы.
Также и концерты, входящие в Opus 8 “Il Cimento dell' Armenia e dell' Inventione” (Смелые упражнения в Гармонии и Выдумке), очевидно, не создавались для такого издания; просто Вивальди собрал и издал вместе произведения, которые можно было объединить под этим очень выразительным названием. Даже группа концертов “Времена года”, составляющая ядро сборника, несомненно, была не новой композицией, а обоснованием названия всего цикла. Здесь собрано множество смелых идей. На самом деле эти концерты Вивальди сочинил задолго до их публикации, поскольку в предисловии-посвящении графу Морцину он пишет: “Когда я вспоминаю долгие годы, на протяжении которых радовался предоставленной мне чести служить Вашему Высочеству в роли придворного композитора в Италии, мне стыдно, что до сего дня я не привел еще ни одного доказательства моего глубокого почтения. Итак, решил дать в печать этот том, чтобы коленопреклоненно сложить его к ногам Вашего Высочества; почтеннейше прошу не испытывать удивления, когда Ваше Высочество между несколькими неуклюжими концертами найдет “Четыре времени года”, которые вот уже много лет получают милостивую снисходительность Вашего Высочества; прошу поверить мне, что, собственно, поэтому я и признал их достойными печати — хотя это те же произведения, теперь, кроме сонетов, к ним прибавились еще и объяснения всех имеющихся в них вещей. Надеюсь, что Ваше Высочество оценит их так, будто они новые”. Первое издание вышло в Амстердаме в Le Cene около 1725 года. Вивальди, кроме многих почетных титулов и должностей, с давних пор носил титул Maestro di Musica in Italia графа Венцеслава Морцина; такой титул обязывал его присылать чешскому аристократу композиции и опекать графский оркестр во время его пребывания в Италии. Вивальди напоминает адресату об усладе, которую “вот уже много лет” дарили ему “Четыре времени года” (ко времени выхода из печати им было уже несколько лет). Два Концерта № 9 и № 12 для скрипки или гобоя (“Questo concerto si puo fare ancora con l'Hautbois”), без сомнения, написаны как концерты для гобоя: все другие невозможно исполнить на гобое, поскольку не только шире диапазона этого инструмента, но требуют также исполнения двойных нот. Это не случайно. Похоже, Вивальди включил в сборник скрипичных концертов уже существующие раньше концерты для гобоя, чтобы таким образом предложить покупателю более легкие для исполнения произведения.
Источником интерпретации тех концертов для нас стало издание Le Clerc et Mme Boivin (Париж), появившееся сразу же после первого издания; считаю его достойным доверия как тщательно отредактированное и почти свободное от ошибок. Для реализации basso continuo после многочисленных проб мы избрали орган; в конце концов, старательная запись цифровки генерал-баса требует этого (“Organo e Violoncello”). Именно благодаря мягкому звучанию его труб сохраняются утонченные звуковые образы, создаваемые смычковыми инструментами, что невозможно в случае применения острого звучания клавесина. С другой стороны, особенно выразительно слышно заполняющие гармонию голоса. Из записи басового голоса также видно, что Вивальди хотел использовать клавесин только лишь в медленной части “Осени”; здесь имеется указание “Il cembalo arpeggio”. Поэтому во всех частях этого концерта применяем клавесин. Разделение инструментов continuo не возникает из басового голоса, тем не менее, на основании использования Вивальди баса в других произведениях, мы отважились на применение контрабаса лишь в местах tutti. Только в медленной части “Зимы” в партии continuo появляется отдельная строка для партии виолончели, или же обычный басовый голос здесь исполняется контрабасом и органом. Тем более, что в этом голосе, кроме цифр, появляются многочисленные исполнительские указания типа “Tasto solo” или “Tasto solo sempre”. Медленные части концертов для гобоя (№ 9 и № 12), как и скрипичного концерта № 10, напечатаны на двух нотоносцах; так музыканты, играющие партию continuo, могут следить за сольным голосом и орнаментированием (это очевидное указание относительно способа аккомпанемента). В партии альта (“Alto Viola”) существует много ремарок, шире объясняющих сонеты, которые служат программой. Concerto I, во второй части: “Largo, si deve suonare sempre molto forte, e strappato” (“Лярго, постоянно играть очень зычно и detache”) или же “Il cane chi grida” (“Лающий пес”); в третьей части: “Allegro Danza Pastorale”. Concerto II, в первой части: “Languidezza per il caldo” (“Томление от жары”). Concerto III, в части первой: “Ballo e canto de'Villanelli” (“Танец и пение крестьян”), в такте 41: “L'Ubriachi” (“Пропойцы”); в части второй: “Dormienti Ubriachi” (“Спящие пропойцы”); в третьей части, в такте 83: “Scioppi e cani” (“Выстрелы и собаки”). Во всех партиях “Лета” в начале третьей части появляется указание: “Tempo impetuoso d'Estate” (“Бушующая летняя погода”).
Стремясь понять итальянские “указания темпов” в произведениях XVII и XVIII столетий, надо постоянно помнить, что большинство из них (например, Allegro, Largo, Presto) были (и есть) прежде всего словами бытового итальянского языка. Итальянские композиторы не употребляли эти слова в качестве музыкальных терминов, а применяли их в соответствии с речевым значением. Allegro означает весело, беззаботно, а не быстро; только тогда, когда особый вид веселости требует точного темпа, Allegro становится посредником его значения. Вообще можно сказать, что такое указание в языковом смысле является скорее определением аффекта, а окончательный темп вытекает уже из контекста. Многочисленные знаки фермат и пометки в границах части цикла призывают к рапсодической игре, изобилующей rubato и агогическими изменениями. Вивальди размещает многочисленные исполнительские и технические указания. Динамика обозначена очень утонченно, причем надо учитывать, что многие промежуточные нюансы остались необозначенными. В этом произведении Вивальди употребляет: molto forte, piano, piu piano, pianissimo. Поразительно, что динамика несинхронна во всех голосах. Например, в медленной части “Весны” скрипка solo играет нормальным звуком среднего напряжения (без указания), первые и вторые скрипки группы ripieni — “sempre pianissimo” (или очень тихо), в то же время альты должны играть “molto forte” (очень громко). В медленной части “Зимы” альты играют “pianissimo”, скрипка solo — средней звучностью, скрипки группы ripieni — pizzicato без указания, контрабас — “sempre piano”, а виолончель — “molto forte”. Такой способ использования динамики указывает, что Вивальди употребляет почти импрессионистическое звучание. Артикуляция, или необходимые для игры штрихи и акценты, были настолько известны тогдашним музыкантам, что композитор — если все шло нормально или в соответствии с канонами — не писал никаких подобных обозначений.
Вивальди помещает много разных артикуляционных пометок и несколько знаков для украшений, особенно в местах, которые могли быть неправильно истолкованы и по ошибке сыграны иначе, нежели он хотел. Существовали артикуляционные лиги, объединяющие группы от двух до восьми нот, смычковые вибрато разного напряжения:

, знак + для трели, мордента и т. д.,

, который означает нечто среднее между вибрато и трелью (что-то на манер четвертьтоновой трели), появляется также в такой комбинации

Очевидно, все необозначенные места необходимо исполнять с артикуляцией, соответствующей тогдашним канонам, причем должны применяться все типы штрихов вплоть до скачкообразного (sautille) и “брошенного” смычка. В подобных местах других концертов Вивальди требовал применения таких штрихов словесными обозначениями или ставил соответствующие знаки; известно также, где и как они тогда использовались.
Стиль итальянский и стиль французский
В XVII и XVIII веках музыка еще не была тем международным, общепонятным искусством, каким — благодаря железным дорогам, самолетам, радио и телевидению — пожелала и смогла стать сегодня. В разных регионах формировались абсолютно независимые стили, все больше и больше отдалявшиеся с течением времени от общих истоков.
Конечно, обмен информацией был довольно обширным, позволявшим познакомиться с их своеобразием: странствующие виртуозы везде предлагали способ игры, типичный для их родных стран, а путешествующие почитатели музыки имели возможность слушать и сравнивать разные стили и музыкальные идиомы в их естественной среде. Затем появилось что-то наподобие соперничества между “музицирующими” народами, что еще больше проявило характерные особенности и свойства национальных стилей.
Конфронтация, длящаяся веками, приобрела особый характер благодаря взаимопроникновению стилистических черт музыкальных культур разных стран, отчасти под влиянием самой музыки, частично в результате деятельности композиторов, живущих за границей. В стилистически чужой среде они старались объединить характерные особенности музыки своей бывшей и нынешней отчизны.
Причиной возникновения настолько разных, почти антагонистических национальных стилей был, очевидно, не только недостаток коммуникации, иначе стилистические границы не совпадали бы “случайно” с национальными. Должны были существовать и другие причины, возникающие из характера, менталитета и темперамента целых народов. Театральный и индивидуалистический характер барокко приводил к развитию и выявлению личности — начав от индивида, вместе со всеми его чертами, вплоть до представления (конечно, в соответствующем увеличении) добродетелей и недостатков, типичных для отдельных народов. Подобное явление принимало очень конкретную форму, приобретая свое выражение в неосмотрительном пренебрежении ко всему “иному”. Наиболее остро это проявилось, конечно же, у народов, чьи характеры четко сформировались и которые упорно соревновались между собою — географически, духовно, политически и культурно: у итальянцев и французов.
Стилистические различия, становящиеся все более выразительными в XVII столетии, зиждились прежде всего на различиях в менталитете — открыто высказывавших свою радость и страдание экстравертных итальянцев (спонтанных и чувствительных приверженцев непосредственности) и холодных, сдержанных французов, наделенных исключительной скоростью мышления, почитателей формы (во всем). Итальянцы были практически творцами барочного стиля, театральность, неограниченное богатство форм, фантастика и чудачества которого идеально совпадали с итальянским характером. Корни барочной музыки — также из Италии. А тогдашняя французская музыка — реакция на то извержение итальянского музыкального вулкана.
Барочная музыка была или итальянской, или французской. Противоположности между музыкальными идиомами обоих народов считались тогда непреодолимыми. И даже сегодня, несмотря на трехвековую дистанцию, они проявляются так четко, что можно понять тогдашние споры. Вьевиль (Vieuville) в 1704 году писал: “Нам хорошо известно, что в музыке ныне существуют две партии, одна из которых превыше всего ставит итальянский вкус (... ) Она провозглашает безапелляционный приговор французской музыке как самой безвкусной в мире. Вторая партия, верная вкусам своей отчизны, имеет глубокие убеждения относительно музыкальной науки и не может без грусти смотреть на то, что даже в столице королевства пренебрегают хорошим французским вкусом”.
Пропасть, разделявшая обе стороны, была столь глубока, что музыканты чувствовали лишь взаимное презрение друг к другу; скрипачи итальянской школы осуждали игру французских музыкантов и наоборот. Впрочем, и те, и другие даже не смогли бы сыграть музыку оппонентов, поскольку стилистические особенности касались как всех тонкостей техники игры, так и формальных особенностей самых произведений. Музыку тогда понимали как язык звуков, потому и невозможно было музыкально “рассказывать” языком, которым свободно не владеешь и которого не любишь. Французских музыкантов приводила в негодование свободная итальянская орнаментика: “Не по вкусу подобное господину Люлли, приверженцу красоты и правды (... ), он выгнал бы скрипача, который добавлением разнообразных несвойственных и “игнорирующих” гармонию фигур, испортил бы ему концерт. Почему же не требуют, чтобы все партии исполнялись так, как они записаны?”
Слияние обоих стилей поначалу считалось невозможным. Композиторы из других стран (например, из Англии или Германии) должны были решать, на чьей они стороне. Несмотря на попытки объединения и даже, в определенном смысле, согласования этих двух стилей, делавшихся в конце XVII века (прежде всего австрийскими композиторами Муффатом и Фуксом), к синтезу в виде так называемого “смешанного стиля” дело дошло только в XVIII веке.
Итальянская барочная музыка, центром тяготения которой могли считаться концерт и опера, использует все возможности, созданные буйной чувственностью и воображением, вплоть до границ неисчерпаемой фантазии: музыкальные формы чудесны и роскошны, доминирует звучание смычковых инструментов. Итальянцы стремились достичь уровня чувственности голоса итальянского певца, считавшегося образцом. Богатая орнаментика импровизировалась преисполненными фантазии исполнителями без всякой подготовки, что совершенно соответствовало спонтанному и экстравертному характеру итальянцев. Интересно, что среди всех инструментов именно скрипка считалась типично итальянским инструментом, а вместе с тем — сугубо барочным. Никакой другой не подходил лучше, чем скрипка, экстравертной итальянской музыке. Скрипка одинаково хорошо была пригодна как для блестящей сольной виртуозности, так и для исполнения насыщенного эмоциями Adagio — так сказать, двух основ итальянского музицирования. Итальянская барочная музыка является прежде всего музыкой смычковых инструментов. Духовые — использовались редко, главным образом для достижения особых эффектов или применения иной звуковой краски в диалоге со смычковыми. Все итальянские скрипичные школы родом из круга Монтеверди, который сам, как известно, был скрипачом. С самого начала его визионерский стиль (стиль провидца) являлся составной частью итальянской музыки для смычковых инструментов. Его ученики — Карло Фарина, Бьяджо Марини и другие, создали знаменитые смычковые школы в Болонье, Риме и Неаполе.
Главными чертами французского стиля была сжатая, ясно очерченная форма, компактное характерное произведение (Piece) — чрезвычайно простое и краткое, а также опера, но абсолютно иного типа, нежели итальянская. Прежде всего, это танцевальная музыка, чьи формы приравнивались к рациональным и линеарным формам французской дворцовой и парковой архитектуры. Прозрачная краткая форма танцев будто создана, чтобы стать предметом стилизации в музыкальном искусстве этого народа. Парадоксально, но факт — окончательную форму, общепризнанную как альтернатива итальянским музыкальным формам, придал французской музыке именно итальянец, Жан-Батист Люлли. Правда, он полностью акклиматизировался во Франции и привнес во французскую музыку разве что некоторый итальянский задор. А также чрезвычайно подробно очертил технику игры струнного ансамбля, формулируя исключительно четкие указания, включая особенности движения смычка. Она была настолько точно регламентирована, что утверждали, будто благодаря ей даже тысяча музыкантов сыграла бы произведение alla prima vista (с листа) как один, едиными штрихами! Существенное в этих двух случаях различие обнаруживается при орнаментировании. Adagio в итальянской музыке было принято свободно разукрашивать, фантазировать, особенно при повторении разделов или частей. Правил было немного, преобладало богатство замыслов. Во французской же музыке подобное считалось балаганом и запрещалось. Она не признавала свободной импровизации, а пользовалась своего рода кодексом довольно сложных мелизмов, которые следовало применять очень утонченно и в нужных местах. Существовал каталог всевозможных мелких украшений, исполняемых чрезвычайно детализировано, в соответствии с точными правилами их применения. Порядок при якобы очевидной чрезмерности, абсолютная формальная прозрачность, властвующая даже в самой сложной фактуре, — все это придает французской барочной музыке особенный характер и шарм. Она доставляет высокое, изысканное наслаждение чувствительным слушателям, способным к восприятию утонченного и вдохновенного искусства. В то же время — представляет форму согласия людей схожих вкусов и образованности. Напротив, итальянскую музыку считали шутовской и вульгарной: “Можно сказать, что итальянская музыка похожа на соблазнительную накрашенную наложницу (... ), которая неизвестно зачем желает бросаться в глаза (... ); французскую же музыку можно сравнить с прекрасной женщиной, чья естественная и непринужденная красота притягивает сердца и взгляды, и которая, едва появившись, уже вызывает восторг, ничуть не опасаясь, что манерное поведение развязной соперницы повредит ей... ”
Итальянская опера не прижилась во Франции, где сформировался оригинальный, танцевальный тип музыкальной драмы: ballet de cour. На ее основе Люлли во второй половине столетия создал типичную французскую оперу. От итальянской она отличалась прежде всего более сильным акцентированием формальной стороны построения. Airs (арии) являются короткими, напевными танцами очень компактной формы, между ними находятся чрезвычайно точно ритмизированные речитативы. Аккомпанемент к ариям и речитативам почти всегда одинаковый — только виолончель и клавесин. Итальянец, слушая такую оперу, мог подумать, что это все еще очередные речитативы, и с нетерпением ждал бы арии, которая так никогда и не появлялась. (Следует привести случай с итальянской примадонной Фаустиной, которая, слушая некую оперу, “... сохраняла спокойствие на протяжении получаса, а в конце воскликнула: “Когда же, наконец, появится какая-то ария?”). Наибольшего разнообразия звучанию придают насыщенные, богато аранжированные хоральные и многочисленные инструментальные части — танцы. Во время спектакля в музыке перерывов нет, один короткий фрагмент непосредственно сменяется другим. Вместе с тем в итальянской опере каждая группа речитативов (исполняемых как совершенно свободная декламация) завершалась большой арией и публика постоянно имела возможность громко и интенсивно выражать свое одобрение или недовольство.
Противостояние итальянской и французской музыки красной нитью проходит через всю историю барочной музыки. Берни в своем “Музыкальном путешествии” пишет в 1773 году: “Если французская музыка хороша, а ее выражение естественно и привлекательно, то итальянская должна быть плохой, или наоборот — если в итальянской музыке находим все, что хотели бы услышать неиспорченные и достаточно опытные уши, то трудно предположить, что французская музыка могла бы доставить таким ушам подобное наслаждение. Правда в том, что французы не могут терпеть итальянскую музыку и только делают вид, что принимают и восхищаются ею; все это чистой воды кощунство”. Приговор Берни кажется слишком суров: кроме “чистого кощунства”, в итальянской музыке всегда можно найти и настоящий восторг. Некая мечта о южной чувственности содействовала тому, что французы испытывали восторг и зависть по отношению к итальянцам. Плодом этого были две известные попытки прививания итальянского барокко, которые постигла полнейшая неудача: назначение Людовиком XIV архитектора Бернини строителем Лувра и заказ Кавалли, преемнику Монтеверди, оперы по поводу бракосочетания Короля-Солнца в 1660 году. Оба мастера не нашли ни признания, ни понимания, оба возвратились в Италию ни с чем. Тем более ценно достижение Люлли, создавшего для французов настоящую национальную оперу.
Для тех из нас, кто занимается этой музыкой теперь, спустя два с половиной столетия, такое категоричное и непримиримое противостояние обоих стилей уже не совсем понятно. Наверное, на протяжении веков отличия несколько затушевались. Частично так произошло потому, что сегодня музицируем и слушаем, нивелируя все расхождения значительно больше, чем тогда. Считаю, что суровая оценка, которую встречаем в источниках, и агрессивная реакция тогдашней публики на самом деле должны были иметь более убедительные предпосылки, чем возникающие из нынешних бесцветных интерпретаций этой музыки. Вероятно, чтобы иметь возможность представить подобное, мы должны снова занять позицию одного из этих двух музыкальных направлений.
Австрийские барочные композиторы — попытки согласования стилей
Одним из удивительных явлений в истории музыки является сосредоточение главных творческих сил и стилистических тенденций в компактно расположенных странах и регионах. Без видимой причины то здесь, то там возникали сияющие на весь мир центры, которые после нескольких одаренных мощной творческой силой поколений исчезали, будто исчерпав свой потенциал. В самом деле, любая из европейских стран хотя бы раз (а некоторые и неоднократно) пережила свой музыкальный “золотой век”. Очаги музыкальной культуры не всегда совпадали с важнейшими политическими центрами данного времени (даже если между ними существовали тесные связи). Например, расцвет нидерландской музыки около 1500 года приходится на времена наибольшей политической мощи и роскошного великолепия французского двора Людовика XII, а также романо-германского двора императора Максимилиана I.
Перемещение подобных музыкальных центров вызвано разными причинами. В связи с тем, что не считаю музыку вневременным искусством и всегда вижу ее в историческом контексте, стараюсь найти ответ на вопрос, насколько эти перемещения сказывались на ней. Были они причиной или результатом изменений, обусловленных исторической эволюцией, и наблюдались ли такие изменения одновременно в других видах искусства?
Теперь я знаю: давнее утверждение об иерархии искусств безосновательно, каждый стиль отражается одновременно во всех видах искусства. В конце концов, не может быть иначе, ибо каждый вид искусства является непосредственным отражением духа своего времени.
Однако менталитет разных европейских народов значительно различается. Англичане, французы, немцы, испанцы или итальянцы по-разному мыслят, по-разному высказываются, различно реагируют. В процессе исторической эволюции значимыми становятся каждый раз другие духовные аспекты, находя сильнейший отклик у тех народов, чье мировосприятие наиболее близко. Если все элементы какого-либо направления в искусстве, какого-либо стиля, получающего развитие в данную эпоху, более всего отвечают естественным чертам характера какого-либо народа, то, очевидно, именно этот народ и будет законодателем этого стиля.
Переход от позднего ренессанса к барокко особенно выразительно указывает на перемену такого “законодателя”. На протяжении одного или двух поколений лидирующие нидерландцы были вытеснены итальянцами. Театральность новой эпохи, возрастание значения личности (следовательно и солиста), пафос, индивидуальная экспрессия, выставляющаяся напоказ почти эксгибиционистски — все это идеально отвечало итальянскому менталитету. Если речь об архитектуре и музыке, то барокко нашло в Италии наиболее полное выражение. Итальянцы стали образцом для других народов; теперь, как прежде нидерландцев, отовсюду начали приглашать итальянских мастеров, доверяя им функции дирижеров, солистов, композиторов.
В XVII веке при дворах немецких вельмож музыкантами работали преимущественно итальянцы или те, кто имел итальянскую музыкальную подготовку; к французскому же стилю относились очень сдержанно, если не враждебно; и трудно было представить большее противостояние. Итальянская инструментальная музыка была подчинена сонате и концерту; эту доминанту создавали развитые виртуозные Allegri и развесистые, певучие Adagio, в каких солисты, применяя насыщенную орнаментику, могли проявить свою творческую фантазию. Музыкантам, привыкшим к свободным формам, короткие французские танцы и точно очерченный способ их исполнения казались чужими. Также и те из вельмож, которые около 1700 года стремились перестроить свои оркестры на французский лад, столкнулись со значительным сопротивлением: итальянские музыканты отказывались играть французскую музыку, такой отказ возникал не столько от упрямства, сколько из-за очевидной невозможности одинаково хорошо исполнять музыку обоих стилей.
Вне Франции и Италии вопрос о преимуществах того или иного стиля решал вкус определенного правителя. При венском дворе первенствовали, естественно, итальянцы. С одной стороны, император испытывал настолько серьезную политическую враждебность к Франции, что не желал даже слышать французской речи, с другой — австрийской ментальности значительно больше соответствовала чувствительная итальянская музыка, нежели рационализированная французская. Поэтому на протяжении многих поколений шансы на признание в Вене имели только итальянские музыканты, певцы и композиторы. Возвышение двух “истинных” австрийцев Шмельцера и Фукса среди музыкантов императорского двора может считаться своего рода чудом. Итальянские придворные музыканты обычно стремились уберечь “свой” оркестр от чужих, заграничных для них влияний. Австрийские, немецкие, чешские и французские музыканты, в зависимости от обстоятельств, могли занимать места только при дворах менее высокого ранга или у иезуитов. Яркие таланты, такие как клавесинист Вольфганг Эбнер, скрипач Хайнрих Шмельцер или композитор Иоганн Иозеф Фукс, получили шансы на принятие их в придворную капеллу только благодаря настоянию самого императора.
Подъем Вены, которая в период барокко стала одним из главных музыкальных центров, состоялся прежде всего благодаря нескольким императорам из рода Габсбургов, проявившим большой интерес к музыке. У Леопольда I, австрийского правителя того времени, подобный энтузиазм превратился в самый настоящий фанатизм. Этот яркий человек, правивший как император свыше пятидесяти лет, вовсе не имел властной натуры. Он был болезненным, слабым и очень набожным, но имел более сильного брата — будущего императора Фердинанда IV, поэтому и был предопределен к духовному служению. Внезапная смерть брата заставила его взять на себя роль, к которой он совсем не был готов. Вопреки, а может и благодаря этому, его правление, несмотря на все сложности, было плодотворным и не менее результативным, чем такое же длинное господство его блестящего противника Людовика XIV во Франции. Леопольд был совсем не воинственным, замечательный концерт для него значил больше выигранной битвы. Генералы жаловались, что он скупился давать деньги на армию, но тратил огромные суммы на оперные спектакли. Поскольку жизнь двора выставлялась более или менее на публичное обозрение, все мелкие провинциальные властители старались перенимать господствующие при дворе моду и обычаи. Отсюда во Франции и Германии существовало много дворов, имитировавших стиль жизни и архитектуру версальского дворца и его парков. В Австрии и Чехии перенимали восхищение, с которым при императорском дворе относились к музыке. Даже мелкие князья содержали при своих дворах капеллы постоянно оплачиваемых музыкантов. Abraham a Santa Clara писал в 1679 году: “Звучание труб и отголоски музыки, долетающие из дворцов и переполняющие дворы, создавали постоянный шум, но настолько приятный, что казалось, будто разверзлись небеса и на Вену лились потоки радости”.
Также и в многочисленных венских барочных храмах, в бурсах и монастырях Нижней Австрии, олицетворяющих божественные резиденции, духовные и вместе с тем светские, каждое воскресенье звучала замечательная музыка. Когда исследуешь архивы Австрии и Богемии, открываешь в них такое количество произведений именно времен Леопольда I, что трудно вообразить, когда они могли использоваться. В действительности подобных композиций было еще больше, поскольку часть погибла в течение веков. Когда осознаешь, что на год приходится пятьдесят два воскресенья и что на очарованном музыкой дворе исполняют ее многократно на протяжении недели, то сможешь вывести степень постоянной потребности в новых произведениях. Берни в своем “Музыкальном путешествии” в 1772 году пишет о Вене: “Страна эта действительно исключительно музыкальная (... ). Определенным образом такие способности можно объяснить существованием в каждом католическом городе музыкальной школы при иезуитском коллегиуме. Но можно указать и другие причины, а среди них ту, что в Вене нет храма или монастыря, в котором каждое утро не звучала бы месса (... ), исполняемая певцами в сопровождении не только органа, но также трех-четырех скрипок, альта и баса. А поскольку костелы здесь ежедневно заполнены, то музыка эта — даже если она и не самая лучшая — невольно формирует слух жителей”. В то время каждый просвещенный музыкант умел сочинять произведения, достаточно безупречные, по крайней мере, со стороны ремесла. Публика не умела и не хотела постоянно слушать серьезную музыку. Чтобы не обременять слушателей, сложные произведения должны были всегда чередоваться с простыми композициями, легкими для восприятия, к чему постоянно стремился капельмейстер зальцбургского двора Георг Муффат.
Сам Леопольд I был не только страстным меломаном, но также весьма неплохим сочинителем музыки. Писал мессы, оратории, танцы, немецкие песни и интермедии к композициям, созданным придворными музыкантами. Часто удовлетворялся созданием мелодии, а ее обработку и инструментовку доверял своим музыкантам — Бертали или Эбнеру. Несмотря на то, что австрийская государственная казна постоянно зияла пустотой, а зачастую была даже должницей, члены придворной капеллы получали истинно королевское жалованье. В любом случае их можно рассматривать как предшественников нынешних высокооплачиваемых “звезд” классической музыки. Готлиб Евхариус Ринк, императорский капитан, писал о Леопольде I и его капелле: “Император — это большой артист в музыке (... ); если и существовало что-то в мире, доставлявшее ему наслаждение, то это несомненно — хорошая музыка. Она умножала его радость и умаляла печаль; можно сказать, что из всех развлечений самыми приятными для него были минуты, которые приносил хорошо подготовленный концерт. Особенно это было заметно в императорских покоях. Несмотря на перемены мест резиденции, происходящие обычно четыре раза в год (переносились из Бурга в Лаксенбург, оттуда в Фавориту, а потом в Эберсбург), везде в одной из комнат находился драгоценный спинет, у которого император проводил все свободные минуты. Его капелла действительно могла считаться самой лучшей в мире, и не удивительно; ведь император сам экзаменовал кандидатов в нее, и ценились они за свои профессиональные качества, а не по протекции (... ). Глядя на большое количество опытных артистов в ней, можно догадаться, во сколько это обходилось императору. Многие из них были дворяне и получали вознаграждение, позволявшее им жить в соответствии с их сословием. Если император бывал на концерте своего непревзойденного оркестра, то ощущал огромное наслаждение и так внимательно вслушивался, будто бы впервые (... ). Если появлялся пассаж, который ему особенно нравился, то закрывал глаза, чтобы слушать еще внимательнее. А слух имел удивительно острый: среди пятидесяти исполнителей мог уловить, кто из них применил несоответствующий штрих”.
Кроме венской придворной капеллы, в краях, где правили Габсбурги, существовали еще и другие оркестры, составленные соответственно вкусу их владельцев и пользовавшиеся особым вниманием императора. Важнейший из них принадлежал князю-архиепископу из Оломоуца — графу Карлу Лихтенштайну-Кастелькорну. Этот богатый князь церкви выстроил себе огромную летнюю резиденцию в Кромериже. В сфере музыки он особенно ценил эффектные сольные выступления. В свой ансамбль привлекал самых лучших солистов, среди которых — много чешских и австрийских музыкантов. Каждый из них одновременно был и композитором, в итоге этот чрезвычайно виртуозный оркестр становился могучим художественным стимулом для появления огромного количества оркестровых и камерных произведений, которые отличались от всего, что создавалось в то время во всем мире. Даже император так восхищался этой капеллой, что дважды в год приезжал в Кромериж наслаждаться музыкой. Придворные композиторы писали довольно смелые произведения для “капеллы Лихтенштайна”, поскольку надеялись на хорошее их исполнение. Во главе этого блестящего коллектива архиепископ поставил гениального скрипача и композитора Хайнриха Бибера. Собственно, благодаря ему оркестр пополнил свой репертуар чудесными композициями, хотя, с другой стороны, развитие творчества Бибера не было бы возможным без инспираций, исходивших от этого коллектива. Например, огромное количество замечательных сольных партий для трубы было написано для первого трубача Павла Вейвановского, позже унаследовавшего обязанности Бибера. Были там также знаменитые тромбонисты, фаготисты и флейтисты. Смычковые инструменты были изготовлены лучшим мастером того времени Якобом Штайнером из Абсама.
Зальцбургский архиепископ также содержал замечательную придворную капеллу, как и большинство других князей. Все они строили великолепные дворцы, где облицованные мрамором залы были не только прекрасным архитектурным эквивалентом для музыки, но и обеспечивали идеальный резонанс.
Конечно, итальянская музыка в Вене не могла существовать в неискаженном виде. Этот город всегда был горнилом, в котором переплавлялись всевозможные стилистические направления. Главные, фигуры отдельных центров музыкальной жизни в течение веков встречались тут между собою на относительно нейтральном грунте. Здесь можно было услышать итальянских, нидерландских, английских и французских музыкантов. Кроме тесных контактов со славянской и венгерской культурами, прибавлялись еще и ориентальные влияния. Наряду с итальянской и французской музыкой здесь исполнялась венгерская, чешская и австрийская народная музыка, а в результате все стили взаимно переплетались и влияли друг на друга. И уже в XVII веке можно было говорить о формировании очень характерного австрийского стиля, в котором элементы, почерпнутые из других стилей, объединены с итальянской формой. Благодаря тесным контактам с Италией в Вене появилась опера — самая свежая музыкально-драматическая новинка начала XVII века, вскоре нашедшая тут свою вторую, чрезвычайно благосклонную, родину. Вена в XVII веке стала одним из самых значительных центров итальянской оперы. Почти все выдающиеся оперные композиторы творили здесь некоторое время. В их операх много чисто инструментальной музыки: вне танцевальных интермедий, писавшихся исключительно балетными композиторами, существовали также инструментальные интерлюдии; также часто сюда вплетались концерты. Хотя танцевальные интермедии строились вообще по французскому образцу, во многих из них использовались народные мелодии, о чем свидетельствуют хотя бы некоторые названия: Штайермаркер, Хорн, Гавотта тедеска, Штириаца, Бёмишер Дюделъзак и прочие. Но наряду с этим итальянские оперные композиторы писали собственные инструментальные интерлюдии. Обозначенные названием Sonata, они бывали — особенно у ранних композиторов — вообще пятиголосными. Их форма выводилась непосредственно от итальянской Canzon da sonar. Эти многоголосные “Сонаты” не надо путать с классическими сонатами, предназначенными для сольных инструментов. Во времена Леопольда стилистическими полюсами инструментальной музыки были итальянская соната и французская сюита. Оба направления, бывшие длительное время в оппозиции один к другому, в Австрии удалось соединить в новую чарующую общность. Это осуществили гениальные композиторы Муффат, Фукс, Шмельцер и Бибер.
Георг Муффат интересует нас сейчас особенно потому, что в предисловиях к своим произведениям исчерпывающе рассмотрел все возможные вопросы относительно стиля и интерпретации. Кроме того, небудничная судьба помогла ему стать превосходным экспертом в сфере разнообразия стилей. Он учился в Париже у Люлли, после чего прибыл в Вену, где встретил благосклонность Леопольда I, потом оказался в Зальцбурге у архиепископа в качестве придворного композитора. Называл себя первым “люллистом” Германии. Тем не менее, архиепископ послал его для дальнейшего усовершенствования в Италию. Там появились Concerti grossi в стиле Корелли, которым Муффат дает прекрасную характеристику в предисловии: “Это первый сборник моих концертов, объединяющий серьезность и веселость, которые посвящаю Тебе, мой дорогой Читатель; своим названием он (сборник) обещает наиболее изысканные созвучия инструментов, в которых находится не только чистое наследование стихийности и соблазнительности мелодий балетов господина де Люлли, но и определенные торжественные и утонченно патетические места в итальянской манере и разнообразная игра музыкальной фантазии (... ). Этот замысел появился у меня, когда, углубляя в Риме итальянскую манеру игры на органе и клавесине под руководством господина Паскуини, с удивлением прислушивался к симфониям господина Корелли, которые исполнялись чрезвычайно прекрасно и очень старательно большим количеством музыкантов”.
В посвящении, предваряющем Florilegium primum, Муффат пишет: “... Как разнообразие растений и цветов составляет привлекательность сада, как совершенство знаменитых мужей блистает многочисленными и разнородными добродетелями им на хвалу и публичное признание, так и я считаю, для того, чтобы удостоиться чести развлекать Ваше Высочество, князя, наделенного мудростью, добродетелями разного рода и вида, мне надо было пользоваться не только одним стилем и одной методой; обстоятельства побудили меня попробовать создать по возможности художественное объединение всего того, что удалось мне усвоить из практики других народов. Не должно в этом случае бояться губительного осуждения раздражающего двора, тем более, что Ваше Высочество освободило определенных недоброжелательных и низких лиц, которые безосновательно расценили мое пребывание во Франции и обучение основам музыки у наилучших мастеров как мою чрезмерную слабость к этому народу и признали, что я не достоин того, чтобы немцы одаривали меня благосклонностью во время войны с Францией (... ). Моя профессия далека от шума войн и правды того слоя общества, ради которого они начинаются. Я занимаюсь нотами, аккордами и звуками, упражняюсь в искусстве создания милых для ушей симфоний и если объединяю французские мелодии с немецкими и итальянскими, — это не подстрекательство к войне, а скорее стремление к гармонии между народами, заповедь любимого мира... ” (Муффат владел четырьмя языками — латынью, французским, итальянским и немецким — которыми и писал предисловия к очередным изданиям своих произведений. Основанием перевода этой цитаты послужила французская версия, признанная наиболее подробной. Прим. перев. ).
Муффат был первым, кто сознательно объединил два противоположных стиля, трактуя это как символ желаемого европейского единения, поскольку глубокая политическая неприязнь между Людовиком XIV и Леопольдом I привела к усугублению “культурной вражды” между этими двумя очень разными народами.
Муффат знал затруднения, возникающие у иностранных скрипачей при овладении французским искусством штриха: “Ни в коем случае я не имею намерения подорвать позиций, которых достигли, не применяя этой методы, разные способные музыканты во многих других, виднейших сферах скрипичного искусства”. Тем не менее, он являлся пылким сторонником французского способа игры: “Исполнение на скрипке балетных мелодий по методам господина де Люлли приносит настолько изысканный эффект, что трудно найти нечто более цельное, прекрасное и приятное”.
В Florilegium, сборнике балетных сюит с программными названиями, доминирует французский стиль, даже когда в увертюрах, во многих танцах, Adagio и Allegro подчеркиваются итальянские элементы. Отчетливое преимущество французского стиля над итальянским, а также интенсивное и сознательное объединение обоих направлений находим в созданных Муффатом в Италии Concerti grossi. Конечно, они написаны по образцу Корелли, однако вводят части из французских сюит, иногда обработанные с итальянским великолепием. Украшения и даже смычковые штрихи выписаны здесь исключительно подробно. Сконструированный только что французский гобой может исполнять роль сольного инструмента, “если только кто-то уже умеет на нем играть”; таким образом Муффат допускает здесь почти невероятную адаптацию и транспозицию.
После этого авангардного произведения Муффата все австрийские композиторы писали сонаты и сюиты как в итальянском, так и французском стиле. Они разрабатывали — в отличие от своих итальянских и французских коллег — оба направления, очевидно, в первую очередь перенимая форму, а в темах часто используя немецкие, венгерские и чешские мотивы. Естественные музыкальные задатки венцев, и вообще австрийцев, благодаря контактам со всем музыкальным миром, образовали с течением времени стиль, который совмещал все формы. С самого начала важную роль играл очень выразительный фольклор Австрии, Венгрии и Чехии; его значение возросло еще больше, когда императорскими капеллами начали руководить отечественные мастера, такие как Шмельцер и Фукс. Можно сказать, что именно с того момента началось создание австрийской и венской музыки.
Иоганн Иозеф Фукс привнес народные звучания в изысканную атмосферу императорской капеллы. До сих пор не удалось исследовать жизненный путь и музыкальную карьеру этого сына штирийского крестьянина. Где-то в возрасте тридцати лет он появился уже полностью просвещенным музыкантом в Вене, где работал сначала органистом. Император услышал его у одного из венских аристократов и в 1698 году назначил придворным композитором. (Этот титул введен специально для Фукса). Далее он стал членом придворной капеллы и в 1715 году Карл VI назначил его придворным капельмейстером. В наше время Фукс как композитор не пользуется признанием, адекватным его таланту. Произошло это, наверное, потому, что он написал Gradus ad Parnassian, известный учебник контрапункта (из которого черпали необходимые сведения для усовершенствования технического мастерства еще венские классики, в частности Бетховен), автора же теоретической работы никогда даже и не заподозрят, что он мог быть настоящим композитором (“Vollblutmusiker” — нем., целостным, совершенным музыкантом). Впрочем, еще и сейчас тому, кто может рассказывать о музыке, присваивают ярлык скучного теоретика; артистов желают видеть в магическом ореоле, а к такому образу интеллект не подходит. Фукс смотрел на себя иначе: “С того времени, как начал я получать хотя бы наименьшую пользу от моего ума, я пылал желанием все мои чувства и мысли посвятить музыке, собственно, желаю и в дальнейшем быть ей полезным. Происходит такое будто помимо моей воли, звучит в моих ушах днем и ночью, не позволяя сомневаться в истинности моего внутреннего призвания”.
Слава, которую получил Фукс как композитор при жизни, была обоснованной. Он овладел всеми современными ему стилями; от итальянцев перенял инструментальный и оперный стили, благодаря Муффату ему не был чужд французский стиль Люлли и его последователей. Кроме того, он сохранил вкус к родному австрийскому фольклору, так что в созданных им танцах постоянно слышатся штирийские лендлеры и прочие народные танцы. Фукс мастерски использовал богатую палитру средств выразительности; его инструментальной музыке свойственны естественность и приветливость, церковной музыке — художественное благородство строгого контрапункта, а его оперы являются замечательными барочными шедеврами в итальянском стиле.
Важнейшим инструментальным произведением Фукса является “Concentus musico instrumentalis”, (1701, посвящение сыну Леопольда I, Иосифу I). В этом сборнике сюит представлены все формы тогдашней инструментальной музыки. Здесь доминируют — как во всех сюитах — французские танцевальные формы; тем не менее, здесь они подвергаются типично австрийским модификациям, а кроме того, между ними появляются чисто итальянские инструментальные произведения.
Хайнрих Шмельцер, без сомнения, является одним из самых интересных и оригинальных музыкантов своего времени. Он рос в воинском лагере, где его отец служил офицером. Скорее всего, там же, наряду с первыми музыкальными впечатлениями, получал регулярные уроки игры на скрипке. Среди польских, венгерских, хорватских и чешских солдат австрийской армии были также и музыканты, причем зачастую выдающиеся народные исполнители. Шмельцер всю жизнь сохранял тесную связь с народной музыкой, а большинство его произведений отражали впечатления молодости, проведенной в воинских лагерях. Еще до двадцатилетнего возраста он достиг такого уровня техники скрипичной игры, что был принят в императорскую капеллу. Его чрезвычайные способности привлекли внимание самого императора. Шмельцеру поручали писать балетные интерлюдии к большинству опер. Леопольд настолько его ценил, что в 1679 году доверил ему — первому не итальянцу — должность придворного капельмейстера. Часть его произведений находится в Кромериже; они характерны своими высокими техническими и музыкальными требованиями, поскольку Шмельцер, вероятно, создавал их для виртуозов кромерижского оркестра. Формально все те одночастные сонаты принадлежат к итальянскому стилю. Некоторые, метрически разные, части не отделяются паузами, лишь незаметно переходят одна в другую. Время от времени форма замыкается репризой.
Хайнрих Игнац Бибер родился в 1644 году в Вартенберге (нынешний Страж под Ральском, Богемия). О его музыкальном образовании ничего неизвестно. Возможно, композиции и скрипичной игре он учился у Шмельцера. Его стиль и скрипичная техника четко указывают на хорошее знание стиля последнего. Заметное восхищение формами и элементами народной музыки, вероятно, также заимствовано у Шмельцера. Так или иначе, но между обоими музыкантами существовали тесные контакты; Шмельцер часто приезжал с императором в Кромериж, создал много произведений для тамошних солистов, а свои Сонаты для двух скрипок из скордатурой (временное перестраивание струнного инструмента) исполнял там совместно с Бибером. Кроме того, Бибер много раз бывал в Вене, где из рук Леопольда I — как и Шмельцер — получил дворянский титул.
Бибер занимался посредничеством при закупке для оркестра архиепископа всех смычковых инструментов у Якоба Штайнера, чьи изделия ценил выше других. Это дает нам достаточное понятие о его звуковом идеале. Неизвестно, почему он покинул Кромериж — вдобавок, без согласия на то князя — и поселился в Зальцбурге. Во всяком случае, там он также нашел исключительно профессиональный оркестр и — что не менее важно — получил в качестве капельмейстера интересного и вдохновенного композитора Георга Муффата. Сам же стал его заместителем.
Почти во всех композициях Бибера очень выделяется роль виртуоза-скрипача. В большинстве произведений представлены большие или меньшие сольные скрипичные партии, которые Бибер, очевидно, писал, имея ввиду себя. И в его вокальных, и в предназначенных для духовых инструментов произведениях постоянно ощущается рука практика, мастерски использующего изысканную инструментовку и в той же мере одаренного безошибочным ощущением эффекта. Тем не менее, Бибер всегда умел избегать опасности, грозящей каждому композитору-виртуозу в виде соблазна все, включая музыкальную выразительность, посвящать эффектам, адресованным публике. Как религиозные, так и светские произведения Бибера удачно объединяют глубокое музыкальное содержание с прекрасной, чрезвычайно эффектной внешней формой.
В его “Сонате зверей” (“Tiersenate”, или “Sonata representativa”) подражания голосам соловья, кукушки, лягушки, курицы, петуха, перепелки и кота, а особенно “маршу мушкетеров” были использованы для создания весенней, бурлящей жизнью скрипичной сонаты. Комизм и шутка не воспрепятствовали Биберу в посвящении к сонате написать: “к вящему восхвалению Господа нашего, Девы Марии и святой Цецилии”. Очевидно, во времена барокко можно было даже при дворе архиепископа отображать мир иной очень весело и в земных категориях.
Подытоживая, можно сказать, что в Вене официально доминировал итальянский вкус, но объединение итальянского и французского стилей с естественной музыкальной одаренностью австрийцев поспособствовало появлению нового, чрезвычайно характерного стиля.
Телеман — смешанный стиль
Георг Филипп Телеман первым в северной Германии объединил итальянский и французский стили. Несомненно, был широко известным композитором своего времени. Сейчас, в эпоху, ориентированную на историю, мы не можем разглядеть художника через практика, удовлетворяющего огромную потребность своих современников в искусстве для каждодневного употребления. Однако сразу выносим приговор, пренебрежительно называя его “писакой” (“Vielschreiber”[6] — нем.), тем самым легко и походя обесценивая обильное творчество многих барочных композиторов. Само собой разумеется, что не каждое из тех тысяч музыкальных произведений было шедевром; их авторы и не имели таких амбиций — сочиняли произведения с ясно обозначенной целью, а те свои задачи выполняли с лихвой. Относительно такого композитора, как Телеман, мы были бы несправедливы, если бы сравнили его с великим Бахом и заявили, что современники совершили “ошибку в оценке”, вследствие чего поверхностному автору, “конвеерно” продуцировавшему произведения одно за другим, досталась огромная слава, а большой кантор остался при жизни совершенно непонятым. Настоящие знатоки считали Баха величайшим композитором среди его современников, тем не менее произведения его не смогли получить широкую известность, ибо только небольшая их часть была опубликована. Будучи кантором в Лейпциге, он писал главным образом музыку для воскресных богослужений, которая не издавалась. Вместе с тем Телеман имел чрезвычайно динамическую индивидуальность. Где бы ни находился, он придавал музыкальной жизни решительный импульс, организовывал коллективы исполнителей, тщательно занимался печатанием и распространением своих произведений. Первую оперу он написал в двенадцать лет, играл на флейте, скрипке и клавесине. Ни у кого музыке не обучался, музыкальными знаниями овладел самостоятельно. Будучи еще студентом в Лейпциге, основал высокопрофессиональный коллектив Collegium musicum, с которым позднее Бах исполнял некоторые из своих инструментальных концертов. Длинный ряд должностей, которые он занимал: Maestro di capella в Зорау и Айзенахе, музыкального директора в Франкфурте и в конце концов в Гамбурге — позволил ему овладеть разнообразными музыкальными стилями. В Зорау написал много Увертюр a la francaise, в Силезии познакомился с польской народной музыкой, которую постоянно использовал в своих композициях.
Светская жизнь, небывалая активность и выдающийся талант — все это везде приносило Телеману удачу. В 1730 году, появившись в Париже, завоевал огромный успех, затмив собою величайших виртуозов-инструменталистов. Его стиль унаследовали многочисленные немецкие и французские эпигоны. В своих композициях Телеман старался внедрять новое и никогда не замыкался в каком-то раз и навсегда избранном стиле — наоборот, постоянно был в авангарде стилистических перемен. В возрасте восьмидесяти лет давал фору молодым своими очень современными произведениями в стиле венско-мангеймской школы. Он чувствовал себя свободно во всех стилях, безошибочно использовал французский и итальянский, которые казались такими несогласованными, властвовал над ними как в их чистом виде, так и над всякими тонкостями, возникающими благодаря их объединению. Телеман имел особую склонность к необычным звучаниям и звуковым сопоставлениям, писал также для всех возможных инструментов. У него можно найти репертуар для ансамблей самого неожиданного состава.
Инструментовка, выбор инструментальных красок, использование технических возможностей и создание новых звучаний путем объединения разных инструментов — все это в эпоху барокко еще длительное время оставалось прерогативой исполнителей. В старых партитурах XVII века очень часто встречаются указания: “Для пения и игры на различных инструментах”. Конечно, нельзя было произвольно применять и соединять любые инструменты — существовали неписаные правила, указывавшие, какие инструменты подходят друг другу; тем не менее всякая звуковая реализация какого-либо произведения была связана с данным исполнением и имела одноразовый характер. Одно и то же произведение каждый раз могло звучать иначе и всевозможные интерпретации согласовывались с концепцией композитора. Партитура была абстрактным отображением произведения, представлением его музыкальной субстанции, а не реальной звуковой формой. Любой maestro di capella, приступая к исполнению произведения, должен был его сначала “обработать”, приспосабливая к возможностям своего оркестра, и решить: что будет играться, что будет петься, где стоит прибавить украшения и еще ряд других вопросов. Но по мере того, как композиторы начали требовать от исполнителей точно определенных звуковых соединений, такая свобода стала подвергаться определенному ограничению. Еще в XVIII веке довольно продолжительное время существовали следы той давней свободы, о чем свидетельствуют многочисленные указания типа: “Скрипка или флейта, гобой или скрипка, фагот или виолончель, клавесин или пианофорте”.
Три великих композитора, принадлежащие к одному поколению, — Бах, Гендель, Телеман — впервые нашли идиомы нового звукового языка, которые вели от барокко к классицизму. Они осознавали свое новаторство и говорили о нем. Интересы Генделя находились в сфере не столько инструментовки, сколько мелодии, правила которой он изучал совместно с Телеманом; в поисках новых средств выразительности еще дальше продвинулись Бах и Телеман. Они осуществили раз и навсегда — для себя и для потомков — новаторские звуковые приемы, которые их предшественникам удавалось реализовать лишь эпизодически, когда импровизировали в особенно благоприятных условиях. Звуковая палитра достигла такого богатства, которое снова удалось получить лишь два столетия спустя и совсем другим способом. Телеман имел идеальные условия, чтобы проводить сравнения и поиски; карьера дирижера и композитора вела его по разным европейским странам, в которых он получал возможность услышать не только величайших профессиональных виртуозов, но и лучших народных музыкантов. “Имел счастье, — писал он о себе, — познакомиться со многими прославленными музыкантами разных народов, их сноровка всегда вызывала у меня стремление исполнять мои произведения по возможности с большей старательностью... ” Все те влияния оставили след в его композициях, кроме того, играя с ранней молодости на разных смычковых и духовых инструментах, Телеман умел очень хорошо соотносить их технические возможности со своими произведениями. Виртуозы, видя достойную оценку своего искусства, с большим желанием играли его произведения.
Для Телемана инструментовка всегда была основной составляющей композиции; в этой сфере он значительно опережал своих современников, в чьих произведениях можно было без церемоний менять инструменты. Еще в молодости он признавал лишь такой способ композиции, в котором — предусматривая различия в технике игры и точное обозначение характерных особенностей — можно было как нельзя лучше использовать звуковые и технические свойства каждого инструмента: “... изучал различную природу многих инструментов и без промедления использовал их с наиболее возможной тщательностью. Постоянно убеждаюсь, что необходимым и полезным является умение распознавать их основные черты, убеждаюсь также, что тот, кто не овладеет этим, не испытает ни наслаждения, ни удовлетворения от своих замыслов. Подробное знание инструментов является насущным в композиции. Иначе:
Скрипки взвоют, как орган, — и тут же стихнут.
Флейты верх возьмут над трубами — и сникнут.
Гамба вниз нырнет, перегоняя бас...
Кто сбил с толку весь оркестр? Вот-те раз!
Говоришь, играл по нотам, по науке,
А почувствовал ты душу в каждом звуке,
В каждой чуткой, словно нерв людской, струне,
В тонкой деке, плотной воздуха стене?..
Подружись как можно ближе с инструментом,
Он поделится с тобой своим секретом,
И умение твое водить смычком
Станет чудом, а не просто ремеслом”.
Что касается инструментовки, то большинство произведений Телемана невозможно представить в исполнении коллективом иного состава, чем предусмотрено композитором. Например, в Concerto a 6, Flauto a bee Fagotto concertato он объединяет многократно испытанный сольный инструмент — блокфлейту с фаготом, который до сих пор использовался (за редким исключением) как инструмент басовой группы оркестра, причем Телеман применяет его так, что он становится равноправным собеседником.
Также и Concerto a 4 Violini senza Basso для четырех сольных инструментов является продолжением такого любимого репертуара для инструментов соло без баса; Телеман написал много сонат и сюит для одной и больше скрипок или флейт. Здесь четыре скрипки трактованы равнозначно, что должно вызвать впечатление соревнования, во время которого каждый из партнеров силится возобладать над другими, а линии мелодии и баса перенимаются каждый раз другим инструментом. Телеман изобретательно использует здесь смелые, с точки зрения гармонии, колористические эффекты, стремясь обойти кажущееся неудобство, возникающее от применения в данном квартете четырех инструментов одного диапазона.
Чтобы привести еще один пример, иллюстрирующий его способ сочинения музыки и трактования инструментов, хотелось бы воспользоваться Увертюрой F-dur для двух валторн и струнного оркестра; здесь снова находим объединение разнообразных традиций, правда, совершенно иного рода. Форма французской увертюры (сюиты) здесь объединена по принципу итальянского concerto. Валторна до сих пор служила исключительно для охоты, только во времена Телемана стала применяться в профессиональной музыке. Следует заметить, что первыми странствующими виртуозами, играющими на этом инструменте, как правило, были ловчие из Богемии, и в первых произведениях для валторны используются главным образом охотничьи мотивы. Применялись всегда две валторны, которые играли вместе, одновременно, как один инструмент; диалог всегда происходил между ними и струнным оркестром. Медленные части сюиты выходят за обычные рамки музыки того времени: Телеман здесь использует — несомненно, впервые в истории музыки — особую пригодность этого инструмента к игре романтических и лирических мелодий. Любой другой композитор использовал валторны только в быстрых крайних частях, обрекая их на молчание в медленных разделах; однако Телеман, желая продемонстрировать прямо-таки очевидную певучесть валторны, поместил три медленные части между быстрыми, содержащими охотничьи мотивы.
Способ применения духовых инструментов в некоторых “Дармштадтских” увертюрах Телемана также заслуживает внимания. Обычно он применял два гобоя obligato, играющих в унисон с первыми скрипками или помогающих в отдельности первым и вторым скрипкам, тем самым изменяя и окрашивая их звучание; иногда можно встретить трио — небольшие сольные фрагменты двух гобоев с басом. Фагот не имел самостоятельной линии, а только дублировал партии виолончели и контрабасов; иногда ему поручались партии баса в фрагментах, которые игрались гобоями соло, что никак не вытекало из записи голосов, а определялось желанием исполнителей. Иногда Телеман использовал квартет духовых: три гобоя и фагот. Такой ансамбль действительно в дальнейшем выполняет функцию регистра (третий гобой играет партию альта настолько, насколько она помещается в его диапазоне), создавая, кроме того, возможность поочередного тембрального диалога со струнными; духовая группа — четырехголосная, как и смычковая. Подобное порождает особую фактуру: диалог ведется уже не только внутри однородно звучащего ансамбля посредством изменения мотивов и звуковых фигур, а между группами с абсолютно разным звучанием. При тогдашнем восприятии полихоральной техники, акустики и режиссуры звукового пространства это непременно требовало отделения духовых инструментов от смычковых, даже с возможным увеличением количества инструментов, исполняющих партию continuo.
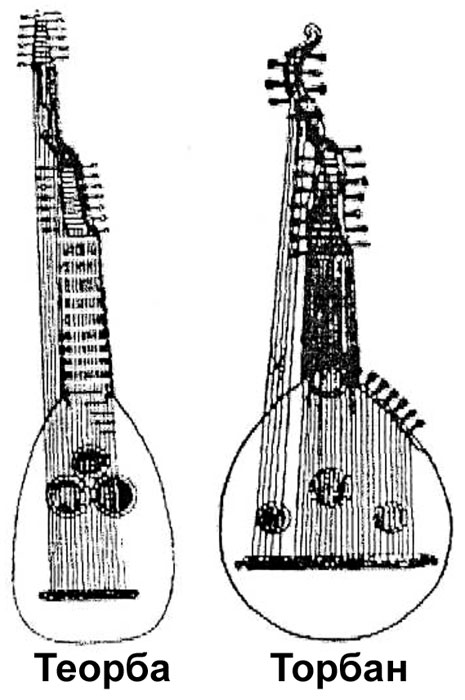
Каких-то двадцать-тридцать лет до этого очень интересное наблюдение и предложение по поводу возможности исполнения произведений подобного рода изложил Георг Муффат. Разделение голосов он отдает преимущественно на усмотрение исполнителей; описывает исполнение наименьшим, насколько возможно, ансамблем (при пропущенных средних голосах), а также наибольшим (что особенно желательно) ансамблем: “Если имеешь в распоряжении большее количество музыкантов, то можешь незаметно усилить состав не только большого хора первых и вторых скрипок, а также обоих средних альтов и баса; кроме этого, можешь его украсить объединением нескольких клавесинов, теорбанов, арф или других подобных инструментов, тем не менее, партия маленького хора, обозначенная термином Concertino, должна исполняться твоими самыми лучшими тремя скрипачами с органистом или теорбанистом”. Телеман пишет, что эти два “хора” могут размещаться раздельно в пространстве; в сущности, применение отдельного инструмента (органа или теорбана) для continue имеет смысл только в случае разделения ансамблей.
В некоторых сюитах Телемана отдельные, различные партии духовых инструментов противопоставляются по типу концертирующих партий смычковых инструментов. В данном случае речь не только о диалоге между двумя равнозначными группами (такой тип диалога здесь иногда встречается), но и о сольных концертирующих партиях, в которых духовые инструменты сразу выделяются, благодаря собственным идиоматическим фигурам. В те времена партии гобоев обычно редко отличались от партий струнных. Характерно в этом смысле начало Дармштадтской Сюиты C-dur, где струнные инструменты молчат, подчеркивая исключительный и необычный характер ситуации. Начало произведения группой солистов в месте ожидаемого tutti вызывало, наверняка, сильное удивление. (Спустя пятьдесят лет Моцарт описывает подобный эффект, случившийся во время премьеры его Парижской симфонии).
Итак, “культурный конфликт” (между итальянским и французским стилями) привел к возникновению так называемого “смешанного стиля”, ставшего характерной особенностью немецкой музыки XVIII века. Великие немецкие композиторы писали французские сюиты, итальянские сонаты и концерты, но всегда вводили в них элементы противоположного стиля; локальные традиции в этом процессе объединения стилей играли незаурядную роль катализатора. Наконец вспомним, что существовал анклав, в котором происходила эволюция коренного немецкого характера, — это пространство органной музыки. Непрерывный ряд мастеров и учеников ведет от нидерландца Я. Свелинка (1562—1620) через Х. Шайдеманна (1596—1663) и И. А. Райнкена (1623—1722) к И. С. Баху. Характерная черта этого немецкого стиля органной музыки — склонность к сложному многоголосию, истоки которого в полифонии композиторов старонидерландской школы, что в результате и привело к формообразованию фуги.
Барочная инструментальная музыка в Англии
Великолепие звуков и виртуозность, театральность, блистательность, эффектность — все эти черты совершенно справедливо ассоциируются с нашим современным пониманием барочной музыки, даже когда не особенно вникаем в суть дела. Нет ничего странного в том, что под понятием “барочная музыка” мы подразумеваем прежде всего итальянскую музыку, иногда французскую, тем более что в ту эпоху именно в тех двух странах зародились наиболее характерные для нее стилистические тенденции. Австрийская или немецкая барочная музыка тоже не менее важна, но классифицируется в соответствии с вышеуказанными двумя стилями, тем более что каждое отдельно взятое произведение четко проявляет свою родственность с одним из них. При этом редко вспоминают об английской музыке. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые в последнее время, чтобы привлечь к ней внимание, она остается на втором плане.
Нынешние времена ищут развлечения в эффектах, в больших начинаниях, отсюда совершенно понятен ренессанс барочной музыки. Но последний не затрагивает английской барочной музыки, поскольку ей свойственны противоположные достоинства. Недостает же — возбуждающей моторики и звукового богатства обычной барочной музыки. Благодаря островному расположению своей страны, англичане были достаточно изолированы от европейских течений и могли развивать свой собственный взгляд на искусство и его восприятие публикой; влияние континентального искусства на английское было весьма незначительным.
В эпоху барокко, когда во всех других странах наибольшее внимание уделяли внешним эффектам, англичане значительно больше интересовались содержанием и глубиной выражения. Следовательно, английская барочная музыка не является концертной, предназначенной для виртуозов, красующихся перед экзальтированной публикой, а музыкой изысканной и глубокой, для небольшого круга посвященных. Людей, страстно влюбленных в музыку, в Англии было не меньше, нежели в Италии или Франции, а может, даже и больше, но чтобы слушать музыку, им не требовалась приподнятая атмосфера публичного концерта. Музыкальная жизнь происходила преимущественно в многочисленных маленьких кружках настоящих знатоков и умельцев. Англичане очень долго были привязаны к инструментам из семьи виол да гамба с изысканным и мягким звучанием, ибо качество и деликатность звука имели для них несравненно большее значение, чем его сила. Они стремились слушать активно, интенсивно прислушиваясь. Таким образом, большую часть английской музыки XVII века составляет камерная музыка. Тогдашнюю английскую музыкальную жизнь в некоторой степени уместно сравнить с Австрией конца XVIII века, когда процветало “большое” концертное движение, однако наиболее существенные достижения были в камерной музыке, прежде всего в жанре струнного квартета. Там тоже недоставало широкой аудитории, и музыка культивировалась в многочисленных любительских кружках, где больше внимания уделяли содержанию музыкального выражения, а не эффекту. Ничего удивительного: и здесь, и там самые значительные свои шедевры композиторы создавали именно в сфере камерной музыки. В этом и причина незначительной популярности английской музыки: ей, как и классической камерной музыке, чужды поверхностные эффекты, поэтому и отодвинута сегодня — подобно последней — на обочину.
Джон Купер (1575—1626) и Уильям Лейвз (1602—1645) — наиболее характерные и виднейшие композиторы золотой поры английской музыки. Определяющей чертой тогдашнего культа преклонения перед заграницей является тот факт, что Джон Купер после нескольких лет практики в Италии начал употреблять и в Англии имя Джованни Коперарио, стремясь походить на итальянца и пользоваться большим уважением. Данный шаг кажется гротескным, ибо (если сравнить произведения Купера с композициями современных ему итальянцев) заметна свобода, с которой включает он итальянские элементы в рамки чисто английских форм, а также какими никчемными выглядят первые итальянские попытки создания трио-сонаты в сравнении с первыми подобными произведениями самого Купера. С другой стороны, очень интересно наблюдать явления ассимиляции или независимости от национальных стилей на других примерах. В начале XVII века несколько итальянских композиторов эмигрировали в Англию, чтобы там поискать счастья (например, Ферабоско, Лупо) — и вскоре начали писать чисто английскую музыку, то есть, с музыкальной точки зрения, стали англичанами. Купер же просто позаимствовал итальянскую фамилию.
Наиболее знаменитым из учеников Купера был Уильям Лейвз — один из величайших композиторов XVII столетия. Чарльз I не только любил его музыку, но и проявлял к нему чрезвычайную благосклонность. Собственно, для этого короля Лейвз написал огромное количество своих произведений. Когда король погиб в битве под Честером, многие поэты и композиторы создали многочисленные Lamenti в его честь — все признавали его величие. Произведениям Лейвза присущи чрезвычайная изобретательность, неслыханно современный музыкальный язык и впечатляющая глубина выражения.
Генри Перселл (1658—1695) — последний из длинного ряда выдающихся композиторов, олицетворяющих большую эпоху английской музыки. Его произведения ясно указывают, что и он осознавал это. Одним из его первых известных произведений был цикл фантазий для нескольких виол да гамба (от трех до семи), в которых цитируются, кстати, темы Дауленда. Форма тех фантазий довольно традиционна и могла бы появиться на семьдесят лет раньше; тем не менее, они удивительно авангардны: задуманы, несомненно, как завершение большой эпохи, но вместе с тем направлены в будущее. Перселл написал их в течение нескольких месяцев, в возрасте двадцати двух лет, и они остались единственными его произведениями для ансамбля подобного типа. Технические и звуковые возможности виол да гамба здесь использованы сполна.
Более поздние произведения Перселла надо рассматривать с точки зрения этих композиций. С одной стороны, он применяет тогдашние танцевальные формы, живописные звуковые эффекты или даже форму французской увертюры, постоянно их “англизирует”, то есть придает им более изысканный характер, с другой — возвращается к давней английской фантазии с ее протяженным и богатым гармоничным развитием.
Хотя эпоха английской барочной музыки заканчивается Перселлом, последним ее композитором следует считать Георга Фридриха Генделя, важнейшие годы жизни которого прошли в Англии. Интересно, что его композиторский стиль сформировался под влиянием специфически английского музыкального климата. Произведения Генделя в значительной степени являются продолжением достижений Перселла; без последнего их появление было бы невозможным. Нет такого барочного композитора, чьи мелодии более приятны для слуха, нежели мелодии Генделя, что также указывает на непосредственное влияние музыки Перселла. Однако то, что выше говорилось об английской музыке, к Генделю уже не относится; в конце концов, и Перселл в некоторых своих произведениях применял преувеличенные, театральные жесты барокко.
Кончерто-гроссо и трио-соната у Генделя
Георг Фридрих Гендель был первым светским человеком среди композиторов своего времени. Еще в начале своей музыкальной карьеры он добился значительных успехов, как в роли композитора, так и виртуоза, блестящего импровизатора в игре на органе. Свои произведения писал на заказ, зная заранее место исполнения и публику, для которой они предназначались. Его достижения стали возможны в значительной мере благодаря тому, что свои музыкальные повествования он формулировал тем “языком”, который понимала публика, а также тому, что он, как хороший оратор, приспосабливал свои мысли к уровню аудитории. Его произведения являются отражением гармонии, господствовавшей между композитором и слушателем, а сам он осознавал меру нравственной ответственности художника перед слушателем, который, воспринимая музыку, должен становиться другим, лучшим человеком.
Гендель глубоко знал все стилистические тенденции своей эпохи. С восемнадцати лет начал работать в гамбургской опере как скрипач, клавесинист и композитор; в двадцать два года, пребывая в Италии, признанном центре барочной музыкальной жизни, вошел в среду, группирующуюся вокруг большого мецената искусства, кардинала Оттобони. Встретился там с величайшими итальянскими композиторами (Корелли, Скарлатти), изучал их стиль. Гендель везде чувствовал себя непринужденно, достиг такой сноровки, благодаря которой мог сам сыграть все то, что сочинил. Его культура, свобода изложения и вкус во всех сферах искусства (позже, в Англии, он станет собственником достойной внимания коллекции картин) поддерживали прирожденную способность касаться чувствительных струн души публики. Уже в гамбургский период Гендель причислен к знаменитостям международной музыкальной жизни. После его пребывания в Италии (1706—1710) и достигнутых там успехов немецкие княжеские дворы спорили между собой о том, кому выпадет счастье пригласить новую звезду к себе. Гендель знал и к тому же умел использовать свою рыночную стоимость. Он единственный из доклассических композиторов, которому удалось достичь высокого имущественного и общественного положения. Сотрудничество с издателями обеспечивало распространение его произведений, а ему самому — определенную прибыль. Нет ничего странного в том, что значительная часть композиций Генделя публиковалась одновременно в разных изданиях, а некоторые из них — в разных версиях и инструментальных обработках.
Гендель был также композитором, которого открыли в XIX веке еще перед Бахом для использования в так называемой большой музыкальной жизни, где он занял более значительное место, чем его ровесник. Сформировалось даже что-то наподобие типичного генделевского стиля, берущего свое начало в Англии. Достаточно окинуть взором партитуры больших ораториальных произведений этих двух композиторов, чтобы найти между ними значительные различия. Музыка Баха представляется намного доработаннее, прежде всего средние голоса в ней компактнее, сплоченнее и более независимы в процессе музыкального развития, чем у Генделя, где их надо трактовать в первую очередь как заполняющие голоса; важнейшие мелодические линии у Генделя, впрочем, всегда находятся в верхних голосах. У Баха же все голоса обработаны очень детально, все украшения записаны, импровизации нет места. Вместе с тем у Генделя более важна выписанная с размахом мелодическая линия, детали часто едва намечены; большинство из них доверено исполнителю, как и обрамление в каденциях и отрезках da capo. Примат мелодии у Генделя в сопоставлении со старательной обработкой отдельных партий у Баха дает нам ключ к содержательной интерпретации этой музыки.
Когда возвратились к творчеству Генделя — это произошло (невероятно!) почти сразу же после его смерти, — постепенно выяснили, что оно пригодно для представления монументальности. Описанный выше линеарный способ композиции мог побуждать к интерпретации, подчеркивающей звуковой блеск. Такие интерпретации настолько хорошо гармонировали с тогдашним представлением “барокко”, а возможно — с тем образом светского человека, который олицетворял собою Гендель, что тот генделевский стиль стал общепринят и одобрен как правильный. Не забывая об ошибочном приписывании стилю барокко тяги к великолепию, а также о том, что главные произведения Генделя созданы в период, уже не принадлежащий эпохе барокко, можно утверждать: с чисто музыкальной точки зрения этот генделевский стиль довольно убедителен и доступен для понимания. Звуковой монументализм, родившийся из стиля интерпретации минувшего столетия, бесцеремонно перенесли на саму музыку: темпы растянули, выпятили аккордовую фактуру — и в результате появился стиль гармонический, монументальный и вместе с тем примитивный, позволяющий достичь удовлетворенному слушателю душевного равновесия. Такой способ исполнения вскоре был признан квинтэссенцией барочной музыки: гигантские музыкальные массы с помощью очень простых и вместе с тем помпезных аккордовых соединений создают что-то наподобие атмосферы детского праздника.
Относительно простая фактура, доминирование мелодии, аккомпанирующая роль средних голосов — все это отдает уже классицизмом. Сознавали это композиторы или нет, но в музыке отражались общественные проблемы. Историей доказано, что музыка эзотерическая, сложная и полифонически изысканная рассчитана на просвещенных слушателей. Она оперирует своего рода тайным кодом, соответствующим культуре слушателей; музыка же, которая хочет нравиться “народу”, является прежде всего мелодичной (написанной, так сказать, для голоса с аккомпанементом), такой, что будоражит “чувства”. Музыкальная жизнь в Англии во времена Генделя была организована более независимо, чем на континенте, а оперная и ораториальная публика происходила из народа.
Когда, исполняя произведения Генделя, пытаешься благоразумно применить давние правила, относящиеся к составу исполнителей, артикуляции, темпу, динамике, орнаментике, то они представляются легкой и доходчивой музыкой. Примат мелодии обретает смысл, вместо пустого пафоса появляется ясная и легкодоступная выразительность. Сама музыка в итоге приближается все более к произведениям представителей раннего классицизма и даже к Моцарту. Сила ее не только в количестве исполнителей, но, прежде всего в содержании. Для исполнения “Мессии” Гендель имел в распоряжении двадцать семь хористов и настолько же скромный по составу оркестр. (Большие оркестры использовали только в концертах на открытом воздухе или в специальных случаях, учитывая особые обстоятельства). Нет никакой причины предполагать, что эти небольшие коллективы, для которых писалась музыка, он трактовал как ограничения или временное явление; много деталей возможно реализовать только с ансамблем подобного типа.
Для генделевских колоратур, и вообще для его музыкального языка, большое значение имеет выразительная артикуляция нот малых длительностей — принципиального элемента звукового языка того времени. Все тогдашние теоретические трактаты особенно подчеркивают важность верного акцентирования тех коротких фраз, подобно слогам и словам речи. На практике же замечаем новые перспективы, открывающиеся перед исполнителем и перед слушателем, а также и то, что подобный вид артикуляции можно использовать со смыслом лишь в относительно небольшом коллективе. В большом хоровом или оркестровом ансамбле все снова размывается, или наоборот — акценты кажутся назойливыми и преувеличенными. Подобное происходит и с темпами: если выбираются быстрые, на что указывает традиция, их, бесспорно, надо воплощать стройным и подвижным звуковым аппаратом. Идеального слияния звука, обеспечивающего необходимую ясность и прозрачность, можно достичь лишь с помощью инструментария той эпохи. Цель же интерпретации, основанной на этих правилах, — достижение современного генделевского стиля. В этом случае слушатель снова должен стать активным и не удовлетворяться месивом, приготовленным из множества звуков, которые, однако, при внимательном вслушивании оказываются лишенными характерности. Музыкальное действо не должно происходить лишь на эстраде, а слушатель не должен ограничиваться роскошным купанием в половодье звуков; наоборот, музыка должна возникать в результате общих усилий исполнителя и слушателя — как взаимно понятный язык звуков. Точная интерпретация, исходящая из исторических предпосылок, мне представляется не только наиболее соответствующей произведению, но и самой современной.
Concerti-grossi Генделя, как и его органные концерты, были задуманы прежде всего как интермедии, увертюры, как музыка во время антрактов к его операм, кантатам и ораториям; но это не означает, что они являются второстепенной музыкой. Наоборот, существуют сведения, что слушатели ораторий Генделя очень живо интересовались органными концертами, исполняемыми между отдельными частями. Больше того, такие концерты, которые игрались для заполнения антрактов, часто слушали с большим вниманием, чем главное произведение.
Двенадцать Concerti-grossi op. 6 Генделя были написаны, как говорится, на одном дыхании — между 29 сентября и 30 октября 1739 года. Это несколько своеобразный из генделевских циклов, которые он, готовя к изданию очередной opus, составлял, черпая обычно из своих разнообразных более ранних композиций. (Тем не менее и здесь есть отдельные части, принадлежащие другим произведениям, хотя и в меньшем количестве, чем в иных композициях). То исключительное “дыхание” и ансамбль единого состава являются характерными особенностями этих двенадцати концертов: изначально инструментами, которых требовали эти концерты, были струнные и один инструмент для реализации гармоничной основы — continuo.
Тот факт, что Гендель позже к некоторым из них собственноручно дописал партии деревянных духовых инструментов, не перечеркивает свойство их применения ad libitum, они могут быть без ущерба заменены; это одновременно указывает на способ, используемый композитором для увеличения ансамбля. Подобным образом можно уверенно поступать при исполнении того или иного концерта.
В своих Concerti-grossi Гендель не придерживался никаких общеупотребительных в то время точных формальных схем, но применял выборочно три образца: во-первых, форму старинной церковной сонаты с ее последовательностью частей “медленная - быстрая - медленная - быстрая” (медленная часть которой могла быть уменьшена до короткого вступления в несколько тактов); во-вторых, новейшую форму итальянского концерта Вивальди с последовательностью частей “быстрая - медленная - быстрая” (с развитой автономной медленной частью) и, в-третьих, французскую оркестровую сюиту с увертюрой в роли вступления и многочисленными танцевальными частями. И все же состав частей в каждом из концертов различен; композитор использовал вышеуказанные схемы по своему усмотрению.
Гендель, очевидно, любил завершать свои порывистые виртуозные концерты легкой и простой танцевальной частью (чаще всего менуэтом). Это абсолютно не согласовывается с нашей традицией “эффектного” окончания, которое бы вызывало аплодисменты. Слушателя не надо было оставлять в состоянии подъема — наоборот, после возбуждения, возникшего под воздействием всевозможных музыкальных раздражителей, надлежало привести его душу в равновесие. Появление эмоций спокойствия и отдыха, успокоения после пережитого волнения и подъема входило в творческий замысел композитора. Гендель, несомненно, стремился растрогать и разыграть своих слушателей, возбудить их нервную систему, а потом это возбуждение укротить и позволить им уйти успокоенными.
Оригинальное название первой редакции, изданной Уолшем в 1740 году под надзором Генделя, извещало: “Twelve Grand Concertos in Seven Parts for four Violins, a tenor Violin, a Violoncello with a Thorough Bass for the Harpsichord. Compos'd by George Frederick Handel. Published by the Author. London... ” Упоминавшиеся ранее гобойные партии здесь опущены, как и цифровка в партии виолончели соло, — что указывает на возможность применения второго инструмента в партии continuo. Гендель, скорее всего, выбрал простейшую версию, которая имела больше шансов найти покупателей, тем более, что еще со времен Корелли и Муффата разнообразные способы исполнения концертов такого типа были довольно хорошо известны и каждый музыкант мог изменить их инструментовку, сообразуясь со своими возможностями и местом исполнения.
Concerti-grossi Генделя очень родственны концертами Корелли (“изобретатель” формы concerto-grosso), соответственно и способ их исполнения тоже довольно близок. К счастью, существует достоверный свидетель, описавший и унаследовавший стиль Корелли в своих собственных произведениях — Георг Муффат. Он имел возможность слушать первые Concerti-grossi Корелли в Риме под управлением автора, что и побудило его к сочинению аналогичных произведений: “Это правда, что те прекрасные, абсолютно нового типа концерты, услышанные мною в Риме, стали для меня большим стимулом, вдохновив меня на несколько замыслов”. Далее он описывает разнообразные варианты исполнения: “Можно их играть только тремя инструментами”. (Подобное особенно касается Concerti-grossi Генделя, которые задуманы в целом наподобие трио-сонаты; партию альта он прибавил уже по окончании композиции, ведь временами она вызывает впечатление настоящей партии obligato, иногда же кажется инородным телом, которое проявляется через проставленные вне логики ведения голосов лиги в фактуре произведения). “Их можно играть a quattro”, просто объединяя soli и tutti. Если “полному concertino a tre с двумя скрипками и виолончелью” противопоставляется concerto-grosso, полный оркестр, альты могут быть сдвоенными “в относительной пропорции” или в зависимости от количества имеющихся первых и вторых скрипок. Эти Concerti-grossi могут исполняться как малыми, так и большими оркестрами, на что указывает традиция, идущая от Корелли. На титульной странице своих Concerti-grossi 1701 года Муффат еще пишет, что такие произведения могут играться небольшим ансамблем, “но еще лучше, ансамблем, разделенным на два хора, что значит — один большой и один малый”. Надлежит также concertino, то есть трио солистов, исполнять “только в объединении с органом”; иначе говоря, надо иметь отдельный инструмент для реализации continuo (что объясняет добавление цифровки Генделем в партию виолончели continuo в автографе и других источниках). Муффат упоминает также о привлечении гобоистов (ad libitum): “Действительно (... ) несколько французских гобоев (... ) могут играть очень привлекательно”. При определенных условиях он даже склонен поручить им, а также “хорошему фаготисту”, сольные партии трио. Такие очень эластичные возможности интерпретации остались основной характерной особенностью формы concerto-grosso. Подобное означает, что от Корелли вплоть до времени Генделя и даже позже сохранилась не только форма, не менее живучими оказались исполнительские традиции. Concerto-grosso для нескольких поколений музыкантов означало определенный жанр инструментальной музыки и вместе с тем определенный, присущий ему способ исполнения.
С этой точки зрения очень важен вопрос размещения музыкантов на сцене. Тогдашние источники постоянно описывают хоры (точнее, инструментальные группы), расположенные на довольно большом расстоянии вширь или вдоль всего помещения. Когда concertino (трио солистов) исполняется первыми пультами оркестра — что, к сожалению, случается очень часто, — значительное количество эффектов, которые в партитуре кажутся очевидными и которые предполагались композитором, существенно теряют свой смысл. Например, такое разделение голосов, как в трех начальных тактах первого Concerto, где во вторых половинах такта две сольные скрипки играют отдельно от остальных — не имеет никакого смысла, если они играются скрипками, сидящими в оркестре. Но если concertino размещено отдельно, это воспринимается как ответ tutti (существует, в конце концов, много аналогичных вступлений). Также и поочередная игра ripieno и concertino для выполнения своих задач требует обособления в пространстве.
Во время концертов мы испытали разнообразные возможности расположения и пришли к выводу, что все предусмотренные композитором эффекты можно передавать лучше всего, если concertino — с отдельным инструментом для реализации continuo — размещается с правой стороны в глубине, то есть сбоку и вместе с тем дальше, чем ripieno.
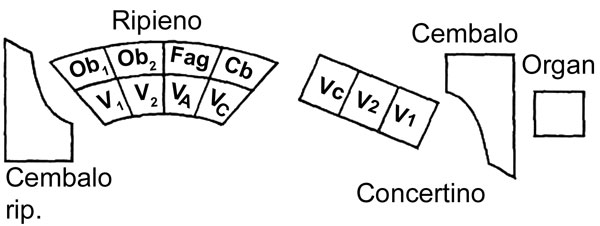
При таком расположении, с одной стороны, диалог concertino-ripieno становится более четким, а с другой — звуковые эффекты, представленные в некоторых местах (например, в тактах 27 — 40 и соответствующих им вступлениях четвертой части Второго концерта, в четвертой части Пятого концерта), полностью проявляют себя. Кроме того, части, в которых concertino и ripieno играют вместе, приобретают особый и убедительный колорит (когда весь звуковой материал будто охватывается инструментами continuo), а благодаря тому, что высокий голос долетает не только с привычной левой стороны, но также и с правой, появляется интересный пространственный эффект.
Continuo можно трактовать в каждом концерте и даже в каждой части по-разному: два клавесина (один для ripieno и один для concertino), а также — возможно — орган и одна или несколько лютен можно применять всевозможными способами.
Относительно деревянных духовых инструментов — известно, что Гендель, как и много других композиторов той эпохи, а также его предшественники в Англии (такие как Генри Перселл), часто использовал гобои и фаготы, четко не указывая их в партитуре; это зависело прежде всего от конкретных обстоятельств и имеющихся музыкантов. Если взять Concerti I, II, V и VI, то можно применить здесь партии деревянных духовых, как и задумано Генделем. Тут видно, что гобои и фагот должны дополнять и закруглять звучания ripieno в довольно больших ансамблях, придавая блеск виртуозным вступлениям благодаря точному очерчиванию начальных и заключительных звуков колоратур, а также во вступлениях со сложной мелизматикой, делая фактуру более четкой — благодаря исполнению основного голоса без украшений. В соответствии с этим можно также прибавить один или два гобоя и один фагот, например, в Concerti III, IV, V, VIII, IX и XII. Concerti VII и XI предназначены, вероятно, только для струнного состава.
Хотелось бы еще подчеркнуть определенную особенность барочной нотации, на которую почти не обращают внимания и которая очень часто встречается у Генделя: объединение отрезков в единый длинный такт, предопределяющий их артикуляцию и фразировку. Такой способ записи, достаточно понятный каждому музыканту, не принимается, к сожалению, во внимание почти ни одним из современных изданий, поэтому практически невозможно определить, как сам композитор записал свое произведение. Соединение нескольких тактов в один заключается в том, что обязательный метр (например, 3/4) возникает из определения, а тактовые черточки ставятся лишь каждый четвертый такт, к тому же иногда и нерегулярно. Некоторые музыковеды полагают, что так написано исключительно ради облегчения: более удобно записывать вступления, содержащие очень мелкие ноты; однако я абсолютно убежден, что здесь речь о продуманном способе записи, который во всяком случае надлежит помещать в печатных нотах, а не ограничиваться какими-то упоминаниями в комментариях. В Concerti-grossi op. 6 семнадцать раз встречается подобная форма записи.
Concerti-grossi op. 3 Генделя (в отличие от ор. 6) известны также под названием “гобойных концертов”. Так их окрестили в XIX столетии, противопоставив Concerti-grossi op. 6, которые считались “смычковыми концертами” и соответственно исполнялись. С того времени наше знакомство с этими произведениями и способами их исполнения изменились настолько, что те определения потеряли прежний смысл. Среди “гобойных концертов” можно найти самые разные сочетания, где почти все инструменты исполняют функции солистов: блокфлейты и поперечные флейты, гобои, скрипки, виолончели; в “смычковых концертах” также применяются гобои и фагот, но только для придания tutti соответствующей окраски, а также для обретения более выразительных контуров.
Теперь перейдем к трио-сонатам Генделя. Эта форма по сути очень близка к concerto-grosso: группа сольных инструментов в concerto-grosso или concertino состоит как у Корелли, так и у Генделя из двух скрипок (в концертах для духовых инструментов — из двух духовых высокой тесситуры) и continuo. Следовательно, Concerti-grossi являются расширенными, “концертирующими” трио-сонатами. Трио-соната — наиболее характерная форма барочной камерной музыки, ее буйный расцвет приходится на период между началом XVII и серединой XVIII века. Очень интересно проследить ее возникновение и эволюцию, а также пронаблюдать исторические, музыкальные духовные перемены на примере именно этой маленькой формы.
Вполне самостоятельная инструментальная музыка развилась ранее — в XVI веке. Ее формы почерпнуты из итальянского мадригала и французского шансона, а также — очевидно — из народной танцевальной музыки и в дальнейшем развиты в соответствии с типичными фигурами существующих тогда инструментов. Те инструментальные канцоны (называемые еще “фантазиями”) писались многоголосыми — имели от трех до пяти равнозначных голосов, которые проводились имитационно. Когда около 1600 года начал доминировать солист, одиночный музыкант (в противоположность инструментальным и вокальным ансамблям предшествующих веков), стиль многоголосной инструментальной музыки также изменился. Крайние голоса, сопрано и бас приобрели большую значимость, а функция средних голосов постепенно сводилась к заполнению и аккомпанементу. Правда, число голосов очень часто возрастало до шести, но это мнимое увеличение, поскольку являлось тем же пятиголосием с удвоенным сопрановым голосом. Эти два верхних голоса были опять таки равноправными, но имели совершенно новую, истинно барочную функцию: должны были “концертировать”, диалогизировать между собой и внутри себя.
В период барокко музыку понимали как “язык звуков”, солист выстраивал свое “повествование” в соответствии с правилами риторики. Наиболее интересной формой беседы является, конечно, диалог, разговор, диспут, что и было, собственно, главной причиной появления в барочной музыке двух и более солистов. Если из уже упоминавшегося шестиголосного изложения с двумя верхними солирующими голосами (что так обычно для Браде, Шайдта, Монтеверди) изъять средние голоса, исполняющие все же функцию continuo, и оставить двум сольным голосам лишь один басовый голос, то получится трио-соната; таким образом выстраивались первые трио. Первые настоящие трио-сонаты находятся в сборниках балетных интермедий и канцон из первых десятилетий XVII века.
Очень рано появляются две радикально различные формы: сюита танцев (позже sonata da camera), происходящая из балета, и simfonia или sonata (sonata da chiesa), происходящая от инструментальной канцоны. Около 1700 года эти две формы снова смешиваются, к сонате da camera прибавляется вступление — что характерно для церковной сонаты, а к сонате da chiesa иногда добавлялся менуэт или жига. (Дальнейшая эволюция приводит уже непосредственно к форме классической сонаты.) Трио-соната тесно связана со скрипками. Все итальянские скрипачи XVII столетия (они же композиторы) — такие как Марини, Уччелини, Пезенти, Каццати, Легренци, Корелли, Вивальди, — писали трио-сонаты, прежде всего для двух скрипок и basso continuo (клавесин с виолончелью, которая вела линию баса). В других странах, естественно, тоже сочиняли трио-сонаты, или наследуя итальянские образцы (подвергая их аналогичной эволюции), или добавляя новые стилистические элементы, примерами чего могли быть Pieces en trio Марена Маре или Trio Куперена. Во французских произведениях этого типа итальянский стиль встречается с совершенно иной традицией. Главный элемент в них — не диалог. Наоборот, два верхних голоса совместно “повествуют” одним и тем же, крайне изысканным и выразительным языком. Французские композиторы не уделяли такого же внимания скрипкам, как их итальянские коллеги, и часто в своих трио использовали духовые инструменты — флейты и гобои, а также виолы да гамба. Немецкие композиторы XVIII столетия были прежде всего мастерами “смешанного стиля”, который соединял итальянские и французские черты. Более всего это касается трио-сонат Баха, Телемана и Генделя, возникающую стилистическую неоднозначность которых компенсирует индивидуальный стиль композиторов. Несмотря на различия в принадлежности к особым формам церковного или светского стиля, на особенности средств выразительности итальянских и французских музыкантов или, наконец, на использование различных инструментов, трио-сонаты этого позднего периода объединены общими чертами, характеризующими этот жанр на протяжении его длинного и буйного развития.
О чем говорит нам автограф
Довольно распространенной ошибкой является мнение, будто ноты для музыканта — это единственные знаки, указывающие нам, какие звуки должны играться, как быстро, с какой силой, с какими оттенками экспрессии. Нотная запись — как отдельных партий, так и партитуры — вопреки чисто информационному содержанию, очень ярко излучает и отображает некую магию, которая не оставляет равнодушным ни одного впечатлительного музыканта, хочет он того или нет. Подобное свойственно и печатным нотам, но значительно больше касается рукописей, сильнее же всего проявляется в автографе — рукописи композитора. Для каждого музыканта запись нот является графическим представлением звуковых событий, которые разыгрываются в его воображении. Естественно, эмоциональный компонент влияет также и на письмо: просто невозможно записать какое-либо ошеломляющее allegro или захватывающее дух движение гармоний деликатными и аккуратными нотками; экспрессия каждого фрагмента каким-то образом отражается в нотации, а потом неминуемо передается исполнителю, который может об этом даже и не догадываться. Поэтому так важно, чтобы исполняемое нами произведение мы познавали в первичной форме — желательно иметь оригинальную партитуру или хотя бы хорошо изданное факсимиле. Сознательные или интуитивные открытия, происходящие благодаря излучаемому записью магическому внушению, могут оказаться довольно важными для исполнителя.
Факсимиле оригинальной партитуры оратории “Иевфай” Генделя дает нам волнующую и вдохновляющую возможность доступа к методу работы композитора, а также значительное количество непосредственных исполнительских указаний, которые печатная партитура отнюдь не могла бы сохранить. Гендель писал еще в традиционной системе, насчитывающей к тому времени где-то сто пятьдесят лет, то есть прежде всего крайние голоса, бас как фундамент и один или два верхних голоса. Иногда в этой первой фазе работы он записывал такие варианты оркестровки, как вступление новых инструментов, а временами также средние вокальные и инструментальные партии, если они проводились контрапунктически; нотоносцы, предназначавшиеся для остальных голосов, оставлял пустыми. В случае речитативов просто вписывал словесный текст между двумя существующими для этого нотоносцами, пока их не сочиняя. В конце страницы всегда находится заметка, касающаяся этапа работы, — например: “начат 21 января”, “акт I закончен 2 февраля”, “завершен 13 августа 1715” и т. д.
Из вышеуказанного явствует, что первый этап работы означал для Генделя процесс композиции в узком значении этого слова, затем последует “окончание” или полное написание произведения. Такая последовательность не исключение — то был давний академический метод работы. Большое количество произведений XVII и XVIII столетий (преимущественно из Италии и Франции) сохранились только в таком незавершенном (по нашим критериям) виде. “Заполнение”, дописывание вокальных или инструментальных голосов, отсутствующих в рукописи, не являлось функцией композитора, скорее наоборот — было делом исполнителей; тут существовало четкое разделение между “произведением” и его “исполнением”. Такое различное отношение к двум ипостасям произведения можно также встретить и в партитурах Генделя, который — имея уже за спиной этап композиции — писал: “Закончено”, а после второго этапа, в течение которого сочинял средние голоса, какой-то раздел сокращал, иной удлинял, исправлял арии, вносил изменения в текст, обрабатывал речитативы, — на партитуре появлялась надпись: “Готово”. При этом у Генделя эти два этапа работы довольно легко различимы по способу письма: старательному, упорядоченному, прозрачному во время первого этапа и поспешных набросков на бумагу во время второго. В партитуре “Иевфая” есть дополнительная характерная особенность: прогрессирующая болезнь глаз, вынуждающая Генделя многократно прерывать работу, сказывалась и на письме — перед кризисом оно выглядит абсолютно иначе, чем после, когда становится для него бременем; во фрагментах, появившихся после 13 февраля 1751 года, мы видим, как он вынужден почти водить носом, чтобы вообще писать.
На втором этапе работы особенно хорошо виден объем изменений, сокращений и переработок данного произведения. Отслеживая этот процесс, постоянно замечаем, что Гендель, сочиняя определенные фрагменты, позже приходил к убеждению, что они не подходят к ранее предназначавшемуся разделу, перечеркивал их и заменял другими. Некоторые фрагменты иногда заимствовал из своих ранних композиций, имевшихся под рукой, иногда из какого-либо заброшенного произведения, а еще, бывало, переписывал заново. Перечеркнутые отрывки редко исчезали бесследно, часто появляясь в новом контексте — в рамках какого-нибудь другого произведения. Эти переформирования — несмотря на значительные расхождения в размещении текста или перемещения в другой регистр — не меняли основного эмоционального характера музыки; можно даже утверждать, что подобные музыкальные замыслы в их окончательном виде только выигрывали по силе воздействия. (Подобный метод работы близок к пародийным приемам, столь искусно используемым Бахом, когда художественно пародированное произведение с новым текстом в результате становилось более убедительным).
Гендель использовал фрагменты не только своих давних произведений, но и, не колеблясь, композиции других мастеров, особенно хорошо подходящих ему с точки зрения выразительности: так, характерный отрывок первых и вторых скрипок из Concertino f-moll Перголези он использовал как партию облигатных скрипок в хоре “Doubtful fear” (такты 54—63), что придало гомофоническому окрику “Hear our pray'r” особую назойливость. Такое заимствование Гендель сделал на первом этапе работы — в рукописи четко видно, что обе скрипичные партии были написаны ранее всего остального.
Ария Иевфая “Waft her, angels, through the skies... ” удивительно четко иллюстрирует поиски окончательного варианта авторской партитуры. От первого этапа работы — вопреки распространенному мнению — здесь остались, кажется, только первые такты вступления; видно, как Гендель выбрасывал отдельные такты или целые страницы, как поправлял, снова зачеркивал... Со всеми исправлениями ария занимает семь страниц, из которых разве что три остались в окончательной версии.
Среди важнейших сведений, которые может донести до нас рукопись, стоит вспомнить многочисленные поправки темповых указаний: ария “Tune the soft melodious lute” первоначально была обозначена Генделем указанием Larghetto, которое со временем он зачеркнул и заменил на Andante. Такие обозначения тогда одинаково указывали как на характер, так и на темп: Larghetto не только более подвижное, чем Largo, но и обладает иной выразительностью. Andante очерчивает не только техническую сторону произведения — выдержанного в относительно установленном темпе — основанном на шагающих басах, но вместе с тем предостерегает и от слишком медленного темпа. Такого рода примеров довольно много. Определенные указания относительно темпа и фразировки возникают из метра, из тактовых черт и пауз: как и большинство композиторов этой эпохи (включая Баха), Гендель расставлял тактовые черточки в отрезках разной протяженности, проявляя таким образом реальные размеры отрезков, создающих некую логическую целостность (такой очень практичный метод нынешними издателями часто, к сожалению, игнорируется).
Чем глубже мы погружаемся в этот вопрос, тем больше понимаем, что композиторских рукописей музыкантам не могут заменить никакие самые лучшие издания и редакции. Кроме внушения, которое они излучают и на какое не способно ни одно печатное издание, рукописи содержат многочисленную конкретную информацию, которую мы стремимся получить — насколько это возможно — из первого и наиболее адекватного источника, а не искать ее в каких-то пространных комментариях редактора.
Танцевальные формы — сюиты Баха
Сюита как название музыкальной формы означает “ряд” — последовательность произведений, которые по своей сути являются, прежде всего, танцами. Однако Бах свои сюиты никогда так не называл, придавая им заголовки, заимствованные из важной вступительной части цикла — “увертюры”. Баховские увертюры, тем не менее, являются самыми настоящими сюитами и последними образцами этого очень старого жанра.
При зарождении в западной музыке настоящего многоголосия в XII веке танцевальная музыка исполнялась профессиональными менестрелями и была частью народной музыки; никто и не думал трактовать ее наравне с ученой музыкой, религиозной или светской. Музыканты, занимающиеся этими двумя типами музыки, редко контактировали между собой. Наивысшее достижение менестрелей — участие в ансамбле, исполняющем религиозную музыку в церкви, на что духовные власти смотрели весьма неблагосклонно. Но вопреки всему, на протяжении довольно длительного времени религиозная и светская музыка взаимно влияли одна на другую. Менестрели исполняли свои танцевальные песни как перед крестьянами, так и перед вельможами; таким образом, с одной стороны, виртуозность менестрелей проникала в светскую и религиозную музыку высших слоев общества, а с другой — старые традиционные народные танцы со временем начали исполнять многоголосно и, не желая отказываться от характерного для ученой музыки звукового великолепия, разукрашивали отдельные партии искусной орнаментикой. К сожалению, о самой танцевальной музыке той эпохи мало что известно, ее не записывали, а лишь передавали от одного поколения менестрелей к последующему, естественно, постепенно модернизируя и приспосабливая к моде.
Определенные танцы почти с самого начала состояли из двух частей: после танца в характере поступи следовал танец “прыжкового” типа. Музыкант дважды играл ту же самую мелодию, лишь изменяя ее ритмическую структуру: сначала сдержанно, а потом живо, с огнем. Медленный танец часто исполнялся в четном размере, а быстрый — в нечетном. Подобную пару танцев можно считать зародышем сюиты.
Характер танцев, безусловно, постоянно приспосабливался к господствующей моде. Кроме того, надо отметить “общественный аванс” для отдельных танцев, которые из невзрачных сельских превратились в модные придворные танцы, потом уступили место другим, получившим популярность в светском обществе. Первые сборники танцев, объединенных, как правило, по жанрам, были опубликованы в XVI столетии. Именно таким образом были упорядочены танцы в сборниках Аттаньянта 1529 и 1530 годов. Музыканты должны были самостоятельно составлять “сюиты”, подбирая быстрый танец, соответствующий определенному медленному.
Границы, разделяющие два типа музыки (“ученую” и танцевальную), тщательно соблюдались, но танцевальная, несмотря на это, была для ученой музыки первичным, неисчерпаемым и часто просто животворным источником. Благородная ученая музыка не могла в течение длительного времени игнорировать такую удивительно жизнеспособную конкурентку. Постепенно виднейшие композиторы тоже стали сочинять танцы. Тем не менее, еще продолжительное время сохранялась дистанция или, другими словами, разница между позициями творцов ученой светской или религиозной музыки и композиторов танцевальной. (Еще в XVII столетии балеты в парижских операх писались балетмейстером, а в венских операх — “балетным композитором” Хайнрихом Шмельцером, сочинявшим также и “серьезную музыку”).
Овладев таким богатейшим источником вдохновения, великие композиторы неустанно занимались развитием и стилизацией разнообразных форм, создавая искусные модели, в которых уже сложно распознать первичный танец. Таким образом, кроме музыки утилитарной, возникло множество сборников музыки, которая уже вообще не предназначалась для танцев, а задумывалась как чисто инструментальная, исключительно для удовлетворения слушателей и исполнителей. В 1612 году во вступлении к “Терпсихоре” Преториус писал: “Танцы любого типа, также и те, которые исполняются французскими мастерами в присутствии вельмож во время праздников, могут хорошо служить для развлечений и забав”. Танцевальная музыка, создававшаяся для концертов, с самого начала имела праздничный, придворный характер.
Отсутствие родственной взаимосвязи между короткими танцевальными пьесами негативно влияло на целостность исполнения. Иногда искусственно насаждали тематическое родство, что также не удовлетворяло. Требовалось найти соответствующую начальную часть, которая смогла бы придать сюите, как циклу, самостоятельный и завершенный вид. До того времени в начале сюиты размещали более или менее подходящие части, заимствованные из длинного ряда танцев, — пышную павану, вышедшую из моды в начале XVII столетия, или серьезную аллеманду, которую не танцевали уже с середины XVII века (Мерсенн), но которая оставалась все же одной из самых любимых частей сюиты. Впрочем, во второй половине того же столетия для вступления пробовали применять части свободной формы. Англичанин Метью Лок (Matthew Locke) в своих Consort-Suites для ансамбля из четырех гамб применил с этой целью фантазию, австриец же Хайнрих Бибер в своей Mensa sonora в 1680 году — итальянскую сонату.
В течение XVII столетия рядом с давней танцевальной музыкой (в буквальном понимании), а также сюитой, составленной из стилизованных танцев (для концертного исполнения), появилась и другая форма чисто инструментальной музыки: многоголосная соната. Ей предшествовали разнообразные формы вокальной музыки, и предназначалась она прежде всего для исполнения в соборах; ее adagio и allegri происходили из фантазий и не имели никакой связи с танцами. Будучи непосредственными последователями имитационного стиля Палестрины и давних франко-фламандцев, они основывались на “фугированной” технике: отдельные голоса вступали поочередно с одинаковым мотивом и принимали участие в дальнейшем развитии произведения как равные партнеры. Сюита и соната, две значительные представительницы инструментальной музыки, были вместе с тем и музыкальным символом обособления profanum от sacrum, или, скорее, двора от церкви. Соната также сыграла определенную роль в эволюции сюиты к цельной форме: она могла с успехом применяться как вступительная часть, поддерживая своей компактностью неоднородную серию танцев.
Во Франции времен Людовика XIV сюита приобрела свой окончательный вид и стала репрезентативной формой придворной светской музыки. Гениальный придворный композитор Люлли, использовав старинный “ballet de cour” (“короткий балет”), создал типично французскую форму оперы, в которой балет играл основную роль. Оперы Люлли были насыщены самыми разнообразными танцами, чьи мелодии становились модными песенками. Те танцы из опер, собранные в сюиты, игрались перед королем или во дворцах знати. И хотя Люлли никогда не писал сюит в прямом значении этого слова, его оперные сюиты стали образцом формы под названием “французской сюиты”, которую его ученики и конкуренты распространили по всей Европе. Подобные произведения открывались заимствованной у оперы увертюрой, что автоматически устраняло главное препятствие на пути объединения формы в единый цикл. Созданная Люлли увертюра придала французской сюите ее окончательный вид.
В самых первых французских операх обычно исполнялись инструментальные вступления, происходящие от пары торжественных танцев: интрада — куранта или павана — гальярда. Люлли в своих увертюрах объединил медленную вступительную часть с фугированной серединой (в которой находилась сольная партия, чаще всего гобойная) и заключительной частью, которая тематически объединена с началом. Для крайних частей он применял пунктирную аллеманду, прошедшую испытание в качестве вступительной части. Не имея возможности ее увеличивать, он вставил между двумя ее отрезками итальянскую фугированную сонату. Такой гениальный замысел придал “увертюре a la francaise” (этой контрастной вступительной части) форму, сохранявшуюся в течение долгих десятилетий. Сформированная таким образом сюита была настоящим воплощением французского духа: ее характеризуют предельная свобода композиции, сжатость изложения, точность и ясность деталей.
С точки зрения композиции здесь царила безграничная свобода, недопустимая ни в какой иной музыкальной форме. Это касалось как композиторов, которые могли включать в сюиту практически каждый замысел, так и исполнителей, которые могли и даже были вынуждены подбирать отдельные части и выстраивать их, следуя за собственной фантазией. Не было никаких установленных правил относительно порядка частей; в рамках этой формы существовали даже сюиты (например, созданные придворным гамбистом Mape /Marais/), имеющие по несколько однотипных частей, из которых надо было выбирать в соответствии с настроением и обстоятельствами. Эту свободу, однако, компенсировали большая точность и сжатость формы отдельных частей. Старались, чтобы они были очень короткими, с предельно простыми мелодиями. Должны были походить на предельно лаконичные афоризмы. Леблан писал в 1740 году: “Уподобление Танцу через систему тонов в виде комплекса нескольких поворотов, таких как сплетение шагов в танцах с фигурами; регулярность в границах определенного количества тактов... все это придало форму тому, что мы называем Произведением, являющимся настоящей Поэзией в Музыке” (в противоположность прозе сонат). “Французский народ, стремясь к признанию, целиком посвятил себя тому, что мы называем Пением, то есть определенному делению в пространстве, что составляет в Произведении для игры или пения фигуру, сравнимую с расчерчиванием поверхности при помощи Самшитовых Линий, результатом чего есть рисунок на клумбах Тюильри”. Видно также сходство с мебелью времен Людовика XIV, с очень чистыми геометрическими линиями и плоскостями, пышно украшенными интарсиями (инкрустациями). Кратчайшие и простейшие менуэты и гавоты насыщены разнообразнейшими украшениями, которые размещались как над одиночными нотами, так и над их группами. Способ реализации таких обрамлений не отдавался на усмотрение исполнителя, как это имело место в Италии, наоборот, существовал длинный перечень трелей, мордентов, лигатур и т. п., которые надо было применять в точно указанных местах; некоторые композиторы также подробно выписывали глиссандо и сложнейшие вибрато.
“Люллисты” — как сами себя с готовностью называли ученики Люлли — распространили французскую сюиту во всей Европе. (Лишь Италия осталась стойкой к этим влияниям, поскольку форма сюиты была предельно чуждой для психики жителей этой страны). С особым интересом сюиту встретили в Германии, где дворы аристократов заимствовали не только господствующую в Версале моду, но также и новую французскую музыку. При этом возникали интересные конфликты между сторонниками разных стилей. Французская, итальянская и немецкая инструментальная музыка и ее важнейшие формы — сюита “люллистов”, концерт и полифония — собрались в “смешанный стиль”. Такой тип композиции не был простым конгломератом стилей, поскольку композитор свободно избирал нужный стиль как основную форму, в которую он мог в любой момент добавлять другие элементы. В увертюрах, написанных Бахом преимущественно во французском духе, предостаточно характерных особенностей иных стилей, которые и олицетворяют истинно баховский синтез.
Произведения, встречающиеся в сюитах Баха, всегда относятся к традиционным формам. Переработанные в довольно свободные концертные пьесы, они сохраняют лишь видимую связь со своими танцевальными прототипами. Их названия, очерчивая жанр, должны были прежде всего указывать на происхождение от определенного танца. Маттезон в связи с этим писал: “Аллеманда для танца и аллеманда для слушания отличаются, как небо и земля”. Надо признать, что темп и характер отдельных частей сюиты очень непостоянны, даже если каждый танец сохраняет свой типичный характер. Перейдем теперь к очерку их истории.
Аллеманда (Allemande) не встречается ни в одной из оркестровых Сюит Баха и не представлена в них под этим названием; медленные части четырех увертюр, тем не менее, являются ничем другим, как стилизованными аллемандами. В XVI столетии темп этого танца был довольно быстрым, мелодия простой и очень напевной. Поскольку в XVII столетии аллеманды уже не танцевались, открывалось широкое поле для изобретательности композитора. В меру своей эволюции аллеманды становились все более медленными, как и большинство остальных танцев. В начале XVIII века аллеманда стала торжественным, мастерски обработанным произведением. Вальтер так описывал ее в своем “Лексиконе” 1732 года: “Аллеманда... в сюите словно утверждение, из которого вытекает следующее: ей свойственны серьезность и достоинство, собственно так ее и надо исполнять”. Французская и немецкая аллеманды в то время остро пунктировались, удерживаясь в плавном и регулярном движении шестнадцатых. Обе ритмические структуры в равной мере присутствуют в медленных частях увертюр Баха. Из-за этого часто возникают чудесные сопоставления, когда одни голоса двигаются в пунктирном ритме, а верхний голос или бас в то же время плывет равномерными шестнадцатыми. Такие соединения очень выразительно представлены в увертюрах первой и четвертой сюит, во второй же и третьей сюитах во всех голосах властвует пунктирный ритм.
Куранта (Courante) — старинный придворный танец. С конца XVII века применялась как инструментальное произведение, но уже не танцевалась. К тому времени образовались две типичные формы куранты: одна итальянская — записывалась в размере 3/4 или 3/8 быстрым и даже торопливым движением восьмых или шестнадцатых; вторая — французская, значительно медленнее, вообще записывалась в размере 3/2. Однако часто ловкие смещения акцентов приводили к тому, что метр становился трудно распознаваемым на слух (3/2 или 6/4). В произведениях, Баха встречаются оба типа. Куранта из Первой сюиты чисто французская; описание Маттезона соответствует ей идеально: “Чувство или же движение души, которые может передавать куранта, — это сладкая надежда. Ибо есть в этой мелодии что-то смелое, мечтательное и вместе с тем радостное: все три элемента объединяются в надежду”. Маттезон демонстрирует эти три элемента в куранте, чья мелодия очень близка к баховской и может считаться подходящим примером.
Гавот (Gavotte) был сначала простонародным французским танцем, который в XVI веке начали исполнять при дворе, благодаря чему он приобрел изящество. На протяжении веков оставался одним из самых любимых придворных танцев, пока в XIX столетии не вышел из моды. Гавот еще и сейчас танцуют в некоторых регионах Франции. Его характеризует умеренная стихийность — радость, которая никогда не теряет контроль над собою. Гавоты “иногда играются живо, а иногда исподволь” (Вальтер). Затакт из двух четвертных нот сдерживает все слишком неожиданные движения. Многочисленные гавоты в сюитах для гамбы Марина Маре обозначены указаниями относительно темпа и характера: “legerement” (непринужденно), “gracieusement” (с шармом) или “gay” (весело). Гавот часто служил основой для больших форм, таких как рондо; Рондо из Сюиты h-moll является по сути “Cavotte en Rondeau”. Гавоты в четырех оркестровых сюитах Баха представляются несколько сдержанно-веселыми пьесами.
Бурре (Bourree) также был французским народным танцем, который — как и гавот — в XVI веке входил в круг придворных танцев. Во всех давних описаниях бурре охарактеризован как очень родственный гавоту танец, лишь немногим быстрее, веселее и решительнее. Имея затакт в виде четвертной ноты или двух восьмушек, бурре начинается будто с бодрого подскока.
Самым популярным из придворных французских танцев был, конечно, Менуэт. Первым его использовал в своих операх Люлли, после чего менуэт стали очень часто танцевать при дворе Людовика XIV. Менуэт как придворный танец, будучи по происхождению быстрым народным танцем из Пуату, сначала бодрый и веселый (Броссар, 1703), лишь с течением времени приобрел элегантность, его темп замедлился, а характер становился все более умеренным. Сен-Симон приводит конкретную причину этой эволюции: стареющий Людовик XIV потребовал, чтобы менуэт играли медленнее, поскольку быстрый танец чрезмерно утомлял его; со временем такой темп распространился по всей Франции. В “Энциклопедии” 1750 года характер менуэта определен как “умеренный и благородный”. Когда его танцевали, то выполняли движения и поклоны просто, сдержанно. Такая тактичная элегантность получила свое отражение и в концертном менуэте начала XVIII столетия, от которого Маттезон требовал “только умеренной веселости”. В соответствии с Кванцем, “менуэт играется таким образом, чтобы он поддерживал или будто поднимал танцора; четвертные ноты нужно акцентировать несколько более сильным протягиванием смычка, хотя и коротким” (текст 1739 года).
Паспъе (Passepied) — быстро исполняемый менуэт — распространенный в Англии, например, у Перселла под названием paspe. Большинство паспье писалось на 3/8 с частым объединением двух тактов в один на 3/4 (гемиоль), что придает произведению особый ритмический шарм. Кванц очень подробно описывает, как надо исполнять эти гемиоли: при помощи “коротких отдельных движений смычка”. Естественной характеристикой паспье были задорные восьмушки, “природа этого танца почти фривольна”, — утверждал Маттезон. Паспье из Первой сюиты Баха имеет с такой схемой довольно отдаленную связь. Даже если он и быстрее менуэта из той же сюиты, то во всяком случае не является задорным.
Форлана (Forlane) — примитивный народный танец, который, очевидно, распространили в Венеции сербо-хорватские эмигранты. В XVIII столетии стал любимым танцем венецианской публики. В художественной музыке форлану использовали только для изображения бурного народного веселья, например, во время карнавала. Схематический пунктирный ритм и повторение коротких музыкальных секвенций подчеркивали неистовость этого танца. Тюрк еще в 1798 году писал: “Форлана — это танец на 6/4, который очень распространен в Венеции среди обычного люда. Тот веселый танец требует довольно быстрых движений”.
Постепенную эволюцию от быстрого танца к медленному очень четко видно на примере сарабанды (Sarabande). Вероятнее всего, она происходит из Мексики или Испании и около 1650 года стала известна в Европе как танцевальная песня, насыщенная распущенной эротикой. Сначала она была запрещена — певцы, исполняющие сарабанды в Испании во времена Филиппа II, рисковали получить тюремное заключение на несколько лет, а уже в первой половине XVII столетия ее дико и без удержу танцевали при испанском и французском дворах. Если в Англии сарабанда еще долго оставалась быстрым и неистовым танцем (“сарабанда, — писал Мейс в 1676 году, — быстрая, трехдольного метра, еще более легкая и веселая, нежели куранта”), то во Франции в середине столетия она была “перелицована” Люлли в танец, преисполненный обворожительности и приподнятости. С того времени сарабанда во Франции постепенно становилась все более важной и торжественной, в таком виде и была воспринята немецкими композиторами.
“Сарабанда, — утверждал Маттезон, — выражает только почет”. Вальтер считает, что “она имеет серьезную мелодию и особенно ценится и исполняется испанцами”.
Происхождение Полонеза, такого известного в XVIII веке, не совсем ясное. Правда, начиная с XVI столетия, по всей Европе были популярны разнообразные “польские танцы”, которые однако, не имели ничего общего с типичным ритмом полонеза. Последний же распространился лишь в начале XVIII столетия, когда стал общеизвестным в своей окончательной форме — как горделивый, плавный танец, который исполнялся прежде всего во время торжественных приемов при вхождении и размещении гостей. Полонез начинался с акцентированного звука, и этот акцент “на раз” придает ему “прямодушный и совершенно свободный нрав” (Маттезон).
Жига (Gigue) несомненно происходит от народного английского танца Gigue, который на континенте не танцевали, а сразу переработали в инструментальное произведение. Уже в эпоху барокко его название выводили от слова geigen (играть на скрипке), тем не менее сейчас к подобной этимологии надо относиться очень осторожно. Первые жиги встречаются у вирджиналистов времен Елизаветы, а Шекспир в своей пьесе “Много шума из ничего” характеризует этот танец как “дикий, буйный и чудаческий”. Жига всегда была настоящей веселой пьесой. Французские клавесинисты-виртуозы XVII столетия — такие как Шамбоньер, д'Англебер, Луи Куперен — включали ее в состав сюиты. Люлли первые жиги в балетных сценах опер писал в пунктирном ритме, в то время как итальянские композиторы круга Корелли в своих сонатах da camera сформировали собственный тип, основанный на равномерном движении восьмушек. Таким образом, как и в случае куранты, возникли два типа жиги: французская, в задорном, пунктирном ритме, и итальянская, стремительная и очень виртуозная в своем движении равномерных восьмушек. Обоим типам свойственен быстрый, стремительный темп. Жиги “имеют страстный, но непродолжительный задор, неистовство, которое быстро угасает” (Маттезон). Бах только в немногих своих сюитах использовал в чистом виде один из этих двух типов жиг.
Французские композиторы вплетали в свои оперы короткие танцевальные произведения, чье название означало либо их функцию в рамках музыки, либо особый характер произведения. Сюита, не подчиняясь единой схеме относительно порядка частей, была идеальной формой, предоставляющей широкие возможности объединять произведения этого типа. Элементы программности, до тех пор появлявшиеся в порядке исключения, стали свободно распространяться в профессиональной музыке, а разнообразные элементы звукоподражания — звуки колоколов, фанфары труб, астматическое покашливание, человеческий гам, кудахтанье кур, кошачье мяуканье и прочие отголоски — удостоились чести быть включенными в сюиту в виде ее частей.
К этому типу принадлежат Badinerie (шутка) и Rejouissance (шалость) — особенно любимые названия частей. Интересно, что, кроме названий, это еще и определенные формы с большим взаимным сходством. Так произошло потому, что раньше спокойно обрабатывали заимствованные у других композиторов замыслы, и подобное не считалось плагиатом. Rejouissance “... означает радость, веселость и представлена в увертюрах, где обычно так называли какую-то радостную пьесу” (Вальтер). Это лишь ученое название для “удивительно веселого произведения”.
В XVI столетии во Франции и Англии название Ария (Air) употребляли для определения серьезных песен с гомофонным инструментальным сопровождением. Отсюда в Англии родился особый тип инструментальных произведений, в которых верхний голос играл сладкую и волшебную мелодию. Во времена Баха слово “Air” было общим названием, означавшим разные типы музыкальных, прежде всего инструментальных, произведений. Телеман в некоторых из своих сюит все танцы называл “Air”, употребляя этот термин в значении “часть”. Подобным названием обозначались в основном медленные произведения, с очень напевным верхним голосом. “Ария главным образом означает мелодию, несмотря на то, исполняется она вокально или же инструментально” (Вальтер); “эта ария для игры (... ) исполняемая на любых инструментах, обычно имеет короткую мелодию, которая разделена на две части, напевную и простую... ” (Маттезон).
Французская барочная музыка — впечатляющая новизна
Открытие какой-то новой, до сих пор неизвестной музыки — наибольшее событие, дарованное музыканту. Такое событие, конечно, не зависит от времени создания произведения; одинаково захватывающим может быть первое прослушивание или исполнение как произведения XVII или XVIII века, так и новой композиции, появившейся в наше время. Таким событием для нас, ансамбля “Concentus Musicus” из Вены, стала встреча с “Кастором и Поллуксом” Рамо. Значение для истории музыки теоретических работ Рамо мы уже осознавали, некоторые из нас знали его камерную музыку и произведения для клавесина, и даже одну-две кантаты. Мы знали также, что он сам и его современники считали его оперы важнейшими и высочайшими достижениями XVIII столетия; тем не менее для нас это было событием, встречей с чем-то совершенно неожиданным. В самых смелых мечтах мы не решались предположить, что эти покрытые библиотечной пылью фолианты прячут в себе такую замечательную музыку и насколько она революционна для своего времени.
Мы старались установить, какие факторы влияют на то, что одни шедевры промелькнут как однодневка и исчезнут, а другие имеют вневременное значение. Почему же определенные произведения становятся прославленными, известными и везде исполняемыми? Очевидно, существует тот “безошибочный” суд истории, которая отделяет зерна от плевел; но чтобы какое-либо произведение могло предстать пред этим судом, сначала оно должно быть извлечено из архивов — где дремлет зачастую несколько столетий — и исполнено. Возможно, что в случае Рамо важную роль сыграл тот факт, что французская музыка в XVIII веке, и даже позже, находилась в определенной изоляции от европейской музыкальной жизни. Франция — единственная страна, которая не признавала международного языка итальянской барочной музыки, противопоставив ей свою собственную, абсолютно иную музыкальную идиому. Возможно, для остальной Европы французская музыка оставалась своего рода иностранным языком, чья красота могла открыться только тем, кто посвятил себя ее изучению со всей страстью и любовью. Мы, музыканты, тоже не свободны от подобного. Насколько итальянская музыка нам понятна даже в крайне слабом исполнении, настолько исполнитель или слушатель французской музыки должен приложить немало кропотливых усилий для постижения ее сути. Возможно, именно такое всеобщее опасение перед французской музыкой задержало ренессанс шедевров Рамо.
Во время оркестровых репетиций “Кастора и Поллукса”, исполняя любой очередной номер, мы должны были повторять себе, что эта музыка написана в 1737 году, в эпоху возникновения великих творений Генделя и Баха! Необыкновенное новаторство ее музыкального языка было, вероятно, в те времена ошеломляющим: Рамо опережал не только Глюка на сорок с лишним лет, но и — со многих точек зрения — венских классиков. Это казалось невозможным: чтобы один композитор мог придумать настолько радикально новую инструментовку и новый способ использования оркестра. В этой сфере Рамо не имел предшественников. Его гармония также захватывающа и ослепительна — вне границ Франции воспринималась в те времена как набор диссонансов, шокирующих и несвойственных гармоничных последовательностей. Тем не менее уже до него было несколько французских, а также английских композиторов, которые иногда применяли такую авангардную гармонию.
У нас было такое же ощущение, которое описал Дебюсси в своей рецензии на исполнение “Кастора и Поллукса”: то есть, собственно все, что приписывалось Глюку, уже задолго до него имелось у Рамо в музыкально совершенном виде. Хотя мы и не знали текста Дебюсси, сходство между Глюком и Рамо было очевидным с первых минут.
Во времена, когда эволюция, безусловно, проходила значительно медленнее, чем сегодня, нововведения в сфере музыкальной драматургии, происшедшие в семидесятых годах XVIII века, на самом деле случились на сорок лет раньше. Что же означают такие музыкальные “параллели”? А то, что “ошибкой” Рамо было его “преждевременное” рождение.
Французская опера: Люлли — Рамо
Оперы Рамо возникли во Франции в XVIII веке, и — вообще говоря — будучи первыми шедеврами этого жанра, несомненно являются высочайшим достижением французской музыки. Итак, не помешает присмотреться ближе к той особой ситуации, благодаря которой эти произведения — так долго недооцененные и вне Франции практически неизвестные — вошли в историю музыки.
С самого начала XVII века единым общепризнанным центром европейской музыки стала Италия. Экстравертный характер итальянцев и живое воображение южных жителей породили явление, ставшее музыкальным соответствием нового “барочного” стиля. Монтеверди и его ученики создали новые музыкально-драматические произведения: первые оперы.
Напрасно постоянно подчеркивалось верховенство текста и драматического выражения над музыкой, силясь подтвердить эту точку зрения теоретическими разработками (в соответствии с которыми музыка должна лишь — изысканно, но подчиненно — усиливать воспроизведение текста). Итальянский язык и темперамент были настолько музыкальными, что музыка, будучи сама по себе абстрактной средой, постепенно становилась доминирующей, и со временем даже оперные либретто стали более или менее адекватным носителем музыкального выражения. Подобная тенденция соответствует самой природе взаимосвязи между текстом и музыкой, и всяческие догматы, провозглашающие, будто музыка является служанкой слова, не выдержали проверки временем. Поэтому в течение четырех столетий время от времени появлялись реформаторские тенденции, стремящиеся припасть к источникам этого волшебного жанра искусства.
Типично французскую оперу, совершенно противопоставленную итальянской — “tragedie lirique” (лирическую трагедию), создал итальянец Жан-Батист Люлли (Jean-Baptiste Lully). Он прибыл в Париж в четырнадцать лет, в двадцатилетнем возрасте уже был во главе королевского оркестра, будучи же тридцатидевятилетним — безоговорочно считался властителем французской музыкальной жизни. Очень быстро он приспособился к французскому характеру, который так радикально отличался от итальянского темперамента и, основательно ознакомившись с местными традициями, стал композитором балетной музыки, которая имела здесь важное значение. Позже, в сотрудничестве с поэтом Квино (Quinault), создал французский аналог того нового вида искусства, каким была опера. Некоторые элементы — речитатив, вступление к ариозо в форме ритурнели и даже такие основные музыкальные элементы, как увертюра и чакона, — могли быть заимствованы в Италии. Но этот материал был обработан в совершенно новой форме, полностью соответствующей противоположным музыкальным требованиям французов к специфике французского языка и поэзии.
Люлли, создавая оперную увертюру, внедрял элементы итальянской инструментальной музыки, но встраивал их в гениальную и к тому же точную схему, определившую на целое столетие окончательную форму французской увертюры. Подобное произошло и с чаконой: из старого инструментального танца, основанного на повторяющейся фигуре, Люлли сделал монументальную форму, которая увенчивала какой-либо акт или чаще — всю оперу. Такая чакона могла исполняться хором или оркестром, но все же форма ее была довольно определенная. В новой форме музыкальной драмы также предусмотрена традиционная склонность французов к балету: все оперы Люлли переплетены разнообразными танцевальными сценами, преимущественно чисто оркестровыми и лишь иногда — с пением. Подобные танцевальные интермедии в скором времени стали строго упорядоченными: в конце каждого акта появлялось что-то наподобие “театра в театре”, называемое “дивертисментом” и что — подобно музыкальной “маске” в английском театре — имело часто весьма опосредствованную связь с главным действием.
Конечно, сама драма, как и в итальянской опере, опиралась на речитативы. Люлли позаимствовал эти формы из итальянского речевого пения, однако придал им, приспосабливаясь к другому языку, совершенно иной вид. Итальянский речитатив — с ритмической точки зрения — исполнялся весьма непринужденно: исходя из свободной и реалистической декламации, мелодическая линия естественного течения повествования поддерживалась несколькими сухими аккордами клавесина или лютни. Либреттисты французских опер сознательно использовали изысканный язык, подчиненный суровой дисциплине формы, чей ритм определял точный метр стиха (чаще всего александрины). Люлли изучал мелодику и ритм языка, слушая великих трагиков, чье произношение стало для него образцом в речитативах. Позже они поменялись ролями — великие актеры изучали манеру исполнения певцами речитативов. Люлли придал языку декламационность, точный ритм, требуя его строгого соблюдения. Трактование других вокальных форм — прежде всего арий — основательно отличалось от итальянской практики. Насколько там, начиная с середины XVII века, певцы имели возможность покрасоваться в пении bel canto или в бравурной арии, настолько здесь ария была полностью подчинена замыслу произведения и его драматургии, а также мало отличалась от речитатива.
Как видим, Люлли, позаимствовав элементы у едва сформированной итальянской оперы и традиционного французского балета, создал совершенно независимую французскую разновидность музыкальной драмы, которая стечением времени оказалась единственной альтернативной версией. Французская опера навсегда останется сплавом всех музыкальных форм и жанров, которые используются в музыкальной драме: пения, инструментальной музыки и танца. Вместе с тем Люлли и Квино раз и навсегда определили общую форму “Tragedie lyrique” (так во Франции называлась opera seria), придав ей обязательную схему: содержание всегда должно иметь мифологический сюжет, развитием которого руководило постоянное вмешательство богов; в любом из пяти актов действие перерывалось “Дивертисментом” или более-менее связанными с содержанием оперы легкими танцевальными и вокальными интермедиями — где большое значение имели искусственные огни и театрально-сценические летающие механизмы, придававшие красочность балету. Здесь композитор мог применить любые французские формы танца, все типы танцевальных арий, не слишком заботясь об их драматургической общности. Музыкальной и драматической кульминацией становились неотвратимый удар “грома” и поднятая богами буря в последнем акте. Каждый композитор должен был продемонстрировать здесь умение обрабатывать “заданную” тему.
В искусстве пения Франции властвовали совсем иные взгляды, чем в остальных европейских странах, где образцом было итальянское bel canto. Франция — единственная из европейских стран, которую не смогли подчинить итальянские певцы, особенно кастраты. Иной здесь была и диспозиция голосов. Женские роли поручались сопрано или меццо-сопрано, в зависимости от характера партии (диапазон голоса в обоих случаях от с1 до g2). Для мужских ролей (также и в хоре) использовали следующие типы голосов: hautes-contre — очень высокие тенора (с-с2), поющие, вероятно, фальцетом; tailes — низкие тенора; сравнительно высокие баритоны и басы.
Жан-Филипп Рамо (1683—1764) написал свою первую оперу в возрасте пятидесяти лет, уже будучи известным композитором. На протяжении первых десятилетий своей карьеры он работал органистом в разных провинциальных театрах; в сорок лет осел в Париже, которого уже не покидал до конца жизни. Жил скромно, отдаленно от мира, тем не менее имел нескольких зажиточных покровителей. Один из них, генеральный арендатор Ле Риш де ля Поплинье, пригласил его к себе работать с частным оркестром и сделал ему протекцию при дворе. Рамо был чрезвычайно самокритичен; его жена утверждала, что он никогда принципиально не упоминал о своих произведениях, которые были созданы в первые сорок лет жизни. С того времени как он открыл для себя оперу, все другое потеряло для него всякое значение, и в течение следующих двадцати лет им было написано двадцать разнообразных сценических произведений.
Уже первая опера Рамо “Ипполит и Ариция” имела большой успех, сразу вызвав один из тех споров, которые прославили историю французской оперы и которые, признаться, всегда велись вокруг произведений Рамо. Как французский композитор, Рамо был довольно тесно связан с созданной Люлли традицией, в конце концов и сам считался ее продолжателем, не впадая при этом — как сам говорил — в “рабское подражание”. Его обвиняли в измене французской опере Люлли, в использовании итальянских созвучий (например, уменьшенного септаккорда) и написании деструктивных сочинений. “Рамисты” и “люллисты” сформировали два противоположных лагеря. В скором времени спор серьезно обострился и приобрел бурный характер: в так называемой “войне буффонов” Рамо был рьяным защитником французской музыкальной традиции (что признавали также и другие); выступал против почитателей группы итальянских комедиантов, исполнявших “La serva padrona” Перголези в форме интермеццо между актами оперы Люлли. В данном конфликте речь шла об основных принципах французской и итальянской музыки. Главным неприятелем Рамо был никто иной, как Жан-Жак Руссо, который в своем “Письме о французской музыке” осудил ее, а вместе с нею и музыку Рамо острейшими словами, признавая право на существование лишь за итальянской музыкой. В этом споре сторонники Рамо одержали верх, о чем свидетельствует громкий успех второй версии оперы “Кастор и Поллукс” в 1754 году. Двадцать лет спустя конфликт разгорелся снова; место Рамо занял Глюк, но предметом разногласий были те же различия между французской и итальянской оперной музыкой. Ожесточение, с которым происходила борьба в этом культурном споре, затрагивало даже частную жизнь. Например, чтобы встретить радушный прием во время нанесения визитов, следовало прежде всего ответить на вопрос: кто ты — “глюкист” или “пиччинист”.
Можно понять неприязнь, которую “люллисты” ощущали к Рамо. Наряду с формами, самостоятельно им разработанными и которых щепетильно придерживался (общеизвестна его приверженность к традиционализму), Рамо открыл или даже изобрел целый арсенал абсолютно новых средств выразительности и первым применил их в музыке. В определенном смысле, он писал французские оперы в старинном стиле, которые, тем не менее, звучали очень современно, более того, даже авангардно. Возможно, именно это и есть тем связующим звеном между барокко и классицизмом, которого недоставало и которое так долго искали. Гармония Рамо — с точки зрения богатства и смелости — опережала свое время на несколько десятилетий. Достаточно присмотреться к инструментовке значительных оркестровых форм (увертюры, чаконы), хоров, а также речитативов accompagniato, чтобы заметить настоящую новизну: духовые инструменты, применявшиеся в барочной музыке только наподобие регистров или сольно, у Рамо часто выполняют функцию автономной гармонической основы или прибавляются к струнным для реализации басовой линии. Благодаря этому разные эффекты могли быть представлены одновременно, не теряя своей достоверности и понятности. Считалось, что подобную технику открыл Глюк, причем позже на тридцать лет. Для усовершенствования драматического развития Рамо ввел многочисленные промежуточные формы между арией с аккомпанементом и речитативом secco. Разнообразные речитативы accompagniato, подобно как инструментовка и гармония, изобилуют красками, не встречающимися в ту эпоху, — все это дает звучание, доселе неслыханное. Партии духовых инструментов в большинстве своем облигатные, написаны всегда специфическим для данного инструмента способом: это особенно четко можно увидеть на примере фаготов, роль которых не сводится лишь к усилению баса.
Речитатив accompagniato был областью, в которой Рамо мог прежде всего отдаться воплощению ярких реалистических звуковых образов: “подражание природе” было основной идеей французской музыкальной эстетики XVIII столетия. “Гром” в пятом акте “Кастора и Поллукса”, молния, грохот, буря отображаются с помощью неистового тремоло и разнообразных пассажей струнных, неожиданных аккордов духовых и акцентированных выдержанных звуков. Пасмурный образ бури сменяется — почти как в романтической звукописи — сценой, полной солнца и тепла: из шести духовых инструментов, которые воссоздавали гром и молнии, остается только мелодичная флейта, тучи исчезают, и с чистого неба нежно и очаровательно нисходит Юпитер. Партия фагота трактуется независимо и используется исключительно для достижения колористического эффекта, что также чрезвычайно ново. Рамо первым использовал фагот в верхнем диапазоне вплоть до “а1”. Кажется, здесь истоки всех достижений классиков. Если представить, что эта опера была создана в 1737 году — когда Бах и Гендель писали свои оратории и кантаты, а новшества мангаймской школы были еще в зародыше — то можно оценить огромное значение гения Рамо для истории музыки. Опера “Кастор и Поллукс” была воспринята современниками с энтузиазмом. Де ля Борде в своем “Essai sur la Musique” писал: “Эта замечательная опера выдержала сто спектаклей с неизменным успехом у восхищенной публики; она обращалась сразу и к душе, и к сердцу, к уму, к глазам, ушам и воображению всего Парижа”. Около 1900 года “Кастор и Поллукс” снова была поставлена парижской Schola Cantorum; присутствующему на этом исполнении Дебюсси пришло в голову сравнение с Глюком: “Гений Глюка глубоко укоренился в произведении Рамо (... ). Сопоставив их между собою, можно убедиться, что Глюк мог занять место Рамо на французской сцене лишь потому, что он вобрал и усвоил все самое прекрасное в произведении этого последнего”. Дебюсси также описывает начало первого акта: “После увертюры, которая производит шум, необходимый для того, чтобы можно было уложить шелковые кринолины, возносится жалостное пение хора, отдающего последнюю дань уважения умершему Кастору. Сразу погружаемся в трагическую атмосферу, которая, тем не менее, имеет человеческое измерение, ибо в ней не ощущается античных контуров... Просто это люди, которые плачут, как и мы. Потом выходит Телаира и выражает свою боль самым трогательным плачем, который когда-либо изливался из любящего сердца (... ). Во втором акте (... ) стоило бы все цитировать... ария-монолог Поллукса “Nature, amour qui partagezmon sort” (“Природа, любовь, разделяющие мою участь”) настолько оригинальна по выразительности и настолько новаторская по строению, что пространство и время перестают существовать, а Рамо кажется нашим современником, которому мы смогли бы выразить свое восхищение после спектакля... Перейдем к последней сцене этого акта. Геба, богиня молодости, танцует во главе Небесных Утех (... ). Никогда еще ощущение спокойной и тихой неги не находило такого совершенного выражения; все это переливается до того лучезарно в атмосфере волшебства, что необходимо все спартанское мужество Поллукса, чтобы устоять против чар и продолжать думать о Касторе. (Что касается меня, то я уже порядком успел позабыть о нем)”.
В отличие от инструментальной музыки, которая преимущественно записывалась довольно подробно, композиторы сначала писали оперы в виде очерка. Так было в случае итальянских опер Монтеверди и Корелли, а также французских опер Люлли и его преемников. Однако сохранились многочисленные оркестровые голоса этих произведений, датированные временем их исполнений в Париже; для некоторых из них можно воссоздать полную партитуру. Конечно, на основании этих голосов очень трудно увидеть вклад композитора; в большинстве случаев они были творениями самих исполнителей или ловких аранжировщиков, которые, возможно, были выходцами из “мастерских” композитора. Большинство опер Рамо дошло до нас именно в таком виде. Что касается “Кастора и Поллукса”, то существуют две печатные партитуры: первая версия 1737 года и вторая — 1754, обе обработаны в виде очерка — увертюра записана только на двух нотоносцах, на которых размещены лишь несколько указаний относительно инструментовки (в Allegro встречается несколько раз “скрипки”, “гобой”, “фаготы” или “tutti”); партии флейты и гобоя иногда записаны полностью, а средние голоса — никогда. Вместе с тем динамика, включая промежуточные градации, обозначена довольно детально. Оркестровый материал, сохранившийся от первых исполнений, позволяет составить полную партитуру — как правило, пятиголосную, с двумя альтовыми голосами, и которая вызывает впечатление аутентичной. Ее совершенство наводит на мысль, что средние голоса и особенности инструментовки являются делом самого Рамо или, во всяком случае, были выверены композитором; немногочисленные указания, находящиеся в этих голосах, очень детально перенесены в печатные партитуры. Существует также целая серия обработок, которые, несомненно, не получили бы согласия композитора (так как их инструментовка очень далеко отходит от его указаний), но которые все же свидетельствуют, насколько велика была степень свободы, предоставленная исполнителям. (Существует, кстати, партитура, где — кроме флейт, гобоев и фаготов — есть также валторны, чье использование точно не входило в намерения композитора; в этой версии сольные партии фаготов поручены альтам и т. д.).
Кроме проблем текста и инструментовки, в каждой барочной опере надо также выяснить вопрос импровизации и мелизматики. В этом деле французы были намного щепетильнее итальянцев, не допускали никакого произвола, признавая единые и точно установленные правила для инструментальной музыки, требующие чрезвычайно изысканного и продуманного исполнения. В каждом отдельном случае надо было решать, какое именно украшение применить (“перед” или “после” ноты, длинную или короткую аподжиатуру, обрамление с завершением или без него и т. д.). “Даже когда украшение исполняется наилучшим образом, — говорит Рамо, — если при этом “чего-то” недостает, если оно слишком или недостаточно длинное или короткое, если его нарастание и замирание будет всегда длиннее или короче затихания звука, словом, если ему не будет хватать той точности, которой требуют выразительность и ситуация, то любое украшение навевает скуку”. Подобные мелизмы были перенесены из инструментальной в хоровую и вокальную музыку. Рамо завершает эволюцию, которая началась где-то на сто лет раньше, во времена Люлли. Несмотря на то, что он был композитором-новатором (в разных аспектах, часто даже забегая в будущее), считался однако хранителем французской оперной традиции. Сохранил “дивертисмент” и даже тот “гром” — “tonnere”, и считал, что ирреальность божественных сцен является характерной особенностью настоящей оперы. И все же Рамо сумел, как никто до него и мало кто после, открыть совершенно новые возможности, скрытые в традиционных формах.
Раздумья оркестрового музыканта на тему письма В. А. Моцарта
Письмо от 3 июля, написанное в Париже: “На открытие сезона Concerts Spirituel я написал симфонию (... ) она мне исключительно понравилась. Во время репетиции я очень расстроился, так как в жизни не слышал (и не видел) худшей игры. Трудно даже вообразить, как издевались над моей симфонией два раза кряду (... ). Я хотел, чтобы ее еще раз сыграли, но здесь столько деталей исполнения, что времени не хватило (... ). В середине начального Allegro есть такой пассаж, который должен нравиться. Увлеченные слушатели наградили его аплодисментами. Я чувствовал, что он произведет эффект, и в конце первой части повторил его снова da capo. Andante тоже понравилось, но более всего — заключительное Allegro. Я знал, что здесь заключительное Allegro обычно начинается так же, как и начальное — с tutti всего оркестра, общим унисоном. Но я первые восемь тактов начал piano, только двумя скрипками, а потом — неожиданное forte. Слушатели неодобрительно отнеслись к piano (что я и ожидал). Но вот загремело неожиданное forte... To ли слышится forte, то ли бурные аплодисменты — это будто одно и то же”.
12 июня: “... не упустить Premier coup d'archet! и этого достаточно”.
9 июля (Моцарт описывает свой разговор с ле Гро, организатором Concerts Spirituels): “Симфония имела полный успех. Ле Гро был ею очень доволен и сказал, что это наилучшая симфония его программ, хотя, по его мнению, Andante не совсем удалось, поскольку несколько длинновато и в нем слишком много модуляций. Но это потому, что слушатели забыли здесь взорваться такими же неожиданными и длительными аплодисментами, как после первой и последней части. Так думаю я и все другие знатоки, а также большинство почитателей и слушателей. Вопреки мнению ле Гро я считаю, что Andante совершенно естественное и краткое. Тем не менее, чтобы удовлетворить его (а по его мнению, также и многих других), я написал другое Andante. Оба красивы, каждое по-своему, каждое в своем характере. Теперь это второе мне тоже больше нравится”.
Первый фрагмент является отрывком одного из самых замечательных писем Моцарта, написанного в ночь после смерти матери. В первой части он старается успокоить отца и — извещая, что мать тяжело больна, — подготовить его к удару. Сразу после этого наступает живое и беззаботное описание исполнения Парижской симфонии. Для нас такое сопоставление довольно шокирующее, но для глубоко религиозных людей того времени смерть была близкой знакомой.
Парижский оркестр, для которого написана эта симфония, был довольно большим (как на то время) ансамблем. Кроме смычковых инструментов, в него входили поперечные флейты, гобои, кларнеты, фаготы, валторны, трубы и литавры. Тем не менее, звучание того оркестра мы должны представлять как нечто противоположное тому, к чему привыкли теперь: старинные смычковые инструменты звучали тише и очень проникновенно; валторны и трубы были вдвое длиннее и имели меньший, чем сейчас, диаметр, вследствие чего звучание было более слабым, но — собственно относительно труб — ярким и агрессивным; вентилей еще не существовало, извлекать можно было только натуральные звуки. Деревянные духовые инструменты также звучали тише, но каждый из них имел довольно характерное звучание. В итоге тогдашний оркестр — даже в forte — звучал менее массивно, чем идентичный современный коллектив. Его звучание было более красочным, менее округленным и не таким монолитным, как теперь. Дирижера не было, знак для вступления подавал первый скрипач.
Отчет Моцарта об исполнении симфонии сейчас для нас особенно интересен, тем более что подобное ценное свидетельство композитора говорит нам не только о реакции публики на эффекты, но также о тщательном планировании подобных эффектов. Моцарт изучал программы Concerts Spirituels и вкладывал в произведение всю свою изобретательность для достижения максимального эффекта. Жаль, что мысли Моцарта относительно впечатления, которое вызывала эта Симфония, не напечатаны на первой странице партитуры. Это было бы неоценимой помощью для многих дирижеров, которые заботятся об аутентизме и не имеют этого письма перед глазами.
Симфония начинается унисоном forte. To “Premier coup d'archet” — неожиданное forte всех струнных — было известной особенностью Concerts Spirituels, ожидаемой в начале каждой симфонии. Какая же чуть ли не детская радость переполняла Моцарта по поводу эффекта, примененного в финале! Вместо ожидаемого forte — поскольку “coup d'archet” был ожидаем и в начале последней части — указывает первой и второй скрипкам играть тихим, филигранным дуэтом, чтобы вызванное таким образом напряжение разрешить восемью тактами позже в звучании forte всего оркестра в унисон. К сожалению, лишь немногие исполняют данную симфонию таким образом.
Какой же это фрагмент из первой части “увлеченные слушатели наградили аплодисментами”? Речь идет о нежном пассаже струнных, которые играют spiccato в октаву, вместе с длинными аккордами флейт и гобоев и пиццикато в басу. Этот фрагмент, о котором Моцарт во время сочинения уже знал, что он “произведет эффект”, теперь в большинстве случаев играется обычно так, Что на него никто не обращает внимания. Нынешний слушатель не замечает в нем ничего особенного. Композиторы минувших эпох могли рассчитывать на внимательную аудиторию, которая разбиралась в музыке, была способна подмечать каждый новый замысел, каждый инструментальный эффект, каждую мелодическую и гармоническую особенность и с восторгом реагировала “за” или “против”. Нынешняя публика концентрирует свою заинтересованность не на композиции, а на исполнении, которое оценивает — надо это признать — со знанием дела.
Замечания относительно публики тоже очень интересны. Моцарт абсолютно не испытывает неприязни к аплодисментам между частями, а также во время самой музыки, в некоторой степени даже предусматривает их. Такие проявления признания были для композитора свидетельством того, что его поняли. Во время первого исполнения часть музыки должна была обязательно затеряться в шуме, поднятом публикой; из-за этого репризы также приобретали особое значение. После полного сосредоточения при исполнении Andante аплодисментов, очевидно, не было. Сегодня мы не знаем первичного Andante, которое Моцарт считал наилучшим из всех частей, хотя и признавал вместе с тем, что второе ему не уступает: “Оба хороши, каждое по-своему”. По реакции публики видно, как глубоко изменился способ музицирования и слушания музыки. Раньше слушатели стремились, чтобы их постоянно удивляли дотоле неслыханными новинками. Они также с готовностью провоцировались ко взрывам энтузиазма, если какому-то гениальному композитору удавалось придумать что-то очень эффектное. Уже известное, знакомое никого не интересовало, все стремились к новому и только к новому. Вместе с тем сегодня интересуются только тем, что известно и даже чересчур известно. Желание слушать только знакомые вещи оказалось, в конце концов, уж слишком обычным — во всяком случае мы, музыканты, чувствуем подобное особенно отчетливо, когда через короткие промежутки времени несколько раз для той же самой публики исполняем, например, Симфонию № 7 Бетховена или когда с неудовольствием отмечаем отсутствие интереса у публики — а иногда и у дирижеров — к неизвестным произведениям (как современным, так и давним).
Это приводит к еще одной, к сожалению, печальной рефлексии, которая также возникает после прочтения письма Моцарта. Композитор горько и отчаянно жалуется, что его симфонии посвящено очень мало репетиционного времени. “Имею здесь столько вещей для исполнения, что не хватило времени... ” В определенных фрагментах “Парижской симфонии” даже нынешние оркестры встречаются с трудностями, которых никак не преодолеть на протяжении двух репетиций, достаточно вспомнить хотя бы тот дуэт скрипок из начальных тактов финала. Если ныне исполняется какая-то симфония Моцарта или Гайдна, кроме тех трех или четырех наиболее известных, то она обречена на жалкую судьбу Золушки. Дирижеры большую часть времени на репетициях посвятят “презентационному” произведению, венчающему программу, которое, как правило, известно всем музыкантам наизусть, и под конец последней репетиции быстро пролетят через симфонию Моцарта, которая служит чуть ли не в качестве “разогрева” в начале программы: “это же очень легко”. Таким образом произведение, которое, без сомнения, должно быть центром большинства программ, равнодушно импровизируется при публике, которая слушает тоже без интереса.
Никто не сомневается, что Моцарт принадлежит к самым крупным композиторам всех времен. Однако на практике большая часть его творческого наследия не привлекает достойного внимания — предпочтение отдается произведениям несомненно меньшего качества. Неужели все дело только в громкости звука?
Судьба оркестровой музыки Моцарта довольно печальна. Значительную часть его прекраснейших произведений почти никогда не исполняют. И мы все еще очень далеки от того, чтобы по достоинству оценить одного из величайших гениев человечества.
Послесловие
На протяжении многих лет моей деятельности как музыканта и педагога накопилось достаточное количество статей, лекций и докладов, из которых я отобрал помещенные здесь тексты. Слегка их переработал, сохраняя все же характер разговорной речи. Статья “Об интерпретации музыки минувшего” написана в 1954 году, это мое первое письменное заявление на эту тему и вместе с тем кредо родившегося в то же время коллектива “Concentus Musicus”. Раздел, открывающий книгу “Музыка в нашей жизни”, — это благодарственная речь, провозглашенная после присуждения мне премии имени Эразма в Амстердаме в 1980 году и наиболее поздний текст этой книжки.
При отборе я учитывал, прежде всего, общие темы. Статьи, посвященные Монтеверди, Баху, Моцарту или композиторам, на чьей музыке я концентрируюсь в своей практике, исключал, поскольку предусматриваю для них отдельную публикацию.
Выражаю особую благодарность госпоже др. Иоганне Фюрштауэр, которая собрала и привела в порядок все тексты. Без нее эта книжка не смогла бы появиться.
Николаус Арнонкур.