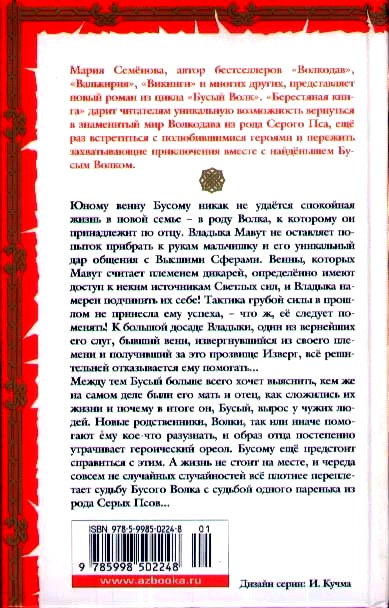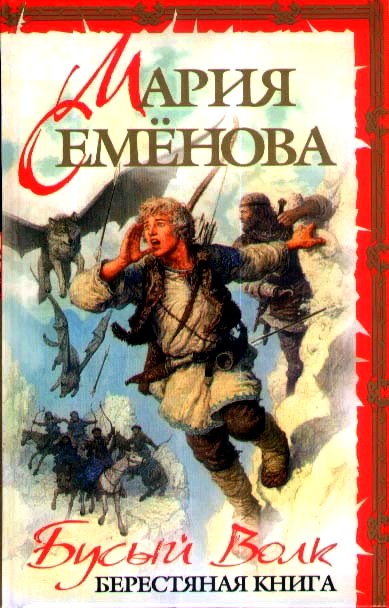

Мария СЕМЁНОВА, Дмитрий ТЕДЕЕВ
Бусый Волк
БЕРЕСТЯНАЯ КНИГА
Авторы сердечно благодарят
Евгения Пугина,
Сергея Яцуненко,
Юрия Хвана,
семью Селивейстровых,
Олега Черняева,
Юрия Алёшкина,
Юрия Лаврова,
Александра Сляднева-младшего
и ещё многих,
умеющих то, чего не дано нам.
Спасибо, друзья!

ЛАТГЕРИ
Тёмное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчётливо зловещего мрака.
Быть может, уцелевшим жителям деревни эта тьма казалась спасительной и благодатной, но Латгери распознал в ней неотвратимо-тяжеловесную поступь гибели.
Чужой мрак шёл к нему семивёрстными шагами, чтобы растоптать уже окончательно, и он не промахнётся…
За первой громадиной-тучей, налетевшей с востока, клубился сомкнутый строй таких же чёрных великанов, переполненных тяжёлым, сокрушительным гневом. Остриё этого гнева искало Латгери и должно было рано или поздно его отыскать, но мыслимо ли сразу нашарить в беспорядке свежего бурелома маленькую обречённую жизнь?.. Тьме не будет позволено даже на время стать милосердной. Небо вспыхнуло от края до края, разорванное ветвистой огненной молнией.
Латгери не успел зажмуриться и увидел среди туч рыжебородое мужское лицо, застывшее от горя и ярости. Целый миг, показавшийся бесконечным, Небесный Воитель смотрел прямо в глаза мальчишке, распластанному на земле. Латгери успел понять, что вот сейчас просто умрёт от непереносимого ужаса, но миг кончился, и на земную твердь обрушился звук удара Божественной Секиры. Чудовищный гром расколол и заполнил собой мироздание, заложил уши, вышиб напрочь способность соображать, бояться, ощущать боль…
Вселенная содрогнулась, и тут же последовала новая вспышка, новый, ещё более страшный громовой удар, счастливо прошедший мимо сознания Латгери… — а за ним ещё и ещё. Стеной хлынул дождь, уже не солёный, исторгнутый продранным брюхом Змеёныша, а самый настоящий, тёплый и пресный. Бог Грозы нёсся над ночным лесом, гвоздя удирающего Змеёныша своей Огненной Секирой, и каждый такой взмах, должно быть, открывал Ему новые причины для гнева.
Лес, над которым летела облачная колесница, был чудовищно осквернён и изгажен. Злую силу, сотворившую непотребство, отбросила совокупная воля людей и заступницы Луны, последние поганые остатки её корчились в божественном грозовом пламени… Но там, внизу, по зелёной плоти Земли неровной полосой пролёг уродливый след, и его сумеет теперь залечить лишь неторопливое время.
Только вчера здесь высились стройные великаны-сосны, совсем недавно радовали глаз своей красой и величием, задевали кронами облака, о чём-то шептались со звёздами… Ныне лесное воинство было вырвано с корнем, медовые стволы — исковерканы и расколоты в щепы, свежая хвоя — смешана с грязью.
Как будто прекрасное женское лицо перечеркнули ударом безжалостного кнута…
Страшно гневался Бог Грозы и люто досадовал, мало не опоздав оборонить свою землю от нежданной беды.
Тучи тяжело ворочались в небе, умывали раненый лес, силились очистить от скверны…
Тугие струи дождя пробудили Латгери от беспамятства. Глаз он больше не раскрывал, но того первоначального страха уже не было. Ну пришиб бы его Небесный Воитель, дальше-то что? Далеко не самое страшное, что с человеком может случиться… Лёжа на спине с раскинутыми руками, Латгери ловил ртом небесную влагу. Не потому, что так уж мучился жаждой. Не потому, что от этого питья ему мог быть какой-нибудь прок. Просто открывать и закрывать рот, глотать дождевую воду было единственным, что он теперь мог.
Латгери плоховато помнил, что же с ним стряслось. Кажется, его зацепило, когда венны сумели как-то отпугнуть или одурачить Змеёныша и ошалевшее чудище накинулось на своих. Не помогли ни завесы Свирелей, ни спешно воздвигнутые охранные заклинания! Кто мог предвидеть подобное? Латгери, как все, смотрел вверх, в вихрящееся жерло, падавшее им на головы, и, как все, не мог поверить собственным глазам… Зато смог заметить, как лопнула, словно изнутри взорвавшись, крона высоченной сосны. Как мелькнул толстый сук или даже обломок ствола, который швырнуло вниз, именно швырнуло, ибо летел он быстрей всякого падения, только Латгери почему-то успел с тошнотворной окончательностью понять — не просто так летит, а именно к нему… и увернуться, отскочить уже никак не получится… Тяжёлый обломок в самом деле настиг Латгери и вроде даже не особенно сильно задел его по загривку… и краем сознания он успел с облегчением отметить ничтожность ушиба: подумаешь, назавтра и не вспомню… только ноги почему-то сразу же подкосились… да не просто подкосились, пусть и удивительно бестолково, а как бы вовсе исчезли… растаяли… сразу и окончательно… Латгери увидел их нелепо раскинутыми и чужими, утратившими ощущение, а дальше была тьма.
Та самая, которой не позволили даже на время стать милосердной.
Очнувшись в первый раз, ещё до грозы, Латгери сразу вспомнил о беде с ногами и, не теряя самообладания, решил их ощупать…
Оказалось, руки тоже не повиновались ему.
Вот когда навалился непроглядный, нерассуждающий ужас, Латгери открыл рот заорать, чтобы хоть так выплеснуть из себя малую толику вселенского страха… Рот смог исторгнуть всего лишь слабенький не то хрип, не то стон. Тогда Латгери рванулся изо всех сил, сумел дёрнуть ещё повиновавшейся ему головой — и опять провалился в беспамятство, на сей раз от боли.
Теперь он лежал очень тихо, глотал дождь и пытался сообразить, что же ему теперь делать. Делать? Вернее, как теперь быть… насколько, собственно, это вообще от него зависело…
Отчасти утешало только одно. Есть боль — значит, есть жизнь. Вот если боль начнёт утихать, тогда вправду останется лишь стиснуть зубы и молиться о скором конце. А пока что-то вспыхивает огнём и жжёт сотнями раскалённых углей, значит, не исчезла надежда сделать ещё усилие и переплавить эту боль в движение и жизнь…
Латгери согласен был вынести любое страдание ради того, чтобы шевельнулся хоть палец, но пока ничего не получалось. В свои неполные тринадцать зим он хорошо знал, что происходит, когда у человека перешиблен хребет. И это знание заставляло его яростно гнать прочь все мысли о раздробленных позвонках и оборванной мозговой жиле. Нет! Латгери не собирался сдаваться. «Я просто сильно зашибся. Сейчас я немного отдохну, соберусь с силами — и встану. Я обязательно встану. Заставлю это глупое тело подняться, и пусть только посмеет ослушаться…»
Он помнил, как ему удалось дёрнуть головой, и решил повторить это движение, только не столь резко, чтобы снова не провалиться в беспамятство. Собравшись с духом, Латгери напряг мышцы… Разум немедленно залила гасящая сознание боль, но мальчишка был готов к ней и лишь заскрипел зубами от ярости, силясь сдвинуть голову ещё хоть на вершок.
Он поворачивал её влево: он чувствовал, что там, совсем недалеко, находился кто-то живой.
Когда глаза всё-таки залила чернота, сквозь которую были бессильны пробиться поредевшие вспышки Небесного Огня, а гул в ушах похоронил даже звуки громовых раскатов, — голова Латгери перекатилась на сторону. «Я смог! Пока совсем немного, но смог! Главное — начало… Я — Латгери… Я не зря ношу это имя…»
Вот только дальнейшие успехи покамест не торопились к нему. Латгери лежал на холодной мокрой земле, раз за разом собирая на вдохе волю в огненный шар. Он сжимал этот шар в плотный жгучий комок и на выдохе пускал его вдоль позвоночника, по рукам и ногам, приказывая ожить, заранее ощущая, как это будет…
Руки и ноги всё не оживали. Тело оставалось чужим и мёртвым, ниже шеи его как бы даже вообще не существовало. Латгери сумел кое-как повернуть голову, но приподнять её и посмотреть на себя было за пределами его сил.
И он — нет, не прекратил, а лишь временно отложил! — эту борьбу, решив для начала рассмотреть того, кто тихо сипел и задыхался где-то поблизости.
О да, совсем рядом умирал человек. Не просто мучился беспомощностью и болью, как вполне живой Латгери, а именно умирал, в этом никаких сомнений быть не могло. Латгери успел повидать смерть в самых разных её проявлениях. И он нипочём не ошибся бы, спутав умирающего от ран с просто раненным, даже весьма тяжело. Даже если слышал только дыхание.
Ему понадобилось до предела скосить глаза, но всё же при вспышке далёкой молнии Латгери сумел разглядеть силуэт человека, вроде бы обнявшего высокий расщеплённый пень. Человек стоял, прижимаясь к дереву грудью и держась руками за лезвия длинных смолистых мечей, в которые ярость Змеёныша превратила прочное дерево…
«Зуррат, — с первого взгляда узнал его Латгери. — Зуррат…»
Голова десятника медленно покачивалась туда-сюда, мокрая грива спутанных волос не давала рассмотреть лицо, однако Латгери успел увидеть достаточно, чтобы воочию представить глаза, закатившиеся под лоб, и ощеренный рот, хрипящий в последней муке. Стоять-то Зуррат стоял, но только потому, что упасть уже не мог. Та самая сила, что отняла у Латгери способность к движению, играючи насадила Зуррата на острый древесный отщеп и оставила умирать на нём, как на колу.
Вот забавно, старый десятник, которого никакое чудо уже не могло спасти, всё никак не желал расставаться с ускользающей жизнью, всё длил и длил её мучительные мгновения, и пропоротая грудь, надо же, совершала очередной вдох…
Для Латгери его сипящее, хлюпающее дыхание вдруг зазвучало сладостной музыкой. Сосредоточившись, он принялся жадно пить страдание Зуррата, смакуя каждый глоток драгоценной силы, припадая к источнику волшебного могущества, равного которому не знал даже Владыка. О да, Зуррат всегда был силён, и неравная схватка со смертью высвобождала сейчас всю его силу, всю до конца, заставляла извлекать её из самых тайных глубин…
Латгери пил, как прежде грозовую воду, пил и старался не обронить ни капли.
Пожалуй, умирать Зуррат будет ещё долго, его мучения вряд ли прервутся до рассвета. А значит, Латгери посетило везение, какого вряд ли дождался бы недостойный. До рассвета надо успеть так насытиться жгучей силой не желающего умирать чужого тела, чтобы обязательно суметь пробудить к жизни тело собственное. А дальше… А там видно будет, что дальше. Сейчас — пить, глотать, впитывать в себя силу… Только бы ничто этому не помешало…
К тому, кто думает о победе, приходит победа. А того, кто ждёт отовсюду погибели, эта самая погибель очень скоро и настигает.
Между переплетением изломанных древесных стволов Латгери увидел цепочку зеленоватых огоньков, то ли отражавших Луну, то ли наделённых собственным светом… Огоньки приближались бесшумно и очень быстро. Серые волки, братья веннов, именовавших себя Волками. Наверняка они теперь прочёсывали чашу в поисках уцелевших врагов…
Латгери даже толком испугаться не успел, настолько всё быстро произошло. Вот вокруг приблизившейся пары зелёных огней сгустилась лесная тьма и обернулась… Ох, что это был за волк!..
Мальчишка, думавший, что уже неспособен чего-либо бояться, испугался до такой степени, что сделал худшее из возможного: представил себя мёртвым. Даже не представил, это не то слово, — на какое-то время он действительно стал мёртвым. Латгери умел это делать, жестокая наука Владыки не прошла даром. Только став мёртвым, можно превратиться в непобедимого воина. Только мёртвый может воистину почувствовать движение чужой жизни. И не просто почувствовать, но и предвосхитить это движение, распознать его задолго до того, как оно состоится. Чтобы оборвать жизнь сильного врага, надо ощутить его жизнь лучше, чем сам враг. А для этого необходимо вначале умереть. Зря ли говорят, что путь воина — это стремление к смерти!
И Латгери умер. Перестал дышать, ощущать страх и ненависть, вообще перестал мыслить. Он не вздрогнул, даже не моргнул, когда холодный волчий нос ткнулся в его лицо. Волк немного постоял над изувеченным мальчишкой, обнюхивая человеческое дитя, зачем-то прикинувшееся пищей, потом отошёл к взрослому человеку, хрипевшему неподалёку.
Этот чужак тоже вошёл в лес со злом. Он умышлял против людей, кровных братьев лесных охотников. В обоих постепенно затихало биение жизни. Хорошо… Незачем вести сюда двуногую родню… Волк, фыркнув, шагнул прочь и сразу исчез, растаял в ночи без следа.
Латгери ощутил его уход и попытался вновь вернуться к жизни. Получалось плохо, погружение в смерть оказалось слишком глубоким. Возвращение и раньше скверно удавалось ему, а уж теперь… Теперь, когда его жизнь трепетала, как язычок пламени на порывистом ветру, а пучины беспамятства обещали такой долгожданный, такой желанный покой…
«Ну нет, — сказал себе Латгери, и ярость вернулась к нему. — Я не умру. Пусть явится настоящая смерть и призовёт меня, но и тогда я ей не поддамся без боя! Никто и ничто не сможет меня победить, покуда я сам не признаю своего поражения! А я его нипочём не признаю…»
Слабо застонав от жестокого напряжения, мальчишка ощутил наконец, что сумел нащупать и зацепиться за тонкую ниточку собственной жизни. Вот и славно. Теперь — вслушиваться в утробные хрипы умирающего Зуррата и пить, пить, пить драгоценную силу, собирать, взращивать, копить её в себе. Латгери ещё поборется, ещё сумеет сразиться с врагами, ощутить сладость крови, выпущенной из их жил. Он ведь Латгери, он непременно сумеет!
Неспроста же Владыка дал ему это имя… И пообещал при всех, что, мол, этот маленький Латгери когда-нибудь станет настоящим Латгаром! А пока и Латгери, стало быть, великая честь! Сказал, и сопляк-мальчишка всей кожей ощутил лютую зависть взрослых, опытных воинов. Ещё бы! Мавут наградил его именем зверя, никогда не сдающегося в бою. Да, он убежит от заведомо более сильного, потому что безрассудная храбрость есть глупость. Но когда бежать некуда, латгар не начнёт трусливо молить о пощаде. Он примет бой, кем бы ни был стоящий перед ним враг. Без страха и сомнений бросится он навстречу погибели и станет биться яростно и отважно. И чего доброго, ещё одержит победу!
Кто же мог предвидеть, что решительный бой придётся вести в мокром ночном лесу, где никто не увидит его малодушия и не воспоёт его мужества… Латгери всё равно не сдастся и не отступит, просто потому, что он — не кто-нибудь, а Латгери! Крысёныш!
ВОЛЧОНОК
Небо в восточной стороне начинало понемногу светлеть и вот уже явственно засинело, отделилось от чёрной стены леса, густая предрассветная тьма начала таять и торопливо отбегать в по-прежнему непроглядную чащу… Всё равно даже там ей не отсидеться! Ещё немного, и юный Бог Солнца явит себя просыпающемуся миру, согреет его ласковым теплом, озарит ярким светом, от которого тьме не спастись и в самом густом подлеске, под старыми корягами и замшелыми валежинами. В кротовые норы, в глубокие подземелья загонит её пресветлое утро…
Сторонний путник, бредущий без дороги глухими лесами веннской страны, этого самого утра ждал бы если не как избавления, то уж точно как позволения снова тронуться в путь. Не таковы здешние чащи, чтобы кто попало разгуливал здесь по ночам! Тут же провалится нога сквозь сплетение скользких корней, и хорошо, если кости не хрустнут. А вытащишь ногу, и в лицо, в самые глаза ткнутся острые, обломанные концы нависших ветвей. Успеешь отвести их ладонью, и вот уже крутанулся камень под сапогом, и вот уже ты съезжаешь куда-то с отвесного гранитного лба, и не за что зацепиться, и высоко ли падать и что ждёт на дне — неведомо, покуда не долетишь…
Надо думать, такого путника насмерть перепугали бы шестеро молодых Волков, парней и подростков, легконогих и босых, во всю прыть бежавших сквозь подёрнутые туманом непролазные дебри. Мелькнули бы в самых дальних отсветах костерка — и исчезли, не остановившись, даже шага не сбив… и оставив бедного путника до утра творить охранительные знамения: люди то пробежали? Или, может, бесплотные духи лесные?..
А им что, Волкам, они были здесь дома. И лес свой знали не хуже, чем избы с дворами. Те самые ловчие корни и опасные кручи стелились им под пятки ровной дорожкой, а хищные сучья лишь расчёсывали пепельно-русые кудри.
Особенно теперь, когда венны из рода Волков спешили ему, лесу, на помощь.
Ну ладно, не всему лесу, конечно, а только одному существу, ждавшему спасения, но всё равно…
Перепрыгивая кусты, Бусый всё прислушивался к ровному дыханию бежавшего сзади Ульгеша. Была у чернокожего парнишки удивительная способность пускаться с другом-венном, с Бусым то есть, в разные вылазки, куда его звать, в общем-то, не собирались, полагая затеваемое дело чуждым Ульгешу и по рождению, и по сноровке, — а он увязывался всё равно, причём делал это как-то так, что замечали его уже погодя, когда поздно бывало ради него возвращаться. И шёл себе, и, глядишь, радел о веннских делах, словно тут родился, да ещё и сноровку являл вполне удивительную для умника и тихони. Что когда-то на лыжах, что вот теперь. Видно, правду молвил дедушка Аканума, отец парня действительно был великим вождём. А и не ошиблась веннская поговорка, утверждавшая — доброй крови не спрячешь… как и дурной…
Двое друзей быстрыми ящерицами пробирались сквозь месиво изувеченных стволов, мягко касаясь, словно поглаживая их ладонями. И Бусого вдруг остро кольнула жуткая мысль, что опорой его рукам служили не бесчувственные брёвна, а ещё живые, израненные тела. Не умея отступать, зелёные воители приняли неравный бой с лютым врагом, пали на родную землю и теперь отдавали ей последнюю кровь. И даже того больше: воины эти его, Бусого, ласковые прикосновения ощущали и всем сердцем на них откликались…
Ощущение было мимолётным, нахлынуло и исчезло. Позволить себе в этом беге-полёте отвлечься на постороннюю мысль значило тут же расшибиться о пень или корягу. А расшибаться было нельзя, недосуг. Следовало спешить. Братья ждали подмоги.
После нападения Змеёныша на деревню никто из Волков в эту ночь так и не сомкнул глаз. Не до того было. Все понимали, что Змеёныш явился не сам по себе, его сюда привели, привели враги, и враги эти, именем Мавутичи, были где-то недалеко. А ещё было очень похоже, что раненый Змеёныш, обозлённый нежданным отпором, уже издыхая, набросился на самих Мавутичей. Здорово небось потрепал, но вот насколько здорово? Вдруг кто-то уцелел? И захочет всё-таки сунуться в деревню?
Если их хозяин Мавут хоть вполовину соответствовал тому, что говорил о нём Бусый, это были не пустопорожние страхи. А что, пускай попробуют сунуться, коли так уж охота. Есть чем встретить. И проводить…
Мавутичи — это не Змеёныш! Отчего ж с ними не совладать и без помощи свыше!
Оттого Волки — и взрослые охотники, и старики, и женщины, и детвора — все до единого простояли ночь под открытым небом. Впитывали в себя огненную ярость Божественной грозы, торжественно очищались от скверны, принимали священное омовение тёплым грозовым ливнем. А когда Громовержец унёсся на сверкающей колеснице прочь — стали вслушиваться в начавшуюся перекличку своих братьев, лесных волков. Летом волки в стаи не собираются, ни к чему, но сегодня случай был особый, и на призывный клич вожака собралась вся большая семья. Собралась — и словно частой гребёнкой принялась вычёсывать лес, отыскивая, как поганых блох, уцелевших врагов.
Нашли очень немногих. Да и то — совсем неопасных, о чём тут же и оповестили двуногих братьев в деревне.
А незадолго до рассвета позвали на помощь.
И как только Волки услышали этот призыв, Севрюк тут же, не мешкая, отправил в путь пятерых юнцов, считавшихся самыми быстроногими. И Ульгеша, дёрнувшегося с ними, ни рукой, ни словом не остановил. Поди не лишним окажется. Нечасто звала на помощь лесная родня, но уж если звала…
Мальчишки добрались до места, когда стало почти светло.
Бусый с Ульгешем добежали чуть вперёд остальных, последнюю валежину они перепрыгнули разом, но зрелище двух серых теней, поднявшихся навстречу, заставило потомка Леопарда сбиться с ноги. Ну то есть на чернокожего мальчишку никто не собирался нападать, он не был врагом волков и Волков, но он не был и Волком, и оба зверя покосились на него так, что он счёл за благо остановиться.
Бусого они встретили, точно любимого брата.
Когда валежину перелезли остальные подростки, слегка отставшие и задохнувшиеся от напряжённого бега, Бусый уже стоял на коленях, с очень прямой спиной, и… безмятежно улыбался. Совершенно особой улыбкой, породило которую отнюдь не веселье. На его ладони, протянутые вперёд, сквозь разошедшийся туман упал первый солнечный луч, и Волчатам на миг показалось, что руки парня источали собственное золотое свечение.
Ибо он их простирал над телом волчонка. Рядом лежала мёртвая мать, жутко бесформенная, похожая на смятую тряпку. На волчицу с малышом рухнул кусок толстого сучковатого бревна, обломок дерева, никогда не виданного в здешних краях. Откуда приволок его Змеёныш, из какого отравленного, напоённого злом далека?.. Волчице повезло, она умерла сразу и не слышала жалобного плача сынишки. Острый сук воткнулся под правую лопатку волчонка и, словно копьё, пронзил его насквозь, чтобы уйти глубоко в землю. И этот же сук остановил непомерную тяжесть чужого бревна, не позволив ему оказать малышу последнюю милость.
И волчонок ещё жил, ещё с болью и надеждой, с тихой радостью смотрел на родню. Бусый сумел даже на время облегчить его страдания, отвести боль, и неразумное звериное дитя решило, что теперь уж всё будет хорошо. Наконец-то его нашли свои. Взрослые, умные, сильные и добрые родичи. Больше не о чем плакать, теперь его обязательно спасут. Неважно как, что-нибудь придумают.
Вот только мама не отзывается…
Пользуясь тем, что волки вроде бы больше не обращали на него пристального внимания, Ульгеш обошёл крутом бревна, присел рядом на корточки, осторожно коснулся… Да-а, под рукой ощущалось совсем не то, что успела запомнить ладонь во время бега по лесу. Змеёнышу понадобилось вывалить посреди суши топляк, умерший так давно, что все воспоминания о зелёной солнечной жизни успели захлебнуться тёмной мёртвой водой… если и были они когда, эти воспоминания! Правда, изначально мёртвых деревьев никто не видал, как им, мертворождённым, расти-то? Тем не менее Ульгеш сомневался. Он знал подобные топляки, что таились в стоячей непроглядной воде, как уснувшие крокодилы. Вздумаешь наступить, и нога не найдёт опоры в осклизлом гнилье. Но, если надо защемить лодку или остановить плот, тот же самый топляк внезапно обнаруживает железную крепость. Все ножи затупятся, иззубрится лезвие топора, покуда перерубишь последний сучок…
Сук, который нужно перерубить…
И нож, который не иззубрится и не затупится…
Ульгеш подхватился с земли, осенённый, оглянулся на друга…
Бусый всё так же улыбался особенной улыбкой, его правая рука продолжала творить странные, но завораживающе красивые и полные силы движения над телом распластанного малыша, а левая в это время…
Левая рука Бусого тянула из поясных ножен подарок Крылатой родни.
Вот он погладил волчонка по голове, низко наклонился к нему, что-то прошептал в мохнатое ухо…
И Ульгеш замер, так и не произнеся ни звука. Перед ним вершилось Волчье таинство, в котором ему, чужеплеменнику, не было места. Что сейчас сделает Бусый? Быстро и милосердно взмахнёт ножом, чтобы мама наконец-то отозвалась волчонку — уже там, в священных лугах, куда добрые звери возносятся между вздохами, прямо посередине прыжка, не очень-то и заметив мгновение смерти?
— У меня отец почти так же напоролся, — самым обычным голосом сказал Бусый юному мономатанцу. И примерился лезвием к окровавленному сучку. — Помнишь? Ну, тогда?
И Ульгеш сразу вспомнил, и снова начал дышать, и услышал в утреннем лесу робкое, какое-то растерянное, но всё же пение птиц, и понял, что жизнь будет продолжена.
— Две слеги приготовьте, потолще да подлиннее, — распоряжался Бусый. — И с разных сторон под бревно их подсуньте. Вот здесь и вот здесь…
Не надо учить венна, как жить и обходиться в лесу, даже если венн этот — сущий мальчишка. Ребята мигом вырубили надёжные жерди, напоминавшие скорее нетолстые брёвнышки, — из неломающейся рябины, и то-то, знать, радовалось славное дерево, сбитое бурей с корней, но сумевшее оградить ещё одну жизнь!
Бусый быстро и осторожно работал в это время ножом, надрезая сук над спинкой волчонка. Ульгеш поднял отлетевшую деревяшку… На миг он почти ужаснулся, заподозрив в ней благородный маронг, но только на миг. Древесина маронга отливала глубокой бархатной краснотой, а здесь был цвет мертвечины.
Мальчишки между тем приспособили слеги под бревно, примерились, взялись поухватистей, приготовились…
— Давайте потихоньку… Потихоньку, сказано вам! Так, ещё… Ещё немного… Стой… Ещё… совсем чуточку… Вот так замрите!
Крепкие Волчата и Ульгеш не посягали откатить в сторону Змеёнышево бревно, они лишь подвесили непомерную тяжесть на своих слегах, в то время как нож Бусого плавно скользнул поперёк подрезанного сука — и отделил его от ствола. Волчонок слегка трепыхнулся, но не взвизгнул.
— Теперь выше поднимайте! Ещё! Держите!
Перехватив нож зубами, Бусый подсунул одну ладонь под брюшко волчонка, а другой принялся выгребать из-под него дёрн. Устроив ямку, начал кромсать лезвием нижнюю часть глубоко воткнувшейся деревяшки…
Бревно висело у него прямо над головой, цепляя крючьями веток волосы на затылке, но кому ещё доверит себя венн, если не кровной родне да стальному клинку? Не подвели ни нож, ни родня. Сук распался под лезвием, как масло. Спасибо тебе, Брат Огня из племени вилл, пусть небо всегда будет просторно под крыльями твоего симурана!..
Бусый выпрямился.
— Бросай!
Змеёнышев топляк с многопудовым глухим чмоканьем лёг на прежнее место, просев во мху ещё ниже, потому что его больше не поддерживал сук. Парни вытирали рукавами рубашек мокрые лица.
Волчонок лежал на ладонях у Бусого, маленький, мокрый и жалкий, почти такой же бесформенно-смятый, как и его мать, но — живой. Пока ещё живой. Вот он было решил, что уже стало всё хорошо, и попробовал шевельнуться, но тут же взвизгнул и снова притих.
Бусый наклонился к нему:
— Держись, малышка.
Его ладони поили теплом замёрзшего, измученного волчьего ребёнка. Тот вдруг чуть повернул голову и… лизнул Бусого в щёку.
«Летун…»
Беспокойная память немедля подсунула предсмертное пожатие Летуновой пасти.
«А что, если…»
Нет. Летун был собакой, веннским волкодавом, а собак в роду Волков не держали. Зачем, если есть братья волки? Но братья волки обитали в лесу, а не во дворах. Такой не будет ждать хозяина на пороге и умывать ему языком заплаканное от горя лицо. Волк — плохая собака, как и собака — плохой волк. Кого выбрать? И надо ли выбирать?..
«Может, я скверный Волк… или не совсем Волк, я же только по отцу…»
Бусый шёл, очень быстро шёл, размашисто и мягко ступая. Быстрее в деревню, к дедушке Соболю! Вот бы ещё изловчиться через тот завал с волчонком на руках перелезть? Ладно, там видно будет, не перелезем, так обойдём!
«А что, если я в самом деле нового Летуна на Руках несу?..»
ПЛЕВОК
Солнце стояло уже высоко, когда венны разбрелись по Змеёнышеву Следу в попытке сообразить, сколь же дорого обошлась победа их лесу, а стало быть, им самим. Не задело ли ближние ягодники и болотце, питающее ручей Бубенец? Не затронуло ли Журавлиные Мхи, на которых вернувшиеся птицы как раз выводили птенцов?..
Постороннему человеку Волки напомнили бы погорельцев, которые, отстояв половину дома, довольно-таки растерянно бродят среди головней, оставшихся от второй половины, и внешне бесцельно перебирают измазанную копотью утварь: что уцелело, что нет? Что может ещё сгодиться в хозяйстве?..
Густо пахло разогретой солнцем смолой, точно на лесосеке, когда расчищают землю под огород.
— Я читал в книге про такой След, уразивший[1] землю Нарлак, — сказал Ульгеш. — Путешествующие доносят, будто он занимает чуть не четверть страны. Купцы гонят упряжных лошадей по два-три дня, не смея остановиться на отдых или ночлег!
Бусый покосился на мономатанца и недоверчиво хмыкнул. Он уже попривык доверять учёности друга, но это было уж слишком. Такое вот жуткое месиво вздыбленных корней, обломанных веток, земли, травы и воды — да на трое суток пути?..
— Ты лучше подумай, — сказал Ульгеш, — каков должен быть тамошний Змей, чтобы подобный След сотворить!
Бусый честно попробовал. И почувствовал себя букашкой, которая увернулась от воробья и взялась за победные песни, полагая, будто страшней воробья нет птицы на свете. Ощущение было не из тех, от которых за плечами появляются крылья. Бусый нахмурился и буркнул:
— Беззаконный народ, верно, живёт там, в этом Нарлаке. Иначе с чего бы такой Змей раз за разом находил к ним дорогу!
Ульгеш спокойно отозвался:
— Можно и так сказать, а можно по-другому. Например, что нарлакскому племени особое дело на свете отведено, за все другие народы против Змея стоять… — смутился под изумлённым взглядом Бусого и поспешно добавил: — Это не я выдумал, это Салегрин Достопочтенный так пишет, и Эврих из Феда не опровергает его…
А Бусый оглянулся на тихое «Ух ты…» шедшего рядом с ними Ярострела и успел уловить мечтательный, светящийся взгляд мальца. Ярострел, по свойству всех на свете мальчишек, уже отодвинул от себя ночной страх. Взошло солнце, и маленькому храбрецу хотелось в Нарлак, порадеть и постоять против летучей напасти ещё хуже вчерашней. Бусый вдруг почувствовал себя ужасно взрослым, видевшим жизнь. Давно ли он сам был таким, как меньшой братец Ярострел? Казалось — очень давно.
А Ульгеш продолжал:
— Знаешь, очень на многое можно посмотреть с одной стороны, а можно — с другой. И окажется, что нет в этом ни греха, ни ошибки. Дедушка Аканума рассказывал мне про императора Дакори, взявшего власть восемьсот лет назад. Он дал мне прочесть две разные книги: в одной говорилось, что Дакори был из народа сехаба, а в другой — что он вышел из племени мибу. Одна описывала его жестоким завоевателем, другая — мудрым собирателем земель. И обе обладали внутренней стройностью, и каждая звала на свою сторону…. — Ульгеш говорил задумчиво и так, как рассказывают о чём-то очень важном. — Я спросил дедушку, где же тут истина, и он ответил мне: «Знаешь, в нашем городе люди посейчас иногда ещё режутся насмерть из-за того, возлагал ли Дакори на себя белые перья сехаба или буйволиные хвосты мибу. Им кажется, что, стоит выяснить это с окончательной определённостью, и настанет вековечная слава либо вековечный позор. Ты можешь, конечно, сделать выбор и отстаивать его до конца жизни. А можешь попробовать объять оба воззрения и разобраться, что же следует из каждого для нашей сегодняшней жизни…» — Ульгеш вздохнул. — Я вот думаю, может, не случайно мой великий и неназваный отец вручил меня именно дедушке Акануме, жрецу Мбо Мбелек Неизъяснимого… Может, однажды я должен буду на что-то с разных сторон посмотреть… и не поторопиться хвалить или осуждать…
Бусый молча положил руку ему на плечо, крепко сжал. Он-то знал теперь имя своего отца и мог произнести его в любое мгновение, когда пожелается: Иклун Волк. А вот Ульгешу такого счастья было не дано. Пока?
Бусый остановился около павшего дуба, чьи вывернутые корни ещё грозили, ещё пытались схватить давно улетевшего Змеёныша. Изба с крышей легко поместилась бы среди этих корней… Вообще-то дубы неохотно водились в здешних местах, они предпочитали западные чащи с их снежными, но менее морозными зимами. В краю Волков им было холодновато, обычно они не вырастали высокими, всё жались под защиту Земли. Этот же — гордость деревни — стоял на своём холме великаном. Даже теперь, поверженный, изувеченный, он непостижимым образом сохранил суровую красоту и достоинство. Как убитый в бою воин. Сражённый, но не побеждённый, не сдавшийся. Даже жестоко изрубленный, с разбитым стволом и обломанными ветвями — он продолжал сражаться с врагом. До самой смерти. И встретил эту смерть, не дрогнув, не отступив, не склонив гордой головы…
Рядом послышался тихий вздох. Незаметно подошедшая тётушка Синеока во все глаза смотрела на погибший дуб и явно думала о том же, о чём размышлял Бусый. Итерскел стоял подле. Наученный горем, всё водил глазами по сторонам, надеялся оборонить Синеоку от всякой напасти. От врага, если такой рядом вдруг затаился… Бусый в который раз вспомнил Колояра и подумал, как они всё-таки похожи, Колояр и Итерскел. Друг на друга и… на дуб этот, каким он был, покуда красовался здесь, на холме. Та же спокойная надёжность, бесхитростный нрав, неумение склониться перед злом. Даже если зло это сильнее окажется…
Почувствовав, что глаза вот-вот обожгут слёзы, Бусый подошёл к поверженному дубу и обнял его. Мать Белка научила его приникать телом к благим, почитаемым веннами деревьям. Просить добрых сил у сосны, берёзы, липы, ореха… У дуба — в первую очередь. И деревья всегда охотно делились с человеческим ростком частичкой своей спокойной, несуетной силы… Только сейчас Бусый ничего не просил. Скорее наоборот: пытался отблагодарить частицей себя. За то, что дуб этот его, Бусого, от Змеёныша телом своим пытался прикрыть…
Дуб мальчишеского подарка не принял… Смертельно израненный, он был ещё жив, потому что деревья живут и умирают иначе, чем люди и звери. И он даже сейчас попытался утешить пожалевшего его маленького человечка, укрепить его дух, влить в него остатки своей безбрежной некогда силы. «Это — жизнь, росточек. Мы уходим в землю, чтобы снова встать из неё. Это — жизнь…»
И Бусый ощутил неожиданное облегчение, на душе стало светло. Благодарно потёршись о ствол щекой, мальчишка выпрямился и пошёл дальше, тихонько прикасаясь ладонями к другим деревьям, прощаясь с ними, пытаясь утешить…
Деревья откликались ему. На разные голоса откликались уже из глубин последнего сна, превращавшего живой изломанный лес в обычный валежник…
Потом Бусый оглянулся на Синеоку и увидел, что его малая тётка куда-то смотрела — пристально, во все глаза. Да не на завал, а куда-то дальше, сквозь мешанину стволов.
Итерскел тронул её за руку, но девушка, отмахнувшись, двинулась дальше вдоль сваленных в неряшливом, непристойном беспорядке деревьев. А потом указала рукой куда-то вглубь Змеёнышева Следа, в самые дебри, невнятно замычала и… попыталась пролезть туда.
И конечно, сразу упала бы, не подхвати её Итерскел.
— Что там, тётушка Синеока?
Она замахала руками, указывая направление, силясь что-то ему объяснить. И Бусому, как обычно некстати, в который раз подумалось, что — ну нет, дурочкой, как многие полагали, его малая тётка ни в коем случае не была. Глубоко внутри она по-прежнему всё понимала и обо всём верно судила, только ни сказать, ни телом внятно выразить не умела. Потому что в далёкий и страшный день некая часть её души съёжилась до того крепко, что расправиться уже не смогла…
— Что там, тётушка?
— М-м-м…
Вот так-то: он только что с деревьями разговаривал, разумея их речи, а с собственной тёткой объясниться не мог.
— Нам полезть туда? — спросил Бусый. — Посмотреть?
— М-м-м-м!
Синеока отчаянно задёргала головой, движение вышло беспорядочным, но Бусый успел подметить самое его начало и понял: девушка пыталась кивнуть.
И мальчишки полезли. Гибкими ужами — между расщеплёнными, грозящими бедой сучьями и стволами. Нет, деревья никого не хотели обидеть, просто в телах своих они были вольны не более, чем несчастная Синеока. Пачкая смолой одежду и руки, Бусый с Ульгешем и Ярострелом пробирались туда, где — птицы хорошо видели это сверху — среди бурелома имелась маленькая прогаль.
Вот уж не ждал Бусый, ступая на мягкую, взбитую ночным вихрем землю и щурясь от брызжущего в глаза солнца, что здесь его перво-наперво… ударят! Причём вполне чувствительно, неожиданно и жестоко! А главное — непонятно кто, непонятно как!.. Да ещё и — вовсе не прикасаясь, не трогая тела, одним внутренним устремлением!..
Он понял только, что его посягали убить. И убили бы, добавься к решимости, помноженной на лютую ненависть, ещё хоть сколько-нибудь силы. Но поскольку сил не было, вместо сокрушительного удара получился шлепок — муху прихлопнуть.
Всё это Бусый сообразил за мгновение, понадобившееся ему, чтобы отыскать на прогали нападавшего. Сперва его ищущий взгляд остановила фигура широкоплечего воина, обнявшего рослый, сплошь окровавленный пень, но воин был мертвей мёртвого, и взгляд Бусого скользнул дальше, чтобы нащупать мальчишку.
Вот так-то: его подстерёг и тщился предать смерти ровесник.
Этот ровесник лежал на спине, беспомощно разбросав руки и ноги, мокрый, закиданный землёй, ветками и клочьями дёрна, похоже нешуточно покалеченный, со странно подвёрнутой шеей, на бескровном лице жили одни глаза Однако взгляд этих глаз внятно говорил: убил бы тебя, если бы мог.
Но — не мог.
Последних встреченных в его жизни врагов ему уже не удастся сразить. Хотя он честно пытался, сделал всё, а может, даже и больше. И оттого ему нечего было стыдиться…
Бусый вдруг вспомнил бывшего венна, его страшно расширившиеся зрачки и железное мужество перед лицом жестокой боли и казавшейся неминуемой смерти. А ещё ему невесть почему вспомнилось, как когда-то, совсем мальцом, он увидел в клети с припасами крысу. Схватил веник и погнал её, и думал уже, что в угол загнал… — а крыса вдруг как развернулась в узком проходе меж кадками да как бросилась на него, тут и веник из руки выпал…
Подошедший Ульгеш сунулся было мимо Бусого, но тот его придержал. К этому мальчишке надо было подходить, как к раненому животному: и помочь совесть велит, и что оно сейчас выкинет — почём знать. Судя по тому удару, настоянному на желании и умении убивать, при малейшей к тому возможности этот парень дел мог наворотить — не расхлебаешь потом.
— Эй! — окликнул Бусый негромко. Он понятия не имел, разумел ли незнакомец по-веннски, и подавно не представлял себе, откуда здесь, на Змеёнышевом побоище, было взяться мальчишке. Не Змеёныш же, действительно, приволок его из неведомой дали, чтобы сбросить из-под облаков?.. Стоило подумать об этом, и память тотчас подсунула топляк, убивший волчицу и мало не убивший волчонка. — Слышь, мы тебя не обидим…
Вместо ответа ровесник плюнул в сторону Бусого. Это простое движение вычерпало уже самые последние силы, плевок шлёпнулся здесь же, возле щеки, мальчишка равнодушно прикрыл веки, полностью утратив интерес к врагам и к тому, что они дальше будут с ним делать, лицо стало изжелта-серым.
— К нему с добром, а он вон как, — возмутился Ярострел. И ругнулся: — Крысёныш!
— Язык-то попридержи, — окоротил его Бусый. Не сознаваться же при меньшом, что ему самому стало здорово не по себе. — Кто в болезни лишнее молвит, никаким судом не судим!
РАЗГОВОРЫ В БАНЕ
Деревенские дворы уже затопили вечерние сумерки, но небо ещё оставалось светлым, когда Волки, взрослые мужчины и парни со старшими мальчишками, вернулись домой. Ну, вернее сказать, не совсем пока что домой. Под кров, за общий стол, к жёнам, детям и матерям им было нельзя. С самого рассвета они собирали по лесу мёртвых врагов. И предавали их погребению. Не так уж много было Мавутичей, но, содей Змеёныш своё дело, как следовало по замыслу Владыки Мавута, — вполне хватило бы добрать уцелевших в деревне…
Теперь им самим Волки выбрали подходящее место в десятке вёрст от своей околицы, там, где чёрные ели мешались с дрожащими вечной дрожью осинами, и вырыли одну большую могилу — на всех.
И не то чтобы ёлки с осинами чем-нибудь провинились, венны тоже чтили их как благие деревья, только их благо было особого рода. Они не дарили человеку добрую силу, они, наоборот, забирали дурной жар, лихорадку и боль. Оттого-то испокон века венны заговаривали зубную боль на еловую палочку, а злобную нечисть спроваживали хорошим осиновым колом, загнанным в сердце, чтобы не лезла вон из могилы… Чем, собственно, Волки сегодня до вечера и занимались.
Прикосновение к мертвецу, тем более чужому и непотребно погибшему, — оскверняет. Здесь только что нарушалась граница живого мира, на ту сторону уходила замаранная злобой душа, в муках истекала из тела, насаженного на пень или стиснутого в древесном расщепе… И как знать, затянулась ли нарушенная черта и не проскочило ли навстречу уходившей душе что-нибудь такое, о чём на ночь глядя не стоит и поминать?
А стало быть, после нынешних трудов одного омовения было недостаточно. Не отгонишь скверну, пока благодать Воды не умножится благодатью Огня.
Ульгеш знал, конечно, что такое баня. Сколько они с дедушкой жили у веннов, столько и мылись по-веннски. Топили каменку, радовались горячей воде… Мылись, правда, сам-друг, тёрлись лыковыми мочалками, плескали водицей. И вполуха и вчуже, с удивлением слушали рассуждения белокожих северян о квасе и вениках…
Сегодня Ульгеш в самый первый раз отправился в баню вместе с веннами, уже не как гость, — как свой.
Честно сказать, веников юный мономатанец побаивался. Всё представлял, как это его станут с размаху хлестать пучками прутьев, отмоченных в кипятке. Берёзовыми, дубовыми… даже подумать страшно — сосновыми. Получалось нечто похожее не на омовение, а скорее на жестокую порку. На родине Ульгеша это считалось наказанием для рабов. Как бы вытерпеть, да ещё и не показать добрым хозяевам ни обиды, ни боли? Ведь они не унизить его желают, не истязать, а лишь радость и удовольствие доставить?..
Вот мужчины окатились водой, смывая пот и первую, внешнюю грязь, а потом, заранее покряхтывая от удовольствия, стали забираться на полки. Молодые и те, которые поотчаянней, — под самую крышу, кто поскромней — чуть пониже, жару и пару и здесь достанет в избытке. Загодя подогретый квас начал щедро выплёскиваться на раскалённые камни и взрываться облаками невидимого, прозрачного пара, жгучего и душистого. Ульгешу показалось, что этот пар беспрепятственно проникал сквозь его кожу, расплавлял мышцы, добирался до самых костей, согревая корни души…
— Ложись, — сказали Ульгешу.
Юный мономатанец потихоньку вручил себя Неизъяснимому и растянулся на выскобленных досках, ожидая свистящих ударов наподобие тех, что уже раздавались поблизости. Однако вместо ударов веник лишь заметался над его спиной, почти не касаясь кожи, лишь обдавая горячими облачками пара, плотного, как ласковая рука. На миг отлучился — и, возвратившись, начал поглаживать, сперва осторожно, потом всё уверенней и крепче… И наконец принялся хлестать, но что это было за хлестание! Так плещет крыльями лебедь, так взмахивают ветвями, роняя лепестки, Цветущие деревья на солнечном весеннем ветру…
Ульгеш блаженствовал, его душа словно воспарила над телом и витала отдельно, кувыркаясь и возрождаясь в раскалённой купели, — когда его подхватили с полка и под локти выставили из огненного пекла прямо наружу, во влажный сумеречный холодок.
— Ладно, хватит с тебя, пока не сомлел.
Под ногами сами собой пронеслись растрескавшиеся мостки, и — а-ах-х! — распаренное тело приняла студёная и тёмная вода банного пруда. Ульгеш вынырнул, отфыркиваясь и ощущая, как душа водворяется обратно в плоть, а рассудку возвращается ясность.
Следом за Ульгешем начали выходить венны, их белые от природы тела пламенели огненным свечением. Кто-то пробегал по мосткам и, ухая, поднимал брызги в пруду, кто-то обливался из вёдер на берегу… Улыбались, поглядывали на Ульгеша, вылезшего из воды. Ох и чёрен парнишка! Неужто после пара с вениками чернота с него даже чуточку не отошла?
Переведя дух, вернулись в парилку, но парились уже степенней, умиротворённей, без той отчаянно-весёлой ярости, что поначалу. Длили праздник очищения тела и души.
Выйдя наружу в третий раз, начали рассаживаться на завалинке и чурбаках, медленно, с наслаждением потягивали квас, переговаривались, прикидывали работу на завтра. Говорили, конечно, взрослые, мальчишки встревать без спросу не смели.
— А я говорю, нельзя эти деревья на избы пускать!
— Деды наши из буревала не строили и нам не велели…
— Что у нечисти в зубах побывало, не свято.
Речь шла о том, что же делать с великим множеством леса, погубленного Змеёнышем. Венны, умевшие заменить деревом железо, камень и глину, никогда не взяли бы для строительства дома лесину, засохшую на корню. Они знали, что в таком доме хозяева очень скоро начнут чахнуть и сохнуть, и никакой лекарь не разберёт отчего. Никогда не вставили бы в стену и бревно с глубоким сучком, чтобы через этот сучок Незваная Гостья не вытянула чью-нибудь душу. И нипочём не подошли бы с топором к дереву, внешне здоровому, но жалобно скрипящему на ветру. Срубишь его — и не даст спать ночами душа замученного человека, оказавшаяся заключённой в стволе…
Что же делать с деревьями, с немалым множеством деревьев, погибших нехорошей, злой смертью — от бури, накликанной лихим колдовством?
— На дрова разве пустить, да и то, не было бы пожара нам от таких дров…
— Погодь, Бронеслав. — Седой Севрюк положил руку на колено. — Так можно сказать, что нам и шапки на земле надо было покинуть, коли у нас их тем вихрем с голов поснимало.
Мужчины засмеялись, Бронеслав, выходец из рода Барсука, такой же седой и кряжистый, как Севрюк, буркнул что-то и замолчал, однако другие слово брать не спешили. Можно было назвать весь След нечистым и воспретить детям приближаться к завалам. И после не удивляться заведшемуся там злу. Можно было дождаться сухой погоды и выжечь поломанное. Или всё же пустить в дело загубленный лес — и ночей не спать, размышляя, а не беду ли в гости зовёшь себе и всему своему роду…
— А у вас как о таких делах судят? — спросил вдруг Севрюк, обращаясь к Ульгешу.
— У нас… — Юный мономатанец жарко смутился, ведь он, срам вымолвить, знал свою родину больше по рассказам и книгам. И хоть вины его в том и не было… всё равно срам. — У нас… Дедушка говорил, даже благородный маронг бросят на лесосеке, если при его падении кто-то погибнет…
Сказал и только тут заметил, какие отчаянные рожи корчил ему Бусый, сидевший по другую сторону круга. Бусый ждал от него каких-то иных речей, но вот каких?..
Севрюк встал, потянулся и сказал с усмешкой, сразу всем:
— Ладно, Волки. Пошли, ещё пар погоняем. Сами к согласию не придём, может, жёны чего на ухо нашепчут… Зря ли говорят, утро вечера мудреней. А сами не вразумимся, значит, совета спросим у Тех, кто мудрей… — И Севрюк с надеждой посмотрел на небо, в котором дотлевала розовая заря. — Ну, пошли, каменка стынет!
Раскалённые камни и не думали застывать. Опять парились, поддавали, хлестались до багровой красноты вениками, опять поддавали, опять хлестались. Крякали, блаженно охали, переговаривались…
— Я-то думал, ты им скажешь, как нам с Ярострелом тогда, — шепнул другу Бусый. — Ну, что можно с одной стороны посмотреть, а можно с другой…
И вроде совсем негромко шепнул, одному Ульгешу на ухо, однако был услышан. И не кем-нибудь, а Бронеславом, тем самым, что всех яростнее радел за нечистоту павших деревьев.
— Ну-ка, ну-ка? — свёл кустистые брови Барсук — О чём взялся шушукать?
Бусый вздрогнул, беспомощно отыскал глазами дедушку Соболя, которому первому хотел поведать осенившее, да вот нелёгкая дёрнула за язык. Что ж, деваться было некуда, и Бусый храбро ответил:
— О том, дедушка Бронеслав, что на всё можно посмотреть справа, а можно и слева, и которая сторона воистину правая, вовек не узнать. Ну, хоть про камень вот этот: он наполовину остыл или наполовину ещё горячий?
Барсук дёрнул мокрой бородой, открыл рот и закрыл, не придумав, чем осадить разговорчивого юнца, а мальчишка продолжал:
— Вот и наши деревья… Можно так молвить: сгубила их Змеёнышева нечистота, кабы где не прилипла!.. Да!.. А можно инако… — И Бусый выдохнул жарче банного пара, всей силой души: — Они же, хранители наши, за нас стояли стеной! Они первыми удар приняли, от нас его отводя! — Сглотнул и докончил: — Они там живые ещё лежат… за нас умирают… А мы судим тут, много ли скверны на них!
Теперь на него смотрела вся большая общинная баня. Бусого затрясло. И с чего это он взял, будто Посвящение произойдёт в один особо избранный день, назавтра после которого в его жизни станет всё по-другому — равным звать примутся, а слово его — слушать и чтить?.. Не-ет, тот избранный день Посвящение лишь довершит. Того прежде эту честь ещё заслужить потребно. И в том числе — речами в мужском кругу. Разумными и достойными…
Севрюк ободряюще хлопнул Бусого по плечу, переглянулся с Соболем.
— Доброй крови не спрячешь, как и дурной, — проворчал он, невольно отвечая на мелькнувшие кувырком мысли Бусого. — У твоего мальца, Соболь, все были разумом пригожи: и прадед, и дед, и отец… когда таким же отроком бегал. Да ещё и не боялись объявить, что в груди накипело.
И в это время Бусый, как порою бывало с ним от душевного напряжения, внутренним слухом уловил обрывки мыслей находившихся рядом. Сегодня — особенно отчётливо, может быть, потому, что кругом была родня. Или это банный пар истончил завесу, дал Бусому подслушать то, что каждый таил сам для себя?
«Да уж. Дед Ратислав вон всё своим умом жить хотел, и много ли нажил? Отраду вдовицей оставил, дочь — дурочкой, а и сынка не сберёг…»
«И внук в ту же породу. Не приведи Соболь мальца к нам в деревню, не было бы ни Змеёныша, ни его Следа…»
«И поди знай, что ещё за беды через него припожалуют?..»
Все голоса бубнили одинаково невнятно и глухо, поди догадайся, где чей. Бусому стало холодно в натопленной бане, кожа пошла пупырышками. «Мама… — Да не та мама, которую он тщился спасти, дотянувшись ей на выручку сквозь чужую память, а Митуса Белочка, чьи объятия совсем недавно были для него утешением и нерушимой стеной от любой беды и обиды. — Мама…»
«Глупенький, — ответил ему неведомо кто и неизвестно откуда, он не разобрал даже, мужчина или женщина, и почему-то подумалось о Горном Кузнеце, сидящем на берегу задумчивого ручья, в котором кружатся щепки. — Мысли, они на то и мысли, чтобы не всякую высказывать вслух. Есть думы, как сор, да язык на то и не помело, чтоб мести что попало вон из избы. Тебе вслух хоть слово сказали? Деда и отца твоего оскорбили? А и неча подслушивать, самому чтобы не обижаться потом…»
ОТДАННЫЙ ДОЛГ
Он повел плечами, проверяя телесную готовность. Руки сами собой потянулись распустить косы, расчесать их гребнем, как это сделает любой венн, готовясь свершить судьбоносное дело. Он ещё не успел полностью привыкнуть к тому, что имя, облик, веннский обычай остались для него в прошлом. К тому, что его родом и племенем была теперь большая семья Владыки Мавута, а другой семьи — больше нет и больше не будет.
Видят Боги, не случалось ещё у Владыки прилежней ученика! В пятнадцать лет хочется всего и сразу, ожидание длиной в полдня кажется невыносимой вечностью, а он ждал много долгих седмиц. Каждый вечер, валясь с ног после уроков Владыки, перед тем как позволить себе провалиться в недолгий сон, заставлял себя вспоминать лица булычей.
Косорыл, с которым он совладал едва-едва и наполовину случайно.
Голсана, Бобыня, Лисутка, Меньшак… Вожак Булыма…
«Кто из вас пустил ту стрелу?..»
Он перебирал про себя, как нанизывал, имена этих людей. Назвища у них были, что говорить, одно к одному. Впрочем, если на то пошло, у него самого нынче имени не было вовсе. Может, отец Мавут наречёт. Если он заслужит.
Несколько раз глубоко вздохнув, он скрутил свою ярость в тугой комок, чтобы не мешала ему, не застилала слух и глаза, а разворачивалась неторопливой пружиной и давала силы для боя. Он должен был остаться в живых. У него и кроме Булымичей ещё были кровные должники.
Он улыбнулся очень нехорошей улыбкой, положил наземь копьё, отцепил от пояса меч и боевой нож. Снял кольчугу и расстегнул подкольчужник, оставшись в одной полотняной рубахе.
И, не оглядываясь, зашагал по дороге к вельхской деревне. Холодный осенний воздух овевал разгорячённое тело.
«Пусть вернётся тот день. Тогда я тоже был без оружия. Кто из вас пустил ту стрелу?»
Мавут покачал головой, но ничего не сказал.
Всадники молча рассыпались влево и вправо, обтекая деревню.
Резоуст вопросительно взглянул на Мавута, дождался его кивка и тоже тронул коня.
Деревня была совсем небольшая — всего четыре двора. И очень небогатая. Поневоле спросишь себя, что бы делать булычам в подобном углу? Что они надеялись здесь продать?
Может, прялки и колыбельки из такой же деревни? Горшки и ткани из обоза, остановленного разбойниками?
— Булыма! Слышь, Булыма! Чужие идут! Двое! Один конный, при луке и мече!
Кричал Меньшак. Он держал в руках трепыхающуюся курицу. Вторую протягивал ему какой-то вельхский парнишка. Увидев чужих, подросток бросил курицу и кинулся бежать за сарай. Меньшак при виде оружного всадника тоже сперва оробел, потом пригляделся и узнал Резоуста.
— Булыма! — снова закричал он, обернувшись. — Иди, тут Резоуст пожаловал! Вернулся никак!..
Разбойник не договорил. Бывший венн, которого Меньшак даже не принял в расчёт, мимоходом выдернул из плетня толстый кол и, не размахиваясь, швырнул его низом, метя Булымичу по ногам.
«Может, это ты стрелял?..»
Небрежный с виду бросок на деле был страшен, кол загудел на лету, и Меньшак упал, точно из-под него кто выдернул землю. Левая нога оказалась сломана, обломок кости вылез наружу. Булымич, не заметив, попытался подняться, и… тут только несусветная боль достигла сознания.
— А-а-а-а-а!..
Крик оборвался так же резко, как и начался. Юный воин взял Меньшака левой рукой за волосы, запрокинул ему голову и ударом десницей сбоку в подбородок сломал шею.
Всего лишь коротко наклонился и тут же, не замедлив шага, упруго выпрямился… И неспешно двинулся дальше. Прямо туда, где возле берега стояла большая лодка и вельхские жёнки приценивались к товарам.
— Ты!..
«Да, это я. А где твой меткий лук, Бобыня?» Рыжий Булымич схватился за нож, только лучше было бы ему сразу бежать прочь без оглядки, дольше бы прожил. Нож оказался отобран у него и воткнут ему же под подбородок. Он поник на колени и остался когтить пятернями залитую кровью рубаху, а бывший венн пошёл дальше. Он по-прежнему не торопясь шагал через деревню, а за плечом у него плыла, не касаясь земли, прозрачная тень женщины с седыми волосами и в белой рубахе до пят.
Вельхинки оставили затеявшийся было торжок и с визгом кинулись по домам. Мужчины ограничились тем, что молча отступили с дороги. Вельхи вообще-то славились как неробкий и гостеприимный народ, но у них на глазах творилось нечто превыше обыденного понимания. За что, почему — уразуметь было трудно, но то, что это был Божий Суд одного против пяти, они видели ясно.
Если кто-то шагает прямо навстречу копью, нацеленному в грудь, он либо безумец, либо избранник Правды Богов. Лысоватый пожилой Голсана едва не упал, против воли прянув назад, но потом зарычал и ударил взбесившегося щенка. Копьё сунулось вперёд резким тычком, от которого нет спасения безоружному. Так, чтобы широкое лезвие рассекло тело и высунулось из спины!
Копьё проткнуло пустоту. Промахнувшись, Голсана невольно подался вперёд вслед за ударом, но тело не захотело падать, и руки, спасая равновесие, сами собой опёрлись на оскепище, уже перехваченное мальчишкой. Плешивый вдруг обнаружил, что бежит по кругу и ничего не может с этим поделать. Копьё едва не чиркнуло острым наконечником по глазам подскочившему Булыме и… глубоко вошло в грудь Лисутке, замахнувшемуся топором.
Голсана уже открывал рот заорать от ужаса и несправедливости, и на этом его застиг внезапный удар локтем в лицо. Короткий и жёсткий, весом всего тела, с шагом навстречу. У перекупщика краденого запрокинулась голова, подогнулись колени… второй удар этим же локтем пришёлся сверху по горлу.
Отпрянувший Булыма повернулся и побежал. К берегу. К лодке…
Из четверых его ватажников лишь рыжий Бобыня был ещё жив. Нож оказался недостаточно длинным, и Булымич ещё булькал кровью, захлебываясь в тщетных попытках дышать. Если бы он мог, он бы завыл. Он не хотел умирать и отказывался поверить в только что случившееся. С ним этого не может быть! С другими — да, но не с ним!.. И почему они тогда не привязали мальчишке камень к ногам, как он им говорил…
Бывший венн понял, что слышит отголоски мыслей умирающего, но это не удивило его. Он пришёл сюда совершить справедливость, всё остальное было неважно. Ему не следовало удивляться чему-либо из происходившего с ним и вокруг. Только замечать и использовать к своей выгоде. Так учил Мавут, а в искусстве убивать Владыка знал толк.
Он слышит отголоски чужих мыслей, желаний, намерений? Тем лучше…
Он подобрал Лисуткин топор и пошёл за Булымой.
Главарь булычей уже столкнул на воду лодку и, запрыгнув в неё, орудовал вёслами. Юный воин стоял на берегу, опустив руку с топором, и спокойно смотрел, как росла между ними полоска воды.
Много дней назад точно так же уходила от далёкого берега совсем другая лодка…
«Не ты ли стрелял?..»
Можно было взять лук у подъехавшего Резоуста, но бывший венн рассудил иначе. Топор догнал Булыму, когда тот выбрался на середину речки и почти решил, что спасён. Он успел отшатнуться, и лезвие ударило в бок, растворяя широченную рану. Боль настигла не сразу, Булыма даже ударил вёслами ещё раз. Потом свалился на дно лодки и скорчился, пытаясь затолкать обратно в тело что-то бесформенное, лезущее наружу из раны.
Юный Мавутич провожал глазами уносимую течением лодку, и в душе было пусто. О чём он мечтал, дожидаясь нынешнего дня, об этой ли пустоте?..
Нет, он ни о чём не жалел. Он выбрал свой путь.
Когда за спиной затопали и зафыркали кони, он отвернулся от реки и низко поклонился рыжеусому всаднику:
— Спасибо, отец.
«МАМА…»
Мальчишку, найденного в буреломе, Волки устроили по тёплому времени в одной из клетей. Ну в самом-то деле, не к очагу же святому его сразу нести? Судя по кинжалу на поясе и по расчётливому удару, которым он встретил Бусого, мальчишка вполне мог быть из Мавутичей. Но мог и не быть. Мужественного человека хочется видеть другом, а не врагом, а уж мужества мальцу было не занимать, и Бусый вовсю придумывал ему причину оказаться подле Мавутичей, но — не из их числа. Может, он крался за ними лазутчиком, думал выведать замыслы? Или Змеёныш его вовсе в иных краях подхватил и сюда случайно забросил?
Ладно, откроет глаза, заговорит — тут всё и узнаем…
Покамест мальчишка не говорил ничего.
Лежал на широкой скамье, устроенный так, чтобы можно было убирать из-под него и двигать всё тело, оберегая от пролежней, а шею, с превеликим трудом вправленную Соболем, совсем не тревожить. При смуглом лице и чёрных глазах у мальчишки были серебристо-светлые волосы, в отсветах огня казавшиеся седыми. За эти волосы, из которых Синеока понемногу вычесала сосновые иголки и грязь, мальчишку повадились именовать Беляем. Надо же было хоть как-то его называть?
Вот заговорит, тогда и посмотрим, ладно ли на нём сидит такое доброе имя…
Но Беляй говорить не торопился. Волки слышали его голос, только когда лесного найдёныша окутывало забытьё. Мучительные стоны, тихие вскрики, обрывки словес неведомого языка…
Порою Латгери — чего с ним давным-давно не бывало — видел себя совсем ещё малышом. Вот он тайком улизнул из дома, чтобы искупаться в Обезьяньем Озере, ласково бурлящем, таком тёплом даже зимой… Вот и берег, осталось только с обрыва спуститься…
И тут начинается Сотрясение Гор, и малыш срывается вниз, прямо на камни. И шею пронизывает боль, да такая, что вмиг делается понятно — окончательная. А Сотрясение Гор длится, несильное и вроде бы совсем неопасное, но боль в шее растёт и растёт, заполняя всё тело, и Латгери — то есть не Латгери, а малыш, ещё не узнавший Владыку, — плачет и зовёт маму, только голоса нет.
И знает, почему-то совершенно точно знает, что мама не придёт. Не найдёт его здесь и не выручит из беды… И это знание — куда страшней боли…
Откуда же эта мягкая рука, неожиданно и так знакомо касающаяся его головы?
«Мама! Мама… Ты всё-таки пришла… Видишь, мне плохо… Прости меня, я не послушался…»
Мама что-то отвечает, но Латгери никак не может разобрать слова. Что-то мешает ему, и постепенно он догадывается — что.
Его имя, Латгери. То самое, которым он привычно гордится. Надо вынуть его из ушей и вложить на его место то имя, которым его звала мама, и тогда он сможет понять.
Надо только вспомнить… Сделать усилие и вспомнить…
Не удаётся…
«Мама! Назови меня по имени! Пожалуйста!»
Мама гладит его голову. Кажется, она тоже не понимает его. Но отчаяние постепенно проходит, и Латгери успокаивается, потому что рядом с ним, без сомнения, мама. Её руки, её голос ни с чьими больше не спутаешь. И говорит она на их родном языке. Ну и что из того, что говорит почему-то без слов…
«Мама… Как хорошо… Ты нашла меня, и больше мы не расстанемся… никогда-никогда…»
Синеока с самого начала взялась ходить за Беляем. Умерить горячечный жар, отогнать дурные видения, забрать на себя часть боли — нет такой веннской женщины, которая бы этого не умела, и Синеока, даром что дурочка, не была исключением. Когда Бусый заглядывал в клеть, ему порой даже казалось, будто его малая тётка тихонько что-то говорила, склонившись над раненым…
Говорила? Немая Синеока? Нет, конечно. Но мальчишка, только что стонавший от боли, начинал вдруг улыбаться в ответ на её бессловесное воркование. И на лице у него была совсем не та улыбка лютой ненависти и надменного ожидания смерти, что в лесу. Она была совсем детская и беззащитная, жалобная и слегка виноватая. Так улыбается малыш, споткнувшийся впопыхах об порог, вдребезги расколотивший кувшин с молоком и сам изрядно зашибившийся. Улыбается матери, которая прибежала на шум и ещё не смекнула, что делать: дать подзатыльник или утешать дитя бестолковое. А малыш просто знает себе, что от мамы ему ничего плохого не будет. И теперь, когда она рядом, всё обязательно наладится. И боль утихнет. И новый кувшин с молоком найдётся вместо разбитого…
КАМЕНЬ
Бусый часто заглядывал в эту клеть, но не ради Беляя, кто таков он, этот Беляй, чтобы Бусому о нём печься. Просто в той же клети, в уголке, положили маленького Летуна, и Бусый не пропускал случая проведать его. Гладил мохнатого сироту, поил козьим молоком, на руках выносил понюхать свежую травку. Волчонок его узнавал, радовался, тянулся носом к рукам…
В ночь после бани Бусый пришёл в клеть спать. Всё равно под избяной кров было пока нельзя. Да и тётушке Синеоке помочь, если вдруг что…
Он думал, что после банного потения голову на тулупный рукав опустить не успеет, однако ошибся. Сон не шёл, Бусый долго ворочался, припоминал и переживал подслушанные мысли сородичей. Лишь когда из-за кромки леса поднялась луна и укутала серебряным покрывалом деревню и лес, тягостные мысли отступили от Бусого, усталость взяла своё, он пригрелся, блаженно вытянулся и без оглядки провалился в сон…
Тёмное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчётливо зловещего мрака. Тьма, одну за другой гасившая в небесах звёзды, не была обычной темнотой, кутающей землю с вечера до рассвета. Это была особая тьма, живущая своей, особенной жизнью вставшего зачем-то из могилы мертвеца. Древний ужас, сгустившийся в темноте. С двумя огромными, от края до края неба, чёрными крыльями. С пронзительным леденящим взглядом, от которого кровь в жилах останавливала свой ток…
Знакомый взгляд чудовища безжалостно шарил по земле, что-то выискивая, и не было укрытия от нечеловечески упорного взгляда, не было никакого спасения. Крылатая тьма приближалась…
Бусый беззвучно застонал во сне, заметался, пальцы нащупали на шее оберег: кожаный мешочек и в нём — каменный желвачок, подарок Крылатых. Мальчишка крепко сжал его в кулаке, подтянул колени к груди, сворачиваясь плотным клубочком, чтобы стать совсем маленьким, невидимым для приближающейся Смерти, горошиной закатиться вовнутрь чудесного камня… Помогло.
Добрая Луна рассеяла тьму, дурной сон утратил огромность и стал просто дурным сном, от которого можно проснуться, тряхнуть головой, улыбнуться и позабыть.
Бусый увидел маленького крысёныша: тот метался, не находя выхода, а кто-то невидимый и недобрый хлестал его тяжёлой плетью. Но не так, чтобы сразу убить, а больше ради лютой забавы, заставляя помучиться. Крысёныш сперва силился увернуться, но после, ощерив крохотную пасть, бросился на мучителя. Покатился, сшибленный ударом, но встал и, волоча перебитую лапку, молча бросился вновь.
И взгляд у зверька был в точности как у Беляя, когда Бусый с Ульгешем его только нашли. А в здоровой лапке вдруг возник… меч. Серебристый, дивно светящийся, точно осколок лунного света. И дрогнула плеть, промедлила в свистящем замахе…
Бусый сквозь сон рванулся на выручку крысёнышу. И проснулся.
Немного полежал с открытыми глазами, тяжело дыша, хмуря брови и пытаясь отделить приснившееся от яви. Луна, поднявшаяся высоко над деревней, безмятежно смотрела на него с высоты. Безмятежно и немного насмешливо.
— Спасибо, матушка Луна… — одними губами сказал ей Бусый. Погладил насторожившего уши волчонка, тихо-тихо поднялся и бесшумно, чтобы не потревожить прикорнувшую Синеоку, скользнул к двери.
Луна царила в чисто вымытом небе, бледные весенние звёзды стыдливо прятались, не смея ревновать к такой красоте.
«Таемлу…»
Маленькая жрица, Идущая-за-Луной… Вот кого он хотел бы сейчас увидеть рядом с собой, вот кому показал бы эту дивную ночь и обо всём случившемся рассказал…
Бусый вышел на берег Звоницы, остановился У самого края обрыва. И тут-то все тягостные и тревожные мысли покинули его разом и без следа. Мальчишка просто замер, захлебнувшись восторгом.
Босые ноги холодила росистая трава, ночной ветерок веял в лицо каким-то высшим покоем. Да попустит ли спасительница Луна, чтобы изгнанная Тьма опять кого-то пугала, во сне или наяву? Её серебро омывало и исцеляло, и простор за рекой, уже ставший таким знакомым, жил в этом серебре. Гряда за грядой островерхого леса, всё вдаль и вдаль, сколько мог различить глаз, до самого небоската… уютные шорохи ночной жизни, ощущение переполнившей душу и тело звонкой, радостной силы, предчувствие чего-то доброго и хорошего…
«А ведь я… дома!»
Бусый вдруг почувствовал это пронзительно и остро, каждой частичкой своего существа. Он был здесь своим среди своих. Наконец-то. И это была его земля, земля его родичей, его предков. Земля Волков. На которой, доколе светит Луна, нечего бояться маленькому Волчонку. «Потому что я — тоже Волк Как все…» Пальцы снова обошлись без осознанной мысли, сами собой нащупали на груди оберег.
— Спасибо, камешек, — прошептал Бусый.
И тут-то неожиданная мысль поразила его. Он никогда ещё не вглядывался в камень ночью, в лунном сиянии. А что, если чудесный оберег вдруг покажет ему Таемлу?..
Сказка в глубине камня дышала тем же таинством, что и ночь наяву. Леса в лунном серебре, бескрайние, дремучие… превратившиеся при совсем лёгком повороте камня в такое же бескрайнее море… Ещё поворот, и волны явили себя горами, со склонов которых срывались потоки звонких ручьёв, исчезавших в густых зарослях… Бусому померещился даже запах ночных цветов, едва уловимый, определённо чужой и всё равно — смутно знакомый. Бусый запомнил его у Горного Кузнеца, на его озере. И Поющий Водопад… образы, которые в нём проплывали… если призадуматься — ведь точно как здесь!..
Бусый принялся поворачивать камень таким образом, чтобы в него заглянула и в нём отразилась Луна.
— Таемлу… Та-ем-лу…
Ровный свет проник в камень и залил — настоящий свет, — залил привидевшийся внутри мир. Бусый задохнулся от ужаса и восторга, поняв: ЭТО случилось. Границы меж мирами дрогнули и растаяли. Бусый смотрел и смотрел, доверяя Луне, словно матери, в присутствии которой с бестолковым малышом недоброго приключиться не может…
БЕРЕСТЯНАЯ КНИГА
Ночь, лес, озарённый лунным светом, и Бусый как будто летит над этим лесом, с огромной высоты глядя на землю… На симуране летит? Нет, непохоже. Ни свиста ветра в ушах, ни холода, ни замирания в животе от стремительности полёта. Просто он, Бусый, как бы смотрит на этот лес глазами самой Луны…
На высоком берегу речки — деревня Волков. Ну то есть нет, не Волков, показалось… Совсем другая веннская деревня, пусть и очень похожая… Там тоже ночь и тоже весна, и в деревне что-то происходит. Что именно — с высоты подробно не разглядеть. Мельтешение огней и теней, лязг железа, крики боли и ярости… оборвавшийся детский плач…
В деревне враги, и эти враги не щадят ни старых, ни малых.
Мавутичи!
Уж не показывает ли ему Луна, что могло случиться с Волками? Но тогда где же Змеёныш с его ревущим вихрем и Тьмой?..
Бусый чуть повернул камень, чтобы лучше видеть… Зря он это сделал, видение расплылось и исчезло.
— Эх…
Досадуя, Бусый попытался вернуть камень в прежнее положение и… невольно отпрянул. Его лицо едва не окунулось в костёр.
Это был очень недобрый костёр. И горел он, Бусый сразу понял, в той самой деревне. Летела в огонь деревянная веннская утварь, которую враги сочли малоценной добычей. Детские игрушки, девичьи прялки, резные ковши, младенческая зыбка, мальчишечьи деревянные мечи… Вот в пламя рухнул родовой столб, и Бусый с безмолвным ужасом понял, что род погиб. Ведь останься в живых хоть один человек, кто бы позволил чужакам надругаться над самой главной святыней?..
Столб не сразу поддался огню, но наконец вспыхнул и он. Деревянная резьба озарилась, и Бусый едва не умер на месте. Пламя пожирало родовой столб Волков!
На самом деле Бусый этого столба ещё не видел ни разу, ибо не прошёл Посвящения, так что представлял его себе лишь по рассказам. Вот со страху и померещилось, будто в огне корчились, погибая, деревянные облики его, Бусого, Предков. Даже мысль успела мелькнуть: а не предостерегает ли камень, дескать, не видать тебе, малец, Посвящения…
Нет, снова ошибся. Из пламени скалился веннский волкодав, схожий с волком, словно враждебный и неуступчивый брат…
А потом в огонь бросили книгу. Книгу вроде тех, что таскает с собой Ульгеш. Но только у Ульгеша книги поменьше, полегче, написанные на бумажных листах и мелкими буквами, путешественникам для удобства, а погибавшая книга была большой и тяжёлой. Не для дальнего пути — для домашнего сохранения. Со страницами из долговечной берёсты. С обложкой из деревянных дощечек, искусной резьбой любовно украшенных. Чтобы гладить ладонью, возложив на колени. Потом неспешно раскрывать…
И в который раз облило холодом сердце. Резьба на деревянном окладе была веннская. Но кто хоть раз слыхивал про веннские книги?
…Беспомощно распахнувшись, она опрокинулась внутрь костра, в самый жар. Оставшись без защиты обложки, первая страница отделилась от остальных и тотчас вспыхнула, и в огне ярко проступили, умирая, непонятные знаки, начертанные неведомо кем…
Бусый вскрикнул и не думая метнул руки в огонь — спасти гибнущую книгу, покуда не поздно… Совсем позабыв, что увидел этот костёр не наяву…
Камень подпрыгнул в ладони, и всё исчезло уже окончательно. Но в самый последний миг Бусый успел заметить, как чьи-то руки — мальчишеские руки, в точности как у него самого, — выхватили-таки горящую книгу из погибельного костра…
Тяжело дыша, он даже поискал её в траве рядом с собой. Книги не было. А вот дымом вправду разило. Нет, не уютным печным дымком, долетевшим из деревни. Воняло злой и смертной гарью пожара. Бусый принюхался и понял, что, пахло от его собственных рук
И волдыри на ладонях наливались самые что ни есть настоящие…
— Как это ты умудрился? — недовольно ворчал Соболь, смазывая раны жгучей чёрной настойкой, крепко пахнущей травами и ульем. — Работы край непочатый, а ты, смотрю, отлынить надумал? В деревне с бабами остаться?
— Дедушка! — забыв о приличиях, в голос завопил Бусый. С Соболя станется, возьмёт вот — и взаправду оставит. — Да и не болят они вовсе! Я работать пойду! Тряпицей перевязать только…
— Тряпицей… Где обжёгся-то, шалопай?
Бусый растерянно заморгал. Как в двух словах рассказать про привидевшийся костёр? Который его очень даже взаправду обжёг?..
И мальчишка вместо оправданий сказал совсем другое.
— Дедушка… Дедушка, а ты никогда не слышал про такую книгу… — Он беспомощно развёл перевязанными руками. — Ну… про веннскую книгу?
По тому, как переглянулись Соболь и оказавшийся рядом Севрюк, Бусый понял, что слышали. И не просто слышали.
В общем, неожиданный вопрос Бусого привёл к тому, что ему всё-таки пришлось подробно рассказывать, что с ним ночью случилось. Диво дивное, но ради его повести даже выход на работу отложили. И большуху к разговору позвали.
Слушали молча, не перебивая, а когда Бусый умолк, не враз принялись говорить, долго ещё задумчиво помалкивали.
Первой, как водится, высказалась большуха:
— Да… Вот как оно, значит, было-то… Не привиделось тебе, малый, это камешек дивный показал тебе, как род Серого Пса погиб. У них знаки рода на наши всегда были похожи. А вот то, что У них книга имелась своя… Я-то думала, единственный род, в котором своя собственная книга была, нашим племенем писанная, — это мы, Волки. Ну, у нас с Серыми Псами, хоть и не любили мы друг друга, всегда много похожего было, не только столбы родовые. Вот, оказывается, даже книга…
— А что это за книга?
Жадный вопрос вылетел сам собой. Бусый поперхнулся и залился краской, но большуха не осерчала.
— Та, что у Серых Псов была? Не знаю. Говорю же — от тебя первый раз нынче услышала про неё.
— А… та, что у нас?..
И опять никто Бусого не одёрнул. Видно, не одного его взволновало услышанное.
— Ладно, — вздохнула большуха. — Так и быть, расскажу я про книгу нашу всё, что припомнить смогу…
РАССКАЗ БОЛЬШУХИ
— Считается у нас, что мужикам знать слишком много про это не положено, не их ума дело. Довольно и того, что слышали, — была-де книга такая. А о том, откуда взялась она и куда делась, матери дочерям своим пересказывали и бабушки внучкам. Как и другие тайны женские, не для мужских ушей предназначенные…
Но я так думаю, что нынче времена не чета прежним. Такая, видно, пора настала, что и мужикам про нашу сокровенную книгу надо узнать…
От этих слов мудрой женщины на Волков повеяло ледяным сквозняком: времена, когда что-то в старинном укладе начинает неворотимо меняться, никогда не считались добрыми и хорошими. А большуха задумчиво добавила:
— Может, если бы не книга та, не было бы нынче нас в живых, Волки. Сожрал бы нас Змеёныш и не подавился.
В общем, слушайте.
Была у нас, у Волков, девка когда-то. В детстве она с матерью в лютую метель едва не замёрзла, отчего и лишилась детородного дара. Когда выросла, подряд три весны миловаться ходила в ярильные дни, и всё без толку. Беда, уж куда хуже! Как ей, бесплодной, доброму парню бусы дарить? И прослышала большуха тогдашняя, что, мол, есть где-то в дальних краях, на границе Саккарема и Вечной Степи, Храм некий. Храм Луны вроде. И жрицы Храма этого, что себя Идущими-за-Луной называют, каких только безнадёжных больных на ноги не поставят…
«Таемлу! — немедленно возликовал Бусый. Он и так слушал с полным вниманием, а уж тут окончательно навострил уши, боясь хоть словечко мимо них пропустить. — Это про тебя, Таемлу…»
А большуха продолжала рассказ:
— Снарядилась девка, матери с отцом поклонилась — да и пошла Храм тот искать. Жалели родители дитятко почти на верную гибель отпускать, а иначе как? Иначе никак… Дома ей, бедной, только с горя оставалось засохнуть, а так — хоть какая-то надежда была.
И ушла она, горемычная. Ни слуху ни духу. Уж и не чаяли услышать что про неё, не то что живую увидеть. А ведь увидели! Родители её от младших дочек уже внуков растили, когда она вернулась в деревню. Вот радости-то было!
Недолго, правда, радоваться пришлось. Вскоре умерли её старики, и сама девка ушла. И книгу ту с собой унесла…
— Матушка Волчица, сделай милость, скажи… что за книга-то?
На этот раз не по годам, не по чину вылез Ульгеш. Его тут же усовестили подзатыльником, но несильным, так, для порядка. А строгая большуха поглядела на него и неожиданно смягчилась в улыбке. Знаю, дескать, как невтерпёж тебе, книгочею.
— Так вот, — веско проговорила она. — К чему речь-то веду. Явилась ведь наша Волчица на родину не просто погостить да о себе рассказать. Про то, как исцелилась силой Луны, как в чужом краю взяла мужа, как дети уже взрослыми стали… От неё узнали в роду, что в Храме том являлась людям Лунная Книга. Только не такая, малыш, как ты из огня спасти силился… Твою лишь один человек в руки взять может, а та Книга могла сразу в разных местах, у разных людей быть. Твою люди сделали, люди в ней и вольны, а та — волшебная, со своим разумением, ей не больно прикажешь. И Волчица наша некую крупицу той Книги с собою в род принесла.
Зачем принесла, спросите? А затем, что в Храме ей предсказали: дескать, однажды придёт к Волкам беда превеликая. Да, как водится, не одна. И что от бед тех Волкам след просить помощи у милосердной Луны. Как просить? А про то как раз в волшебной книге и сказано было.
И начала наша странница Волков учить, как с Луною беседовать. С тех-то пор горловое пение у нас и повелось. Стали Волчицы в полнолунные ночи собираться и добрую Луну своим пением чтить…
И всё было бы хорошо, унаследуй мы от Праматери нашей поболе ума. А то ведь как вышло? Ждали-ждали обещанных бед, а они всё не наступали. И начали мы, недалёкие дуры, чем-то пренебрегать, а что-то вовсе запамятовали. И книгу — не ту Лунную Книгу, что в Храме нашей страннице на время доверили, а уже нашу, Волчью Книгу, где тайны святого поклонения особым письмом записаны были, сохранить не сумели… Спасибо Синеоке, лучшей нашей певунье. Она одна у нас всё как есть помнит-знает, даром что поведать внятно не может. Лишило её, бедняжку, горькое горе речи и разума… Сумели бы мы без неё Луну на помощь позвать?..
Большуха замолчала, задумавшись, а Бусый невольно прижал обожжённые ладони ко рту. Была у него привычка рот себе закрывать, когда распирали душу тысячи слов, лишённых порядка и смысла.
Молчание неожиданно прервал Соболь. И так получилось, что дед сказал как раз то, о чём заставил себя молчать внук.
— Я так думаю, — проговорил он негромко, — что на самом деле не утратила Синеока ни разума, ни осмысленной речи. Просто уснула её душа, как ледяным зубом уязвлённая. А сейчас — оттаивать стала и просыпаться. Волки, она уже заговорила! Без слов, но заговорила. Вон и внук мой не даст соврать, он тоже заметил… Мальчишка, которого мы Беляем прозвали, услышал её и понял. За мать родную в беспамятстве посчитал, ибо заговорила с ним Синеока на родной его молви. А молвь эту даже мне слышать не доводилось… Да что мальчишка, если Синеока до самой Луны докричаться сумела! Так дело пойдёт, скоро милостью Богов и с нами заговорит спасительница наша!
Итерскел, рядом с которым стоял Бусый, то ли вздохнул, то ли застонал, то ли зарычал… Бусый вскинул глаза и увидел, с какой надеждой и мольбой смотрел на Соболя потомок Медведя. Бусый знал, что Итерскел готов был хоть нынче посвататься, и вряд ли Синеока пожалела бы для него бусины, но… только кто ж его примет в род, позволив жениться? Его, которого собственные родовичи выкинули, точно мусор негодный? Что они там за люди такие? Родниться с болотными угрюмцами, о которых слова доброго никто не слыхал?.. А нешто в добрых веннских родах славные парни перевелись?..
Большуха вздохнула.
— Так вот, — сказала она, — про книгу-то нашу.
Та Волчица, странница наша, избравшая следование за Луной, пока жила дома и прабабок наших учила, всё книгу писала. Много чего было в книге той. И про пение горловое, и про тайны Храма Луны, и про диво Книги волшебной, и про всё, что в жизни пришлось повидать… А к тому ещё и сказания нашего рода, из уст в уста дотоле передаваемые. Всё записала — ей одной ведомыми, тайными письменами…
А потом ушла. Вместе с книгой своей, чтобы по пути её дополнять. Ненадолго, сказывала, уходила. Прослышала от людей про пение вельхов, захотела всё разузнать. Вернуться вскорости обещала, сулила книгу свою драгоценную читать научить… Да только с тех пор нашу Волчицу никто больше не видел. Как в прорубь канула. И книгу свою с собой унесла.
Искать её пытались… К вельхам ездили, к сольвеннам, до самого Галирада, расспрашивали купцов, обращались чуть не к каждому встречному… Всё без толку!
Вот бы хоть что-нибудь разузнать о судьбе её! Да только кто ж теперь пройдёт по следу давнему? Сколько лет минуло…
Бусый заметил, как большуха, произнеся последние слова, незаметно покосилась на Итерскела. Глянула на него оценивающе и со значением. Ой как сразу вспыхнули у парня глаза!.. Мысленно Итерскел уже нёс большухе на ладонях Волчью Книгу Луны. Теперь он не отступится, пока этого не произойдёт. А тогда и бусину у Синеоки просить можно будет. Потому что такой жениховский подвиг кому попало исполнить не предлагают. А исполненного — не отвергнут.
В глазах Итерскела уже мерцали отсветы дорожных костров и туманились дымкой далёкие горные перевалы. И Бусый вдруг явственно понял — уже не первый раз за свою короткую жизнь: вот оно и случилось. То, что со всей определённостью предвидел, но смутно, не умея выразить ни словами, ни даже внятной мыслью.
«Вот оно и случилось. И ведь я знал с самого начала, что именно так всё и будет.
Я знал с самого начала, что насовсем мы у Волков не останемся…»
Он быстро глянул на Соболя (заметил ли дедушка?) и даже не удивился, когда глаза старика блеснули точно таким же предчувствием скорой разлуки и путешествия дальнего.
«Он тоже знал?..»
Бусый нашёл взглядом Ульгеша. И увидел, что тот уже придвинулся поближе к Итерскелу. А у самого глаза затуманены, спит наяву и видит, как в дороге станет расспрашивать встречных и поперечных о великом вожде, изгнанном из Мономатаны. Всё правильно, под лежачий камешек вода не течёт, вести об отце вряд ли доберутся до сына, останься он сидеть в глухом веннском лесу.
«А я?!.»
Бусый спохватился и понял, что успел навоображать себе закат над речным берегом и почтенного старца, гладящего бороду почему-то беспалой рукой. «Иклун Волк?.. Как же, как же, встречал я его. И с ним ещё была та женщина… С глазами, как у тебя…»
И стало жаль, что нельзя было прямо сейчас похватать что ни попадя в дорожный мешок и сразу пуститься в неведомый путь.
И стыдно перед Волками, перед заново обретённой роднёй и домом, который он только-только нашёл.
«А Посвящение как же?..»
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
— Стой! Надо лошадям роздых дать.
Правду молвить, роздых требовался не только лошадям, тащившим на цепях в деревню неохватные брёвна. Бусый и Ульгеш, которые с рассвета водили лошадей под уздцы, отгоняли порожними за новым грузом и обороняли от мух, — едва не падали с ног, только ни от одного, ни от другого жалоб не было слышно. Какой мальчишка, чающий Посвящения, станет жаловаться и скулить, сознаваясь в непомерной усталости? Другие вон вовсю себя трудят, а я что — немочь бессильная?! Я — Волк! Мне упорства не занимать!
Бусый поглядывал на других мальчишек и видел, как тусклыми облачками опускалась на них усталость, умеривая обычно яркое биение жизненных токов, и как у многих эта серая пелена исподволь перековывалась в серебряную сталь упорства. Упорства, которое рождается, когда тело, измученное работой, уже и хныкать перестаёт, уже и не просит пощады да роздыха, — трудит и трудит себя и восходит к новым высотам выносливости и силы…
«Так ли у меня? Этот венец серебряный?.. Вот бы со стороны на себя посмотреть…»
Что-то шевельнулось в памяти, Бусый успел ухватить показавшийся образ и вспомнил, где видел подобное серебро. Да такое, что не просто мерцало, а топорщилось клинками, силилось уязвить.
Ну как же — у того мальчишки с сизыми волосами, найденного в завалах. У Беляя. Который на одном упорстве, запредельном и страшном, удерживал в себе жизнь. А потом употребил все остатки сил на то, чтобы ударить явившуюся подмогу.
Одно воспоминание потянуло за собой другое, перед внутренним оком Бусого мелькнул обрывок недавнего сна. Загнанный в угол крысёныш. И меч, вроде бы неуместный в лапке зверька, но тем не менее явившийся в ней, чтобы дрогнул, не довершил замаха чей-то хлещущий кнут…
Бусый вытер мокрой тряпкой глаза и ноздри коню, и усыпанная хвоей земля неодолимо потянула его к себе. Удалось бы после подняться!..
Быстроногая девчонка-Волчишка, которую к суровой мужской работе, понятно, не допустили, уже примчалась из деревни с кувшином простокваши и щедро плескала её в берестяные чашки. Простокваша не была настоящей едой, приготовленной в домашней печи, она сама прокисла в клети, её Правда не возбраняла. Бусый жадно присосался к плетёной посудинке и поискал глазами Ульгеша — не забыли ли про него, не обнесли ли?
И увидел такое, что ощутил даже лёгкий укол зависти. Оказывается, его мономатанский ровесник, даром что тоже весь день ворочал брёвна и рубил топором корявые сучья, даже на отдыхе не свалился без сил, а нашёл себе дело. Сел у пня, особым образом скрестил ноги (Бусый пробовал так сидеть, но не мог долго вытерпеть, а Ульгешу было как раз) и… достал из поясного кармана маленькую книжицу. Из тех, с которыми, бывало, не расставался его приёмный дедушка Аканума.
«Ну точно девка прилежная: чуть руки освободятся, она на прялку их возлагает…»
Ульгеш поднял на него глаза и сказал:
— Я плохо слушал наставника, когда он меня вразумлял. Теперь я должен своим умом постичь всё, чего он не успел мне преподать.
Бусый молча кивнул. Некоторое время он лениво разглядывал сосновые ветки, качавшиеся в вышине. Усталость тела поднималась болотной водой, делая мысли неповоротливыми, точно сонные рыбы. Потом Бусому явилась на ум Волчья Лунная Книга, которую они вроде как собрались помочь искать Итерскелу.
Он переполз поближе к Ульгешу, приподнялся на локте, заглянул ему под руку… К его некоторому разочарованию, в книге ничего не было нарисовано. Плотные желтоватые страницы покрывали ни на что не похожие чёрные закорючки. Бусый знал, что они были наделены смыслом. Он долго разглядывал их, но так и не увидел ничего, помогающего этот смысл разгадать. Письмена были красивы, но они не складывались для него во внятный узор, как, например, стежки вышивки — в красноречивый для всякого венна узор на подоле рубахи. Один взгляд — и становится ясно, что за человек, откуда пришёл и, в общем-то, чего от него ждать… Второй взгляд — и, бывает, по имени можно здороваться… А тут? Уж не так ли эти знаки беседуют с человеком, как лики предков на святом столбе — со старшими рода, пришедшими за советом?
Он даже слегка рассердился, как всегда с ним бывало, когда новое умение не давалось с налёта, и буркнул:
— Ты что, так весь день её с собой и таскал?
Ульгеш заложил книгу пальцем и вздохнул.
— Я, наверно, дурак, — проговорил он негромко. — Во мне не нашлось прилежания, когда было время учиться и рядом сидел мудрый наставник. А теперь я себя словно наказываю за лень.
Бусый устроился поудобнее и отпил ещё простокваши.
— А что за книга-то?
Ульгеш снова вздохнул.
— Я её взял сюда потому, что она не только исполнена знаний, но и забавна. Она называется «Удивительные странствия», её написал аррантский мудрец по имени Эврих из Феда. Дедушка Аканума высоко ставил этого учёного, ибо он умеет поведать о необыкновенном и важном, но так, что ты не заснёшь над страницей, но, наоборот, захочешь поскорей склониться над следующей… — Ульгеш виновато улыбнулся и добавил: — Благородный Эврих много странствовал по тем краям, откуда я родом. И я, несчастный, из книги пытаюсь узнать о том, что мне надлежит по праву рождения.
Бусый вновь подумал о святых ликах, которые не оставят без совета умеющего о нём попросить. И о вышивке, понятной каждому венну, но бессмысленной для чужих глаз, вот как для него — эти чёрные закорючки. Он спросил:
— Эта книга говорит с тобой оттого, что она тебе родная? Ты смотришь в неё и видишь людей, деревья и храмы, потому что сам из Мономатаны?
Ульгеш окончательно понял, что углубиться в чтение ему не дадут, и принялся объяснять:
— Дело тут не в родстве. Я же сказал тебе: её написал учёный аррант. Аррант, а не мономатанец. И письмена в ней — аррантские. И язык Дедушка говорил, что взыскующему настоящей учёности необходимо постичь аррантский язык Равно как сольвеннский и саккаремский…
Бусый огорчённо сознался:
— Ничего не понимаю. Ты хочешь сказать, что чужой человек приехал в твою страну и сделал на листах аррантские знаки и они взывают к тебе, хотя ты держишься иного обычая?
Ульгеш сосредоточенно нахмурился, не зная, как объяснить.
— На самом деле, — сказал он погодя, — это не они ко мне, это я к ним взываю… — Тут его глаза вспыхнули янтарём, он вдохновенно воздел палец: — И ты можешь воззвать! И тоже узнать, что написал мудрый Эврих из Феда!
У Бусого аж голова закружилась.
— Это как? — выдохнул он. — Я же не мономатанец… И не аррант…
Ульгеш положил книгу на пень.
— Но ведь ты поймёшь речи арранта, если знаешь его язык, так? А тут, — он ткнул пальцем в обложку, — заключены речи Эвриха, начертанные особыми знаками. У вас ведь делают для памяти зарубки на палочке, которую всюду носят с собой? Вот и тут так же, только зарубок много и все разные. И получается, что Эврих как бы говорит со мной из книги, слово за словом…
Бусый давно забыл про подступившую было сонливость. Нечто готово было приоткрыться ему, нечто необыкновенное, казавшееся сравнимым с чудом полёта на крылах симурана. Он живо вообразил себе почтенного старца, похожего на Горного Кузнеца. Старец что-то рассказывает, его слова исходят из уст и послушно укладываются на листы, оставаясь на них замысловатыми символами… Бусый, конечно, знал, что письменные знаки налагают на листы без особого колдовства, просто руками и особой палочкой, обмакнутой в краску, но душе очень хотелось чуда, и он без труда представил его.
Вслух же он неуверенно и вместе с тем жадно спросил:
— Погоди! Вот ты говоришь… я тоже могу… Ну хоть покажи, какая закорючка что значит? Ведь разных слов… их же столько! Как звёзд на небе! А тут у тебя в книге… Смотри, вот эта и здесь, и здесь, и ещё здесь! Тут что, об одном и том же рассказано? О чём?
И снова Ульгеш вынужден был задуматься. Объяснять нечто такое, что для него само собой разумелось, неожиданно оказалось очень непросто. В конце концов он подобрал сучок, начал водить по земле.
— Дедушка говорил, — начал он, — есть народы, халисунцы к примеру, у которых действительно что ни слово, то особый письменный знак Они знают своё письмо самым мудрым и правильным, только чужеплеменнику в нём разбираться — и правда, что звёзды в небе считать: поди столько упомни! А вот мы, арранты и саккаремцы с сольвеннами придумали не целые слова знаками обозначать, а частицы слов. Только саккаремцы… ну, скажем… крупными кусками каждое слово режут, а можно — более мелкими. Вот, смотри, я твоё имя написал. По-саккаремски в нём два знака. Это — «бу», такая частица и в других словах есть. А это — «сый», она…
— Русый, — подсказал юный венн. — Белёсый…
И это непроизвольно вернуло его мысли к Беляю. А Ульгеш продолжал:
— Вот твоё имя по-аррантски, видишь, четыре знака понадобилось и добавочный хвостик! А вот — нашими буквами, здесь их целых пять!
Бусый зачарованно смотрел на землю. Он впервые в жизни не слышал, а видел собственное имя. Чувство было непривычное, но приятное.
«Это как… — Бусый задумался, с чем бы его сравнить. — Как в лесное озеро посмотреться и себя в нём увидеть… Ну, почти…»
— Слушай! — Он так и вскинулся, укушенный неожиданной мыслью. — А давай я тоже сейчас на земле закорючки нарисую, а ты истолкуешь!
Выхватил у мономатанца сучок, словно других кругом не было, разгладил рядом со своим именем землю и принялся увлечённо царапать.
Ульгеш с большим сомнением следил за тем, что казалось ему бестолковой затеей. С Бусого станется — начертит сейчас абы что и велит считать это буквами. Или без порядка и смысла повторит знаки, подсмотренные в «Странствиях». А потом ещё скажет, мол, раз не истолковал его речи, уложенные в памятки на земле, то и…
…Но потом на чёрном лице Ульгеша начало проявляться бесконечное изумление. Того, что он видел, просто не могло быть — но это было! Его ровесник-венн, перед которым мудрый наставник никогда не раскрывал книгу, — этот венн не просто рисовал красивые аррантские буквы, смысла которых не понимал и понимать не мог, — нет, Бусый писал!
Он выводил слово за словом на языке просвещённой Аррантиады, которого даже и не слыхал никогда…
— Вот. — Закончив работу, Бусый с надеждой взглянул на друга и пояснил: — Я это внутри камня увидел, когда при Луне в него заглянул… На первой странице книги берестяной, которую в костёр бросили… Можешь ты к этим буквам воззвать, как мне говорил? Означают они слова какие-нибудь?..
— Означают…
Ульгеш с трудом оторвал взгляд от надписи на земле и так покосился на нетерпеливо ёрзавшего товарища, словно впервые увидел его. Бусый успел испуганно задуматься, уж не содержалось ли в берестяной книге какого кощунственного непотребства, но Ульгеш наконец открыл рот и медленно прочитал, на ходу перетолковывая с аррантского на веннский:
— «Именем Близнецов, прославляемых в трёх мирах, и Отца Их, Предвечного и Нерождённого. В эту книгу я, смиренный служитель Внешнего Круга, намерен вписать сказания добрых людей из племени, рекомого веннами, из рода, где знают себя потомками Серого Пса. Долго я странствовал, ища уединённого места, дабы завершить свои дни в размышлениях и молитвах, пока сии достославные язычники не приняли меня, изнемогавшего от холода и немощи, под свой кров…»
ЩЕНОК И РОСОМАШКА
— Дымка, буслаище, а ну назад! Назад, кому говорю! Ещё тебя, мокрого, мне тут не хватало!
Волкодав неохотно остановился у кромки льда, покрутился и сел на берегу. Почесал за ухом и стал очень неодобрительно наблюдать за хозяином, парнишкой четырнадцати лет отроду. По его мнению, если кто здесь и заслуживал называться буслаем, то уж всяко не он. Он, что ли, на ненадёжный лёд вылез, словно охота пришла в стылой полынье искупаться?..
Не-ет, Дымка был благоразумный взрослый кобель, и суки уже не огрызались на него, когда входили в охоту. А хозяин… да что хозяин. Временами — истинный вожак, за которым правильному псу совсем не грех следовать. Временами же, вот как теперь, — как есть щеня бестолковое.
Поначалу Дымка следил за ним с берега хотя и с неодобрением, но без особого беспокойства. Ну, провалится, ну, окунётся да вымокнет, и что за беда? Выберется на сухое, согреется у костра. Может, впредь поумнеет.
Однако Щенок, возводивший свой род к Серому Псу вовсе не намерен был оставаться на безопасном мелководье. Он уходил всё дальше по льду озера и пёс постепенно разволновался. Вскочил, начал поскуливать, забегал вдоль берега. А потом — дело вовсе для него небывалое — даже коротко взлаял. Всуе! Хозяин предупреждению внимать не желал.
Будь лёд хоть немного покрепче, Дымка обязательно догнал бы порученного его заботам Щенка. Догнал — и без церемоний потянул на берег за порты. Но тоненький новорождённый лёд его, тяжеленного, уж никак не удержит. Он и хозяина, лёгкого телом, тоже нипочём бы не удержал, но мальчишка это предусмотрел и вышел на озеро, подвязав широкие отцовские лыжи. Они, лыжи эти, и не давали ему покамест проваливаться. Хотя лёд трещал под ногами и прогибался, дышал, как живой.
Дымка опять взлаял: «Вернись, покуда не поздно!*
Остолоп-хозяин лишь рассмеялся да помахал рукой, даже не оглянувшись.
Дымка обречённо уселся, по-кошачьи обернул лапы, лохматым хвостом и приготовился ждать. Всё шло к тому, что хозяин вернётся нескоро. Даже если провалится прямо сейчас…
Мальчишка же, как и положено парню в начале жениховской поры, неколебимо верил в свою удачу и удаль. Да, тонок лёд, но Твердолюб телом вдвое легче взрослого мужика — или пса. Да и не впервой ему было. Он шёл мягко, умело, зорко высматривая и обходя совсем уже гибельные места. И лыжи, дедушкина работа, были что надо. Длинные и широкие, мехом подбитые, чтобы нога не осаживала назад. И по снегу непролазному ходить на них одно удовольствие, и по весеннему насту с горок летать, и по такому вот льду опасливо красться…
Твердолюб вышел на озеро не пустого молодечества ради, не для того, чтобы испытать свою способность одолевать страх. Один из сыновей довершил жениховский подвиг и прощался с родовичами, готовился насовсем уходить в деревню жены. Бабы с девками готовили пир на весь мир, мужики собирали подарки, кто во что был горазд. Твердолюб тоже раскидывал умом, желая порадовать старшего брата, чем-нибудь удивить его напоследок, да хорошо бы — с умом. Такое то есть учинить, на что не у всякого хватит соображения и сноровки.
«А то девки глупые надоели, так и норовят будто невзначай Твердолобом назвать. Да после ещё в кулак за спиной прыснуть…»
Чем же их пронять? Охотой? Ну, принесёт он из лесу красной свежатины, так и без его трудов в общинном амбаре мяса достаточно, и свежего, и мороженого, и копчёного. Вздумал бы ещё среди зимы снегом людей удивлять… твердолоб!
Думал-думал парень — и решил попытать счастья в рыбалке. Тоже дело вроде привычное, вот только по первому льду венны на озёрах промышляли нечасто. Пока лёд основательно не окрепнет, зимней рыбалке не начаться. А осенняя — удочками и сетками, с лодок или просто с берегов — уже завершилась.
Что скажут насмешницы-девки, когда он явится домой с нежданным гостинцем, с отменным уловом, с дюжиной откормившихся щук?
…Твердолюб выбрался на середину озера, к поросшей камышом отмели, где, как он знал, в подводных зарослях почти всегда стояли, карауля беспечную рыбью мелочь, здоровенные хищницы. Летом их нелегко рассмотреть с лодки, мешает ряска, плавающая среди камышей, дробит взгляд игра воды на ветру. Но с наступлением морозов ряска опустилась на дно, снега — обильного, чтобы удержался на гладком, — ещё не навалило, и лёд стоит до того зоркий, что кажется — идёшь, точно водомерка, прямо по неподвижной поверхности. Зато притаившиеся щуки должны быть хорошо видны сверху.
Твердолюб медленно двинулся вдоль стены камыша, подбираясь против солнца, чтобы не спугнуть рыбу перемещением тени. При каждом вздохе тоненького льда дыхание в груди замирало, но разгоревшийся азарт постепенно вытеснил страх. А вскоре, заметив первую щуку, Щенок попросту обо всём позабыл.
Он крался к ней со всей осторожностью. Не дыша, даже стараясь прямо не смотреть на добычу. Старшие говаривали, будто рыба — не олень и не волк, пристального взгляда не чует. Но мало ли, а вдруг? На рыбалке и на охоте не бывает лишней опаски…
И рука тихо-тихо вытягивала топор из поясного чехла…
Потрескивание льда под лыжами оглушительным грохотом отдавалось у Твердолюба в ушах, но щука почему-то не желала пугаться.
«А что, лёд, бывает, трещит и сам по себе… Рыба, видно, привыкла…»
Удачно подошёл, не вспугнул. Очень медленно поднял топор, постоял ещё. И, решившись, резко обрушил обух на лёд. Прямо у щуки над головой.
Он не просто вершил такую рыбалку самый первый раз в жизни, он никогда раньше даже не видел подобной. Только слышал минувшей зимой от одного женатого Пса, заглянувшего в гости к прежней родне. С тех пор Твердолюб временами вспоминал, его рассказ и праздно гадал, много ли приврал mom Пёс для красного слова.
Пока не удумал всё проверить на деле…
Он был готов к неудаче (о которой, по счастью, не сведают языкастые девки), но, поди ж ты, всё действительно получилось! Эхо удара застигло рыбину сквозь тонкий лёд и слой воды — и оказалось достаточным, чтобы её оглушить. Она всплыла брюхом вверх, беспомощная и неподвижная, и мальчишка не дал ей времени опамятоваться. Трясущимися руками вырубил маленькую лунку и успел подхватить щуку за жабры. Есть почин!
И пошло дело. За первой рыбиной в берестяной кузов скоро полетела вторая, потом третья, пятая… Вместительный кузов постепенно делался тяжелее, а тонкий лёд, начавший к тому же подтаивать на солнышке, всё жалобнее постанывал под лыжами…
Удачливый рыболов ничего не замечал. За него встревожился Дымка.
Он вскочил, пробежался по берегу, потом снова коротко взлаял, предупреждая хозяина… Твердолюб только отмахнулся — не мешай, дескать. Не пугай щук!
Но потом всё же подумал, а не пора ли и в самом деле заканчивать промысел? Добыча-то какова — целых одиннадцать рыбин, матёрых, с тугими толстыми спинами. Пора, наверное, честь знать. Даже если бы и лёд был покрепче, всё одно не дело лишнего брать…
«Ещё одну словлю, как задумывал, — решил наконец Твердолюб. — Чтобы ровно дюжина была, красное число. И — сразу домой!»
Пёс хозяйского решения не одобрил. Снова встал, принялся обнюхивать родные следы, потом выискал лёд попрочней и очень осторожно двинулся на середину… И конечно, почти сразу провалился. Выскочил обратно на берег, вытряхнул воду из пушистой шубы. Заскулил жалобно, почти по-щенячьи.
Всё зря!
Последнюю рыбину так и не удалось вытащить. Удар обуха слился со всхлипом рассевшегося под лыжами льда, с негромким вскриком мальчишки и визгом верного пса, бросившегося на выручку. Тяжёлый кобель немедленно провалился опять, но не стал возвращаться на берег. Ломая лёд, он начал пробиваться к хозяину.
— Назад, Дымка! А ну, живо назад!
Пёс послушался не сразу, но всё же послушался. В основном потому, что немедленная гибель хозяину не грозила. Если бы грозила, тут его никакой приказ бы не остановил.
А Твердолюб, провалившись, больше осерчал, чем испугался. Ну надо же, так славно всё шло, и всё-таки нарвался на незадачу! Первым делом он освободился от кузова, затем отвязал под водой лыжи. Положил их на лёд, устроил сверху кузов. Осторожно повернулся боком и стал медленно выволакиваться из полыньи.
И опять с головой ушёл под воду. Лёд отказывался держать уже совсем. Лопался широкими пластинами и тут же распадался на мелкие льдинки.
Твердолюб не оробел и тут. Отфыркиваясь, высвободился из набрякшей меховой куртки. Бережливо поднял её на лёд, выпихнул подальше от полыньи, к отцовскому топору, лыжам и кузову. Вновь погрузился, стащил сапоги и кожаные штаны, тоже выкинул на лёд. Вот теперь должно получиться!
Голое гибкое тело ужом выскользнуло из воды…
Если бы лёд вновь затрещал, дело могло стать нешуточным. Пришлось бы и дальше откалывать пласт за пластом, ища, пока не попадётся место покрепче. Такого места могло не случиться до берега, а берег был неблизко. «Вот так и находят порой дурня-рыболова — плавучим бревном вмёрзшего…»
По счастью, лёд его пожалел — выдюжил. Парень окончательно выбрался из воды, животом лёг на лыжи. И, как был нагишом, медленно-медленно пополз на них, точно на санках, прочь от чёрного, жадно раскрытого, исходящего паром рта полыньи… Лёд держал.
«Спасибо, батюшка Водяной… Коли вправду помиловал…»
Не ощущая холода, Твердолюб подполз к раскиданным пожиткам, связал их верёвкой, взял в зубы конец. И тогда уже направился к берегу. Только саженей через десять, когда лёд перестал зловеще потрескивать, он позволил себе вздохнуть с облегчением. Встал на лыжи как полагалось — и пошёл, волоча на верёвке поклажу. Тут до него добрался холод, но Твердолюб знал, что прежде берега не замёрзнет. А там — разведёт костерок, согреется и обсушится. И никто и не сведает про его срам, доколе сам не расскажет.
«А что, и расскажу. Потом как-нибудь. Через годик-другой…»
Он совсем не смотрел вперёд, только под ноги где, в общем-то, всякий миг могла разверзнуться новая полынья. И вскинул голову в шапке обледеневших волос, только когда ветер обласкал его запахом дыма.
И ухнуло Твердолюбово сердце в самые пятки, а потом ещё ниже, сквозь лёд, в глубокие тёмные ямы, к рыбам и ракам!
На берегу его ждал жарко полыхавший костёр. У огня с невозмутимым видом сидел Дымка. А подле — девчонка-ровесница из соседней деревни, Росомашка.
И понял Твердолюб, что настал ему самый последний конец. Страшно даже подумать, чего понарассказывает зловредная девчонка подружкам. В каких ярких красках распишет, как он, голый, волок по льду свои штаны, промокшие в полынье. Вот смеху-то будет! На семь окрестных деревень! А каким прозванием его небось теперь наградят!.. Таким, что былой «Твердолоб» великой честью покажется…
— Твёрд, Твёрд! — встретила его Росомашка. — Давай скорее к огню! А я одёжу распялю!
Он даже не вдруг понял, о чём она толковала. Всё ждал насмешек, от которых — хоть назад в прорубь, да с головой.
Пунцовый от стыда и лютой досады, он подошёл к костру, отвернулся, начал выдирать лёд из волос. Девчонка сбросила тёплый кожух, оставшись в одной суконной свите:
— Бери, надевай! Твои порты пока ещё высохнут!
«Ну вот, началось. Теперь жизни точно не будет. Да чтоб я… два года уже, как Посвящение принял… да в женский кожух!!!»
И ничего ведь не поделаешь! Девчонка — не парень, которому за такие слова и в ухо можно было бы дать.
Твердолюб затравленно глянул на мучительницу… Карие глаза Росомашки неожиданно показались ему огромными и какими-то беззащитными. В них не было злой насмешки. Ни малейшей. Была тревога и жалость, идущая от сердца, а потому и не такая уж обидная. И — желание помочь. И — ещё что-то… Что-то очень хорошее, но такое, что думать и гадать вдруг стало ещё страшней, чем барахтаться и не знать, выпустит ли полынья…
— Не надо мне кожуха, — буркнул он, поспешно отводя взгляд. — Теперь не застыну.
— А здорово ты придумал щук таскать, — сказала Росомашка. — И из воды ловко выбрался! Я бы, наверное, так не сумела. Если бы сразу со страху вовсе не померла…
— Так ты что, — ахнул он, — за мной с самого начала смотрела? Скрадывала, выходит?
«И Дымка… не предупредил… предал!!!» Тут пришла пора рдеть от жаркого смущения Росомашке. Она спрятала было взгляд, но тотчас, больно закусив губу, вновь посмотрела. Прямо в его серые глаза — своими карими, отчаянными и доверчивыми.
— А вот и скрадывала! Напала в лесу на ваши с Дымкой следы… А что делать, ежели мне по ночам с лета снится, как ты у меня бусину просишь?
Твердолюб оторопело молчал.
— Ну вот! — сама себе кивнула Росомашка. — Всё высказала. А и делай теперь что хочешь! Можешь прочь погнать за то, что выслеживала. Да не бойся, ни одна душа от меня не узнает, как ты под лёд проваливался…
Она вскочила на ноги и стояла, готовая горько расплакаться и убежать, пропасть в ранних сумерках — и никогда после не сознаваться, что эта встреча на берегу на самом деле была.
А жарко вспотевший Твердолюб сидел дурак дураком и заполошно вспоминал её имя. И никак вспомнить не мог.
— Бажана, — выговорил он наконец. — Бажанушка…
СВЯТОЙ МЕЧ
Вечерняя баня этого дня окончательно очистила мужчин-Волков от скверны, если какая и была, и жёны увели их, переодетых в чистое, по домам. Кормить настоящей человеческой пищей, заново приобщать к святым очагам, к своим объятиям…
— Дедушка, — начал Бусый, пока они с Соболем и Ульгешем шагали к дому Отрады. — Помнишь, ты сказывать велел, если будет сниться что необычное?
Соболь внимательно посмотрел и кивнул.
— И особо, если какой сон повторится…
— Мне снится меч, — сказал Бусый.
— Какой меч?
— Серебряный, — ответил мальчишка. Подумал и уточнил: — Как луч лунный. Ну, вроде тех, которыми Луна нас от Змеёныша оборонила… Вот и меч тот… оборонить силится. То я сам им рублюсь… как бы я — и не я вовсе… А кругом тьма, и враги со всех сторон наседают… — Тут он призадумался, говорить ли про загнанного крысёнка, и решил всё же сказать: — А то вот крысёныш малый привиделся, вроде как кто его плетью хлещет, он отбивается. Я помочь, жалко ведь, а тут у него в лапке серебряный меч себя оказал… К чему бы, дедушка?
— Не знаю пока, малыш, — задумчиво проговорил Соболь. Попробовал бы кто другой назвать Бусого малышом!.. Обиделся бы, кулаки сжал. Только дедушке было можно, от него это воспринималось как ласка, как подтверждение их с Бусым родства. А Соболь продолжал: — Сегваны, те торопятся сразу истолковывать сны, ибо верят, что те сбываются именно так, как их объяснили. Но мы не сегваны, верно? Я, к примеру, вырос в Саккареме…
«Да помню я, помню…» — мысленно подосадовал Бусый, но ничем не показал своего нетерпения, да и правильно сделал.
— Так вот у нас, — сказал Соболь, — если начинают вспоминать старину, обязательно заведут речь про то, как через реку Малик, по-здешнему Край, некогда хлынули на нашу землю враги. Степные кочевники из Халисуна. Были их, сказывают, неисчислимые тьмы, такие, что солнце над Саккаремом померкло аж на двести лет…
Благородный Зелхат, с которым по молодости я был немного знаком, объяснял нашествие засухой и смертельным голодом, постигшими в тот год Халисун. Он говорил, кочевники ринулись через Край, потому что спасали от смерти своих детей. И дрались отчаянно, так, что не нашлось силы, способной их удержать. Саккарем пал, и уже наши дети остались без пищи и крова, потому что халисунцы нас обобрали до нитки. Зелхат говорил, что на самом деле земля была способна прокормить и тех и других, но не мне об этом судить. Для нас, саккаремцев, это была чёрная напасть, в одну осень выкосившая половину страны, а кто уцелел, оказались у завоевателей в рабстве. Я тебе даже так скажу: сколько веков минуло, вроде всё давно улеглось, а вот написал Зелхат в книге, будто халисунцев не злобная кровь погнала через Малик, а голод и страх, — и шад Менучер немедля решил, что старик его первому готов был продать, кто только заплатит. Это всё я к тому, что память о тех временах у нас по сию пору больная.
Чёрный дым накатился на солнечный лик
Саккаремская кровь обагрила Малик
Погибают сады, погибают стада —
Из-за Края на землю явилась беда.
У беременной бабы распорот живот.
По кровавой реке колыбелька плывёт…
Соболь вдруг поперхнулся, как будто в горло что-то попало. Пока он откашливался, Бусый успел люто пожалеть, что не родился много столетий назад в далёкой стране Саккарем. Уж он точно оборонил бы непраздную жёнку. Сделал так, чтобы не качалась на багровых от пожара волнах сиротская зыбка. «Хотя… Ведь во мне кровь дедушки Соболя, а значит, и нашего далёкого предка, который жил в те времена! Стало быть, частица меня в самом деле резалась с халисунцами и отстояла ту бабу, а сказитель всё выдумал, чтобы было страшней…»
И хотя земная и трезвая часть его разума внятно подсказывала, что дело скорее всего завершилось бы, как в той деревне Сынов Леса, разорённой Мавутичами, — Бусый яростно отвергал её доводы и всей силой души не желал верить.
А старинную саккаремскую песню вдруг продолжил… Ульгеш:
Мы для горькой неволи рождались на свет,
Но на всякую силу найдётся ответ!
Пусть огонь до поры и укрыла зола,
Не навек воцарилась жестокая мгла.
И настала пора, и в кромешной ночи
Серебром полыхнули святые мечи…
Бусый распахнул рот что-то сказать… да так и позабыл снова закрыть. Даже Соболь удивлённо поднял брови:
— Ты что, слышал нашу песню, малец? Ты бывал в Саккареме?
Ульгеш развёл руками:
— Я был в Саккареме, но совсем младенцем и ничего не запомнил. Мне эту песню наставник Аканума из книги читал… Книга та — о державе Саккаремской и сопредельных народах. Сам я её не одолел ещё… Если хочешь, возьми!
Соболь отрицательно покачал головой:
— Я не выучился читать, малыш. Начинал однажды, но не до того стало… А потом — и так обошёлся.
«Дедушка обошёлся, а я куда лезу? — окоротил сам себя Бусый, уже начинавший видеть в каждой трещине коры аррантские закорючки из „Удивительных странствий". — И мне незачем…»
— Так вот, — сказал Соболь. — Ты, Ульгеш, сейчас помянул серебряные мечи, а я, так уж вышло, в руках один из них сподобился подержать. Но давайте-ка обо всём по порядку…
Двести лет халисунцы держали нас на коленях, но потом Саккарем всё-таки поднялся. И повёл его человек, которого звали Курлан. Кто-то числит его род от прежних шадов Саккарема, Другие считают Курлана просто благородным и даровитым вельможей, а третьи — то ли родным, то ли приемным сыном простого пастуха, но это неважно. Важно то, что потом люди назвали его шадом и святым покровителем Саккарема. А ещё он родил двенадцать сыновей и каждого вырастил воином и полководцем. Стали эти сыновья его руками и крыльями, стали стрелами и мечами страны.
Бились дети Курлана, себя не щадя… В одиночку выходили против сотен — и побеждали! На них глядя, вспоминали потомки рабов былую гордость и храбрость. Предков своих вспоминали, которые ни перед кем шею не гнули и никакую дань не платили. Снова от моря до гор пылал Саккарем, но теперь у нас была надежда. И вот — опять на реке Край — сошлись в великой битве наше и халисунское войско… Говорят, даже души убитых два века назад поднялись из земли и встали между живыми, чтобы искупить свой давний позор… И мы одержали победу, но в том бою великий Курлан лишился всех двенадцати сыновей, и горе выбелило его чёрную бороду.
Он тогда приказал похоронить своих детей вдоль границ державы Саккаремской. И вдоль Малика, и у пределов Вечной Степи, и в горах, и на морском берегу… С тем чтобы даже после смерти герои народ свой от врагов защищали. С какой бы из двенадцати сторон света не вздумали те нападать!
В могилы, как водится, и мечи были положены… Те самые, Богиней благословлённые, которыми храбрецы в последней битве рубились. Недаром в песне поётся, как их двести лет сокровенно ковали, так оно и было. Двести лет мы хранили тайны кузнечные, от стариков детям передавали, рук не покладая работали. И сумели вооружить героев своих мечами, как будто Небом дарованными.
Может, нынешним своим могуществом как раз и обязан Саккарем тем самым мечам… И процветает, ибо хранят его могилы братьев-героев, которых народ Стражами прозвал…
С самого начала могилы Стражей почитались священными. К ним ходили на поклонение, молились об урожае и мире, хворые просили исцеления, и бывало, что их надежды сбывались.
Но, так уж вышло, одни могилы оказались близ городов, другие — в безлюдной глуши, и, к стыду нашему, тропинки туда постепенно начали зарастать. Время не ведает жалости, и из двенадцати могил Стражей ныне известно лишь о девяти. Но это сейчас, а когда я служил в Горных Призраках, утраченными считались не три могилы, а целых четыре.
И конечно, всегда были люди, которым хотелось вновь отыскать потерянные святыни. Одни-с чистым сердцем на поиски устремлялись. Другие… ну, есть же и те, что собственную сестру в рабство продадут, лишь бы нажиться.
Вот и попустила Богиня, чтобы могилы Стража, затерянной в горах, где мы службу несли, такие нелюди и доискались. Им что! Раскопали, святые кости наружу повыкинули, золото да каменья ища… Только не было там ни золота, ни дорогих самоцветов. Лишь светлый меч у схороненного в иссохших руках. Высшая драгоценность, шадам и державе великая оборона!
Думаю я теперь, возжелала Богиня нам, смертным, дать испытание. Вразумить, заставить задуматься, чего мы все стоим. Уж чем я это заслужил, мне неведомо, но только моя сотня Призраков в то ущелье прямо и вышла. Туда, где стервятники среди раскиданных костей с добычей стояли…
— Ну? Где вы там?
Из дому выглянула бабушка Отрада, хотела поторопить Соболя с мальчишками внутрь, но посмотрела на их лица и больше ничего не сказала, только сама подошла послушать.
А Соболь посмотрел на Бусого и вдруг усмехнулся, безошибочно угадав:
— Что, малыш, думаешь, раз я их нелюдями нарёк, там страшилища собрались вроде оборотня Резоуста? Э-э, малый, если бы всё было так просто!
Грешен я, вроде уж и крови к тому времени понюхал, а чуть было им не поверил… Выглядели они как все добрые люди и речи вели очень даже разумные. Дескать, это шад поручил им могилу безвестную отыскать и меч из неё к нему во дворец доставить. Вот и думай, сотник, что делать! Видит Богиня, Менучер, шад тогдашний, и не такое вполне мог приказать… Помню, стою я, разглядываю то их, то могилу, молчу, а самому голыми руками святотатцев удавить хочется… И видно, я это желание совсем утаить в себе не сумел. Вот тут ихний набольший не выдержал…
Бусый сразу вспомнил, как шёл дедушка Соболь навстречу бывшему венну. Можно было представить, что за холод окатил душу могильного вора!
— Отозвал он меня в сторону, — неспешно рассказывал Соболь, — да и говорит: отпусти, сотник, заплатим тебе. Кошель с деньгами достаёт…
Я — опять молчу. А сам думаю, с чего бы это шадовым посланцам нас, стражу приграничную, подкупать? Если нас даже чужеземные подсылы неподкупными знали и нерушимо верными шаду?..
А набольший, видно, счёл, будто я ценой недоволен. Возьми да и брякни: как будем меч продавать, возьмём тебя в долю. Десять кошелей таких же получишь! Меч, мол, покупает очень могущественный владыка, который уж если чего захочет, так редко торгуется…
Вот оно, стало быть.
Я в те годы вашего обычая не держался… Знал уже — убью гниду, но поговорил с ним ещё. Всё вызнал: и как могилу по старинным картам разведали, и как с покупателем снюхались. Вот… А потом мы все кости честно собрали и меч Стражу обратно в руки вложили. Расшатали несколько скал и обрушили — никто больше с корыстью не подберётся… А тех отвели подальше, чтобы воровская кровь праведной могилы не замарала. И перебили без жалости.
— Значит, меч явился мне потому, что я твой внук?
Бусый смотрел на свои ладони и силился вспомнить, как лежала в них приснившаяся рукоять. Но с кожи ещё не сошли следы волдырей, и, странное дело, вместо меча на ум так и лезла обложка берестяной книги и палящий жар, из которого он её выхватил.
— Потому или нет, но, я думаю, неспроста, — сказал Соболь. — А ещё… Может, я от старости совсем уже поглупел, но… Знаете, малыши, в Саккареме у нас народ всё больше черноволосый. И я был в молодости как смоль, и сам великий Курлан родился таким же. А вот сыновья у него, если верить сказителям, все двенадцать удались светлоголовыми — в мать. Да не изжелта-белобрысыми, как многие халисунцы, а по-настоящему среброволосыми. Говорят, это знак, отметина избранности. Сам я в жизни таких волос ни разу не видел. До недавней поры…
— Мавутич, — ахнул Бусый. — Беляй!
Если б Соболь вершил свой рассказ в деревне у Белок, его внук, пожалуй, тотчас вспомнил бы о собственных волосах — и немедленно раздулся от мальчишеской гордости. Но Волки почти все были бусыми, в точности как он сам, а вот Беляй… Бусый не хотел верить, верить было противно, ведь Стражи оставили по себе святые могилы по границам освобождённой земли, а Мавутич пришёл сюда со Змеёнышем, пришёл убивать добрых людей. Как же так?
Но явственно ощущаемой истине не было дела до того, нравилась она Бусому или нет. Всё вставало на свои места: и небывалое мужество мальчишки, и его странная сила, и презрительное равнодушие к смерти и врагам. «Да, такой одинёшенек против сотни биться пойдёт и не дрогнет… И на колени не встанет…»
Ульгеш нахмурился, сопоставляя, и высказался за обоих:
— Он что, получается, твоих Стражей потомок?..
БОЙ В ПЕЩЕРЕ
Разговоры разговорами, а за день Бусый уработался так, что уснул, едва добравшись до лавки. Как тянул на себя овчинное одеяло — помнил потом, а как голова ткнулась в подушку — уже нет. Падая и проваливаясь, успел только позвать: «Таемлу! Приснись мне, Таемлу…»
И кажется, ещё улыбнулся, потому что плохие сны его в этой доброй, освящённой домашним очагом избе настичь ну никак не могли.
Таемлу действительно приснилась ему — как всегда, на ромашковой лужайке, залитой солнцем. Только сегодня она не плясала, а стояла грустная и какая-то задумчивая, особенно поначалу. Увидев Бусого, Таемлу, впрочем, захлопала в ладоши и засмеялась — радостно и беззаботно, и у него тут же отлегло от сердца.
Хоть и успело ёкнуть это сердце от некоего предчувствия, смутного, но весьма нехорошего…
Бусый уже приготовился было начать по-веннски степенную беседу, расспросив для начала о здоровье батюшки Таемлу, но шустрая девка, конечно, опередила его:
— Не журись, Красивый Бельчонок!.. Ой, или Красный, всё никак не упомню?.. Отец милостью Кан Милосердной наконец вжиль пошёл![8] И про тебя я всё знаю! Как Луна вас от смерти лютой укрыла!
— Верно, — удивился Бусый. — А откуда сведала-то?
— Да в чаше увидела, когда говорила с Богиней. Я ведь что ни ночь прошу у Неё толику мудрости — для себя и частицу силы — отцу. А ты… — Таемлу даже немного смутилась, — ты же мыслей моих не покидаешь… Богине ли того не знать? Она мне и открыла…
— А-а-а…
Бусый постарался напустить на себя умный вид, но Таемлу, конечно, не обманул.
— Что «а-а-а»? — передразнила она. — Всё знаю, всё видела!
— Всё видела?
Бусый даже испугался. Верно, он помнил, как Таемлу незримо для прочих ликовала с ним рядом, когда Змеёныша разметало безобидным солёным дождём. Значит, и страху вместе с ним натерпелась, когда смерть к деревне летела?
— Да не о том я! — Таемлу, как обычно, подслушала его мысли. — Неужели забыл? Книга берестяная, вот я про что! Которую Богиня Кан тебе в камне явила!
— А я теперь знаю, что в ней написано, — похвастался Бусый. — Мне знаки запомнились, а Ульгеш прочитал.
У девочки разгорелись глаза.
— Ну и что там?
Бусый пересказал надпись на берестяной странице.
Таемлу задумалась.
— Дивно, — проговорила она наконец. — По всему получается — жрец Богов-Близнецов написал. Только я не слыхала, чтобы они сказания иных вер с таким уважением когда поминали, а уж записывать… Их послушать, всё Небо одним Близнецам отдано, а иных Богов нет!
Бусый пожал плечами. Он-то знал, что Сегванские острова ограждал от злых великанов громовержец Туннворн, вельхи чтили Трёхрогого, а за Ульгешем присматривало Мбо Мбелек Неизъяснимое. Ну и что?
— Да ладно, пусть их! — махнула рукой Таемлу. — Лучше скажи, что дальше в твоей книге написано?
— Так ведь… Я же только первую страницу и рассмотрел! Деревянная крышка откинулась, я и…
— Погоди, но её кто-то спас из огня! Спас! И прятать унёс! Значит, можно ещё её полистать!
— А Луна, — подхватил Бусый, — на убыль нынче пошла, но кругла ещё…
— Ну так просыпайся и беги, лежебока!
— Спасибо, Таемлу! Батюшке кланяйся!
— Да хранит тебя Владычица Кан…
Последние слова Бусый дослушивал, уже поднимаясь с лавки.
Босую ступню, коснувшуся пола, тотчас облизал горячий шершавый язычок. Волчонок Летун, сразу и навсегда признавший Бусого за своего друга, ночевал тут же, под лавкой. И не просто ночевал. Стерёг, оберегал его от возможной напасти. Хотя сам был ещё очень слаб.
Бусый ласково взъерошил шерсть на голове малыша. Шепнул в ухо, тихонько, чтобы не разбудить никого:
— Поправляйся, дурачок, вместе в лес будем бегать… А сейчас — один пойду. И не скули! Куда тебе со мной, наперво стоять как следует выучись!
Едва высунувшись из дома, Бусый понял: нынче ничего не получится. Луну то и дело затмевали облака, ночь выдалась холодней предыдущей, с реки тянуло не зябкой свежестью, как вчера, а промозглой сыростью, ощутимо гнавшей назад, в избяное тепло. Всё-таки Бусый вышел на то же самое место — к обрыву над Звоницей, хоть и понимал, что делает это зря. Спины лесистых холмов всё так же поднимались одна из-за другой, уходя к далёкому горизонту, их то кутали летящие тени туч, то заливал холодный лунный огонь… Бусый смотрел вдаль, стоя на ночном весеннем ветру, и никак не мог уловить, вспомнить, вызвать в себе то чудесное единство с небом, лесом, речкой, со всем миром… С иными мирами, иными, незнакомыми гранями Великого Целого…
Когда-то давно он спросил у перехожего сказителя, забредшего к Белкам, как тому удаются такие складные песни. Сказитель, кряжистый дядька с весёлыми голубыми глазами, почему-то не погнал назойливого мальца. Отставил кружку с квасом, степенно обмахнул усы, задумался и после сказал: «А по-разному, чадо. Бывает, накатит волной, само из души хлынет так, что пальцы по струнам не поспевают! Но чаще инако: душу сперва потрудить надо, помыкать, потеребить, и тогда уже — не волной, струйкой тихой — но льётся. И случается, словно прорвёт внутри какую препону, и вот она снова — волна. А бывает, выжимаешь себя, как тряпку, а наружу, как из той тряпки, одна-две мутные капли… тогда и отступиться потребно. Квас вот этот небось тоже сразу не пьют, как только сухари с закваской смешают. Ему выбродить надобно…»
И чего ради Бусому было расспрашивать, а услышанное запоминать, ведь сам он песни складывать не посягал?.. И почему теперь всплыло?..
Он вертел камень, поглядывал на Луну, ёжился от холода и упорно вспоминал услышанное когда-то. Получается, не только сказителям ведомо, как воспаряет изведавший вдохновение дух. Может статься, вчера камень поведал ему самое главное, такое, что помогай Боги до конца дней постигать? Малым внукам рассказывать, как пережил, что не на всякую жизнь один раз выпадает?.. Как знать? А может, душу потрудить надо, чтобы повторилось? Или… совсем отступиться, домой уйти досыпать?
Бусый так и стоял в нерешительности, когда услышал за спиной шаги.
Шаги были знакомые и родные. Бусый уже не спутал бы эту неловкую походку ни с чьей иной.
— Тётушка! — Он обрадовался и самой Синеоке, и тому, что отвлекла, а то он уже собственный хвост начал было ловить. — Поздорову, тётушка! Тоже на Луну вышла полюбоваться?
Синеока, как водилось за ней, хотела ответить, но покалеченный разум точно споткнулся — лишь мычание вырвалось из её уст. Она мотнула головой, мягкие щёки залила краска, а в глазах, кажется, встали слёзы досады. «Я же знала, как говорить! — жаловался её взгляд. — А потом сразу забыла!»
Бусый взял её за руки и твёрдо сказал:
Ты, тётушка, не огорчайся и не спеши! Всё ты вспомнишь, всё у тебя получится. Так Соболь сказал! И большуха его слова подтвердила!
Синеока заморгала, робко улыбнулась, провела рукой по растрёпанным вихрам Бусого. Потом потянулась к камню, который он так и не успел спрятать в мешочек. Отдёрнула пальцы, несмело взглянула в глаза…
— А посмотри, тётушка! — загорелся Бусый. — Ты его Луне подставь, вот так! Чтобы свет вовнутрь проникал! Давай вместе посмотрим!
Как всегда, его мысли наскочили одна на другую и кувырком помчались вперёд, он уже собрался рассказать малой тётке о Таемлу, Идущей-за-Луной, о Кан Милосердной, дарующей исцеление не только телу… Но не успел.
Синеока взяла руки Бусого, державшие камень, в свои, поднесла их поближе к лицу, стала вглядываться в освещённую Луной глубину… И почти сразу коротко ахнула.
Бусый даже испугался, запоздало сообразив, что может ненароком подсмотреть ему вовсе не предназначенное… Но Синеока крепко сжимала его запястья и не собиралась их выпускать, и Бусый не дерзнул шевельнуться, чтобы не помешать её беседе с Луной.
И… может быть, лунный луч на мгновение обрёл вчерашнюю яркость и этого оказалось достаточно? Или душа Синеоки так билась в своей клетке, что добрая Луна сама потянулась навстречу?
Пещера. Дымный чад факелов. Молодой парень, сбитый на пол беспощадным ударом. Две родинки на левой щеке…
Отец!
Да, это он. Иклун Волк. Бусый уже видел его, когда Горный Кузнец первый раз показал ему пещеру и бой. Но старик не позволил увидеть, чем тот бой завершился. Наверное, пожалел сына, не дал смотреть на гибель отца.
Бусый считал себя сильным и готовым выдержать что угодно, но испытал немалое облегчение, убедившись: они с Синеокой узрели совсем другую схватку. Отец бился не со своим погубителем, а с кем-то иным.
Вот, сцепив челюсти, Иклун Волк не дал вырваться крику боли и встал. Да не встал, а вскочил, пружинисто-невесомо, как сам Бусый недавно обучился и полюбил делать, — тело так и отозвалось, напрягаясь в знакомом движении, Бусый едва успел вовремя спохватиться… И увидел, как Иклун стремительной тенью метнулся в сторону, собой закрывая кого-то от врага…
Мама!!!
Заплаканная девчонка чуть постарше Таемлу, сжавшись, затравленным зверьком смотрела на него из волшебного камня. Мама, мама, как утереть твои слёзы, как отогнать и рассеять придавивший тебя ужас? Как растеплить слабенький огонёк надежды в твоих синих глазах?..
На что же она сейчас надеется, на кого? Стой крепко, отец! Не допусти, покуда живой, надругательства над любимой!
Отец взмахивает кнутом, обрушивая на врага страшной силы удар… И сам вдругорядь валится, подрубленный ещё более быстрым ударом, таким, что не поспевает уследить глаз. Его противник много искуснее владеет кнутом…
Кто же он, этот мастер кнута, обидчик матери, лютый недруг отца?
Да это же… Резоуст! Резоуст…
Вот он опять сбивает наземь отца, попытавшегося вскочить. Ещё. Ещё… Он уже знает себя победителем и играет с юнцом, точно сытый кот с мышью, он издевается, наслаждаясь своей сноровкой и силой.
В память Бусого, как весенняя льдина на берег, вломился недавний сон: кто-то, так же глумясь, хлестал плетью детёныша крысы…
Но отец не сдаётся. У него за спиной мама, и он будет биться до смерти. Он по-прежнему сжимает оружие — тяжёлый кнут и длинный кинжал. Притом что Резоуст, презирая противника, кинжала даже не вытащил. Ему хватает кнута.
Их бой прерывается с появлением ещё одного человека. Высокого, с властной повадкой, с надменным выражением на красивом тонком лице. Он что-то говорит, его молвь Бусому незнакома, но смысл сказанного ясен и так. «За вас обоих заплачено, и немало, — говорит привыкший распоряжаться. — Я не для того выкладывал деньги, чтобы вы один другого резали насмерть. Охота помериться из-за девки? Деритесь, но без оружия. И вот ещё что. Сдавшийся своего кнута назад уже не получит. Недостоин…»
Отец и Резоуст кладут оружие наземь. Выпрямляясь, отец улыбается, спокойно и страшно, потому что сдаваться он не намерен. А вот в глазах Резоуста подобной решимости что-то не видно. Он, кажется, уже и не рад, что полез к женщине Волка. Не стоила эта девка того, чтобы прозакладывать из-за неё кнут и кинжал, да что теперь сделаешь?
Отец бросается на врага безоглядным волчьим прыжком. Резоуст шагом в сторону, поворотом тела уходит от столкновения. С расчётливой беспощадностью успевает всадить кулак сопернику под вздох…
Бусого как самого ударили. Он дрался и знал, что бывает от подобных ударов. Чернота в глазах, оборванное дыхание и такая боль, что хочется умереть, только бы от этой боли избавиться…
А Резоуст бьёт упавшего отца ещё раз. И ещё. Месит ногами, выискивая самые болезненные места, но Волка просто так не убьёшь. Отец перехватывает его ногу и впивается зубами в колено. Взвыв, Резоуст тоже падает, и рычащий клубок укатывается под стену. В глазах отца — звериный жёлтый огонь, зубы рвут плоть врага, подбираясь к самому горлу.
И когда Резоуст чувствует его дыхание на своей шее, где несёт кровь яремная жила, он не выдерживает и кричит от животного ужаса…
Он сдаётся…
РАССКАЗ СИНЕОКИ
Бусый и Синеока плакали, крепко обнявшись. Так вот каким он был — брат, отец. Не посрамил чести мужчины и венна, не дрогнул, сумел отстоять ту, которую полюбил.
— Тётушка Синеока! Расскажи ещё про отца! — жарко прошептал Бусый. — Ты же знала его отроком! Скажи, не томи, — я на него хоть немного похож?!
Синеока торопливо закивала, хотела говорить и едва не сказала, но снова забыла, как это — говорить. Отчаявшись, взяла обеими руками голову братучада, стала жадно всматриваться в запрокинутое лицо, ловить родные черты навсегда ушедшего брата.
Не выдержала, опять захлебнулась слезами. И всё же Соболь был прав. Разум Синеоки томился под спудом, как живой ручей в покрытых настом сугробах. В одном месте проточиться не удалось — отыщет другое. Что-то промычав, девушка схватила Бусого за руки, особым образом, как он сам её недавно держал.
Камень, вложенный в свой мешочек, отдыхал у Бусого на груди, в нём больше не было надобности. Луна смотрела с небес, как пылали на берегу Звоницы две души, пылали и освещали одна другой путь.
…Наезженный тракт в дремучем лесу. Вековые ели давно убрали из колеи узловатые корни, и телега не подскакивает, не трясётся — плывёт, как лодка по озеру. Малахитовые вершины, увешанные красными шишками, шествуют в послеполуденной синеве, расчёсывая, прихорашивая лёгкие облака. Длинный обоз, множество незнакомых людей, тяжело нагруженные телеги, влекомые разномастными лошадьми, но Синеока слышит лишь говор, скрип, размеренный топот. Девочку клонит в сон, ей так покойно и хорошо на груде мягких мешков. Плавное движение телеги, размеренный шаг неутомимого Рыжего, приглушённый голос отца… Синеока не вслушивается.
Уходящее лето дышит ласковым теплом. Между елями кое-где попадаются берёзы, и на них уже видны жёлтые листья. Девочка знает, что скоро берёзы пожелтеют совсем, а потом облетят в ожидании снега. Наступит зима, и брат Иклун вытащит из клети саночки. Будет сажать малую сестрёнку себе за спину, чтобы, вместе мчаться с обрыва, далеко на гладкий лёд Звоницы. А поднимаясь обратно наверх, впряжётся в саночки и топнет ногой, как лошадка: «Крепче держись, несмышлёная! Выпадешь, нос расшибёшь!»
И вот уже саночки летят наверх по горе почти так же быстро, как только что — вниз… Синеока держится за лубяной передок и смеётся — весело, беззаботно…
Они с Иклуном почти уже на самом верху. Брат оборачивается…
Бусый вглядывался в лицо своего отца. Такого же, как он теперь, двенадцатилетнего отрока. Это он сам, это его отражение в зеркале. Только глаза другие. Серые. И волосы у отца чуть темнее. И левое ухо цело, не обкусано морозом, как у сына. И белого следа нет на щеке.
..Брат оборачивается, и почему-то в глазах у него страх. И горку над Звоницей вместо малышни с саночками и снежками заполняют вдруг взрослые. Они мечутся по дороге и кричат под стрелами…
Падает Рыжий, он хрипит и бьётся в оглоблях. Отец размахивает топором, отгоняя троих незнакомцев, подскочивших к его телеге. У них белые лица, это ряженые в берестяных личинах, они пришли колядовать, просить сладостей и пирожков… Только в руках у них — настоящие копья с острыми лезвиями. И кровь Рыжего на земле — тоже настоящая…
— Сын!.. — кричит Ратислав. — Уводи Синеоку! Спрячьтесь в лесу!..
Хлещущие по лицу еловые ветки. Её, Синеоки, ладонь, намертво зажатая в сильной руке брата. Они бегут со всех ног, он чуть не волоком тащит её, ошалевшую и задохнувшуюся от сумасшедшего бега. Потом они останавливаются, но не затем, чтобы, передохнуть и вернуться.
Иклун смотрит куда-то ей за спину. Оттуда раздаётся хруст веток, и только тут девочке становится по-настоящему страшно.
— Не оборачивайся! Бежим!
Синеока, конечно же, оборачивается.
От яростного рывка брата её ноги почти отрываются от земли, но она успевает увидеть: за ними гонятся двое. У них берестяные личины, но нужны им не пряники, как ряженым в Корочун. Они пугают не понарошку…
А потом сзади раздаётся вскрик, и один из разбойников падает. В спине у него стрела. Кто из обозников её выпустил? Никогда она этого не узнает.
Синеока горько плачет на бегу. Там, сзади, страшно кричит умирающий Рыжий. И отец тоже кричит…
…Разбойник в личине, склонившийся было над упавшим, с руганью выпрямляется. Перешагнув через убитого, он вновь пускается за детьми. Скоро он их настигнет. Шустрый мальчонка, пожалуй, ещё заставил бы за собою побегать, но с девчонкой на руках ему не уйти…
Иклун вдруг разжимает ладонь и отталкивает Синеоку:
— Прячься! Беги во-он туда!
Она не успевает заметить — куда.
Она пытается вновь как можно крепче за него ухватиться, но брата уже нет рядом. Он во все лопатки бежит от неё в чащу, уводя за собой страшного человека в личине…
…Увидев, как дети неожиданно прыснули в разные стороны, разбойник вновь выругался. И, не раздумывая, бросился за мальчишкой. Этого ловить надо сразу, упустишь — ищи потом. Девчонка всё равно далеко не убежит, мала слишком. Никуда не денется, вон, стоит на месте, ополоумевшая от страха…
Мгновение спустя Синеока всё-таки побежала. Но не обратно к обозу, как ей хотелось, и не куда-то прочь, как велел брат. Ноги сами несли её в ту же сторону, куда умчался Иклун.
Никогда прежде Синеоке Волчишке не бывало страшно одной в лесу…
Лес и теперь не предал её. Цепкий куст ухватился за рубашонку, ловкий корень подставил подножку, чтобы уберечь дитя неразумное, не дать себя погубить. Споткнулась Синеока и скатилась под валежину, в старую барсучью нору. И густой черничник, расправившись, укрыл её от недоброго глаза.
Разбойник, нёсший на плече оглушённого мальца, протопал в двух шагах, но ничего не заметил. Потом, связав Иклуна, он ещё поискал Синеоку, вот только шарил он совсем в другой стороне. Где ж было догадаться чёрной душе, что перепуганная малявка кинется не спасаться, а спасать своего любимого брата!
Он поискал бы, ещё и, быть может, допытался бы по следам, но пришлось уходить. Лихой купец Горкун Синица отстоял свой обоз.
…Очнувшись, Синеока снова отправилась искать брата. А когда разгадала, что с ним случилось, вернулась к телеге. Нашла отца и одну за другой вытащила из его тела пять стрел. Вынула из мёртвых рук топор и тяжёлый боевой нож. Земля вокруг была насквозь пропитана кровью. И его, и вражьей, и Рыжего.
Прикрыв глаза отцу, Синеока освободила от сбруи затихшего коня. Стала собирать сброшенные с телеги мешки, складывать в лубяные короба тонкие глиняные мисы — работу отца. В это время веннскую девочку заметили обозники.
«Дитятко, — ласково спросил Горкун, — а братец твой где? Не видала?»
Синеока хотела ответить взрослому вежливо, как учили дома. Но не вспомнила человеческих слов, лишь замычала…
МКОМА-КУРИМ
Несколько дней спустя венны из рода Волка всё обихаживали деревья, погубленные Змеёнышем. Работа поначалу казалась им неподъёмной и непосильной, но зря ли говорят: глаза страшатся, руки делают. Дальний конец Следа оставался ещё очень неблизок, но и расчищенный участок как-то вдруг перестал казаться маленьким и ничтожным, и стало ясно, что для достойного завершения работы сил хватит вполне. Деревьям будет дарована новая жизнь, возможность служить добрым людям. Не только Волкам. Поначалу очищенные от сучьев брёвна стаскивали прямо в деревню. На починку изб, на новые амбары, на крепкий тын выше прежнего… Но быстро поняли, что леса слишком много, и стали укладывать излишек прямо на месте. Потом брёвна собирались постепенно скатить к Звонице, благо Змеёнышев След пролёг вдоль реки. Уже не торопясь скрепить их в плоты — и по осенней большой воде пройти сперва в недальнюю Светынь, а там сплавить добытый лес и в сам Галирад. Сольвеннская столица была огромным городом где вечно что-то горело и заново строилось, там пришлые мореходы чинили свои корабли, там укладывали мостовые поверх сгнивших и расщеплённых… Всякому бревну служба найдётся, только давай!
И кто-то уже вспоминал, что за красный веннский лес в Галираде всегда предлагали красную цену.
На расчищенном Следу отдельно громоздились стволы благородных сосен, неохватные, многосаженной длины и прямые, как солнечный луч. Им — первая честь, но у бережливого хозяина ничто пропасть не должно. Дойдут руки даже до самых корявых, гнутых, битых в щепы деревьев. Станут Волки мастерить чашки, ложки, прялки, обдерут луб и устроят прочные короба, из твёрдых сучков наделают деревянных гвоздей. Выдолбят причудливый пень и соорудят почётное сиденье для большухи, чтобы вести в общинном доме важные разговоры.
А распоследние обломки-обрубки, которых под ногами неисчислимое множество, свершат едва ли не самое главное — несколько зим и лет будут греть Волков, сгорая в печах…
На месте непотребного завала постепенно возникала опрятная широкая пасека,[9] размежёванная ровными клетками брёвен. Не клетки — глазу отрада. Лесина к лесине, и всё укрыто, чтобы дождь не мочил, зато свежий ветерок всё насквозь беспрепятственно продувает. Так, чтобы за лето древесина просохла, но в самую меру, не утратила прочной вязкости, осталась живой и пригодной для доброго строительства.
Поначалу Волки шли на работу, как на последний свой бой. Но, когда оказалась достигнута половина Следа, надсаживаться перестали. Труд от зари до зари, до отупляющей смертной усталости, — это на край, это если от смерти надо спасаться. Это, к примеру, как в год, когда началась Великая Ночь. А теперь на что?
— Славная работа должна радость телу и душе доставлять, — сказал слово Севрюк. — Страда страдой, а и пот с лица утереть надобно!
Несколько раз в день Волки затевали передышки, рассаживались на брёвнах и на тёплой земле, потягивали квас, угощались снедью, которую доставляла из деревни быстроногая ребятня. Неспешно беседовали, ощущая, как в гудящее от усталости тело возвращаются силы…
Отроки, ровесники Бусого и Ульгеша, в отличие от взрослых, валяться на земле не желали. Степенные Волки поглядывали, как Волчата боролись «в обхватку» и метали топор, и, кажется, немного завидовали.
Один раз в мальчишечью забаву встрял седой Бронеслав.
— Вот давно я на тебя, парень, смотрю! — зычно, чтобы все слышали, обратился старик к Ульгешу. — Ты, головешкин сын, через деревья не лазаешь, даже не прыгаешь, ты же летаешь! Ярострел вон в два раза меньше тебя, и тот все порты изорвал да в смоле перемазал, а на твоих — ни дырки, ни пятнышка! Как так? На тебя что, тяга земная не возложена?
Все повернулись к юному мономатанцу.
— Я… — смутился Ульгеш.
«И в самом деле, — подумал Бусый, глядя на друга. — А как он с нами бежал, когда Летуна выручали!»
Они отдыхали в тени ещё не разобранного завала. Бронеслав вытащил нож, перевернул на ладони и вдруг, приподнявшись на локте хлёст ко метнул, целя в высоко вздыбившуюся корягу
— А ну принеси.
Ульгеша точно пружиной бросило с места он… Бусый так и не подобрал иного слова — действительно полетел. Что-то подобное умели прежние родичи Бусого, Белки, те из них к которым всего более была благосклонна лесная родня. Но искусство Ульгеша отличалось от их древолазных умений, как боевой танец Сына Леопарда, явленный тогда на Крупце, от веннского перепляса. Ульгеш хищной тенью мелькнул в путанице буревала — там чуть опёрся, там оттолкнулся, там легонько прихватил… замер на самом верху, стоя почему-то на руках… выдернул Бронеславов ножик — и ссыпался вниз, кувырнувшись через голову, махнул гривой чёрных волос и встал на ноги, как ночной кот, даже не запыхавшись.
— Вот, дедушка Бронеслав…
Старый Волк спрятал нож и спокойно кивнул:
— А теперь сказывай.
«А я где ж был? — озадаченно соображал Бусый. — Почему не увидел? Работой занят был? Так Бронеслав… Ох, дурак я ещё…»
— Это мкома-курим… — негромко начал Ульгеш. — Меня дедушка Аканума учил. Мкома-курим — как по-вашему сказать… Бег, душа, полёт… Бег-к-свободе — вот, так лучше всего! Это каждый Сын Леопарда должен уметь, если он воин. А еще дедушка говорил, это Путь души к небесам, к бесконечному совершенству… Его нельзя одолеть до конца, по нему можно только идти от одного обретения к другому…
Смущение постепенно оставляло его, потому что он говорил о родном.
«Ну вот, — люто позавидовал Бусый. — На него все девки уставились, а я так не умею. И что на меня смотреть, на обыкновенного…»
Взгляда и улыбки скосившего глаза Соболя мальчишка попросту не заметил.
— Путь нескончаемый, это понятно, — рассудительно проговорил меж тем Бронеслав и для вескости прихлопнул ладонью по ближней лесине. — Кто думает, будто вполне умудрился лопатой землю копать, тот дурак и на самом деле не копал её никогда. Ты другое, парень, скажи. Если в твоём мо… мока… в беге твоём какие тайны сокрыты, о коих дед тебе с нами говорить заповедал, так сразу и объяви. Обиды не затаим…
Бусый аж дышать перестал в ожидании, Ульгеш же запрыгал, точно муравьями покусанный. Как будто уличал его Бронеслав в чём-то постыдном. Он ответил торопливо, с горячностью:
— Нет, нет!.. Бег-к-свободе оттого так и назван, что его всякий волен постичь…
Бронеслав снова хлопнул ладонью, да так, что бревно загудело.
— А раз так, хватит языками мести, показывай, учиться у тебя станем!.. А то кликнет на работу Севрюк, сразу не до баловства сделается…
— Боговдохновенному бегуну нет преград. Любая препона, даже непреступная с виду, ему лишь подмога. Он во всём видит возможность ещё раз порадовать себя и Богов! Полётом души и ловкостью тела, восторгом преодоления! Победой Свободы над Косностью, Радости над Унынием, Отваги над Страхом, Света на Тьмой…
— Жизни над Смертью… — тихо добавил Соболь.
— Жизни над Смертью, — довершил Ульгеш.
— Красно молвишь, — похвалил Бронеслав.
— Это дедушка Аканума так говорил… Я лишь повторяю…
— Ну, твой дедушка тоже вряд ли своим умом дошёл, и до него люди мудрые жили… Так с чего начинать постижение твоего мо… кури..? Тьфу, язык поломаешь!
Ульгеш снова готов был растеряться. Его впервые просили учить, и кто? Седой почтенный старик!
Другие старшие Волки до времени помалкивали, но диковинное мономатанское искусство никого не оставило равнодушным. Ульгеш обвёл их глазами… Из каких бы родов ни женились парни в род Волка, с годами Волчья жизнь делала их удивительно друг на друга похожими. Они сидели на брёвнах — все на подбор жилистые и поджарые, лёгкие на ногу, отмеченные особой хищной стремительностью в повадке, безошибочной точностью движений. Волки и есть, непоседливые и неугомонные, как юнцы. А из-за плеч взрослых выглядывают дети и внуки, которых им нарожали Волчицы. И у тех тоже блестят любопытные глаза…
— Смотри, дядька Бронеслав, — решился Ульгеш. — Вот, скажем, надо тебе через эту лесину перебраться. — Чёрный палец с розовым ногтем указал на могучий вяз, косо торчавший кверху корнями. — Что будешь делать? Покажи.
— Ну, как что… Возьму да перелезу, делов!
Бронеслав взобрался на ствол, протиснулся сквозь растопыренный частокол обломанных сучьев и соскочил с другой стороны.
— Вот, — сказал он, отряхивая ладони. И задиристо сдвинул белые брови, ибо видел, что жёлтые глаза «головешкина сына» уже вспыхнули хищным огнём, и это могло означать только одно: оплошал старый. Сделал что-то не так.
— Я тебе что, — буркнул Бронеслав, — прямо через верх должен был сигануть?
— А ты представь, — сказал Ульгеш, — что кому на выручку поспешаешь. Или враг от тебя уходит. Тогда…
И сучья действительно не задержали его. Ульгеш прыгнул совершенно по-кошачьи, оттолкнувшись ногами от земли, а потом, уже летя головой вперёд прямо на ствол, — от него руками. Гибким хлыстом извернулся в воздухе и, скользнув между сучьев, упруго встал на ноги. Времени это заняло у него — иной и чихнуть бы не успел.
Волки, от старых до малых, одобрительно загудели. Они умели ценить красоту и мастерство. И знали толк в молодецких забавах, рождающих сноровку для охоты и боя.
Вот только понять никто ничего почти не успел. Вроде всё просто, а поди сообрази, что к чему. Тем более — поди повтори!
Ульгеш не заставил себя упрашивать, показал ещё раз. И не просто повторил, красуясь, свой кошачий прыжок, а всё объяснил и растолковал.
Волки переглядывались, пробовать никто не торопился. Даже Бусый. Кому охота если не расшибиться, так осрамиться прилюдно? Наконец вперёд вышел… Соболь! Примерился — и махнул через вяз. Ничем Ульгешу не уступил.
Тут Бусый вдохновился, вспомнил о Горных Призраках и о полётах по скалам, которым учил его Горный Кузнец, — и тоже решился.
У него получилось не так здорово, как у Соболя и Ульгеша, но ведь получилось же! И пошло.
Ревнивые Волки, от малышни до стариков вроде Севрюка с Бронеславом, полезли прыгать. Кто-то упал, кто-то уже тряс расшибленной рукой, но упрямо пробовал вновь.
Такие мгновения кажутся совершенно обычными, но проходит время, и начинаешь их вспоминать, и хватаешься за голову: так ведь вот оно, было же счастье, самое что ни есть, певчей птицей звенело прямо в ладони, а ты почему-то не замечал. Спохватился, да поздно, было, да ушло, упорхнуло, и всё, не вернуть…
ЛИСТЫ ДЕДУШКИ АСТИНА
— Ай вы, кутята бестолковые!
Горестный окрик исходил от седого сухопарого старика, и малышня испуганно шарахнулась в сторону, действительно как нашкодившие щенята, уже понимая, что сотворили безлепие, но не очень догадываясь — какое. Мы, мол, что, мы же ничего? Не горшок с кашей расколотили, не кудель тёткину подожгли. Всего-то разметали по полу стопку берестяных листов, которую дедушка Астин положил так неловко, на самый край скамьи.
Вот и Права, степенная старая сука, приставленная доглядывать за детьми, большого несчастья в случившемся не усмотрела. Поднявшись, неспешно подошла, обнюхала раскиданные листы и, недоумевая, завиляла пышным хвостом. Потом ткнулась носом в ладонь старика, снизу вверх заглядывая в глаза. Прости, дескать! Только ещё знать бы — за что…
— Не гневайся, дедушка Астин, — подал голос самый храбрый Щенок, сынишка кузнеца Межамира. — Мы всё соберём!
А у самого загорелая мордочка говорила другое: эка важность, берестяные листы! Добро бы ещё полосы на пестерь или лукошко. А то — прямоугольники в две ладони величиной. Ну рассыпались, отчего не собрать?
На самом деле нахальному Щенку было известно, что старец хранил их в особой коробке из хорошего луба и вынимал не иначе как предварительно помолившись в Божьем углу. А стало быть, ребятня всё-таки провинилась.
— Эх, ребятушки… — уже прощая, отмахнулся Астин.
Обрадованные шкодники мигом собрали листы и сложили в ровную стопку, точно как была, и старший мальчик с поклоном поднёс её старику. Узловатая ладонь Астина взъерошила ему русые волосы — и притихшая было стайка, вновь расшумевшись, выкатилась за дверь, и прилежная псица убежала вместе с детьми.
— Ещё листов дедушке надерём, пусть не гневается, — уже в сенях рассудительно сказал заводила.
— И такими же закорючками расцарапаем, чтобы ему меньше трудов, — со смехом добавил кто-то из младших.
На этом голоса отдалились, и Астин остался один.
Стопка, размыканная прокудливыми Щенками, заключала в себе целую зиму работы. В ней было больше сотни листов.
Астин принялся перебирать их — один за другим. Дети, дети… Этот вставили боком, этот — вверх ногами, а этот лежал вроде и правильно, но поди теперь верни его на подобающее место в череде, отыщи последующий и предыдущий!..
Руки дрожали, грозя заново рассыпать берестяные страницы. Случись что — Астин не был уверен, хватит ли ему сил и времени всё повторить.
Потом он нашёл глазами лики Божественных Братьев, смотревшие на него из угла, и показалось, будто Младший глядел с укоризной.
— Я грешен, — повинился ему старик. — Я впал в сомнение. Я чуть не накричал на детей…
Он говорил на своём родном языке. Ученики Внутреннего Круга постановили взывать к Близнецам лишь словами додревнего народа, обитавшего в Аррантиаде прежде аррантов, но Астин всё равно верил — любая речь достигает Богов, была бы чистой душа…
Вздохнув последний раз, старый жрец принялся за работу.
Племя веннов, давшее ему кров, почитало домашний стол Божьей Ладонью. Астин и принялся раскладывать на этой Ладони свои листы, что-то шепча, двигая и меняя местами, доискиваясь прежнего осмысленного порядка. Пламя маленького светца колебалось, метало по стенам тени. Возиться предстояло до вечера, а может, и несколько дней…
Человек, носивший странное для веннских чащоб имя Астин, пришёл в деревню Серых Псов с первыми метелями позапрошлой зимы. Два молодых кобеля, бегавшие в лесу, учуяли выбившегося из сил странника и мало не на себе притащили домой. Путник назвался Астином Дволфиром и сказал, что в леса пришёл из желания выстроить в глухом месте жильё и начать в нём одинокую жизнь. Во славу каких-то Близнецов.
А пока изумлённые венны силились постичь как это — отпустить немощного старца ладить в снежном лесу шалаш, — Астин Дволфир свалился в лихорадке и, конечно, никуда уже не пошел. Потому и те его слова об отшельничестве поняли как горячечный бред, ибо, правду молвить, разумного в них было немного.
Дети к старику липли — не отогнать. Очень уж горазд оказался он на занятные сказки об этих своих Близнецах. И умел сказывать так, что даже взрослые не гнушались — присаживались послушать.
Дети и вызнали первыми, что Астин Дволфир было не именем его, но прозвищем и означало попросту — Ученик Близнецов. А Старшего с Младшим следовало чтить не просто героями и мудрецами баснословных времён. Они были Богами.
Большуха, когда ей сказали, только плечами пожала. Эка невидаль, чужеплеменные Боги! Нет греха в том, чтобы, оказать уважение. Да ещё Тем, Кому поклоняется такой благой старец!
И не воспретила Щенкам приветствовать Астина, как он любил:
— Святы Близнецы, чтимые в трёх мирах!
Только один упрямый мальчишка едва не полез в драку со сверстниками.
— Эти Боги, — заявил он, — не сильны. Сильные Боги ведут могучие племена и хранят Своих верных от бед и несчастий. Ну и куда Они привели этого Астина?
— К нам, — ответили ему. — Плохо ли?
— Да не о том я! Ведь он, сегван по рождению, ради Них отошел от сородичей, даже имя забыл, коим мать его нарекла! И что взамен получил?
«Больше, чем ты представить можешь, малыш», — мог бы ответить ему Астин, только мальчишка вряд ли стал бы слушать его.
Он лучше всех знал веннскую Правду и даже в малости не терпел ей ущемлений, был прямодушен и не отступался от друзей, и за это Псы дали ему прозвание — Твердолюб.
А языкастые девки честили за глаза Твердолобом…
И вряд ли предвидел юный упрямец, что не далее как в первые дни весны Астин Дволфир удивит ребятню неожиданной просьбой:
— А надерите мне, милые, берёсты с поленьев…
— На что тебе?
— Запишу ваши сказания…
А получилось всё оттого, что красочные басни деда о пришлых Богах понудили Псов ярче и пристальней вспоминать о своих. О жизни прародителя Пса, о Великой Ночи, когда насовсем было сгинули Солнце и Молния и остался с людьми лишь земной очажный Огонь…
— Понятно теперь, отчего ты зовёшь себя просто Учеником и другого имени не желаешь, — сказала большуха. — Ты совершенен годами, но всё ещё учишься праведному и доброму, когда оно встречается в жизни. И будешь учиться до смертного часа. Мы рады, что наши собаки нашли тебя за холмом.
В общинном доме чаще повелись беседы, венны рукодельничали, слушали Астина и ревновали, являя себя сказителями один другого речистей. Ученик Близнецов знай царапал костяным писалом по скрипучей берёсте, просил тут повторить, там истолковать…
Помалу листы собрались в тяжёлую стопку, и деду справили для них нарядную лубяную коробку. Псы только не очень уразумели, какой может быть толк с закорючек, испещривших листы.
— Никакого, — сказал Твердолюб. — Сколь веков наши песни из уст в уста восходили и в памяти хранились надёжно! Нешто мы, Серые Псы, памятью оскудели, не обойдёмся без чужого жреца и его памятных знаков?
Его не особенно слушали. Ну чудит безобидный дедушка, да и пусть себе. Кому, кроме Твердолоба, обида с того?
..Астин взял очередной лист, должным образом отстранил на вытянутой руке и, напрягая глаза, вгляделся в неяркие строчки.
«И спросил я веннов: откуда повелось на земле ваше племя?
И ответили мне: давным-давно, на заре времён, Бог Грозы бился со Змеем, а внизу стояли дубы, сосны и ясени и очень хотели помочь, но что они могли сделать? И тогда Бог Грозы отмерил им толику Своей силы, и корни деревьев стали ногами, а на ветках выросли пальцы. Даже пни выскочили из земли, чтобы сразу броситься в битву. От тех добрых деревьев и повелось веннское племя, оттого нас поныне кличут пнями лесными, но нам нет в том поношения…» Астин перекладывал листы, водворял один на другой. Дело шло медленно. Скоро вечер; общинный дом соберёт к очагу людей, станут накрывать стол, и работу придётся прервать.
«Ничего! — улыбнулся старик, и кто бы видел, каким внутренним светом озарилось худое, морщинистое лицо. — Во имя Близнецов, завтра новый день…»
ЖУРАВЛИНЫЕ МХИ
Болото находилось не так и далеко от Звоницы, от Змеёнышева Следа, от деревни. А вернее сказать, деревня стояла рядом с болотами. Потому что деревня была маленькая, а Журавлиные Мхи простирались на седмицу пути.
И были многолики, как всякая большая стихия.
Огонь страшен в лесном пожаре, но он же греет добрую печь, дарит пышность хлебу и калачам. Лес — дом родной всякому венну, но сами венны говорят: «Жить в лесу — видеть смерть на носу».
Журавлиные Мхи поили чистой водой Звоницу и ручей Бубенец, давали приют и прокорм птицам, и те несчётными стаями летели сюда по весне, возвращаясь откуда-то из-за Светыни, а может, из-за самых Железных гор. Бабы выходили на Мхи за морошкой и клюквой, мужики осенью промышляли гусей…
Но были там, среди зыбучих трясин, и коварные окна, и бездонные хляби. И вешки, расставленные вдоль безопасных троп, случалось, будто бы переставляла чья-то злая рука…
Волки помнили, как много поколений назад падала в этот мир Тёмная Звезда, готовая его искалечить. Боги, хвала Им, поразили Звезду чудесным оружием, разбив её на части и тем ослабив удар. И один маленький камень, отколовшийся от Звезды, долетел до веннских земель, чтобы кануть в Журавлиные Мхи. Оттого повелись в болотах недобрые чудеса, а Болотник, прежний хозяин Мхов, то ли погиб, то ли переродился в иное, страшноватое существо.
То есть Волки знали своё болото как не то чтобы напрочь смертоносное, но требующее твёрдости духа и немалой сноровки.
Самое то есть подходящее место для мальчишеских подвигов.
Особенно когда недолго осталось ждать Посвящения. В точности как Белый Яр у Белок или пещеры под известняковыми холмами у Росомах…
Бусый уже знал: настоящего уважения подросших Волчат добивался лишь тот, кто прошёл Мхи насквозь, с востока на запад, до самой Курлыкиной Кручи, и вернулся обратно. Он уже наслушался россказней о молодечестве иных юных Волков, что ходили по самым жутким зыбелицам[10] не то что без вешек, а вовсе с завязанными глазами, ведомые голосами птиц, запахами, дыханием ветра…
Бусый бывал, конечно, на болотах, но те мхи равнять с Журавлиными было всё равно что Бубенец — с матерью Светынью.
— А мой отец? — спросил Бусый. — Бывал он у Кручи?
Не кого-нибудь спросил, саму бабушку Отраду. Кому, как не ей, было пристально помнить первенца со всеми его ребячьими тайнами, шишками и синяками!
— Дитятко, — всполошилась Волчица. — Ты за теми не тянись, кто с мамкиной титьки здесь вырос! Ты ж сам всякого, кто месяц с Белками прожил, на этот ихний Яр не повёл бы!
Внук молча смотрел на неё, у него были другие глаза, но взгляд — Иклуна. Такой же упрямый.
— Ох, — сказала Отрада. — Сколько я его хворостиной охаживала за дерзость невмерную, сколько слёз пролила… Вестимо, бывал. Другим и раза хватило, а он трижды управился. Да последний раз — ночью…
— Спасибо, бабушка, — кивнул Бусый. И улыбнулся. — Я сразу-то далеко не полезу. Ты только плакать не вздумай!
Он сам понимал, какое слабое утешение предложил бабке, и ему было совестно.
День стоял тёплый и солнечный, с высокими, быстро летевшими облаками. У мальчишек не водилось упреждать взрослых о задуманной вылазке на болота, но на сей раз старшие Волки сами их отпустили. Отрешили от ещё длившихся трудов на Следу, велели пробежаться до Гром-Скалы, поглядеть, как там что после налёта Змеёныша.
«Но чтоб дальше — ни ногой!»
Бусый ждал — заставят есть землю, делая наказ нерушимым. Не заставили. Взрослые Волки сами были когда-то мальцами и не забывали об этом. Если чуть что хватать сына за руку и силком тащить по натоптанной, благополучной тропе, какой с парня потом может быть спрос?..
Шагая через лес, уже отмеченный тут и там заросшими багульником балтами,[11] Бусый внимательно слушал болтовню Волчат, поминавших то Гром-Скалу, то Каменную Осину, то какое-то Бучило.[12] Приглядывался, вбирал в себя всё, что видел и слышал…
— А у нас в Мономатане тоже болота есть, — хмуро проговорил Ульгеш. В роду Волков он был гостем, от него никто не ждал отважного похода к Курлыкиной Круче, и это было обидно. Он даже чуть не остался в деревне дочитывать книгу о летописях ладонных морщин, но Бусый всё же сманил с собой в лес. Теперь Бусому наперебой объясняли что-то такое, что заставляло Ульгеша окончательно чувствовать себя чужим, и юному мономатанцу захотелось похвастаться. — Вот ваши Журавлиные Мхи были здесь с рождения мира, а я слышал от дедушки о болотах, которые называются Ржавыми. Некогда на их месте был город…
— Ух ты! — вырвалось у Ярострела. — Большой город? Как Галирад или ещё больше?
Что Ульгеш, что маленький Волк в Галираде никогда не бывали, но Сын Леопарда не усомнился ни на мгновение.
— Во много раз! Там стояли дворцы, сложенные из разноцветного камня, там были неприступные стены с дозорными башнями и множество храмов, в которых молились Богам. Но потом что-то случилось, и к городу подступили трясины…
Бусый попытался представить, как это могло происходить, и вспомнил ледяных великанов, взявшихся выживать с родных Островов сегванское племя. Вслух он спросил:
— Те люди забыли о Правде и Боги отвернулись от них?
Ульгеш развёл руками:
— Многие так думают, но доподлинно не знает никто. Наши книги написаны уже после того, как рассеялась Великая Ночь, а о том, что было допрежь, почти утрачена память. Мы знаем только, что топь постепенно заливала страну, и так продолжалось многие годы. Люди ваяли из камня грозных истуканов и ставили на берегу, обращая их лики вовне, туда, откуда подползала беда. Но истуканы не смогли её превозмочь. Их, говорят, ещё и сейчас можно там видеть. Они высятся над ржавой мёртвой водой, страшные и бессильные в своём каменном гневе…
Настала пора Волчатам переглядываться и завидовать «головешкину сыну», а Журавлиные Мхи с их опасностями и чудесами уже готовы были казаться привычными, как крапива у тына. Ишь, вздумали чем удивить заморского гостя — грязью болотной!
А Бусый попытался вообразить истуканов над бескрайними зылями[13] — защитников, не отстоявших от беды доверенную им страну. «Вот в Саккареме… братья-герои… доныне хранят…»
Ему вдруг показалось, он должен был что-то смекнуть, понять… Очень важное… Но вот что?
Болото с виду оказалось самым обычным. Вот лес постепенно начал редеть и превратился в сущую дрязгу,[14] деревья сделались корявыми, тщедушными, низкорослыми, а под босыми ногами стали всё ощутимей покачиваться торфяные кочки… Но это — на внешний взгляд. Журавлиные Мхи предстали внутреннему оку Бусого хитросплетением нитей. Добрых, сонных, хищных, сторожких… И откровенно недобрых. Бусый поёжился, представил, как непроглядной осенней ночью держит путь через эти кочкарники до неизвестно где находящихся Курлыкиных Круч, и положил себе всемерно избегать липких серых сетей.
— Вот бы тут тоже стояли истуканы, — размечтался Ярострел. — А за ними — город незнаемый…
— Многие пытались найти тот город в Ржавых болотах, — ответил Ульгеш, — да немногие вернулись. Топи их погубили, а может, страшное зло, что в том городе затаилось…
«Нам бы Стражей, как в Саккареме, — вздохнул про себя Бусый. — От Змеёныша, от Мавута… Почему у нас таких нет?»
А ещё, неведомо почему, он вдруг зримо вообразил рядом с собой Беляя. Наверное, из-за серебряных волос и дивной крепости духа, роднивших калеку с теми древними Стражами. Чего стоил один тот удар, нанесённый всей внутренней силой почти умирающего мальчишки!
«Неужто Беляй так и не встанет? Соболь вот не верит… Хотя шею ему сам вправлял… А я верить не хочу, что дедушка окажется прав! Чтобы такой Беляй, каким он тогда себя оказал, да с хворью не справился? Не может такого быть, не должно, есть же Справедливость Божья! Вот и Ульгеш говорит, Боговдохновенному нет неодолимых преград, ему всё должно быть опорой, подмогой! Я Таемлу во сне к нему позову! И Горного Кузнеца, если дозваться удастся… Ну да, а потом он поправится и не захочет со мной дружбу водить…»
— Вон она, Каменная Осина, — тихо сказал Ярострел.
КАМЕННАЯ ОСИНА
Крепкий берег здесь вдавался во Мхи последним языком твёрдой земли, и венчал этот оплот гранитный обрыв — Гром-Скала. Прямо на каменном желваке, оплетая его корнями, стелясь узловатым стволом, и сидела Осина.
Ну, на обычную осину это дерево не было даже отдалённо похоже. Осина, у которой можно попросить добрый кол против нечисти, — светлое и стройное дерево, трепетица, чьи листья трепещут на самомалейшем ветру, а осенью наливаются красивым жарким румянцем. А это…
Бусый один раз посмотрел на Каменную Осину и немедленно вспомнил страшный топляк, который вихри Змеёныша принесли неведомо из какой дали и обрушили на волчицу с волчонком. Вот и Каменная Осина была не просто мёртвой, высохшей на корню и почерневшей от древности. В ней словно бы и не было никогда настоящей живой жизни, той, что гонит по стволу соки, трепещет зелёными листьями, красуется цветами и отпускает лететь по ветру семена. Бусому доводилось кое-что слышать, он знал, что живой и зелёной Осину не помнил никто из Волков. Ни бабушка Отрада, ни её собственная бабушка, ходившая сюда по девчоночьему любопытству сто лет назад. Казалось, это дерево так и стояло здесь многие века — мёртвое, мрачное… Почему-то не рассыпавшееся в труху, как вроде бы полагалось… Мёртвое, мрачное и чужое… Выросшее, как из семечка, из крупицы Тёмной Звезды…
При этом Осина явно собиралась и дальше так стоять — ни веточки не роняя и прочно, как горстью, вцепившись в замшелые камни корявыми сухими корнями.
— Ух ты!.. — вырвалось у Ярострела, когда они подошли поближе и дерево, оседлавшее Гром-Скалу, стало видно всё целиком.
Мальчишки даже остановились.
Вековой порядок оказался нарушен.
След Змеёныша пролёг далеко отсюда, лес рядом стоял нетронутый, но Осина была опалена и расколота. От верхней развилки до основания корней. Её поразила молния. Золотая секира Бога Грозы разнесла твердокаменный ствол толщиной в колодезный сруб, как обычный колун разносит полено. Что же за гнев должен был направлять подобный удар!..
— В деревню надо бежать… — попятился Ярострел.
— Погоди ты бежать, — сказал Бусый. — Она ж за нами не гонится.
Волчата засмеялись, и страх немедленно отступил.
— Ходил сюда кто до ночи Змеёныша? — спросил Бусый.
Оказалось — ходили, и дерево стояло целое, как при прапрадедах. А после того ни одной грозы не было.
— Значит, — сказал Бусый, — причина есть, почему именно Осине досталось. Да ещё в ту самую ночь…
Он уже видел: Осина была одним из средоточий злой паутины, раскинутой над болотом. Гнойником, засевшим здесь в незапамятные времена. Не самым большим и опасным, имелись и хуже, но… зря ли птицы не вили на ней гнёзд, и даже тропинка, проложенная поколениями бесстрашных Волчат, за полсотни шагов сворачивала прочь?
— Сдаётся мне, Волки, — тихо проговорил Бусый, — Бог Грозы начал подвиг, а нам оставил завершить…
Если по уму, Ярострел, конечно, был прав. Вернуться в деревню, рассказать Севрюку, большухе, дедушке Соболю. Послушать их суд. И может быть, всем родом явиться сюда, но не сразу, а только окончив труд на Следу…
Мальчишки не были бы мальчишками, поступай они всегда по уму.
Расколотая Осина заметно кренилась теперь в сторону болота, как будто уже собралась валиться с уступа, да раздумала. Нашла новое равновесие — и, поди, даже такая подбитая, с разорванным стволом, ещё века простоит.
Волчата лазили вокруг Осины, соображая, как к ней подобраться с верёвками, где поддеть, в какую сторону тянуть. Бусый то бросался спорить, ибо считал себя лесовиком ничуть не хуже новой родни, то пытливо ощупывал гранит Гром-Скалы. Камень был сероватый, мелкого зерна и убийственной прочности.
«Да от него любое железо отскочит, не оцарапав… Кто тут усыпальницу взялся бы высекать?»
Вот так: наслушался сперва Соболя, а после Ульгеша и уже готов под каждым бугорком искать гробницу веннского Стража.
Нет, если где-то и есть неведомая могила, то явно не здесь. «Надо ещё посмотреть, что там за Бучило…»
Между тем камень под ладонями был до того тёплым от солнца, что в какой-то миг Бусому померещилась в Гром-Скале глубинная жизнь. Он вздрогнул, замшелый утёс и опутавшее его мёртвое дерево вдруг предстали двумя исполинами, чья борьба растянулась на много столетий.
«Гром-Скала… Может, Бог Грозы хотел Своему камню помочь?»
Мальчишками, взявшимися валить Каменную Осину, верховодил внук большухи Зорегляд.
— Влево дёрни! Дёрни! Дёрни! Стой… А теперь ещё… Дёрни! Стой!.. Посолонь плавно ведите… Теперь вправо, приготовьсь! Дружно, что есть мочи, и-и-и — дёр-р-рни! Дёрни! Стой… Ещё вправо — дёрни! Вместе теперь потянули и в стороны расходимся! А теперь вместе — дёрни! Дёрни!
Парень распоряжался толково, и после семьдесят седьмого рывка дерево подалось. Дрогнуло, ещё больше сдвинулось в сторону болота. Иссохшие корни сползли с вековых мест, и Бусый увидел в камне следы. Такие бывают, когда плоть сдавливают впившиеся путы, а потом их срывает дружеская рука.
И опять Бусому показалось, будто в гранитной скале таилось что-то живое. Да не таилось — рвалось наружу, силилось превозмочь мёртвые узы, которыми опутала его Осина. Бусый что было сил налёг на верёвку.
— Дёрни! Дёр-р-рни!.. И-и-и — дёрни!!!
Дерево сдвинулось ещё на вершок.
Бусый рукавом утёр с лица пот.
«Сюда и вправду бы взрослых. Достало бы одного Итерскела. Он бы одной рукой…»
— Дёр-р-рни!
Ещё на полпальца. На ноготок.
«А что, если старшие нас за Осину совсем даже не похвалят? Чего ради, скажут, вмешались, порушили вековой лад? При пращурах так стояло, и не нам всё менять. Не буди лихо, пока оно тихо…»
— Дёр-р-рни!..
Казалось, Волчатам оставалось одно решительное усилие, и придётся оскакивать от рушащейся Осины. Мальчишки дружно налегли на верёвки…
И ничего не произошло. Согласному усилию Волчат не хватило крохотной толики, может быть порождённой малодушным сомнением Бусого. Осина остановилась на самом краю Гром-Скалы. Упёрлась — и дальше ни в какую. Мальчишки дёргали и налегали на верёвки, подсовывали палки под чёрные, извитые щупальца корней…
Больше ничего так и не получилось.
— А ну её, — плюнул наконец Зорегляд. — Пошли, куда собирались. На обратном пути ещё, может, попробуем.
Уходя по тропе, Бусый оглянулся, и сердце тоскливо заныло. Ему показалось, будто он изготовился бросить в беде родича, друга. Которого Осина, пусть и надломленная, опалённая, продолжала безжалостно душить. Каменное дерево держало в оковах кого-то, рвавшегося из камня к Свободе…
Внутреннее зрение рисовало Бусому то ли пса, то ли волка, то ли симурана… со спутанными крыльями…
Он даже встряхнулся, протёр глаза и моргнул. Нет, конечно, приблазнилось. Не было вековой борьбы, не было Оков и Свободы.
Лишь выпирающий из земли гранитный утёс и огромное мёртвое дерево у него на краю…
БУЧИЛО
К Бучилу Волчата вывели Ульгеша с Бусым уже после того, как изрядно набродились по мшарам,[15] перед самым закатом. С ног до головы изгвазданные жирной болотной грязью, насквозь промокшие, но весёлые и довольные.
С виду Бучило было просто ещё одним окном торфяной чёрной воды среди сочной, неправдоподобно яркой травы. Скоро зелёный ковёр украсит пушистый кукушкин лён и многоцветный яртышник. Не знаючи болот, поди догадайся, что трава и манящие цветы скрывают западню. Здесь очень тонкий трясун,[16] а под ним прорва, и выбраться из неё невозможно. Вязкая жижа не даст плыть, а схватиться здесь не за что…
Для веннских детей избегать подобных ловушек было так же привычно, как остерегаться совать руки в огонь.
Разумные Волчата и вовсе не пошли бы к Бучилу, не будь оно особенным.
Бусый обратил внимание, что путь к островку, у которого находилось водяное окно, отмечали очень старые вешки. А самого окна достигали плавучие мостки, вернее, гать, связанная из хвороста и жердей. Тоже старая, но со следами постоянного подновления.
Вот Зорегляд, осторожно встав коленями на дальний край гати, наклонился вперёд и всмотрелся в чёрную глубину… Смотрел недолго, почти сразу выпрямился, нашёл взглядом Солнце, готовое опуститься за окоём.
— Рано ещё, — сказал он. — Ничего не видать. Обождать надо чуток, тогда и появится.
Чего надо ждать, что должно появиться в гиблой мочажине, Бусый с Ульгешем от Волчат так и не дознались. Им поведали лишь о том, что увидеть ЭТО можно было лишь перед самым закатом. Днём Бучило ничего необычного не являло.
— А ночью? — спросил любопытный Ульгеш.
Волчата внятно не ответили. Трусов тут не было, но заглядывать в Бучило после наступления темноты…
На такое не отваживался даже Иклун.
Ульгеш посмотрел, как просели в жижу мостки под коленями внука большухи, поразмыслил и повесил на островное деревце свою сумку с лежавшей там, как всегда, книгой. Всё лишний вес. Да и намочить недолго…
Солнце коснулось окоёма.
Волчата в очередь проползали по зыбучим мосткам, склонялись над водой, выпрямлялись, досадливо качали головами. Бучило показывало свои чудеса не всякий раз и не каждому. Сегодня везения не было ещё никому.
Бусый ждал, пока настанет его черёд. Душу распирало жгучее любопытство, почему-то смешанное со страхом. Странно, в свой камень он ведь никогда не боялся заглядывать… Что такого могло показать ему Бучило, что он не хотел или боялся увидеть?
«Может, смерть отца? Или мамы? Или как меня самого выносили из каменных коридоров, чтобы выкинуть на мороз?..»
— Иди, Бусый, — сказал ему Зорегляд.
«Что там? Грядущее горе? И я увижу, как кто-нибудь надругается над Таемлу? Убьёт дедушку Соболя?..»
— Ну? — спросил Зорегляд. — Идёшь смотреть? Или слабо?
Бусый нахмурился и пошёл, продираясь сквозь собственный страх, как сквозь липкий кисель, опутавший ноги. Вот они, мостки, на которые ему до смерти не хотелось ступать, но иначе было нельзя, засмеют. Он согнул деревянные коленки и пополз вперёд по пружинящим охапкам ветвей.
Бучило не казалось ему ни добрым, ни злым. Здесь не было нитей, просто дыра в холодную пустоту. Один, без родичей, Бусый нипочём бы не отважился приблизиться к мёртвой, действительно мёртвой, он безошибочно ощущал это, бездне. Однако отступать было некуда, Бусый достиг края и, стиснув зубы, посмотрел своему страху в глаза.
Сперва он увидел только рябь на поверхности воды и отблески заходящего солнца. Немного успокоившись, Бусый склонился ниже и заставил себя всмотреться в самую глубину.
В черноте было пусто. Потом там наметилось движение.
Взмахи крыльев… точки светящихся глаз…
Бусый беззвучно ахнул, помимо воли схватившись за оберег.
Из бездны к нему летела страшная птица. С чешуйчатыми серыми крыльями, зубастым клювом и мёртвым всевидящим взглядом…
Птица Мавута!
Бусый потерял ощущение верха и низа, птица то ли поднималась из глубины, то ли падала на него, уже выставляя для удара хищные лапы…
Бусый закричал и шарахнулся прочь, мало не опрокинувшись с гати. Зорегляд и Ульгеш разом подоспели к нему, схватили за рубашку и выдернули на островок.
Но на том дело не кончилось.
Вода в Бучиле взялась медленно закипать. Окоём скрыл солнечный диск, и стал отчётливо виден туман, затеявшийся над болотным окном. Это был не просто туман. Онемевшие мальчишки различили крылья и голову, жутко разевавшую пасть. Поначалу прозрачный, силуэт птицы делался всё вещественней и плотней…
…Волчата неслись через болото так, как умели только они. Не чуя ног и подавно не думая, как угадать среди гибельных топей тропу: начни думать — и мамку позвать не успеешь. Вела их та особая телесная память, которая иной раз только и способна спасти…
Уже видна была Гром-Скала, когда Ярострел оглянулся через плечо.
Не надо было этого делать, ой не надо…
— А-а-а-а-а!..
Ярострел завопил так, что оглянулись и остальные Волчата. За ними катился через трясину клок тумана, мутный и плотный, как прогорклое молоко. В нём то показывались, то расплывались очертания крыльев, чешуйчатого тела, когтистых лап… Казалось, тварь принюхивалась к свежему следу. А ещё в тумане болотными огоньками светились глаза, и, когда Ярострел оглянулся, они сделались зрячими. Страшилище увидело Волчат. Поймало их взгляды, и мальчишек опутали невидимые тенёта. Делаясь всё плотней, серое чудище начало тянуть их к себе…
— Очнитесь! Бежим!
Камень, подарок вилл, ударил Бусого в грудь, дал силу заорать во всё горло, разбить колдовское оцепенение. Мальчишки точно очнулись и опять побежали…
«Это я виноват. Это я посмотрел в Бучило и выпустил птицу Мавута. Всё из-за меня…»
Мысль о неискупимой вине перед родом прорвалась даже сквозь страх. А за ней хлынул спасительный стыд. Он вернул Бусому способность думать и наполнил его плечи упрямой злой силой. Нет, страх никуда не исчез, он был по-прежнему здесь, осязаемый и липкий, он просто перестал застить весь мир.
Бусый набрал полную грудь воздуха и опять закричал. Но это был уже не писк беспомощного зайчонка, готового почувствовать на своём тельце зубы лисы. Это был клич воина, сумевшего победить себя и принимающего неравный бой.
— Волки! Бегством не спастись! За мной все! К Осине!
Это был приказ. Отчётливый, спокойный и властный. Отданный вожаком, надёжным и сильным. Таким, подле которого сам делаешься сильнее. Таким, который нипочём не допустит беды.
И кому дело до того, что этому могучему вожаку от роду всего двенадцать лет?
Мальчишки, в том числе Зорегляд, устремились за Бусым сразу, без раздумий и подавно без споров.
Верёвки, брошенные у Гром-Скалы, никуда не делись со своего места. Не обернулись гадюками и не уползли в траву, только набрякли водой.
— Влево дёрни! А ну, навались разом! А теперь вправо! Дёрни… дёрни… Дёрни!!!
Бусый направлял Волчат быстро и — сам чувствовал — безошибочно. Раскачивал, расшатывал, выкорчёвывал… Каменная Осина сопротивлялась с кромешным упорством, но Волчат, дравшихся за свою жизнь, остановить было невозможно. А из гранитной скалы рвалось им навстречу что-то живое. Теперь Бусому уже не казалось. Не он один, все мальчишки осязали грозные медленные рывки, от которых сотрясалась земля.
— А ну навались!!! Навались, Волки!.. Дёр-р-рни!!!
Каменная Осина, не выдержав, подалась и рухнула с крутого гранитного лба. С гулом проломила толстый коренник,[17] подняла стены болотной жижи, с ног до головы окатив ею Волчат, и стала медленно погружаться.
А с Гром-Скалы принялась осыпаться земля. Камень словно рос, делаясь всё грознее и выше.
Не то Волк, не то Пёс, не то Симуран со сложенными до поры крыльями…
Он сбрасывал с себя мох, раскидывал вековую труху палых листьев и хвои, размётывал лесной мусор — и готовился к бою. Зверь-Защитник был огромен, под серой шкурой вздувались гранитные мышцы, налитые яростной силой.
Волчата, не сговариваясь, взлетели на его широченную спину. Камень излучал не просто накопленное за день солнечное тепло, он дышал грозной мощью, жаждущей битвы.
«Ну, подойди, ещё чуть-чуть подойди, серая мерзость, — слышался мальчишкам его приглушённый рык. — Ещё ближе, ну!»
Но страшная птица так и не одолела этого последнего шага. Тот, кто прислал её, понял: дальше не было ходу. Дорогу заступил Зверь. Страж здешних мест. И обойти его, а тем паче переступить, не было дано никаким чужакам.
Зрячие глаза снова сделались простыми болотными огоньками, а потом и вовсе погасли. Теперь это был обычный туман. Поднялся ветер и понёс его прочь, без остатка рассеивая над Журавлиными Мхами…
МОРСКИЕ ГОСТИ
Позже Твердолюб пришёл к выводу: всё началось с того, что у матери в квашне пропала закваска.
Мать всегда замешивала опару с утра, чтобы к вечеру, когда затопят хлебную печь, тесто успело должным образом выбродить. В тот день, заскочив домой, Твердолюб услышал мамин плач. Бросился в бабий кут — и увидел маму, беспомощно плачущую над квашнёй.
Там всегда обитала закваска для нового хлеба, живой, тёплый зародыш, готовый принять муку, воду и мёд и пышно подняться, даруя домашним вкусные ломти и хрустящие корочки. Маминому хлебу в деревне не было равных.
Твердолюб откинул стёганое покрывало… Погибший тестяной ком покрывала скользкая плесень. И пахло не закваской, а тленом.
— Мам, ну что ты, не плачь…
Мама отняла руки от лица и увидела, что сын уже тащит к домашней печи горшок — сварить кипятку.
— Мам, я сейчас её выскоблю, ошпарю и луковками протру! А не то новую смастерю, не плачь только! А закваски от Росомах живой ногой принесу! У них тоже добрый хлеб водится…
И мать кое-как улыбнулась, потому что у сына от неё не было тайн. Знала уже, какого цвета у милой Бажаны лента в косе.
А вечером того дня долетела весть: вверх по Светыни шёл сегванский корабль.
Это была самая настоящая «косатка», о каких Серые Псы немало слышали от соседей-сольвеннов, но сами до тех пор не видали. Она мягко ткнулась острым носом в песок, и на берег вышли сегваны.
Суровые лица, исхлёстанные ветрами солёных морей, отмеченные холодом и боевыми рубцами. Цепкая походка людей, проводящих на корабле гораздо больше времени, чем на сухом берегу. А осанка и особые, безмятежные взгляды говорили о том, что на «косатке» приплыли вовсе не рыбаки.
Сегваны и не скрывали того, что они были воинами.
И они понимали, конечно, что их появление не прошло незамеченным.
Они даже не пытались таиться, потому что это было всё равно бесполезно. Шли открыто и возле деревни тоже высадились ясным днём.
Серые Псы встретили их на берегу. Одни мужчины и парни, все при оружии. Равно готовые и к немирью, и к миру, стояли и молча разглядывали пришельцев, ожидая, что скажут. Силы были, пожалуй что, равные.
Вот вперёд вышел плечистый, рослый сегван. Твердолюб выделил его ещё издали, когда на «косатке» только сворачивали парус. Почему выделил? И сам бы не смог сказать.
Сегван воздел правую руку, но не тем резким движением, которым, наверное, бросал в бой не умеющих отступать молодцов. Высоко поднятая раскрытая десница лишь означала, что он пришёл с миром.
— Приветствую вас, сыновья славных матерей, — раскатился над тихим берегом его голос. Веннская молвь была явно непривычна гостю, но говорил он не сбиваясь, твёрдо и раздельно произнося каждое слово.
— И ты здрав будь, сын славной матери, — неспешно отозвался большак.
Чуть склонив голову в уважительном поклоне, чужеземец выпрямился и зарокотал дальше:
— Мы пришли с острова Закатных Вершин, и моих отцов называли там кунсами. Мы измерили холодное море, раскинувшееся на седмицы пути. Наши кости заболели от качки, а животы больше не могут принимать рыбу. Будет ли позволено людям кунса Винитария обогреться и обсохнуть у порога веннских земель?
Сегван замолчал.
Твердолюбу, вместе со всеми слушавшему сдержанную речь гостя, ни с того ни с сего вдруг вспомнилась осенняя ярмарка, куда его, семилетнего, в самый первый раз взял отец. Заезжие нарлаки водили на цепи чёрного медведя, привезённого с гор. Учёный зверь плясал, кувыркался через голову и сам себя хвалил, хлопая по бокам передними лапами. Отец назвал это непотребством, поморщился и сказал: «Пошли, Твёрд. Бьют зверя лесного, вот он ими пляшет, и увальнем беззаботным прикидывается. А сам только случая ждёт, чтобы свою ненависть выплеснуть… Эй, парень, стой, куда лезешь?!»
Медведь был, втрое меньше бурых собратьев, водившихся в веннских лесах. И лапой махнул вроде несильно, как бы продолжая дурашливую возню… Но зацепил когтями и стянул с какого-то подгулявшего сольвенна… ох, вовсе не шапку. На лицо парню кровавым чулком наделись его собственная кожа. Сорванная вместе с волосами, начиная с затылка…
Почему вспомнилось? Непонятно. Ничем не был похож: могучий мореплаватель на несчастного зверя, искалеченного и озлобленного неволей. Почему вдруг повеяло от него такой же бедой? Или шутило шутки тревожное ожидание, заставлявшее Твердолюба до боли сжимать тугой охотничий лук?..
Понимание пришло позже, потом, когда ничего уже нельзя было поправить. Тогда только смекнул Твердолюб, какому предостережению не вняли они с отцом. Медведь, он ведь тем и отличается от прочих зверей, что не предупреждает врага. Ни поднятием шерсти, ни рыком, ни оскалом, ни неподвижностью закаменевшего в яростной готовности тела, ни изменившимся взглядом маленьких глазок. Ничем… Нельзя угадать, в какой миг нападёт смирный с виду медведь, это всегда случается неожиданно. А что знали Серые Псы о сегванах? О Винитарии с острова Закатных Вершин? Многим ли больше, чем тот сольвенн о медведях?..
…Серые Псы не торопились с ответом. Молва о великой беде, постигшей народ Островов, докатилась к ним не вчера. О том, как сегваны, не желая ждать, когда начнут умирать от голода дети, род за родом садились на корабли и оставляли родину за кормой. Переселялись на матёрую землю, которую называли попросту — Берег.
Винитарий терпеливо ждал решения веннов. Твердолюб посматривал то на него, то на своего большака и тешился слабой надеждой — а вдруг? Вот бы послушать сегванские рассказы о походах, о странах за морем!
Серые Псы позволили мореходам устроить привал. А когда, немного оглядевшись, те в самом деле заговорили о землях для нового поселения, — венны указали кунсу Винитарию ничейные места на левом берегу Светыни. Кунс сердечно поблагодарил за ласку и тут же отправился ставить за рекой лагерь. Не далее как следующей весной там должна была вырасти сегванская деревня с детьми, жёнками, козами и коровами, перевезёнными с острова Закатных Вершин…
И всё это время мама пекла хлеб на новой закваске, принесённой от Росомах, и получался он пышным и вкусным, ничуть не хуже прежнего…
ПАУК
Утро занялось бодрым и солнечным. Горный Кузнец плеснул в лицо озёрной воды и почувствовал себя воистину молодым.
«Ты можешь обманываться, полагая, что ещё крепок и полон сил, — говорил ему когда-то один умудрённый старик. — Но ты не обманешь ни горный склон, ни лестницу в доме. Они быстро тебе объяснят — юность давно прошла…»
Молодые редко запоминают подобные поучения, но будущий Кузнец услышанного не забыл. С тех пор миновала целая жизнь, время, проведённое в упрямом поиске Истины, закалило и возвысило не только дух. Встав на плоском прибрежном камне, Горный Кузнец начал вершить Танец Единения. Его посох легко вращался, летал из руки в руку, наносил стремительные удары… Танец привычного и не по годам гибкого тела творил особую музыку, вливавшуюся в великий хор мироздания, но это была лишь подготовка к самому важному. Омывшись в озере, старик уселся на прохладном песке и принялся дышать — неспешно и с наслаждением, присутствуя в каждом вдохе и выдохе.
С каждым опустошением лёгких всё суетное и грязное, обременявшее дух, изгонялось вовне, а взамен щедро лилась звонкая и чистая красота рассветного мира… Единение со Вселенной подарило старцу знакомый радостный взлёт, даровало вдохновенную ясность мыслей и особую зоркость духовного ока, позволившую осторожно всмотреться в неудержимо-могучий Поток Времени.
И даже выделить две крохотные щепки, плывшие в этом Потоке.
Увиденное не принесло успокоения. Во внешнем мире происходило что-то тревожное, Поток бурлил и ветвился, беспрерывно меняя течение, рождая вихри и сувои.[18] Горный Кузнец напряг зрение, но Поток, мчавшийся в будущее, от этого только заволокло мглой.
Солнце поднималось, постепенно нагревая песок. Скоро ящерицы, гревшиеся на камнях, начали искать тень, но Кузнец не обращал на это внимания. Отчаявшись разглядеть завтрашний день, он обратил взгляд в другую сторону, против течения, стал пристально всматриваться во вчера, ища там отгадку. Это был кропотливый труд, требовавший немалого напряжения сил…
Когда наконец старик вернулся к телесному восприятию, он обнаружил, что миновал полдень. Солнце висело прямо над головой, а скалы и песок дышали таким зноем, что он сразу почувствовал себя крицей в плавильне.
Он до сих пор обманывал и горный склон, и лестницу в доме, но Поток Времени оказался неумолимым. Во рту было сухо, перед глазами плавали чёрные пятна, а голова раскалывалась от боли. «Я всё же состарился, — скорбно сознался он себе самому. — Созерцание Потока и прежде утомляло меня, но не опустошало до конца, как теперь…»
Близкое озеро мерцало неподвижным стеклом. Стоит окунуться в его живительную прохладу, и силы постепенно вернутся. Старик хотел встать, но тело впервые не подчинилось ему.
Горный Кузнец родился в Вечной Степи, он всегда любил солнце. Мог ли он думать, что благословенное светило, Божий Огонь, однажды приведёт его к краю гибели?
«Вставай!» — приказал он обессилевшей плоти.
Тело ответило глухим ропотом и, вместо того чтобы встать и идти, беспомощно завалилось на бок. Ему, телу, было слишком хлопотно поднимать себя и куда-то двигаться, хотя бы даже к спасению. Спасение не стоило трудов, для него потребных. Гораздо проще было затихнуть и лежать, пока не наступит окончательный и вечный покой.
Старик близко увидел крупицы песка, полупрозрачные на невыносимо ярком свету. Если на время закрыть глаза, быть может, боль в голове хоть немного утихнет?..
Когда он снова приподнял веки, совсем рядом с его лицом копошился паук.
Это был крупный паук-падальщик, и ему предстояла немалая работа. Он даже не стал дожидаться, когда человек умрёт окончательно. Взобравшись на голову старика, мизгирь торопливо отправился в путь, выпуская за собой пучок липких, почти невидимых нитей.
Называясь падальщиком, он на самом деле падалью не питался. Он лишь использовал стерву[19] как приваду для жирных и вкусных мух, спешащих на запах плоти, разлагающейся под солнцем. Найденное пауком двуногое существо ещё не начало источать лакомый дух, оно ещё не совсем умерло, но тенётник знал, что на жгучем солнцепёке ждать осталось недолго. Если он успеет оплести умирающую прикормку паутиной, очень скоро можно будет начинать пиршество, звать на угощение подругу, зачинать с нею потомство…
Пауку жилось у озера нелегко. Падаль в окрестностях Вороньего Гнезда никогда не была обильной и частой. Еле-еле хватало совсем с голоду не помереть.
Не потому, конечно, что в Особенном месте, созданном Кузнецом как благословенный храм Жизни, совсем не водилось смерти. Нет, жизнь и смерть не могут обойтись одна без другой. Старик ловил рыбу, ослик щипал подросшую травку, мыши искали семян, птицы подхватывали червей — и старались не попасться на глаза орлам, недреманно кружившим в мареве высоких небес… Но что такое тщедушный комок шерсти или пуха, изорванный хищными когтями! Поди разыщи его, да в пути сам не угоди кому-нибудь на обед!
Сегодня пауку сказочно повезло. Кажется, времена начали меняться к лучшему…
В умирающем, воспалённом сознании человека его собственные мысли начали удивительным образом переплетаться с короткими хотеньями падальщика. Да столь причудливо, что одна мысль тотчас рождала другую, неожиданную и до крайности интересную, требующую дальнейшей работы ума. Но разум отказывался трудиться, и умирающего старика снедала досада. Настолько, что, устремившись в погоню за каким-то особенно ярким образом, Горный Кузнец даже очнулся, вывалился из мучительного бреда.
Он сразу понял, что это просветление гаснущего рассудка — последнее. Больше он не очнётся, не успеет додумать что-то ослепительно важное. Самое важное в жизни. Такое, что могло бы по-настоящему приблизить его к пониманию Истины.
Досада переросла в гнев.
Как же проползти эту полоску песка, дотянуться и припасть к спасительной влаге? Как заставить двигаться непослушную плоть, как принудить её удержать в себе душу? С озера тянул ветерок, он нёс запах спасения. Так близко! И недостижимо!
Это поражение станет не единственным в жизни, но наверняка — самым последним…
Если он даст себя победить.
Горный Кузнец полагал, что избавился от страха смерти уже давно. Мавут, помнится, ему люто завидовал. Он всё пытался выведать, в чём же тут дело, и ещё больше негодовал оттого, что его расспросы лишь смешили наставника.
Мавут… Он ведь не родился чудовищем. И кровные родители Бусого были добрыми детьми, славными и смешливыми. Они смотрели на мир доверчиво и открыто, любили родных, играли с друзьями… С чего всё началось? Когда состоялся тот первый, роковой шаг? Как уберечь от непоправимого Бусого и Таемлу? Отчего закрыло туманом Поток, не стоят ли они на пороге прямо сейчас? И готовы перешагнуть его, но покуда колеблются?
Он так и не открыл тогда Мавуту причины своего бесстрашия. Он полагал, что когда-нибудь ученик поймёт это сам. Уразумеет, что боязнь умереть есть обычная боязнь неизвестного. И не больше. Но ведь на пути Истины каждый новый миг сулит неизвестность. И грядущая смерть — лишь очередная загадка в веренице бесчисленных тайн. Чего тут бояться?
…Почему же так страшно чувствовать, как на жгучем солнце из тела стремительно испаряется жизнь? Может быть, оттого, что, удалившись за край, он уже не сумеет помочь двум полюбившимся ему малышам?
В это время по песку протопали маленькие копыта, и рядом с Кузнецом появился ослик. Сочувственно обнюхал старика, ухватил его зубами за безрукавку и, пятясь, начал подтаскивать к воде.
Вечером Горный Кузнец рассматривал цепочки крохотных следов, оставшихся на песке. Он не помнил, как вода смывала с него паутину, и лишь следы убедили его, что ему не померещилось и падальщик действительно приходил.
Это значило, что он в самом деле должен был умереть.
В Вечной Степи искони соблюдали обычай приносить пойманного паука к постели больного. Если мизгирь пытался удрать, за жизнь человека следовало бороться, сколь бы близким к смерти тот ни казался. Если же паук затаивался в ожидании или, паче того, торопливо принимался за своё дело, все понимали: надежды нет никакой.
Падальщики не ошибались… Эти твари ошибаться попросту не умели. Значит, сегодня не обошлось без помощи свыше, без того, что у людей называется чудом. Боги всё-таки не отступились от Своего младшего брата, дерзнувшего впрясть в великую гармонию Сотворения Жизни собственный голос.
Ему даровали ещё какое-то время. А с ним и способность с рассветом вновь присмотреться к плывущим в Потоке двум маленьким щепкам…
ВЛАДЫКА МАВУТ
Человек, которого Бусый с Ульгешем когда-то знали для себя как бывшего венна, заново учился стрелять из лука.
Теперь у него было новое прозвище — Шульгач, то есть Левша. Так после поединка с Соболем нарёк его Владыка. Звучало справедливо, хотя и с оттенком пренебрежения.
Обрубок руки почти не болел, Мавут умеет лечить. Он многое умеет. Ему ведомо искусство быть великодушным. Особенно к своим названым сыновьям. Вот и Изверга, бывшего венна, он ни словом не попрекнул за неудачу в землях его прежнего племени. Встретил как ни в чём не бывало, обнял, за стол усадил, позаботился о полученной ране. Подсказал, что делать, чему научиться, чтобы править службу, как до потери руки. Ну, или почти…
И всё вроде было бы хорошо, не награди его Мавут новым именем. Знал ли Владыка, что в языке веннов «шульгач» был не только «леворуким», но ещё и «никчёмным», «негодным»?
Не спросишь…
Вздохнув, калека вновь поднял лук. С Владыкой не спорят. Можно только доказать, что не такая уж он обуза для семьи. И тогда Мавут даст ему новое имя. Владыка умеет давать имена своим людям. Точные имена, отражающие самую суть человека.
К правой культе Шульгача ремнями было пристёгнуто устройство с особым хитрым крючком. Если им действовать правильно и умеючи, крючок мог цеплять и натягивать тетиву, да ещё и удерживать при этом пятку стрелы. А потом отпускать напряжённую тетиву, отпускать легко и мягко, чтобы не сбивался взятый прицел.
Вот только управляться с луком отныне приходилось совсем не так, как с детства привык Шульгач. Мавут объяснил новую науку, сам показал, что за чем следует делать. Откуда он столько знает? И как человека в оборотня превратить, и как мысль свою на другой край света отправить, и как однорукому стрелы метать…
«Вот потому он и Владыка, а я — никчёмный Шульгач!»
Дело не ладилось. Бывший венн подержал у лица остаток руки, ожидая, когда под ремнями в обрубленных жилах перестанет тяжело и больно толкаться кровь, и начал всё с начала.
Ещё одна попытка попасть в цель. Воткнуть стрелу в деревянный круг, отнесённый на несчастных два десятка шагов.
Подняв лук и стрелу высоко над головой, Шульгач стал его опускать, натягивая при этом тетиву. Выпрямленная левая рука пошла на цель, правый локоть закинулся далеко назад. Мавут объяснял, как вытягивать навстречу грядущему выстрелу не только тугую тетиву, но и саму цель, как приближать её к себе, становясь с ней единым целым…
Плавно, не спеша, но и не мешкая, на спокойном, ровном выдохе напрягается тетива. Разум, как ничем не замутнённая озёрная гладь, правильно отражает всё, что происходит вокруг. И движение цели, и порыв горного ветра… А послушные зрячему разуму руки ведут к цели стрелу… И в миг, когда они образуют единую линию, неодолимо устремлённую к уже пойманной цели, — крючок сам собой поворачивается и мягко спускает тетиву…
…И не получилось. Опять правый локоть чуть запоздал. Деревянный щит дрогнул, стрела воткнулась и повисла возле самого края. А ведь когда-то Изверг поразил бы красное пятно в самой середине щита и на бегу, и катясь кувырком, и даже летя галопом на лошади. Да не за двадцать, а за двести шагов…
Возращаться к прежнему искусству было, пожалуй, трудней, чем если бы он не умел совсем ничего.
Захотелось отшвырнуть лук подальше и никогда более не брать его в руки. Мавут, стоявший неподалёку со стайкой младших «детей», не повернул головы, но Шульгач откуда-то знал: Владыка всё видел. И намерение бросить лук от него не укрылось…
Шульгач опустил голову и пошёл прочь, баюкая на груди отчаянно разболевшуюся руку. Всё одно нынче со стрельбой ничего путного не выйдет, сколь ни старайся. Может, потом, позже, что-то придёт…
«А и не придёт, что с того?»
Он вдруг понял, что бесконечные неудачи вместо досады поселили в его душе безразличие. Ну да, Шульгач. Бесполезный. Так дело пойдет, Мавут наградит его кличкой хуже теперешней… но и это стало вдруг безразлично. Куда-то исчез страх разгневать Мавута, пропало и желание заслужить короткую похвалу.
Что-то произошло с ним в родных лесах. Соболь не только десницу ему отрубил. Изверг утратил там что-то ещё, куда более важное. Утратил ли? Может, обрёл? У кого спросить, почему он вернулся из веннских чащ совсем другим, не таким, как прежде, и этот другой никак не мог разобраться в себе, заново собрать в утраченном единстве тело, ум, душу?
Подойдя к бьющему из расщелины холодному источнику, Шульгач сунул голову прямо в струю, омывая горящее лицо. Затем неловко скинул одежду, отстегнул Мавутов крючок, забрался в каменную чашу… Посидел, остывая и успокаиваясь. Вылез, постоял голым на свежем ветру, ощущая, как тело охватывает приятный озноб. Заново оделся, неспешно побрёл вверх по ущелью.
Шульгачу хотелось побыть одному. Поразмыслить о своей никчёмной, даром, как он это вдруг понял, потраченной жизни. Разобраться, что за росточек пробился в ней там, среди знакомых холмов…
Мавут проводил Шульгача взглядом, поморщился, как от зубной боли. Вновь повернулся к взмыленным полуголым парням, которые тыкали копьями врытые в землю куклы, сработанные из жердей и плотных снопов саккаремской, очень жёсткой соломы.
Пробить куклы насквозь покамест не получалось ни у кого, хотя силушкой Боги никого из парней не обидели. Почти каждый был выше Мавута и намного шире в плечах. Но острые наконечники упорно вязли в соломе, даже не добираясь до жердевой сердцевины.
— Зачем так пыжишься? Того гляди, от натуги воздух испортишь!
Могучий парень, к которому обратился Мавут, побелел и чуть не выронил копьё.
Владыка едва удержался, чтобы не плюнуть с досады. Вот ведь из какого дерьма воинов нынче делать приходится! Мыслимо ли представить, чтобы Хизур, или Шульгач, или даже малыш Латгери явили перед наставником столь постыдное малодушие! А эти? И сила вроде есть, и смекалка, и ловкости хватает, а всё одно не получится из них настоящих бойцов. Так — один раз использовать, два раза от силы. Дух, если нету его, никакими заклинаниями не укрепишь…
Он ожёг парня резкой, оглушительной оплеухой, внешне страшной, но на деле — один звук. Искусной оплеухой вообще-то можно снести с ног даже великана, которого не покачнёшь кулаком. Мавут это умел. Но умел наносить и такие вот удары — чуть ли не смертельные с виду, а на деле — муху прибить.
Парень шатнулся, но не упал. Выпрямился и с удивлением обнаружил, что ещё жив.
— Больно? — спросил Мавут.
— Нет!
— Молодец.
Расчёт был на то, чтобы они поняли: заслужить благосклонность Владыки можно лишь мужеством. Пусть у недоумка гордость проснётся, как же, его сам Мавут бил, а он выстоял.
Пусть гордится. Всё лучше, чем от тени шарахаться. А другие пусть ищут случая отвагой и стойкостью отличиться перед «отцом».
— Молодец, сын, — повторил он вслух. — Будет толк из тебя. Но ты хоть понял, почему мне ударить тебя пришлось? — Парень молчал, и Владыка добавил: — Говори, что думаешь, и ничего не страшись. Отца названого бояться грех! Так почему?
— Думаю, отец, за то, что испугался тебя… С ответом промедлил…
— А какой вопрос-то был, помнишь?
— Помню, отец.
— Молодец! После такого удара память сохранить… Будет толк. Ну так в чём было дело?
— Ты спросил, зачем я пыжусь, копьём орудуя. А затем, отец, чтобы шибче ударить. Урок твой стараюсь выполнить. Да видно, покуда сил не хватает…
Мавут усмехнулся.
— Силы у тебя, чтобы куклу эту пробить, — вдосталь. Даже с лихвой. Вот смотри…
Он забрал у парня копьё и проткнул тяжёлую куклу. Легко, играючи, так шило протыкает яичную скорлупу.
— Сила настоящего удара — не в напряжении мускулов. Лишнее напряжение только помешать может. Лук тужится ли, когда стрелу кидает?
— Да н-нет, вроде…
— Вроде… Эх ты! Не только не тужится, наоборот — сбрасывает натугу! Вот и ты так же бей. Не запирай в себе силу, а освобождайся от напряжения, до конца, щедро, на выдохе брюшном, с радостью сердечной! А ну пробуй!
Парень поймал брошенное копьё и сразу, почти без замаха, по примеру Владыки пронзил куклу насквозь. Почти так же легко, как сам Мавут.
Уноты выдохнули с восхищением и плохо скрытой завистью. Глаза у них горели…
То, что и требовалось. И нет беды в том, что Мавут снова схитрил. Пока держал копьё в руках, влил в него часть своей силы. Изрядно влил, так, что в глазах мошки огненные замелькали. Ничего, он умеет силу потраченную восполнять… Зато ученики поверили, что им и впрямь по плечу непротыкаемую куклу проткнуть. Смертельный удар вынести — и устоять. В лютом бою подобная вера — самое главное. И не важно, на чём она зиждется, важно, чтоб была.
Парни вновь принялись бить копьями. Вдругорядь пронзить цель не получалось. Даже у того, кто отеческую пощёчину схлопотал. Не беда. Главное, удары стали другими, их полнило вдохновение. Наконечники доходили до жердяной сердцевины и с хрустом ломали её. Такого удара не выдержит ни одна броня, ни один щит. Воинов, им владеющих, — поискать!
А всё одно — недоумки…
РАКОВИНА
— Ещё наддай! Ещё! Э-э-х! А ещё раз! А у кого шибче выйдет?
Над Светынью раскатывалось эхо тяжёлых ударов. Как следует строиться сегваны собирались только на следующий год, когда перевезут с далёкого острова весь свой род. Собственно, они уже хотели вскорости двинуться с доброй вестью обратно за. море, а до тех пор отчего не пожить по весеннему времени просто в шатрах, — но на занятой земле нужно непременно что-то построить, и мореходы взялись возводить… баню.
Венном это понравилось.
В самом деле, вроде и надо бы, усаживаясь на земле, первым долгом подвести под крышу дом и пустить к небесам дым очага, объявляя о завоёванном праве. Но как потом бросить обжитую избу до новой весны?
А баня — что, какое худо ей сделается. Тут сегваны правильно поступили.
И вообще — толковые люди, которым по сердцу добрая баня, благодатный душистый жар, щедрое хлестание вениками, от которого тело тает и растекается, исполняясь блаженства. Что может быть лучше после дневного промысла или работы?
Пока что сегваны готовили тяжёлые камни, чтобы уложить их под углы. Левый берег Светыни был небогат валунами, и мореходы ломали гранитную вышь, нависшую над водой. Растелившись до пояса, вгоняли деревянные клинья, поливали их кипятком… Розовато-серый камень поддавался с превеликим трудом, лица и загорелые плечи сегванов были до крови посечены каменной крошкой, но упорства новосёлам было не занимать.
— А ещё наддай! Аптахар, неужто оскудела рука у тебя? Ещё! Ещё! Раньше твоих ударов трудно не заметить было! Э-эх! А — ещё! Ты ж не бьёшь, а жену будто ласкаешь!
Сегваны ругались и хохотали, названный Аптахаром хрипло отвечал, не прерывая работы:
— На себя посмотри… Э-эх!.. Вроде и горазд… Э-эх!.. Брюхо за столом набивать… Э-эх!.. А вся сила на то уходит, чтобы в шатре ночью храпеть!..
Винитарий тоже был среди своих людей, наравне махал молотом, воюя неприступный веннский гранит. Хотя нет, какое! Трудил себя больше самого ражего из своих воинов. А иначе как? Вождь потому и вождь, что люди за ним с охотой идут. Ибо он среди них — лучший. И в бою, и в работе. И никто не сказал, что быть лучшим легко…
Так думалось Твердолюбу, наблюдавшему с лодочки за делами гостей.
— Дедушка Астин! Отчего они своего Винитария иногда Людоедом зовут, когда он не слышит? — спросил как-то Межамиров Щенок. — Ты сам родом сегван, растолкуй!
Старый жрец долго молчал. Собрал бороду в кулак, снова разгладил…
— Я давно чту закон Близнецов, — ответил он наконец. — Но, так уж получается, если ушей достигает весть с Островов, голос крови повелевает мне навострять слух… А про Винитария у нас говорят часто и разное, как про всякого, кто торит свой собственный путь. Я прожил много зим и слышал про него, ещё когда он был мальчишкой. Это теперь он подтесал своё имя на аррантский лад и собрался уводить своё племя на Берег, чтобы мирно осесть вдалеке от морских дорог. В молодости он был другим… Он искал лишь ратного счастья, полагая домашнюю жизнь постыдной для воина. Однажды, одержав верх над храбрым врагом, он вкусил его плоти, чтобы подчинить и вобрать мужество побеждённого… Во времена, о которых сложены песни, деяние кунса прославили бы сказители. Но сегодняшний народ утратил величие помыслов, и поступок молодого вождя не снискал восхищения. Так он стал Людоедом и не очень-то радуется, слыша это прозвище из чужих уст. Я и вам, ребятушки, про это рассказываю, чтобы, вы поостереглись. Станете языками мести, кабы между Серыми Псами и левобережьем тень не легла.
— Во, — сказал Межамиров Щенок. — То-то я молвил, а сын кунса чуть с кулаками на меня не пошёл.
Сын кунса, тоже Винитар, был среди новосёлов единственный недоросль.
— Но ведь не пошёл? — с внезапной тревогой спросил Ученик Близнецов.
Щенок пожал плечами.
— Остановился, когда увидел, что я в толк не возьму, за что. Добрый парень, только двух слов кряду не молвит… Я ему про тебя рассказал, дедушка, так он к шатрам сбегал и подарок принёс. Ты, сказал, сам поймёшь, как с ним поступать… Вот, возьми!
И мальчишка извлёк из-за спины крупную раковину, каких по Светыни не находили. Извитую, розовую, рогатую, с жемчужным блеском внутри.
Астин Дволфир протянул руку, и почему-то его ладонь задрожала. Взяв раковину, он погладил её и, что-то прошептав, приложил к уху.
И закрыл глаза, слушая далёкий говор прибоя под скалами острова Печальной Берёзы… Сын кузнеца открыл было рот, но увидел слёзы, катившиеся по щекам старика, и прикусил болтливый язык.
Щенки Серых Псов сами шили берестяные лодчонки и лихо управлялись с речной быстриной. Но Светынь широка, руки отвалятся веслом махать туда и назад, да споря с течением, норовящим уволочь судёнышко далеко вниз. Поэтому на левый берег любопытные Щенки выбирались очень нечасто. А «косатка» сегванов и вовсе стояла на суше, поднятая на катки. Отдыхала перед скорым походом через студёное море.
ВОРОВСКАЯ НОЧЬ
Взрослые Волки, рано поутру приведённые мальчишками к Гром-Скале, в который раз слушали их сбивчивые речи и пытались постичь, что произошло накануне. И что теперь следует делать, каких напастей ждать. В то, что вчерашняя беда, едва не настигшая сыновей, окажется последней, никто не верил. Беды, они поодиночке не ходят! Одна явилась — отворяй ворота!
При трезвом солнечном свете оголённый гранитный уступ очень мало напоминал вчерашнего Зверя-Защитника, грозного и несомненно живого. Присмотрись к нему кто чужой, вовсе не узрел бы ничего удивительного. Камень как камень!
Но Волки умели ощутить свою землю как частицу себя, и каждый из них явственно слышал яростную жизнь, кипевшую в не очень-то выстуженном холодной ночью граните. Страшное напряжение, жгучую силу, подаренную Матерью Землёй. Непреклонную решимость остановить нечисть, не допустить её к людским гнёздам…
И близкое присутствие самой этой нечисти тоже ощущалось Волками явственней некуда. Болото изменилось. Злая сила, дремавшая в нём много веков, проснулась и ожила, затаилась, готовая к прыжку…
Тропинка, тянувшаяся через топи, с виду была точно такой, как вчера. Но страшная птица только и ждала, чтобы какой-нибудь неразумный отправился по ней вершить свой мальчишеский подвиг. Устремился к Курлыкиной Круче, ступил лишний шаг, вышел из-под защиты Каменного Зверя.
Ну, неразумного долго ждать не пришлось.
— Я только до островка и назад, — сказал веннам Ульгеш. — Сейчас ясный день, кто меня тронет?
Веннская земля не говорила с ним так, как со своими детьми, он действительно думал — ему ничто не грозило. Его остановили, начали объяснять, что к чему. Ульгеш плакал злыми слезами, но вроде бы понял, что книгу, оставленную в сумке на дереве, уже не вернуть.
Бусый не плакал, ему просто казалось, будто сородичи на него косились. Дескать, нашкодил, полукровка. Разбудил лихо!
Вечером следующего дня небо заволокло тяжёлыми тучами, словно не молодое лето цвело над землёй, а скорбела беспросветная осень. Тучи не пропускали к земле ни единого луча небесного света. И бесперестанно кропили лес моросящим дождиком-бусенцом.[24]
Дождь совсем не был похож на весёлые летние ливни, в нём не было удалого озорства, не было светлой радости. В этом унылом и бесконечном дожде Ульгешу чудились чьи-то слёзы.
Ульгешу было страшно. Казалось, лес наводнили чудовища, которых он видеть не мог, зато они прекрасно видели его и собирались схватить. Мальчишка силился успокоиться, твердил то вслух, то про себя, что до болота было ещё далеко, а здесь, во владениях Волков, за спиной Стража, никакое чудище появиться не может…
«А если и появится, в такой тьме нипочём меня не разглядит!»
Чернокожий мальчишка и в самом деле почти не виден был в лесной трущобе,[25] лишь порой по-звериному вспыхивали жёлтыми огнями глаза. Ульгеш пробирался по лесу едва не на ощупь, осторожно раздвигая перед собой ветви деревьев. С ветвей срывались потоки воды, но Ульгеш не обращал на это внимания. Одежда давно промокла насквозь, тело щекотали стылые ручейки. Сын Леопарда то и дело смахивал капли с лица.
Сейчас бы да под тёплую крышу, да к печке, да закутаться прямо с головой в мягкую сухую овчину… Нельзя. Не для того удрал от Бусого и Волчат, соврав о намерении засесть за дедову книгу о рукословии, чтобы струсить и вернуться с половины пути!
Чем дальше уходил от деревни Ульгеш, тем ему становилось страшнее. До невладения в ногах, до ледяной сосущей пустоты в животе. Страх явился не на пустом месте, Ульгеш вдруг понял, что не из вредности и дикарского упрямства Волки запретили ему соваться в болото. Даже днём — настрого. А сейчас скоро ночь. Беспросветная, воровская, когда всякая нечисть поднимает голову и идёт на охоту, а зло и неправда чувствуют себя особенно безнаказанно и привольно…
Выбрал времечко!
Он скрылся бы днём, но днём все работали, стараясь опередить дождь, и Ульгеш, хочешь не хочешь, торчал на глазах у людей. А до завтра промешкаешь, и книга, уложенная в холщовую сумку, может погибнуть. Может, с её страниц уже сейчас оплывали чернила, а сами страницы разбухали от влаги, слипаясь в бесформенный ком…
Ульгеша вдруг взяло странное зло на Волков. Вот засадили бы его в общинном доме за какое-никакое дело, не пришлось бы теперь от страха помирать. И стыда не было бы. Умаслил бы совесть: не моя вина, хотел пойти, Волки не дали…
Стиснув зубы, Сын Леопарда продолжал торопливо пробираться вперёд. Страх — это не трясущиеся губы и бегающие глаза, как кажется многим. Страх — это когда становятся мёртвыми ноги, и их приходится насильно переставлять, чтобы совершить ещё один шаг. А к поясу привязана толстая верёвка, и она тянет тебя назад, напрягаясь всё больше. Ульгеш чувствовал: если он остановится, то заставить себя идти дальше уже не сможет. Поэтому шёл и шёл, стараясь не потерять направление.
И вот он наконец — Страж…
Оскальзываясь и глотая слёзы, Ульгеш забрался на голову Зверя, лёг, прижался всем телом, пытаясь обхватить каменного защитника руками. Ощутил живые токи, идущие из глубины скалы, спокойную добрую силу. Всхлипнул последний раз и благодарно потёрся о камень мокрой щекой. Дыхание начало успокаиваться. Пока он здесь, никакая нечисть ему не страшна. Он немного отдохнёт и двинется дальше. Островок, рядом с которым притаилось Бучило, совсем рядом. Он сбегает туда и вернётся. Книга висит на деревце, на твёрдой земле. Он снимет её, повесит на плечо — и сразу назад. А к Бучилу, сохрани Мбо Мбелек Неизъяснимое, и не полезет. Даже смотреть не будет в ту сторону…
Лёжа на загривке у Стража, легко рассуждать так, будто всё уже совершилось. Ульгеш не двигался и не открывал плотно зажмуренных глаз, ощущая, как душа, витавшая неведомо где, водворяется обратно в тело. А когда тело начало оживать, решился посмотреть вперёд, прикинуть дальнейший путь.
Тучи успели сомкнуться непроницаемым покрывалом, но на болоте сплошной тьмы не было… Светились гнилушки, да и сами топи были как бы охвачены зловещим зеленоватым пламенем. Мёртвым пламенем, от одного вида которого опять противно засосало в животе.
Ульгеш упрямо тряхнул головой, пристальнее всмотрелся вперёд и неожиданно почувствовал облегчение. Болотные огни как будто избегали тропинки, что вела к островку. Острые глаза Ульгеша различили даже сумку на дереве. Сейчас он заберёт её и с облегчением спрячет в кожаный поясной кошель. И уже завтра на роздыхе, когда другие мальчишки станут просто дурачиться или валяться, он развяжет кошель, вынет книгу и, гордый своим прилежанием, раскроет её на закладке, чтобы углубиться в неспешное чтение. Станет открывать всё новые тайны мира, в котором они все живут… А дедушка Аканума незримо встанет у него за плечом…
И опять показалось, что книга — вот она. Уже в руке.
Надо оставить прошлые ошибки прошлому. Не горевать о них, а исправлять. Набраться мужества и решимости — и исправлять.
Ульгеш приподнялся, потом сел. Никакой нечисти не было видно. Даже если что выскочит из Бучила, Сын Леопарда десять раз успеет удрать под защиту Зверя. С книгой, конечно.
Он знал: на тропе ему будет страшно. Ещё хуже, чем было в лесу. Но он — потомок рода вождей. Страх не остановит его.
Ульгеш глубоко вздохнул и поднялся на ноги…
«Не ходи туда».
Храбрый воин отчаянно вздрогнул, съёжился, вскинул в защитном движении руки… И потом только понял, что никто не собирался на него нападать. Это Зверь не хотел отпускать его на болото. Заново отдышавшись, Ульгеш благодарно погладил ладонью широченный каменный лоб и решительно прыгнул вниз.
«Не ходи!»
Ульгеш стиснул зубы и заставил себя сделать шаг.
«Не бойся за меня, Страж. Всё будет хорошо. Я скоро вернусь…»
Под ногами угрожающе зачавкала болотная жижа, и внезапно Ульгешу почудилось, будто лопнула, пропуская его, невидимая стена, разделяющая миры. Сердце ёкнуло, но прежний страх не посмел вернуться. Страх был побеждён. Гордый Ульгеш живо домчался до островка, подошёл к деревцу. Остановился. Огляделся вокруг… Никаких страшилищ не было видно.
Торжествующе улыбнувшись, он протянул руку к сумке. Ладонь обняла мокрую холстину, и он понял, что победил.
— А-а-а-а-а-а-а!..
Тело Ульгеша вдруг смяла, скомкала и поволокла в темноту не знающая жалости сила.
Прежде чем мир поглотила багровая вспышка, он успел понять, что его тащили к Бучилу…
ПЁС ПОДНИМАЕТ ШЕРСТЬ
Крик Ульгеша до деревни Волков, конечно, не долетел. Но и неуслышанным не остался. Крепко спавший Бусый вскинулся на лавке, открывая глаза. Сердце отчаянно колотилось, как бывает после страшного и безысходного сна. Вот только ничего такого ему этой ночью не снилось. Он бы запомнил.
Он снова лёг и, надеясь успокоиться, начал привлекать к себе хорошие и добрые мысли. О том, например, что бабушка Отрада собиралась наутро печь калачи. Самые первые в заново возведённой печи для хлеба. Калачи!.. Бусый ощутил, как рот наводнила слюна. Мягкие и хрустящие, похожие на сольвеннские сумочки… С толстыми животками и вкусными ручками-перевяслами.[26] Может быть, им с Ульгешем даже будет доверено вымешивать тесто. Бабушка очень волновалась, хороши ли поднимутся калачи. Если вдруг подгорят или, хуже того, опадут, возьмутся закальцем,[27] — беда! Хоть всю печку заново бей…
«Не горюй, бабушка! — мысленно обратился Бусый к Отраде. — Если что, снова натаскаем глины, созовём ребятню, и тогда мы с Ульгешем…»
Ульгеш!!!
Бусый понял наконец, что его разбудило. Эхо далёкого крика в тишине, порождённой отсутствием привычного дыхания рядом.
Где Ульгеш?..
Бусый вновь резко сел и, заранее холодея, принялся обшаривать лавку подле себя. Вот сейчас «головешкин сын» вскинется и обиженно замычит спросонья, потревоженный слишком резким толчком…
Рядом было пусто.
Ну да, чернокожий всё искупал своё давнее небрежение и собирался сегодня подольше посидеть с книгой и светцом… Что же не даёт успокоенно зарыться в одеяло и повернуться на другой бок?
Ульгеш…
Этот крик!
Между прочим, маленькому Летуну тоже не лежалось спокойно. То затихнет под лавкой, то примется хромать по клети туда и сюда, что-то нюхать, скрести лапой дверь…
Бусый отодвинул его и выскочил вон, чуть не на ходу натягивая штаны. Ветер тут же швырнул ему в лицо мокрую тьму, едва не загнав мальчишку обратно в тепло, но Бусый устоял. «Ульгеш! Ульге-е-еш! Где ты?» Беззвучный зов улетел в ночь и… негаданно вернулся, принеся зримый ответ. Страх за друга понудил умение Бусого приоткрыться новым и неожиданным образом. Прежде он видел только нити-намерения, а вот следы — никогда. Теперь же ему туманной светящейся прядью, кошачьей тенью во тьме явился след Ульгеша. Такой, каким его, верно, видел лесной родич, обладатель зрячего носа. След был тусклый от беспросветного страха, лишь там и сям пересыпанный искрами и блёстками отчаянной решимости. Он тянулся из деревни куда-то за расчистки, через Бубенец… На болото.
«Вот, значит, какое небрежение книжное отправился искупать! Ну хитёр! И правды не сказал, и неправдой рот не запачкал…»
Мысль о том, что вообще-то надо бы первым долгом бежать к дедушке Соболю, посетила Бусого уже в лесу. Когда он во все лопатки нёсся давешними тропинками, уже чувствуя впереди мерное дыхание Защитника. «Ульге-е-еш!..»
Сейчас тот отзовётся, обнаружится где-нибудь между Зверем и островком. Остановится, и Бусый, настигнув, перво-наперво расквасит ему нос. За то, что удрал таким вот тишком, с собой не позвал. Ты, скажет, не Сын Леопарда, а рукавица колотковая…[28] молью траченная…
Ульгеш не откликался.
Бусый с разбегу взлетел на скалу, вгляделся в зеленоватое, почему-то совсем его не удивившее марево над болотом… И в животе растёкся мертвенный холод: Ульгеша нигде не было видно. Его след обрывался у островка. Так, словно мономатанец схватил свою книгу — и вместе с ней кувырком бултыхнулся в Бучило… Хотя нет. Последний обрывок следа был какой-то скомканный, мятый. Ульгеш не сам прыгнул в мочажину. Его туда затащили.
Теперь там один за другим поднимались к поверхности большие — со скалы видать — пузыри мертвенного огня…
И что же теперь делать? Бежать к Бучилу? Чтобы ещё один крик прозвучал и новые пузыри пошли?
А потом за ним, Бусым, того гляди, в болото прыгнет и Синеока, с неё станется. А там — Итерскел с Соболем…
Нет, нельзя.
Но как же быть? Смириться ли с тем, что страшная птица уволокла друга в пучину?
Мавут…
Но если Мавут, ему не Ульгеш нужен. Что Ульгеш? Так, под руку подвернулся…
Думал ли Бусый, что станет когда-нибудь не прятаться от ненавистного недруга, не вызов ему бросать, а сам его к себе позовёт? Да ещё будет с сумасшедшей надеждой ждать появления страшной птицы?..
Он прыгнул с камня, как в омут под Белым Яром, так же отчаянно и безоглядно…
…Кнут со свистящим шипением распорол ночной воздух, и чернокожий пленник, сжавшись в беспомощный комок, под хохот Мавутичей покатился по каменной площадке. Мир вспыхнул багровым и стал одной пронзительной болью. Ей не было ни окончания, ни перерыва. Обмочившийся, ослепший, окровавленный Ульгеш не мог больше даже кричать. Скорчившись, он только закрывал локтем лицо, а другая рука что-то прижимала к животу, он давно забыл — что.
— А-а-а-а-а…
Мавутичи забавлялись, перебрасывая один другому кнут. Удары были не очень сильными. Иначе забава окончилась бы слишком скоро.
Вот кнутом завладел Хизур и уже оскалился, отводя руку назад, но на запястье вдруг тяжело легла чья-то ладонь.
— Хватит бы…
На последнем слове полетел наземь уже Шульгач. Хизур ударил его опять-таки не в полную силу, чтобы не разгневать Мавута. Если Владыка захочет, он убьёт сам. Убьёт так, чтобы всем другим было видно и понятно его правосудие. Схватки между «детьми» ему не нужны.
И эта стычка не укрылась от внимания Мавута, тем более что касалась она не только Хизура и Шульгача. Мавутичи ведь не сами нашли себе развлечение, кнут дал им Владыка. То есть Шульгач, по сути, не Хизура за руку ухватил.
Все знали: указывать Владыке не позволено никому. А вот за пояснением подходить — сколько угодно. Пусть знают это и дальше…
— Зачем, спрашиваешь, пороть велю? усмехнулся Мавут. — А допытаться хочу, как твои былые сородичи моего Змеёныша извели. И не только…
Мавут забрал кнут у Хизура и сам ударил мальчишку. Ну, мол, Шульгач, что сотворишь? Прикоснёшься ли? Попробуй…
Но злой пёс, поднявший было шерсть и даже оскалившийся, кусать всё-таки не полез. Лишь упрямо пробормотал:
— Ты и так почти всё уже знаешь…
Мавут чуть помедлил с ответом, пристально, зрачок в зрачок глядя на однорукого. Размышлял, следовало ли отвечать. «Дети» уже не хохотали над маленьким пленником, корчившимся на камнях. Они развесили уши, глядя то на Шульгача, то на Владыку.
Это было очень нехорошо. Уж не самое ли время Хизура любимой забавой одарить? Ишь как приплясывает в нетерпении…
«И одарю, если ты, никчёмный, ещё слово скажешь мне поперёк…»
Мавут хлестнул чернокожего снова. Тот тихо завыл, пытаясь куда-то ползти. Бывший венн дрогнул лицом, но не пошевелился.
«Ладно, Хизур. Потерпи. Видно, не пришло ещё время…»
— Ты сам сказал — почти, — проговорил Мавут удовлетворённо. — А я хочу знать про этих дикарей не почти, а всё до конца. Когда я начну с ним беседовать, пускай парень всё время думает, не забыл ли о чём!
— Ты — Владыка, — чуть помолчав, ответил Шульгач. — Ты мудр. Но много ли выльется из кувшина, в котором попросту ничего нет?
Мавут пожал плечами, ему стало весело.
— Кнут поможет проверить, нет ли на дне хоть капельки. А заодно и посмотрим — вдруг подберёт сопли и кидаться начнёт? Может, нового Латгери воспитаем.
— Владыка… А если нашего Латгери на него у Волков выменять?
«Да на что мне калека бездвижный», — хотел было отмахнуться Мавут, но остановился. Не дело Владыке вот так объявлять об отказе от «сына», принявшего за него раны. А потом промелькнула и совсем нежданная мысль.
— Обменять? Дело говоришь. Спасибо за совет, Шульгач.
Мавут отшвырнул кнут. Шагнул мимо расступившихся «детей», поднял на руки трясущегося мальчишку и понёс, на ходу заговаривая, отводя его боль. Чернокожий плохо понимал, что творилось вокруг. Почуяв негаданное облегчение, потянулся к своему избавителю, что было сил прижался к нему…
Своего главного палача в Мавуте он не признал.
Краем глаза Мавут уловил, как кто-то из «детей», только что рвавших один у другого кнут, вдруг скривился лицом, словно тоже недалеки были слёзы.
Вот так! Пусть помнят: Владыка может не только ударить, но и приласкать. Не только на смерть послать, но и выручить из беды.
И Шульгача казнить пока не придётся. Чего доброго сгодится ещё. Этот пёс хоть и огрызается, зато в трудную пору нипочём не предаст.
А самое главное — черномазого он действительно обменяет.
Только не на Латгери, конечно…
Бусый снова попирал коленями утлую гать, заглядывая в Бучило. Ему долго не удавалось вызвать страшную зубастую птицу, но наконец он совладал. Вот измельчали и больше не показывались пузыри, вот успокоилась и стала гладкой поверхность… И почти сразу в тёмной глубине загорелись два огонька. Птица летела из бездны, не то падала из чёрных небес… Когда сделалась видна каждая чешуйка на её крыльях, Бусый едва не зажмурился, ожидая, что из Бучила вот-вот высунутся когтистые лапы и схватят его. Но нет. Птица остановилась и повисла в пустоте, размеренно взмахивая крыльями.
— Мавут, — прошептал Бусый, и заклинание сработало. Птица обернулась рыжеусым мужчиной.
А на руках у Владыки лежал Ульгеш!
И не то чтобы тот его удерживал силой. Мономатанец льнул к нему, словно от смерти спасаясь. Жалкий, заплаканный, весь в крови…
— Не бойся, маленький венн, — первым заговорил Мавут. — Без моего дозволения никто тебя не обидит.
Бусый хотел ответить, но горло стиснула судорога, от которой голос превращается в придушенный писк Мальчишка закашлялся, однако потом всё же выдавил:
— У нас есть защитник. Каменный Симуран…
— А мне, — пожал плечами Мавут, — пока через его рубеж и не надо. Занадобится, уж что-нибудь придумаю… Ты меня зачем звал?
— Ульгеш… — выговорил Бусый. И ничего не добавил. Он видел только, что мономатанец был жив.
— Хочешь, чтобы отпустил я его? — Мавуту, кажется, постепенно становилось скучно. — Да забирай хоть сейчас. На что он мне?
Бусый было вздохнул, подался вперёд, чуть ли не руки протянул перенять у него друга… Но Владыка не двинулся с места, лишь усмехнулся в рыжие усы, глаза зорко блеснули.
— Ну а ты, — сказал он, — раз так получается, у меня вместо него погостишь. Осмотришься, своими глазами поглядишь, что к чему. Остаться, может, захочешь…
«Ни за что не захочу!» — чуть не заорал Бусый, но на руках у Мавута всхлипывал израненный Ульгеш, и Бусый, стоя на коленях, кивнул белым пятном лица:
— Я иду. Отпусти его.
При этом в самой сокровенной глубине души трепетала мысль, которую он надеялся утаить от Мавута… Последняя надежда Бусого была на камень-оберег, висевший, как всегда, у него на груди. Неужели не оборонит?! Он даже незаметно оттянул ворот, выпуская мешочек с камнем наружу…
За этот мешочек его и ухватила когтистая лапа, вырвавшаяся в брызгах из спокойной глади Бучила. Бусый канул в прорву лицом вперёд, не успев издать ни звука, только закачались и облегчённо всплыли хворостяные мостки…
ЗАБАВНЫЕ СКАЗЫ
Аптахар взял из рук одного из парней сегванскую арфу, бережно провёл по ней ладонью, лаская. Прижал к груди, зажмурился, очищая мысли и душу от всего ненужного, поднимая их к небесам и наполняя восторгом вдохновения, а Твердолюбу подумалось вдруг, что примерно так же Аптахар готовился бы и к смертному бою.
Наконец в тишину, повисшую над костром, решительно ворвались звуки струн…
Аптахар не был искусным гудцом, его руки явно больше привыкли к веслу и боевому топору, чем к струнам. Но найдётся ли сегван, который совсем не умел бы складывать песни или на арфе играть? Из-под заскорузлых пальцев полились звуки, в яростном и грубоватом звоне струн Твердолюб вдруг услышал и грохот морских волн, разбивающихся о скалы, и завывание штормового ветра, и рокот близящейся грозы…
Потом Аптахар запел, точнее — заговорил протяжно, нараспев, торжественно вплетая свой голос в звуки морского шторма, разгулявшегося на берегу Светыни.
Услышь мою песню, бескрайнее море,
Пусть чайки на крыльях её разнесут!
Про первую свадьбу, и первое горе,
И первый на свете Божественный суд.
Над островом диким гуляли метели,
Зима насылала морозный туман,
Но солнце пригрело, и скалы вспотели,
И вышел из камня на свет великан.
Он остров обвёл немигающим оком.
Тяжёлая поступь крошила гранит.
На острове было совсем одиноко,
Лишь горы угрюмо смотрели в зенит.
Тогда великан устремился в дорогу,
По суше и морю, по тёмному дну,
Решив непременно вернуться в берлогу,
Ведя за собой молодую жену.
И скоро ему подвалила удача,
И выбрался он, попирая пески,
Туда, где весёлая Ордла-рыбачка
У берега моря острила крючки.
Не глянулся ей великан длиннопятый,
Но будет он слушать девчонкино «нет!..».
Схватил и унёс от подружек и брата,
И скоро наследник явился на свет…
Аптахар продолжал петь — сдержанно и негромко, однако даже глухой почувствовал бы, как в горле певца закипал клокочущий гнев. Грозно нараставшие звуки арфы заставляли сердце Твердолюба учащённо биться, а дыхание — замирать в нестерпимом ожидании. Песня сулила грозу.
Сынок великана, тупой и спесивый,
Жестокой игрой наполнял свои дни.
Ходил он глумиться на кромку прилива,
Где плакала Ордла вдали от родни.
Ворочал прибой неподъёмные глыбы,
Но доброе море услышало зов:
Оно ей послало великую рыбу —
Акулу-самца с миллионом зубов.
Он принял беглянку на крепкую спину,
В мгновение ока из плена умчал.
От лютого мужа, от злобного сына,
Туда, где родной дожидался причал.
Никто не видал, как они расставались
У края воды, на холодном ветру.
Но дни потекли и недели промчались,
И Ордла-рыбачка метнула икру.
Из каждой икринки, светлы и румяны,
На битву и радость явились сыны…
Вот так на земле зародились сегваны,
Могучее племя детей океана,
Народ Островов и солёной волны!
Песнь на этом не кончилась. Конечно, сыновья Ордлы со временем снарядили корабли и отправились мстить за поругание матери. И конечно, повергли в бою и великана, и своего злочестивого брата, потому что Правда Богов была на их стороне. Но это легко было предугадать, так что начало Твердолюбу понравилось больше.
— Ну, что скажешь, венн?
Юный сын кунса, Винитар, по обыкновению, провожал к лодке Твердолюба и Межамирова Щенка.
— Добрая песня, — на правах старшего сказал Твёрд. — Она нас позабавила.
Он успел вызнать, что для сегвана не было высшей хвалы, чем когда рассказ или песню именовали забавными.
Младший Щенок толкнул его в бок, и он, спохватившись, добавил:
— Дедушка Астин велел тебя за ракушку поблагодарить…
Винитар молча кивнул.
— Он тебе отдарок прислал, — продолжал Твёрд. — Только остерёг при всех в руки отдавать.
Юный сегван снова кивнул. У него были густые, белого золота волосы, светлее, чем у отца. Твердолюб уже знал: кунс Винитарий за что-то не жаловал сына. Чем провинился мальчишка, Щенята вызнать не пытались, лишь жалеючи взирали на сверстника, стойко выносившего неласку родителя. Горько это, должно быть, стать вроде чужого собственному отцу!
— Я его в западёнке оставил, — сказал Твердолюб. — По ту сторону мыса растёт сосна о двух головах, при ней камень, в нём норка, там и лежит.
Межамиров Щенок вдруг спросил:
— Отчего кунс дедушку в гости не позовёт? — Отдарок был сегванской булавкой для плаща, дорогой и красивой работы. Сын кузнеца в этом кое-что понимал, но не умел распознавать значения узоров и на всякий случай спросил: — Он что, из рода, с которым вы враждовали?
Винитар пожал плечами.
— Когда мы узнали о нём, — проговорил он затем, — кунс сказал нам: вот никчёмный, зря потративший жизнь. Иные, избравшие Близнецов, стали великими жрецами, их боятся и чтят от Шо-Ситайна до Саккарема. А этот ничего не сумел достичь в своём новом служении, знаться с ним — от себя удачу отпугивать.
Услышав подобное эхо своих былых рассуждений, Твердолюб чуть не бросился запальчиво спорить, но вовремя вспомнил о раковине, шумевшей прибоем, и промолчал.
— Был бы я песнопевцем, сложил бы сказ про Тужира Гуся, — размечтался Межамиров Щенок, когда уже гребли к своему берегу. Ему не давала покоя песнь Аптахара, хотелось немедленно ответить чем-нибудь своим, таким же величественным и могучим. Про Гуся же говорили всю зиму, эта притка и теперь была на устах.
Горе выдалось редкое: на осенней ярмарке Тужир схватился на ножах с молодым Вепрем. Из-за чего — люди так и не дознались. Бой вышел коротким и страшно жестоким, парней не успели разнять, и Тужир залился кровью из шейной жилы и умер. Вепрь же, с подрезанным локтем, остался калекой.
Большухи с большаками сошлись судить и рядить… Вепрю, покаянно пытавшемуся говорить о своей вине (какая разница, действительной или мнимой, нашёптанной совестью), было велено закрыть рот на замок и выбросить ключ, и Гуси не оспорили Правды, возбранявшей им месть за убитого сына. Так велось с незапамятных пор: если кто-то погибал во внезапно вспыхнувшей драке, его и объявляли виновным. Всё лучше, чем восставать роду на род, затевать большое немирье!.. Братья Тужира, конечно, трясли кулаками и размазывали злые слёзы, но слово матерей и отцов осталось непререкаемым.
— Гусята дураки и песен не заслужили, — весомо втолковывал Твердолюб младшему родичу. — Тужир был, может, парень и дельный, но не постоял за себя, и, если без Правды, дальше-то что? Ну, кликнули бы дальнюю родню и друзей, те своих, этак скоро каждый с каждым начал бы резаться! Худой мир лучше доброй ссоры, а Тужиру едино теперь — что слава, что срам…
Он лучше всех сверстников знал веннскую Правду. И горд был случаем лишний раз объяснить её глупышу.
Широкая Светынь молча слушала его рассуждения, лишь вздыхала волнами. Наверное, она знала всё наперёд…
ПЕСНЬ РАССТАВАНИЯ
Тонко и нежно зазвучала деревянная дудочка. Чуть слышный трепещущий звук растворился в вечернем небе, наполненном закатными красками. Мелодия, невыразимо прекрасная, отравленная сладкой печалью расставания с умирающим на глазах днём, причудливой бабочкой запорхала в прозрачном воздухе. И суровые, меченные боевыми шрамами мужчины даже не заметили, в какой миг их поросшие шерстью сердца отозвались и тоже затрепетали в такт странной дурманящей песне, а души переполнил нестерпимый восторг, замешенный на такой же нестерпимой тоске.
«Мгновения ускользают, — пела им дудочка. — Они были полны света, но их не вернуть. Чудо и красота мимолётны, а счастье рождается обречённым на гибель…»
Мелодию извлекала из простенького инструмента гибкая девушка, до глаз закутанная в дымчато-прозрачный шёлк Алая ткань приглушённым багрянцем искрилась в закатных лучах. Девушка начала медленный танец, движения её бы ли точными и скупыми, но вместо похотливых улыбок вооружённые мужчины вдруг начали закрывать лица руками, пряча неудержимые слёзы'
Слезы лишали взор привычной ясности хрупкую фигурку танцовщицы кутала пелена и она казалась летящей, прозрачной и невесомой сотканной из дождевых капель. Тающей, как те мгновения чуда и света, о которых грустила дудочка. В беззащитных движениях девичьего тела мерещились то последние язычки пламени, умирающего под порывами ветра, то грустное и прекрасное кружение сорванного лепестка…
Мужчины, привычные к жути и смерти, узрели перед собой манящую бездну, и сопротивляться ее зову не было сил. Да и желания не было.
Задыхаясь от любви и восторга, они жадно пили красоту безвозвратного, вбирали тлетворную красоту смерти.
Танец и дудочка уносили их из привычного и надёжного мира всё дальше в одинокую призрачную вселенную, отправляя в погоню за недостижимым.
В руке девушки возникла длинная лента. Она сверкала зеркальным серебром, так что последние солнечные лучи дробились в её волнах и складках каплями крови. Лента вилась кольцами, выплетала причудливые спирали, вела за собой взгляд. Танец Смерти набирал силу, бренный мир таял и тёк, выплавляясь для каждого во что-то своё.
Смуглый молодой нардарец увидел мальчишку лет пяти. Похожего на него самого, как почка на дерево. Мальчишка тоже танцевал, но нежные переливы дудочки в видении нардарца обернулись суровыми грозовыми раскатами родовых барабанов. Мальчишка танцевал древний воинственный танец. Танцевал здорово, и сам это понимал. По малости лет ему не хватало сосредоточения, он всё взглядывал на отца, и глаза смеялись, а губы вздрагивали, не в силах сдержать счастливой улыбки. Сын…
Если бы…
Если бы родился пять лет назад. Если бы ему позволили явиться на свет…
Жена умирала, не в силах разрешиться от бремени. И повитуха, видевшая много рождений, сказала, что возможно спасти всего одну жизнь. Выбирай, воин.
Нардарец выбрал жену. Он поступил разумно. Она могла выздороветь и принести ему нового сына. И повитуха не дала нерождённому узреть Священный Огонь, а жена… Она прожила ещё три дня. Повитуха сказала, что её тело перебороло горячку, но душа устремилась следом за первенцем. Так он потерял всё.
Пять лет в «семье» Мавута не были жизнью, он понял это только сейчас. Он был мёртв, но танец Преходящего вернул ему жизнь. А вместе с ней — боль. Такую, какой не в силах вынести живой человек.
«Сынок! Сынок…»
Мальчишка недоумённо взглянул на отца. Что случилось? Кругом родня, а он — танцует в кругу, и танец ему удаётся, и рокот барабанов рождает эхо на склонах! Вот оно, счастье!
«Что же ты плачешь, отец?..»
«Всё хорошо, малыш. Я с тобой. Больше мы не расстанемся…»
Он должен был спешить, пока не растаяло, не исчезло увиденное в мелькании серебряной ленты. Страшась опоздать, воин рванул из ножен кинжал и с размаху хватил отточенным лезвием себя по горлу.
Почему он не сделал этого раньше?..
Вспышка боли, короткая и смехотворная… Её сменил беспредельный покой, наступило чудесное умиротворение. Вот теперь всё было действительно хорошо.
Никто из воинов даже не дрогнул, когда нардарец повалился лицом в костёр. Напротив, рубиновые брызги даровали танцу Преходящего совсем уже запредельную силу. В струящемся серебре улыбались давно умершие близкие, воскресала любовь, оживала погубленная мечта. Счастье, которое каждый из них держал когда-то в ладони, а потом упустил, чудесным образом возвращалось.
Допустить ли, чтобы оно снова исчезло?
Нельзя! Невозможно!
А значит, надо спешить, пока всё не оборвалось. Скорее, не то будет поздно!
Дальнейшее свершилось очень быстро. Гораздо быстрее, чем о том можно рассказать. Блеск выхваченных клинков, сверкание ленты, алая кровь…
Девушка отняла от губ дудочку и перевела дух. Танец Умирания таит великую власть, но даром он не даётся. Не у всякой танцовщицы, сумевшей войти в этот Танец, хватает сил из него выйти…
Облачённая в шёлк одолела ядовито-сладостное искушение. Дело, ради которого она начала Танец, ещё не было завершено.
Отдышавшись, она стала осматриваться. Путь к пещере Железного Вабика был открыт. Ну, почти. У входа — всего один человек, и он не остановит её, кем бы он ни был.
Юная танцовщица отбросила ленту, пристальнее вгляделась в молодого стража. Вздрогнула было от неожиданности, но сразу овладела собой. Медленно сняла шёлковую повязку, закрывающую лицо. В последнем закатном луче яркой зеленью сверкнули глаза…
«Таемлу!..»
Горный Кузнец узнал её сразу.
Таемлу…
Повзрослевшая, наделённая, как и многие её новые сестры, сверхчеловеческой красотой. Юная жрица Кан Милосердной, ставшая служительницей Мораны.
Как могло такое произойти?..
Горный Кузнец обратил взгляд на юношу, стоявшего у порога пещеры. Тот, естественно, видел, что произошло с заставой в ущелье, но оставался безучастно спокойным. Он никому не позволит войти внутрь. Правда в предстоявшем бою будет на его стороне…
Старик напряг зрение, стараясь различить в гаснущем свете черты его лица. Он уже догадался, кто это, но сердце снова кольнуло.
Перед ним стоял Бусый… Сильный и взрослый, удивительно похожий на своего деда, каким тот просился в ученики.
Бусый, угодивший в соратники к Владыке Мавуту…
Горный Кузнец прижал ладонью птицу, ломившуюся вон из груди. Ему понадобилось усилие, чтобы вспомнить: наблюдая за щепками, он заглянул по течению Потока довольно далеко вперёд. А значит, в том русле Времени, которое было реально для Бусого и Таемлу, эта гибельная встреча ещё не состоялась.
Скверно было то, что Поток показал её так подробно и ярко. Это значило, что будущее было уже предопределено. Уже свершились события, возложившие печать на страницу Книги Судеб.
Он знал: отменить скреплённое этой печатью почти невозможно.
Почти…
Ну что за печаль была Горному Кузнецу, давно отошедшему от забот внешнего мира, до двух крохотных щепок, летевших в тумане из одного водоворота в другой?..
Что заставляло его прикидывать, как изловчиться и встать на пути у Потока, шутя уносившего в небытие и великих правителей, и созданные ими державы?
Знакомое предвкушение уже разбегалось по телу щекочущей волной. Хотелось прямо сейчас седлать ослика и не оглядываясь спешить прочь из благословенного уединения Особого Места. Куда? Для начала — в Нардар, в глухую горную деревушку, где одна молодуха вот-вот почувствует первые схватки. Если уберечь обе жизни вместо одной, Поток Времени… Нет, конечно, он не повернёт из-за этого в сторону. В нём всего лишь возникнет маленькая волна. Она может докатиться и чуть подтолкнуть две лёгкие щепки, несущиеся в переменчивых струях…
Горный Кузнец улыбнулся собственному нетерпению. Если судить по этой горячности, достойной юнца, старость с её бездеятельной мудростью ещё не настигла его.
Вместо призрачных волн Потока перед глазами снова плескалось вещественное и знакомое озеро. Мудрец кое-как разогнул затёкшие ноги и побрёл к воде. Прежде чем затевать путешествие, следовало переделать множество дел…
СИЛА КАМНЯ
Мавут снова наблюдал, как его уноты тыкали копьями соломенных кукол. Получалось у них довольно-таки бестолково, но Владыка не вмешивался. Чтобы слуги по достоинству ценили твои наставления, надо самому знать им цену. Не потрудились с первого раза усвоить урок — пускай мучаются и потеют. Впредь будут прилежней.
Присев на белый коврик из нарядного войлока, Владыка опустил веки и нащупал рогатую каменную фигурку, висевшую на шее на кожаном ремешке. Могучие колдуны Мономатаны вырезали её из камня, который в Самоцветных горах называли Звездой Бездны. В родном языке Мавута у камня не было имени. Как и в языках ещё многих, многих племён. Подземная драгоценность едва поддавалась обработке, изготовление фигурки наверняка растянулось на несколько поколений. Обычные Звёзды были подобны осколкам льда, совсем прозрачным или с едва заметным цветным отливом, но заморские колдуны как-то завладели чудовищно редкой Чёрной Звездой. Той, что остаётся холодной в любую жару и так отбрасывает свет, попавший на грани, словно не желает иметь с ним ничего общего. Страшно даже представить, сколько за неё заплатили, причём не только деньгами.
Подобных камней в этом мире было всего два. И один из них — у Мавута.
Шепча про себя молитву, он сжал фигурку в кулаке. Сильно, так, что острые рога впились в ладонь. Взывать к этому Божеству, не предложив кровавой жертвы, не стоило даже пытаться.
Кровь затекла в оскаленную пасть фигурки, и камень в ладони стал ещё холоднее. Чёрное Божество приняло почтительное угощение. И ответило на молитву, указав Мавуту Тропу.
Мавут шагнул на эту Тропу… и унёсся на изнанку реальности, в самые её недра, в одно из Исподних Царств этого мира. Окунулся с головой в озеро, где плескалась вовсе не вода, а…
Мавут не взялся бы описать, что его окружало. Кипящая кровь? Пленённый Тьмой Свет? То, чему нарлаки с нардарцами, поклонники Священного Огня, дали название Чёрного Пламени?..
А впрочем, это не имело значения.
Усилием мысли Мавут растворился в Пламени, жадно вбирая нечеловеческую, бушующую, ищущую выхода силу.
Не в первый раз он проделывал это, борясь с безумным желанием оттянуть возвращение и пить, пить без конца, взыскуя всемогущества Тёмных Богов.
Увы, его плоть ещё оставалась смертной, а значит, являла скверное вместилище для такой силы. Если пожадничать, «похмелье» окажется неподъёмным. Он знал это, потому что был не первым, кто вступал на Тропу. Ему не понадобилось убивать чернокожего колдуна, прежнего обладателя Чёрной Звезды. Он нашёл его в пещере и вынул камень из мёртвой руки, и тело колдуна облетело на пол невесомыми хлопьями сажи. Однако гримасу ужаса на лице своего предшественника Мавут крепко запомнил.
Нет уж, это не для него! Ему ещё не надоело быть живым в мире живых. И вряд ли скоро надоест…
Мавут открыл глаза и огляделся, приходя в себя. За время его духовного путешествия на свете мало что изменилось. И конечно, никто не заметил отлучки Владыки, самым наблюдательным, вроде Хизура, лишь показалось, что он ненадолго прикрыл глаза, о чём-то задумавшись.
«Погоди, Хизур! Когда-нибудь возьму тебя с собой. Когда время придёт. А пока…»
Грудь распирала кипящая холодным огнём ярость, бьющая через край смертоносная и жестокая сила. Хотелось кровавой драки, чьей-то боли и смерти. Нестерпимо хотелось. Немедленно. В этот раз он явно хватил лишку. Совсем немного, но хватил.
Ничего, это тоже поправимо. Но — чуть попозже. Истинный воин никому не позволит собой управлять. Даже собственным желаниям.
Очень глубоко вздохнув несколько раз, Мавут достал из кошеля и принялся разглядывать совсем другой камень. Сдёрнутый с мальчишки-венна, когда тот падал в Бучило.
Камень был поразительно красив, но Мавута никогда не занимала красота и ценность камней. Любование было бесполезно и оттого чуждо Владыке, а богатство — это он давно уже понял — не несло в себе истинного могущества. Как всё, что может быть дано или отнято другими людьми.
Однако сейчас, вертя в руках загадочный камень, Мавут помимо воли улыбнулся, следя за переливчатой игрой красок А потом — словно нюхом почуял, отчётливо ощутил то, о чём догадался ещё ночью: в камне обитала потаённая сила. И она была не чета той лёгкой искорке волшебства, что в руках сведущего человека начинает играть почти в любом самоцвете. Она была по меньшей мере равна силе Чёрной Звезды, если не превосходила её.
Но это была светлая сила…
Научиться подчинять себе светлые силы Мавут пытался уже не один год. Обрести два крыла вместо одного, в самом деле стать всемогущим… Об этом мечтают почти все дети, и он не был исключением. Тоже в своё время мечтал о могуществе, чтобы всех накормить, обогреть… наказать, кого надо… А потом повзрослел и понял: сила нужна не ради чего-то, а сама по себе. Сильный человек свободен по-настоящему. Особенно если сбросит с глаз мешающую пелену совести и поднимется над злом и добром, постигая высшие истины.
До сих пор попытки Мавута подобраться к источникам светлых сил успеха не принесли. Вот уже несколько лет он повсюду возил с собой очень старый меч, доставленный из Саккарема. Меч был очень непрост, потому что в нём продолжали себя давно завершённые жизни с их неукротимыми, неудовлетворёнными помыслами и страстями. Мавут даже завладеть им сумел далеко не с первой попытки. А уж подчинить его себе… Меч ложился в ладонь не как соратник и друг, а как… как непокорённая девка на постылое ложе. Конечно, к нему можно было подобрать ключик, однако Мавут покуда не совладал.
И вот недавно он что-то нащупал в землях веннов и снова потянулся за силой… На сей раз оплошал Змеёныш, позволивший справиться с собой кучке завывающих дикарей. Ничего, неудачу всегда сменяет удача. Упорства и терпения Мавуту не занимать.
Камень. Этот камень… Новая препона — или наконец-то награда?
Если подойти к делу с умом и толикой везения, мальчишкин оберег откроет Тропу к такой силе, что даже от созерцания её дальнего блеска у Владыки просто дух перехватывало. Гулявший в крови избыток Чёрного Пламени всё же дал о себе знать — Мавут резко стиснул камень в кулаке и метнул в его глубину кипящий луч силы…
И сразу пожалел об этом.
Камень отбросил его взгляд, притворившись обычным красивеньким самоцветом.
Не раскрылся, не захотел показать Тропу.
Не признал в Мавуте хозяина.
Видно, не зря повисел на шее у строптивого венна… Не покорится, хоть на куски его раскалывай. В самом деле, что ли, расколотить?
Владыка не без натуги окоротил яростную досаду и убрал гордый камень обратно в кошель. Ничего. Он ещё заставит его себе послужить. Не мытьём, так катаньем.[33] Тем более что мальчишка тоже теперь у него…
Всё, хватит.
У Мавута было много других дел, всё связанное с камнем следовало отодвинуть. Обычно он с лёгкостью управлял потоком своих раздумий, но в этот раз не заладилось. Мысли о непокорном обереге не желали уходить. И… переплелись почему-то с мыслями о Шульгаче. В этом следовало разобраться. Мавут прислушался к себе и ощутил подспудную тревогу, подобную далёкой грозе. Между Шульгачом и камнем существовала неясная, но очень сильная связь.
Какая?
Он подумает об этом. И разгадает загадку. Обязательно.
Но не теперь, не наскоком. Мавут знал: не получится. Чем сильней напрягаешься, заставляя себя что-то вспомнить или понять, тем упорнее ускользает решение. Это как в правильном ударе копьём или мечом. Секрет не в натужном усилии, а в расслаблении и свободе.
Мавут вздохнул, отпуская разум и тело. Отгадка придёт сама. Всплывёт откуда-то из неведомых глубин. Потом. А сейчас — надо отвлечься и в самом деле про всё забыть до поры. И про камень, и про Шульгача.
То есть самое время потешить себя, дать наконец выход злому нетерпению и клокочущей силе.
Мавут вскочил на ноги — упруго, легко. Небрежно взмахнул ладонью. Он знал, что призывный жест будет замечен. Мигом подбежали пятеро «сыновей», молча склонились, ожидая приказаний Владыки. Новички с копьями оставили соломенных кукол и с обожанием и любопытством уставились на названого отца. Это был непорядок, прекращать урок им никто не велел, но наказание можно немного отсрочить. Сейчас пусть посмотрят.
— Убейте меня, — сказал он «сыновьям». — Начали!
Пятеро уже не первый день знали «отца». Его приказы следовало исполнять сразу и не рассуждая. За леность, нерасторопность и колебания кара бывала только одна. Смерть.
Не успел Мавут договорить последнее слово, как в воздухе свистнул меч… И рассёк пустоту. Как Владыка сумел исчезнуть из этого места и появиться в другом, заметить никто не успел.
За первым ударом последовали ещё и ещё. Стремительные клинки ткали сложный узор, в самом центре которого находился Мавут. Каждый удар был нешуточно смертоносен, но цели не достиг ни один. Узор время от времени нарушался — нападающие один за другим отлетали прочь. Тоже невредимые. Владыка пока был доволен учениками и никого не калечил.
Каждый из «сыновей» бился с яростью последнего отчаяния, понимая, что сулило недолжное исполнение приказа. Вот, уходя от очередного высверка стали, Мавут оступился, неловко припал на колено… Пощадить, прервать атаку, дать выпрямиться? Ещё не хватало. Воинская честь — она не для боя, а для благородного сравнения силы. В бою, где стремятся убить, промахи не прощаются…
Копья и мечи вновь рассекли пустоту. Тень Мавута скользнула прочь по каменистой земле. Падение на колено было всего лишь проверкой искренности намерений учеников.
Губы Владыки тронула довольная усмешка. «Сыновья» хорошо выдерживали испытание.
И в этот миг вдруг всплыла откуда-то разгадка мучившей его перед началом боя загадки. Неожиданно, как и должно было случиться. Не только камень отказывался ему покориться. Пёс не просто поднял шерсть, чтобы огрызнуться разок и на том успокоиться.
Бывший венн уходил из-под его воли.
Он, Мавут, упустил миг, когда родилось это непокорство. А теперь было поздно. Теперь жди открытого бунта. Страх Шульгача не удержит. Он просто не умеет бояться. Умел когда-то, а потом отвык. Сразу и навсегда.
«Жаль. Хороший был слуга, — думал Мавут, орудуя отобранным у кого-то копьём. — Верный и бесстрашный. Был…»
Нападавшие начали уставать, задыхаться, но продолжали нападать с прежней яростью. Они свалятся и умрут, но не перестанут выполнять его волю. Эти — покорны. Как же он венна-то потерял? Где ошибся?
«А может, всё к лучшему?»
Владыка привык видеть людей насквозь, но этот упрямый лесной пень никогда не был до конца понятен ему. Ни с его прежней собачьей нерассуждающей верностью, ни с нынешним безразличием хуже всякой строптивости. Что с ним произошло, когда он в родных лесах побывал? Видно, сколько венна ни корми, он всё равно в свою глухомань смотрит…
Сложив в кучу не стоящих на ногах учеников, Мавут — даже не запыхавшийся — коротко похвалил их и повернулся к новичкам. Тем, которые без разрешения прекратили урок. Хотя на самом деле приказ, отданный Владыкой, могут отменить только двое. Он сам — или Смерть.
Они, конечно, слышали об этом, но такое знание должно пребывать не в уме, а в костях, в сердце и в печени.
Мавуту было жаль воинов, которые могли бы из них получиться, но уже никогда не получатся.
— Видели? — обратился он к ним. — А ну идите сюда.
У парней радостно загорелись глаза. Они несмело подошли и окружили Владыку, ещё не понимая, какая участь их ожидала.
— Будете бить меня копьями. Как кукол били. Б каждый удар всего себя вкладывайте, и ничто — помните, ничто! — не должно вас смутить. Это — приказ. Поняли? Начинайте!
«А с Шульгачом… — Мавут легко уклонялся от ударов, неуклюжих, хотя и похвально решительных. — Пса, который хозяина взялся пасти,[34] в живых оставлять негоже. За долгую службу я один раз спустил ему непокорство. Второго раза не будет. И Шульгача второго не будет. Они у меня на всю жизнь содрогнутся…»
Нехорошо улыбнувшись, Мавут ушёл от очередного тычка и резко ударил навстречу сам.
В действительности удара даже и не было, Мавут лишь рукой взмахнул, но с такой силой внутренней угрозы, что парень, спасаясь, отвернул в сторону, забыл про копьё, спрятал голову в плечи…
И тут же рухнул наземь со сломанной шеей…
Когда Владыка прекратил урок, в живых оставалась едва половина нападающих. Зато — лучшая половина. Прошедшая испытание, которое враз изменило внутреннюю сущность учеников. Они вышли из этого боя совсем другими людьми. Способными достойно завершить начатый удар, невзирая ни на что. Даже на выбитый глаз или сломанное колено. Эти были бойцами, хотя пока неумелыми.
Умение — что, оно к ним придёт.
И раны заживут быстро…
А наука сегодняшняя — до смерти не позабудется.
Идя к своему шатру, Мавут сладко потянулся на ходу, погладил усы.
А ведь не так уж всё плохо! Он силён и умеет превращать свои поражения в победы. И пусть Змеёныш отскочил от вшивой деревни, как горошина от стены, да при этом ещё и сгубил целый отряд, — плевать. У Владыки много толковых учеников, а мальчишка в итоге явился к нему сам. Да ещё и принёс с собой камень, начинённый тайнами силы.
Мавут такие тайны любил…
А веннов он на земле поубавит. Если не сейчас, так потом. Когда обретёт два всемогущих крыла. Ему тогда и Змей не понадобится. Что Змей — всемогущему? Щелчком пришибить…
Ощущая сладкую близость новой победы, Владыка растянулся на вышитом войлоке, привычно велел себе проснуться перед закатом и сразу заснул.
СОЗДАТЕЛИ НЕБЫВАЛОГО
— Дедушка Астин… Мальчишки переминались перед завалинкой, где на солнышке устроился жрец, и пихали один другого локтями. Если по уму, говорить следовало бы Твердолюбу, но речь шла о деле, которое он почитал бесполезным, и раскрывать рот не очень хотелось. А Межамиров Щенок и рад был бы сказать, тем паче о такой славной придумке, — да только куда ж ему, младшему, соваться вперёд старшего двухродного брата!
— Святы Близнецы, чтимые в трёх мирах, — улыбнулся старик.
— И Отец Их, Предвечный и Нерождённый! — в один голос отозвались ребята. Младший — открыто и весело, радуясь случаю уважить доброго гостя. Твёрд — неохотно, как будто взял в рот что-то невкусное.
Астин отложил кочедык, уже понимая, что рукодельничать ему не дадут. Минувшей зимой он всё подсаживался к веннским старикам, занятым починкой сетей, и даже показал им несколько удобных узлов, потому что никто лучше сегванов не умеет управляться с верёвками и шнурами. А вот теперь повадился плести лапти, только пока не всё получалось. «Что ж, — улыбался он, — ведь я Ученик…»
Мальчишки подошли, и Астин потрепал их по вихрам.
— Что за дело у вас, ребятушки, что мне лыко портить мешаете?
— Дедушка Астин! — запрыгал Межамиров Щенок. — Помнишь, мы листы твои по полу разметали и ты их три вечера мыкал?
— Начал уже забывать, — улыбнулся Астин. Сердиться на детей он не мог, хотя временами баловники и заслуживали.
— А давай мы их тебе по краю прочными бичевами сошьём, — с взрослой основательностью подхватил Твердолюб. — Чтобы раз и навсегда в том порядке остались, какой тебе нужен. Вот.
Сказав, он хмуро отвёл глаза, почему-то заранее уверенный, что уж кому-кому, а ему жрец свои листы не доверит.
— Твёрд на славу сделает! — затараторил меньшой. — Он с деревом и берёстой лучше всех всё умеет! А я помогу!
Астин вздохнул.
— Ну, если ты поможешь…
Твердолюб метнул на него взгляд, изготовившись обидеться, и увидел, что глаза старца смеялись.
— Яне столь зорок, как когда-то, но я не слепой, — сказал ему Ученик. — Видел, как ты прялочку ладил и дивные узоры по ней пускал… — Астин пытливо смотрел на Твердолюба. — Но ты ведь, помню, мою веру для своих Богов чуть не поношением числил…
Парень не отвёл взгляда.
— Ты же, дедушка, сам сказывал, что на твоих листах и Пращур Пёс, и Бог Грозы, и Отец Небо с Матерью Землёй памятными закорючками обозначены. А то, что ты, другой веры…
Он пожал плечами и замолчал, не зная, как продолжить.
— Солнце над нами одно, — тихо проговорил Астин. — И Небо — одно. И единая Земля всем кормилица. И что за печаль Создавшим Нас от того, как по-разному мы Их называем?
Межамиров Щенок не особенно понял, что имел в виду жрец Близнецов, но на всякий случай сказал:
— Вот мы и решили, что перед нашей Правдой будет грех твои листы не похолить.
— Ребятушки милые… — Астин неведомо почему растрогался едва не до слёз. — Несите коробку, покажу край, где сшивать, крестик на нём поставлю… И мешок мой несите, я книгу вам дам для израза, чтоб рассмотрели, как её скреплять надобно… Сможете?..
Да разве ж они взялись бы за такую работу, если б не верили, что со славой её завершат!
Двухродные братья приступили к делу неспешно. С рассветом вышли на берег Светыни, поклонились Богу Солнца, возносившемуся в чистое бескрайнее небо, попросили о милости и вразумлении. Юный Бог весело улыбнулся мальчишкам, простёршим к Нему руки с высокого речного обрыва. Благословил ласковыми лучами, пообещал тёплый день и удачу в задуманном… Души согрелись, наполнились деятельным жаром, взор стал острее, а руки обрели твёрдость.
Вернувшись в деревню, в кузню Межамира Снегиря, братья перво-наперво разложили на чистой доске заморскую книгу.
— Добрая работа, — одобрил Межамир, подошедший взглянуть, чем заняты сынишка с племянником. — Мне Горкун Синица такие показывал, но эта красивей. Ишь, даже золотом иные знаки наведены…
Рассмотрев устройство книги, мальчишки поняли: точно такую из Астиновых листов сотворить не удастся. Книга-израз была сшита из двойных страниц, сложенных пополам, а листы Ученика предстояло сшивать с одной стороны.
Делать нечего, пошли с этим к старику, обдумали затруднение вместе.
И только когда всё стало ясно, взялись за инструменты. Бережно огладили стопку драгоценных листов, выровняли края. Промазали рыбьим клеем и сжали между двумя досками. Ужасаясь собственной дерзости, провертели вдоль нужного края сквозные отверстия тонким сверлом. Примерились было уже вдевать сыромятный ремешок, но Межамир, наблюдавший за работой ребят, остановил их.
— Возьмите-ка лучше вот это…
И снял с шеи шнурок, который впервые видевшие неизменно принимали за золотую цепочку. Нарядный, узорчатого плетения, сработанный из мономатанского блестящего шёлка.
— Этот оберег, — сказал он, — ваша бабушка сплела и в день Посвящения мне на шею надела. А ночью после того ушла к Прародителю Псу.
Межамиров Щенок разгладил в руках шнур, который помнил с тех пор, когда только начал себя понимать. Он, конечно, всё знал про бабушку Снегирицу.
— Батюшка, — сказал он, — тут же сверху всё заклеено будет, может, лучше на завязки его? Книгу вокруг обведём и концы выпустим… любоваться станем бабушкиной памяткой…
— Нет, сынок, — покачал головой Межамир. — Пусть держит вместе листы. Думаю, сбережёт он их верней всякого ремешка и верёвки.
Кажется, притихшие мальчишки только тут как следует поняли, что им предстояла не обычная ребячья поделка, а что-то значительное и знаменитое. Шнур-оберег заставил задуматься. Уже совсем по-другому Твердолюб взялся выстругивать и примерять к берестяной связке ясеневые дощечки наподобие обложки книги-израза. Для чего они служили, было понятно. Чтобы меньше трепались листы, чтобы книга не пострадала, если нечаянно уронят.
Сыну кузнеца тут же пришло на ум их украсить и защитить по краям полосками меди.
На Астиновой книге полосок металла не было. Снова отправились к старику, и Ученик затею одобрил. Сказал, что видел подобное на некоторых очень дорогих книгах, которые пережили века.
Межамир это выслушал — и тут же, прямо на глазах у ребят пустил по краям досочек щедрые полоски. Да не медные, а серебряные!
Берестяная книга обретала облик и красоту. И не просто красоту, но величие.
Светлое серебро и свежеструганый ясень друг к другу пришлись, как жених и невеста! Годы пройдут, дерево и металл потемнеют, но так же славно смотреться вместе будут…
Твердолюб уже знал, какие узоры покроют и оживят ясень. Его умение резать по дереву хвалили не только ближние соседи. На двух последних ярмарках нарасхват уходили ковши, гребни и иная сработанная им деревянная утварь.
А кто вдохнёт жизнь в серебро?
Межамир Снегирь положил руку на плечо первенцу.
— Давай, малыш. Покажи, что не зря у меня чеканы утаскиваешь…
— Твёрд! Твёрд! Я сделал! Смотри!..
Русоволосый Щенок не замечал холода. Бережно прижимая к груди тяжёлый свёрток, он босиком нёсся по лужам, прихваченным ночным морозцем. Только брызгала из-под ног вода и разлетались в стороны звонкие ледяные осколки.
Подскочил и протянул старшему берестяную книгу, завёрнутую в чистое полотно.
— Твёрд! Смотри! Я сделал…
Твердолюб протянул руку к свёртку.
— Ну, показывай, что ли, что там у тебя вышло.
Развернул… и замер. И рассматривал долго и пристально. Сын кузнеца с опаской и нетерпением вглядывался в непроницаемое лицо Твердолюба, пытаясь угадать, приглянулось ли. А то вот возьмёт да и сунет книгу обратно ему в руки. Дескать, не по прародительским установлениям какая-то завитушка сотворена. С него станется.
— Когда успел-то? — медленно проговорил Твердолюб. — Ночь напролёт, что ли, чеканил?
— Нет, ночью я спал, — торопливо заверил его меньшой. — И узор этот во сне мне привиделся. Встал на зорьке — и сразу за молоток, пока не забылось… А что, плохо вышло, да?..
Вместо ответа Твердолюб привлёк к себе двухродного брата, взлохматил ему волосы, прижал его голову к груди, к самому сердцу. Правая крепко держала берестяную книгу.
Чуть изменившимся голосом Твердолюб сказал ошарашенному нежданной лаской мальцу:
— Спасибо, брат. Я сейчас на дереве твои серебряные сказы продолжу. И Море-океан, и Гору Земную, и Древо… И Свет Небесный… Астин уж заждался поди… Думает небось, что мы всё испортили…
Когда душа поёт от восторга, дело в руках спорится, как никогда. Стружки так и разлетались из-под резака. Твёрд резал быстро, его руку вело озарённое Богом Солнца вдохновение, и дерево покрывалось тонкой вязью родовых оберегов, знаками Солнца, Огня, Молнии, фигурками лошадей и собак. Все знаки ладно сопрягались один с другим, выстраиваясь в повесть, знакомую каждому венну.
О рождении мира, о его премудром устройстве, о Богах и обычных смертных людях, щенках Серого Пса…
Астин, когда ему поднесли сшитую и оправленную берестяную стопку, очень долго молчал… Гладил ясеневую обложку, открывал, перелистывал, вновь закрывал. Осторожно, как к щёчке новорождённого, прикасался к резному дереву, к чеканному серебру…
Наконец он встал со скамьи. Торжественно положил книгу на Божью Ладонь. Крепко, не по-стариковски, обнял обоих юных мастеров и долго не отпускал.
— Вы хоть понимаете, что создали? — тихо спросил он затем. — Ведь теперь это книга. Настоящая. Веннская книга. Такая, каких досель не бывало…
Мальчишки смущённо переминались, не зная, что и ответить.
— Спасибо, дети, — прошептал Астин Дволфир. — Да согреет дыхание Богов сердца ваши и руки. Святы Близнецы, чтимые в трёх мирах…
Межамиров Щенок ответил не задумываясь:
— И Отец Их, Предвечный и Нерождённый!
— …Нерождённый, — на последнем слове невпопад подхватил Твердолюб.
В СТАНОВИЩЕ МАВУТА
Когда с неба ринулась наземь Тёмная Звезда, в Журавлиные Мхи действительно угодил маленький отколовшийся камень. Но не застрял неведомо где, порождая недобрые чудеса.
Он ударил ни в чём не повинное болото и пробил в нём Бучило. Дыру сквозь миры.
Теперь Бусый знал это доподлинно.
Падая с мостков, он едва успел набрать в грудь воздуху, но пробивать лицом водяную поверхность ему не пришлось. Он сразу погрузился в густой, плотный, серый туман, не имевший никакого отношения к обычной мгле над болотами. Бусый открыл глаза, и ему показалось, будто он летел в облаках. Ощущение полёта было таким явственным и воззвало к таким глубинным пластам его памяти, что руки по собственной воле метнулись вцепиться в густую, тёплую, надёжную шерсть симурана…
Но не было симурана, не было и уверенной наездницы-виллы, готовой поддержать беспомощного человеческого малыша. Бусый летел сам по себе, то проваливаясь в густое непроглядное молоко, то выныривая в разрывах.
Иногда туман распадался на отдельные облака, и в разрывах проглядывала земля.
…Говорят, если взять жителя матёрого берега, никогда не видавшего кораблей, и впервые вывезти далеко в море, — сколько ему ни втолковывай, что на самом деле берег не утонул и корабль скоро причалит, бедняга может свихнуться.
А если вот так закинуть его в серые тучи и дать увидеть ниточки рек и горные хребты, похожие на морщёную кожу?..
При этом понять, где верх и низ и куда стремилась тяга земная, было решительно невозможно. Прогалины в облаках возникали непредсказуемо. То ли Бусого кувыркало в полёте, то ли ходило ходуном, вращалось, выворачивалось наизнанку спятившее мироздание.
А лики земли, представавшие его взгляду, ещё и не повторялись.
Хвойный лес с высокими решётчатыми башнями, соединёнными паутиной сверкающих нитей.
Нестерпимо синий океан и белые горы, плывущие из-за горизонта.
Сплошной вихрь жидкого огня, от золотого расплава до остывающего багрянца, и дымные тени пожирающих друг друга чудовищ.
Город полупрозрачных домов, вознесённых, кажется, на вёрсты…
Если бы не младенчество среди вилл, когда он спал в гнезде среди тёплых щенков и вместе с ними сосал крылатую суку, а потом — омут у Белого Яра и чудесные видения в камне, — Бусый мог бы и не выдержать. Но он не просто выдерживал, но и, забыв первоначальный ужас перед Бучилом, смотрел во все глаза. Он даже сообразил, что Бучило было отчасти подобно Поющему Водопаду во владениях Горного Кузнеца. Оно тоже показывало разные места, куда из него можно было попасть.
Когда совсем рядом возник деревянный город на морском берегу, увиденный словно бы с высоты большого холма, Бусый рванулся выскочить из тумана. Бревенчатые дома и устье большой реки в рассыпном ожерелье островов… Река показалась ему неуловимо знакомой, это по крайней мере был его родной мир, он хотел удрать туда и пешком пуститься домой, но ему не дали.
Он и забыл, что его продолжала держать когтистая лапа…
И вот страшная птица дотащила его туда, куда собиралась. Бусый с размаху хлопнулся оземь — плашмя, не успев испугаться, так, что воздух вылетел из груди. Он не стал открывать глаз, только чувствовал сухую прохладу воздуха и обонял запахи незнакомых трав, отдалённого дыма, конского табуна… Потом всё стало меркнуть.
Дети крепче взрослых, но и их выносливости положен предел.
Горный Кузнец проснулся оттого, что его настойчиво трясли за плечо.
— Мастер! Пожалуйста…
Старики спят чутко, и он сразу открыл глаза. Над ним со свечкой в руках склонился молодой мужчина — тот самый, которого Поток Времени показывал ему постаревшим на пять лет не-жизни у Мавута.
— Как она? — вскинулся на локте Горный Кузнец.
— Плохо ей, Мастер… Горячка начинается!
Кто бы мог ждать, что самым простым во всей этой истории окажется прогнать повитуху? Старик подоспел как раз в тот момент, когда деревенская баба предлагала ошалевшему от горя мужу чудовищный выбор: либо ребёнок, либо жена. «Я спасу для тебя обоих», — едва отдышавшись, сказал Горный Кузнец, и вековой уклад, претивший допускать к роженице лекаря-мужчину, не выдержал столкновения. Повитуху выставили за дверь.
Младенец появился на свет здоровым, но далось это немалой ценой. Женщине пришлось вскрывать чрево. Вдали над горами ворочалась и громыхала гроза, и Кузнец ощущал небывалое вдохновение. Он сумел так заговорить боль, что роженица отстранилась от своего тела и уплыла в полудрёму, отдыхая от перенесённых страданий. Она даже не очень заметила, как он разрезал её плоть и извлёк ребёнка, а потом всё зашил. Это было три дня назад.
— Горячка? — переспросил он, выбираясь из-под одеяла. — Её следовало ожидать. Ничего. Справимся…
На самом деле он был не вполне уверен в благополучном исходе, но показывать этого не собирался.
Снаружи лил дождь, и, пока шли до бани, молодой нардарец держал над Мастером натянутую рогожу.
Обновлённая линия Судьбы в самом деле упорно пыталась вернуться в прежнее русло, душа бедняжки металась по каким-то раскалённым расселинам и не могла найти из них выхода. Горный Кузнец призвал на помощь Светлых Богов и принялся за работу. Одну руку он сразу положил молодой матери на лоб, а другой медленно, с ложечки, стал вливать ей в рот загодя приготовленную настойку. Вскоре роженица задышала ровно и глубоко, на висках выступила испарина, жар спал. Пылающие расселины остались далеко за спиной, она выбралась на цветущий горный луг и, успокоенная, растворилась в его душистой прохладе.
Горный Кузнец не пошёл больше спать, остался сидеть у постели. Время от времени щупал биение жил на запястье, прислушивался к тихому дыханию.
Всё было хорошо.
Постепенно мысли старика вновь унеслись прочь.
«Бусый. Что будет с тобой наутро? Как помочь тебе, малыш?»
Поток Времени изливался из прошлого, неудержимо стремясь в будущее…
Бусый спал, свернувшись калачиком на земле, пока его не разбудило рассветное солнце. Он отвернулся от него и ещё немного полежал, крепко зажмурившись. Тело ныло так, будто вчера он свернул непомерную работу или ввязался в драку, где его жестоко избили. «На самом деле я дома, Ульгеш обучал меня мкома-курим, я ударился и не смог встать. Сейчас открою глаза, а кругом все наши стоят…»
Убедить себя, будто падение в Бучило и полёт сквозь туман были просто сном, странным и страшноватым, но всего лишь сном, — не получилось. Под щекой была незнакомая земля, совсем не та, что дома. Она пахла иначе. И утреннее солнце, от которого он пытался спрятать лицо, грело куда горячее, чем бывало дома даже в самые жаркие дни.
Нет, Ульгеш не учил Бусого мкома-курим. Он, наверное, пытался сейчас рассказать Волкам, где это его так отходили кнутом. А те качали головами, вполсердца ругали «головешкина сына» за нарушенный запрет и… вздыхали про себя с облегчением. Кабы не он, нескоро, может, ещё избавились бы от родича-полукровки. А тут — будто ноша непосильная с плеч рухнула! На что он им — и венн, и не венн, и Волк, и не Волк, а уж бед от него! То Змеёныш, то вот Бучило! Сгинул наконец, и ладно. И дорогу прочь указывать не пришлось. А то ёрзай потом, вспоминая, как внучонка Отрады из рода изгоняли…
«И дедушка Соболь… Вот кому, наверное, теперь легче всех станет… Даром ли столько лет не сознавался в родстве!»
Странно, эта мысль особой боли не принесла. Боль и страх словно отстали в полёте и потерялись среди туманов Бучила, и в том месте, где им полагалось быть, тиной залегло тупое, сонное безразличие.
«Ну ладно, а на что я Мавуту-то сдался? Думает, служить ему буду? Вот уж нет! Не заставит! Пусть хоть на куски режет!»
Когда в душе готовы взять верх чужие, тягостные, подневольные мысли, ничто так не помогает их разогнать, как гневная вспышка. Бусый привычно пошарил на груди, ища камень, но рука встретила пустоту. Похоже, шнурок слетел через голову, когда он вываливался из междумирья. Значит, должен валяться где-нибудь рядом. Бусый разлепил наконец глаза, сел и начал оглядываться.
Вокруг были горы. Высокие, удивительно красивые. Такие, что мальчишка помимо воли напряг зрение, высматривая между ними крылатые чёрные точки. Дальние вершины венчали белые шапки. Хребты громоздились каменными торосами, они выпирали друг из-за друга, их северные и западные склоны были страшно обрывистыми и крутыми, а южные и восточные — более отлогими. Земля словно разбегалась волнами из какого-то места, где её взломал и вздыбил невозможной силы удар. Бусый затенил глаза от солнца рукой и вгляделся… Горный воздух очень медленно набирал дымчатую голубизну, но всё-таки набирал, и Бусый не был уверен, померещилось ли ему нечто там, в запредельном далеке, или он в самом деле это увидел.
Если облака и рассветные тени только не шутили с ним шуток, там громоздились совсем уже гигантские пики. Такие, что самые высокие облака лишь омывали их подножия, а на вершинах даже могучим симуранам не находилось воздуха для дыхания и полёта. И небо, которое они пронзали насквозь, было не синим и даже не фиолетовым, оно было чёрным, и неистовое солнце плыло среди звёзд косматым клубом огня…
Так говорили виллы, и Бусый временами спрашивал себя, откуда они это знали, если никто из них не одолел тех вершин?.. Может, им поведали Боги, Чьим престолом только и могла быть такая запредельная высь?..
Бусый вздохнул, отвернулся и обнаружил, что с головы до ног облеплен высохшей грязью. Болотная жижа залепила его волосы и насквозь пропитала одежду, и солнечный жар грозил превратить её в панцирь.
Бусый начал оглядываться, ища озеро или хоть лужу в трещине камня, но для начала увидел становище Мавута. Оно примостилось на небольшой площадке посреди отлогого склона и ничем не напоминало правильное селение, где люди живут. Ни огородов, ни тына. Вместо изб — шалаши. Хорошо сплетённый шалаш тоже может быть надёжным жилищем, но эти выглядели простенькими и неряшливыми. Их сработали кое-как, явно на скорую руку. Такие не спасут ни от дождя, ни от мало-мальского холода. Зачем вообще было их возводить? Лучше уж под открытым небом спать, чем внутрь такого позорища забираться…
Присмотревшись, Бусый заметил чуть выше по склону ходы в пещеры. Вот, видно, где укрываются Мавутичи от непогоды. В пещерах Бусый никогда ещё не бывал, но к любопытству примешивалась брезгливость. Творцы таких шалашей и в пещерах у себя небось всё загадили.
Эти самые творцы уже успели проснуться и были заняты делом. Кто-то, вооружившись копьями и очень длинными луками, совершал воинское правило. Кто-то разводил костры и подвешивал над огнём большие котлы… Мавута не было видно. Что до Бусого, он не прятался, но внимания на него никто не обращал.
Прежде чем двигаться с места, он ещё раз внимательно оглядел уголок под скалой, где довелось ночевать. Прикинул своё падение наземь, попробовал угадать, куда мог откатиться мешочек с камнем…
Его нигде не было. И если вспомнить, что именно за этот мешочек Бусого тащила страшная птица, удивляться его пропаже не приходилось.
Зато, пока шарил, услышал задорную песенку родника.
Здесь во многих местах выпирал из земли блестяще-чёрный плавленый камень, где застывший пузырчатыми натёками, где — расколотый на острые рёбра. Из одной такой расщелины и била вода.
Этот источник отличался от привычных Бусому лесных ключей, как здешние горы — от холмов веннской земли. В расщелине нашла выход целая речка, проточившаяся из подземных глубин. Вода вылетала наружу буйной струёй и, падая на чёрную скалу, за столетия выдолбила в ней большую гладкую чашу. Переливаясь через край, она разбегалась стремительными ручьями, собиралась в маленькие озерки, висела в воздухе пылью, и солнце зажигало в ней радуги.
Для начала Бусый выбрал лужу в углублении камня, откуда одежду не могло унести течением, и положил отмокать штаны и рубашку. Потом сунул голову в ручей и с наслаждением ощутил, как начала растворяться грязь, забившая волосы. И наконец, уже чистый, с кожей, докрасна растёртой вместо мочала пучком прошлогодней травы, перебрался через каменный край и погрузился в чёрную чашу. Стал смотреть, как солнце унизывало самоцветами бившую из подземелья струю.
Было ещё раннее утро, но солнце уже заметно пекло, от портов, разложенных на камнях, поднимался дрожащий парок. Что же будет днём, когда небесное пламя повиснет прямо над головой?..
Выбравшись из чаши, Бусый уселся сохнуть и ждать, пока можно будет одеться. Спешить ему было, кажется, некуда…
Довольно скоро он увидел человека, шедшего к нему из становища Мавута.
Это был, конечно, не сам Владыка. Станет тот себя утруждать, бегая за всякими юнцами. Воин, поднимавшийся в гору, был суровым и одноруким, и Бусый его узнал. К нему направлялся бывший венн, Изверг, тот самый, что в него дважды стрелял. За что Соболь и обкорнал ему руку чуть не по локоть… На сей раз лука и стрел при нём не было. Он молча подошёл и кинул Бусому чистую сухую одежду.
Бусый не пошевелился и подавно ничего не сказал, потому что ему, очень возможно, предстояло драться с Извергом насмерть, — но про себя исполнился презрения. Рядом лежали его порты, правильные веннские порты, перешитые из отцовских. Мама, Митуса Белочка, сама их кроила, сама пускала оберегающие узоры по вороту, рукавам и подолу.
«Видно, ты здесь, на чужбине, последний ум обронил, если думаешь, будто я на чужие обноски их променяю!»
Бусый продолжал молча сидеть, только подобрал хворостину и стал выводить перед собой на земле узор. Солнце, Молнию, очажный Огонь…
Бывший венн почему-то не уходил. Бусый кожей чувствовал его взгляд, ощущал желание Мавутича заглянуть ему через плечо. Кажется, Изверг хотел ему что-то сказать, о чём-то спросить… И необъяснимо робел.
«А ну тебя! — Бусый пересел, загораживая рисунок. — Я с тобой не раньше заговорю, чем рак на гору заползёт да свистнет оттуда!»
Присутствие однорукого раздражало, мешало улыбнуться особенной улыбкой, высветить и согреть ею себя изнутри, слить воедино дыхание и разум, дать лад размышлениям. Бусый очень обрадовался, когда Изверг сперва отвернулся, а после вовсе встал и, не оглядываясь, зашагал прочь.
«Наконец-то…»
Но сосредоточиться так и не дали. Подбежал мальчик лет десяти, стал что-то требовательно говорить на чужом наречии, звучавшем как горох в жестяной миске. Из всей его трескотни Бусый разобрал только одно слово — «Мавут». Что ж, о смысле остального догадаться было нетрудно. Он натянул ещё влажные штаны и рубашку и, пытаясь растопить поселившийся в животе ледяной сосущий комок, пошёл за мальчишкой…
Разум Горного Кузнеца летел над Потоком Времени, выхватывая рассыпанные по дням мгновения встреч Бусого и Мавута. Старик торопился и не мог слышать, о чём они говорили, — то в шатре, то возле мишеней для лучной стрельбы, то за едой… Горный Кузнец лишь заглядывал мальчишке в глаза, этого ему было довольно. Сперва в них стыло старательное равнодушие. Потом клокотала и рвалась наружу бешеная ярость. А потом явились слёзы. Отчаянные, ручьями, взахлёб. И следом — оцепенение, скрывавшее муку перерождения души. Озноб, мучительная дрожь, и это — на жгучем-то солнце! И наконец — вновь вернувшаяся ярость, но на этот раз холодная, чёрная. И взгляд… Взгляд мертвеца.
Мавут победил. Он к каждому умел подобрать ключ. Умел найти нужные слова и так вплести, вкрапить их в беседу, что Бусый принял их, как свои. Он не назвал Мавута отцом, потому что продолжал его ненавидеть. Но и в сиротство своё, в то, что во всём мире никому, кроме Владыки, не был нужен, — поверил.
У Мавута появился новый слуга…
Горный Кузнец оставил созерцание Потока и вскочил на ноги, нешуточно встревожив родню молодой матери.
— Что такое, Мастер? — испуганно спросил отец новорождённого мальчишки. Он не знал, куда бросаться, к колыбельке или к постели жены, но старик спросил только:
— Есть у вас тут где-нибудь место, где вода ныряет под землю?
Нардарец ответил, недоумевая:
— Есть…
— Веди туда, — распорядился Кузнец.
Вдвоём они выскочили из дома, как на пожар. И почти бегом поспешили сквозь предрассветную тьму в горы. Там, не очень далеко от деревни, было озеро, вода которого то уходила под землю, то возвращалась в берега.
Сейчас оно было полно.
Тьма редела, над озером плавал лёгкий туман, а посередине намечалось кружение. Незримая рука перемешивала воду и закручивала винтом, как всегда, когда недра готовились её поглотить.
Молодой нардарец осенил себя хранительным знамением и остался поодаль: его народ, молившийся Священному Огню, почитал это место как очень недоброе. Что же до Горного Кузнеца, он подбежал к самому краю и, припав на колени, приложил ладони ко рту.
— Бусый! — закричал он прямо в воду. — Книга!.. Вспомни книгу берестяную! Книгу, малыш!..
Вода забурлила и неистово понеслась по кругу, образуя воронку. А потом стремительно исчезла, открыв в середине оголённого дна пустой чёрный провал. Оттуда шёл глухой, страшный, удаляющийся рокот, от которого содрогалась земля.
Кузнец не без труда поднялся с колен. Путешествие вдоль Потока Времени и заполошный бег по горной тропе совсем его обессилили.
Он посмотрел на далёкие пики, воспламенённые близившимся рассветом. Малиновые зубцы постепенно, начиная с вершин, наливались огненным жаром.
«Всевышнее Небо, — подумал старик. — Сделай так, чтобы я успел…»
ГОЛОС ВОДЫ
…Для начала Бусый выбрал лужу в углублении камня, откуда одежду не могло унести течением, и положил отмокать штаны и рубашку. Потом сунул голову в ручей и с наслаждением ощутил, как начала растворяться грязь, забившая волосы. И наконец, уже чистый, с кожей, докрасна растёртой вместо мочала пучком прошлогодней травы, перебрался через каменный край и погрузился в чёрную чашу. Стал смотреть, как солнце унизывало самоцветами бившую из подземелья струю.
Вода была почти ледяная. Одно удовольствие оживить в ней тело перед трудами предстоявшего дня. И на вкус — сладкая, как из озера в Особенном Месте, где они плавали с Таемлу…
Зря ли Летобор Клёст учил сына достигать сосредоточения, глядя на бегущую воду! Бусый всматривался в дробившуюся струю, пока в самом деле не ощутил целительное дыхание того далёкого озера и тёплые ладони скал, по которым он разбегался для прыжка в прозрачную глубину… Ну надо же, он как будто даже услышал голос Горного Кузнеца. Старик что-то кричал ему — взволнованно и тревожно. Так кричат, когда дитя неразумное вот-вот доищется себе немалой беды, но ещё не поздно его от той беды уберечь. Напомнить об истинно важном, путь к спасению указать…
Бусый как ошпаренный вскинулся в водяной чаше, сообразив, что ему не показалось. Он напряг слух, пытаясь снова что-то расслышать. Сначала — в говоре воды. Потом выбрался на берег и припал ухом к земле…
Всуе.
Голос Кузнеца, то ли примерещившийся, то ли нет, отзвучал насовсем. Бусый успел разобрать очень немногое. Полтора слова. Что-то про книгу…
Какую книгу? Может, про ту, за которой полез в болото Ульгеш? Или дед самого Бусого хотел остеречь, чтобы камень с шеи не потерял?..
Бусый разочарованно уселся сохнуть и ждать, пока можно будет одеться. Спешить ему было, кажется, некуда…
Было ещё раннее утро, но солнце уже заметно пекло, от портов, разложенных на камнях, поднимался дрожащий парок. Что же будет днём, когда небесное пламя повиснет прямо над головой?..
Довольно скоро он увидел человека, шедшего к нему из становища Мавута.
Это был, конечно, не сам Владыка. Станет тот себя утруждать, бегая за всякими юнцами. Воин, поднимавшийся в гору, был суровым и одноруким, и Бусый его узнал. К нему направлялся бывший венн, Изверг, тот самый, что в него дважды стрелял. За что Соболь и обкорнал ему руку чуть не по локоть… На сей раз лука и стрел при нём не было. Он молча подошёл и кинул Бусому чистую сухую одежду.
Бусый не пошевелился и подавно ничего не сказал, потому что ему, очень возможно, предстояло драться с Извергом насмерть, — но про себя исполнился презрения. Рядом лежали его порты, правильные веннские порты, перешитые из отцовских. Мама, Митуса Белочка, сама их кроила, сама пускала оберегающие узоры по вороту, рукавам и подолу.
«Видно, ты здесь, на чужбине, последний ум обронил, если думаешь, будто я на чужие обноски их променяю!»
Бусый продолжал молча сидеть, только подобрал хворостину и стал выводить перед собой на земле узор. Солнце, Молнию, очажный Огонь…
Бывший венн почему-то не уходил. Бусый кожей чувствовал его взгляд, ощущал желание Мавутича заглянуть ему через плечо. Кажется, Изверг хотел ему что-то сказать, о чём-то спросить… И необъяснимо робел.
«А ну тебя! — Бусый пересел, загораживая рисунок. — Я с тобой не раньше заговорю, чем рак на гору заползёт да свистнет оттуда!»
Мысли скакали суматошными белками, мешая одна другой. Мавут. Однорукий этот, чтоб ему пусто было. Горный Кузнец. Книга. Какая книга? Однорукий. Горный Кузнец…
Присутствие Изверга раздражало, мешало улыбнуться особенной улыбкой, высветить и согреть ею себя изнутри, слить воедино дыхание и разум, дать лад размышлениям.
«И чего ему от меня надо?»
Бусый покосился на соседа.
Однорукий, оказывается, тоже пересел и смотрел уже не на Бусого. Он вглядывался в загогулины, которые рука Бусого по своему почину вывела на песке, покуда мальчишка пытался смирить лихорадочное биение мыслей.
И лицо у Изверга было…
Бусый, присмотревшись, замер от неожиданности.
Взгляд бывшего соплеменника светился болью, изумлением и… счастьем. Такой болью и таким счастьем, что у Бусого перехватило дыхание, а сердце тревожно заколотилось, как бывает, когда вот-вот поймёшь нечто ослепительно-важное.
Он помнил: Изверг не издал ни звука, когда Соболь прижимал к обрубку руки пылающий сук А сейчас он всего-то смотрел на мальчишеские каракули, и по щекам, путаясь в бороде, катились самые настоящие слёзы.
Наконец Изверг медленно поднял счастливые плачущие глаза.
— Где эта книга, малыш? — выговорил он хрипло. — Где ты видел её?
«Книга? Опять книга. Сговорились они тут, что ли?»
Бусый наконец присмотрелся к узору, который сам же, думая о другом, нарисовал на земле.
Оказывается, пока разум блуждал где-то вдали, рука выводила веннские знаки. На земле красовались символы Солнца, Молнии и Огня, очень ладно сплетённые меж собой.
В точности как на деревянном окладе берестяной Веннской Книги, опрокидывавшейся в костёр…
ЗОВ ВОЛКА
— Й-й-а-а-а-а-ха-а-а-ха-а-а-а-а!
Протяжный и пронзительный визг Мавута кнутом хлестнул по ущелью, отдался болью в ушах, бешено заплясал, заскакал среди скал, ударяясь и дробясь об извилистые стены.
Не дурманящая дудка, подавно не Свистелка, но тоже сам по себе боевой Звук..
Бусый уже слышал этот визг. Когда Горный Кузнец показывал ему, как Мавут карал смертью деревню Сыновей Леса. Боевой клич Владыки и тогда обдал его жутью, но мальчишка и представить не мог, насколько страшнее он наяву.
Особенно если услышать его на горной тропе у себя за спиной…
— И-й-а-а-а-ххха-а-а-р-р-р-ха-а-а-а! — подхватило крик предводителя множество глоток Им почти сразу отозвались боевые Свирели. Они пели вроде негромко и вместе с тем — оглушающе. Они острыми ножами втыкались в нутро, и оттуда разбегались морозные токи, лишавшие силы руки и ноги. Перед глазами всё плыло, Звуки настигали, норовя сбросить с седла, лишить ощущения верха и низа.
Пока беглецам ещё удавалось сопротивляться, но Звуки становились всё нестерпимее, всё сильнее. Их настигали.
Лошадям Мавутичей визг и колдовские Звуки, должно быть, только придавали сил, зато вороной конь Изверга и каурая кобыла под Бусым храпели, спотыкались, вскидывались на дыбы. Они едва слушались узды и метались, ища спасения от страшных Звуков. Скоро они закричат от беспомощности и ужаса и понесут, не выбирая дороги, пока не поубивают и седоков, и себя.
Однорукий повернул к Бусому сведённое судорогой лицо. Прохрипел натужно:
— Бросаем лошадей, малыш! Дальше пешком… Да не бойся, уйдём!
Бусый ответил:
— А я и не боюсь.
Голос прозвучал так же отчаянно-хрипло, как у Изверга. Казалось, самый воздух был полон острых жгучих колючек, и они рвали горло, не позволяя дышать.
Как бы то ни было, он и в самом деле не боялся… Страхи кончились. Ну чем, спрашивается, ещё мог напугать его Мавут? Смертью?.. Да нет, скорее уж тем, что живого возьмёт в плен. Так во власти Бусого было не сдаться ему. Уйти на Остров Жизни, туда, где никакому Мавуту, хоть тресни он, его уже не достать…
Кое-как спешившись, два венна, бывший и полукровка, ринулись вверх по склону, стремясь выбраться из ущелья. Пока оно не стало для них западнёй. Сперва — сквозь кусты в мелком бисере душистых белых цветов, потом по крутому каменному откосу, грозившему обвалом… между угловатыми глыбами… И наконец — по отвесной скальной стене, где не было совсем никакого укрытия. Только бьющее в упор солнце, от которого камень под руками казался вынутым из печи.
«Так вот какая ты, Осыпь. Вот какой ты мне предстала…»
Бусый даже задрал голову — не видать ли там, впереди, зелёной травки вечных лугов. Думал ли он ещё вчера, когда Зорегляд с Ярострелом вели его показывать Журавлиные Мхи…
Лошадиный топот и визг конных Мавутичей, вырвавшихся из-за поворота, приблизился вплотную и стал совсем нестерпимым. Бусый сморщился, подтянулся, нашёл опору для одной ноги и поднялся ещё на пол-локтя.
«Эх, пращур Белка, сюда бы твою рыжую шубку и цепкие коготки, твоё умение прятаться в самом малом дупле, за лоскутом сосновой коры…» — Не успеем, — сказал Изверг. Ему с его крючком вместо правой кисти приходилось совсем тяжело, Бусый протянул руку помочь, но Изверг лишь покачал головой. — Достанут… Стрелами… — Перевёл дух и добавил: — Не держи зла… Волк.
Бусый хотел ответить таким же словом прощания, но, пока соображал, каким именем назвать своего неожиданного товарища, что-то вспыхнуло перед умственным оком. Да так, что искры посыпались.
«Волк?..»
К жутким Звукам, грозившим смахнуть беглецов со стены, добавился конский топот. Значит, не долго осталось ждать и стрельного посвиста. А какими стрельцами были Мавутичи, Бусый очень хорошо знал. Успел насмотреться.
«Ну да, Волк. Когда нас загоняют в угол, мы не падаем на брюхо, мы убиваем. А ещё мы…»
Он повернул к Извергу перекошенное лицо и заорал:
— Подержи меня!..
Тот, кажется, не очень понял зачем, только то, что мальчишке было для чего-то необходимо освободить руки. Он сделал усилие, от которого уже хотел было себя избавить, как от вполне тщетного. Всадил крючок между слоями камня, годившегося лепёшки на нём печь, рванулся вверх — и обхватил Бусого здоровой рукой, крепко прижимая к скале.
Возле его лица ударила и разлетелась в щепы первая стрела. Её пустили намеренно мимо. Дескать, спускайтесь, пока хуже не стало. Изверг посмотрел вниз и увидел Мавутичей, неспешно выезжавших на открытое место.
И в это время Бусый сложил ладони у рта… и завыл. Это был и волчий вой, и не волчий. Это подавал голос не простой вожак, ведущий голодную стаю на загнанную по насту лосиху. Это взывало Существо, достойное стать плечом к плечу с самим Прародителем. Его вой звучал жаждой вражеской крови, беспощадной решимостью и дремучей, никем не измеренной силой.
Небо не оставляет такой призыв без ответа…
Несколько мгновений прошло в тишине. Замолчали даже Мавутичи. Возможно, они начали что-то смутно подозревать. Лишь Владыка Мавут до конца понял, что происходило, но даже он не смог ничего предпринять. Потому что его сила была заёмной, а значит, ей изначально был отмерен предел. Подобным ему лучше умолкнуть, когда говорят Небеса.
Безо всякого предупреждения по лицам Изверга и Бусого скользнули благословенные тени… Скользнули и исчезли, но вновь хлынувший солнечный жар уже не казался враждебным и беспощадным. Ибо может ли Прадед Солнце в самом деле обжечь и испепелить Своих правнуков, веннов?
Бусый обернулся вслед за тенями и увидел двух симуранов, кружившихся над ущельем.
Это были не совсем обычные симураны…
Люди привыкли считать их крылатыми псами, но Бусый увидел Тех, в Кого свято верил его род: крылатых волков. Конечно, они не несли всадников, потому что волки живут сами по себе и не знают хозяина.
Но они всегда готовы выручить брата…
Кто-то из Мавутичей пустил в них стрелу. Лучше бы он этого не делал! Стрела безобидно ушла в жаркую синеву, а волки-симураны, ринувшись вниз, одновременно коснулись земли прямо перед всадниками. Сложили крылья и…
Кони сошли с ума. Всадники силились их усмирить, но животные били задом, взвивались на дыбы, падали и катались, ломая кости слишком цепким наездникам. Снова вскакивали, ржали и били копытами, целя в людей. Страшные крики, рёв, безумное ржание… кровь на меховых безрукавках…
Мавут метался среди своих воинов, силясь вразумить людей и коней. Ничего не выходило. На Владыку просто не обращали внимания. В бешено хрипящей мясорубке он едва слышал собственный голос, ему с трудом удавалось избегать разящих копыт…
Едва ли не впервые он сам себе казался ничтожным, маленьким и бессильным. В какой-то миг он готов был броситься с мечом на проклятых серых тварей… но не смог их отыскать. Симураны исчезли. Были они на самом деле? Или привиделись? И если так, кто сумел их наслать, не мальчишка же?..
Некоторое время Бусый с Извергом смотрели вниз с края ущелья. Потом поднялись и пошли прочь. Две крылатые тени ещё раз промчались над ними — и унеслись в сияющую вышину, растворились в слепящем солнечном свете…
Когда наконец внизу всё улеглось, беглецы были уже далеко. Не удалось даже понять, в каком направлении они скрылись. Пытались пустить собак, но псы по следу не пошли.
НЕМИРЬЕ
— Ну как, Бажанушка? Кудель привязывать станешь ли?
Кареглазая Росомашка старательно делала вид, будто придирчиво и даже с неодобрением рассматривает жениховский подарок, но румянца, заливавшего щёки, удержать не могла. И глаза выдавали — искрились озорными смешинками. Прялка была хороша. Вырезанная из еловой копани, удобная и красивая, пахнущая маслом и воском, она словно бы мягко и тепло лучилась изнутри — светоч и оберег грядущего счастья.
— А у нас, — подначила жениха Бажана, — совсем другие прялки делают. Разъёмные, вот! Вынул лопасть — и хоть с собой бери, за пояс заткнув!
И уже слышались в её речах сорок лет в согласии и любви, и уже виделось, как она, седовласая, окружённая внуками, будет точно так же подначивать своего «деда Твердолоба», ревнителя обычаев и законов. А он будет всё с той же мальчишеской горячностью отстаивать какую-нибудь малость, завещанную Прародителями. Вроде ширины лыка для «писаных» праздничных лапотков: сказано — вполногтя, значит, вполногтя, и никаких на сей счёт разговоров, и кому какое дело, что ноготь у каждого свой!.. Твердолюб не подвёл и сейчас.
— Хоть моя, так ведь она же от старейших матерей наших такой и была! Её разнимать — это после придумали, в отступление от старины. И кто придумку ту подсказал, нам неведомо…
Бажана, дурачась, легонько надула пухлые губы.
— Так зачем тогда в наш род сватаешься, если мы тут Правды не помним?
А у самой рука так и тянулась примериться к дивной прялке. Вынести самую что ни есть тонкую льняную кудель, приколоть спицей с кольцом, обмотать плетёным шнурком. Сесть на длинное, широкое, гладкое донце, уже казавшееся ей мягче всякой подушки…
Посередине лопасти красовалось колесо о двенадцати спицах-лучах — символ Света Небесного. А наверху расположился целый городок с заботливо вырезанным тыном, нарядными избами, высокими теремами и даже маленькой крепостью на холме. Так по рассказам удалого купца Горкуна Синицы Твердолюб представлял себе Галирад.
Невеста и жених сидели рядком на завалинке, чуть касаясь друг дружки плечами и заливаясь от этого жарким румянцем. Склонились головами к красавице-прялке и вели неспешную беседу о том, что вырезано на ней… Бажана всё-таки не выдержала, убежала в клеть за куделью. А Твердолюб оглянулся на голоса и движение возле ворот и почтительно вскочил:
— Матушка Росомаха… Батюшка Родосвят…
Через двор к нему шли большак и большуха, и парень сразу заметил, что Родосвят Куница тяжелее обычного опирался на палку. Твёрд успел даже решить — разболелась к перемене погоды искалеченная на охоте нога. Но лица у вождей деревни были такие, что через миг у Твердолюба оледенело нутро. Ещё ни о чём не спросив и ничего не услышав, он уже знал: случилась беда.
Перед ним мгновенно пронеслись знакомые лица: мама? Отец?.. Или глупый двухродный братишка себе погибели доискался?.. Или дедушка Астин ткнулся лицом в очередной недописанный лист?..
А может, Дымка в лесу в ловчую яму упал?..
Родосвят молча положил руку ему на плечо и стиснул жёсткими пальцами. И наконец выдавил из себя страшные слова:
— Сынок… Немирье у вас.
Как выяснилось, резвый правнук большухи действительно нашёл в лесу Дымку, но не в ловушке, а просто на тропе. Окровавленный кобель полз по следу хозяина, пока не ощутил под лапами шёлковую травку вечных лугов. Неробкий парнишка вынул из пёсьих зубов кожаную, обшитую кольчужными звеньями рукавицу, в которой так и задержалось несколько пальцев, и решил посмотреть, кому же Дымка дал последний бой в своей жизни. От Серых Псов до Росомах, если не останавливаться, был день пути, но всего расстояния отроку одолевать не пришлось. Всё тот же Дымка предупредил его, явив раны не от ножей, даже не от стрелы, — от меча! Юный Росомаха выбрал дерево на высоком холме, знакомое дерево, с которого они со сверстниками привыкли перед весенними кулачными сшибками наблюдать за приготовлениями Серых Псов…
Он увидел ещё курившуюся за тыном развалину общинного дома. Другие избы, выглядели целыми, но между ними ходили незнакомые люди. Они перетаскивали и складывали в одно место что-то, сперва показавшееся остроглазому пареньку большими мешками…
Твердолюб слушал этот рассказ, точно жуткую небывальщину о давно прошедших годах. Вроде — да, было, где-то, когда-то, да — страшно… Но не сейчас, не здесь и не с нами, а так далеко и давно, что нас почти совсем не касается… Ну, может быть, и касается, но по крайней мере не мешает постреливать глазом на доску с горячими пирожками, мечтать о рыбалке на лесном озере, выглаживать прялку невесте… Представить, поверить, допустить до сознания, что сегодня на рассвете, когда он сладко потягивался на пороге невестиной клети, кто-то волочил, как мешки, мёртвые тела его матери и отца, кузнеца Межамира, любимого меньшого братишки…
А он спал и улыбался во сне, пока их убивали.
Твёрд смотрел на дядьку Родосвята, и до него медленно доходило, что Светынь поменяла течение. Там, где только что на годы вперёд простирались добрые плёсы и гремели весёлые перекаты, теперь не было ничего. Совсем ничего. А прямо под ногами медленно разверзалась чудовищная бездна, поглотившая реку.
Конечно, солнце не замерло над головой Твердолюба и не пустилось дальше скачками, но почему-то впоследствии он так и не смог воскресить в памяти это утро всё целиком. Всплывали только разрозненные обрывки.
Вот дядька Родосвят рассказывает ему, что, похоже, род Серых Псов перестал быть насовсем, но какая ссора вышла у них с сегванами и кто первый занёс оружие на соседа — не ведомо пока никому. А он, Твердолюб, не поняв ещё, зачем большак это ему говорит, со странно-деловитым спокойствием рассуждает о том, кого и как надо будет звать на подмогу для мести.
Вот в ответ на перечисление веннских колен большуха называет сегванские племена, в разное время переселившиеся на Берег. Венны могут не потерпеть расправы над Серыми Псами, но и сегваны вряд ли им спустят. У Винитария тоже найдутся родственники, побратимы, друзья. Которые скоро проведают, как на Светыни вырезали лучших мужей острова Закатных Вершин. А это значит — через год-два жди большого немирья. Такого, что нынешняя беда занозой в пальце покажется.
— Помнишь Тужира Гуся? — тяжело наваливаясь на палку, спросил Родосвят.
Кажется, именно после этих слов Твердолюб как следует понял, что для него всё кончилось. Совсем всё. Сразу и навсегда.
Он поклонился чужим людям, так и не ставшим для него родными, и молча пошёл за ворота. Даже не взяв с собой лук, без которого ни один венн в лес не пойдёт и который висел теперь в Бажаниной клети. С одним поясным ножом, без которого венну вообще никуда. Этим ножом он до сих пор резал только хлеб, но, видят Боги, уже завтра маленький клинок изопьёт смертной крови и к хлебу больше не прикоснётся. Если Твердолюбу после этого нужен будет хлеб…
…Ясное дело, Росомахи никуда его не пустили, потому что уже любили его, уже считали Бажаниным женихом и не собирались отпускать на погибель. Крепкие Родосвятичи остановили парня возле ворот… Это Твердолюбу тоже запомнилось скверно. Сам дивился потом, как у них там же не докатилось до смертоубийства, обошлось синяками и расшатанным зубом. Наверное, в угаре всё же помнили себя и своих. И ещё вроде бы мелькало белое лицо Бажаны, которой Родосвятичи все были братья… Твёрду закалачили руки и связали, как вяжут зверя, которого поймали в лесу и хотят живого донести домой — приручить. Чтобы ни удавиться в путах, ни высвободиться не мог. И чтобы кровяной ток в жилах не прекращался…
После чего положили в клеть, между кадками и мешками:
— Полежи, парень. Охолони. После рассуждать станем…
Бажана села на пороге за дверью. Время от времени она окликала его, в голосе звучали слёзы, но он ей не отзывался. Был занят. Увидел на одной кадке деревянную ложку, сбросил на пол и погрыз ручку зубами, чтобы получились зазубрины. Перекатился, взял ложку связанными руками и, уперев одним концом в пол, начал пилить верёвки. Хорошо, ложка попалась кленовая, зазубрины истирались нескоро…
Росомахи славились тем, что всё делали добротно и прочно. Родосвятова клеть исключением не была. Твердолюб потратил полночи на то, чтобы разобрать берёсту на крыше и осторожно разорвать дёрн. Немирье, случившееся у соседей, заставило Росомах поставить вдоль тына нескольких сторожей, но они смотрели наружу. Парня, махнувшего через тын изнутри, только проводили изумлённые возгласы.
Твердолюб так и не узнал, гнались ли за ним. Наверное, не гнались. В конце концов, свою судьбу каждый выбирает сам…
ТЕНЬ ТЬМЫ
Бусый молча плёлся за Извергом. Если бы дома, если бы родными веннскими холмами, ещё неизвестно, кому за кем плестись бы пришлось. Но здесь, в этих безбожных горах…
Ноги, налившиеся свинцом, едва повиновались, а голову то стискивала ломающая затылок боль, то окутывала дурнотная тошнота. Больше всего хотелось распластаться на острых камнях где-нибудь в тени склона и умереть от усталости. Надо полагать, это произошло бы достаточно скоро…
Бусый намечал себе впереди очередное смертное ложе, дальше которого он совершенно точно не сделает ни шагу, и — вновь и вновь — оставлял его за спиной. Ему было не до того, чтобы вбирать в себя незнакомый облик этой горной страны, он вообще почти не взглядывал по сторонам, но когда приходилось… Ох.
Внезапные пропасти, отвесные раскалённые скалы, беспорядочные нагромождения громадных камней, обманчиво упокоенных на крутых склонах. Эти валуны были готовы от малейшего толчка покатиться вниз, увлечь за собой тучу крупных и мелких собратьев, в кровавую слизь растереть всякого, кто подвернётся… Да разве можно вообще здесь людям ходить? Да ещё так, как шёл Изверг? Без дорог и даже без козьих троп. Всё время меняя направление. Всякий раз выбирая из всех возможных путей самый худший…
Бусый молча шёл, пока худо-бедно слушалось тело. А потом, когда тело окончательно сказало «хватит», — схватился рукой за выступ скалы, не удержался и сполз. По-прежнему молча.
Изверг остановился, вернулся, без звука взвалил мальчишку на плечо и шатаясь заковылял дальше.
Полежав немного на крепком плече, Бусый ощутил, что чернота перед глазами начала вроде редеть, а сердце вновь обрело способность проталкивать по жилам густую от жары кровь. Он попробовал шевельнуться. Не ахти как, но получилось.
— Пусти, — просипел он. — Сам пойду.
Говорить с Извергом не хотелось. Мало ли, что бок о бок висели на скальной стене и однорукий держал его, пока Бусый выл волком… Верить ли тому, кто тебя дважды пытался убить? Кто из врага в одночасье сделался другом?
Но не висеть же и дальше на нём беспомощной падалью!
— Пусти, говорю…
Изверг повернул к мальчишке чёрное лицо, улыбнулся растрескавшимися губами. Медленно поставил на ноги.
— Уже немного, — выговорил он. — Сейчас по этому гребню к ручью… Там и передохнуть можно будет.
Гребень, о котором говорилось, был узким и острым, как лезвие топора, и довольно круто уводил вниз. Однорукий пропустил Бусого вперёд и едва успел подхватить за шиворот, не дав свалиться на сторону. Падать что влево, что вправо пришлось бы ох далеко… Слова о близости отдыха у ручья отняли последние силы. Бусого шатало и клонило, мир плыл перед глазами, но вниз по гребню идти он всё-таки мог.
Немного погодя он даже решился начать разговор. С человеком, которому, как ни крути, был немало нынче обязан.
— Ну посидим мы у ручья, — сказал он, — а дальше куда?
— Дальше всё просто, — хрипло дыша, отозвался однорукий. — Все ручьи отсюда в одну реку текут. Ренной называется… Она приведёт в город Кондар. Дальше на север через Засечный кряж, его, я слышал, виллы крепко стерегут… А там и Светынь, и Звоница… и твои Волки.
— А… эти там? — Бусый ткнул пальцем через плечо, не решаясь выговорить имя Мавута. — Не догадаются?
Изверг немного помолчал. Потом сказал так:
— Гадать про нас можно долго. Короче пути есть на Светынь…
— А почему мы прямиком не пошли?
— Потому что по тем горам ты без меня не пройдёшь. А здесь — не пропадёшь и один. Главное, до Засечного кряжа… Там виллы, ты вроде им друг…
— Тоже заладил, без тебя да без тебя, — мрачно проворчал Бусый. — Поздоровей меня будешь небось!
На этот раз однорукий совсем ничего не ответил, и это очень не понравилось Бусому. Настолько, что он даже спрашивать дальше не стал.
А хотелось ему расспросить про страшный Змеев След в четверть страны Нарлак, о котором рассказывал Ульгеш. Про погост Четыре Дуба, что стоял, как он слышал от Таемлу, как раз на реке Ренне.
«А ну тебя, — решил он, пробираясь по гребню. — Раз скрываешь про себя что-то важное, так и я тебе всего не скажу. Скоро доберёмся до Четырёх Дубов, к Таемлу… Вот с кем посоветоваться…»
Бусый представил себе, как она называет его Красивым Бельчонком и танцует среди душистых ромашек, и у него как будто прибавилось сил.
Ночь наступила внезапно и сразу, так, как никогда не наступала в веннских лесах. Только что было вполне светло, но вот солнце круто нырнуло за иззубренный, как пила, кряж — и долина, где протекал ручей, сразу утонула в непроглядных потёмках.
Пламя костерка не могло справиться с этой Тьмой, лишь чуть раздвигало её, силилось отвоевать маленький круг, и от этого Тьма казалась ещё страшнее и гуще. Бусому вдруг вспомнился совсем другой костерок на берегу весенней Светыни. Тогда им сообща удалось отбиться от наседающей жути, лишить её злой колдовской силы, без которой она враз превратилась в обычную и ничуть не страшную темень.
Кажется, целая жизнь с тех пор прошла…
Удастся ли нынче?
Тогда он был дома, и всё было на его стороне. Светынь, ледоход, близкое торжество утра… Нынче Бусому и его костру никто на выручку не придёт. Он один в далёких чужих горах. И даже хворост, который он подбрасывает в огонь, — не от берёзы, не от доброй сосны, а от какого-то незнакомого и несчастного дерева, засохшего на этих бесплодных камнях… И от Изверга особой подмоги ждать не приходится. Бывший соплеменник почему-то не захотел даже войти внутрь круга, очерченного горящей головнёй, лёг спать поодаль…
А Тьма всё ближе. Ей, а не Бусому, в этих злых местах раздолье и дом родной. Тьма здесь хозяйка, наглая и уверенная. Сегодня добыче от неё некуда деться. Одинокий мальчишка, заблудившийся на чужбине. Ни оберега на шее, ни матери-реки за спиной… Единственная оборона — вышивка на одёжке, так Тьма и не с такими доспехами управлялась. А этот второй, сирота, не потребный ни своему кровному племени, ни новой семье… Это всего лишь пища.
Бусый что было сил звал к себе особую внутреннюю улыбку, подбрасывал потихоньку сучья в костёр и — в упор, в зрачок — смотрел на подступавшую Тьму.
Однорукий взметнулся с земли и вскочил оскаленный, с обнажённым мечом в левой руке.
— В Круг! — заорал ему Бусый. — Зайди в Круг!
Изверг даже головы не повернул. Скорее всего, он этого крика даже не услышал.
Обступившая Тьма угрожающе загустела и вдруг вытолкнула из себя огромную зубастую птицу. Нет, это не была страшная птица Мавута. Это била крыльями её Тень, непроглядно-чёрная и вещественно плотная. Она ударила Изверга, и он покатился, сбитый с ног, по камням. Меча он, правда, не выронил. И когда новый удар, на сей раз когтистой лапой, не дал ему подняться на ноги, — успел рубануть навстречу.
Тень Тьмы хрипло взвизгнула и заухала на разные голоса… И тотчас на Изверга обрушился вихрь жестоких ударов.
Бусый выхватил из костра пылающий сук, завопил что-то несусветное и бросился вон из ограждающего Круга. И понял, что огонь, разведённый двумя веннами, всё-таки решил быть на их стороне. Вместо того чтобы сразу же бесславно погаснуть, сук, которым размахивал Бусый, только шипел и разгорался всё ярче. Бусый встал над поникшим без движения Извергом и, хрипя от ярости, бил, бил, бил этим огненным мечом в наседающую Тень Тьмы…
Потом он лежал поперёк тела своего товарища, лежал очень неудобно, подвернув левую руку и откинув правую, ещё сжимавшую догоревший сук, но не пытался изменить положение, потому что двигаться было слишком хлопотно. Наверное, несколько раз он то ли засыпал, то ли проваливался в беспамятство. Во всяком случае звёзды — близкие звёзды, яркие в темноте, каких дома летом никогда не бывало, — очень уж быстро вершили свой путь по небу. И вот небо на востоке начало светлеть, и звёзды почти сразу исчезли.
Бусый как следует проморгался, когда солнце поднялось из-за горы и стало тормошить его ласковыми руками лучей. Вставай, дескать, пока жара снова не началась!..
Он хотел сесть, но сразу охнул и откинулся обратно. Он никогда не был неженкой, но вчера ему досталось, кажется, на год вперёд. Бусый стиснул зубы, тихо зарычал и кое-как перекатился на бок. Потом поднялся на колени…
До ручья, который вроде должен был привести его к реке с диковинным названием Ренна, было шагов десять. Бусый решил было встать и пойти, но прислушался к себе и сразу передумал. Ещё он хотел посмотреть, как там однорукий, но отложил и эту затею. Изверг был жив, он по крайней мере дышал, а раз дожил до утра, значит, мог ещё чуть-чуть потерпеть.
Бусый на четвереньках скатился к ручью, распластался на берегу, сунул голову в воду и понял, как это — блаженствовать на Острове Жизни. Он готов был решить, что в самом деле умер и незаметно вознёсся Туда, но боль, плескавшаяся во всём теле, была слишком уж посюсторонней. Бусый вспомнил про Изверга и захотел поделиться с ним животворным блаженством, но у него не было с собой ни чашки, ни ковша. Стащив негнущимися руками рубашку, Бусый пополоскал её в ручье, собрал в ком и пополз обратно.
Однорукий выглядел так, что Бусому враз вспомнился и растерзанный Колояр, и Итерскел, каким они с Осокой его нашли. И дело было не в ранах, Изверг и без особых ран казался выпотрошенным, выпитым до дна, лишённым жизненных сил. Бусый приподнялся и выжал рубашку у него над лицом. Вода заструилась по маминой вышивке и стала омывать веки, затекла в приоткрытый рот… Изверг застонал, замычал и принялся жадно глотать, но глаз не раскрыл. Делать нечего, Бусый отправился за живой водой снова. Потом ещё раз…
«Так вот о чём ты вчера не хотел со мной говорить. Знал, что Мавут достанет тебя, как только спустится Тьма. Ты ж Мавутич, ты ему клятву давал… Поэтому и в Круг не пошёл. Меня уберечь думал! А то мы их не видали! И Тень эту, и саму зубастую птицу, и ещё кого похуже. И морду били кое-кому…»
Он вообще-то подозревал, что, если бы промедлил, смалодушничал, позволил этой ночью Извергу погибнуть, — и сам бы в живых не остался. Но это уж никого не касалось.
Бывший венн тем временем очнулся, но встать или даже просто пошевелиться не попытался. Куда уж там… Сумел только облизать губы и еле слышно выдавить:
— Вниз… По ручью… Ренна… Торопись…
Ещё он толковал про город Кондар и какого-то Кей-Сонмора, но Бусый не особенно слушал. Нужен ему этот неведомый город, чего он там не видал? И Кей-Сонмор не нужен, он знал, что пойдёт к Таемлу. Но, чтобы Изверг от него отвязался и замолчал, — кивнул головой. Понял, дескать, всё сделаю.
Однорукий с облегчением опустил веки. Теперь, когда он сделал действительно всё, чтобы спасти Волчонка, можно и умереть наконец. Эта мысль принесла удовольствие и облегчение. Скоро здесь будет Мавут… Изверг едва не улыбнулся, представив разочарование и ярость Владыки, когда тот обнаружит мертвеца. Мальчишка к тому времени будет уже далеко. Он лёгок и быстр на ногу, недаром он Волчьего рода…
Приятные раздумья были прерваны самым бессовестным образом. Изверг очнулся от покачивания и толчков: его куда-то тащили. На волокуше, слаженной из двух жердей, заплетённых ветвями. Заплетённых сноровисто и притом очень знакомо, по-веннски…
Мальчишка отправился, как ему и было велено, вниз по ручью. Но про то, чтобы уходить одному, как не услышал. Однорукий лишь застонал про себя. Все венны были упрямы, как пни, они такими не становились, они такими рождались. Изверг послушал надсадное пыхтение Бусого и понял, что с волокушей тому от Мавутичей не уйти.
Выход оставался один. Встать.
Любой лекарь схватился бы за голову: какое идти, когда сил нет даже на то, чтобы слюну проглотить! Однорукий знал это, он и сам был очень неплохим лекарем. Но встать было надо…
И он встал.
Потому что тоже был из породы, которая упрямее пней…
К вечеру им удалось спуститься до самой Ренны.
— А эта… Тень? — спросил Бусый. — Она нас… ночью?..
Изверг покачал головой:
— Нет, малыш… Она раны зализывает. Ты ей славно накостылял…
— Мы, — буркнул мальчишка.
Изверг согласился:
— Да. Мы…
ДЫМ НАД СВЕТЫНЬЮ
Прямохожим путём Твердопюб домой не побежал. На mom случай, если Росомахи всё же захотят его остановить, пустился через ночной лес вкруговую. Сперва к Светыни, потом берегом. Там, у берега, было множество потаённых мест, где его никто никогда не найдёт. Он подберётся вплотную и…
О том, как он поступит, когда подберётся вплотную и увидит сегванов Винитария, наделавших в его деревне каких-то страшных дел, Твердолюб особо не задумывался. Может, его даже вела детская надежда на чудо, на то, что с рассветом он выбежит к дому и увидит: там ничего не случилось. Всё так же поёт молот в кузнице Межамира, и суки лежат со щенками, и наплывает через тын запах свежего хлеба…
Он проснётся и поймёт, что всего лишь увидел страшный сон, а на самом деле всё хорошо. Он посмотрит на свои руки и не увидит на них отметин от верёвок, а во рту больше не будет привкуса крови из разбитой губы…
Твердолюб бежал во все лопатки, словно не было за плечами бессонной ночи, борьбы с путами и разобранной крыши. Когда начало светать, ветер дохнул в лицо близостью воды, и он выскочил к береговому обрыву.
И почти сразу услыхал впереди голоса.
«Сегваны!..» — немедленно пронеслась мысль. Твердолюб мгновенно затаился, исчезнув за обросшей валежиной, и его впервые посетила трезвая мысль, а что, собственно, он будет делать, если там, впереди, в самом деле четверо-пятеро сегванов.
Но это оказались не сегваны.
Мужчины разговаривали на безбожном смешанном языке, который неизбежно появляется там, где сходятся дети разных племён. Твердолюб бывал на ярмарках и распознал вельхские и сольвеннские слова. Люди о чём-то весело и спокойно разговаривали, смеялись. Восходящие токи воздуха доносили мирные запахи дыма и снеди. Твердолюб решил подобраться поближе…
Под обрывом стояла большая парусная лодка, вытащенная на песок. В таких по Светыни путешествовали отчаянные торговцы. На песке догорал костерок и лежало несколько одеял. Приехавшие сворачивали стоянку, собираясь двигаться дальше. Шестеро мужиков, все крепкие и неробкие с виду. Твердолюб даже узнал вожака, его звали Булыма. Твёрд его когда-то видел на ярмарке; дядька Межамир ещё не стал у него ничего покупать и сказал потом, что красное имя ему не Булыма, а «булыч», и добавил: по слухам, он не брезгует краденым.
Тем не менее этот жуликоватый торговец уже показался юному венну чуть ли не родным человеком. Твердолюб был готов спуститься вниз, пока ватажники не уехали. Они доподлинно расскажут ему, что случилось, а если повезёт, то не поскупятся и на добрый совет…
В это время один из мужиков, с плохо двигавшейся половиной лица, за что остальные называли его Косорылом, раскрыл мешок, что-то вытащил и развернул на свету полюбоваться, и у Твердолюба остановилось сердце.
Это был кованый, расшитый речным жемчугом праздничный убор большухи Серых Псов, который предводительница рода надевала всего несколько раз в год, на великие дни…
Твердолюб вскочил и, начисто перестав о чём-либо думать, ринулся вниз по откосу.
Ватажники изумлённо обернулись навстречу, кто-то метнул было руку к оружию, но сразу опустил. Растерзанный и полоумный мальчишка весьма мало походил на полного достоинства охотника-венна.
— Эй, парень… — начал Булыма, но Твердолюб его не услышал. Он бросился прямо к Косорылу и попытался выхватить у него большухин убор. Дюжий ватажник отшвырнул юнца, но тот бросился снова. На сей раз ему достался крепкий удар кулаком под дых, Твёрд упал, и его прижали к земле. Он лежал на песке, тяжело дыша, и не сопротивлялся. Но, стоило державшим рукам чуть-чуть ослабнуть, — взметнулся с земли и зубами вцепился Косорылу в горло. И грыз, ломая хрящи, пока от посыпавшихся ударов не пала на глаза темнота…
Ватажники Булымы не были разбойниками, душегубствующими по дорогам. Они были перекупщиками, которые забирают у душегубов добычу и продают её надёжным, проверенным людям. Хороший меч — наёмнику, который назавтра уезжает за тридевять земель. Меховую накидку — мономатанцу, который увезёт северную диковину куда-нибудь в Мванааке. А дивно расшитую женскую рубаху, умело отстиранную от крови, — аррантскому собирателю редкостей…
Загодя позвал их Винитарий или они сами явились сюда, точно мухи на падаль, — Твердолюб так и не узнал, да и не пытался узнать. Зато оказалось, что булычи умели вязать узлы ничуть не хуже Росомах. Если не лучше. Наверное, им не привыкать было утихомиривать строптивых невольников. Второй раз за одни сутки Твёрд оказался спутан по рукам и ногам, причём так, что не мог ни освободиться, ни покалечиться от застоя крови в перетянутых членах. Когда его бросили в лодку, он умудрился извернуться и вышибить ногами одного из ватажников в воду. Потом попытался сам вывалиться через борт и либо уплыть от них, либо утонуть. Тогда перекупщики срезали на берегу жердь и привязали к ней свою живую добычу, уже совершенно лишив пленника возможности двигаться.
После этого Твердолюб затих и лишь молча слушал спор булычей, обсуждавших его дальнейшую участь. Рыжий приятель Косорыла стоял за то, чтобы привязать ему к ногам камень потяжелее, но остальные воспротивились. Косорыла, сказали они, не вернёшь всё равно, так чего ради зря упускать выгоду? Крепкого и здорового мальчишку вполне можно продать. Только куда-нибудь подальше в неворотимую сторону.
Кто-то первым упомянул Самоцветные горы… Твердолюб смутно припомнил, что вроде бы слышал это название, но что с ним было связано, в памяти так и не всплыло, и он перестал думать об этом. Он знал одно: рано или поздно его волей-неволей избавят по крайней мере от жерди, и тогда…
Только один молодой ватажник, сам ненамного старше Твёрда, всё больше помалкивал, как бы со стороны слушая перепалку. Но не потому помалкивал, что из-за молодости лет его не допускали к общей беседе. Нет, с ним вели себя вполне уважительно, как понял Твёрд — из-за нешуточного умения драться. Парня просто не особенно занимали разговоры о выгоде и продаже, у него был какой-то свой интерес. Какой — Твердолюб не слишком задумывался. Только время от времени ловил на себе оценивающий взгляд молодого сольвенна и со временем запомнил, как того звали: Резоуст.
Ещё Твёрд понял, что булычи не собирались держать его при себе до самого Галирада. Если бы они появились там с пленником-венном, о дальнейших путешествиях по Светыни можно было бы просто сразу забыть. Накануне прибытия в сольвеннскую столицу Булыма собирался причалить к левому берегу, с кем-то там встретиться и сбыть с рук часть награбленного Людоедом. А заодно — и Твердолюба.
Всё изменилось в ночь перед задуманной встречей на левобережье.
Твёрд, по обыкновению оставленный в лодке, видел счастливый сон: матушка убаюкивала его, тихонько покачивая зыбку. Сперва он лишь бездумно радовался её близости, её голосу, прикосновению милых рук. Потом захотел сказать ей, что уже вырос и в люльке ему тесно и неудобно лежать, что он с радостью вылез бы, если бы она чуть-чуть ему помогла… Однако, как почему-то бывает во сне, слова наружу не пошли, а вот колыбелька раскачивалась всё сильней, и дно у неё было, оказывается, ох и ребристое…
Уже поняв, что всё происходило не наяву, Твердолюб ещё некоторое время цеплялся за уплывающие клочья блаженного забытья, но колыбель окончательно превратилась в лодку, качавшуюся на волнах.
Тогда он дёрнулся, окончательно приходя в себя, и ещё прежде, чем он успел открыть глаза, до сознания достучались разом две вещи. Во-первых, лодка действительно качалась, причём так, словно в ней кто-то яростно грёб, — это вместо того, чтобы тихо покоиться на песке. А во-вторых и в-главных…
Милый знакомый голос продолжал звучать и наяву.
— Родной мой, любый мой, — шептал этот голос, прерываясь от размеренного усилия. — Ты потерпи… Теперь всё будет хорошо…
Твёрд наконец разлепил веки и увидел над собой светлое небо весенней ночи, в котором с северной стороны тлела румяная полоса.
Лодка булычей набирала ход, уходя прочь от берега и вниз по течению, но вместо пятерых ватажников на вёслах трудилось всего двое гребцов.
Бажана Росомашка.
И Резоуст.
А за кормой тяжёлой посудины невесомо бежала на привязи узкая берестяная лодочка, несравненным умением ладить которые славился род Росомах.
Твердолюб всё понял каким-то звериным знанием, в одно мгновение ока. Без повести, без расспросов увидел, как Бажану, попытавшуюся заступиться за него перед роднёй, мать с отцом увели домой и заперли — для наказания и вразумления. Только вязать, как Тверда, не стали, о чём, наверное, уже ныне горько жалели. Потому что девка сбежала, подняв одну из половиц, как сбежала бы на её месте лесная сестра росомаха. Потом стащила лодочку и ушла на ней озёрным устьем на Светынь, ибо знала своего жениха и догадалась, каким путём тот рванётся домой. Она лишь чуть-чуть не поспела перехватить его, но зато хорошо видела, как он встретил Булымичей. У Бажаны хватило рассудка не ввязываться в бессмысленный бой. Несколько дней и ночей она тихо следовала за ватажниками, как росомаха следует за охотником, разорившим логово, выжидая случая поквитаться. И наконец решилась попробовать спасти Твердолюба — но лишь для того, чтобы попасться Резоусту, сторожившему ночлег.
И тогда — вот диво-то дивное! — вместо того, чтобы крикнуть тревогу и прибавить к добыче ещё и полонянку, Резоуст лишь приложил палец к губам, а потом жестами объяснил замершей девке, что готов уйти от ватажников вместе с нею и Твердолюбом.
Зачем, почему, какая Резоусту была в том корысть — Бажана так и не спросила. Просто изо всех сил сгибалась над вёслами, вместе с нежданным союзником увозя от врагов беспомощного жениха. Они не потратили времени даже на то, чтобы его развязать, всё равно толку с Тверда было бы нынче немного. Теперь Бажана сидела к нему спиной, на корме, гребла во весь дух и, не оглядываясь, повторяла, как заклинание:
— Ты потерпи… Всё будет хорошо…
Жердь не давала Твердолюбу приподняться и выглянуть через борт, но, судя по журчанию и толчкам речных струй, лодка успела удалиться от берега почти на перестрел и скоро должна была отдаться стремнине. В это время — гораздо скорей, чем хотелось бы беглецам, — сзади поднялся шум, над тихой водой полетели угрозы и бешеная ругань, а ещё через некоторое время за кормой стали шлёпаться стрелы. Резоуст с Росомашкой, у которых и так, кажется, гнулись вёсла в руках, ещё удвоили усилия, поперхнувшаяся Бажана умолкла, перестав уговаривать Твёрда чуть-чуть потерпеть, но стрелы падали всё дальше, и вот лодку подхватила быстрина, и добрая Светынь понесла своих детей на ладони прочь от врагов.
Тогда Бажана медленно разжала руки на вёслах и обернулась к Твердолюбу, и тот увидел, что заставило её замолчать. Считалось, что сольвеннские луки уступали веннским по силе и точности боя, но, видно, кто-то из ватажников дальше других пробежал по левобережному мелководью. Или просто оказался более искусным стрельцом. В груди у Бажаны торчала стрела, ударившая уже на излете, но много ли надо беззащитному девичьему телу? Изо рта Росомашки толчками выходила ярко-алая кровь и сбегала по подбородку и шее.
«Любый мой…» — одними глазами сказала Бажана. Ободряюще улыбнулась и стала тихо валиться прямо на ноги отчаянно забившемуся Твердолюбу…
…Большую лодку наполнили сухим хворостом так, что она осела в воде. Твердолюб уложил Бажану на самом верху, и отнятое у Серых Псов стало ей ложем и милодарами, а драгоценный наряд водительницы рода — уютным покрывалом. К корме берестяной лодочки привязали верёвку, и двое мужчин, взявшись за вёсла, повели оба судёнышка прочь от берега. Работали в удивительном согласии, так, словно давно знали друг друга. Потом Твердолюб высек живого огня, раздул факел, бросил его на хворост и перерезал верёвку.
— Куда теперь думаешь? — спросил Резоуст, когда далеко на реке распался погребальный костёр, и ветер понёс оторвавшийся дымный хвост, а всё, что не догорело, мать Светынь упокоила в своём лоне.
«Если бы Бажана сразу бросила грести, может, рана и не оказалась бы смертельной, — думал, в это время Твердолюб. — Но она продолжала меня спасать, и наконечник всё резал тело, пока не коснулся боевой жилы…»
Вслух он сказал:
— Пойду мстить Людоеду.
Странное дело, он не заплакал ни над Бажаной, ни теперь, когда всё принадлежавшее ей ушло из этого мира. Душевное онемение не покинуло его, даже когда рядом раздался смех Резоуста. Твёрд лишь медленно повернул голову.
— Какому Людоеду? — отсмеявшись, горестно спросил Резоуст. — Ты его вблизи-то видел ли?.. Так от него одного вся эта ватага, как цыплята от ястреба, разбежалась бы. Да какое от него, от самого распоследнего комеса. А ты с одним Косорылом как следует справиться не мог. Да сегваны тебя…
«Ну да, Косорыл. А ещё — рыжий Бобыня, плешивый Голсана, хитрый Лисутка, плюгавый Меньшак. И вожак Булыма. Кто из них пустил ту стрелу?..»
— А тебе что? — равнодушно спросил Твердолюб. Отвернулся и снова уставился вдаль, где уже и не разглядеть было плавающих обломков. Только дым, быстро таявший в синеве.
«Эх, дядька Родосвят… Что ж вы там её покрепче не заперли… Ну, погоревала бы, так не весь же век горевать…»
— Мне-то — ничего, — пожал плечами Резоуст. — Если охота погибнуть без толку и смысла, давай, иди. А лучше — прямо тут кидай петлю на шею, и тащиться далеко не придётся. Но если ты в самом деле хочешь отплатить за себя и за девчонку…
Твердолюб поднял глаза.
— Есть Владыка, который примет тебя, не спрашивая роду и племени, — продолжал Резоуст. — Он даст тебе кров, защиту и хлеб, а если будешь верен и честен — назовёт сыном и станет учить. Я поклонился ему полтора года назад…
«Полтора года, — подумал молодой венн. — Всего полтора года… И тогда я вправду смогу… Булыма, Голсана, Бобыня, Лисутка, Меньшак…»
— Почему ты… Бажане помог? — выговорил он, запнувшись на имени невесты.
— Потому, — ответил Резоуст, — что и без неё увёл бы тебя. Не в эту ночь, так на следующую.
Твёрд мрачно спросил:
— Зачем я тебе?
— А затем, — ответил Резоуст, — что не такой уж я добрый. Просто тем, кто первое обучение превзойдёт, наш отец Мавут даёт поручения. Мне вот повелел вернуться в родные места и привести к нему сироту. Да такого, чтобы Владыка себе копьё из него мог сделать. Чтобы постиг тот сирота свободу и силу и научился разить врага, как копьё: прямо и без сомнений, ни смерти, ни лютой боли не страшась…
«Полтора года, — тупо повторил про себя Твердолюб. — Как копьё…»
ВСТРЕЧА У КОСТРА
Ближе к вечеру даже чудовищное упрямство, свойственное его племени, перестало поддерживать Изверга на ногах. У него сами собой закрывались глаза, он еле шёл, тяжело повисая на плече Бусого, и тот очень обрадовался, когда между ветвями на берегу Ренны блеснул костёр. Кто мог сидеть возле такого костра? Ведь не десяток вооружённых Мавутичей?..
Нет, конечно. Там возился у огня всего один человек. И ни коня поблизости, ни меча. Лопата, кирка, деревянный лоток для промывки — перед веннами был один из тех, кто шатается сам собой по Змееву Следу, ищет золото, вывернутое из земли. Человек мирно помешивал деревянной ложкой в котелке, по берегу разносился умопомрачительный запах свежей ухи…
Бусый только тут осознал, до какой степени проголодался. Внутренности аж свело, в животе требовательно заурчало.
Сам он был готов ещё хоть целую седмицу бежать вперёд, не задерживаясь для того, чтобы добыть себе пищу, но Извергу столько было не выдержать. Тень всё же очень сильно зацепила его. Без огня, без тепла, без доброй человеческой еды до Засечного кряжа он попросту не дойдёт.
— Мир по дороге,[52] добрый человек, — сказал Бусый и вышел из-под деревьев, почти таща товарища на себе. Он не слишком надеялся, что золотоискатель его поймёт. Вряд ли здесь, на севере страны Нарлак, хорошо понимали веннскую речь. Хотя… по крайней мере до сольвеннских земель было не особенно далеко, а значит, мог и понять…
Сидевший у огня живо обернулся навстречу. Так себе парень, нескладный, длиннорукий, сутулый… Но почему-то Изверг, подняв слепнущие глаза, вгляделся против яркого света и так вздрогнул всем телом, что Бусый вмиг похолодел и понял: случилось самое жуткое. Их всё же настигли.
Он жадно вгляделся в шедшего к ним человека и спросил Изверга:
— Это Мавут?..
Он увидел Мавута, но не наяву. Мало ли какой облик мог принять столь могущественный человек?
В это время незнакомец заговорил:
— Ты, верно, ноги стёр, Шульгач! Еле ползаешь! Я уж заждался, едва встречать не пошёл…
Голос у него был скрипучий и какой-то… неживой, что ли. Трудно было представить, чтобы человек с таким голосом мог шутить, смеяться, петь песни… Бусому, у которого только что катился по лицу пот, почему-то враз стало холодно. Да так, что стукнули зубы. Холод был каким-то древним… могильным! Точно как тот, которым обозначает своё присутствие неупокоенная душа…
Бусый тихо повторил, ужасаясь:
— Это Мавут?..
Ему никто не ответил. Когда ветер-лесобой раскачивает красный бор и огромные деревья бьются одно о другое, кто же обратит внимание на малый грибочек под корнями у великанов.
Изверг хрипло спросил:
— Чего ты хочешь, Хизур?
«Не Мавут…» — понял Бусый и испытал некое разочарование. Думал, что встретил уже главный страх, а тот, оказывается, ещё впереди.
Названный Хизуром ответил не сразу… Глядя на них с Извергом, он хохотнул — коротко, но так, что Бусого вновь обдало изнутри вековым морозом и сделалось ясно: подобный человек мог хотеть лишь чего-то страшного. Запредельно страшного.
Бусый невозможным усилием заставил себя выдержать взгляд Хизура и даже улыбнуться прямо ему в лицо. Тот, кажется, не заметил.
— Неважно, Шульгач, чего хочу я, — проскрипел он неторопливо. — Важно, чего хочет отец Мавут. А он хочет, чтобы мальчишка был у него.
Бусый ощетинился:
— А не пойду!
И опять ответом было молчание. Хизур даже головы не повернул в его сторону, продолжал с усмешкой разглядывать Изверга. Что-то происходило между этими двоими, что-то такое, чего Бусый не понимал. Он хотел было кричать, мол, Мавут сулился не удерживать его силой и обещал, что Бусый сможет уйти, когда только захочет. «Вот я и захотел!»
Не закричал, конечно. Потому что от его хотения-нехотения ровным счётом ничего не зависело. А значит, не стоило и воздух зря сотрясать.
Изверг хрипло выговорил:
— Покуда я жив, мальчишка никуда не пойдёт.
Он как-то так произнёс эти слова, что Бусый на миг благодарно ощутил себя грибочком в корнях могучей сосны. Однако Хизур тут же объяснил, что здесь не было двух великих деревьев. Только одно.
Он небрежно ответил, позёвывая и потягиваясь:
— Коли так, недолго тебе жить осталось, Шульгач. Мне до рассвета через Змеево Седло успеть надо с мальцом. Так что если хочешь лёгкой смерти, режь себе горло скорей.
Даже Бусому, никогда раньше Хизура не видевшему и ничего не знавшему про него, захотелось скорее перерезать себе горло. Потому что за словами Хизура чувствовался сводящий с ума ужас, рядом с которым даже нечистая смерть от собственной руки казалась совсем простой и приятной.
Изверг медленно потащил левой рукой из ножен меч.
Бусый ахнул, но бывший венн лишь скосил на него глаза и чуть усмехнулся углом рта. Нет, кончать с собой он вовсе не собирался.
Он сказал:
— Беги, малыш. Я скоро тебя догоню.
«Ну да!!! — снова чуть не заорал Бусый. — Чтобы я, значит, подальше уйти успел! Пока он тебя!.. А потом снова за мной! Не пойду!!! Мы же Тени с тобой вместе… накостыляли! И Хизура этого… вместе…»
Хватанул ладонью пустое место на шее, где больше не висел украденный оберег, вспыхнул, закусил до крови губу…
— Этот ваш Мавут, — сказал он, обращаясь к костру, — ещё и воришка…
Кажется, Хизур в самый первый раз услышал его.
— Не болтай, — проскрипел голос, который мог бы принадлежать Каменной Осине. — То, чего пожелает Владыка, само приходит к нему, покидая своих ничтожных владельцев. Молись своим лесным Богам и смотри, как умрёт Шульгач. А потом ты пойдёшь к Владыке, ибо он решил, что ты можешь пригодиться ему…
Хизур шагнул вперёд, и хребет Бусого превратился в сосульку. Этот невзрачный мужичонка не собирался драться. Он собирался просто убить. Убить Изверга. Вот сейчас он подойдёт — как есть, безоружный, — и сделает всё, что захочет. И никто не помешает ему. И он знал это заранее.
И бывший венн тоже это знал… У него ещё как-то, непонятно как, хватало сил стоять прямо и, сжимая в руке меч, с вызовом направлять его Хизуру в лицо. Изверг глядел на своего врага открыто и яростно, но эта ярость была наверняка последней.
Хизур же смотрел на однорукого противника, как игривая и сытая молодая кошка на ещё живую, но беспомощную и обречённую мышь. Убивать — зачем торопиться, если можно поиграть? Если можно убивать медленно, каплю за каплей выпивая боль и отчаяние трепыхающейся жертвы, наслаждаясь своей властью над ней? Убивать, любуясь собственной силой, стремительной и упругой? Упиваясь красотой кровавой игры?..
«Камушек!.. — мысленно закричал Бусый. — Камушек, я не верю ему! Ты меня не покидал и не предавал, и я тебя не предам!»
Обращение к украденному оберегу неожиданно помогло. Бусый настолько весомо представил в ладони его прохладную тяжесть, таящуюся внутри несуетную силу и бездонную память, что почти почувствовал на своём лице лунный луч, побывавший в глубине камня и возвращённый ему. А может, это отозвалось само ночное светило, одинаково сиявшее и в земле Волков, и над берегом Ренны?..
Неожиданно успокоившись, Бусый собрал все силы, наконец-то сумел улыбнуться внутренней улыбкой и направил её свет и ласковое тепло в «средоточие» живота. Вот начал истаивать угнездившийся было там цепенящий холод, и Бусый представил суровое рыжебородое лицо Бога Грозы, пронзительный взгляд синих глаз.
Всё то, что видел когда-то возле Наковальни, у Горного Кузнеца…
«Господь мой, хозяин Громов и огненных Молний! — беззвучно взмолился Волчонок. — Не допусти, чтобы Хизур замучил Изверга! Дай силу остановить его! Не допусти, чтобы свершилась ещё одна неправда…»
Он крепко зажмурился, спасаясь от ухмылки Хизура, глумливо наблюдавшего за своими обречёнными жертвами. Если честно, он особо ни на что не надеялся, но…
…Неожиданно он услышал Ответ.
С ясного ночного неба ударил оглушительный гром, и что-то подсказало Бусому, что яростного раската никто, кроме него, не услышал. Потому что это был не грохот ледникового языка, обрушенного жарой, а именно Ответ. Черноту перед закрытыми глазами разорвала огненная вспышка, и в её свете Бусый явственно увидел… Книгу.
Ту самую, с резной деревянной обложкой.
Книгу держал на коленях подросток-венн из давно сгинувшего рода Серого Пса. Паренёк ничем не походил на Изверга, но Бусый его сразу узнал.
Что же подсказывал ему Бог Грозы?.. На какую спасительную мысль хотел натолкнуть?..
Хизур предвкушающе облизнулся и сделал ещё шаг навстречу однорукому воину. Пора было начинать. Непонятно, на что надеялся Шульгач, явно собираясь с ним драться, и драться всерьёз. Ну что ж, пусть попытается. Тем интересней получится игра…
ПОСЛЕДНИЙ УДАР
Они действительно давно знали друг друга. Вскоре после того, как Изверг поклонился Мавуту и назвал его отцом, тот привёз из похода обычного малыша-вельха. Ну, не совсем обычного. Мальчонка имел свойство плакать от боли, когда при нём били других. Чем привлёк этот странный дар внимание Владыки и почему он назвал маленького вельха Хизурри — по детёнышу ящерицы-хизура, коварной, хищной и невероятно прожорливой, — Изверг не особенно понял, да и никто, кажется, в то время не понимал. Деяния Владыки частенько оказывались за пределами разумения смертных, об их смысле даже не пытались гадать. Хотя смысл, несомненно, всякий раз был…
Очень скоро Хизурри взялся шпынять другой мальчишка, постарше. Сам придумал изводить безответного малыша или кто надоумил, подсказал по-отцовски?.. Юный палач то лупил его, то сталкивал в колючие кусты, то пробовал топить в той самой чаше, где много лет спустя отмывал болотную грязь Бусый. И однажды произошло то, что должно было произойти. Сквозь собственную боль Хизурри ощутил наслаждение, которое испытывал его мучитель. Ощутил как своё, и два чувства накрепко переплелись…
На другой день он убил врага. Тот растерялся, впервые встретив отпор, и Хизурри, свалив с ног, до смерти забил его палкой. Чужая боль в самый первый раз не отдалась ему страданием.
А очень скоро — стала необходимой, как хлеб…
Изверг явственно видел, как в теле Хизура билась, переливалась, играла нездешняя сила, и это бурление, незаметное внешнему глазу, всё нарастало. Зримые движения Хизура — завораживающие, обманчиво-медлительные, но при этом странно неуловимые, непредсказуемые — были всего лишь её дальними отголосками. Лёгкой рябью на водной поверхности, поднятой чудищем, проснувшимся в глубине…
Вот Хизур сделал ещё шаг и протянул руку, как бы собираясь взять меч Изверга. Прямо за лезвие. Дай, дескать, сюда, всё равно ведь не пригодится!.. Бывший венн прянул в сторону, коротко взмахнул мечом, стремясь отсечь протянутую руку… Не получилось. Меч со свистом рассёк пустоту, а Изверг полетел прочь, снесённый с ног страшным ударом.
Наземь он свалился уже без меча.
Каким образом оружие перекочевало в руки Хизуру, Бусый не успел ни понять, ни увидеть.
Мавутич повертел отобранный меч, презрительно хмыкнул — и без видимого усилия сломал его, точно прутик, и обломки улетели в непроглядную тьму, окружавшую костерок. Хизур вновь шагнул к поднявшемуся противнику, с ленивой небрежностью уклонился от удара, сам ударил в ответ.
Не торопясь ударил. Даже медлительно как-то. Но при этом не то что избежать удара — даже заметить его было не в человеческих силах.
Изверг поднимался на ноги всё труднее. Он уже не стремился ни победить, ни даже уцелеть в безнадёжной для него битве. Он знал, что погибнет. Но вот бы удалось перед смертью нанести всего один удар… Спасти мальчишку… Который, вместо того чтобы бежать, чего доброго, ещё и кинется на выручку…
Душу постепенно затопило отчаяние. Всё зря! Какое «перед смертью», когда Хизур уже его убивает? Люто, медленно, играючи. Уже сломано колено, левая рука висит мёртвой плетью, всё нутро, кажется, превратилось в сочащиеся кровью ошмётки… От боли черно в глазах. Бусый, Бусый, беги…
Бусый увидел, как по другую сторону костра встала высокая бледная женщина с белыми распущенными волосами. Вся тьма ночи сгустилась в беспросветной тени, клубившейся у её ног. Тень выпускала щупальца, тянулась то к одному поединщику, то к другому…
Бусый подобрал лопату, оскалился и со всего маху ударил Хизура по голове.
Хизур, даже не оборачиваясь, едва заметно пригнулся — ровно настолько, чтобы лезвие просвистело мимо, чиркнув по волосам. И ударил Бусого ногой в бок.
Даже не ударил — просто отбросил.
Так отбрасывают безобидного котёнка, вздумавшего выпустить коготки. Что там бить-то? Просто пусть в сторонке пока посидит…
Тем не менее Бусый отлетел далеко прочь и сжался в беспомощный комок, силясь хотя бы вздохнуть.
А вздохнуть было надо, потому как мальчишка вдруг понял, чего ради Бог Грозы показал ему Книгу.
Скрипя зубами и корчась, Волчонок медленно и с трудом вобрал в себя воздух.
— Книга…
Его голос прозвучал совсем слабо, но услышали все.
Оглянулась даже Незваная Гостья.
Но никто не понял, что силился подсказать Извергу Бусый.
— О какой такой книге речи ведёшь?
Это спросил Хизур. Недоумок, пытавшийся встать у него на пути, ничего более не мог противопоставить ему. А вот мальчишка, похоже, заговорил о чём-то таком, что могло быть полезно Владыке. Просто потому, что, оказавшись у края поражения и смерти, люди редко вспоминают о пустяках.
Оставив Изверга, который зачем-то силился снова подняться, Хизур склонился над Бусым:
— О какой книге, спрашиваю, говоришь?
Бусый вместо ответа стиснул в кулаке камень и попробовал замахнуться.
Хизур перехватил руку, сжал. Вот сейчас захрустят тонкие кости… Нет. Владыка должен получить мальчишку живым и непокалеченным, ибо тот ему интересен. Остальное может и подождать…
Изверг в это время пытался утвердиться на единственной ещё повиновавшейся ноге. Книга? Книга…
Астин Дволфир… Берестяные листы…
Родная деревня, ветер, родившийся над Светынью, запахи, голоса… Толстый тёплый щенок, вынутый из гнезда… Квашня с тестом, которую он несёт к хлебной печи… Топорик в руке, начерно вытёсывающий прялку для Росомашки… Золотой плетёный шнурок, снятый с шеи кузнецом Межамиром… Смешливый, ясноглазый Межамиров Щенок..
Не о таком, ох не о таком след думать в бою. Если на то уж пошло, в бою вообще думать не след…
Как же вышло, что, вновь повернувшись к Извергу, Хизур увидел перед собой совсем другого противника? В его глазах больше не было ни ярости, ни отчаяния, ни обрекающего осознания собственного бессилия.
Не было вообще ничего. Лишь чёрная пустота.
Та самая, что поглощает и бесследно хоронит любое движение, любую мысль…
Хизур вдруг почувствовал, что тонет в этом взгляде. Он встряхнулся, и наваждение тут же прошло. Осталось, правда, неясное беспокойство, какая-то неуверенность. Её можно было бы даже назвать страхом, если бы Хизур вообще был способен испытывать страх.
Тревожило то, что он необъяснимо перестал чувствовать биение жизни в своём противнике, мгновение назад бывшем просто беспомощной жертвой. Это значило, что Изверг уже не был вполне живым существом. И вовсе не раны были тому виной. Он даже не стоял сейчас на грани между Жизнью и Смертью. Он как бы шагнул через эту грань и сам стал воплощением Смерти. Готовым и способным причинить её Хизуру. Это было совершенно невозможно, но это было именно так
Хизур подошёл к Извергу и с прежней ленцой пнул в уцелевшую ногу. Та подломилась, бывший венн тяжело рухнул на камни… А Хизур пришёл наконец в себя, избавился от странного предчувствия гибели.
Какая гибель? От кого? От этого мешка с раздробленными костями, который, оставь его здесь, до воды-то не доползёт? Червяк, которого осталось ногой только расплющить, собирался убить — его, Хизура?!
У него даже вырвался разочарованный вздох. Пора было заканчивать игру. До перевала Змеево Седло путь неблизкий, измотанный мальчишка сам не дойдёт, его придётся тащить…
Распластанный на камнях Изверг видел наклонившегося над ним Хизура смутно, словно сквозь дымку времени. Гаснущее сознание шутило с ним шутки, и говор реки, прыгавшей по далёким перекатам, отдался в ушах гомоном ярмарки. Изверг в подробностях и красках увидел ту давнюю ярмарку, увидел стайку малышей, затеявших игру в ножички на пыльной дороге…
Увидел шальную тройку, с которой не справился крепко подвыпивший возчик…
И он, десятилетний, со всех ног бежал наперерез этой тройке, наперёд зная, что уже не поспеет на помощь, не вытолкнет глупых из-под копыт и колёс…
Но с обочины, раздвинув шарахнувшихся зевак, на дорогу спокойно шагнул кузнец Межамир. И как-то этак, всем телом, подвинулся навстречу коням, и движение завершилось выхлестом могучей десницы, ударившей в оглоблю…
Как бывает в беспамятном сне, бегущий мальчишка внезапно стал кузнецом, вместе с ним совершил движение и сокрушительный удар…
И снёс наземь, швырнул в сторону коней вместе с повозкой…
Тут Изверга накрыла окончательная чернота, и он не увидел, как Хизур судорожно распрямился… мгновение постоял, разводя в воздухе руками…
А потом замертво рухнул навзничь.
Его лицо было вмято внутрь так, словно угодило под молот.
ВОЛКИ
Сквозь шуршание дождя слуха Латгери достиг начавшийся в деревне переполох. Беготня, оживлённые разговоры, радостные крики мальчишек, ржание лошадей… Волчонок Летун, лежавший в углу, навострил уши и попытался вскочить, неловко упал, слабо взвизгнул. А потом быстро пополз, поскуливая, к двери.
Латгери обожгло завистью… Их обоих за малым не убил Змеёныш, но волчонок вовсю идёт на поправку и вот уже, гляди-ка! — скоро впрямь побежит. А он, Латгери, по-прежнему не способен даже двинуть пальцем. Его тело мертво. Лишь лютая, ни на миг не утихающая боль в шее — вот и всё, что осталось в нём живого. Угаснет эта боль, и вместе с ней угаснет надежда. А с нею — и жизнь…
Женщина с синими глазами, по обыкновению сидевшая у постели Латгери, подхватилась на ноги, два раза споткнулась на ровном полу, но всё-таки подбежала к волчонку. Перенесла обратно на подстилку, заворковала что-то ласковое, принялась гладить и успокаивать.
Эту женщину мальчишка в беспамятстве то и дело принимал за маму.
Летун повизгивал, тянулся мордочкой к лицу синеглазой, явно пытаясь что-то ей рассказать. Было очень похоже, что он тоже считал её… Ну, если не мамой, то родной, знакомой сызмальства тёткой — уж точно.
Дверь распахнулась, и в клеть, чуть не растянувшись на пороге, вместе с каплями дождя влетел задыхающийся от бега и радости восьмилетний мальчишка.
Тот самый, который, едва увидав, сразу назвал Латгери по имени. Назвал по-веннски, просто Крысёнышем, но ведь угадал же! Как только умудрился…
— Тётушка Синеока! Там дядя! Дядя Клочок! Дядя Клочок вернулся!
Латгери ещё плоховато разумел веннскую молвь, но сказанное мальчишкой не понять было трудно. Кто-то вернулся. Кто-то, очень дорогой для синеглазой женщины. Настолько дорогой, что она, разом забыв и про Латгери, и даже про сородича-волчонка, без оглядки бросилась из клети.
Мальчишка вылетел следом за ней, только дверь хлопнула. На Латгери он даже и не взглянул. Кто он такой, Латгери, или, как его Волки прозвали, — Беляй, чтобы лишний раз на него смотреть!
«Ну и не надо мне, чтобы на меня смотрели…»
Латгери и волчонок остались в клети один на один. И Мавутич понял, что судьба подкидывала ему спасительную возможность. Наверняка — последнюю. Не сумеешь воспользоваться — другого раза не будет…
Страшным усилием Латгери задушил нестерпимое желание приступить к делу немедленно. Вместо этого он заставил себя очень тихо и спокойно опустить веки. Так, будто его, по обыкновению, сморила сонливость. Волчонок ничего не должен заметить и заподозрить раньше времени. Следовало должным образом подготовить удар. Чтобы нанести его неожиданно и в полную силу.
Второго раза не будет…
Лёжа с закрытыми глазами, не ощущая ни рук, ни ног, одну лишь боль в сломанной шее, Латгери неспешно воображал себя здоровым. Да не просто здоровым, а исполненным весёлой злой силы, рвущейся в бой. Дождавшись, чтобы боль в шее сменилась зудящей жаждой движения, мальчишка открыл глаза.
Не наяву — мысленно. То, что он делал, называлось Ледяным Зеркалом. Если удастся увидеть в нём своего двойника и напитать его силой, двойник сможет выполнить то, на что вещественное тело стало неспособным.
Латгери удалось.
Теперь надо было дать Отражению часть своей силы. Поделиться ложкой закваски, чтобы взошла и полезла через край пузырящаяся опара. Только надо суметь вовремя остановиться. Не слишком рано, не слишком поздно. Чтобы двойник оказался способен ударить. Но и у самого должны остаться силы, чтобы им управлять…
И Латгери принялся осторожно напитывать Отражение силой. Зеркало недаром звалось Ледяным: Мавутич сразу замёрз, только холод шёл не снаружи. Он зарождался в самых костях и распространялся по телу. И не только по телу. Застывала сама жизнь, внутреннее пламя слабело и было готово исчезнуть совсем. Лишь слабенькие язычки вырывались и гасли в такт ударам сердца. Да и те всё редели… редели…
Пора было останавливаться. Умирать, без толку исчерпав свою плотскую жизнь, Латгери вовсе не собирался.
Он мысленно отступил от Ледяного Зеркала и потянул за собой Отражение. А потом взглядом послал его в угол клети, где лежал обеспокоенный, но ещё ничего не понявший Летун.
Отражение вытянулось, утрачивая сходство с человеком и переплавляясь в призрачное копьё, несущее холод и смерть. Бот оно взвилось, обожгло морозным свечением — и пригвоздило волчонка. Вошло в его тело, вспыхнуло ослепительной чернотой и исчезло.
Владыка Мавут мог бы гордиться учеником. Волчонок ещё двигался и дышал, но был, по сути, убит. Его жизнь была подобна жизни дерева, срубленного в лесу. Ствол, ветви и листья проживут перед окончательной смертью ещё какое-то время, но их соками и свежей зеленью будет распоряжаться человек с топором.
Зверёныш глядел затравленно и покорно, плачущими, умоляющими глазами. Он рад был бы закричать, заскулить, но не мог. Мог только смотреть на страшного чужака, который, не вставая с лежанки, зачем-то убил его. Да ещё и не позволил сразу уйти к маме, заставил медленно и мучительно истекать каплями жизни.
Так плохо ему не было даже под упавшим с неба бревном…
Латгери едва сдерживал нетерпеливое ликование. «Ближе! — властным взглядом приказал он распластавшемуся на берёсте волчонку. — Подползи ближе!»
Совсем близко, вплотную к лежанке. Чтобы можно было пить его жизнь, не проливая при этом ни капли…
Волчонок болезненно выгнулся, приподнялся на передних лапках, и правая тут же подогнулась, отказываясь служить. Летун упал набок, беспомощно разевая пасть, а Латгери ощутил, как в правую руку, щекотно пробежав от плеча к пальцам, толкнулась горячая волна. Он попробовал сжать руку в кулак, и… пальцы едва заметно, но всё-таки шевельнулись!
Только бы никто не вошёл!
Только бы никто не помешал ему!
Он почти победил…
Удача Владыки Мавута была на его стороне. Латгери уже ощущал, что сумел выпить из крохотного комочка шерсти сил больше, чем из могучего Зуррата. Волчонок был мал, но это был маленький волк в деревне Волков.
Люди-побратимы, сами о том не ведая, отдавали лесному малышу свои силы, прямиком питая через него Латгери.
Только бы никто не помешал…
Дурные, боязливые мысли имеют обыкновение притягивать беду. То, чего очень уж боишься, часто сбывается. Дверь с треском распахнулась и едва не слетела с петель, грохнув о стену. Внутрь влетел молодой мужчина, которого Латгери ни разу ещё не видал.
«Ну вот и всё. Не успел…»
Латгери повернул голову в сторону двери. Это получилось легко. Ещё утром он несказанно обрадовался бы, сумев сотворить подобное чудо, но сейчас это было уже неважно. Мальчишка с весёлой ненавистью улыбнулся врагу в лицо. Ему нечего бояться или стыдиться. Он хорошо заканчивает жизнь. Как настоящий Латгар — сражаясь до последнего дыхания, не отводя взгляда от приближающейся смерти! Владыка будет гордиться…
Но вбежавший лишь мельком глянул на Латгери. Вместо этого он подхватил на руки умирающего волчонка, прижал к груди, задышал ему в мордочку… Он явно пытался спасти малыша, глупец! Это самому Мавуту было бы едва ли под силу. Да Владыка нипочём и не взялся бы за такое. Растрачивать непомерную уйму собственной жизни… ради чего? Чтобы спасти никчёмного зверёныша?..
А парень уже вынес волчонка во двор, где их сразу обступили другие Волки. Латгери посмотрел на них и с удивлением понял, что эти люди не станут себя жалеть.
«А ведь, того гляди, и в самом деле вытащат… Не дадут уйти…»
Латгери продолжал горделиво и презрительно улыбаться. Он, бездвижный калека, нанёс врагам Мавута больше ущерба, чем удалось сожранному Змеёнышем отряду!
Сейчас Волки убьют его.
А если всё-таки нет, Владыка обязательно выручит своего приёмного сына. Владыка никого не забывает и не бросает. И может статься, Латгери ещё сумеет ему послужить…
В том, что очень глубоко в душе болезненно дрожала давно умолкшая струнка, он не собирался сознаваться даже себе самому…
ТВЕРДОЛЮБ
Бусый опять тащил Изверга на волокуше. Тащить было тяжело, к горлу подступала тошнота, а ноги то и дело подворачивались на камнях. Он сделал бы плот, но Ренна то делилась на узкие струи, то вовсе принималась сочиться сквозь галечник. Далеко по такой реке не уплывёшь.
Изверг совсем не окликал его и не пытался встать с волокуши. Время от времени Бусый останавливался и, плача от злой беспомощности, принимался его тормошить. Добивался хотя бы движения ресниц или слабого стона — и снова впрягался, и пёр дальше непосильную тяжесть, скрипя зубами, сплёвывая и размазывая по лицу кровь, откуда-то появлявшуюся во рту. Он знал, что бывший венн задумал совсем уже нехорошее. Умереть побыстрее — в надежде, что, избавившись от обузы, легконогий мальчишка сможет уйти. Ну да, у Мавута отменные следопыты, но поди-ка поймай венна в лесу!
Когда Бусый понял, что Изверг твёрдо вознамерился не дожить до рассвета, случилась эта встреча.
Наверное, он вконец отупел от усталости, потому что не углядеть в десятке шагов впереди двоих людей и коня мог только слепой. Бусый вроде внимательно огляделся и хорошенько прислушался, убеждаясь, что никого рядом не было, и в очередной раз склонился над Извергом. А когда выпрямился…
— Бусый!
Он ахнул, крутанулся и с размаху сел наземь.
Таемлу!
Зеленоглазая девчонка бросилась его обнимать, и он тихо вскрикнул от боли. Всё же не просто оттолкнул его Хизур, рёбрам, похоже, крепко досталось.
— Тебе плохо? — захлопотала Таемлу. — Да на тебе лица нет. Сейчас, потерпи чуть-чуть. Отец, помоги…
— Изверг, — прохрипел Бусый, тыча пальцем в сторону волокуши. — Ему сначала… Он… он…
Всё же Милосердная Кан неисповедимо благоволила маленькой недоучившейся жрице, сбежавшей из храма Идущих-за-Луной. Глядя на Таемлу, Бусый даже задумался, а не был ли тот её побег частью всевышнего замысла Богини. Во всяком случае, руки девчонки, сновавшие по телу Изверга, совершенно точно светились в потёмках, изливая на больную плоть щедрое лунное золото.
Что до самого бывшего венна, он всё глубже уплывал в дурнотное забытьё, из которого на самом деле не полагается возвращаться. Но в какой-то миг ему показалось, будто к ложу из колючего душистого лапника, на котором его упокоили, подошёл большой серый Пёс. Изверг явственно обонял его запах, видел драгоценные бисеринки росы, переливавшиеся на щетинистой гриве. Пёс жалеючи обнюхал потомка, заглянул ему в глаза… А после — тёплым языком принялся зализывать его раны…
Когда Изверг задышал спокойно и ровно и сделалось ясно, что смерть от него отступила, Бусый прислушался к себе и понял: какие-то искры, блёстки священного золота перепали и ему. По крайней мере кровь из носа больше не шла.
Он спросил:
— Таемлу… Почему я тебя не заметил?
Она повела плечиком и сделала это так, что ему померещились кругом цветущие ромашки.
— Ты ждал опасности, — сказала она. — Кого недоброго ты за версту бы услышал.
— Твоя Богиня держит тебя на правом колене, — с чувством проговорил Бусый. — И по голове гладит…
Даже в свете костра было видно, как залилась краской Таемлу.
— Да ну тебя, Красивый Бельчонок… то есть Волчонок… Красный Волчонок? Богиня никому не откажет, кто просит о помощи в благом деле…
— Так почему же тогда… эх…
— Всюду горе и неправда, ты об этом?
Бусый хмуро кивнул.
— Светлые Боги щедро изливают Свою доброту в этот мир, — ответила Таемлу. — Беда в том, что не все люди умеют принять Божественный дар. А многие попросту не хотят, потому что свернули на путь вражды и корысти…
— Добрых людей всё равно больше, — сказал Бусый убеждённо.
Отец Таемлу, сидевший по ту сторону костра, сперва усмехнулся: дети!.. — но потом задумался и постепенно спрятал усмешку. Дочь немало рассказывала Меалону про своего приятеля-венна. «Вот ведь малец. От горшка два вершка, а чего только не насмотрелся… И всё равно верит… Вот это, наверное, и есть настоящая сила. То золото, которого никто не отнимет и не украдёт…»
— Верно, добрых людей больше, — охотно согласилась Таемлу, только голос звенел печалью. — Если бы они ещё и учились направлять свои помыслы к Небесам, принимая Их милосердную Силу… Моя наставница говорила так: это радостный путь, но и нелёгкий. Или наоборот: нелёгкий, но радостный. Ведь то, что легко обретается, не дарует нам счастья. Горный Кузнец это знает. И славная Мать Кендарат. И ещё многие, многие…
— И ты, — сказал Бусый.
— Да ты что! Я же только… да и то…
— Не спорь, — ответил он важно. — Мне со стороны видней.
Они шли на север. Таемлу с Бусым рыскали впереди, разведывая дорогу, Меалон вёл в поводу Гзорлика. Изверг лежал на широкой спине коня. Тот, умница, чуял на себе раненого и ступал мягко и осторожно.
Каждый шаг Гзорлика всё равно отдавался болью, но Извергу было хорошо. Небо плыло над ним, словно в детстве, когда его ждала мама, когда его жизнь согревали родичи Псы. Когда ему было о ком позаботиться, когда он сам был кому-то необходим. Именно он, а вовсе не его умение убивать. Как давно это было…
Неужели спустя столько лет всё это возвращалось к нему? Неужели ещё могло что-то вернуться?.. Изверг смотрел на облака и боялся спугнуть ускользающее тепло. Боль? А что боль… Он давно научился не обращать на неё внимания…
Как-то перед ночёвкой, когда его в шесть рук спустили с подогнувшего колени коня, Изверг увидел над собой лицо Бусого.
— Послушай… — сказал ему мальчишка. — Шульгач — это же не твоё имя. Оно мне не нравится. Можно, я буду звать тебя как-то иначе?
Бывший венн долго не отвечал… Ему вспоминался ласковый язык Прародителя и улыбка, вроде бы промелькнувшая в его глазах, почему-то серо-зелёных и казавшихся очень знакомыми. Неужели это был знак? Знак прощения и любви, который он даже не надеялся когда-нибудь получить?..
— Если хочешь, — выговорил он медленно, — зови меня Твердолюбом. Так меня нарекла когда-то родня. — Подумал и добавил: — Или Твердолобом… Так меня тоже называли когда-то…
Сколько лет он даже мысленно не произносил своего имени? И не слышал его? Диво — ещё не совсем позабыл, как оно выговаривалось…
— Я, — сказал Бусый, — стану звать тебя Твердолюбом.
А про себя подумал: «Но и „Твердолоб" тебе очень даже подходит…»
Имя в устах Бусого прозвучало вполне буднично, но в груди бывшего венна что-то лопнуло и разлилось горячей волной. Было нестерпимо больно… и в то же время легко и радостно. Он возвращался на родину. К соплеменникам. К себе самому…
Просто потому, что иначе быть не могло…
КРУГ
Обнаружив заваленного камнями Хизура, Мавут не сразу поверил своим глазам.
Калека Шульгач вдвоём с сопляком одолели Хизура, его Хизура! Его гордость и надежду, его самое острое копьё, которое он не сменял бы на целое войско, обученное и снаряжённое! Другого такого нет. И очень может быть, никогда уже не найдётся. Разве Бусый, если должным образом его направлять, мог со временем стать равным Хизуру. Или Латгери… но что теперь о нём вспоминать. Этому уже не сделаться настоящим Латгером. Он — падаль, а падаль никому не нужна.
Не тратя времени даром, Мавут устремился по следу волокуши. Широкому, хорошо различимому следу… который, впрочем, вскорости оборвался.
Охотой на людей Мавут занимался всю свою жизнь. И что означала брошенная за ненадобностью окровавленная волокуша — разобрался без труда.
Вот когда его ярость едва не вышла из берегов.
Девчонка! Беглая жрица Кан! Ну не сама же она, действительно, сообразила приехать сюда. Не-ет, ей подсказали, направили, нашептали в ушко. Кто? Ясно кто. Выживший из ума дед, вообразивший себя рукой и соратником Светлых Богов…
У Мавута даже руки задрожали, до того ясно он представил себе, как скручивает костлявую старческую шею… Сухую, тощую и бессильную… Ну ничего. Всему своё время. Дойдёт черёд и до старика…
О-о, будь проклят день, когда, наблюдая за Резоустом, вышедшим на лёд забавляться кулачной потехой, он заметил выкормыша Белок и пожелал воспитать из него себе слугу, второго Хизура… Сколько усилий, и что взамен? Теперь у него ни Хизура, ни Латгери, ни Изверга-Шульгача… Откуда столько неудач, в чём он ошибся?
Следы вели дальше, но быстрого преследования не получалось. Даже Владыке было нелегко настичь в лесу двоих лесных дикарей. Которых ещё и вёл недобитый копальщик золота, до последнего прутика знавший этот искорёженный Змеем клочок земли. И девчонка, повсюду наоставлявшая оградительных и отводящих глаза заклинаний…
Конечно, всё их могущество поместилось бы у Владыки под ногтем, но время… драгоценное время…
Уже к вечеру Мавут понял, что беглецы упорно стремились на север. Не иначе, шли к Засечному кряжу, под защиту вилл. Мавут ещё не забыл, что сотворили с его храбрецами два странных симурана. ответившие мальчишке. Что же будет, если Бусый подберётся к гнездовьям на расстояние зова и выручать его примчится целый народ? Виллы называли полукровку своим сыном…
Схватка с Крылатыми отнюдь не прельщала Владыку.
И нового Змеёныша на этих тучегонителей не натравишь…
Прыгнув в седло, Мавут пронзительно гикнул и погнал коня прочь со следа — туда, где дыхание ледников прореживало лес и ласкало горные пустоши. Он знал одно место на пути к Засечному кряжу, которое беглецы навряд ли минуют. Оно посулит им защиту, но на деле станет ловушкой.
Мавут даже знал, когда именно они там остановятся.
На третью ночь…
— Обычный круг Хизура может и не удержать, — покачала головой Таемлу. — Тебя послушать, он и при жизни наполовину мёртв был. Теперь его сила, наверное, только умножится. И он просто проломит любой охранительный круг, одолеет заклятие… — Все смотрели на неё, и она добавила, покраснев: — Ну, то есть я постараюсь…
Меалон молча скрёб бороду. Потом неожиданно улыбнулся, и улыбка удивительным образом изменила суровое лицо, стёрла угрюмые морщины. Золотоискатель-одиночка, не боявшийся ни Змея, ни шаек грабителей, был вовсе не из тех, кто при виде напасти кудахчет от бесплодного страха. Пришла беда — быстро соображай, как с ней управиться. Иначе и делать нечего на Следу.
— Есть тут неподалеку одно… место, — проговорил он затем. — Вы про круг, я и вспомнил… Ну, там тоже что-то вроде Круга. Из двенадцати во-от таких белых глыб… Кто их там уложил; мы не знаем, но место хорошее. Люди туда молиться приходят. Разжигают посередине костёр, всю ночь сидят… Просят помощи, удачи, большого золота, богатства…
— И что, многие разбогатели?
В голосе Твердолюба прозвучала издёвка. Перестав когда-то молиться веннским Богам, больше он с тех пор ничего у Небес не просил. И уж всего менее — земного богатства.
— Ты бы не насмехался, — укорила его Таемлу.
«Твердолоб…» — добавил про себя Бусый.
— Погоди, дочка, — сказал Меалон. — О том, что Круг кому-то про клад во сне нашептал, россказней полным-полно, только я не очень им верю. Знаю ведь почти всех, кто жёлтый песочек на Следу промышляет. И многих, кто сгинул, и горсточку тех, кому повезло… Змеево золото — оно же недоброе, кровью политое, какое до него дело Тем-Кто-Хранят-Круг… А вот от злобного мертвеца уберечь…
Выслушав Меалона, совещались недолго. Решено было провести роковую ночь в Кругу. Поможет или нет — а вреда точно не будет…
Завидев впереди эту горку, Бусый ощутил, как сердце в груди трепыхнулось от светлого восторга.
Громадные, с избу, глыбы снежно-белого мрамора сияли прозрачной чистотой и светом. Они казались невесомыми облаками, что плыли себе в небесах и решили присесть отдохнуть, побеседовать о чём-то на плоской макушке пологой тёмно-серой горы…
— Здесь, в лесах, есть дороги без конца и начала, — сказал Меалон. — Никто не знает, кто их проложил и откуда привезли те чёрные плиты, которыми они вымощены. А здесь — видите? Кругом-то на несколько дней пути всё бурые да серые скалы…
Когда друзья поднялись на самый верх, у Бусого захватило дух от царившей здесь торжественной и светлой печали. Какие пушистые беззаботные облачка? Каменные исполины были воинами, что вышли на последний бой в белых одеждах жениховства и смерти. Задравшему голову Бусому даже вспомнилась повесть Ульгеша об истуканах, созданных защитить город в Ржавых болотах далёкой Мономатаны. Вспомнился — и был немедля отвергнут. Какие истуканы с их лицами, искажёнными злобой заведомого поражения? Белые воины стояли спокойные и могучие, непреклонно вросшие в землю, которую они поклялись отстоять от любого врага. С какой бы из двенадцати сторон света тот ни напал…
Хизур? Да тьфу на него, на Хизура. Мраморные богатыри высматривали вдали неприятеля себе под стать. Им — что один нечистый мертвец, что целая сотня. Хизур небось и близко не сунется. А уж чтобы вовнутрь…
Тут Бусый невольно подумал про двенадцать саккаремских Стражей, о которых рассказывал дедушка Соболь. И про одинокого Зверя, каменной грудью заслонявшего землю Волков.
Ох, Журавлиные Мхи… Бучило… Ульгеш… Украденный камень с его тайной берестяной книги, то ли неворотимо сгоревшей, то ли кем-то выхваченной из костра…
Чуть-чуть заробев, Бусый прошёл между белоснежными скалами внутрь Круга, и тяжкие мысли рассеялись, как туман под утренним солнцем. Место и вправду оказалось удивительно Светлое. Такое, что никакая чернота здесь просто не имела права существовать.
В первый миг Бусому захотелось остаться тут навсегда.
Потом он как следует прислушался к себе и понял, что смертному человеку нельзя было надолго задерживаться в Кругу.
— Я слышал, такие места и в других краях есть, — невольно понизив голос, проговорил Твердолюб. — Кто-то их считает святилищами давно ушедших народов, а кто-то…
Он не договорил, потому что никакие слова не могли ни выразить, ни объяснить того, что все они чувствовали.
Обойдя вершину посолонь, дабы оказать уважение Хозяевам этого Места, Бусый осторожно и медленно, с замиранием сердца приблизился к его середине.
Вопреки ожиданиям, ничего особенного там не нашлось. Ни древнего жертвенника, ни родника с целебной водой. Лишь насквозь выжженный серозём, да кучи золы, да раскиданные головешки.
Повинуясь наитию, Бусый закрыл глаза и… вдруг поплыл в незримом потоке, соединявшем Небо и Землю. Поток был Божественно могучим, но при этом — необъяснимо хрупким и беззащитным. «Да он же… сам точно Книга, — посетило Бусого внезапное озарение. — Ульгеш говорил… Книга хранит в себе тайны, которые двигают звёздами… А её саму кто угодно может бросить в огонь…»
Бусый почтительно поклонился и, стараясь даже не дышать, чтобы зря не тревожить Силу, попятился прочь.
«Ну да, так на то здесь каменные воины и стоят…»
Удивительным образом никто, кроме него самого, не заметил присутствия величественного потока. Разве только Таемлу, да и она — не вполне ясно.
А для Меалона середина Круга была лишь местом для разжигания священных костров.
— Дров надо запасти побольше, — деловито распоряжался отец Таемлу. — У нас тут говорят — чем выше пламя костра, тем выше восходит молитва. Тогда её смогут услышать Те-Кто-Хранят-Круг…
МЕЧ И КАМЕНЬ
Когда уходили в огненное небытие Самоцветные горы, докатившаяся судорога земли откроила изрядный ломоть горного склона и сбросила его в ущелье, перегородила шуструю речушку, выбегавшую из-под ледника. Так среди гор возникло озеро. Неописуемой красоты, глубокое и чистое как слеза.
Мавут долго плавал и нырял в этом озере. Очень долго. До тех пор, пока не ощутил, что тело насквозь пропиталось ледяными токами, а клокотавшая в душе багровая лава переплавилась в такую же ледяную решимость. Нырнув последний раз на самое дно — так, что от глубины заломило в ушах, — Владыка задержал дыхание. Когда удушье стало совсем уж непереносимым, он промедлил ещё. И только после этого позволил себе медленно подняться к поверхности.
Отдышался и наконец вышел на берег.
Вокруг быстро сгущались сумерки. Мавут жадно следил за тем, как горные кручи затопляла неотвратимая тьма.
Третья ночь…
Тот, кого Владыка обрекал смерти, ещё ни разу не оставался в живых. Не уходил от погони.
Голое мокрое тело овевал ветер, катившийся с морозных вершин. Мавут знал, что может лечь в снег, и тот покорно протает под ним до самой земли. Кое о чём вспомнив, он небрежным движением руки подозвал к себе слугу. Парень выслушал короткий приказ, умчался бегом и скоро с поклоном протянул Владыке меч. Очень старый меч родом из Саккарема.
Взяв за рукоять, Мавут швырком сбросил с него ножны — узорчатые, прекрасной работы, но такие ничтожные и никчёмные по сравнению с великолепным клинком. Взмахнул раз, другой… и принялся весело и яростно добавлять свистящего серебра в красноватый от вечернего солнца воздух. Хорошо! До чего хорошо!.. Кровавый багрянец — и благородная сталь. Игра этих красок никогда ему не надоест. Она пьянит восторгом душу и тело. Он ещё не раз потешит себя, погружая стальную кисть в красное, смело рисуя безумную красоту, извлекая и щедро расплёскивая все цвета отчаяния и боли… Как же сладостно их вкушать на великом пиршестве смерти…
Мавутичи попросту открывали рты, глядя на голого Владыку, танцующего с древним мечом.
Сколько они помнили, Мавут не скрывал своего презрения к мечу и к искусству владения им. Называл меч мясницким ножом, отрастившим себе непомерно длинный клинок. Оружием труса, привычного ловко резать спутанный скот. И не более.
Даже когда ему принесли меч, выкопанный из древней саккаремской могилы и купленный, наверное, за десять телег золота, Владыка лишь плюнул. Велел сразу спрятать в походный сундук и до этого дня ни разу в руки не брал. Брезговал… Что же изменилось сегодня? Почему он не только оставил свою давнюю нелюбовь, но и явил столь непостижимо высокое, вдохновенное искусство меча?
Ибо нынешний танец поистине затмевал даже знаменитый вихрь смерти, в который в его руках превращалось копьё…
«Спасибо тебе, недоумок Шульгач! — думал в это время Мавут. — Спасибо тебе, сопляк-полукровка! И тебе, Хизур, — за то, что позволил себя убить. Спасибо за это малое поражение, оно уберегло меня и возвысило! Если так было надо для того, чтобы я исполнился ярости и бесстрашия и наконец укротил этот меч, — мне поистине не о чем сожалеть…»
Древний — полтысячи лет — саккаремский клинок до сих пор не только утаивал от Владыки свою грозную силу, он был открыто враждебен. Он не желал покоряться, и чем при других обстоятельствах мог завершиться их поединок, Мавуту не хотелось даже гадать. Страх — главный враг воина. Он разрушает тело и душу. Стоит хоть чуть поддаться ему, и всё, он источит, сведёт на нет какую угодно силу, какое угодно умение.
Сегодня он превозмог этот страх.
И всё получилось.
Вопреки ожиданию непокорный меч удалось укротить почти сразу, и Мавут, чертя в воздухе стремительные узоры, упивался своим могуществом и искусством, а главное — волей, которой никто и ничто в этом мире не могло долго противиться.
Оставалась лишь тревога, а будет ли меч столь же послушен в настоящем бою? Прольёт ли кровь врагов, на которых Мавут его обратит?
Сомнение требовалось развеять. Притом немедленно, покуда оно ещё не подточило его власть над мечом.
Не выпуская клинка из руки и даже не вкладывая в ножны, Мавут подошёл наконец к своей одежде, оставленной на камнях, и быстро оделся. Тот не воин, кого можно застигнуть врасплох. Надо уметь делать с оружием наготове всё, что необходимо. Даже одеваться и раздеваться, это тоже часть воинского мастерства. Не самая зрелищная и заметная, но без неё нельзя обойтись. В воинском деле не бывает второстепенного. Если нужна длинная прочная цепь, не допускай ржавчины ни на едином звене.
Уже завязывая на себе пояс с подвесным кошелём, Мавут ощутил вдруг, как меч… чуть заметно шелохнулся в руке. Сам собой! И тут же замер, словно ничего и не произошло. Не будь Мавут вправду великий мастер, не умей он чувствовать малейшую странность в поведении оружия, он бы попросту ничего не заметил.
Но он заметил, а замеченному требовалось найти объяснение. Мавут принялся медленно поворачивать меч в руке, вести его по воздуху, очень чутко вслушиваясь в настроение клинка, в его устремления…
И вскоре уже вытаскивал, ликуя, из кошеля лежавший там камень. Вот чьё присутствие ощутил, вот на что откликнулся, вот к чему потянулся меч!.. Тот самый оберег, наполовину случайно сдёрнутый с шеи мальчишки! Мавут думал пробиться в его глубину, а камень сам оказался ключом. К чему-то большему.
К чему-то, уже позволявшему ощутить дыхание заветного всемогущества…
Между прочим, камень точно вошёл в пустое гнездо, имевшееся на рукояти. Закрепив его там, Мавут сразу понял, что не ошибся. Меч обрёл завершённость. Стоило просто поднять его над головой, и к нему отовсюду потянулись ниточки, струны, ручейки силы. И что это была за сила! Неисчерпаемая, свободная, восходящая из самых корней мироздания…
Ладонь начало жечь.
Торопливо, понимая, что если не решится прямо сейчас, то не решится уже никогда, Мавут взмахнул мечом и отдал этот взмах первой попавшейся цели.
Мысленно рассёк им каменную плотину, подпиравшую озеро…
В нагромождении валунов возник тонкий косой разрез, раздался низкий стон, от которого стало щекотно подошвам ног, а телу захотелось сжаться в комочек и лёгкой птицей упорхнуть от надвигавшегося ужаса. Почти все Мавутичи попадали наземь. Лишь немногие, самые приближенные к Владыке, сумели преодолеть себя и не заорать от страха, не рухнуть на колени, не зажмурить глаза. И они увидели, как подрубленная стена, застонав от непосильного напряжения, тяжеловесно выгнулась наружу… А потом лопнула и растворилась, точно высаженные ворота, и выпустила на волю ревущий бурый поток.
Вода, грязь, камни, обломки скал — жуткое месиво устремилось вниз по долине, прыгая, захлёстывая, сметая зелень и цветы, пригревшиеся по речным берегам.
Пятеро Мавутичей, вместе с лошадьми оказавшиеся на пути чудовищного прорыва, просто перестали быть, их размолотые останки унесло, стёрло в пыль и рассеяло, вбило в серую землю.
Мавут ликовал. Ликовал и не мог поверить удаче. Даже потеря Хизура для него померкла и уже казалась не стоившей внимания мелочью. На что ему теперь Хизур!..
…Хотя нет.
Ещё жили посмевшие оспорить волю Владыки.
А посему — приди, Хизур! Сегодня — твоя ночь! Послужи ещё раз отцу и властелину, который создал тебя.
Покажи ему дорогу…
СИРОТА
— А я так мыслю — назад в лес отнести! Туда, отколь взяли! Прямо сейчас! Покуда ещё бед каких не наделал поганец!
Латгери лежит неподвижно, равнодушно прикрыв глаза длинными ресницами. Прямо на земле, куда его положили, вытащив из клети. Собравшиеся рядом Волки решают, как с ним поступить. Кажется, они думают, что Беляй (так они его называют) совсем не разумеет веннскую молвь. Ну да, он ведь ни разу не показал, что понял хоть слово. Ещё вчера он в самом деле скверно разумел их язык, но с тех пор кое-что изменилось. Через умирающего волчонка к нему протекла сила рода Волков, и он сумел её выпить. Он теперь мог шевелить руками, поворачивать голову. Разумеется, Волкам было незачем про это знать. Ещё чего! Пусть их думают, что он, как и раньше, беспомощен. Может, удастся ещё раз нанести им удар…
Вместе с Волчьей силой в Латгери вошло ещё что-то. Он даже не сразу подобрал слово. Что-то вроде родовой памяти, которая живёт в крови у каждого Волка. С нею окрепло и знание веннской молви, отныне он разумел её почти как родную, ягунскую.
Лежать на тёплом солнышке неподвижно, с отрешённым лицом — как это легко… Волки честят его на чём миры держатся, Латгери слушает и гордится собой. Ибо есть чем гордиться! Враги, сильные воины, целая деревня, — боятся его! Не на шутку боятся!
Он причинил им зло. Навредил больше, чем получилось у самого Владыки Мавута…
— Унесть мальчонку калечного в лес на смертные муки? Муравьям и воронам оставить?.. Вы что, Волки? Уж лучше просто сразу убить! Ох! Да что ж ты делаешь-то!
Волчонок Летун, лесной зверёныш, через которого прошло слишком много силы собратьев-людей, не выдержал этого потока. Нет, он не умер, хотя следовало бы. Люди зря оживили его, зря вытащили из-за Черты. На его теле неестественно быстро зажили раны, теперь он мог даже бегать, но вот рассудок… Ласковый, доверчивый, благодарный волчий малыш превратился в трусливого и злобного выродка. Загадил в клети весь пол, а стоило его выпустить наружу, тут же передушил цыплят во дворе. Когда Летуна застали за этим занятием — отчаянно завизжал и принялся кусать протянутые к нему руки…
Сейчас он тоже ни с того ни с сего взял да цапнул за ногу Волка, предложившего вынести Мавутича в лес. Укусил и зажал хвост под брюхо, начал метаться, уворачиваясь, огрызаясь… Вырвался наконец и стремглав умчался куда-то, оставляя за собой жидкий вонючий след.
— Что изделал над зверем! Говорю, долой его из деревни!
Участь Летуна явно разъярила Волков больше, чем вред, доставшийся им самим. И предложение убить не встретило такого уж всеобщего отпора. Враг есть враг! И останется врагом, пока не лишишь его жизни. Даже если он мал и беспомощен…
Латгери с трудом удержал готовую родиться улыбку. Страха не было. За свою недолгую жизнь он уже не раз умирал. И знал, что это далеко не самое страшное, что с человеком может случиться. Если Волки убьют его, это будет хорошая смерть! Отец Мавут будет гордиться!
Волки продолжали яростно спорить, мальчишка вслушался и понял: гораздо больше было всё-таки тех, кто считал, что его следовало предать справедливости леса, а самим добивать евшего с ними хлеб было грешно.
Что ж, тем лучше! Лес не прикончил его, когда он был совсем плох, а уж нынче, когда по спине и рукам разбегается живое тепло… Он сумеет продержаться до прихода Владыки, он поползёт навстречу Мавуту!
Отец придёт за ним обязательно.
Придёт, и тогда эти Волки взвоют по-настоящему. Они ещё не знают, что такое беда.
Скоро узнают…
— А всё Бусый, — вдруг сказал кто-то. — Он ведь эту падаль в лесу нашёл! Не дал сдохнуть! Эх, Волки, жили мы, не тужили…
— Заткнись, — поморщился Севрюк.
— А ты меня не затыкай, — продолжал тот же голос. — Или я не так что сказал? Змеёныш, чуть всех нас не угробивший, — раз! Каменную Осину свалил, Бучило растревожил — два! Мальчишка-упырь, в лесу найденный, — три! Мало вам, Волки? Ещё хотите?
— Ты-то пуще всех со Змеёнышем ратился, — подбоченилась большуха. — Что-то голоса твоего не припомню, когда его прогоняли…
— Сгинул — и пусть себе! — надрывался крикун. — Ульгеш вот говорит, к Мавуту попал. И беловолосого этого — тоже в Бучило бы! А и про мурина[53] подумать надо. След ли его, у Мавута побывавшего, в деревне теперь держать?
— А ты мне Ульгеша не трожь! — взревел седой Бронеслав. — Разом холку намылю!
Бабушка Отрада, та ничего не сказала, молча пошла на зачинщика.
Волки шумели, кричали все разом, иные уже примеривались брать один другого за бороду. Латгери лежал, наслаждаясь их сварой. Рассорить врагов — это ли не мечта! Вот бы они ещё ножи повыхватывали…
Сила Волков кипела вокруг, бурлила и пенилась, сшибалась сама с собой. Летели клочья, и Латгери незаметно подбирал эти лакомые ошмётки.
Бусый… Он понял, о ком шла речь. Тот парнишка, первым вышедший к нему утром после грозы. Латгери ещё ударил его, да убить сил не хватило. Что они сказали? Ушёл к Мавуту? Сам?.. Это как?..
Что-то здесь было неправильно, плохо и очень тревожно… Он обдумает это потом. А сейчас — пить, пить, пить…
— Соболь, пусть Соболь скажет!
— Это он роднича[54] с «головешкиным сыном» сюда притащил!
— Я те дам роднича!
— Погодь, Клочок, ты не знаешь…
— А ну поди сюда, за внука голову оторву!
— Ульгеша не трожь!
— И долгая[55] этого, своему роду ненужного…
— А вот святым кулаком, да по окаянной-то шее…
— И Мавутича, упырька, вжиль повернул!
— Говори, Соболь! Скажи им!
— Держи ответ!..
Латгери сквозь сомкнутые ресницы видел, как внутрь круга вышел седой невысокий мужчина. Чертами лица вовсе не венн. Смуглый, густые брови встретились и срослись над переносьем… Соболя можно было бы назвать стариком, да только мало у кого язык бы повернулся. Потому что он был воин, Латгери ещё в самый первый день это понял. А воины стариками не бывают. Груз прожитых лет не сгибает им спину, не гасит в глазах огня…
Однако сейчас Соболь, вынужденный слушать поносные слова о родном внуке и об Итерскеле с Ульгешем, давно ставших ему ближе кровной родни, начал действительно походить на ветхого старца.
Он долго молчит, и вокруг постепенно распространяется тяжёлая тишина. Никто не торопится встретиться с ним глазами. Ликует лишь Латгери, да и тот — про себя.
Старый воин начинает наконец говорить, медленно роняя слова:
— Ну что ж, Волки. Боги свидетели, не хотел я зла вашему роду. Думал, уж вы-то ещё одного Волчонка от беды сбережёте… Теперь вижу, не вышло. Значит, мне дорога одна — Мавута искать. Может, удастся внучонка из лап его вырвать. А и это не выйдет, так мне больше жить незачем… За хлеб-соль спасибо, а Мавутича я с собой заберу. Может, сыщутся добрые люди, не откажутся его приютить.
Волки молчали. Ясно было, что к «добрым людям» их Соболь уже не относит.
А он продолжал:
— Или, может, Мавут своего обратно возьмёт. На моего мальца обменяет…
— Не сделает он этого, дедушка Соболь.
Ульгеш говорил совсем тихо, но вздрогнули все, даже Латгери. Очень нехорошее предчувствие рукой сжало сердце… Ульгеш, к которому обратились молчаливые взгляды, продолжал, понурив голову:
— Когда я там был, кто-то предложил выменять Беляя. А Мавут… Мавут ответил… То есть не вслух ответил… Я его руки видел… совсем близко… Меня дедушка учил руки толковать, на них всё обозначено, как на книжном листе… Мавут подумал в ответ, что калеку не то что выменивать, а и даром не возьмёт ни за что… Он меня за Бусого отдал. Побратим мой сам к нему потому и пошёл… меня чтобы спасти…
Дальнейшго Латгери уже не слышал. Голоса Волков отдалились и постепенно утонули в зловещем чёрном рокоте. Рокот был похож на тот, что иногда разносится по земле перед Сотрясением Гор, перед большой бедой. Но сегодняшняя беда уже совершилась…
Латгери ещё ни разу в жизни не было так больно. Даже когда он понял, что уже не увидит маму. Даже когда его забивали насмерть и принуждали оживать вновь и вновь, вытаскивая наружу сущность латгара, крысы, великого зверя, который не сдаётся и не отступает в бою.
Латгери не хотелось больше сражаться. Зачем всё, если отец Мавут больше не назовёт его сыном, не поспешит на выручку и даже не примет, буде вдруг его принесут? Зачем ему становиться Латгаром? Зачем жить?
Он сразу понял, что сказанное чернокожим было правдой. Он — сирота. Человек не может жить сиротой, об этом не раз говорил Мавут. И это — тоже правда. Сломанная шея — ничто, хребет Латгери затрещал именно сейчас. Жить стало незачем.
Изумлённые Волки увидели, как из широко открытых глаз «упыря» покатились слёзы. Вот этого никто из них не ждал, все помнили, что даже в беспамятстве Беляй не проронил ни слезинки. Синеока что-то промычала, опустилась подле него на колени… Тоже заплакала…
Латгери всегда считал слёзы непростительной слабостью, но теперь ему было всё равно. Враги увидели его немощь, ну и пускай. Он не хотел больше притворяться живым.
ТРЕТЬЯ НОЧЬ
Вспыхнувший костер показался ослепительным в сгустившейся тьме, пламя с рёвом устремилось к низким облакам. Друзей обдало яростным жаром. От костра веяло такой огромной, надёжной силой, что последние сомнения — оградит ли Круг? — как-то разом отпали.
У всех, кроме Твердолюба.
Он сидел, привалившись спиной к куче заготовленных дров, и задумчиво поглаживал свой лук, так и не брошенный даже после поединка с Хизуром. Лук был очень похож на веннский и почти так же силён. Твердолюб больше не мог даже снарядить его, какое стрелять.
— Приходилось? Из лука-то? — хмуро спросил он Меалона.
Ох, Твердолоб!.. Сыщется ли мужчина, который лука в руках не держал?
Отец Таемлу невозмутимо пожал плечами:
— Да я что, я больше пращой. Стрелы, знать, дороги, а камешков — только наклонись…
Он понимал, как непросто доверить родное оружие чужаку.
Вдвоём они быстро надели на лук тетиву, Меалон примерился, тронул её и одобрительно кивнул, слушая, как она загудела. Твердолюб вынул из тула и принялся перебирать стрелы, бережно расправляя оперения, беззвучно шепча какие-то одному ему ведомые заклинания…
Меалон внимательно смотрел, как венн по одной возвращал стрелы в тул, каждую в свою кучку, по цвету ушка: отдельно срезни, отдельно бронебойные с узкими гранёными наконечниками, отдельно — двузубые, снаряжённые смолёной паклей, которую поджигают перед стрельбой.
В конце концов золотоискатель сказал:
— Доброе оружие никогда не помешает. Но как сразить стрелой того, кто уже умер?
Твердолюб посмотрел на костёр.
— Огонь, — ответил он просто. — Священный Огонь, который чтят в этих краях… Только, думаю, не на одного Хизура мы нынче стрелы вострим…
Вскоре небо затянуло совсем, и пошёл дождь. Мелкий, холодный и, все сразу это поняли, нескончаемый. Такие дожди могут идти седмицами, то чуть ослабевая, то после короткого передыха снова усиливаясь. Чего только ни случается, когда тучи упираются в горы и застревают на них! Могучий костёр отгонял сырость, но плотная завеса напрочь скрыла Луну.
Таемлу озабоченно смотрела в низкое мокрое небо, перебирала пальцами охранное ожерелье, что надели на неё в храме Идущих-за-Луной, шептала молитвы. Сумеет ли она позвать на помощь Богиню, не видя перед собой Её светлого лика?..
Бусому было жутко. Над ними висел какой-то Змеев дождь, унылая противоположность стремительной благодатной грозы. Повелитель Молний был далеко. Недавно Он ответил Бусому, помог совладать со страшным Хизуром… Годится ли снова тревожить Его молитвой?
Бусый ходил кругом костра, подкидывал хворост, забывшись, искал на груди оберег, тёрся подле Твердолюба с Меалоном, надеясь — что-нибудь скажут, сделать велят… Всуе. Мужчины стоили один другого, оба оказались изрядными молчунами. Просто сидели и стерегли, зорко вглядываясь во тьму, обступившую Круг.
Ближе к полуночи Гзорлик истошно заржал, принялся вставать на дыбы и рвать привязь, порываясь бежать.
Бусый проследил взгляд коня и самым первым увидел медленно шедшего к ним Хизура.
Любимец Мавута был мёртв. Он и раньше повсюду носил с собой Смерть, а сейчас окончательно с нею слился. Он незряче и неумолимо присматривался вдавленными в череп глазами и, кажется, нюхал воздух, ища Твердолюба. И конечно, его, Бусого. И шёл, шёл к ним. Медленно, неуклюже, но как-то так, что убежать не стоило и пытаться.
Твердолюб безошибочно выдернул стрелу с намотанной у наконечника паклей, сунул в костёр. Хорошо просмолённая борода ярко вспыхнула, мощный лук загудел в руках Меалона, и стрела прочертила огненный след, устремляясь к бредущему мертвецу.
Мокрой холодной плоти полагалось бы разве зашипеть, но Хизур вспыхнул. Рассыпая искры, он взвыл, негнущимися пальцами ухватил глубоко всаженную стрелу, чтобы вытащить и отбросить её от себя. Мертвецам неведома боль, но огонь свят. И потому — губителен для любой нежити, для всех порождений Тьмы.
Выдернуть стрелу оказалось непросто, двузубый раздвоенный наконечник для того и был откован, чтобы, впившись однажды, накрепко застревать.
Когда наконец Хизуру это удалось, охватившее его пламя сразу погасло. Однако следом прилетела ещё стрела. Кое-как выдрав её, жуткий гость торопливо заковылял прочь.
Позже он ещё не раз возвращался, пытался подобраться к Кругу с разных сторон, но меткие огненные стрелы неизменно загоняли его обратно во Тьму…
А потом вовнутрь Круга прилетела ответная стрела.
И очень меткая. Если бы Таемлу не уловила багровый сполох вражеского намерения и вовремя не толкнула отца, лежать бы тому с пробитой головой.
За первой стрелой последовал целый град, стрелы летели с разных сторон. Сбылось предсказание Твердолюба! Осаждённые бросились под защиту Белых камней и увели с собой Гзорлика, но дело было плохо. Совсем плохо.
А вскоре ночь прорезали Звуки. Невыносимая для слуха песнь боевых Мавутовых свирелей. И раздался оклик Мавута, без усилия перекрывший все голоса:
— Шульгач! Вот мы и встретились, бывший сын! Ты не рад?
Слова Владыки остались без ответа. Твердолюб только скривил губы. Не дело говорить с тем, с кем сейчас придётся сойтись в смертельном бою. Невидимый Мавут расхохотался — так, что у людей в Кругу мороз побежал по коже.
Почти сразу из тьмы выдвинулись, прикрываясь тяжёлыми щитами, десятка три Мавутичей. Сам Владыка шёл впереди без всякой брони. Нёс в руке своё излюбленное оружие — копьё. Меалон выстрелил, Мавут, не сбивая шага, небрежно отмахнулся копьём, стрела-срезень свистнула мимо.
— Объясни, Шульгач, этому землекопу, что стрелять в меня без толку… Я всегда получаю то, чего пожелаю. Я смотрю, у вас с собой ещё и дев…
Владыка не сумел договорить до конца начатое слово.
Меалон отложил бесполезный лук и хладнокровно взялся за верную пращу. Раскрученный ремнём, камень со страшной силой устремился вперёд. Наученный промахом, Меалон даже не пытался целить в Мавута. Камень грохнул о край ближнего щита и отскочил Владыке прямо в висок.
Мавут пошатнулся, струйка крови норовила затечь ему в глаз…
Новый камень лишь высек со звоном искры из каменистой земли и ушёл куда-то вверх.
Мавут снова захохотал. Его пытались убить! Его, Владыку, уже осенённого сиянием всемогущества!..
…А совсем рядом с ним шёл Хизур. Шёл и улыбался. Бусый думал, что успел уже повидать самое скверное, но теперь понял, что ошибался. Сладкая улыбка на залитом чёрной кровью, страшно изуродованном лице мёртвого Хизура была полным и окончательным ужасом. И она приближалась. И Круг, наверное, больше не мог Хизура остановить.
Бусый не заорал и не кинулся наутёк лишь потому, что на это не было сил. Ноги отнялись, сердце споткнулось и повисло на ледяных иглах страха. Вот сейчас мёртвый Хизур ещё шире расплывётся в улыбке… протянет к нему руки…
Он повернулся к Таемлу и спросил:
— Ты подаришь мне бусину?
Она заморгала, приходя в себя, зелёные глаза ожили.
— Я ещё не жених, но Предок Волк даст мне Посвящение, — торопливо продолжал Бусый. — Я вплету твою бусину в косу, а с тобою пребудут мои верность и мужество. Я вырежу для тебя прялку, и на ней будет сидеть симуран…
Мавуту с Хизуром оставалось пройти считаные шаги.
— Вот… — Таемлу поспешно откручивала пронизку от своего жреческого ожерелья. — Вот, возьми… Я тоже тебя люблю…
ЛУННАЯ РАДУГА
Дружный смех, раздавшийся из-за мраморного исполина, несколько озадачил Мавута, он совсем другого ждал от обречённых беглецов…
— Молитесь, дети, — выпуская последнюю стрелу, проворчал Меалон. — Нам с Твердолюбом… Да что говорить… А на вас грехов нет, вы ещё ничего худого в жизни не сделали… Может, Те-Кто-Хранят-Круг вас и услышат…
Бусый вовсе не считал себя таким уж безгрешным, но с этим некогда было разбираться. Он крепко взял за руки Таемлу — особым образом, как учил Горный Кузнец. Вызвал внутреннюю улыбку…
Он и сам не мог бы сказать, что это была за молитва. Звучали ли в ней слова, и если да, то какие? Или он просто завыл, бросив в Небеса клич своего рода? Просил ли помощи у Тех-Кто-Хранит-Круг — или рассказывал Им, как это невозможно, чтобы Таемлу замучил и утащил с собой мерзкий мертвец? Всё внешнее было неважно. Имело значение лишь то, что Бусый вновь ощутил дыхание потока Силы и растворил себя в нём, устремляясь вслед за бушующим пламенем вверх. Всем своим существом — к невидимым за тучами звёздам, к защитнице Луне. Отдал все силы, щедро подарил их Огню, чтобы рыжекудрый сумел превозмочь Тьму, пробить давящие тучи, вырваться на свободу.
И почувствовал, как Таемлу, помогая, тоже отчаянно бросила всю себя ввысь…
Пламя костра взвыло с таким оглушительным торжеством, что от неожиданности Мавут даже остановился. В спину сразу ткнулся Хизур, но Владыка не заметил прикосновения. Ему открылось зрелище, равного которому он не видел никогда в жизни. И даже не подозревал, что такое вправду возможно.
Костёр исчез, превратившись в свистящий огненный столб, в исполинское копьё, в отточенную пылающую стрелу. Мраморных исполинов озарил неистовый свет…
И грянул удар. На земле родилась молния и ударила в тучи. Она пропорола их, разметала, огненной метлой вымела с неба. В омытой черноте замерцали скопища ярких звёзд, выплыла огромная Луна, излила на горы и лес мягкое целительное серебро… Ветер подхватил мокрые обрывки туч и понёс, превращая в кружевную молочную рябь…
Если бы некий рисовальщик сумел достойно запечатлеть эти звёзды, лунный лик и разлёт облаков, — он прославил бы своё имя на столетия вперёд.
Но главным в распахнувшемся небе было всё же не это.
Милосердная Кан послала им радугу. Лунную Радугу. Величественную и огромную. Простёршуюся прямо над головой. От окоёма до окоёма… Из чистейшего серебряного света. Ярко-белая нить посредине — и расходящиеся по обе стороны, постепенно меркнущие полоски…
Имя рисовальщика, сумевшего передать благодатный свет этой Радуги, обрело бы бессмертие.
Мавут наконец очнулся от потрясения и вновь рванулся вперёд. Чудеса чудесами, а беглецы всё равно будут схвачены. И подарены Хизуру…
Но что случилось?
Туда, где только что пылал костёр, теперь низвергался водопад прозрачного лунного света.
Мавут почуял неладное.
— Не дайте им уйти! Стреляйте! Стреляйте!..
Его приказы всегда исполнялись мгновенно. И не было вины Мавутичей в том, повеление запоздало. Меалон уже вёл в поводу Гзорлика, на спине которого устроился Твердолюб, а за стремена с разных сторон держались Бусый и Таемлу. Вот они свободно и неторопливо вошли внутрь лунного водопада и начали подниматься по нему прямо к Радуге, ступая точно по тверди. А стрелы, посланные им в спину, отскакивали от незримой стены.
— И-й-а-а-р-р-ха-а-а-ха-а-а-а-а!
Мавут рванул из ножен меч саккаремского Стража. Увенчанный волшебным камнем. Почти всесильный… Поднял высоко над головой… И, ощущая в ладони нестерпимое жжение, отвёл клинок в широком замахе…
Свистнул рассекаемый воздух. Разящая сила устремилась вперёд, к лунному водопаду, чтобы рассечь, уничтожить его, стереть с неба Радугу… сбросить дерзких беглецов наземь…
Чудовищный удар достиг цели. Обрушился на невесомый поток дрожащего серебра. И… отразившись в зеркале небесного Света, устремился назад…
Мавут был нечеловечески быстр, и лишь эта быстрота спасла его. Он успел отбросить меч и что было сил прыгнуть далеко в сторону.
Всё же его зацепило, и крепко. Так, что способность мыслить и чувствовать надолго покинула Владыку. А когда возвратилась…
Мавут увидел склонившееся к нему лицо, перекошенное улыбкой жуткого предвкушения. Обгоревшее, смятое, бесформенное, но некоторым чудом ещё узнаваемое. Лицо мёртвого Хизура.
Лишившись возможности дотянуться до тех, кто засыпал его камнями три дня назад, ученик пришёл за учителем. За человеком, который много лет назад убил его по-настоящему. Сжёг человеческую душу, оставив тело пустым.
Ощутив на горле холодные руки, Мавут закричал. Он бился на земле, силясь дотянуться до рукояти меча. Запах тлена бил в ноздри…
А Бусый, Таемлу, Меалон, Твердолюб и Гзорлик шагали вверх сквозь огромное, залитое серебряным светом небо. Земля отдалилась, но Радуга несла их на ладони, кругом была пронзительная чистота звёзд, и где-то впереди уже мерцала Светынь.
— Бажана, — прошептал Твердолюб. — Я иду к тебе… Иду домой…
ОГЛАВЛЕНИЕ
Латгери………………………….7
Волчонок………………………… 17
Плевок………………………….. 26
Разговоры в бане………………….. 35
Отданный долг……………………. 43
«Мама…»…………………………. 49
Камень………………………….. 53
Берестяная книга………………….. 58
Рассказ большухи…………………. 63
Первая страница………………….. 70
Щенок и Росомашка……………….. 78
Святой меч………………………. 88
Бой в пещере…………………….. 97
Рассказ Синеоки………………….. 106
Мкома-курим…………………….. 111
Листы дедушки Астина……………… 119
Журавлиные Мхи………………….. 125
Каменная Осина………………….. 132
Бучило………………………….. 138
Морские гости……………………. 145
Паук……………………………. 150
Владыка Мавут……………………. 157
Раковина………………………… 164
Воровская ночь…………………… 169
Пёс поднимает шерсть……………… 176
Забавные сказы…………………… 185
Песнь расставания…………………. 191
Сила камня………………………. 197
Создатели небывалого……………… 207
В становище Мавута……………….. 215
Голос воды………………………. 227
Зов Волка……………………….. 231
Немирье………………………… 237
Тень Тьмы……………………….. 244
Дым над Светынью………………… 253
Встреча у костра………………….. 264
Последний удар…………………… 271
Волки…………………………… 277
Твердолюб………………………. 283
Круг……………………………. 288
Меч и камень…………………….. 295
Сирота………………………….. 301
Третья ночь……………………… 308
Лунная Радуга…………………….. 314