
Мэтью Квик
Нет худа без добра
Это художественное произведение, то есть вымысел. Реальные лица, события, цитаты, учреждения, организации и места действия упоминаются только для того, чтобы придать вымыслу правдоподобие, и употребляются так, как это было удобнее в интересах повествования. Все прочие имена, лица и места, как и все диалоги и события, описанные в книге, – плод авторского воображения.
Моей семье – папе, маме, Меган и Майке
Если хочешь, чтобы другие были счастливы, относись к ним с сочувствием. Если хочешь быть счастлив, относись к другим с сочувствием.
Несомненно, есть более талантливые актеры, чем я, которые не сумели сделать карьеру. Почему? Не знаю.
Matthew Quick
The good luck of right now
Copyright © 2014 by Matthew Quick
All rights reserved
© Л. Высоцкий, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
1
Вымышленный двойник Ричарда Гира
Дорогой мистер Гир!
В ящике маминого комода, где я рылся, чтобы отделить ее «личное» белье от «почти не ношенного», которое можно было отдать старьевщику, я нашел Ваше письмо.
Как Вы помните, Вы написали письмо, где призывали бойкотировать Олимпийские игры 2008 года в Пекине из-за тех жестоких преступлений, которые китайское правительство совершало в Тибете.
Не беспокойтесь.
Я не один из этих тронутых.
Я-то сразу понял, что это стандартное письмо, одно из тех, что Вы рассылали через благотворительную организацию миллионам людей, а вот мама была выдумщицей, каких мало, и она вообразила, что Вы написали ей лично. Наверное, поэтому она сохранила письмо, представляя себе, как Вы касались его руками, лизали, заклеивая, конверт. Письмо было для нее осязаемым звеном, связывающим ее с Вами, – она полагала, что через него ей могут передаться какие-нибудь клеточки Вашего тела, обрывки ДНК.
Мама была Вашей горячей поклонницей и той еще фантазеркой.
– Имя написано курсивом! – говорила она, тыча в письмо пальцем. – Ричард Гир! Кинозвезда РИЧАРД ГИР!
Она любила устраивать маленькие праздники по самым пустяковым поводам: когда среди мусора в кармане пальто находился затерявшийся скомканный доллар или когда на почте не было очереди, служащие улыбались и вежливо разговаривали. Или, например, если жарким летом вдруг становилось достаточно прохладно, чтобы спокойно посидеть на улице: к ночи температура резко падала, хотя метеорологи предсказывали невыносимую жару и влажность, и вечер становился неожиданным подарком судьбы.
– Иди сюда, Бартоломью, подыши этим необъяснимым прохладным воздухом, – говорила она, и мы сидели, улыбаясь друг другу, будто выиграли в лотерею.
У мамы был талант придавать самым заурядным вещам видимость чуда.
Мистер Гир, Вы, наверное, уже решили, что мама была со странностями, слегка тронутая; почти все так думали.
Пока мама не заболела, ее вес никогда не менялся, она не покупала себе новую одежду, вечно была одета по моде восьмидесятых годов и пахла нафталиновыми шариками, которые держала в комоде и шкафу, а волосы ее были обычно примяты с левой стороны, так как она почти всегда спала на левом боку.
Мама не знала, что подпись легко воспроизвести с помощью принтера, – она была слишком стара, чтобы осваивать новые технологии. К концу жизни она часто повторяла, что «компьютеры были прокляты еще в Откровении Иоанна Богослова», и хотя отец Макнами сказал мне, что это неправда, мы решили ее не переубеждать.
Мама никогда не была так счастлива, как в тот день, когда получила Ваше письмо.
Как Вы, наверное, уже догадались, в последние годы жизни она была немного не в себе, а к концу наступило такое помутнение рассудка, что трудно было отличить ее притворство от реальности.
Со временем все у нее в голове смешалось.
Когда она соображала более или менее трезво, то – хотите верьте, хотите нет – она думала (или воображала?), что я – это Вы, что это Ричард Гир живет с ней и заботится о ней. Наверное, это было приятнее, чем сознавать, что она находится на попечении ее заурядного бестолкового сына.
– Что у нас сегодня на обед, Ричард? – спрашивала она. – Как я счастлива, что наконец провожу столько времени с тобой, Ричард.
Это было похоже на то, как мы фантазировали, когда я был маленьким, будто к нам на обед пожаловала какая-нибудь знаменитость – Рональд Рейган, святой Франциск, Микки-Маус, Эд Макмагон[1] или Мэри Лу Реттон[2] – и сидит вместе с нами за кухонным столом на одном из двух стульев, которые никогда не были заняты, за исключением тех случаев, когда к нам приходил отец Макнами.
Как я уже написал выше, мама была Вашей страстной поклонницей. Возможно, Вы тоже обедали у нас, когда я был маленький, но, откровенно говоря, я такого не помню. Как бы то ни было, я подыгрывал ей, так что Вы были представлены в моем лице – хотя, конечно, я совсем не так красив и замена была неадекватной. Надеюсь, Вы не против того, что я вовлек Вас в эту игру без Вашего разрешения. Это незамысловатое развлечение доставляло маме большое удовольствие. Всякий раз, когда Вы приходили, лицо ее вспыхивало, как рождественская елка в «Уонамейкерсе»[3]. А вообще ее мало что радовало после неудачной химиотерапии и операции на мозге, ее все время тошнило, и боли были страшные, так что я решил поддержать ее притворство, будто Вы и я – одно лицо.
Началось это как-то вечером, после того как мы посмотрели нашу заигранную видеокассету «Красотки»[4], одного из любимых маминых фильмов.
Когда на экране погасли заключительные титры, она похлопала меня по руке и сказала:
– Я иду спать, Ричард.
Я посмотрел на нее, а она улыбнулась мне чуть ли не шаловливо – как те сексуально настроенные девушки с блестящими накрашенными губами, которых я видел, когда учился в старших классах школы. Ее похотливая улыбка была мне неприятна, потому что я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. И потом, это было совсем не похоже на маму. Мне предстояло теперь жить с незнакомым человеком.
– Почему ты назвала меня Ричардом? – спросил я.
Она нежно положила руку на мое бедро и, подмигнув мне, произнесла голосом девицы-кокетки:
– Потому что так тебя зовут, дурачок.
За все тридцать восемь лет, что мы знали друг друга, мама ни разу не называла меня «дурачком».
У меня в желудке начал стучать кулаками в стенку маленький сердитый человечек.
Было ясно, что дела наши плохи.
– Мама, это же я, Бартоломью, твой сын.
Я посмотрел ей в глаза, но она, похоже, не замечала меня. Как будто она видела что-то недоступное мне.
Я подумал, что она, наверное, превратила меня в Вас с помощью какого-то женского колдовства.
Что в ее уме Вы и я слились в одного человека.
Ричард Гир.
Бартоломью Нейл.
Мы.
Мама убрала руку с моей ноги и сказала:
– Ты красивый мужчина, Ричард, и я люблю тебя всю жизнь, но я не повторю своей ошибки. Ты сделал выбор и будешь спать на кушетке. До завтра.
После этого она практически взлетела по лестнице. Уже несколько месяцев она не двигалась так быстро.
Мама была в каком-то экстазе.
Ею, казалось, руководила некая высшая сила, как святыми с нимбами на витражах церкви Святого Габриэля. Ее безумие представало как нечто священное. Она чуть ли не сияние излучала.
Хотя все это несколько тревожило меня, я радовался, что мама ожила и была счастлива. А притворяться мне было нетрудно. Я всю жизнь притворялся. Это была игра, к которой я привык с детства, так что опыт у меня, несомненно, был.
И вот каким-то образом (как именно такие вещи происходят, знает, наверное, один Бог) со временем эта игра вошла у нас в привычку.
Мы оба начали притворяться.
Она притворялась, что я – это Вы, Ричард Гир.
Я притворялся, что у мамы все в порядке с головой.
Притворялся, что она вовсе не умирает.
Притворялся, что мне не придется жить без нее.
Все это, как говорится, прогрессировало.
К тому времени, когда мама переместилась на кровать в гостиной, где рука ее была проткнута катетером, через который подкачивался морфий для обезболивания, я играл роль Ричарда Гира двадцать четыре часа в сутки, даже когда она была без сознания, потому что так мне легче было увеличивать дозу морфия всякий раз, когда на ее лице появлялась гримаса боли.
Для нее я был теперь не Бартоломью, а Ричардом.
И я решил стать Ричардом на самом деле и дать Бартоломью заслуженную передышку – если для Вас есть в этом какой-то смысл, мистер Гир. Бартоломью уже почти сорок лет сверхурочно работал ее сыном. Если иметь в виду его чувства, то можно сказать, что с Бартоломью содрали кожу, отрубили ему голову и распяли вниз головой – как его тезку-апостола[5], согласно легендам, только метафорически, конечно, – и в современном мире.
Стать Ричардом Гиром было для меня все равно что накачать мозги обезболивающим морфием.
Когда я был Вами, я преображался, был увереннее в себе, чем когда-либо прежде, лучше владел собой.
Служащие хосписа участвовали в этой мистификации. Я настоял на том, чтобы они называли меня Ричардом, когда мы были у мамы в палате. Они смотрели на меня как на чокнутого, но делали, как я просил, потому что им за это платили.
И за мамой они ухаживали только потому, что им платили. Я не питал иллюзий, что их действительно заботят наши дела. Они поминутно доставали свои мобильники, чтобы посмотреть, который час, а в конце смены надевали пальто с такой радостью, будто отправлялись на какую-то необыкновенную вечеринку, будто это все равно что переместиться из морга прямо на церемонию вручения «Оскара».
Когда мама спала, служащие хосписа иногда называли меня мистером Нейлом, но если она просыпалась, я становился Вами, Ричардом, – они выполняли мою просьбу, потому что страховая компания платила им. Они даже обращались к нам очень официально и уважительно.
– Что мы можем сделать для вашей мамы, Ричард? – спрашивали они, когда она просыпалась. Они никогда не называли меня мистером Гиром, что меня вполне устраивало, потому что Вы с мамой с самого начала обращались друг к другу по имени.
Имейте в виду, что мама обожала смотреть Олимпийские игры, никогда не пропускала их – она привыкла смотреть их еще со своей мамой. Это доставляло ей огромное удовольствие – может быть, потому, что за все семьдесят два года, что она провела на этом свете, она ни разу не уезжала из Филадельфии дальше пригородов. Она говорила, что смотреть Игры – это все равно что каждые четыре года бывать в отпуске за границей, даже когда зимние и летние Игры стали устраивать в разные годы – как Вы, я уверен, знаете, – так что проводиться они стали каждые два года.
(Прошу прощения за свою болтовню, но я ведь пишу как Бартоломью Нейл, в котором нет абсолютно ничего похожего на Вас. Надеюсь, что не очень Вас раздражаю и Вы простите мне мою заурядность. Когда я пишу Вам, я не притворяюсь Ричардом Гиром. А когда я превращаюсь в Вас, то становлюсь гораздо красноречивее. НЕСРАВНЕННО. Бартоломью Нейл не кинозвезда, Бартоломью Нейл никогда не спал с супермоделями; Бартоломью Нейл даже никогда не покидал города, в котором родился (того же, в котором родились Вы, Ричард Гир), Города братской любви[6]; Бартоломью Нейлу все это, увы, предельно ясно. И к тому же Бартоломью Нейл не наделен писательским даром. Как Вы уже поняли.)
Мама обожала спортивную гимнастику и мужчин с треугольным торсом, которые «двигаются, как ангелы-воители». А когда кто-нибудь из гимнастов делал на кольцах крест, она отбивала ладони до красноты. Это был ее любимый снаряд. «Силен, как Иисус в свой худший день», – говорила она. Она не пропускала даже церемонии открытия и закрытия, жадно впитывая все детали. Она смотрела все Олимпийские игры, которые показывали по телевизору.
Но когда мама получила Ваше упомянутое выше письмо, где Вы описывали жестокости, которые китайское правительство творило в Тибете, она решила не смотреть Олимпийские игры в Китае, что было большой жертвой с ее стороны.
– Ричард Гир прав! – сказала она. – Нам следовало бы порвать всякие отношения с Китайской Народной Республикой! То, что они вытворяют с тибетцами, – это ужасно! Почему никто не выступит в защиту основных человеческих прав?
Должен признаться, что я всегда был намного пессимистичнее, покорнее и апатичнее, чем мама, и пытался убедить ее, что посмотреть Игры все-таки стоит. (Пожалуйста, простите меня за это, мистер Гир. Тогда я был еще духовно неразвит.) Я говорил, что нигде не будет зарегистрировано, смотрели мы Игры или не смотрели, и это никак не повлияет на международные отношения.
– Никто в Китае не будет знать, что мы бойкотируем их. Какой в этом смысл? – горячился я.
Но мама твердо верила в Вас и Ваше дело, мистер Гир. Она сделала, как Вы призывали, потому что она любила Вас и верила Вам, как ребенок.
А это означало, что я тоже не увижу Олимпийских игр, и поначалу это очень меня тревожило, поскольку нарушало традиционный порядок в доме Нейлов, наше привычное времяпровождение, но впоследствии я примирился с этим. И теперь я думаю, не означает ли мамин бойкот, ее смерть и то, что я нашел Ваше письмо к ней, – не означает ли все это, что Вам и мне суждено было соединиться каким-то важным космическим образом.
Может быть, это означает, что Вы, Ричард Гир, поможете мне теперь, когда мамы не стало.
Может быть, это было ее предвидением и ее вера принесла свои плоды.
Может быть, мама оставила мне в наследство Вас, Ричард Гир!
Возможно, Вам и мне и вправду суждено быть вместе.
Словно в доказательство синхронистичности[7] всего этого (Вы читали Юнга? А я читал. Вы удивлены?), мама безжалостно освистывала все выступления китайцев и на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере – даже прыжки и пируэты китайских фигуристов, которые были так грациозны. Как раз вскоре после этого я заметил ослабление ее умственной деятельности, если мне не изменяет память.
Это случилось не сразу, началось все с мелочей: она забывала, как зовут людей, с которыми мы встречались ежедневно, оставляла не выключенной на ночь плиту, не могла сказать, какой сегодня день, не могла найти дорогу в районе, где прожила всю жизнь, постоянно теряла очки – часто они были у нее на голове, – было много подобных несуразностей.
(Но Вас, мистер Гир, она никогда не забывала. Каждый день она разговаривала со мной-Вами. Имя Ричард прочно засело у нее в голове.)
Честно говоря, я не могу точно сказать, когда у нее начался этот умственный спад, потому что я довольно долго притворялся, что не замечаю его. Я всегда плоховато справлялся со всякими изменениями. Я не хотел поддаваться маминому помешательству, не сразу решился стать Вами. Я тугодум и нерасторопен, как, несомненно, говорят умные люди вроде Вас.
Врачи сказали, что это не наша вина, что, даже если бы мы обратились к ним раньше, все кончилось бы, по всей вероятности, так же. Они сказали это нам в больнице, когда нас не пускали к маме после операции и мы раскричались. Социальный работник разговаривал с нами в отдельном кабинете, пока мы ждали разрешения увидеть маму. А когда мы увидели ее с забинтованной головой, как у мумии, и с желтой кожей, это было просто ужасно, и, судя по обеспокоенным взглядам медперсонала, мы представляли собой жалкое зрелище.
По нашей просьбе один из социальных работников спросил врачей, не могли ли мы раньше сделать что-нибудь, чтобы рак не развивался, не были ли мы слишком беспечны. Вот тогда-то врачи и сказали, что это не наша вина – даже притом, что мы несколько месяцев не обращали внимания на симптомы, притворяясь, что все в порядке и отмахиваясь от жизненно важной проблемы.
Даже несмотря на это.
Это была не наша вина.
Надеюсь, Вы мне верите, Ричард Гир.
Это была не моя вина и не Ваша.
Вы прислали только одно письмо, но Вы были с мамой до конца – и в ящике с нижним бельем, и, в моем лице, у ее постели. Я был Вашим посредником, Вашим воплощением.
Врачи всё твердили, что мы ничего не могли сделать.
Инфильтративная опухоль мозга, как осьминог, запустила свои щупальца глубоко в мамин разум, и мы никак не могли этого предвидеть или предотвратить, повторяли нам врачи простым и ясным языком, который был бы понятен и менее образованному человеку.
Мы были не виноваты, мистер Гир.
Мы сделали все, что могли, и даже притворялись, но есть силы, с которыми простым людям не справиться, что подтвердил нам беспомощным и печальным кивком один из социальных работников в больнице.
– Даже такой знаменитый актер, как Ричард Гир, не мог бы обеспечить лучшего ухода своей матери, – сказал он, когда я упомянул Вас и посетовал, что я такой никчемный человек, не смог позаботиться о своей единственной матери, а ведь это было моим единственным занятием, единственной задачей в жизни.
– Жалкое ничтожество! – завопил маленький человечек у меня в желудке. – Дебил! Идиот!
Осьминог у мамы в мозгу прикончил ее всего несколько недель назад, и теперь, после того как операция и химиотерапия не спасли ее, у меня в памяти осталось лишь какое-то мутное пятно, которое то растягивается, то сжимается.
Врачи перестали лечить ее. Они сказали нам:
– Это конец. Мы очень сожалеем. Постарайтесь обеспечить ей по возможности комфортные условия. Уделяйте ей побольше времени. Поговорите с ней напоследок.
– Ричард? – прошептала мама в ту ночь, когда она умерла.
И это было все.
Одно.
Единственное.
Слово.
Ричард?
Вопросительный знак слышался явственно.
Этот вопросительный знак преследует меня.
Он навел меня на мысль, что всю ее жизнь можно обозначить знаками препинания.
Я не был расстроен тем, что последнее слово, произнесенное мамой, было обращено не к ее родному сыну, а к Ричарду, потому что оно включало и меня, воображаемого двойника Ричарда Гира.
В тот момент я был Ричардом.
Не только в ее воображении, но и в моем.
Притворство может пригодиться в самых разных случаях.
Теперь мы слышим, как птицы щебечут утром, когда мы сидим на кухне и в одиночестве пьем кофе, хотя сейчас зима. (Это, должно быть, очень выносливые городские птицы, которые не боятся низких температур, или же слишком ленивые, чтобы улетать.) Мама всегда включала телевизор на полную громкость – она любила «слушать, как говорят люди», так что раньше мы даже не знали об этих птицах. За все тридцать девять лет, проведенных в этом доме, мы впервые услышали, как птицы щебечут солнечным утром, пока мы пьем кофе на кухне.
Целая птичья симфония.
Вы когда-нибудь слушали, как щебечут птицы, прислушивались по-настоящему?
Это так красиво, что в груди становится больно.
Венди, мой консультант по переживанию утрат, говорит, что мне надо больше общаться с людьми и образовать «группу поддержки» из друзей. Венди была у нас на кухне как-то утром, когда птицы пели, и, услышав их, остановилась на середине фразы, прислушалась, прищурила глаза и сморщила нос.
– Слышите? – спросила она.
Я кивнул.
Победная улыбка расцвела на ее лице, и она произнесла жизнерадостным тоном чирлидерши, как может произнести только такой, как она, молодой человек:
– Им нравится быть вместе, в стае. Слышите, как они счастливы, как им весело? Вам тоже надо найти свою стаю. Покинуть наконец гнездо, так сказать. Полетать. Полетать, Бартоломью! Вокруг полно свободного неба для смелых птиц. Вы хотели бы полетать, Бартоломью? А?
Венди произнесла все это очень быстро, так что к концу своей ободрительной тирады совсем выдохлась. Лицо ее раскраснелось, как грудка у малиновки, – оно краснеет у нее всякий раз, когда ей кажется, что она сказала что-то необыкновенное, чрезвычайно важное. Посмотрела на меня широко раскрытыми – «калейдоскопическими», как поют «Битлз»[8], – глазами, и я понял, что я должен сказать в ответ на ее призыв, чего она ждет, что сделает ее счастливой, придаст смысл ее пребыванию в моей кухне и докажет, что ее усилия были не напрасны, – но я не мог сказать это.
Просто не мог.
Я с трудом сдерживал себя. Часть меня – злая черная сердцевина, где живет маленький сердитый человечек, – хотела схватить Венди за ее птичьи плечи, растрясти ее, пока не отвалятся все веснушки с ее красивого молодого лица, и крикнуть ей во всю мочь, чтобы ее волосы сдуло назад от моего крика: «Я же старше тебя! Прояви ко мне уважение!»
– Так как же, Бартоломью? – спросила она, глядя из-под тонких бровей такого же оранжевого цвета, как хрусткие листья на тротуаре.
– Я не птичка, – ответил я ей самым спокойным тоном, на какой был способен в тот момент, и свирепо уставился на коричневые шнурки своих ботинок, стараясь держать себя в руках.
Я не птичка, Ричард Гир.
Я знаю, что Вы это знаете, потому что Вы умный человек.
Не птичка.
Не птичка.
Не.
Птичка.
2
Парень, который водился с проститутками
Дорогой мистер Гир!
Чтобы заполнить пробел в нашем общем знании друг друга, я пошел в библиотеку и набрал Ваше имя в «Гугле».
Посетителям библиотеки разрешается искать в интернете все, что угодно, кроме порнографии. Я знаю это, потому что однажды видел, как одного мужчину с седыми дредами, из-за которых его голова была похожа на сухое пыльное растение, выгнали из библиотеки за то, что он смотрел в интернете порнографию. Он сидел рядом со мной и все время потирал пах сквозь грязные, невероятно мешковатые джинсы. На экране две обнаженные женщины, стоя на четвереньках, как собаки, лизали друг у друга анус. Они все время стонали «о-о-о-йе-е-е-е!» или «м-м-м-м-о-о-о-йе-е-е-е!». Помню, я не мог удержаться от смеха. Смешно было не потому, что этого типа выгнали, а потому, что женщины вели себя как собаки.
(Неужели людям действительно нравится смотреть на женщин, которые так себя ведут? Верится с трудом, но раз они есть в интернете, значит существует спрос. И смотрят это, наверное, не только чокнутые посетители библиотек, но и люди, у которых дома есть компьютер, – там-то это никто не запрещает.)
Подошла пожилая библиотекарша и сказала:
– Сэр, это не разрешается. Здесь нельзя так себя вести. Это абсолютно недопустимо! Существуют правила. Пожалуйста, прекратите, сэр.
Человек не хотел уходить и стал орать на библиотекаршу:
– Я вам не сэр! Я мужчина! МУЖ-ЧИ-НА! ЧЕ-ЛО-ВЕ-ЧЕС-КОЕ СУ-ЩЕ-СТВО!
Библиотекарша в испуге отшатнулась от него. То, что он кричит на нее, ей не понравилось.
Все присутствовавшие в зале повернулись на шум и уставились на них.
Я был рад, что Библиодевушка в этот день не работала и не видела всего этого.
Библиодевушка не справилась бы с такой ситуацией, и мне нравится в ней это качество. Она действует восхитительно неторопливо. Прежде чем что-то предпринять, она долго все обдумывает. Я наблюдал однажды, как она разбирает старые разодранные книги. Я не знал точно, но, судя по всему, она должна была решить, какую из книг можно сброшюровать и оставить, а какую выбросить. Большинство людей осмотрели бы книгу бегло и отложили бы ее в ту или другую сторону, на реставрацию или на выброс, а она очень внимательно рассматривала каждую книгу, как если бы это была драгоценная мертвая бабочка, которую она могла бы оживить и пустить летать, действуя очень осторожно. Я наблюдал за Библиодевушкой целых три часа с другой стороны зала, притворяясь, что читаю газету. Это было удивительное зрелище. Но потом подошла другая библиотекарша и выругала ее за то, что она тратит столько времени:
– Они же не позолоченные, Элизабет!
Библиодевушка вздрогнула при этих словах и спряталась под массой длинных каштановых волос, закрывавших ее лицо как какой-нибудь водопад, маскирующий вход в таинственную пещеру. Старшая библиотекарша в считаные минуты рассортировала оставшиеся книги, а Библиодевушка, поникнув, наблюдала за этим сквозь свои волосы. Я видел, как ее руки хотели дотянуться до некоторых забракованных книг, но приподнимались с ее колен, обтянутых белым вельветом, всего на несколько дюймов – она пресекала порыв, хотя ей явно хотелось вмешаться и сберечь эти книги.
Вы замечали, Ричард Гир, что слишком часто наиболее достойные люди не обладают достаточной силой?
Китай обладает силой.
Тибет не обладает.
Вас не удивляет, что я интересуюсь делом, которому Вы преданы, и кое-что знаю о нем?
Когда пришли полицейские, человек, смотревший порнографию (очевидно, бездомный: запах от него исходил, как от рыбьих внутренностей, гниющих в старом кожаном сапоге), затряс головой, словно находился в полном смятении и был даже крайне разочарован, и закричал:
– Я платил налоги всю свою жизнь! Постоянно! Тысячи долларов. Я финансировал правительство, которое наняло вас на работу! Вас! И вас! И вас! Вы государственные служащие, работаете на всех граждан, на нас, а не наоборот! Так что я ваш хозяин. И ваш, и ваш, и ВАШ! – Он указывал пальцем на библиотекарей и полицейских. – Я хочу сделать заявление! Это свободная страна! Если я хочу смотреть порнографию, то, согласно американской конституции, я имею на это полное право. Порнография открыта для всех!
Он принялся рассуждать о том, как любили секс американские президенты. Запятнанные брюки Билла Клинтона. Любовницы-рабыни Томаса Джефферсона. Джон Фицджеральд Кеннеди и Мэрилин Монро. Я тут же записал все эти сведения в свой блокнот, потому что это было интересно, спонтанно, жизненно, пусть даже не подтверждено фактами и наверняка преувеличено.
Но я увидел во всем этом некий важный момент, который большинство людей не понимают: этот человек утверждал, что он имеет право говорить открыто и свободно, а стремление утвердить себя может быть важнее, чем общепризнанная истина – то, что все считают фактом. (В данном случае их истина была в том, что бездомный не может ставить себя на одну доску с людьми, у которых есть дом, и тем более говорить с ними так самоуверенно.) Иногда факты не так важны, как то, во что человек верит. Это позволило бездомному высказать все, что он думает. Почти никто из государственных служащих не говорит того, что думает, и потому-то они так испугались этого бездомного. Он нарушил спокойное течение их жизни своей порнографией и интересными заявлениями насчет президентов. Если бы только больше людей утверждали свою личную истину с благородными целями. Если бы Библиодевушка утверждала себя более решительно, она совершила бы много добра, я уверен в этом. Беда в том, что решительно действуют, утверждая свою истину, только сумасшедшие. Вы замечали это?
Я всегда записываю интересные и важные вещи.
Я не смотрю порнографию, потому что я католик, и стараюсь не заниматься мастурбацией, хотя мне не всегда удается удержаться.
Вы когда-нибудь мастурбируете, Ричард Гир?
Уверен, что Вы давно уже этого не делаете – уж во всяком случае, с тех пор, как стали знамениты. Когда ты женишься на супермодели вроде Синди Кроуфорд, тебе, наверное, нет никакой необходимости заниматься мастурбацией. (Я знаю, что теперь Вы женаты не на Синди Кроуфорд, а на Кэри Лоуэлл. Я уже писал, что собирал сведения о Вас.) Зачем нужна порнография, если у тебя дома такие красивые женщины?
Интересно, а буддистам разрешается мастурбировать?
Раньше я привязывал руки к спинке кровати, чтобы не начать мастурбировать ночью во сне; привязаться можно и без посторонней помощи, если освоишь искусство делать правильные петли для запястий. Мама безропотно высвобождала меня в сколь угодно ранний час, если я кричал, что хочу на свободу, но однажды она мрачно сказала мне, что лучше уж мастурбировать, чем заниматься сексом с какой-нибудь незнакомой женщиной, больной СПИДом, или герпесом, или гриппом. Она сказала, что при этом можно запросто заразиться гриппом, что ежегодно множество людей умирают от гриппа, и по этой причине каждый сентябрь нам делают прививки от гриппа в «Райт эйд»[9].
Но еще мама сказала, что, если мне надо получить удовлетворение, я должен позаботиться об этом сам. Она сказала это мне, когда мне было двадцать с лишним лет и меня арестовали за то, что я пытался снять проститутку, которая оказалась переодетым копом.
Отец Макнами нанял для меня адвоката, а также отвел в благотворительный магазин, чтобы купить мне костюм. Продавцы в этом магазине были гомосексуалистами и потому, как сказал отец Макнами, знали толк в модах и фасонах. Они встретили нас приветливо и помогли мне выбрать отличный костюм для зала суда.
– Как он выглядит? – спросил их отец Макнами, когда я вышел из примерочной.
– Невинно, – ответил один из гомосексуалистов и гордо улыбнулся.
– Католики ведь не должны одобрять гомосексуализм, верно? – спросил я отца Макнами по дороге домой.
– Католики не должны также попадать в тюрьму за попытку воспользоваться услугами проститутки, – бросил он чуть ли не сердито, хотя знал, что я был (и даже выглядел) невинным.
– Мне понравились гомосексуалисты, которые помогли мне выбрать костюм. С точки зрения Католической церкви это грех? – спросил я. – Я спрашиваю чисто теоретически.
– Только между нами: это не грех, – сказал отец Макнами. – Мне они тоже понравились. А Харви я знаю уже тридцать лет.
– Кто такой Харви?
– Владелец магазина – и мой друг.
– Значит, у вас есть друзья-гомосексуалисты?
– Разумеется, – ответил он, но проговорил это почти шепотом.
Как-то во время обеда у нас дома мама сказала отцу Макнами:
– Семьдесят пять процентов священников – геи. Потому-то церковь и объявила гомосексуализм грехом. Иначе в каждом доме священника устраивались бы настоящие римские оргии.
Они оба долго смеялись над этим – может быть, потому, что выпили уже несколько бутылок вина.
При рассмотрении дела судья сказал, что это была провокация преступления, потому что женщина-полицейский, на которой был розовый парик, кожаная мини-юбка и бюстгальтер с двумя жесткими остроконечными конусами, а также туфли на немыслимо высоких каблуках, остановила меня, когда я шел из библиотеки домой, потерлась о мою ногу, назвала меня «большим беби» и «папочкой» (что было непонятно: как можно быть одновременно младенцем и папочкой?) и попросила денег.
Я спросил, сколько денег ей надо, и она сказала:
– Двадцать за отсос, шестьдесят за все, что хочешь.
(Позже я записал это в блокнот среди прочих интересных вещей, которые я слышал.) Никогда еще никто не терся так о мою ногу. Я словно застыл во времени и пространстве, как какой-нибудь пещерный человек, вмерзший в льдину или, может, в янтарь. Это был какой-то необычный момент. Я был согласен дать этой женщине с розовыми волосами денег и кивнул – в основном для того, чтобы доставить ей удовольствие, а также потому, что во рту у меня пересохло и говорить было трудно.
Вообще-то я подумал также, что после этого она снова потрется о мою ногу, а это было очень приятно: было такое чувство, будто я – стопка блинов, а она – кусок масла, тающий на мне и стекающий вниз. А еще я сделал это, потому что она гипнотизировала меня своими губами, глазами и мыслями, своей косметикой, запахом и потом; мне хотелось, чтобы она вечно терлась о мое бедро.
Блин с маслом.
Было так радостно, будто я выиграл какой-то приз.
Но стоило мне достать деньги из кошелька, как из-за деревьев и мусорных баков повыскакивала вся эта орава с пистолетами и блестящими жетонами и заорала мне, чтобы я встал на колени и держал руки за головой.
Они орали это в мегафон, от которого было больно ушам и возникало ощущение, будто целый рой рассерженных ос сверлит мой мозг. А когда они завели мне руки за спину и надели наручники, я так перепугался, что обмочил штаны, а копы заорали, что не желают, чтобы «этот зассанец» пачкал сиденье их патрульной машины. Один из них назвал меня «грёбаным дебилом» – я запомнил это выражение, потому что позже записал его в свой блокнот. Мне не нравится, когда меня называют дебилом, а меня называли так довольно часто. Но это несправедливо и, я думаю, даже жестоко.
– Еще один грёбаный дебил, – сказал он. – Посмотрите только, он обоссался!
Все засмеялись, а женщина в розовом парике закурила сигарету, закатила глаза и покачала головой.
– Следовало бы избавить этот жалкий мешок дерьма от его ничтожного существования, – произнес один низенький коп.
Он был одет как бродяга, но с шеи у него свисал жетон, поблескивавший в свете уличных фонарей. В руке он держал маленький современный пистолет – такой, какие показывают у копов по телевизору. Я испугался, что он действительно пустит мне пулю в лоб: у него был такой взгляд, будто он считал, что я недостоин существовать на этом свете и все, что ему требовалось, – это нажать на спусковой крючок. Вся сила была на его стороне.
– Я сожалею, – сказал я совершенно искренне. Мне было неудобно, что я вызвал всю эту суматоху. Я уже готов был согласиться с тем, что этот сердитый коп говорил обо мне. – Я не хотел причинять никому неприятности.
Он с отвращением потряс головой, словно я был кучей собачьего дерьма, в которое он случайно вляпался, и пошел прочь, обтирая подошвы о край тротуара, пока совсем от меня не очистился.
Надеюсь, Ричард Гир, Вы уже поняли, что я не дебил.
Мой коэффициент умственного развития выше среднего.
По крайней мере, мама так всегда говорила. Она говорила, что я показал исключительно высокий результат во время специального теста ай-кью, который мы обязаны были пройти в начальной школе, но мир не всегда правильно оценивает умственное развитие.
– В этом мире любят деньги, а не правду, и потому нас вечно обманывают, – говорила она.
И всегда саркастически смеялась при этом.
– А ты просто немного отличаешься от других, – говорила мама. – Причем в лучшую сторону. В самую лучшую. Ты мой замечательный сын, Бартоломью Нейл. Я так люблю тебя.
Венди, мой юный консультант по утратам, говорит, что у меня «нарушение эмоциональности» и «задержка в развитии» из-за того, что я столько лет находился в отношениях «взаимной зависимости» с моей матерью.
По-моему, мама не очень нравилась ей.
Однажды она сказала, что мама питалась мною, будто мама была каким-то каннибалом с кольцом в носу и варила меня в большом котле на куче горящих поленьев.
Но мама была совсем не такая, никакой не каннибал.
Я все это записал.
Венди сказала, что у меня «нарушение эмоциональности» и «задержка в развитии», когда я спросил ее, зачем мне консультант по переживанию утрат, если я больше не переживаю свою утрату. Я смирился с тем, что мама умерла, не плачу по ночам и не делаю ничего такого, так что она зря тратит на меня свое время.
– Благодаря морфию она умерла без мучений, – сказал я. – И я встречусь с ней на небесах.
Консультант Венди проигнорировала мое замечание о небесах:
– Вы говорите, что не плачете по ночам. Пока. По всей вероятности, вы подавляете в себе слишком много эмоций.
– Разве птички подавляют в себе эмоции? – пошутил я, глядя на свои шнурки.
Венди искренне засмеялась, и я почувствовал, что поставил девушку в тупик ее же метафорой и, значит, я все-таки не дебил.
Возвращаюсь к описанному выше случаю. Маме пришлось приехать, чтобы освободить меня из тюрьмы, но это произошло не сразу, так что к тому времени мои джинсы просохли. Правда, еще до этого я успел натереть себе мокрыми джинсами бедра, так как непрерывно ходил взад-вперед, пока был в заключении.
В моей камере сидел интересный пуэрториканец, намазанный косметикой. Когда копы за нами не наблюдали, он посылал мне воздушные поцелуи и обещал «зарезать небольно». Что он пуэрториканец, я понял потому, что у него на футболке было написано: «пуэрториканцы трахаются лучше». Хотя, возможно, он не был пуэрториканцем, а просто любил заниматься сексом с пуэрториканцами. Как бы то ни было, это было интересно, и я записал это.
Когда меня отдали маме на поруки и она отвезла меня домой, она сказала, что мне, возможно, лучше удовлетворять себя самому, то есть, как иногда говорят, заниматься онанизмом, пусть даже Католическая церковь считает это грехом. Она не сердилась на меня всерьез за то, что меня арестовали, особенно после того, как я рассказал ей, как это произошло – как эта женщина в розовом парике, в сущности, выпрыгнула из какого-то переулка и, не успел я что-либо сообразить, как она начала тереться о мою ногу. Мама кивнула и сказала, что должна была бы объяснить мне насчет самоудовлетворения прежде, чем все это случилось, но такие разговоры обычно ведут отцы, а мой отец умер, когда было еще слишком рано говорить со мной о сексе, так что это не ее вина.
В ту ночь мама пришла ко мне в комнату, села на край моей постели, как делала, когда я был маленьким, указала на распятие, висевшее у меня над головой (ее подарок к моей конфирмации), и сказала:
– Этот парень водился с проститутками. И его тоже арестовали. Так что ты попал в хорошую компанию, Бартоломью. Не слишком переживай из-за всего этого, ладно?
Я ничего не ответил, и она добавила:
– Жаль, что тебе не попалась Вивьен Уорд вместо этого переодетого копа.
Она имела в виду женщину, которую играла Джулия Робертс в «Красотке», ну, Вы-то знаете.
– Но я хочу большего, я хочу, чтобы сбылась сказка, – сказала она точно так же, как Джулия Робертс сказала Вам в фильме. – Я хочу, чтобы она сбылась для тебя. У меня самой ничего не получилось, так пускай получится у тебя. Ты только верь в сказку, ладно? И верь, что даже у некоторых проституток доброе сердце. Верь в это или даже притворись, что веришь!
Не знаю почему – может быть, потому, что мама всегда связывала столько надежд со мной, а я никак не мог подтвердить ее дерзкие подозрения относительно ее единственного сына, – но мне пришлось отвернуться от нее. Я почувствовал, что вот-вот расплачусь, в глубине глаз что-то давило. Мама провела рукой несколько раз сквозь мои волосы, как она делала, когда я был маленьким. И хотя я слишком уже вырос для того, чтобы меня убаюкивали таким образом, это было приятно. Маленький сердитый человечек у меня в желудке уснул. Очевидно, ее рука в эту ночь была способна творить чудеса.
– Я очень хочу, чтобы у тебя сбылась сказка, мой дорогой доверчивый мальчик, – повторила она и, выключив свет, вышла из комнаты.
Моего отца, по всей вероятности, убили куклуксклановцы, которые ненавидели католиков, и я его совсем не помню. Теперь уже забыли, что когда-то куклуксклановцы ненавидели католиков не меньше, чем черных или евреев. Мама сказала, что из-за священников-педофилов людей больше не волнует, если кто-то ненавидит католиков, и никто не задумывается о том, что куклуксклановцы, возможно, продолжают их ненавидеть. Еще она сказала, что если священники будут по-прежнему приставать к маленьким мальчикам, то рейтинг у Католической церкви там, на небесах, будет даже ниже, чем у ку-клукс-клана. Она считала, что именно поэтому убийц моего отца не искали и газеты об этом даже не стали писать, так что неудивительно, что я не смог ничего найти об этом в библиотеке.
– Когда-то католикам приходилось очень несладко в этой стране, – говорила мама, когда я был еще маленьким. – Твой отец был добрым католиком, но однажды вышел купить пачку сигарет – и больше его не видели. В полиции сказали, что он бросил нас и завел другую семью в Монреале, откуда он родом, но мы-то знаем правду.
Так что мама старалась, как могла, и нельзя обвинять ее в том, что меня арестовали. Однажды я спросил ее, был ли отец тоже выдумщиком, и она ответила, что был. По-видимому, он во многом был похож на меня.
Но почему отец не смог подарить маме сказку?
Почему большинство людей не могут сделать это друг для друга?
Вы не знаете, Ричард Гир?
Может быть, работа в кино научила Вас этому?
3
Увы, я, похоже, не телепат
Дорогой мистер Гир!
Сегодня утром я проснулся, поставил вариться кофе и только хотел послушать выносливых (или ленивых) утренних птиц, как маленький сердитый человечек у меня в желудке в негодовании завопил: «Идиот! Неандерталец! Тупица!»
Это было очень странно, я никак не мог понять, что его так рассердило. Обычно я сразу понимаю, чем он недоволен, потому что обычно я и сам недоволен тем же.
Но тут, сколько я ни думал, ничего не приходило в голову.
Я приготовил кофе и только сделал первый глоток, как до меня дошло.
Рассказывая Вам в прошлом письме о самых разных, не связанных друг с другом событиях, я совсем забыл о том, ради чего я сел писать его. Я даже ничего не сообщил Вам о самом важном, что было вчера, когда я ходил в библиотеку. Наверное, я действительно колоссальный ярко выраженный идиот.
(Что-нибудь интересное всегда уводит мои мысли в сторону, и часто людям трудно поддерживать со мной беседу, так что я стараюсь поменьше разговаривать с незнакомцами и предпочитаю писать письма, в которых можно спокойно изложить всё, не то что в разговоре, где нужно вовсю пыхтеть, чтобы успеть сказать то, что ты хочешь, и почти никогда это не удается.)
А в библиотеке я нашел статью в «Хаффингтон пост», где говорилось, что далай-лама благословил Вас в храме Махабодхи в Бодх-Гая. Газета была от 18 марта 2010 года. Там были также фотографии. На одной Вы кланяетесь далай-ламе, а он наклонился и касается руками Вашего лба таким жестом, будто молится, а на другой Вы молитесь с открытыми глазами и в наушниках фирмы «Боуз», на вид очень дорогих. Мне стало интересно, что это Вы слушаете. На левом запястье у Вас были деревянные четки, а на правом старый кожаный ремешок от часов. Судя по Вашим глазам, на Вас нашло вдохновение. Вы помните этот день?
Вы видели эту фотографию?
Получить благословение далай-ламы – это, наверное, очень большая честь, и я хочу поздравить Вас прямо сейчас, хотя это событие произошло почти два года назад. Наверное, это эквивалентно встрече с римским папой. Я был бы очень возбужден, если бы встретил папу, даже этого нового папу, немца. Мама не любила немцев, потому что ее отца убили на Второй мировой войне. (Я ничего не имею против немцев.)
Потом я нашел статью в «Сиракьюз буддизм экзаминер». В ней говорилось, что «журнал „Тайм“ в обзоре самых значительных событий последних 12 месяцев назвал самосожжение тибетских монахов „главным недостаточно освещенным событием“ 2011 года». Там же был помещен снимок монаха, который поджег себя. Он был похож на столб горящей лавы. Не верилось, что этот человек сжигает себя заживо, потому что он стоял совершенно спокойно, а красновато-оранжевое пламя было почти красиво.
(Я также подумал, почему смотреть в интернете в публичной библиотеке на горящего человека считается нормальным, а на двух обнаженных женщин, лижущих друг друга, не считается. Кто устанавливает эти правила? Смерть – это нормально, а секс – нет. Матери должны умирать. Рак настигает тебя, когда ты меньше всего этого ожидаешь.)
Я долго смотрел на горящего монаха, но никак не мог заставить себя поверить, что это реальный человек. Не то чтобы я не верил заголовку и сомневался в нем, просто мне трудно было поверить, что такие вещи действительно случаются. Что люди на другой стороне земного шара способны так переживать из-за чего бы то ни было, что поджигают самих себя.
Насколько я понял, эти монахи совершили самосожжение, чтобы привлечь внимание к Вашей общей цели – возвращению далай-ламы в Тибет.
Еще в статье было написано, мол, «журнал „Тайм“ признает, что сейчас, чтобы вопрос о Тибете попал в новости, надо, чтобы президент США возмутил Пекин встречей с далай-ламой или знаменитый человек вроде Ричарда Гира начал сбор средств».
Когда я прочитал это, то был потрясен: Вы, мой друг Ричард Гир, влиятельнее президента США, потому что его даже не назвали по имени, а Вас назвали.
Интересно, что ты чувствуешь, если ты более знаменит и влиятелен, чем Барак Обама?
Я понял также, что, устроив званый обед, Вы можете сделать для далай-ламы больше, чем буддистские монахи, заживо сжигающие себя. Их жертва остается почти без внимания, потому что они никому не известны, а то, что Вас благословил далай-лама, было напечатано в «Хаффингтон пост».
Вы, Ричард Гир, влиятельный человек.
Я рад, что в этот трудный период моей жизни решил довериться именно Вам. Чем больше я узнаю о Вас, тем лучше я понимаю, что мама была права, сохранив Ваше письмо в ящике для нижнего белья. Возможно, она знала, что мне понадобится Ваш совет, когда ее уже не будет, и хотела, чтобы я нашел Ваше письмо и понял, что это ключ. Получается, что она все еще помогает мне, устроив так, чтобы мы с Вами переписывались.
На сайте, который называется «Тибетское солнце», я прочитал (и записал в свой блокнот для интересных вещей) следующее: «Сообщают, что бывший буддистский монах, который поджег себя на прошлой неделе в знак протеста против китайского правления в Тибете, умер от ожогов. Это уже двенадцатый тибетец с марта этого года, протестующий таким образом против пекинской политики. Семеро из них, согласно сообщениям, умерли».
Двенадцать монахов сожгли себя ради того, к чему стремитесь и Вы.
Разумеется, это напомнило мне о двенадцати учениках Иисуса Христа, включая моего тезку Варфоломея (которого иногда называют Нафанаилом).
Я подумал, что, может быть, Вы, Ричард Гир, современный буддистский Иисус Христос.
Интересно, а Вы никогда не думали о том, чтобы сжечь себя, раз Вы тоже буддист? Представляете, какой шум подняла бы пресса?! Все во всем мире были бы как громом поражены, если бы знаменитый голливудский актер и филантроп Ричард Гир совершил самосожжение.
Представляете, какое бы это произвело впечатление!
Это была бы Ваша самая знаменитая роль!
Но я от всей души надеюсь, что Вы не предадите себя огню, потому что я ведь только-только начал переписку с Вами. Я хотел бы продолжить этот разговор, так что, пожалуйста, не идите путем тибетских монахов. Я думаю, живой Вы можете сделать гораздо больше, чем мертвый, и похоже на то, что их жертвы бессильны против Китая. И ведь есть еще Ваше письмо-ключ, найденное в мамином ящике для нижнего белья. Может быть, Вам предназначено помочь не только далай-ламе, но также и мне, Бартоломью Нейлу. Ваше самосожжение никак не поможет мне в текущий момент, – по крайней мере, я не вижу, каким образом оно могло бы помочь.
Никто в Соединенных Штатах даже не знает, что эти монахи приносят такие колоссальные жертвы, и их судьба приводит меня в уныние.
«Жизнь – дерьмо», – говорит мой консультант по утратам, молодая рыжеволосая Венди, всякий раз, когда наш разговор заходит в тупик.
Это ее стандартная фраза по умолчанию.
Мудрость, предназначенная для меня.
«Жизнь – дерьмо».
Когда она говорит это, то как бы притворяется, что нас с ней связывает не ее работа, а человеческая дружба. Мы как бы пьем пиво в баре вроде друзей, которых показывают по телевизору.
«Жизнь – дерьмо».
Она произносит это даже шепотом, как бы понимая, что не должна мне говорить это, но хочет, чтобы я знал, что ее оптимистический тон и позитивные утверждения – это притворство, часть игры.
То же самое, что быть птичкой.
Я соединяю воображаемыми линиями веснушки на ее лице, чтобы получались картинки, такие новообразованные созвездия. Если очень постараться, то можно нарисовать сердце.
Лицо у нее овальное.
Глаза ее иногда бывают как майское небо в субботний день, а иногда они такого же цвета, как льдина с белым медведем.
Она красива, как маленькая сестренка.
Но вернемся к монахам. Я не уверен, что поджег бы себя ради какой бы то ни было цели, и иногда меня беспокоит, что я не верю во что-нибудь настолько, чтобы теперь, когда мне не надо больше заботиться о маме, внести значительный вклад в общее мировое дело.
Иногда мне хочется, чтобы у меня была цель и были чувства, какие Вы, наверное, испытываете в отношении возвращения далай-ламы в Тибет, но мои чувства никогда не достигали такой интенсивности.
До сих пор я обычно был удовлетворен, проводя время с мамой, и она тоже говорила, что проводить время вместе со мной – это замечательно.
Она говорила, что я ей нужен, и мне было приятно, что я нужен.
Она никогда не давала мне понять, что я должен делать что-то еще в жизни – например, зарабатывать деньги или пить пиво с друзьями в баре, – и иногда я беспокоюсь, не было ли ее нетребовательное отношение ко мне ошибкой, особенно при воспитании сына, растущего без отца.
Теперь, когда мамы больше нет с нами, я думаю, не пора ли мне найти что-нибудь, что вызывало бы у меня сильные чувства. Прежде, чем мне исполнится сорок лет. Я хотел бы выпить пива с другом в баре – хотя бы раз.
Мне хотелось бы сводить Библиодевушку в какое-нибудь приятное место, может быть к дамбе за Музеем искусств – там можно слушать, как течет река.
Венди говорит, что «следующая фаза моей жизни», возможно, будет лучшей. Хочется верить ей, но она ведь всего лишь молодая девушка, которая пока не так уж много испытала в жизни. Она мне нравится, но я не считаю ее своим «доверенным лицом».
Вы мое «доверенное лицо».
Я хотел бы выпить пива с Вами в баре, Ричард Гир.
Что Вы об этом думаете?
Я с радостью прислушался бы к Вашему совету.
Как по-Вашему, должен я испытывать сильные чувства по отношению к чему-нибудь?
Должен признаться, чем больше информации я собираю в интернете, тем больше я симпатизирую Вашему делу, Ричард Гир.
Далай-лама, по-моему, необыкновенно симпатичный человек. Я читал о нем и о его философии. Он говорит, что мы должны перебороть наше чувство своего «я».
Далай-лама говорит: «Мы должны понять, что страдания одного человека или одной нации – это страдания всего человечества. А счастье одного человека или нации – счастье всего человечества».
В книге далай-ламы «Глубокий ум» Вы пишете в послесловии, что наша жизнь похожа на луч света из кинопроектора, освещающий экран, который сам по себе пуст. Мне это очень понравилось. Это хорошо, это прекрасно.
Это правда?
Мне надо почитать еще о буддизме.
А в отношении того, чтобы испытывать чувства, мне, наверное, лучше начать с чего-нибудь не столь значительного, как противоборство с Китаем.
Я даже не могу заговорить с Библиодевушкой, хотя втайне пытаюсь сделать это вот уже несколько лет. У меня нет такого преимущества, как у Вас, я не так красив. Ростом я шесть футов три дюйма, у меня слишком много волос на руках и в ушах, а на голове слишком мало. К тому же я уверен, что мой нос несимметричен. Никто никогда не говорил мне это и не смеялся над этим, но зеркала не врут.
Иногда я в уме посылаю Библиодевушке сообщения, но она, по-видимому, не умеет читать мысли на расстоянии. Увы, я, похоже, тоже не телепат.
Буду благодарен за любой совет, какой Вы можете предложить.
4
В конце концов мне придется забраться внутрь отца Макнами и проверить, все ли там на месте
Дорогой мистер Гир!
В прошлую субботу отец Макнами был явно не в себе.
Сначала он объявил, что отслужит мессу за упокой души моей мамы, хотя я не заказывал ее, не заполнял соответствующего бланка и не сделал необходимого пожертвования. И что еще более странно: он ведь уже отслужил по ней заупокойную службу на предыдущей неделе. Вы, как буддист, может быть, не знаете, но посвящать две службы подряд одному лицу не принято.
После этого отец Макнами настоял на том, чтобы зажечь кадильницу с благовониями, как делают только на похоронах, на Пасху или на Рождество. Это очень огорчило других священников, которые пытались остановить его, положив руку ему на плечо и горячо шепча ему что-то, но им не удалось его переубедить. Другие священники перестали горячо шептать только после того, как в результате борьбы отца Макнами с ними шар кадильницы с благовониями вырвался из его рук, как камень из рогатки, и полетел к окну с витражным стеклом. Все так и ахнули, но, к счастью, гравитация победила, и кадильница ударилась о каменную стену, выпустив целое облако благовоний. Алтарные мальчики кинулись разгонять облако и наводить порядок.
А отец Макнами даже не обратил внимания на произошедшее.
В нормальной обстановке он отпустил бы какую-нибудь шутку – может быть, о Давиде и Голиафе, – он бывает очень остроумным и пользуется популярностью. На лотереи, которые отец Макнами проводит с большим вдохновением, стекаются сотни старушек; он часто собирает деньги на какое-нибудь достойное дело своими выступлениями, представляющими собой смесь проповеди и фарса. Однако на этот раз он никак не успокоил испуганную конгрегацию, и в воздухе церкви Святого Габриэля физически ощущалось напряжение.
Что-то было не так.
Все это чувствовали.
Другие священники обменивались взглядами.
Но месса продолжалась, и постепенно все втянулись в привычный субботний ритуал, пока дело не дошло до проповеди.
Отец Макнами занял место за кафедрой, крепко схватился за нее руками, нагнул голову и, наклонившись вперед, уставился на нас, не говоря ни слова.
Так продолжалось, наверное, целую минуту, и это напугало людей даже больше, чем инцидент с кадильницей.
– Мммммммммм, – наконец сказал или, точнее, простонал он.
Этот звук, казалось, долго назревал в нем наподобие какого-то чудовищного пузыря, ожидавшего подходящего момента, чтобы вырваться наружу и лопнуть.
Затем отец Макнами принялся хохотать, пока слезы не заструились по его лицу.
Перестав хохотать, он содрал с себя сутану и, оказавшись перед нами в нижней рубашке и брюках, произнес:
– Я отрекаюсь от обета! В этот самый момент я складываю с себя сан!
Все только рты разинули.
А отец Макнами удалился в помещение для священников.
Прихожане стали переглядываться и тихо переговариваться, пока не встал отец Хэчетт. Он сказал:
– Давайте споем сто семьдесят второй гимн «Я виноградная лоза святая».
Заиграл орган, все дружно встали, заскрипев скамейками, и с облегчением запели, восстанавливая привычный порядок.
Я стоял один у последней скамейки. Спрятав свой блокнот для интересных вещей, которые я слышал, в сборнике гимнов, я принялся записывать все услышанное.
Когда кончили петь, отец Хэчетт произнес:
– Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, глава пятнадцатая, стих пятый. Можете садиться.
Это я тоже записал. Точность подтверждена.
Не помню, что говорил отец Хэчетт в своей импровизированной проповеди, потому что у меня из головы не шел отец Макнами. Несколько раз я хотел встать и пойти в помещение для священников, чтобы проверить, как он там, ободрить его и сказать, что он должен оставаться священником. Я ощущал какое-то тепло в груди. Мне казалось, что я могу как-то помочь. Но что я мог сделать на самом деле?
Отец Макнами опытный священник, пользующийся доверием. Он помогает многим людям, например, своей известной программой для неблагополучных подростков нашего города, которых он организует и превращает в своих помощников в летней программе для детей с физическими недостатками. Каждый год в июле вся пресса пишет об этом.
Он часто навещал маму, когда она болела, а после ее смерти позаботился о том, чтобы один из прихожан оформил все документы, необходимые для того, чтобы наш дом достался мне, а то мама написала завещание не совсем правильно. Он также договорился с Венди, чтобы она бесплатно заходила ко мне раз в неделю, потому что мама оставила мне очень мало денег. На маминых похоронах он произнес замечательную речь и назвал ее истинной христианкой (я записал это в блокноте), а после этого отвез меня на побережье, так как у меня не осталось никаких родственников, и мы гуляли там, чтобы я «выкинул из головы» мысли о маминой кончине.
– Мы прямо как Иисус с учениками, прохаживающиеся по берегу моря, – сказал я, наблюдая за холодными белыми барашками на воде. Тут отцу Макнами, очевидно, попал в глаза песок, потому что он начал тереть их. Чайки подняли крик над нами, а он простонал.
– Что с вами? – спросил я.
– Все в порядке, – отмахнулся он.
Ветер подхватил с его щеки слезу и перенес ее по воздуху мне на ухо.
После этого мы долго ходили, не говоря ни слова.
Первую ночь после маминых похорон он провел со мной, у нас дома. Мы пили виски и выпили, наверное, больше, чем следовало. Отец Макнами наливал себе всякий раз «на три пальца», а мне на один, так что он быстро покраснел и опьянел. Но все равно в компании с ним было хорошо.
Он сделал очень много для нас с мамой за все эти годы.
– Сам Бог послал его нам, – говорила она. – У отца Макнами истинное призвание.
Несколько лет назад я наконец решился признаться отцу Макнами в грехе мастурбации. Он не стал стыдить меня и только прошептал через занавеску исповедальни:
– Бог пошлет тебе жену, Бартоломью, я уверен.
Вскоре после этого в библиотеке начала работать Библиодевушка, и я часто думал, не Бог ли это устроил. Это опять заставляет вспомнить синхронистичность и unus mundus[10] Юнга.
Теперь в своих молитвах я прошу Бога, чтобы он дал мне храбрости заговорить с Библиодевушкой, которая, кажется, прямо сияет в библиотеке, как Дева Мария в витражном окне церкви, когда на небе солнце.
Но храбрости у меня не прибавляется.
Я молю Бога, чтобы он научил меня нужным словам, но всякий раз, когда я вижу Библиодевушку, мне становится так жарко, что, кажется, мозг кипит у меня в черепе и все слова испаряются.
Возможно, наше с Вами притворное двойничество помогло бы мне добиться успеха, но дело в том, что я хочу, чтобы Библиодевушка полюбила Бартоломью Нейла, а не нас вдвоем. Вы-то могли бы завоевать ее, всего лишь мимолетно улыбнувшись ей или подмигнув, – для Вас это не составило бы труда. Я хочу добиться ее расположения, но мне для этого нужно гораздо больше времени.
Из того, что я читал про буддизм, следует, что это желание – серьезная помеха моему просветлению. Но я напоминаю себе, что у Вас есть жена, и если Ричарду Гиру, выдающемуся буддисту и другу далай-ламы, разрешается иметь такие желания, то и мне, наверное, можно, так ведь?
Когда в прошлую субботу служба закончилась, отец Хэчетт не разрешил мне поговорить с отцом Макнами и не пустил меня в помещение для священников.
– Молись за отца Макнами, Бартоломью, – говорил отец Хэчетт. – Самое лучшее, что ты можешь сделать, – это молиться. Обратись к Богу. – Он повторял это снова и снова и похлопал меня по груди, как какое-нибудь крупное домашнее животное – датского дога, например. – Успокойся. Нам надо сохранять спокойствие. Всем до единого.
Возможно, я был расстроен больше, чем мне казалось. Правда, сердитый человечек у меня в желудке не пытался на этот раз повредить мои внутренние органы. Это было расстройство другого сорта. У меня есть склонность возбуждаться, если меня что-то беспокоит. Как бы то ни было, у отца Хэчетта был испуганный вид. Люди часто пугаются меня, когда я возбуждаюсь или сержусь. Но я никогда, ни разу в жизни, никому не причинил вреда, даже в школе, когда меня толкали и называли дебилом.
(Худший день в моей жизни принес мне вместе с тем самое лучшее переживание, какое у меня было в старших классах школы, хотя тогда я действительно чувствовал себя чуть ли не дебилом. Наша признанная красавица Тара Уилсон подошла к моему шкафчику и таким очень сексуальным голосом пригласила меня спуститься вместе с ней во время перерыва на обед в подвальное помещение. Я знал, что ученики занимаются там во время уроков сексом, и был очень взволнован тем, что одна из самых популярных девушек нашего класса хочет пойти туда со мной. При этом я понимал, что здесь какой-то подвох. Сердитый человечек у меня в желудке бесился, топал ногами, пинал меня и велел не попадаться на эту удочку. «Не будь идиотом!» – кричал он. Но я понимал, что другого случая пойти туда с Тарой Уилсон мне не представится, и было очень приятно притвориться, будто я думаю, что она хочет этого, хотя она так нервничала, что даже вспотела в декабре, и притворяться было очень трудно. Когда мы спускались в подвал, она даже взяла меня за руку, и это было восхитительно. Этот краткий миг, когда я держал ее руку в своей, и был, наверное, самым лучшим событием, случившимся со мной за все время обучения в школе. Я до сих пор вспоминаю Тару Уилсон – то, как ее челка взмывала вверх, когда она прыскала на нее лаком для волос, три витые золотые цепочки у нее на шее, золотой «солдатский» медальон с надписью «Т-А-Р-А» и маленьким бриллиантиком внизу справа и то, как она курила «Мальборо редз» на углу после школы, словно кинозвезда, смеялась и, запрокинув голову, поднимала руку в виде знака мира с сигаретой между пальцами и пускала к облакам струю дыма, как какая-то удивительная прекрасная дымовая труба. Несмотря на то что она заманила меня в ловушку, она мне по-прежнему нравится, и я надеюсь, что у нее хорошая семья и все у нее сложилось. Надеюсь, что Тара Уилсон живет счастливо. Когда мы спустились в подвал, Тара повела меня в темный угол. Там притаились с десяток мальчишек из нашего класса. Они окружили меня и начали скандировать: «Дебил! Дебил!» – и не успел я опомниться, как меня схватило сразу множество рук и я оказался в полной темноте в чулане, откуда не мог выбраться. Я кричал и стучал в дверь, наверное, несколько часов, но меня не слышали. В конце концов я решил притвориться, что сплю в своей постели крепким сном и весь этот кошмар мне снится. Я притворился, что скоро я проснусь и мама приготовит завтрак. Какое-то время это помогало, но затем сердитый человечек у меня в желудке разозлился, стал брыкаться, стучать и кричать, чтобы я выбирался из чулана. Я пытался выбить дверь плечом, но это было все равно что мысленно приказывать горе, чтобы она сдвинулась. Руки у меня распухли и стали болеть, и в конце концов я отдался темноте, думая, что, наверное, так и умру там. Я молился и просил Бога спасти меня, но все равно никто не пришел. Стало холодно. Всю ночь я дрожал на бетонном полу, а мама в это время была в страшной тревоге и даже звонила в полицию. Когда я уже потерял всякую надежду, неожиданно в чулан хлынул свет, ослепивший меня.
– О боже! Ты в порядке? – услышал я.
Это была Тара. Уже наступило утро, но в школу еще никто не пришел. Она дала мне бутылку воды и пакет домашнего печенья с шоколадной крошкой. Я очень хотел пить и сразу опустошил бутылку.
– Прости меня, – сказала она. – Меня заставили это сделать.
Мои глаза привыкли к свету. Косметика на ее лице размазалась, и вид у нее был такой виноватый и несчастный, что я сразу простил ее. Она рассказала, что однажды на вечеринке напилась до отключки, а наш одноклассник Карл Ленихан раздел ее и сфотографировал в голом виде. После этого он шантажировал ее этой фотографией и заставлял делать то, что он захочет. Тара умоляла меня не говорить никому, что она меня выпустила. Рассказывая все это, она истерически рыдала и размахивала руками. Она сказала, что боялась, как бы я не задохнулся от печного газа, и ждала около школы, когда придет сторож и откроет дверь, и что она ужасно рада, что я жив и все со мной в порядке. А затем – как гром среди ясного неба – она повела себя очень странно: обняла меня, долго держала, плакала мне в рубашку и говорила, что ужасно сожалеет. Она так плакала и дрожала, что я испугался, как бы она не умерла. Я не знал, хочет ли она, чтобы я обнял ее в ответ, и просто стоял там. Затем она притянула к себе мою голову, поцеловала в щеку и убежала прочь из подвала. Больше она никогда со мной не разговаривала. Если мы встречались в коридоре, она отворачивалась. Я никому не говорил о том, что провел ночь в темном и холодном школьном подвале, – даже не знаю почему. Я не делал вид, что этого не было или что это приснилось мне, просто держал это при себе. Вы, Ричард Гир, первый, кому я рассказал это. Маме я сказал, что всю ночь просидел у реки позади Музея искусств – якобы текущая вода загипнотизировала меня и я забыл о времени. Не думаю, что она мне поверила, но не стала уличать меня во лжи, за что я был благодарен ей. Она просто долго смотрела мне в глаза, а потом отвернулась. Мама понимала, что есть вещи, которые лучше не выпытывать. Слова могут служить оружием и слишком сильно ранить. Все самые бойкие ученики нашего класса до самого окончания школы называли меня «Тарой» и «Мальчиком из чулана», а иногда «Тариным дебилом». А Тара делала вид, что мы незнакомы. Так я узнал, что хорошие люди иногда притворяются подлецами. После того случая с Тарой я не раз видел людей, притворяющихся грубыми и злыми эгоистами. Вы с таким не сталкивались, Ричард Гир? С тем, что люди предпочитают выглядеть злыми, а не добрыми? Я не понимаю, почему они это делают, но так, мне кажется, ведет себя большинство людей, и это вызывает у меня недоумение.)
Но вернемся к церковным делам. Я спросил отца Хэчетта:
– Вы не попросите отца Макнами, чтобы он зашел ко мне сегодня вечером?
– Конечно, конечно, – ответил отец Хэчетт. Его худощавое лицо имело цвет знака «стоп», редкие пряди волос развевались под струей нагретого воздуха из отверстия калорифера в стене. – А теперь идите домой. Я скажу отцу Макнами, чтобы он навестил вас. Идите домой. Да благословит вас Бог.
Я не верил, что отец Хэчетт передаст мою просьбу, потому что у него не было такого призвания, как у отца Макнами, – это было видно по его глазам и еще по тому, что он не очень-то многим помогал в церкви. Не то чтобы он был плохим священником, просто у него, в отличие от отца Макнами, не было «истинного призвания»; по крайней мере, так говорила мама. И хотя я ощущал в груди тепло, какое возникает, когда чувствуешь, что Бог хочет, чтобы ты что-нибудь сделал, я пошел домой, полагая, что отец Макнами так или иначе свяжется со мной, потому что он всегда заходил к нам с мамой.
Подойдя к дому, я увидел, что отец Макнами сидит на крыльце. Его белая борода имела даже более необузданный вид, чем обычно, а нос излучал красный свет. Слева от него лежали два пакета из коричневой оберточной бумаги, справа упаковка с пиццей.
– Надо причаститься, – сказал он. – Преломишь хлеб со мной?
Я кивнул, хотя мне не нравился дикий взгляд его небесно-голубых глаз, который сверлил меня и словно хотел утянуть в свой мощный водоворот.
Что-то было в нем нарушено.
Если бы он был домом, то можно было бы сказать, что одно окно у него выбито, а дверь приоткрыта. Его словно взломали и ограбили. Я не знал точно, что унесли, но знал, что в конце концов мне придется забраться внутрь отца Макнами и проверить, все ли там на месте; надеюсь, Вы понимаете, что я хочу сказать. Я не мог представить себе, чтобы отец Макнами причинил мне какой-нибудь вред, но вместе с тем не мог и избавиться от ощущения, что с ним что-то не в порядке и что мне надо быть настороже. Вокруг него сгустилась атмосфера угрозы, как говорят о президентах, премьер-министрах и секретных агентах в шпионских фильмах и телесериалах.
Мы устроились за кухонным столом.
– Христово тело, – сказал отец Макнами, кладя кусок пиццы с грибами мне на тарелку.
Себе он пиццы не взял и пил свой «Джеймсон» не закусывая.
Я пытался есть, но особого аппетита у меня не было.
Я все старался определить, что было украдено из отца Макнами.
– Христова кровь, – сказал он и плеснул в мой стакан виски на палец. – Пей.
Я глотнул. Внутри обожгло.
Он опустошил стакан одним залпом, и лицо его сразу покраснело.
Мама сказала бы, что он расцвел.
– Бартоломью! – обратился ко мне отец Макнами. – Церковь я оставил, и теперь мне надо где-то жить. Строго говоря, даже одежда, что на мне, не моя. У меня есть богатенький друг детства, который посылает мне деньги, но это не бог весть что. Если ты примешь меня, то в обмен я предлагаю тебе мои молитвы.
– Вы и вправду оставляете церковь? Отрекаетесь от обета?
Он кивнул и налил себе еще.
– Почему?
– Исход.
– Исход?
– Исход, – повторил он.
– Как у Моисея?
– Скорее, как у Аарона.
В детстве мама читала мне библейские легенды, и я всю жизнь еженедельно ходил в церковь, где часто читал Библию, так что я знал, что Аарон говорил от имени Моисея, когда тот выводил евреев из Египта.
– Я не понимаю вас, – сказал я.
Отец Макнами опрокинул в себя еще одну трехпальцевую порцию и налил следующую.
– Бартоломью, у тебя никогда не было ощущения, что Бог говорит с тобой? – Он сверлил меня взглядом, пока я не опустил глаза и не уставился на свою пиццу. – Бог не посылал тебе в последнее время каких-нибудь сообщений? Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? Ты, случайно, не автоответчик, записывающий Божьи послания? Может, дашь мне совет? Что говорил тебе Бог в последнее время? Были от него какие-нибудь вести, для меня или вообще?
Я сразу подумал о Библиодевушке, а затем о Вас, Ричард Гир, и о письме, которое мама оставила мне. Я подумал, не могло ли Ваше письмо быть Божьим посланием, несмотря на то что Вы буддист. (Пути Господни неисповедимы.) Но я ничего не рассказал отцу Макнами о Вас. Даже не знаю почему. Может быть, потому, что он был похож на взломанный дом.
– Я наблюдал за тем, как ты растешь, – сказал отец Макнами. – Ты все время менялся. А жил прямо как монах. Не вылезал из библиотеки, читал, учился. Вел простую безмятежную жизнь с мамой, а теперь… – Он отвернулся и вперил взгляд в темноту за окном, хотя там ничего не было видно, кроме отражения нашей люстры, похожего на электрическую луну. – Твой отец был религиозным человеком. Мама говорила тебе это?
– Да, – ответил я, – он погиб смертью мученика за Католическую церковь. Его убили куклуксклановцы.
– Куклуксклановцы? – переспросил отец Макнами.
– Мама так говорила.
Отец Макнами озадаченно улыбнулся, как будто его что-то неожиданно позабавило.
– А что еще она говорила тебе о нем?
– Что он был хорошим человеком.
– Он был хорошим человеком.
– Вы его знали?
Отец Макнами серьезно кивнул:
– Когда-то он регулярно исповедовался мне. Он был глубоко религиозен, связан с другим миром. Бог говорил с ним. У него были видения. Его кровь течет в твоих жилах.
– И мамина тоже, – вставил я, сам не знаю почему.
Отец Макнами никогда еще не разговаривал так со мной, даже когда напивался в стельку. А мама часто говорила о видениях отца. Однажды она сказала, что отец иногда зажмуривал глаза так плотно, что не видел ничего, кроме красного цвета, и тогда он слышал неземные голоса ангелов. По его словам, это было похоже на пронзительный свист ветра, пробивающегося сквозь листву в лесу, только звук был более мелодичным, небесным. Он понимал язык ангелов.
– Она живет в тебе, твоя мама, – сказал отец Макнами. – Это истинно так.
Когда стало ясно, что он ничего не хочет добавить к этому, я спросил:
– Вы действительно хотите жить у меня?
– Да.
– Почему?
– Бог давно уже велел мне сделать кое-что, а я только сейчас к этому приступаю. И в основном потому, что Бог теперь предпочитает отмалчиваться.
– Как это?
– Я что, непонятно говорю?
– Нет… в смысле, да, – ответил я; понять это и в самом деле было непросто. – А что именно Бог велел вам сделать?
– Сложить с себя сан и жить с Бартоломью Нейлом. Но это было давно. Наверное, Бог разозлился на меня за то, что я не послушался.
Я недоверчиво покачал головой. Бог никак не мог говорить с отцом Макнами обо мне. Отец Макнами сказал неправду. Он просто хотел подбодрить меня своей ложью во спасение. Притворялся. Распространил на меня свое призвание, потому что знал, что я не чувствую никакого призвания, и жалел меня.
– Чему ты удивляешься, Бартоломью? Бог всегда разговаривает с людьми. В Библии это происходит постоянно.
Я смотрел на свою пиццу с грибами, думая о том, как далеко зашел отец Макнами. Меня охватила тревога, не поразил ли инфильтративный рак и его мозг тоже.
– Так тебе нечего сказать мне, Бартоломью? Никакого сообщения от Бога? – Он поднял стакан с виски и поглядел на меня. – А?
– Почему вы хотите жить со мной?
– Я думаю, что у Бога есть какой-то план относительно тебя. К сожалению, Бог теперь отказывается говорить со мной, так что я не знаю, в чем именно этот план заключается. Но хорошо уже то, что я здесь и могу помочь тебе выполнить его, если ты возьмешься за это.
Прикончив еще полстакана виски, он спросил:
– Так что это за план, Бартоломью?
Я молча смотрел на него.
– Значит, ты не знаешь? – Наклонив голову набок, он прищурившись смотрел на меня из косматого белого круга, образованного его бородой и волосами на голове. – Бог ничего не говорил тебе в последнее время?
– Не имею представления.
– Совсем никакого? Нет даже подозрения? Ни намека, ни ощущения? Абсолютно ничего?
Я обескураженно помотал головой.
– Ты не слышал никакого зова?
– Увы, нет, – ответил я, поскольку не слышал ничего, что хотя бы отдаленно напоминало зов.
– Тогда нам, наверное, придется подождать. А я буду молиться. Пусть Бог больше не разговаривает со мной, но, может быть, еще слушает.
– Простите меня, отец, но вы всерьез все это говорите или шутите?
– Какие могут быть шутки?
– И вы вправду оставляете Католическую церковь?
– Не оставляю, а оставил. Я официально сложил с себя сан.
– А я могу по-прежнему исповедоваться вам?
– Строго говоря, как католик – нет, но как человек человеку – вполне.
Я не знал, что еще сказать, и глотнул виски.
Горло обожгло.
Выпив полбутылки, отец Макнами отключился на кушетке. Я сидел в кресле и разглядывал его. У него были толстые руки и большой живот, но весь он был плотным, а не рыхлым, как многие тучные люди. Он был похож на картофелину с головой, руками и ногами. А из-за бороды также на Санта-Клауса. Кожа его была рябой и загрубевшей, словно жизнь обходилась с ним бесцеремонно и он тяжко трудился на бескрайней человеческой ниве, взращивая души.
Кожа как кожура картофелины.
Огромной картофелины.
«Ирландец, – называла его мама, – отец-ирландец».
Я укрыл отца Макнами одеялом, и он начал громко храпеть.
Поднявшись к себе, я записал все, что смог вспомнить, в блокнот. Я все думал, действительно ли отец Макнами полагает, что у Бога есть какой-то план в отношении меня теперь, когда я остался без мамы, или же это просто пьяная болтовня. Почти всю ночь я просидел так, думая и гадая.
Когда я спустился утром, отец Макнами молился на коленях в гостиной. Я не хотел ему мешать и приготовил яичницу с маслом и острым соусом, а также поджарил несколько кусочков свиных обрезков, вывалянных в кукурузной муке, которые очень помогают при похмелье. Я знал, что отец Макнами всегда ест эти свиные обрезки, после того как пьет накануне, – он провел немало ночей на нашей кушетке. Мама обычно готовила их ему.
– Доброе утро, Бартоломью, – приветствовал он меня, присаживаясь к кухонному столу. – Ты, вообще-то, не обязан готовить для меня, но тем более спасибо.
Я подал завтрак.
Мы пили кофе.
Зимние птицы пели нам.
– Хорошие яйца, – сказал он.
Я кивнул.
Мне хотелось спросить его о Божьем плане, но я почему-то не решился сделать это.
– Что ты делаешь целыми днями, Бартоломью?
– Ну, часто я хожу в библиотеку.
– Так, а еще?
– Делаю записи в блокноте.
– Очень хорошо. Дальше?
– Слушаю птиц.
– А еще?
– Обычно я ухаживал за мамой.
– Твоей мамы больше нет с нами.
– Я знаю.
– Так что ты будешь делать теперь? Сегодня, например?
У меня не было определенных планов, и я молча смотрел на него, надеясь, что он подскажет что-нибудь. Но он сосредоточился на еде, и когда закончил это занятие, борода его была вся в потеках соуса и походила на разноцветную леденцовую палочку.
– Значит, Он так и не поговорил с тобой?
– Да вроде бы нет, – ответил я.
– М-да, иногда Он ведет себя по-свински.
Отец Макнами отправился в гостиную и опустился на колени. В этой позе он провел несколько часов. Я уж начал беспокоиться, не умер ли он, потому что он был недвижен, как каменная глыба.
Я пытался услышать Божий глас, но до меня доносился лишь щебет птиц.
Я подумал, не надо ли рассказать отцу Макнами о Вас, Ричард Гир, но почему-то не захотел этого делать – и не собираюсь.
Вы мое доверенное лицо, Ричард Гир, и я не хочу делиться своим притворством ни с кем, потому что притворство часто кончается, если ты впускаешь никогда не притворяющихся людей в тот лучший, более надежный мир, который ты создаешь для себя.
Мне хочется, чтобы мы были тайными друзьями, Ричард Гир.
Я думаю, что могу многому научиться и у Вас, и у отца Макнами и пока что лучше не смешивать эти два мира. Пусть будут как церковь и государство. Я узнал об этом в школе на уроках истории, которые Тара Уилсон тоже посещала. Отделение церкви от государства. Вас, конечно, нельзя назвать моим государством, потому что Вы ведь не государство. Но и отец Макнами, похоже, больше не является моей церковью.
5
Рассеченный мозг Чарльза Гито
Дорогой мистер Гир!
Сегодня мне приснился очень странный сон.
Я стоял на променаде в Оушен-Сити и смотрел, как всходит солнце. Было тепло, так что вроде бы это происходило летом, но на много миль вокруг не было ни одного человека, и я подумал, что это все-таки не лето. Солнце нагревало мое лицо как раз до той температуры, какая нужна, волны бились о берег, у меня над головой кричали чайки, и даже металлические перила, к которым я прислонился, были теплыми, как женская рука.
Мне было очень хорошо и покойно, пока я не услышал мамин голос. Она кричала:
– Ричард! Ричард! Помоги мне! Я падаю! Ричард, помоги!
Я стал озираться, но не увидел ни мамы, ни кого-либо другого.
– Ричард! – кричала она. – Пожалуйста, помоги мне! Я не могу больше держаться! Мне больно!
Наконец я понял, что она под настилом.
Я хотел спуститься по лестнице на пляж, но лестницы не было.
Перегнувшись через перила, я не увидел внизу ничего, кроме океана. Солнечные зайчики играли на воде, как мерцающие галактики.
Пляж куда-то исчез.
– Ричард! Ричард! Помоги! – кричала мама.
И хотя она в этом сне называла Ваше имя, я знал, что она зовет меня: это было все то же притворство, которым мы занимались перед тем, как она умерла.
Я опустился на колени и сквозь щели между досками настила увидел маму, которая висела, уцепившись за оголенный электрический провод, который искрил и бил ее током, а под ней была бездонная черная яма. Мама была молодой – такой, как в моем детстве, – с длинными черными волосами и гладким лицом без морщин. Может быть, в этом сне ей было столько же лет, сколько мне сейчас.
Это был какой-то абсурд.
Куда делся пляж?
Куда делся океан?
– Мама! – крикнул я, и наши глаза встретились.
На какую-то секунду она увидела меня сквозь щели между досками – ее зрачки сфокусировались на мне, а на лице появилось странное выражение, чуть ли не ужас.
Она отпустила провод и начала падать все ниже и ниже, и во время падения она старела. Я видел, как ее волосы поседели и стали короче, морщины разбегались от глаз по всему лицу, кожа на руках тоже сморщилась.
– Мама! – завопил я во сне.
– Бартоломью! – вдруг раздался мужской шепот.
Открыв глаза, я увидел, что на краешке моей постели сидит отец Макнами – точь-в-точь как иногда сидела мама, когда я был маленьким.
Я захлопал глазами.
В комнате было темно, свет падал только из коридора, очерчивая силуэт отца Макнами. Я понял, что спал.
– Ты кричал во сне, – сказал он. – Что-нибудь случилось?
– Я видел сон, – ответил я.
Я хотел пересказать сон отцу Макнами, но сон показался мне слишком диким, и к тому же мне всегда надо какое-то время, чтобы вспомнить, что снилось, после того как проснусь, так что я больше ничего не сказал.
– Я тоже не могу уснуть, – сказал отец Макнами. – Хочешь бутерброд?
– Нет, спасибо, – ответил я, так как не был голоден.
– Ну, как хочешь. Но, может, хотя бы составишь мне компанию, пока я ем?
– Ладно, – ответил я и спустился вслед за ним в кухню.
Он стал готовить себе бутерброд с ветчиной и сыром, а я сел за стол.
– Ты знаешь что-нибудь о двадцатом президенте США Джеймсе Гарфилде? – спросил он.
Я еще не вполне проснулся и лишь тупо таращился на его жующую физиономию.
Борода его украсилась желтыми крапинками горчицы.
– Я читаю книгу о нем, – сказал отец Макнами. – Она наверху, на ночном столике.
Я кивнул.
Говоря, он для большей выразительности размахивал бутербродом, так что лист салата удерживался на нем из последних сил.
– Итак, Джеймс Гарфилд был двадцатым президентом нашей великой державы, – сказал отец Макнами. – Судя по всему, он был хорошим, достойным человеком. Поддерживал движение за гражданские права, хотел ввести всеобщее обучение, чтобы все дети – и белые, и черные – умели читать.
Я не мог понять, чего ради он решил рассказывать мне это среди ночи, но не стал спрашивать его. Я клевал носом, и все происходящее казалось мне еще одним фантастическим сном.
– А кто такой Чарльз Гито, ты знаешь?
Я помотал головой.
Отец Макнами дожевал кусок бутерброда, проглотил его и сказал:
– Он выстрелил в президента Гарфилда на железнодорожном вокзале в Вашингтоне и объявил, что это Бог надоумил его. Но еще более немыслимо то, что Гарфилд якобы произнес, когда в него впились две пули: «Мой Бог, что это?» Как будто он спрашивал, не Божья ли это воля. Гарфилд никак не ожидал, что в него выстрелят в этот день. Он полагал, что несет людям добро – может быть, даже действует от лица Бога. Но эти две пули вызвали у него вопрос: «Мой Бог, что это?»
Все это было похоже на очередную проповедь отца Макнами – он часто делал исторические экскурсы. Но почему среди ночи? Из-за виски, что ли?
– «Теперь Артур наш президент!» – завопил Гито. – Лист салата слетел-таки с бутерброда и приземлился на стол, оставив на нем горчичный след. – Артур был вице-президентом в то время. Затем Гито потребовал, чтобы его арестовали. Впоследствии он утверждал, что Бог выбрал его, чтобы изменить ход истории.
Отец Макнами откусил еще один здоровенный кусок бутерброда, прожевал его и проглотил.
– Вы напились? – спросил я.
Ночная лекция была слишком насыщена эмоциями, даже для отца Макнами.
– Отставные ирландские священники никогда не напиваются. Виски лишь развязывает нам язык, – ответил он и, подмигнув мне, продолжил: – Тогда мало что знали о бактериях и занесли своими немытыми пальцами заразу в раны Гарфилда. Из-за этого он умирал медленно, долго и мучительно. В конце концов его перевезли на побережье Нью-Джерси.
Слово «побережье» напомнило мне о моем сне, о том, как мама провалилась в глубокую дыру под настилом. «Синхронистичность?» – подумал я.
– Когда Гарфилд умер, жена его якобы воскликнула: «О, за что мне эти страдания?»
Отец Макнами сделал паузу, чтобы прикончить половину бутерброда. Слизав горчицу с пальцев, он сказал:
– На суде Гито поносил судью и присяжных и, похоже, не сознавал, что его ждет казнь. Он считал себя героем и был уверен, что новый президент помилует его. Законники спорили о том, достаточно ли он здоров психически, чтобы предстать перед судом. Ясно, что он был ненормален, тем не менее его судили и казнили.
Поняв, что это конец истории, я кивнул – на то, чтобы сказать что-либо, у меня не было сил.
– Тебе не хочется говорить, да? – спросил отец Макнами.
– Три часа ночи, – сказал я, посмотрев на часы, стоявшие на микроволновой печи.
Он кивнул и быстро доел бутерброд.
Я не уходил, так как это было бы невежливо.
Прикончив бутерброд, он поднялся, похлопал меня по плечу и сказал:
– Спи спокойно, Бартоломью.
Я послушал, как он поднимается по лестнице, затем тоже поднялся к себе и снова лег.
Лежа, я думал о президенте Гарфилде и его убийце, а также о том, как мама падала в бездонную яму и на глазах старела. Я задавал себе вопрос: не было ли тут какой-то связи?
Когда первые лучи солнца заглянули в окно, я почувствовал тяжесть в голове, потому что провел почти всю ночь в размышлениях.
Я принял душ, оделся и приготовил завтрак.
Отец Макнами сначала отказывался есть приготовленный мною завтрак, сказав, что он не хочет, чтобы я обслуживал его все время, и что ему самому следовало бы готовить себе, но я возразил:
– Я всегда готовил для мамы, так почему я не могу готовить для вас? К тому же, когда я занимаюсь этим, я меньше переживаю из-за мамы.
Лицо отца Макнами стало очень печальным.
– Я очень благодарен тебе, Бартоломью, за то, что ты позволил мне жить здесь.
Мы позавтракали в молчании, и выносливые (или ленивые) утренние птицы исполнили свою симфонию, несмотря на мороз.
Мне хотелось спросить его, не был ли наш ночной разговор о двадцатом президенте немножко безумным, но я не спросил. Возможно, я боялся, что тоже схожу с ума, как мама и Чарльз Гито. Я думал, что не выдержу еще одной битвы с сумасшествием. Тревожил меня также вопрос, не придется ли мне теперь, когда отец Макнами поселился у меня, притворяться и перед ним. Он тоже вел себя довольно странно.
Я думаю, что не смог бы снова притворяться ради кого-нибудь, потому что теперь мне надо притворяться для самого себя, чтобы продолжать жить после маминой смерти. И еще меня беспокоило, что отец Макнами пытается сказать мне что-то важное, а я не понимаю его из-за своей тупости. «Не будь снова таким же дебилом, как в случае с Тарой! – кричал мне сердитый человечек у меня в желудке. – Не доверяй никому, держись в стороне!»
Когда мы вымыли и вытерли посуду после завтрака, отец Макнами сказал:
– А теперь одевайся, я хочу кое-что тебе показать.
В полном молчании мы долго шли по улицам, которые были забиты транспортом и залиты зимним солнцем, пока не добрались до Южной двадцать второй улицы, самого центра Филадельфии.
– Это здесь, – сказал отец Макнами, и я проследовал за ним сквозь тяжелые деревянные двери меж двух серых колонн в кирпичное здание, оказавшееся Музеем Мюттера.
В здании хранились в стеклянных витринах разнообразные части тела и органы, уродливые скелеты, хирургические инструменты и прочие редкости. Я понял, что это медицинский музей, но вместе с тем возникло ощущение, что я стал персонажем какого-то триллера.
Остановившись перед одной из витрин, отец Макнами сказал:
– Взгляни на это.
Это была банка старинного типа, возможно, в таких банках раньше консервировали фрукты. Сверху банка была закрыта металлической пластиной и запечатана воском. Внутри находилась желтая жидкость, в которой плавало что-то вроде артишоков.
– Рассеченный мозг Чарльза Гито, – объяснил отец Макнами. – Его сохранили из-за его исторического значения и для того, чтобы будущие поколения учились по нему.
– Чему тут можно научиться? – спросил я.
Я не мог представить себе всю эту законсервированную мешанину в качестве человеческого мозга, но у музея был очень солидный вид, так что это, по-видимому, действительно был мозг Чарльза Гито, как было написано на табличке, хотя выглядел он очень странно.
– Он был болен, – объяснил отец Макнами. – Врачи должны изучать болезнь, чтобы понять ее и лечить больных людей.
Мне вовсе не нравилось смотреть на раскрошенный мозг. Я представлял себе, что когда-то он был внутри черепа, жил, слушал, говорил и приказывал телу передвигаться, и меня все больше тошнило. Может быть, это объяснялось тем, что я не выспался и устал, но, вообще-то, эта расчлененка никогда меня не привлекала.
– Может, пойдем отсюда? – спросил я, жалея о том, что вместо обычного воротника священника отец Макнами носит мятый воротничок на застежках, когда-то красный, но от множества стирок ставший розовым.
Отец Макнами посмотрел на меня.
– Тебе это неприятно?
– Да, немного, – ответил я, подумав, что это кого угодно выведет из равновесия.
– Тогда пошли, – сказал он, и мы пошли.
Когда мы прошли несколько кварталов, я спросил, не можем ли мы немного посидеть.
Я сел на ступени какой-то трехэтажки, как их здесь называют.
– Что-нибудь не так? – спросил отец Макнами.
– Зачем вы разбудили меня сегодня ночью?
– Ты кричал. Тебя преследовали ночные кошмары.
– А зачем вы привели меня сюда смотреть на этот искромсанный мозг?
– Ты сердишься на меня?
Я не хотел отвечать на этот вопрос и промолчал.
Я действительно был немного сердит.
Все происходило слишком быстро.
Отец Макнами сел рядом со мной, и мы довольно долго наблюдали за движением на улице, но на его вопрос я так и не ответил.
Тошнота у меня прошла.
Сердился я уже меньше.
Мы так долго сидели на холодном бетоне, что мой зад и бедра начали замерзать.
Подошел мужчина в дорогом пальто и с шелковым шарфом на шее и обратился к нам:
– Это мой дом, а вы околачиваетесь тут на ступенях.
– Простите нас, – ответил отец Макнами, кивнув.
Мужчина, не говоря больше ни слова, прошел мимо нас. Я в это время начал уже вставать, и его колено ударило меня по плечу.
– Простите, – сказал я, хотя мне не за что было извиняться, и я подозревал, что мужчина ударил меня намеренно.
Мы ушли.
Минут через пятнадцать отец Макнами спросил:
– Бог так и не поговорил с тобой?
– Нет, – ответил я.
– Наверняка этот осел не разговаривал и с Чарльзом Гито, – сказал он.
Я ничего не ответил ему.
Я не хотел больше говорить о Чарльзе Гито.
В основном потому, что мне не хотелось вспоминать его рассеченный мозг, сохраненный навечно в банке.
– Хочешь знать, почему я так уверен, что Бог не велел Гито убивать Гарфилда?
Отец Макнами вопросительно смотрел на меня, и я кивнул. На самом деле я не хотел этого знать, но понимал, что проще кивнуть, так как ему хотелось высказаться и это был самый быстрый способ покончить с этим вопросом.
– Бог не подговаривает людей совершать плохие поступки. Бог никому не велит убивать президентов. Даже когда Он велел Аврааму убить Исаака, Он не дал ему это сделать и послал ангела, чтобы тот остановил Авраама. Это была просто проверка. Но тебя, Бартоломью, Бог уже проверил болезнью твоей матери и убедился, что у тебя доброе, чистое сердце. Ты выдержал испытание.
Мне сказанное им не понравилось, ведь это означало, что Бог наслал болезнь на маму, чтобы испытать меня, и если вправду так, то как я мог верить по-прежнему в такого Бога?
– Что-то подсказывает мне, что скоро ты поможешь другим без особых жертв, – сказал отец Макнами.
Я подумал, что, может быть, Чарльз Гито воображал, что убийством президента Гарфилда принесет пользу стране, может быть, он верил, что делает доброе дело. А может быть, он был просто помешанным. Но мне не хотелось дискутировать с отцом Макнами. У него был такой довольный вид, будто он произнес самую важную в своей жизни проповедь. Я все больше склонялся к мысли, что у него тоже не все в порядке с головой.
– Бог общается с нами не только с помощью слов, Бартоломью, – сказал он, когда мы ждали зеленый свет на перекрестке. – Иногда это бывает всего лишь ощущение, наитие. У тебя такого не было?
Я помотал головой.
Больше до самого дома мы не разговаривали.
Отец Макнами опять стал на колени в гостиной, чтобы продолжить свою молитву, а я пошел в библиотеку, наслаждаясь ходьбой, холодным воздухом у себя в носу и солнечным теплом на лице.
Библиодевушка в этот день не работала.
Я притворился, что читаю новости в журналах «Ньюсуик», «Тайм» и других, но на самом деле я в основном вспоминал свой сон о том, как мама падает в бездонную черную яму под настилом.
Когда несколько часов спустя я вернулся домой, отец Макнами все еще молился. Глаза его были крепко зажмурены, кисти рук вцепились друг в друга так яростно, что даже побелели, губы шептали какие-то слова с устрашающей скоростью, виски блестели от пота.
К обеду он не вышел.
Когда я ложился спать, он все еще был на коленях.
Интересно, что можно говорить Богу столько часов?
6
«Ситуация осложняется из-за его досадной склонности чрезмерно все анализировать»
Дорогой мистер Гир!
Во время очередного визита Венди отец Макнами молился в гостиной; он делает это часами, даже тогда, когда я смотрю телевизор. Когда он молится, окружающее не существует для него. Он словно погружается в транс. Можно вылить ведро ледяной воды ему на голову, а он даже не пошевельнется.
– А вы что здесь делаете? – спросила Венди, увидев его.
– Он молится, – ответил я, так как отец Макнами не поднял головы. – Пойдемте на кухню.
– Почему он молится в вашей гостиной, Бартоломью?
– Он всегда молится там.
– С каких пор?
– С тех пор, как поселился у меня. Он сложил с себя сан, и теперь…
– Отец Макнами! – завопила Венди.
Когда никакой реакции не последовало, она подошла к нему и трижды дернула его за руку.
Отец Макнами приоткрыл один глаз, как будто все это время только притворялся, что молится, и спросил:
– Да?
– Что здесь происходит? – спросила Венди.
– Я поселился у Бартоломью.
– Зачем?
– Это связано с одним старым делом, которое не имеет к вам отношения.
– Не вижу в этом ничего хорошего.
Отец Макнами вздохнул:
– Вы так молоды, Венди. Меня восхищает ваша молодость и горячность.
– Вы просили меня помочь Бартоломью обрести независимость…
– И что?
Он поднялся на ноги, посмотрел в потолок и сказал:
– Прости меня, Боже.
– Мы так не договаривались, – сказала Венди.
– Давайте поговорим на улице, если не возражаете.
Они вышли из дома и стали разговаривать на тротуаре. Я видел их через окно, но не слышал, о чем они говорят. Отец Макнами все время утвердительно кивал. Венди наставляла на него обвиняющий палец. Это продолжалось минут пятнадцать.
Кончилось тем, что отец Макнами куда-то ушел.
Венди сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, поднимая и опуская плечи, потом заметила, что я смотрю на нее через окно. На лице у нее промелькнуло сердитое выражение, но затем она улыбнулась и направилась в дом.
– Поговорим в кухне? – спросила она, войдя, и, не дожидаясь ответа, прошествовала туда мимо меня. Это было непохоже на нее.
Она сняла свое пальто военного покроя с цветочным узором и повесила его на спинку маминого стула. Мы сели за кухонный стол, но птицы на этот раз не пели, что можно было расценить как некий знак.
– Вы хотите, чтобы отец Макнами жил с вами? – спросила Венди.
Ее оранжевые брови сдвинулись, смяв друг друга; оранжевые волосы были стянуты назад в конский хвост; веснушчатые уши были насквозь пронизаны солнечным светом и казались прозрачными.
– Мне он не мешает, – сказал я.
– Это не ответ.
Я пожал плечами.
– Отец Макнами, похоже, немного не в себе. Вы не замечали ничего странного в его поведении?
Я опять пожал плечами, потому что замечал, но не хотел говорить ей об этом. Возможно, мне не хотелось оставаться одному, и я понимал, что отец Макнами, скорее всего, уйдет, если я выскажу такое пожелание. Мои ощущения было непросто выразить, и я предпочитал отмалчиваться.
– Я понимаю это как знак согласия, – прокомментировала мое молчание Венди. – Послушайте, Бартоломью, я помню, что рекомендовала вам найти подходящую стаю и подружиться с кем-нибудь. Мы выяснили вашу цель на ближайшие три месяца: выпить пива в баре с каким-нибудь подходящим по возрасту человеком, так?
Я кивнул.
– Мне кажется, тот факт, что отец Макнами поселился здесь, не способствует достижению этой цели.
– Почему?
– Вы провели первые сорок лет жизни с матерью и заботились о ней. Не прожили вы самостоятельно и двух месяцев, как к вам вселяется мужчина значительно старше вас. Вам не кажется, что складывается определенная схема?
Я не мог взять в толк, что за схему она имеет в виду, и чувствовал себя неандертальцем. Уверен, что Вы, Ричард Гир, понимаете ее гораздо лучше и, возможно, увидели эту проблему еще два-три письма тому назад.
– Я вас не понимаю, – ответил я.
Она прикусила губу, посмотрела секунду в окно и спросила:
– Отец Макнами говорил вам, что надеется получить через вас сообщение от Бога?
Я понимал, что не стоит говорить ей правду, и потому промолчал.
– Я знаю, что отец Макнами был вашим религиозным наставником в течение всей вашей жизни, что вера и Католическая церковь очень важны для вас. Я знаю также, что отца Макнами очень заботит ваша судьба. Более того, именно он направил меня…
– Что у вас с рукой? – спросил я.
Вопрос вырвался у меня прежде, чем я успел остановить себя. На ее левом запястье был багрово-желтый кровоподтек. Я заметил его, когда она жестикулировала и запястье обнажилось.
– Что? – откликнулась она и опустила рукав, закрыв синяк.
У нее было такое выражение лица, что мне стало неудобно.
– Ах это! – произнесла она. Взгляд ее метнулся вверх и влево, что является, как я читал, классическим признаком того, что человек говорит неправду. – Я упала, катаясь на роликовых коньках. На Келли-драйв. Надо было надеть защитные перчатки. Но у них такой дурацкий вид! Теперь уже все в порядке.
Я не поверил ей, но не стал развивать эту тему. Венди ужасная лгунья. Она снова заговорила об отце Макнами – о том, что разговаривала с отцом Хэчеттом, которого очень беспокоит состояние отца Макнами. Он не сказал, где он будет жить, и даже ни с кем не попрощался. Ей придется сообщить отцу Хэчетту, где он находится. Я помню, что Венди несколько раз упоминала «психическое здоровье», но я слушал ее невнимательно, потому что прокручивал в уме возможные варианты приобретения ею синяка на запястье. Катаясь на роликах, она могла растянуть сустав или даже сломать руку, но вряд ли рука имела бы тогда такой жуткий вид. Хотя, возможно, я и ошибаюсь – я не доктор.
Может быть, ее укусила собака? Но не было видно следов укуса или запекшейся крови. Может быть, она держит дома ручную змею и та слишком туго обвилась вокруг ее руки, а теперь Венди боится, что змею у нее отберут, если она скажет правду?
Все может быть.
Однако все эти варианты были неубедительны. Я боялся, что с ней происходит что-то более страшное, а она делает вид, что все в порядке.
Сердитый человечек у меня в желудке был недоволен.
– Вы что, беспокоитесь обо мне, Бартоломью? – спросила Венди и посмотрела на меня так, как смотрела мама, когда впервые назвала меня Ричардом, или Тара Уилсон перед тем, как вести меня в школьный подвал. Такой взгляд был у сексуально активных девушек в школе: голова чуть наклонена вперед, пристальный взгляд исподлобья. – Вы прямо не сводите глаз с моего запястья.
Я уставился на свои коричневые шнурки.
– Как мило! – произнесла Венди чуть ли не злобно.
Это было нечестно. Обернуть мое участие к ней против меня же. Использовать свою красоту как оружие.
– Отец Макнами вполне нормален, – сказал я. – Он просто…
Я хотел рассказать ей о Чарльзе Гито, о том, что есть хорошее и плохое безумие, но я знал, что она не поймет.
– Как бы то ни было, – сказала Венди, – вы эмоционально не готовы жить в одном доме с другим человеком, особенно если он такого же возраста, как ваша мать.
– Почему вы так думаете?
– Потому что вам надо работать над приобретением друзей-сверстников. Найти подходящую по возрасту группу поддержки. Отыскать свой собственный путь.
– Быть птичкой, – подсказал я.
– О’кей, я признаю, что это сравнение было, возможно, неудачным.
Венди долго смотрела на меня, я смотрел на свои шнурки и ощущал на себе ее взгляд. Наконец она спросила:
– Вы чувствуете себя нормально?
Я кивнул.
– Вы думали о том, чтобы вступить в группу поддержки, о которой я вам говорила?
– Я еще думаю над этим.
– Не хотите поговорить о чем-нибудь, что происходило на этой неделе?
– Нет, спасибо.
– Чем вы занимаетесь с отцом Макнами?
– Ну, всякими мужскими делами.
– Мужскими делами?
– Да.
– Вы не расскажете мне, что это за дела?
– Вы же не мужчина, – сказал я и улыбнулся, потому что было приятно иметь мужские секреты, это как бы приближало меня к возможности выпить пива с другом в баре. Вы гордились бы мной, Ричард Гир, это точно.
– Понятно, – отозвалась Венди и рассмеялась, по-хорошему так. – А что вы читали в библиотеке?
– О далай-ламе, – сказал я, и это было правдой. – И о Тибете.
– Это интересно. А почему именно об этом?
– Вы знаете, что тибетские монахи прибегают к самосожжению в знак протеста против китайского правления?
– К самосожжению? Нет, я не знала.
– Почему?
– Что значит «почему»?
– Почему вы не знаете? Почему никто не знает об этом?
– Не могу сказать. Если это правда, то об этом должны были сообщить в новостях.
– Это правда. Об этом можно прочитать в библиотеке, в интернете.
– Ричарду Гиру следовало бы получше пропиарить этот вопрос, – сказала она и рассмеялась. – Тибет – это ведь его конек, да?
Я сначала не мог поверить своим ушам. Синхронистичность синхронистичностью, но чтобы вот так, ни с того ни с сего, вдруг всплыло Ваше имя! Потом до меня дошел смысл сказанного ею, и сердитый человечек у меня в желудке так и подпрыгнул, принявшись пинать и колотить кулаками мои внутренние органы.
– Не надо смеяться над Ричардом Гиром, – сказал я. – Он мудрый и влиятельный человек. И он делает очень важное и благородное дело. Вы не понимаете. Он помогает людям, очень многим!
– Хорошо, хорошо! – сказала Венди и вытащила из сумки записи, касающиеся меня. – Господи боже мой, я и не знала, что вы такой поклонник Ричарда Гира.
Я хотел сказать ей, что я не просто Ваш поклонник, но что Вы мое доверенное лицо, рассказать ей о нашем общем притворстве, но вовремя спохватился, поняв, что это создаст массу лишних проблем. Венди не увидит смысла в нашей переписке. Венди хочет, чтобы я был птичкой и посещал группу поддержки с людьми подходящего возраста. А птички не заводят друзей среди знаменитых кинозвезд и всемирно известных деятелей культуры.
Не стоит сердиться на Венди.
Она не виновата.
Она искренне хочет помочь мне.
Она просто не знает, как это сделать, но это не ее вина.
Венди всего-то чуть больше двадцати лет – как раз в этом возрасте меня арестовали за то, что я позволил копу, переодетому проституткой, потереться о мою ногу. Человек ничего не знает, когда ему чуть больше двадцати. Постарайтесь вспомнить то время, когда Вам было столько же, Ричард Гир. Вы тогда жили то в Нью-Йорке, то в Лондоне и играли в «Бриолине». Интервью, которые Вы давали, были сенсационными. Вы были гораздо больше развиты во всех отношениях, чем Венди, но могли бы Вы тогда дать мне ценный совет? Нет. Так что не судите Венди слишком строго. Она просто молодая женщина, которая старается делать доброе дело, как может.
– Могу я говорить с вами откровенно?
Я кивнул.
– Я аспирантка.
Я молчал, ожидая продолжения, она же смотрела на меня с таким видом, будто сказала все, что требуется, и исчерпала тему.
– Вы ведь понимаете, что это значит?
Я помотал головой.
– Это значит, что у меня нет разрешения заниматься лечением.
Я продолжал смотреть на нее.
– Я консультирую вас ради практики и поэтому не беру с вас денег.
– Спасибо.
Венди рассмеялась очень звонко и удивленно, будто я сказал что-то очень забавное.
– Послушайте. Я считаю, что надо быть честной с людьми. Посещение терапевтической группы будет для вас полезно. Правда. Это поможет вам. Возможно, вы подружитесь там с человеком подходящего возраста и даже выпьете с ним пива в баре. Я уверена, что вам надо туда вступить. Обязательно надо, непременно. К тому же я должна уговорить вас вступить в группу. Это служит критерием моего профессионализма. Все мои однокурсники уже уговорили своих клиентов посещать групповую терапию, а я выгляжу из-за вас неудачницей. Я понимаю, что не должна была бы говорить вам об этом. Но, может быть, вы все-таки вступите в группу ради меня? Тогда меня не исключат из аспирантуры. Сделайте это для меня, пожалуйста!
Венди умоляюще сложила руки. При этом синяк на ее запястье снова выскочил из рукава, уродливый, как таракан, выползший из щели в полу. Маленький сердитый человечек нанес резкий удар по моей почке. А Венди, приподняв брови, повторила:
– Пожалуйста!
– Если я вступлю в группу, это поможет вам в ваших занятиях? – спросил я.
Эта идея предстала передо мной в новом свете. Вступить туда для того, чтобы помочь Венди, а не себе самому. Почему-то групповая терапия стала выглядеть при этом более привлекательно. Может быть, потому, что мне самому помощь была не нужна и мне не хотелось тратить время на то, что никому не нужно.
– Еще как поможет! Больше, чем вы думаете. В последнее время учеба в аспирантуре складывается у меня не очень хорошо.
Неожиданно мне пришла в голову неплохая мысль.
– А если я вступлю в группу, вы сделаете для меня кое-что? – спросил я.
– Конечно! Все, что угодно. – Венди чуть не подпрыгнула на стуле.
– Вы научите меня, как произвести впечатление на женщину?
Она состроила кислую гримасу:
– Что вы имеете в виду?
– Мне надо знать, как подойти к женщине, чтобы она согласилась пойти со мной в бар выпить пива.
– Вы повышаете ставки в своей игре, Бартоломью!
– Это хорошо или плохо?
– Это замечательно!
Она, похоже, была просто счастлива. Настоящий ребенок. Радуется всякому пустяку.
– Вы можете помочь мне?
– А кто эта женщина?
– Мне не хотелось бы говорить это.
– О’кей, – сказала она, улыбаясь даже своими тонкими оранжевыми бровями. Как-то раз мне довольно быстро удалось сложить из ее веснушек созвездие в виде сердца. – Ситуация ясна.
– Я никогда еще не был на свидании.
– Это не страшно.
– Вы не считаете меня дебилом из-за того, что у меня никогда не было свидания?
– Я никогда никого не считаю дебилом, это слово вообще не должно употребляться.
Я улыбнулся.
– Это вполне подходящая по возрасту цель, – заявила Венди. – Я целиком за.
– Так что?
– Что «что»?
– Как мне сделать это?
– Знаете что? Давайте я обдумаю план действий, и мы поговорим об этом в следующий раз. Мы найдем подход к вашей девушке, Бартоломью. Я обещаю.
Она написала что-то в блокноте, вырвала листок и вручила мне.
Переживание утрат
Понедельник, 20.00
Уолнат-стрит, 1012
Третий этаж
– Скажите Арнольду, что это я послала вас. Вы пойдете? – спросила она.
Я посмотрел на листок еще раз.
Переживание утрат
– Хорошо, пойду.
В этот момент входная дверь распахнулась. На пороге стоял отец Макнами, лицо его покраснело от мороза.
– Ну как, Бартоломью, наша милая Венди уже уговорила тебя выкинуть меня на улицу? – спросил он, топая через гостиную.
Венди сделала глубокий вдох и громко выдохнула воздух, надув щеки и выпятив губы. Она встала и встретила отца Макнами в кухонных дверях.
– Почему вы просили меня помочь Бартоломью, если совсем не уважаете мое мнение? – спросила она.
– Я очень высоко ценю ваше мнение, но, со всем уважением, не соглашаюсь с ним.
– Я не понимаю, что за игру вы ведете?
Отец Макнами, посмеиваясь, подмигнул мне.
– Я сообщу отцу Хэчетту о вашем местонахождении, – сказала Венди.
– Я больше не отчитываюсь перед Католической церковью. Я сложил с себя сан.
– Я не понимаю, что тут происходит, но мне это не нравится! Совсем не нравится! – вскричала Венди.
Втиснувшись в пальто с цветочным узором, она схватила свою сумку и промаршировала вон из дома, захлопнув за собой двери.
Мы с отцом Макнами посмотрели друг на друга.
Венди влетела обратно и спросила:
– Так вы придете на сессию, Бартоломью?
– На какую сессию? – спросил отец Макнами.
– Так придете, Бартоломью? – повторила Венди, не обращая на него внимания. – Обещаете?
– Обещаю, – ответил я, но не стал напоминать ей о ее обещании.
Я почему-то не хотел, чтобы отец Макнами знал о том, что я пытаюсь ухаживать за Библиодевушкой. Сам не знаю почему.
– Хорошо, – сказала Венди и вылетела снова.
– Вздорная особа, – сказал отец Макнами.
Положив руку мне на плечо, он стиснул его, а затем прошел в гостиную продолжать свое моление.
Я не мог понять, почему Венди не хочет, чтобы отец Макнами жил у меня, как и того, почему он попросил Венди помочь мне, а теперь откровенно пренебрегает ее мнением.
Но думать об этом мне совсем не хотелось.
Я посидел на кухне, надеясь услышать птиц, но они в этот день не желали петь.
В кухне висел аромат духов Венди.
Абрикоса.
Лимона.
Имбиря.
Я подумал, чем бы мне заняться. Мамы нет…
И все время я думал о Вас, Ричард Гир.
В Вашей биографии, написанной Питером Кэрриком, он обсуждает на 17-й странице Ваши отношения с Синди Кроуфорд и пишет: «Он [то есть Вы, Ричард Гир] признался, что ему трудно принимать решения, так как для него они означают что-то установленное раз и навсегда, а не преходящее. Ситуация еще больше осложняется из-за его досадной склонности чрезмерно все анализировать».
Когда я прочитал это, то понял, что мое притворство относительно нашего двойничества не случайно, потому что мне всегда мешали действовать всякие навязчивые мысли. Именно поэтому я и начал эту игру с притворством, когда мама заболела. Когда я притворялся Вами, мне не надо было думать за себя и это оберегало меня от ошибок. Я подумал, не играли ли и Вы в такую игру, и тут до меня дошло, что Вы же актер и играете в нее постоянно, правда?
В своей книге «Глубокий ум» далай-лама пишет: «Чтобы изменить свою жизнь, мы должны прежде всего признать, что в настоящее время она неудовлетворительна».
Похоже на то, что и Венди, и отец Макнами хотят, чтобы я изменил свою жизнь.
Но я не сказал бы, что моя жизнь совсем уж неудовлетворительна, особенно теперь, когда я могу советоваться с Вами, Ричард Гир.
7
Его местоимение множественного числа сразу вызвало у меня подозрение
Дорогой мистер Гир!
Как-то вечером в нашу дверь постучали, и, когда я открыл, там был отец Хэчетт, глядевший на меня сквозь круглые очки; его белый воротник сиял в свете электрической лампочки над дверью.
– Я знаю, что он здесь, – сказал он.
– Кто? – спросил я.
Отец Макнами велел мне «прикинуться дурачком», если отец Хэчетт будет разыскивать его. Как раз накануне вечером, сильно напившись, отец Макнами назвал отца Хэчетта «одним из оставленных позади», которые «видя не видят, и слыша не слышат»[11].
– Я думаю, вы прекрасно понимаете, о ком речь, – ответил он.
– Прошу прощения, – сказал я и попытался закрыть дверь.
– Ну хорошо, хорошо, – сказал отец Хэчетт. – Вы можете, по крайней мере, выйти и поговорить со мной?
Поколебавшись секунду, я решил, что не будет ничего страшного, если я поговорю с ним, и вышел.
– Закуривайте.
Он предложил мне сигарету.
– Нет, спасибо.
Он знает, что я не курю.
Мы молча глядели некоторое время по сторонам. Отец Хэчетт несколько раз затянулся. На улице было холодно, и около домов никого не было видно.
– Отец Макнами болен, Бартоломью.
Мне сразу представилось, что инфильтративный рак поразил его мозг. Но было очень маловероятно, чтобы у двух близких тебе людей был рак мозга, и я промолчал. Тем не менее я не мог избавиться от какого-то необъяснимого страха.
– У него биполярное аффективное расстройство. Он всегда страдал от него. А примерно в то время, когда ваша мать умерла, он перестал принимать лекарство.
– Он не выглядит больным, – сказал я.
– А вы знаете, что такое биполярное аффективное расстройство? – спросил он, выдыхая дым в темноту.
– Да.
– И что же это такое, по-вашему?
Я ничего не ответил, потому что у меня было лишь общее представление, а точно я не знал. Я не доктор.
– Это нарушение химического обмена, – сказал отец Хэчетт. – У людей с таким нарушением в мозгу бывает избыток химических соединений, вызывающих бодрость, и они думают, что могут все. Иногда это приводит к импульсивному, сумасбродному и опасному поведению.
Я подумал о Чарльзе Гито, убившем президента Гарфилда.
– За этим маниакальным душевным подъемом всегда следует резкий спад, глубокая депрессия. В таком состоянии эти личности могут совершить самоубийство или быть опасными для других. Вы понимаете меня?
– У отца Макнами нет депрессии, – сказал я. – Я знаю его много лет и ни разу не видел, чтобы он печалился так, чтобы быть опасным для других.
– Мы присматривали за ним, когда он плохо себя чувствовал, Бартоломью. Отсылали в какое-нибудь спокойное место. Выслушивали его бахвальство, следили за тем, чтобы он принимал лекарство. Это была непростая и утомительная задача. Зачастую мы сами не могли справиться с ней, и церковь помогала нам. Я говорю все это вам откровенно, потому что я думаю, что вам одному это не под силу. Нас много, а вы один.
Тут он был неправ, потому что у меня есть Вы, Ричард Гир.
– Мне хорошо в компании с отцом Макнами, – ответил я.
– Значит, вы признаете, что он живет здесь? – засмеялся отец Хэчетт.
– Я ничего не признаю, – сказал я.
«Кретин!» – воскликнул маленький сердитый человечек у меня внутри. «Сохраняй спокойствие», – прошептали мне на ухо Вы, Ричард Гир, и я мысленно увидел Вас рядом с собой. Вы были прозрачны, как привидение, а потом исчезли.
В доме раздался шум, будто чьи-то тяжелые шаги.
Отец Хэчетт обернулся, я тоже посмотрел на окно. В этот момент штору быстро задернули. Отец Макнами следил за нами и, похоже, не старался остаться незамеченным. Я подумал, что он, может быть, даже хочет, чтобы отец Хэчетт знал, что я его прячу.
– Он взрослый человек и публично сложил с себя сан, так что мы не имеем законных оснований предпринимать что-либо, – сказал отец Хэчетт. – Но я хотел предупредить вас, что, когда у отца Макнами начнется депрессия – а она обязательно начнется, – вам понадобится помощь.
Я кивнул – ответить так было проще всего.
– Ему будет казаться, что идет дождь, хотя на самом деле будет светить солнце. Он начнет с подозрением относиться к людям. Он станет невообразимо мрачным и будет кричать на вас, превратно толковать ваши мысли. Тогда-то вы осознаете, что это выше ваших сил.
– Понятно, – сказал я, хотя не поверил ему.
– Я вполне понимаю, почему вы так привязаны к отцу Макнами, – сказал отец Хэчетт. – Его вдохновение может быть прекрасным. Необыкновенно прекрасным. Как у Иоанна Крестителя или даже пророка Илии.
– Прекрасным?
– Невероятно. Он всех нас покорил этим. Иногда в нем проглядывает даже нечто божественное. А иногда у него проявляется пророческий дар, прямо сверхъестественный. Это всех нас притягивало к нему.
Я вспомнил, как однажды взгляд отца Макнами, казалось, засасывал меня, как водоворот.
– Хотите что-нибудь спросить, Бартоломью? Догадываюсь, что все это трудно переварить.
– Как вы думаете, Бог перестал говорить с отцом Макнами? Поэтому он и оставил церковь?
– Бог говорит со всеми, но одним Он говорит больше, чем другим. – Отец Хэчетт щелчком послал окурок на обочину и опять похлопал меня по груди, как датского дога. – Ну, я сказал все, что надо было сказать. Вы знаете, где меня найти – прямо в конце улицы, в церкви Святого Габриэля. Обращайтесь в любое время дня и ночи. Передайте отцу Макнами, что мы по нему скучаем, ладно?
– Ладно.
Мы пожали друг другу руки, и он направился прочь. Судя по его легкой походке, он испытывал облегчение.
С чего бы это?
– Что эта старая развалина говорила обо мне? – спросил отец Макнами, как только я вернулся в дом. Это было несколько странно, потому что на вид они с отцом Хэчеттом одного возраста.
– Он сказал, что у вас биполярное аффективное расстройство, – ответил я.
– И мне следует принимать лекарства, да?
Я кивнул.
– И что ты думаешь? – спросил он.
– О чем?
– Надо меня пичкать лекарствами или не надо?
– Я не знаю.
– Как по-твоему, я свихнулся?
– Нет, – сказал я, понимая, что он ждет именно такого ответа. – Но я не доктор.
– Знаешь, у Иисуса, скорее всего, было биполярное расстройство, – сказал он, энергично кивая самому себе. – Он то призывал любить врагов своих, то опрокидывал столы менял. То подставь другую щеку, то восстанавливай справедливость мечом.
Подняв правую руку, отец Макнами продекламировал:
– «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир». Евангелие от Иоанна, глава шестнадцать, стих тридцать три. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч». Евангелие от Матфея, глава десять, стих тридцать четыре. Сначала Он идет в толпу, чтобы лечить людей, кормить их и внушать благоговение, а потом удирает от них на лодке в спокойное место, молится в одиночестве в саду. Что, если бы Иисуса пичкали лекарствами? – Отец Макнами прочесал пятерней бороду. – Думаешь, Ему захотелось бы отдать Свою жизнь за все человечество? Этот поступок вряд ли можно назвать рациональным. Люди не идут добровольно на крест, если их разум, сердце и душа успокоены лекарствами. Никому не хотелось бы, чтобы Иисус принимал пилюли, меняющие Его настроение, правда? А мы, будучи католиками, должны жить так, как жил Он, верно? Верно?
Я кивнул, потому что это представлялось мне логичным.
Отец Макнами кивнул мне в ответ и добавил:
– И по той же причине Господь дал нам виски.
Он встал на колени в гостиной и продолжал молиться.
Впервые в жизни я решил пропустить мессу, потому что не хотел, чтобы отец Хэчетт снова сбивал меня с толку своими разговорами. Мы с отцом Макнами и так причащались по три раза в день за завтраком, обедом и ужином. Вы, Ричард Гир, являлись мне несколько раз в моей спальне, как призрак, и говорили, что нет ничего страшного в том, чтобы пропустить мессу, что Богу можно молиться и говорить с Ним где угодно. Но Вы все-таки буддист, и я не уверен, что могу целиком положиться на Вас в этих вопросах.
Отец Макнами все молился, молился и молился, и больше ничего существенного у нас не происходило, пока я не пошел в библиотеку утром в понедельник. Библиодевушка была на работе. Я вспомнил о нашем договоре с Венди. Как бы мне хотелось выпить пива с Библиодевушкой в баре!
Я ничего так не хочу, как поговорить с ней.
Я просил Бога, чтобы Он придал мне сил.
На ней были черные ботинки военного образца, джинсы и длинный белый свитер, похожий на платье и обволакивавший ее фигуру от плеч до коленей. Примерно час я наблюдал, как она катает туда-сюда тележку, расставляя на полках книги по алфавиту. Сначала она рассматривала корешок книги сквозь свои длинные каштановые волосы, а затем окидывала взглядом полки.
Найдя нужное место, она кивала и сжимала губы, словно говоря: «Ага, я нашла дом, где вы живете, миссис (или мистер) Книга».
Затем она вставала на колени или забиралась на лесенку, прикрепленную к тележке, и раздвигала книги, освобождая место. Поставив книгу на полку вровень с другими в ряду, она пристукивала по ней указательным пальцем, что, по-видимому, означало «отлично».
Наблюдая за Библиодевушкой, я все время воображал, что Вы, Ричард Гир, разговариваете со мной. Вы говорили: «Посмотри на нее, Бартоломью. Она идеально тебе подходит. Подойди к ней и заговори. Спроси ее, что она любит читать. Спроси, любит ли она смотреть на реку за Музеем искусств. Скажи ей, что тебе нравится, как она одета. Что она работает аккуратно и эффективно и что ты ценишь оба эти качества. Пригласи ее выпить пива с тобой. Что тебе мешает это сделать? Что ты теряешь? Вот же она. Подойди к ней, толстый! Нужно-то всего лишь пройти пятьдесят футов и сказать десять слов. Ну, двигай!»
Когда Вы разговаривали со мной в библиотеке, то неизменно называли меня толстым. «Давай, толстый! Она перед тобой. А я все время буду рядом. Мысленно я буду говорить тебе, что делать. Давай, давай! Все у нас получится. Доверься мне». Мне становилось легче, когда я мысленно слышал Ваш голос, пусть я только притворялся, что слышу. Вы ведь так хорошо и уверенно обращаетесь с противоположным полом и на экране, и без экрана.
Всякий раз, когда Библиодевушка забиралась на самый верх лесенки, я вспоминал ту фразу, которую Вы говорите Джулии Робертс в конце «Красотки»: «Что произойдет, если он взберется на башню и спасет ее?» А Джулия Робертс отвечает: «Она, в свою очередь, спасет его».
Я подумал, что мы с Библиодевушкой тоже могли бы сказать друг другу что-нибудь в этом роде после определенного количества свиданий, а Вы мысленно сказали мне: «Конечно. Конечно, вы скажете это друг другу, толстый. Это совсем нетрудно. Просто подойди к ней и скажи: „Привет!“ Слушай мои подсказки, и все обязательно получится».
Но я не поступил так, как Вы подсказывали.
Я не сказал ей: «Привет!»
Я ничего не сделал.
Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы были так терпеливы со мной, Ричард Гир. Вы ни разу не прикрикнули на меня и не назвали дебилом. Вы говорили мне мысленно только позитивные вещи, приободряли меня. Вы были так добры, что мне чуть ли не плакать хотелось. Я понимаю, почему мама так любила Вас и восхищалась Вами. Правда, маленький человечек в моем желудке был недоволен. Он все время кричал: «Эй, тупица! Никакого Ричарда Гира здесь нет! Это только твое воображение. Разве нормальный взрослый человек станет так притворяться? Только какой-нибудь дебил!» С каждой фразой он пинал меня или бил кулаком, так что все у меня внутри разболелось.
Но Вы, Ричард Гир, не обращали внимания на маленького человечка у меня в желудке и продолжали подбадривать меня.
Вы даже появились на один миг в библиотеке, чтобы улыбнуться мне, и сразу испарились.
Спасибо Вам.
Вы говорили со мной так красиво более двух часов, а потом я вспомнил, что надо идти на сессию в группу по переживанию утрат, а перед этим поесть.
Я съел картошку с салатом в закусочной «Вендиз», потому что, когда я проходил мимо, я как раз вспоминал Венди, моего консультанта по переживанию утрат, подумал о юнговской синхронистичности и решил зайти.
Во время еды я улыбался, думая о своем консультанте и о том, что все совпадения не случайны.
Я думал о Венди в «Вендиз».
А потом я пошел по адресу, который Венди дала мне.
Уолнат-стрит, 1012
Третий этаж
На первом этаже была кофейня, где мне посоветовали позвонить в дверь, находившуюся дальше по коридору. Там был звонок и черный ящик с пронумерованными кнопками и маленькой дырочкой, через которую надо было говорить. Поскольку я не знал кода, я нажал круглую белую кнопку вызова и услышал зуммер: «Бзззззз!»
Спустя секунду мужской голос произнес:
– Да?
– Мм… Мне нужна группа терапии. Помощь понесшим утрату. Меня прислала Венди. Вы, очевидно, Арнольд?
– А вы мистер Бартоломью Нейл?
– Да.
– Венди очень тепло отзывалась о вас. Поднимайтесь на третий этаж!
Опять прожужжал зуммер, после чего раздался щелчок. Я открыл дверь.
Даже сюда из кофейни доносился запах молотых кофейных зерен и кипяченого молока, а также тепло, какое испытываешь, дыша через шерстяной шарф в морозный день.
Наверх вела узкая лестница с деревянными перилами. Стены были окрашены в зеленый цвет оттенка листьев мяты.
Я стал подниматься.
На третьем этаже в дверях стоял блондин с ухоженной светлой бородкой. На нем был коричневый кардиган с кожаными вставками на локтях, вельветовые брюки цвета зеленого мха и замшевые туфли вроде тех, какие носят в кегельбане, только гораздо дороже.
Заглянув в помещение, я с удивлением увидел, что все в нем желтое: желтая кушетка, желтый ковер, желтые стены с несколькими картинами, изображавшими в абстрактной манере цветы, которые казались изготовленными из тонких листов золота.
Предельная изощренность.
– Бартоломью! – воскликнул блондин, протягивая мне руку; я пожал ее. Его рукопожатие было идеальным: не слишком сильным и не слишком слабым. – Добро пожаловать в группу по переживанию утрат! Заходите!
Я не случайно ставлю после его фраз восклицательные знаки: он произносил их с большим энтузиазмом. Несколько сбивало с толку то, что никакой группы в помещении не было.
– Мое имя доктор Девайн, но зовите меня просто Арни. Я очень рад, что вы решили присоединиться к нам. Как настроение сегодня?
Его местоимение множественного числа сразу вызвало у меня подозрение, поскольку, кроме нас, в комнате никого не было.
Но взгляд Арни показался мне честным и открытым. Было похоже, что его действительно волновали мои проблемы и он хотел меня выслушать. Он казался хорошим человеком, хорошим специалистом.
– Нормальное, – ответил я.
– Это замечательно. А что Венди рассказывала вам о нас?
– О ком именно? – спросил я, не в силах оставить без внимания это множественное число, употребленное повторно.
– Обо мне и Максе.
– Максе?
– Она ничего не сказала вам о Максе? – удивился доктор Девайн.
Я почувствовал беспокойство. У Арни на лбу появились озабоченные складки.
– Она фактически ничего мне толком не сказала, кроме того, что мне будет очень полезно прийти сюда, – соврал я.
Я не стал говорить с ним о личных проблемах Венди с аспирантурой, потому что не хотел сплетничать.
– Уф! – вздохнул доктор Девайн. – С чего же мне тогда начать? С. Чего. Начать? – повторил он, уставившись в пол. – Я объединил вас с Максом в одну группу по нескольким причинам, которые я вам сейчас вкратце изложу. Он должен вот-вот прийти, и перед этим я хочу предупредить вас о его… манерах.
– То есть?
– М-да, Венди все-таки следовало бы сказать вам, что…
– Алё, какого хрена? – раздался голос мужчины, вошедшего в комнату с лестничной площадки. – На хрен это. На хрен!
– Привет, Макс! Рад вас видеть. Мы как раз говорили о вас. Бартоломью, это Макс. Он тоже переживает утрату. Макс, это…
– Какого хрена он тут делает? – спросил Макс, стоя в дверях.
– Видите ли, Макс… Мы как раз обсуждали это.
Макс посмотрел на меня и повторил уже мягче:
– Алё, какого хрена?
Я не мог произнести ни слова.
– Давайте лучше сядем, – предложил Арни.
Макс взмахнул руками, как бы желая сказать, что это не имеет значения, и хлопнулся на желтую кушетку в дальнем конце.
На вид он был примерно моего возраста, но носил очки с очень сильными линзами в стариковской коричневой оправе. Зрачки его за толстыми стеклами были похожи на улиток в двух соседних гнездышках. На нем были черные брюки, черные ботинки, фиолетовая рубашка с длинными рукавами, застегнутая на все пуговицы, и черный жилет. Все это издавало сильный запах прогорклого попкорна. К нагрудному карману была прикреплена золотая табличка с его именем:
вас обслуживает макс!
Арни указал мне жестом на другой конец кушетки, и я сел.
Сам Арни опустился в желтое кожаное кресло и скрестил ноги.
– Бартоломью, эта желтая комната – цитадель речевого общения. Что бы вы ни сказали в этой желтой комнате, останется в этой желтой комнате, так что вы можете говорить здесь свободно все, что пожелаете. Здесь вы в безопасности. Но в ответ я прошу вас быть рыцарем доверия. Хранителем секретов. Священной чашей, хранящей тайны, которые Макс доверит вам. А мы будем хранителями того, что скажете вы. Вы готовы помочь нам защитить нашу цитадель, Бартоломью? Можете стать рыцарем доверия?
– Алё, какого хрена? – прошептал Макс прежде, чем я успел ответить. Обернувшись к нему, я увидел, что он качает головой.
– Макс, вы хотели бы сказать что-нибудь?
– Это никакая не долбаная цитадель, Арни. Избавьте нас от этой хренотени.
– Ну хорошо, Макс. Может быть, вы скажете несколько приветственных вводных слов для Бартоломью?
– На хрен нужны эти приветственные слова?
– Вы увидите, Бартоломью, что, несмотря на кажущуюся неприветливость, у Макса нежная душа, и именно поэтому мы решили объединить вас в группу.
Я, должно быть, удивленно приподнял брови или сделал что-то еще, потому что Арни сказал:
– У вас немного растерянный вид.
– А что мы здесь делаем? – спросил я. – Это что-то вроде консультаций с Венди?
– Хороший вопрос, – откликнулся Макс. – Замечательный долбаный вопрос! – При этом он с серьезным видом кивал, так что вроде бы не смеялся надо мной.
– Да, – согласился Арни. – Желтая комната для того и существует, чтобы вы говорили все, что думаете. Но сегодня наша цель – объединить вас в группу, чтобы вы могли поддерживать друг друга в процессе переживания утраты.
Макс с шумом выдохнул.
– Макс, вы не расскажете Бартоломью о своей утрате?
Макс выдохнул с еще большим шумом.
– Ма-акс!
Макс секунд пятнадцать, если не больше, смотрел в потолок и сжимал колени руками, затем сказал:
– Алиса была моим лучшим другом, а теперь, блин, умерла.
– Да, Макс. Я глубоко сожалею об этом, – сказал Арни.
– Алё, это вы ее, что ли, убили?
– Нет, конечно.
– Тогда о чем вы, блин, сожалеете?
– Я сожалею о вашей потере. Я сожалею, что вам приходится испытывать на себе процесс переживания утраты. Я сожалею, что Алиса не утешает вас, как прежде, и надеюсь, что вы справитесь с этим и найдете в себе силы жить дальше.
– Алё, работу я и не прерывал.
– Может быть, вам как раз следовало бы прерваться на несколько дней.
– На хрен это надо?
– Бартоломью, скажите нам, пожалуйста, о чем вы горюете.
– Моя мать умерла от рака.
– От рака? – воскликнул Макс, повернувшись ко мне с широко раскрытыми глазами.
– Да, от рака мозга. Врачи сказали, что он как спрут со щупальцами, которые…
– На хрен рак! Моя Алиса тоже умерла от него. На хрен рак, на хрен!
– А вы что чувствуете по отношению к раку, Бартоломью?
– Ну… не знаю… Он мне не нравится. Мама умерла от него.
– Желтая комната – надежное место, – сказал Арни. – Вы можете выражать здесь свои чувства более энергично, если хотите. Здесь не надо быть вежливым, как в реальном мире, за стенами этой желтой комнаты. Не забывайте: это цитадель речевого общения.
– На хрен рак! – выпалил Макс.
Я кивнул, соглашаясь.
– Что вы чувствовали, Бартоломью, после того как ваша мама умерла? – спросил Арни.
– Это долбаный ад, да? – сказал Макс. – Долбаный ад!
– Ну… я старался приспособиться. Я очень любил маму. Она была мне не только матерью, но и близким другом. Но в конце она была немного не в себе. Она изменилась.
– Алиса тоже изменилась, – сказал Макс. – Она стала пи́сать повсюду – на кровать, на мою одежду, на кушетку. Из-за этого долбаного пи́сания я понял, что с ней что-то не то. Она, по-видимому, лишилась долбаного рассудка.
– У мамы тоже такое было. Ей приходилось надевать памперсы.
– На хрен рак.
– Да, – сказал я.
– Макс, может быть, вы скажете Бартоломью, о чем вы больше всего жалеете после смерти Алисы?
Макс посмотрел на потолок, и мне показалось, что он вот-вот расплачется.
Наконец он снова с шумом выдохнул воздух сквозь зубы, как проколотая камера, пальцем подтолкнул кверху сползающие с носа гигантские очки и сказал:
– Я, блин, жалею о том, что никто не встречает меня дома, когда я возвращаюсь после позднего сеанса, а моя сестра, блин, спит. Алиса всегда ждала меня. Всегда, блин. Я жалею о том, что никто не сидит у меня на коленях, когда я смотрю телевизор, и не урчит, когда я чешу ее за долбаным ухом. Мне жаль, что никто не проводит больше целые дни на подоконнике, нежась на долбаном солнце.
– Погодите… Я не понимаю, – сказал я.
– Что вы не понимаете? – спросил Арни.
– О ком вы говорите, Макс?
– О долбаной Алисе!
– А кем она была вам?
– Она была для меня, блин, всем. Пятнадцать долбаных лет.
– Значит, она была… вашей женой?
– Алё, какого хрена? – взвился Макс. Лицо его покраснело, будто я обварил его кипятком. – Вы что, думаете, я какой-нибудь долбаный раздолбай?
– Не горячитесь, Макс, – вмешался Арни. – Бартоломью не знает, что Алиса была кошкой.
– Я же сказал, что она сидела целыми днями на подоконнике!
– Люди тоже могут сидеть на подоконнике, – сказал я.
Макс махнул рукой и сказал:
– Я, блин, очень тоскую по Алисе и не стесняюсь говорить это, особенно в этой долбаной желтой комнате, где полагается переживать открыто. Она была пестрой расцветки, блин, и была предана мне больше, чем какой-нибудь долбаный человек когда-либо. Мне начхать, что она была кошкой. На хрен! Мне ее не хватает. И знаете, что я скажу вам?
– Скажите, скажите, – оживился Арни. – Скажите все, что вы думаете. Мы слушаем. Вам надо выговориться. Это надежное место.
– Вам, блин, ровным счетом наплевать на мою долбаную дохлую кошку, – сказал мне Макс и вытер глаза. – Какого хрена, алё?
Тут Вы, Ричард Гир, прошептали мне на ухо… или, может быть, я притворился, что Вы прошептали это мне прямо в ухо, а сам просто думал, что сказал бы и сделал бы Ричард Гир на моем месте. Вы прошептали: «Попроси его рассказать тебе о его кошке. Ему станет легче. Прояви сочувствие. Вспомни, чему учит далай-лама».
Я вспомнил строчку, которую я прочитал в книге далай-ламы «Глубокий ум»: «Важно помнить, что страдание пронизывает все», и его слова о том, что легко пожалеть старого нищего и гораздо труднее – молодого богача. Он также говорил, что «в жизни, обусловленной внешними обстоятельствами, боль неизбежна» и что все без исключения люди – «рабы сильных деструктивных эмоций».
И вот, следуя совету Вашего духовного лидера, я сказал Максу:
– Вы не расскажете о своей кошке Алисе? Мне было бы интересно. Правда.
Секунду-другую он смотрел на меня, возможно пытаясь определить, говорю ли я серьезно, и сказал:
– Алиса была лучшей долбаной кошкой из всех, когда-либо существовавших на свете.
Я продолжал притворяться и воображать, что Вы, Ричард Гир, шепчете мне на ухо: «Посмотри, напряжение отпускает его, плечи расслабились. Ему полезно выговориться. Это облегчает его страдания. Прояви сочувствие, и тебе посочувствуют тоже. Следуй заветам далай-ламы».
Макс повествовал о своей кошке более получаса. Он сказал, что нашел ее в Вустере в штате Массачусетс, в мусорном баке позади кинотеатра, где он работал до того, как переехал в Филадельфию к своей сестре. Он выносил мусор и услышал, как пищит котенок. Ему пришлось раскрыть «миллион долбаных мусорных мешков», прежде чем он нашел его. В мешке было еще шесть котят, все мертвые.
– Я готов был убить долбаного подонка, бросившего котят в мусоросборник. Какого хрена? Кем надо быть, чтобы делать такое?
Он боялся, что кто-нибудь увидит его «со всем этим долбаным мусором и мертвыми котятами вокруг» и обвинит в убийстве котят, так что он сунул живого котенка за пазуху и направился в ближайший работавший магазин, чтобы купить «долбаного молока». Был уже поздний вечер, и продавщица, сидевшая «в долбаной кабинке с толстыми прозрачными пластиковыми стенками», увидев котенка, пришла в восторг и выскочила из своей кабинки, чтобы погладить его. Она так хлопотала с котенком и была так любезна с Максом, показав ему, где у нее находится кошачий корм, и позволив накормить котенка прямо в магазине, что Макс решил назвать кошку в ее честь.
– Я подумал: «Алё, какого хрена?» Я спросил женщину, как ее долбаное имя, и она сказала: «Алиса». Так я, блин, и назвал свою кошку.
Макс рассказал, как с помощью пера на бечевке и кошачьей мяты научил кошку мяукать по команде и преодолевать полосу препятствий с обручами и мини-преградами «вроде тех, через которые прыгают долбаные лошади, только меньшего размера». А когда Алиса стала взрослой кошкой, сказал Макс, он научил ее разговаривать с ним.
– И она действительно разговаривала с вами? – спросил Арни. – Или вы только притворялись, что Алиса разговаривает с вами, как делают многие владельцы домашних животных?
– Ну да, блин, это было долбаное притворство.
Мой интерес к Максу сразу возрос.
Он еще долго говорил об Алисе, рассказав, какой корм она предпочитала – «долбаный консервированный тунец был ее любимым блюдом», – как ей нравилось гоняться за красными световыми зайчиками, которые он проецировал на стену лазерной указкой, – «она, блин, часами могла бегать и прыгать за ними», – как им обоим нравилось смотреть видеозапись «Доктора Кто»[12], как он вспоминал Алису, когда «работал долбаным билетером» и «рвал долбаные билеты в этом долбаном кинотеатре», и это было «жуткое долбаное занудство».
Я сказал, что работать в кинотеатре, наверное, очень интересно: можно бесплатно смотреть кино. Макс на это ответил:
– Ходить в кино? На хрен, на хрен! Купишь билет, а потом у кого-нибудь из сидящих рядом долбаных незнакомых кретинов окажется долбаный грипп или кто-нибудь из этих долбанутых притащит с собой долбаного непрерывно орущего ребенка. А работа в этом долбаном кинотеатре выматывает, на хрен. Получается так, что ты видишь лишь часть каждого долбаного фильма. Пятнадцать минут одной хренотени, пятнадцать минут другой. В конце концов все эти долбаные отрывки перемешиваются и образуют единый бесконечный долбаный бессмысленный ужастик. Невозможно посмотреть ни один долбаный фильм от начала до конца. Ни разу, блин. А знаешь, что, блин, хуже всего?
– Что? – спросил я.
– Кошек в кинотеатр не пускают. Алё, какого хрена? Алиса обожала смотреть кино! Почему ты не имеешь права привести с собой кошку? Что за хрень? Поэтому я предпочитал смотреть эти долбаные фильмы дома.
– Тебе нравятся фильмы с участием Ричарда Гира? – спросил я.
– Долбаного Ричарда Гира? На хрен, на хрен! Какого хрена?
– Он мой любимый актер, – сказал я, хотя, говоря точнее, сначала Вы были любимым актером моей мамы. – И он передовой деятель культуры.
– Мне Ричард Гир нравится, – вмешался Арни, слушавший наш разговор с довольным видом. – В «Чикаго»[13] он был великолепен.
– На хрен Ричарда Гира, – повторил Макс. – На хрен эти долбаные кинотеатры. Я скучаю по Алисе. Мне, блин, очень не хватает ее. Вот хрень!
Наступила долгая пауза.
Макс, похоже, постепенно успокаивался. «Ты проявил сочувствие, – прошептали мне на ухо Вы, Ричард Гир. – Ты сумел отвлечься от личных проблем».
Арни посмотрел на свои часы:
– Боюсь, наше время почти истекло, джентльмены. Бартоломью, на следующей неделе вам будет предоставлено больше времени, чтобы высказаться.
Я кивнул.
– Макс, спасибо за то, что поделились с нами своими мыслями и чувствами.
– Алё, какого хрена? – ответил Макс, пожав плечами и как бы говоря, что не видит в этом ничего особенного.
– А можно задать вам вопрос? – спросил я.
– Разумеется, – ответил Арни.
– Почему здесь все желтое?
– Согласно результатам психологических исследований, желтый цвет – точнее, ярко-желтый – придает людям уверенность и заряжает оптимизмом. А это, естественно, способствует процессу переживания утраты. Как ни странно, бледно-желтый цвет производит противоположное действие. Поэтому я и выбрал ярко-желтый цвет. Все научно обосновано. Я ведь доктор, – сказал Арни и подмигнул мне.
– О! – откликнулся я.
– Значит, увидимся на следующей неделе в то же время.
Макс выдохнул воздух сквозь зубы, подтолкнул кверху свои большие очки и вскочил с кушетки. Я тоже встал, Арни проводил нас до двери.
– Это была успешная сессия, парни. Мы хорошо продвинулись сегодня. Берегите себя эту неделю. Переживайте смело и открыто. Втянитесь в процесс. Всего хорошего.
Мы с Максом спустились по лестнице и вышли на улицу.
– Макс, – обратился я к нему.
– Алё, какого хрена?
– Ты всем это говоришь, все время?
– Что говорю?
– Алё, какого хрена.
Он кивнул:
– Когда я не в этом долбаном кинотеатре. Если я буду задавать этот вопрос всем, кто туда приходит, меня попрут с работы. Так что я держу свой долбаный рот на замке и просто рву билеты.
– А твоя кошка действительно умела мысленно говорить?
– Умела, блин! Арни ни хрена не понимает. Он, блин, не верит мне, а это правда. Мы с Алисой разговаривали, блин, все время.
– Я верю тебе.
– Правда?
– Да.
Он полез в карман, вытащил розовый пластмассовый ободок и протянул его мне:
– Это ее ошейник.
К ошейнику был прицеплен серебряный жетон в виде сердечка, на котором было выгравировано:
АЛИСА
– Очень симпатичный жетон, – сказал я.
Макс взял ошейник, вытер глаза и пробормотал:
– Алё, какого хрена?
Мы постояли, разглядывая шнурки на своих ботинках.
– Ты не хочешь выпить где-нибудь долбаного пива?
– В баре?
– На хрен бар! В барах одни козлы, ищущие, с кем потрахаться. В пабе. Выпьем долбаного пива в приличном долбаном пабе.
Я подумал, что выпить пива в пабе с подходящим по возрасту другом даже лучше, чем в баре, как я собирался, потому что мне не хотелось находиться в обществе козлов, стремящихся к совокуплению.
– Сколько тебе лет? – спросил я Макса.
– Тридцать, блин, девять. Так ты хочешь долбаного пива или болтать будем?
А мне тоже тридцать девять лет, как Вы, Ричард Гир, уже знаете.
Юнговская синхронистичность.
Unus mundus.
Unus mundus!
– Конечно, я очень хочу выпить с тобой пива в пабе.
– Тогда пошли. Следуй, блин, за мной.
Макс направился вперед быстрыми шагами, я старался не отставать. Так мы протопали шесть или семь кварталов и зашли в полутемный паб с поручнем вокруг стойки и ирландскими пейзажами на стенах.
Мы сели на табуреты и поставили ноги на медный приступок, совсем как по телевизору.
Это было потрясающе.
Бармен был толстый и хмурый.
– Что вам? – спросил он.
– Два долбаных пива, блин, – сказал Макс.
Бармен наклонил голову набок и посмотрел на Макса, прищурившись:
– Какого долбаного сорта?
– Какой, блин, сорт ты предпочитаешь? – спросил меня Макс.
– Я не знаю… – сказал я, ведь я не очень часто пью пиво.
– Два долбаных «Гиннеса», – заказал Макс.
– О’кей, блин, – отозвался бармен и шлепнул два небольших картонных кружка на стойку перед нами.
Над полками с бутылками был подвешен телевизор, по нему показывали шоу, в котором людям надо было преодолеть полосу препятствий шириной примерно один фут. Полоса тянулась по краю бассейна, а с другой стороны ее ограничивала огромная стена, из которой выскакивали боксерские перчатки и сшибали зазевавшихся людей в воду. Мы видели, как несколько человек попытались пробежать по полосе, но все они оказались в воде. Всякий раз, когда их сшибали, раздавался забавный звук, как в мультфильме, будто распрямлялась какая-то сжатая пружина или кто-то пронзительно свистел в свисток. Затем женщина гигантских размеров двинулась по полосе, широко расставив ноги и раскинув руки, как паук. Публика в пабе приветствовала ее одобрительными возгласами.
– Двенадцать пятьдесят, блин, – сказал бармен, поставив кружки с темным пивом на картонки перед нами.
– Ты должен ему семь долларов, – сказал Макс. – У нас, блин, не любовное свидание.
Я вытащил из кошелька семь долларов и отдал их бармену.
Мы с Максом чокнулись кружками и стали потягивать пенистое пиво и смотреть по телевизору, как несколько мужчин и женщин пытаются пробежать по плавающим в озере мячам. Целью было добежать до чего-то типа платформы. Люди, конечно, падали в воду, и при этом опять раздавался мультипликационный звук, а в пабе все кричали и стонали. Макс давился от смеха, поднимал кружку в воздух и вопил свое коронное: «Алё, какого хрена?»
Мы не разговаривали, но меня это вполне устраивало. Я был счастлив, что могу считать одну из своих жизненных целей достигнутой.
Допив пиво, Макс сказал:
– Я пас. Мне надо домой – проверить, как там сестра.
Я спросил, тоже допив пиво:
– С ней что-то не в порядке?
– Да нет, все, блин, в порядке, кроме того, что она не тоскует по Алисе так, как я. Она, блин, немножко странная, но сестра есть, блин, сестра.
«Спроси его, что в ней странного», – прошептали мне на ухо Вы, Ричард Гир. Я спросил.
– Да просто ее долбаные волосы всегда свисают ей на лицо. Она работает в этой долбаной библиотеке. Она притворяется, блин, очень пугливой, и несколько лет назад она попала в дерьмовую ситуацию. Но теперь она в порядке, только немножко огрызается. И еще всегда беспокоится, если не знает, где я нахожусь. Я же не сказал ей, что буду пить с тобой пиво, потому что до самого вечера, блин, не знал о твоем существовании.
Я чуть не задохнулся, будто мне все ребра переломали. А сердце прямо огнем горело.
Я только что пил пиво с братом Библиодевушки!
Отец Макнами назвал бы это причастием.
– Что с тобой? – спросил Макс. – У тебя такой вид, будто ты обосрался.
– Да нет, все в порядке, – с трудом произнес я. – Просто мне надо идти.
– Алё, что за хренотень? – крикнул мне вдогонку Макс, когда я быстрыми шагами направился прочь от него.
Так я прошагал, наверное, целый час, пока не пришел домой. Отец Макнами молился на коленях в гостиной.
– Отец Макнами! – сказал я.
– Да, Бартоломью? – откликнулся он, приоткрыв один глаз.
– Мне надо кое-что сказать вам. Вам это покажется бредом.
– Тогда, видимо, без алкоголя не обойтись, – сказал он.
Отец Макнами со стоном поднялся с колен, налил нам виски, и мы сели за кухонный стол. Я рассказал ему всю вышеописанную историю, включая то, что я схожу с ума по Библиодевушке. Я никому еще не признавался в этом и теперь испытывал удивительно приятное чувство.
Когда я закончил свой рассказ, отец Макнами улыбнулся и сказал:
– Я очень рад за тебя. Любовь – это прекрасно.
– Как вы думаете, что это значит?
– Что это?
– То, что я совершенно случайно оказался объединен в пару с братом Библиодевушки.
– Почему ты называешь ее Библиодевушкой? – спросил он, закусив губу и прищурившись.
Я не знал, что ответить, и повторил свой вопрос:
– Абсолютно случайно нас сегодня объединили в одну группу с ее братом. Как вы думаете, это значит что-нибудь?
– Не могу сказать.
– Это не может быть божественным вмешательством?
– Бог не посвящает меня в свои планы в последнее время. Но я очень рад за тебя, Бартоломью. Твое здоровье! – сказал он, подняв стакан и сделав приличный глоток.
Допив первую порцию, мы повторили.
Я испытывал такое ощущение, будто я излучаю свет, мне было тепло и очень хорошо, но отец Макнами, казалось, находился где-то далеко.
Я был немного навеселе, когда ложился спать. Мне опять приснилась мама, но на этот раз никакая опасность ей не угрожала.
Мы с мамой сидели во внутреннем дворике нашего дома и пили чай с мятой, которую мы выращивали в ящиках на окне. Был душный летний вечер. Вдали слышался гром, время от времени мы видели, как полыхают зарницы. В воздухе чувствовалось электричество. Посмотрев на меня, мама сказала:
– Как ты думаешь, почему Ричард называет тебя толстым? – Она изобразила руками кавычки и произнесла это слово низким тоном, подражая мужскому голосу, но, конечно, это звучало совсем непохоже на Вас, Ричард Гир. По выражению ее лица можно было понять, что это прозвище ей не нравится.
– Это лучше, чем «дебил», – сказал я.
Мама хлопнула себя по колену и стала хохотать, пока не начала задыхаться и слезы не побежали по ее щекам. Успокоившись наконец, она сказала:
– Кому могла прийти в голову мысль, что ты умственно отсталый? Ты умнее большинства людей, но большинство людей неправильно оценивают ум.
Я отвел взгляд, а когда снова посмотрел на маму, она превратилась в маленькую желтую птичку.
Птичка минуту-другую что-то пела мне, а затем взлетела прямо к зарницам, которые сверкали каждые несколько секунд, так что это было похоже на строб-импульс.
– Мама! – крикнул я.
И проснулся.
8
«Чтобы ты не мог перенести вида их мучений»
Дорогой мистер Гир!
Венди пришла на этот раз в темных очках.
У них были довольно большие овальные стекла, похожие на лежащие на боку яйца (узким концом они были обращены к ушам, а широкие концы сходились на переносице). Оправа была белая. Очки закрывали чуть ли не все лицо, а нос из-за них казался маленьким, как у кролика.
– Добрый день, отец Макнами, – обронила Венди, проходя через гостиную, где он молился на коленях, сцепив руки перед собой.
Он не пошевелился, но открыл один глаз, которым старался втянуть нас в себя. Глаз был похож на дыхало кита, высунувшееся из воды. Он всосал весь воздух, какой был в комнате.
Или на колодец, притягивающий тебя, – правда, не настолько, чтобы ты упал в него, но все же заставляющий наклониться к воде.
Затем глаз захлопнулся, отец Макнами продолжил молитву, а мы с Венди проследовали в кухню.
Она села и сняла пальто, но очки оставила, и это показалось мне странным.
– Как прошла групповая терапия? – спросила она. – Вы произвели на Арни очень хорошее впечатление.
– Хорошо прошла. Лучше, чем я ожидал.
Тут я улыбнулся, а Вы, Ричард Гир, прошептали у меня в уме: «Продолжай. Скажи ей». Я чувствовал, что Вы гордитесь мной. И поэтому я добавил:
– А после этого я добился одной из моих жизненных целей.
– В самом деле? – произнесла она очень громко и воодушевленно и даже подалась ко мне. – Какой именно?
Я бросил взгляд на ее маленькое левое колено, которое было черным, потому что она носила лосины под шерстяной юбкой, улыбнулся и ответил:
– Я пил пиво с подходящим по возрасту приятелем в пабе. И это после первой же встречи с Арни.
– Бартоломью! Я горжусь вами! – сказала она, но произнесла это с таким ненатуральным энтузиазмом, что это огорчило меня. – И кто был этот счастливец, ваш приятель?
– Макс.
Ее оранжевые брови выскочили вверх из-под белой оправы.
– Макс из терапевтической группы?
– А в группе только два человека? Я думал, что терапевтические группы больше, – сказал я, потому что это действительно меня удивило.
– Мы распределяем людей по двое, чтобы они были, так сказать, партнерами, приятелями, поддерживающими друг друга. Мы не хотим приводить таких людей, как вы или Макс, в замешательство, заставляя их посещать большую группу. Начинать надо с малого.
– Макс горюет по кошке Алисе, – сказал я, просто сообщая факт.
– Люди горюют по самым разным поводам. Наверное, тут не надо оценивать и сравнивать причины.
Я кивнул, полностью соглашаясь с ней и думая, что далай-лама тоже кивнул бы, если бы присутствовал у нас на кухне.
– А что вы пили? – спросила Венди.
– «Гиннес».
– Ух ты! Я обожаю «Гиннес». Говорят, что «Гиннес» полезен, одна из самых полезных марок пива. Кажется, то вещество, которое придает ему черноту, полезно для сердца. Я что-то читала об этом. Поэтому я всегда выбираю «Гиннес». И его слишком много не выпьешь – это пиво очень насыщенное. Так что можно сказать, что оно к тому же самое безопасное. Я рада, что вы с Максом…
– Почему вы сегодня в очках? – спросил я.
Вопрос был логичным. Люди обычно не носят темные очки в помещении. Венди до сих пор ни разу не надевала их, приходя ко мне. Так что вопрос выскочил у меня сам собой, но я тут же понял, что он очень непростой и приятной беззаботной беседы у нас не получится. Будто мы поменялись ролями и я стал консультантом; по крайней мере, у меня было такое ощущение. Я как бы чувствовал, что должен им стать, что надо что-то сделать и сделать это должен я.
Венди запнулась и несколько секунд молчала, обдумывая ответ. Мысленно я представил себе, как она смотрит вверх и влево, но точно я не мог сказать из-за двух черных стекол, в которых были видны два отражения круглого плафона под потолком, две одинаковые механические луны.
Наконец она сказала:
– Я играла в софтбол с моим другом и его приятелями и не успела увернуться от одного из ударов. Хотите полюбоваться?
Я ничего не ответил, но она тем не менее сняла очки. Ее левый глаз распух и был практически закрыт. Вся глазная впадина переливалась желтым, пурпурным и зеленым цветами, как бензиновая лужа.
– Судя по выражению вашего лица, мне лучше надеть очки, – сказала Венди и, сделав это, улыбнулась, но неискренне, что было еще неприятнее, чем вид ее синяка.
«Помнишь, какие синяки были у нее на руке на прошлой неделе? – мысленно услышал я Ваш шепот, Ричард Гир. – Этой женщине нужна помощь. Надо ее спасать».
На ее запястье все еще имелось покраснение, хотя и гораздо более слабое, чем прежде.
Сердитый человечек у меня в желудке вовсю мутузил меня руками и ногами.
Было ясно, что она попала в беду.
Я даже вспотел.
– Бартоломью, – обратилась она ко мне. – Вы хорошо себя чувствуете?
Я кивнул и стал рассматривать свои шнурки.
– Выглядите вы неважно.
Я крепился как мог, стараясь ничего не говорить.
– Что случилось?
Я понимал, что, если скажу то, что думаю, это только ухудшит дело.
– Бартоломью?
Внутри у меня что-то менялось.
– Вы можете открыто говорить со мной. Это вполне надежно. Вы можете…
Я потерял контроль над собой, и у меня вырвалось:
– Я гляжу на ваш глаз и невольно чувствую вашу боль. Такое со мной бывает.
Я уже давно никому не говорил такого. Наверное, это Вы, Ричард Гир, говорили через меня. Наверное, я как бы играл роль, произносил то, что было написано в сценарии. По опыту я уже знал, что теряю друзей из-за таких высказываний и становлюсь одиноким. Я не хотел этого говорить. «Кретин!» – воскликнул маленький человечек у меня в желудке.
(Должен признаться, что в последнее время все во мне как-то раскрепощается, я чувствую себя как какой-нибудь цветок, впервые раскрывающийся миру. Я не понимаю, почему это происходит, и не контролирую этот процесс. Цветы же не думают: «Наступил май, дай-ка я потянусь к солнцу и раскрою свой кулак в открытую ладонь». Они вообще не думают, а просто растут. Когда наступает нужный момент, их стебли распускают разноцветные лепестки и цветы становятся красивыми. Я не стал красивее, чем был при маме, но чувствую себя как раскрывающийся кулак или как распускающийся цветок, как загоревшаяся спичка или целая грива красивых волос, рассыпающихся после того, как женщина развязывает удерживавшую их ленту. Очень многое, ранее невозможное, становится возможным. Я думаю, что, может быть, именно по этой причине я не плакал и не горевал, когда мама умерла. Разве лепестки цветка плачут и горюют, когда они покидают зеленый стебель? Может быть, я провел первые тридцать восемь лет своей жизни внутри своего стебля? Меня занимают очень многие вещи, Ричард Гир, и когда я читаю о Вашей жизни, мне кажется, что и у Вас были когда-то подобные мысли и именно поэтому Вы бросили колледж и не стали фермером, как Ваш дедушка, или страховым агентом, как Ваш отец. И по той же причине многие считают Вас замкнутым, тогда как Вы просто стараетесь быть самим собой. Я читал, что, учась в колледже, Вы ходили в одиночестве в кино и проводили там долгие часы, изучая игру актеров, развитие сюжета и другие особенности киносъемки. Вы обучились всему этому самостоятельно. Наверное, тогда Вы были еще в стебле, прежде чем распуститься в знаменитую мировую кинозвезду Ричарда Гира с такими яркими лепестками. Но, как я понял из Вашей биографии, это было нелегко. Вы очень долго играли на сцене. В одной книге написано, что в Вашей квартире в Нью-Йорке не было ни воды, ни отопления. А потом Вы снялись в очень многих фильмах, прежде чем стали знаменитым. Вы всегда соперничали с Джоном Траволтой, и сначала Вам платили гораздо меньше, чем ему. Но теперь Вы стали Ричардом Гиром. Ричардом Гиром!)
– Вы эмпатичны, – произнесла Венди кокетливо, пытаясь увести разговор в сторону, к менее значительному, потому что о менее значительном всегда проще говорить. – Это хорошо, – сказала она. – Мне нравится это в вас. Чуткость импонирует женщинам. Может быть, сейчас как раз удачный момент для того, чтобы поговорить о вашей другой цели – побывать в баре с женщиной.
Она не поняла, что я имел в виду, сказав, что чувствую ее боль, но Вы-то поняли, Ричард Гир. Вы прошептали мне на ухо: «Я понимаю. Твой мозг может видеть. Он сопоставляет факты. Ты видишь этого мужчину, его лицо и то, что он делает с ней, когда злится. Ты видишь, как она пытается защититься от его ударов. Закрывает лицо своими тонкими детскими руками. Но он большой, сильный и красивый, он образован и убедителен, окружен защитной оболочкой респектабельности и всеобщего уважения. Потом она долго плачет в одиночестве, пока он не возвращается. Она опять закрывает голову руками, но на этот раз он не бьет ее. Он говорит, что очень сожалеет и не знает, что нашло на него. Даже плачет. Он плачет. Он просит прощения. Он говорит, что любит ее. Он говорит, что старается не терять контроль над собой. Он говорит, что это передалось ему от отца, который бил его, когда он был маленьким, и что он пытается вырваться из этого порочного круга. Он старается говорить тем же языком, какой использует она в своей работе. Она думает, что может спасти его, и это тебя восхищает. Она думает, что терпит неудачу как психолог, еще даже не начав работать по-настоящему. Как она будет помогать другим, если не может решить собственные проблемы? Ночью она одна смотрит в окно спальни сквозь свое призрачное отражение, стараясь не замечать его, но разглядеть себя. Она старается отчаянно, но безуспешно и страдает. Ты способен видеть вещи мысленно, Бартоломью, и это великий дар. Не надо прятать его от меня. Я понимаю, почему ты прячешь его от остальных. Почему ты до сих пор не говорил мне о нем и какие трудности переживал из-за него в прошлом. Как ты притворялся, что не владеешь им, пытался быть как все, но не мог. Я знаю, что ты увидел смерть своей матери задолго до того, как это произошло, и потому ты не испытываешь потребности скорбеть сейчас – ты скорбел об этом, пока она была еще жива. Знаю, что ты видишь людей насквозь, когда ты позволяешь своему мозгу работать так, как только он один умеет. Я вижу, ты сознаешь, что сейчас наступило твое время. Именно сейчас. Тебе сделали этот подарок давным-давно, но ты ждал все эти годы и только сейчас срываешь оберточную бумагу, чтобы достать подарок из коробки».
«Ты читаешь ее мысли – а может быть, просто чувствуешь их. Как бы то ни было, ты знаешь, что ее приятеля зовут Адам, – шептали мне Вы, пока Венди рассуждала о том, как произвести впечатление на женщину, и говорила что-то об умении слушать, размахивая руками у себя перед лицом и прячась за своими большими черными очками. – Ты думаешь, Бартоломью, что сходишь с ума. Этого ты боишься больше всего. А ты проверь свой ум. Произнеси: „Адам“ – и понаблюдай за ее реакцией. Попробуй. Доверься мне. Просто скажи Венди: „Адам“, и тогда она поймет, что ты обладаешь этим даром. Она ведь никогда не называла тебе его имени. Она увидит, что ты отлично понимаешь ее проблемы и что ей нет необходимости притворяться перед тобой. Как помог тебе я, раскрыв твой дар, так же и ты можешь помочь ей».
Я боялся проверять свои способности, так как подозревал, что я умалишенный, а если даже и нет, то сам этот странный дар пугал меня.
Неизвестно, что хуже.
Что мне делать с этим даром?
И что, если я только сваляю дурака перед Венди?
«Идиот! – воскликнул человечек у меня в желудке и дал мне пинка. – Никто, кроме законченного идиота, не станет мысленно разговаривать с Ричардом Гиром! А когда ты проблеешь перед Венди: „Адам“, она уж точно сочтет тебя дебилом. Нет у тебя никакого особого дара и необыкновенных способностей. Ты просто кретин, который прожил всю жизнь с мамочкой, пока не обрюзг и не превратился в недоразвитого урода с дурацкими галлюцинациями».
Венди тем временем размахивала руками все энергичнее, разглагольствуя о том, что каждой женщине нужен обходительный мужчина и что обходительные мужчины очень сексуальны. Прячась за свои каплевидные очки. Притворяясь, что она не сломлена, не избита и не напугана. Притворяясь ради меня. Ради себя. И ведь это меня она называла обходительным гигантом. «„Обходительный гигант“ – это просто эвфемизм, заменяющий слово „дебил“!» – завопил маленький сердитый человечек. «Пора довериться своим инстинктам, Бартоломью. Я буду повторять у тебя в уме слово „Адам“, пока ты не произнесешь его», – прошептали Вы, Ричард Гир.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам.
Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам. Адам.
Адам. Адам.
Адам.
Адам. АДАМ. АДАМ. АДАМ. АДАМ. АДАМ! АДАМ! АДАМ!
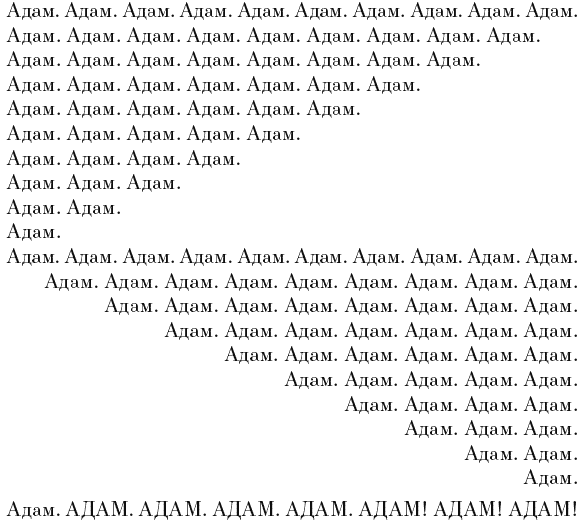
– Адам, – произнес я, не в силах больше выдержать это.
Венди тут же замолчала, ее руки упали вниз, как будто какие-то невидимые гигантские ножницы перерезали нити, дергавшие марионетку. «Не теряй времени! Наблюдай за ее лицом», – сказали Вы. Рот ее был приоткрыт, а лицо стало быстро бледнеть, словно кто-то опустил белую штору, закрыв залитое солнцем окно.
– Почему вы сказали: «Адам»? – спросила Венди в панике.
Бодрая добросердечная девушка, желавшая, чтобы я выпил пива в баре с друзьями подходящего возраста, куда-то исчезла. «Видишь? – возбужденно воскликнули Вы, Ричард Гир. – Видишь? Это все доказывает!»
– Это ведь Адам сделал, правда? – сказал я уже более уверенно. – Он выкручивал вам руки и поставил синяк под глазом.
«Смотри, она дрожит! – сказали Вы. – Помоги ей. Раскрой секрет. Прояви сочувствие».
Венди хотела было что-то сказать, но затем встала, схватила свое цветастое пальто и бросилась к двери.
– Простите меня! – сказал я, следуя за ней. – Простите. Возможно, мне не следовало…
– В чем дело? – спросил молившийся в гостиной отец Макнами, глядя на убегающую Венди. Он повернулся ко мне: – Что произошло?
«Идиот! – кричал сердитый человечек у меня в желудке. – Дебил!»
Я весь взмок, меня стало тошнить. А Вы куда-то исчезли, Ричард Гир.
Испарились.
Я слышал только свое тяжелое дыхание.
– Не волнуйся, Бартоломью, – сказал отец Макнами. – Давай выйдем на улицу и подышим свежим воздухом.
Он открыл дверь, и я вышел на промерзшую улицу.
Отец Макнами вышел вслед за мной.
Я осмотрел всю улицу, но Венди не было видно. Наверное, она шла очень быстро, даже бежала, подозреваю.
Я старался все обдумать.
Что означала ее реакция?
Что я доказал?
«Ричард Гир!» – мысленно позвал я Вас, но Вы не отозвались. Как будто я кричал в пустой пещере и слышал в ответ только эхо.
– Дыши глубже, – говорил отец Макнами. – Вдох – выдох, вдох – выдох. Может быть, принести тебе виски?
Я помотал головой.
– Что случилось? – спросил он.
Морозный воздух охладил мою грудь и успокоил меня. Подумав с минуту, я рассказал ему все, что произошло на кухне, не упоминая, понятно, Вас, Ричард Гир. Не сказал я ему и о сердитом человечке у меня в желудке – в основном потому, что не хотел произносить слово «дебил».
Когда я начал говорить о том, что мысленно слышал имя «Адам», отец Макнами посмотрел на меня так, будто я ударил его по лицу, и сказал:
– По синякам на запястье и темным очкам в помещении любой понял бы, что кто-то грубо обращается с нашей Венди, но вот угадать имя этого человека – это нечто. Если бы была хоть малейшая вероятность того, что она уже упоминала это имя в разговоре с тобой, она не вылетела бы отсюда так, словно мы одержимы бесами, верно?
– И как вы это объясняете? – спросил я.
– Не знаю, не знаю. Несколько лет назад я отделался бы фразой: «Пути Господни неисповедимы, Бартоломью» – и не задумывался бы об этом. Но теперь я не могу это так оставить.
В его глазах опять было такое выражение, будто его взломали и ограбили. Он отвел взгляд и спросил:
– Ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы отправиться с миссией?
– С миссией?
– Независимо от моего кризиса веры и твоего таинственного дара угадывать имена ясно как божий день, что наш друг Венди нуждается в помощи.
– Что вы собираетесь сделать?
– То же, что сделал бы любой порядочный человек. Так что хватаем пальто, да?
Мы оделись и вышли на улицу. Отец Макнами шел очень быстро, я едва поспевал за ним.
– Куда мы идем? – спросил я.
– К источнику информации.
– Но как я все-таки мог узнать, что приятеля Венди зовут Адам?
– Прежде я ответил бы: «Тебе уже тридцать девять, и все эти годы ты ходил в церковь. Должен ли я объяснять тебе, откуда берутся чудесные силы?» Но сегодня я не могу так ответить тебе, Бартоломью. Я больше не являюсь твоим духовным наставником по весьма веской причине.
Я задумался над тем, что мог бы значить его ответ, и пожалел, что Вас, Ричард Гир, не было в тот момент со мной. Мне очень Вас не хватало. Я хотел бы знать также, что посоветовал бы далай-лама. Меня это очень интересовало. Было ясно, что в ближайшем будущем никаких ответов от отца Макнами я не получу.
Отец Макнами подошел к одному из домов в ряду других таких же и, поднявшись на три ступеньки, позвонил в звонок. Я стоял позади него на тротуаре. Дверь открыла женщина средних лет в розовом пеньюаре, с бигуди в волосах и сигаретой в зубах. Ее голые голени отсвечивали бледно-голубым цветом, как айсберги.
– Отец Макнами! – воскликнула она, просияв. – Какой сюрприз! Куда вы пропали? Мы все чуть с ума не сошли от беспокойства. Отец Хэчетт говорит, что у вас нервное расстройство! Как вы себя чувствуете?
– Хорошо, – ответил он. – Устал, по правде говоря. Но пришли мы по другому поводу.
Женщина бросила на меня беглый взгляд и спросила:
– Может быть, зайдете?
– Вы, должно быть, встречались с Бартоломью Нейлом на мессах, – сказал отец Макнами, игнорируя ее приглашение. – Бартоломью, это Эдна, мать Венди.
Для Эдны он добавил:
– Венди консультирует Бартоломью, это ее аспирантская практика.
Я поднял руку и улыбнулся ей.
Эдна улыбнулась в ответ и сказала:
– Да, я помню вас по субботним мессам. Я обычно сижу в одном из первых рядов слева.
Я кивнул, хотя не помнил ее, мы никогда не разговаривали (в церкви я, как правило, смотрю на витражи в окнах, а не на окружающих).
– Нам нужно узнать адрес, по которому Венди живет сейчас, – сказал отец Макнами.
– Почему? Что случилось?
– Мы пока точно не знаем, – ответил он.
Эдна уставилась на отца Макнами, словно не понимая его, и произнесла:
– Я плохая мать.
– Я уверен, что это не так…
– Нет, правда-правда. Венди переехала к своему приятелю. Он вроде бы доктор, старше ее. – Глаза Эдны покраснели и заблестели. – Я даже ни разу не видела его, и это меня беспокоит, особенно если учесть, что Венди как-то изменилась. Стала жестче. Я чувствую себя виноватой, но как я могла оплатить ее аспирантуру? Я с трудом нахожу деньги, чтобы выплатить ипотечный кредит. Я говорила ей, что хотела бы встретиться с ним, но она сразу меняет тему, как будто наказывает меня. А сама, похоже, все время в плохом настроении – с тех пор, как поселилась у него. Вам кажется, что все это нормально, отец Макнами?
– Нет, не кажется.
– В чем там дело? Может быть, он плохо обращается с ней?
– Мы хотим помочь ей, и для этого нам нужен ее адрес, – сказал отец Макнами.
Женщина покачала головой, посмотрела на свои руки, что-то пробормотала, может быть молитву, и вышла. Она отсутствовала несколько минут, и за все это время отец Макнами ни разу не обернулся ко мне, так что я начал нервничать.
Эдна вернулась и отдала отцу Макнами кусочек картона, оторванный от сигаретной пачки. На обратной стороне был написан адрес.
– Венди хорошая девушка, – сказала Эдна. – У нее доброе сердце, но большие амбиции. Я для нее, похоже, просто одно из окружающих лиц. Неужели действительно все так ужасно и я в этом виновата? – Она вытерла глаза и шмыгнула носом. – Нам никто особенно не помогал. Надеюсь, вы поможете ей.
– Постараюсь, – сказал отец Макнами, кивнув для убедительности, и обнял Эдну.
Она тоже обняла его за шею, и над головой отца Макнами появилось облачко дыма от ее сигареты.
– Я понимаю, что вы больше не священник, – сказала Эдна, когда они высвободились из взаимных объятий, – но, может быть, вы прочтете молитву за меня? Совсем небольшую?
Отец Макнами склонил голову и произнес:
– Отче наш, благослови эту женщину, Твою дочь, и даруй ей мир в ее сердце, который Ты обещал. Не покидай нас сегодня, Иисус. Пойми нас, несмотря на все загадки нашего индивидуального бытия, и помоги нам разглядеть исконную красоту нашей натуры, постоянно находящейся в замешательстве. Аминь.
– Аминь, – торжественно повторила за ним Эдна. Протянув руки, она обняла ладонями красные щеки отца Макнами и произнесла: – Боже, благослови вас.
Отец Макнами прочитал адрес и мысленно наметил маршрут, а вокруг него витал явственный затхлый запах сигаретного дыма. Затем мы быстрым шагом двинулись в путь.
– Вы вправду верите в красоту нашей натуры, находящейся в замешательстве? – спросил я, подумав, что вдруг во мне все-таки есть что-то красивое. Замешательства-то всегда хватало.
– Да, верю, – ответил он.
– Это как яркие лепестки цветов, спрятанные поначалу в стебле?
Отец Макнами остановился, улыбнулся мне сквозь бороду и сказал:
– Красота есть в каждом из нас, Бартоломью. Но иногда она в самом деле прячется.
Мы шли и шли, причем довольно быстро. Я вспотел, несмотря на то что вечер был холодный.
Наконец мы подошли к трехэтажке на пересечении Южной и Третьей улиц. Отец Макнами нажал кнопку звонка и держал ее довольно долго.
– Не обязательно трезвонить беспрерывно, – раздался мужской голос.
– Адам? – произнес отец Макнами в переговорное устройство.
– Кто это? – спросил голос после паузы.
– Друзья Венди. Вы нас не впустите?
Опять наступило молчание.
Отец Макнами позвонил еще раз.
– С кем я разговариваю? – спросил Адам.
– С друзьями Венди.
– А как вас зовут, друг Венди?
– Бартоломью Нейл, – ответил отец Макнами, к моему удивлению.
– Отец Макнами? – спросила Венди.
Это, несомненно, был ее голос. Я мысленно видел ее оранжевые брови и белую, почти прозрачную кожу.
– Я больше не отец, я сложил с себя сан, как вы помните. Но да, это я.
Спустя несколько секунд дверь открылась и перед нами предстала Венди в своих каплевидных темных очках, черных брюках в обтяжку и темно-бордовой футболке университета Темпл, которая была слишком велика ей.
– Заходите, – сказала она.
Я прошел вслед за отцом Макнами в комнату на первом этаже, где были коричневый кожаный диванчик, стеклянный кофейный столик, мохнатый черный ковер, похожий на собаку, большой железный бар с десятками бутылок и огромное кожаное кресло для настоящих мужчин. Сразу было видно, что это дом богатого человека.
– Как вы узнали этот адрес? – спросила Венди.
– Ваша мать дала мне его, – ответил отец Макнами.
– Зачем?
– Я попросил ее.
– Но зачем?
– Мы с Бартоломью тревожились. Вы так быстро покинули нас…
– Прошу прощения. Я в тот момент плохо себя почувствовала.
Отец Макнами вздернул свои кустистые белые брови.
– Почему бы вам не подняться и не познакомиться с Адамом? – сказала Венди.
– Вы говорите, с Адамом? Так зовут этого счастливчика? Адам?
– Не такое уж редкое имя на самом деле, не правда ли? – отозвалась Венди с принужденным смешком. – Давайте поднимемся к нему.
Мы поднялись вслед за ней по винтовой железной лестнице в кухню-столовую. Красивый мужчина в небесно-голубом хирургическом костюме встал из-за стола, когда мы вошли. На вид он был моего возраста – как минимум на десять лет старше Венди. На столе стояли две тарелки и два бокала с вином. Они ели мясо с редисом и спаржей.
У Адама были голубые глаза и светло-каштановые волосы, аккуратно подстриженные, но встрепанные, как у Вас, Ричард Гир. Венди представила нас. Его рукопожатие было чересчур жестким, мне стало чуть больно.
– Я много слышал о вас, – сказал он. – Приношу вам соболезнования в связи со смертью вашей матушки.
Я кивнул и уставился на свои коричневые шнурки. По-моему, Венди не должна была бы говорить с кем бы то ни было о наших сессиях, это нарушает конфиденциальность. Я подумал, что, наверное, не стоило ей рассказывать о себе вообще ничего.
– Может быть, выпьете? – спросил Адам.
Мы уселись за большой деревянный стол с бокалами вина в руках.
Вино на вкус было дорогим – или, может быть, мне так только казалось, я ведь практически совсем не разбираюсь в винах.
– Так чему мы обязаны такой честью? – спросил Адам. По его тону можно было понять, что он предпочел бы спокойно есть мясо с редисом, он тут же и принялся за него. – Не хотелось бы, чтобы такой хороший кобэ-стейк совсем остыл, – добавил он, словно читая мои мысли. – Если бы я знал, что вы придете, я бы…
– Мы беспокоимся за Венди, – сказал отец Макнами.
– Почему? – спросил Адам, продолжая жевать мясо с абсолютно невозмутимым видом.
– Наверное, потому, что она выглядит так, будто выдержала десять раундов бокса с чемпионом в тяжелом весе, чье имя я не помню, но он способен разбить человеку лицо и придать ему такой вид, какой у Венди сейчас.
– Ну, вы же знаете Венди. Она ни в чем не уступает мужчинам и даже превосходит их. Она способна переиграть в софтбол любого мужчину! – Адам улыбнулся ей. – У нее такой высокий боевой дух, что в опасном положении она даже погасила удар противника собственным лицом. Пусть пригибаются другие. Восхитительно, вы не находите?
Венди улыбнулась в ответ, но ничего не сказала. Выглядела она, как вырезанный из картона портрет самой себя.
Адам произнес «восхитительно» так, что не поверить в его искренность было невозможно. Он был похож на главного героя какого-нибудь телешоу, всеми любимого хорошего парня, чьи самые обычные высказывания вызывают восторг сотен зрителей. Он относился к тому типу людей, которые могут заставить поверить в любую ложь, почувствовать себя тупым, неловким и косноязычным, неспособным выразить свою мысль, как бы ты ни был уверен в своей правоте.
Отец Макнами молча и не отрываясь смотрел на Адама. Можно было подумать, что он впал в транс.
– Почему вы так на меня смотрите? – спросил его Адам. – Что это значит?
Отец Макнами включил водовороты в своих глазах, и они стали всасывать окружающее.
– О’кей. Прекратите. Вы действуете мне на нервы.
Сила притяжения в глазах отца Макнами ощущалась физически.
Казалось, еще чуть-чуть – и тарелки со столовыми приборами поползут в его сторону.
Я отвел взгляд.
– Что такое с этими парнями? – спросил Адам у Венди и осушил свой бокал.
Отец Макнами вперил взгляд в глаза Адама.
Водовороты явно начали пугать Адама не на шутку.
Они отсасывали кровь от его кожи.
Гигантский розовый слон заполнил всю комнату и придавил нас к стенам. Стало трудно дышать.
– Перестаньте таращить на меня глаза, – сказал Адам отцу Макнами.
Отец Макнами наклонился вперед и по-прежнему не отрывал от него взгляда.
– Ты говорила, что этот детина чокнутый, но не предупредила, что священник сдвинулся тоже, – обратился Адам к Венди.
Сердитый человечек у меня в желудке пришел в ярость.
– Никогда в жизни я не употребляла слов «чокнутый» или «сдвинулся»! – сказала мне Венди.
– Послушайте, – сказал Адам. – Ну чего вы уставились на меня?
Отец Макнами продолжал таращить глаза.
– Прекратите это! – сказал Адам. – Прекратите!
Отец Макнами вкладывал столько энергии в свой взгляд, что начал слегка дрожать.
– Это ужасно, – сказал отец Макнами. – С вами в детстве, должно быть, происходило что-то ужасное. Я беседовал со многими жестокими людьми, и все они подвергались жестокости в детстве. Вас научили этому, но пора уже отучиться.
– Убирайтесь вон из моего дома! – вскипел Адам.
– Ужасно, – повторил отец Макнами, опустив голову. – Вы травмированный человек.
Адам выпрыгнул из-за стола и направился к отцу Макнами, словно собирался ударить его, но Венди встала на его пути и положила руку ему на грудь:
– Ладно, они сейчас уйдут.
– Пусть немедленно убираются! – потребовал Адам. Глаза его расширились, на лбу вздулись вены.
– Хорошо, хорошо, – сказала Венди, мягко поглаживая его бицепсы. – Поднимайся наверх, я их выпровожу.
– Клянусь, если два этих клоуна не исчезнут к тому времени, когда…
– Я позабочусь об этом. У тебя есть более важные дела. Предоставь это мне. Это ерунда. Пустяк. Не беспокойся.
Примерно десять неприятных секунд Адам смотрел на нас диким взором, затем крикнул:
– Вон! Вон из моего дома! – и, громко топая, стал подниматься по винтовой лестнице на третий этаж.
Венди трясло.
– Вам лучше уйти, – сказала она.
Отец Макнами взял ее лицо в ладони и осторожно снял с нее очки. Синяк выглядел даже хуже, чем прежде. Цвета немного потускнели, но отек, казалось, увеличился, собираясь, по-видимому, остаться на ее лице навсегда.
– Я понимаю, вы не хотите возвращаться к матери. Вы считаете, что это было бы шагом назад. Я знаю, что ваша мать находится в депрессии. Ваша мать может быть деспотичной. Адам обеспечивает вам благополучную жизнь в материальном отношении – платит за ваше обучение, покупает хорошие вещи. К тому же он красив. Он представляется вам сверкающим ключом, открывающим дверь в лучшую, красивую жизнь. Вы думаете, что можете спасти его, но так людей не спасают.
– Я разбила лицо, играя в софтбол, – упрямо повторила Венди, но при этом она заплакала, и ее слова прозвучали как детский лепет.
– Вы могли бы жить с Бартоломью и со мной, – продолжал отец Макнами. – Пойдемте с нами сейчас, так вам будет легче уйти. Если вы останетесь, он снова примется бить вас после нашего ухода. Вы и сама это знаете. Он не может справиться с собой. Он болен. И не заблуждайтесь – вы сейчас тоже часть его болезни. Вы поддерживаете болезнь, способствуете ее развитию. Если вы уйдете сейчас, так будет лучше и для вас, и для него.
– Это произошло во время игры в софтбол, на третьей базе. Мяч попал мне прямо в глаз, – сказала Венди, глядя на свои шлепанцы. Слова ее были тихими и невесомыми, как выщипанные перья.
– Наша дверь открыта для вас в любое время дня и ночи, – сказал отец Макнами и приобнял ее. – Пошли, Бартоломью.
Мы начали спускаться по винтовой лестнице.
– Как вы узнали, что его зовут Адам? – крикнула мне вдогонку Венди.
Перегнувшись через перила, она смотрела, как мы спускаемся. Она снова надела темные очки. Ее сердитый вопрос отзывался эхом в моей голове: «Как вы узнали это?»
Я не знал, как ответить на этот вопрос, и пожал плечами.
Но потом мне пришла в голову строчка из книги далай-ламы «Глубокий ум».
– «Благополучие других должно настолько заботить тебя, чтобы ты не мог перенести вида их мучений» – так сказал далай-лама. Мне тяжело смотреть на ваши травмы. Вот почему мы здесь оказались. И это все, что я могу сказать в данный момент.
– Наш дом открыт для вас! – крикнул отец Макнами наверх, и мы вышли на улицу.
По дороге домой мы не разговаривали.
Я думаю, мы оба знали, что происходит с Венди, пока мы идем по улицам. Наши шаги были словно молитвы, с помощью которых мы старались защитить ее, но больше мы ничего не могли сделать.
Казалось, отец Макнами израсходовал всю свою энергию, да и я тоже.
Как только мы пришли домой, он опустился на колени и обратился с петицией ко Всевышнему. Так он простоял до самой ночи, когда в дверях раздался звонок.
Это была Венди.
Вся левая половина ее лица была в синяках и распухла. Зубы кровоточили. Вид у нее был обреченный.
– Я дура. Я ни на что не гожусь, – произнесла Венди тоном маленького ребенка, всколыхнув все мои чувства.
Мне хотелось прогнать ее боль – главным образом потому, что маленький сердитый человечек у меня в желудке обвиняет меня в том же самом и я знаю, как страшно выслушивать эти слова в свой адрес и думать, что так и есть.
Она рухнула на нашу кушетку, где стонала и плакала на плече у отца Макнами, который гладил ее по спине, а я в это время сжимал и крутил свои руки, пока они не стали выглядеть как ошпаренные.
Когда она выплакалась, отец Макнами накрыл ее одеялом и прошептал:
– Здесь вы в безопасности, и можете оставаться у нас, сколько хотите.
Венди уснула в позе зародыша.
– Ей надо отдохнуть, – прошептал мне отец Макнами, и я поднялся вслед за ним наверх.
В коридоре он остановился и протянул мне серебряную фляжку. На ней была надпись:
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК
Мы оба приложились по несколько раз к фляжке. Я почувствовал, как внутри у меня становится тепло. Когда я вернул пустую фляжку отцу Макнами, он потрепал меня по щеке и улыбнулся.
– Мы сделали хорошее дело сегодня, – сказал он.
– Я-то ничего не делал.
– Делал, делал, – сказал он, лицо его светилось гордостью.
Я уже открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, но не нашел слов.
Я испытывал противоречивые чувства.
– Спокойной ночи, Бартоломью, – сказал отец Макнами.
– Спокойной ночи, – ответил я.
Он зашел в мамину комнату и закрыл за собой дверь. Я убрал оттуда все мамины вещи, отдав большую часть их в местный магазин подержанных вещей, но все равно это была ее комната, в которой она спала несколько десятилетий, и казалось странным, что теперь там спит наш священник. Однако я чувствовал, что мама не возражала бы против того, что он теперь спит в ее постели, – он был ее любимым священником и, как она считала, хорошим человеком.
Я стоял в коридоре и никак не мог решить, имею ли я право приписать себе часть заслуг в том, что сделал отец Макнами, чтобы помочь Венди.
Так что я пошел к себе и написал Вам это письмо.
9
Во Вселенной имеются стереотипные схемы
Дорогой мистер Гир!
Венди провела на нашей кушетке три дня, и все это время отец Макнами молился в маминой комнате, которая постепенно превращается в его комнату, и мне это довольно неприятно.
Последние несколько дней я чувствую себя немного не в своей тарелке. Мне не очень нравится, что у нас в доме обитает так много людей – особенно это касается Венди, которую мама в глаза не видела. У меня возникает ощущение, что мама вообще никогда не жила здесь, и меня это совсем не радует.
Но я напоминал себе слова далай-ламы о сочувствии, высказанные им в книге «Глубокий ум»: «Когда наше сердце наполняется эмпатией к людям, у нас возникает сильное желание избавить их от страданий». Венди, несомненно, страдала. Я хочу, чтобы мое сердце было полно эмпатии, я хочу как можно больше походить на Вас. Я стараюсь.
Отец Макнами принес Венди тосты с маслом, апельсиновый сок, макароны, сыр и кофе, но она не притронулась ни к чему и по большей части лежала на кушетке, спрятав лицо в подушках. Ночью я слышал, как она ходила в туалет, и удивлялся, как это она терпела весь день. Синяки на ее лице меняют цвет с пурпурного на желтый. Отец Макнами сказал, что это признак внешнего выздоровления, но не внутреннего. Еще он сказал, что Венди находится в замешательстве, потому что она «поменялась ролями» со мной. Я не сразу его понял, но, поразмышляв день-другой, подумал, что он, наверное, имел в виду мои попытки помочь Венди пережить трудный период ее жизни. Тогда понятно, почему она считает себя неудачницей. Интересно, может быть, у нее в желудке тоже есть маленький сердитый человечек, который ругает и обзывает ее?
Я пытался поговорить с Венди, вернее, с ее свернувшейся калачиком фигурой под одеялом. Сначала я сказал, что сожалею обо всем случившемся. Спросил ее, не хочет ли она сообщить в полицию об Адаме, и предложил пойти с ней и держать ее за руку, пока она будет говорить о его жестоком обращении с ней; я даже рассказал ей, как мне трудно было одному говорить в больнице с врачами и социальными работниками об инфильтративном раке, поразившем мамин мозг, и как хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом и держал меня за руку, но Венди не отвечала и даже ни разу не посмотрела на меня.
Тогда я спросил, не хочет ли она проконсультировать меня насчет того, как мне выпить пива в баре с женщиной; я думал, что если мы вернемся к нашим привычным ролям, то это, вероятно, поможет Венди войти в норму и почувствовать себя лучше. Но она даже не подняла головы. Затем я хотел поговорить с ней о погоде и последних новостях, о которых я читал в интернете в библиотеке, но она не отвечала мне и не вылезала из подушек. Так что я просто слушал выносливых (или ленивых?) птиц за кухонным окном и думал о том, как эти маленькие крылатые существа поют и поют, невзирая на то что кто-то умирает, кого-то бьют, а кто-то чувствует себя жалким неудачником.
Птицы неизменны, как солнце.
Вчера вечером мне захотелось посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы почувствовать «магию кино», как говорила мама. Мы с ней всегда смотрели фильмы, если кому-нибудь из нас было плохо или что-нибудь происходило в мире. «Магия кино – вот что нам требуется», – говорила она, потрясая видеокассетой, как бубном. Я взял кассету с одним из ее любимых фильмов, «Офицер и джентльмен»[14], встряхнул ее и произнес: «Магия кино!», как будто эти слова и встряхивание кассеты могли излечить Венди. Я очень надеялся, что, если поверишь во что-то по-настоящему, это сбудется. Но голова Венди по-прежнему оставалась под подушкой, так что я сел на пол, прислонившись спиной к кушетке у нее в ногах, как делал в детстве, когда мама ложилась на кушетку.
Когда шли начальные сцены фильма, где Вы, Ричард Гир, в роли Зака Мэйо говорите своему пьяному отцу, что хотите пойти в морскую авиацию и летать на реактивных самолетах, мой бывший духовный наставник начал щелкать попкорном в микроволновой печи, что меня удивило, так как он молился за кухонным столом уже семь часов и я думал, что он целиком поглощен задачей налаживания связи с Иисусом.
Увидев Вас на экране после всех наших разговоров, я ощутил некоторую нереальность происходящего – прежде всего потому, что я впервые смотрел фильм с Вашим участием после смерти мамы, а до этого всегда смотрел только с ней. Я ожидал, что это расстроит меня и я начну тосковать по ней, но я почувствовал гордость оттого, что знаком с Вами, если можно так сказать. Я видел «Офицера и джентльмена» тысячу раз, но впервые смотрел этот фильм как Ваш друг. Это было совершенно новое ощущение, и у меня возник вопрос: можете ли Вы смотреть кино как обыкновенный зритель. Вы ведь, наверное, знаете всех голливудских актеров, так что всякий раз видите на экране не каких-то незнакомцев, играющих роль, а людей, с которыми работали, разговаривали и даже, может быть, выпивали в баре.
Отец Макнами сел на пол рядом со мной и поставил большую миску с попкорном между нами. Он пил виски из кофейной чашки и предложил мне сделать глоток, но я отказался, потому что хотел полностью воспринять фильм, а виски иногда усыпляет меня.
В бороде отца Макнами застряло несколько зерен попкорна.
Мы смотрели, как Вы учитесь управлять самолетом, как занимаетесь любовью с женщиной, заводите друзей, гоняете на мотоцикле, танцуете, притворяетесь, что Вас одолевают проблемы. А потом Вас застукали, когда Вы прятали лишние туфли и пряжки от ремней в ящике под потолком, и разъяренный Луис Госсетт-младший хотел вынудить Вас покинуть программу, заставляя бесконечно отжиматься, направляя Вам в лицо струю из шланга и осыпая унизительными оскорблениями, в то время как все остальные были в увольнении. Вы помните, как Госсетт-младший говорит Вам: «В глубине души ты знаешь, что все эти парни и девушки лучше тебя. Не так ли, Мэйо?»
Я почувствовал, что у Вас в этом много общего со мной.
Маленький сердитый человечек в желудке молотил меня руками и ногами и вопил: «Болван! У тебя нет ничего общего ни с актером Ричардом Гиром, ни с персонажем, которого он играет в фильме и который представляет собой совершенно иное (и вымышленное!) существо! А ты просто осел, который притворяется, что не видит между ними и собой никакой разницы, хотя ты не сумел распорядиться своей жизнью и никогда не сумеешь, а потому предпочитаешь вымысел реальности. Все остальные люди лучше тебя – вот твоя реальность! Все до одного! Ты не смог даже сделать так, чтобы твоя мать осталась в живых, дебил!» Этот вопящий и брыкающийся человечек у меня в желудке – прямо мой собственный миниатюрный Луис Госсетт-младший.
В фильме, как Вы помните, Вы кричите: «Нет, сэр! Нет, сэр!» – и я, наверное, тоже крикнул это, когда мы смотрели фильм, потому что отец Макнами поглядел на меня и спросил:
– С тобой все в порядке?
Я кивнул. По щекам у меня скатились слезы – я не успел их вытереть. А потом был эпизод, когда разъяренный Луис Госсетт-младший, стремясь сломить Ваш дух, заставляет Вас без конца ложиться на спину и подниматься в сидячее положение, и в конце концов Вы кричите ему: «Мне некуда больше идти! У меня больше ничего нет!»
Я помню, мама всегда плакала в этом месте – наверное, потому, что у нее все эти годы не было ничего, кроме ее дома и меня. А ей всегда хотелось большего. Она хотела сказки, а получила вместо этого рак мозга, хотя всегда была очень доброй женщиной и за всю свою жизнь не сделала ничего плохого и не причинила никому ни малейшего вреда.
Мы с отцом Макнами досмотрели фильм до конца, хотя я лишь тупо пялился на экран, стараясь не воспринимать ни изображение, ни звук.
Я как бы спрятался в густой тени в самой глубине своей черепной коробки, на пыльном чердаке своего сознания, куда редко заглядывают, и думал о маме. О том, что ее больше нет со мной. О том, где она находится и как в действительности выглядит Царство Небесное.
Мне ее не хватает.
Мне действительно ее не хватает.
И хотя это, конечно, эгоистично, но мне хотелось, чтобы это она смотрела вместе со мной фильм – и даже чесала мне макушку, – а не Венди и отец Макнами. Как было бы хорошо, если бы ничего не менялось. Если бы жизнь была справедлива. От всех этих мыслей сердитого человечка в моем желудке стало тошнить.
– Бартоломью! – подтолкнул меня локтем отец Макнами.
У него был озабоченный вид.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
Я кивнул.
Я посмотрел на Венди. Ее голова была все так же спрятана под подушкой.
– Я устал, – сказал я.
– Так ложись спать, – предложил он.
Я хотел спросить отца Макнами, не надо ли нам сделать еще что-нибудь, чтобы помочь Венди, не грех ли это – желать, чтобы мама была по-прежнему со мной, а не на небесах, что мы будем делать дальше и как мне вообще жить теперь, но я знал – он ответит, что все это раскроется нам не в наше, а в Божье время и что надо просто набраться терпения и ждать, когда Бог заговорит со мной, когда я услышу Его голос. Или, еще хуже, опять заявит, что он больше не священник и Бог не разговаривает с ним. Поскольку я приблизительно знал все, что мой духовный наставник мог сказать мне, я решил, что задавать ему вопросы бессмысленно.
Так что я пошел в свою комнату, выключил свет, отключил сознание и быстро переместился в другой мир.
Мне опять приснилась мама, она пришла и села на краешек моей постели.
– Мама! – сказал я во сне и хотел обнять ее, но она была как призрак, и мои руки прошли сквозь ее тело. – Можно с тобой хотя бы поговорить?
Она улыбнулась и кивнула.
Выглядела она так же, как перед болезнью: волосы были на месте и не было послеоперационных шрамов.
Она была такая же, как всегда, до того как инфильтративный рак изменил ее.
– Как мне жить всю оставшуюся жизнь?
Мама пожала плечами.
– Я даже не знаю, чего я хочу. Не говоря уже о том, как добиться этого. Я никогда этого не знал. Я вообще ничего не знаю!
Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.
Когда стало ясно, что она мне не ответит, я сказал:
– Мне нравилось жить с тобой, мама. Очень нравилось. Мне не хватает тебя. Я не знаю, что мне делать.
И тут она стала таять в воздухе.
– Куда ты? – закричал я. – Не покидай меня!
Она улыбнулась еще раз, прежде чем исчезнуть, и я проснулся весь в поту, оттого что кто-то говорил «ш-ш-ш-ш-ш» прямо мне в ухо.
Сердце мое застучало, потому что я подумал, что мама действительно вернулась или что ее смерть от рака мне просто приснилась, а теперь я проснулся в то время, когда она была жива. Но я ничего не мог разглядеть, потому что свет был выключен, а шторы задернуты.
– Кто здесь? – спросил я.
– Мне некуда больше идти, – произнес женский голос в темноте, повторив Вашу памятную фразу из «Офицера и джентльмена», одного из самых любимых маминых фильмов. Но это была не мама, так как одежда женщины издавала едва ощутимый аромат абрикоса, лимона и имбиря.
– Венди?
Я слышал, как она дышит в темноте.
– Вы считаете меня неудачницей? – спросила она.
Я попытался разглядеть ее, но не мог сфокусировать взгляд.
– Что? – произнес я.
– Вы – считаете – меня – неудачницей?
– Нет.
– Считаете, считаете.
– С какой стати?
– Потому что, вместо того чтобы помогать людям жить и быть здоровыми, я позволяю человеку унижать себя физически и психически ради его денег, его силы и влияния.
– Может быть, вы просто искали свою стаю, – сказал я, вспомнив, как она любила рассуждать об этом. – А вам попалась неподходящая птица.
– Неподходящая птица, – рассмеялась она. – А почему я выбрала такую? Или мне случайно такая попалась? Подумайте об этом, Бартоломью.
– Я не знаю. Может быть, потому, что он красив, богат и умеет уговаривать? Может быть, вы притворялись, обманывали саму себя?
Она издала в темноте короткий неприятный смешок, заставивший меня поежиться.
– Мне придется бросить аспирантские курсы, если я уйду от Адама. Это прискорбная неприукрашенная истина. А если я брошу курсы, на моем будущем можно будет поставить крест. Это легко доказать статистически.
– А почему вам придется бросить курсы?
– Потому что он платит за мое обучение. Обеспечивает мне пищу, крышу над головой и… все, в чем я нуждаюсь.
– Может быть, кто-нибудь другой может это обеспечить? – спросил я.
– Вряд ли.
– Вы могли бы найти какую-нибудь работу.
Она рассмеялась так, что мне показалось, что я был одновременно прав и неправ.
– Мы не хотим, чтобы с вами плохо обращались, – сказал я.
– Вы хотите, чтобы ни с кем не обращались плохо, да?
– Да.
– А между тем с людьми всегда будут обращаться плохо. Так было испокон веков и так будет всегда, хотите вы того или нет. Вы спрятались в своем доме и в библиотеке, и вам нет необходимости заботиться обо всех или о ком-нибудь одном. Вы выбыли из игры. Вам легко.
Ее тон стал холодным.
– Я стараюсь помочь тем, кого я знаю, – сказал я. – Я не могу знать всех. Вы правы. У меня есть недостатки. Но я знаю вас и хочу вам помочь. Действительно хочу.
Она долго молчала и наконец спросила:
– Почему?
– Что почему?
– Почему вас заботит моя судьба? Почему вы хотите помочь мне? Я действительно хочу это знать. По религиозным соображениям?
– Нет, потому что вы хороший человек. Вы старались…
– Я не хороший человек.
– Конечно хороший.
Венди засмеялась, и у меня появилось такое ощущение, будто мне залепили куском льда в лицо.
– Я солгала вам, что плохо успеваю на курсах, чтобы уговорить вас пойти к Арни. Мой средний балл по успеваемости четверка. Это лучшая оценка в нашей группе. Я просто хотела сбыть вас с рук и передать Арни.
«Ха! Я же говорил тебе, самый большой кретин века!» – завопил маленький сердитый человечек, и мне стало очень плохо.
– Почему вы солгали мне? – спросил я.
– Потому что я не очень хороший человек.
Сердитый человечек принялся грызть какую-то складку в моем желудке и вонзил в его стенку ногти, острые, как когти.
– Почему вы не хотите работать со мной? Почему? Мне нужно знать ответ. Мне нужно получить его от вас прямо сейчас.
Венди молчала, но зато человечек в моем желудке, оторвавшись от своей грызни, сказал: «Потому что ты болван. Худший из всех. Никто тебя никогда не любил, кроме твоей матери, а она мертва. Дебил! Неудачное скопление атомов, которые надо разбросать по вселенной для повторного использования. Куча дерьма!»
Тут она приблизилась ко мне, и на какую-то долю секунды я почувствовал ее горячее дыхание у себя на щеке. Взяв меня за правую руку и чуть ли не прижав губы к моему левому уху, она прошептала:
– Вы лучше меня, и я вас за это ненавижу.
С этими словами она вышла, а я все еще чувствовал тепло ее руки и ее губ; несколько часов я лежал на спине, уставившись в темноту, а ее слова звенели у меня в ушах.
Почему-то все это напомнило мне тот случай, когда Тара Уилсон сначала заманила меня в школьный подвал, затем выпустила оттуда и больше никогда не разговаривала со мной. Она притворялась равнодушной и злой, притворялась, что мы незнакомы, когда мы встречались в коридоре школы. То же самое происходило теперь с Венди. История повторяется. Во вселенной имеются стереотипные схемы.
Когда взошло солнце, я спустился в гостиную. Венди не было.
Она оставила записку:
Я собираюсь прийти к соглашению с Адамом. Пожалуйста, не вмешивайтесь. Я не буду больше консультировать Бартоломью. Арни может работать с ним бесплатно, если Бартоломью захочет продолжить терапию, потому что Арни финансируют, а Бартоломью – подходящий объект для исследования. Я не хочу больше видеть ни одного из вас когда-либо. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к моему желанию.
Прочитав записку, отец Макнами выскочил из дома, даже не застегнув пальто. Я поспешил за ним, стараясь не отставать.
Меня занимала мысль, что имела в виду Венди, написав, что я «подходящий объект для исследования». Мне не очень нравилось, как это звучит, но момент был неподходящий для того, чтобы обращаться к отцу Макнами с вопросами, потому что лицо его раскраснелось, а дыхание было тяжелым, что случается, когда он приходит в возбуждение.
Мы зашли к матери Венди, но Венди там не было. Отец Макнами объяснил Эдне, что мы пытались помочь Венди, но она сбежала от нас среди ночи. Эдна заплакала.
– Я всегда была плохой матерью, – сказала она.
– Молитесь, – ответил ей отец Макнами. – Молитесь и не теряйте веры.
Затем, наклонив голову, он прочитал про себя молитву, перекрестил женщину и направился прочь. (Интересно, подумал я, сделал ли он это инстинктивно, притворился или наладил отношения с Иисусом?)
– Отец! – крикнула Эдна ему вдогонку. – Отец, подождите! Пожалуйста! Я не знаю, что мне делать!
Я стоял рядом с ней и хотел бы как-нибудь утешить ее, но не знал как.
– Как мне поступить? – кричала она.
Было ясно, что отец Макнами не вернется, так что я трусцой догнал его.
– Эдна действительно расстроена, – сказал я.
Он ничего не ответил.
Скоро я понял, что мы направляемся к дому Адама. Я с трудом поспевал за отцом Макнами, который взмок от пота и громко отдувался.
Дойдя до дверей Адама, отец Макнами стал стучать в них кулаком, нажал кнопку переговорного устройства и закричал:
– Откройте!
– Венди не хочет разговаривать с вами, – сказал Адам по переговорному устройству.
– Она еще неопытная девушка, негодяй! – заорал отец Макнами в серый квадрат переговорного устройства. – Она вдвое младше тебя!
– Уходите. Она хочет остаться со мной. Она сделала выбор. Если вы немедленно не уберетесь, я вызову полицию.
– Венди! – завопил отец Макнами с такой силой, что я даже испугался. – Он не стоит этого! Уходите от этого дикаря, пока можете, пока он не выбил из вас все лучшее и не…
– Ну все, я звоню в полицию, – сказал Адам. – А если вы будете еще здесь, когда они прибудут, я скажу, что все эти травмы были нанесены Венди, пока она находилась на вашем попечении.
– Венди! – орал отец Макнами как сумасшедший.
Стали останавливаться прохожие. Я чувствовал, что они глазеют на нас. Один из них начал снимать всю сцену на сотовый телефон. Я подумал, не увидим ли мы разъяренного отца Макнами в интернете.
События развивались слишком быстро.
Полиция должна была вот-вот прибыть.
Маленький человечек пробивал себе дорогу через мои внутренности ледорубом.
Адаму поверили бы скорее, чем нам с отцом Макнами. Достаточно было посмотреть на него. И к тому же он был врачом. Венди подтвердит все, что он скажет, потому что от него зависит ее обучение. Я был уверен, что копы поверят ему, а не нам. И это было бы ужасно.
– Надо уходить, – сказал я отцу Макнами. – Надо уходить немедленно.
Он посмотрел на меня, и его глаза больше не были водоворотами, всасывающими все окружающее, зрачки превратились в две крошечные черные снежинки. Было такое впечатление, что он слепнет.
Он перестал нажимать кнопку переговорного устройства.
Я поднял голову и увидел в окне наверху Венди. Она выглядела такой же испуганной, как и я. Наши глаза встретились, и она отвернулась.
– Это не должно было случиться, – сказал отец Макнами. Но он смотрел как бы сквозь меня и, похоже, говорил это самому себе. – Что происходит?
– Нам надо идти, – сказал я и, взяв его за руку, повел прочь.
Отец Макнами не сопротивлялся, словно он превратился в маленького испуганного мальчика, а я – в его отца.
Почему-то у меня возникло ощущение дежавю, как будто я уже делал это раньше.
Когда мы прошли шесть или семь кварталов, он вытащил свою фляжку и опустошил ее одним махом прямо на перекрестке; из уголков его рта потекли тонкие золотистые ручейки.
Отец Макнами разваливался на глазах.
Я вспомнил, что говорил отец Хэчетт о биполярном аффективном расстройстве.
Когда у меня плохое настроение, я всегда хожу к дамбе за Музеем искусств и смотрю, как течет река. Это помогает.
У меня было с собой немного денег, так что я остановил такси и запихал в него отца Макнами, потом вытащил его, и мы очень долго наблюдали за тем, как течет река; просто смотрели на воду и слушали ее шум.
Около полудня я нарушил тишину и спросил:
– Отец, как вы себя чувствуете? Я немного беспокоюсь.
– Бог говорил с тобой о Венди?
– Нет, – ответил я, что было правдой. Я озирался, надеясь увидеть Вас, Ричард Гир, но Вас нигде не было.
Отец Макнами прищурился на солнце и сказал:
– А может быть, Венди и не была частью плана, в конце концов. Как ты думаешь?
– Какого плана? – спросил я.
– Господнего плана. В отношении тебя. В отношении нас. В отношении настоящего момента. Того, что началось со смертью твоей матери. Того, что происходит прямо сейчас. Цикла, в котором мы участвуем. Касательной, по которой мы переместились из прошлого в настоящий момент.
Я не знал, что ему на это сказать.
– Бартоломью, ты веришь, что у Него был план в отношении нас всех?
Мама говорила, что у Бога есть план относительно каждого человека, но я не ответил отцу Макнами, потому что мне было как-то неудобно отвечать на его вопросы о Боге.
– Ты ничего не слышишь, Бартоломью? – спросил он меня, приставив ладонь к уху и наклонив голову. – Прямо сейчас. Прислушайся. Слышишь? Что это?
– Река течет? – предположил я.
Он чуть приподнял ухо:
– Может, это и есть глас Божий?
– Что есть глас Божий?
– Река. О чем она говорит?
Я пожал плечами.
– Может, это наша неопалимая купина?
У меня не было ответа.
Мы слушали целый час, но не слышали ничего, кроме рокота воды.
Мне казалось, что отец Макнами ждет, что я скажу что-нибудь глубокомысленное, и в то же время маленький человек в моем желудке называл меня дебилом и велел мне держать мой глупый рот на замке. Я находился в подвешенном состоянии между надеждами отца Макнами и сомнениями маленького человечка.
– Никакой надежды, – произнес наконец отец Макнами, встал и пошел прочь.
Я молча последовал за ним. Так мы шли несколько часов и дома были лишь к обеду, однако в кухню ни один из нас не заглянул.
Отец Макнами опустился на колени в гостиной, даже не сняв пальто. Он сложил руки и склонил голову, но затем произнес: «Какой смысл?», поднялся на второй этаж и заперся в маминой спальне.
Я пошел к себе и написал Вам это письмо. Я все время надеялся, что Вы опять появитесь и мы поговорим, но Вы не появились.
10
Ты ведь знаешь теорию своей матери?
Дорогой мистер Гир!
Вам не приходило в голову, что проблемы в отношениях Тибета с Китаем резко обострились в год Вашего рождения?
В 1949-м.
Как раз в том году, когда родились Вы, Ричард Гир, друг далай-ламы и защитник Тибета.
В том году Китай стал коммунистической страной, а вскоре после этого, когда Вы, наверное, говорили свои первые слова, китайцы захватили Тибет.
Как Вы относитесь к этому факту?
Это совпадение?
Синхронистичность?
Что сказал бы по этому поводу Юнг?
Вы верите в предопределение?
Или в то, что во вселенной есть ритм?
Вы должны верить, раз Вы верите в далай-ламу, которому суждено было перевоплотиться и стать духовным лидером.
Кто мог предположить, что два совершенно разных события – Ваше рождение и китайский переход к коммунизму – будут связаны таким важным и, возможно, даже фатальным образом?
Любопытно, что сказал бы об этом далай-лама?
Вы никогда не спрашивали его?
До своей болезни мама всегда говорила:
– Если случается что-то плохое, то обязательно случится и хорошее, и таким образом в мире сохраняется гармония.
Когда у нас происходило слишком много хорошего, она говорила:
– Сочувствую тем, кому приходится отдуваться за это.
Она имела в виду, что наше благоденствие уравновешивается чьими-то несчастьями. А если нам было уж совсем хорошо, она расстраивалась. Ей была невыносима мысль, что кто-то страдает, чтобы мы могли наслаждаться жизнью.
Вы верите в это?
В то, что невозможно выиграть без того, чтобы кто-нибудь не проиграл, невозможно разбогатеть без того, чтобы многие не увязли бы еще глубже в нищете, невозможно прослыть умником без того, чтобы очень многие не считались бы посредственностями, если не хуже; что невозможно восхищаться чьей-либо красотой, если не существует множества людей с обыкновенной внешностью, а также уродливых; что добро не бывает без зла, быстрое без медленного, горячее без холодного, верхнее без нижнего, светлое без темного, круглое без плоского, жизнь без смерти и везение без неудачи?
Может быть, Тибет невозможен без Китая?
Бартоломью Нейл без Ричарда Гира?
Мама часто радовалась, если у нас случалось что-нибудь плохое, – значит, кому-то было хорошо.
Так было, когда она потеряла кошелек со всеми деньгами, а до ее пенсии оставалось еще несколько дней. Она сказала:
– Ну что ж, Бартоломью, нам придется поголодать эту неделю, но зато человек, нашедший мой кошелек, будет сыт. Может быть, ему деньги были нужнее, чем нам. Может быть, его нашла мать ребенка, которого плохо кормят, и малыш сможет поесть свежих фруктов на этой неделе. Как знать?
Или был случай, когда мы с мамой отмечали ее шестидесятилетие в ресторане, специализирующемся на морепродуктах. Она очень любила крабов в мягком панцире, запеченных с имбирем, и, когда были особые события, такие как круглые даты, мы устраивали праздник и кутили – надевали все лучшее, обедали в дорогом ресторане, используя даже имеющуюся у нас на аварийный случай кредитную карточку, чего мы обычно не делали, так как сбережений у нас не было и мама всегда говорила, что из-за процентной ставки мы можем потерять свой дом, если не будем осторожны. В тот день мы притворялись богачами и обедали в ресторане на старинном корабле, пришвартованном у набережной реки Делавэр, делая вид, что мы живем замечательно, беспечно и шикарно, что мы важные богатые персоны, которые могут не задумываясь заказать официанту еду, добытую со дна моря. А в это самое время шайка безмозглых подростков вломилась в наш дом. Они разукрасили все стены с помощью пульверизатора отвратительными фразами и порнографическими рисунками вроде гигантского пениса с волосатой мошонкой или кучи дерьма, которая была изображена над маминой кроватью, а стрелка указывала на кровать, где один из этих хулиганов оставил натуральную копию, полив ее своей спермой.
Это было абсолютно бессмысленно.
Это было извращение.
Отвратительное.
Ужасное.
Невообразимое.
Кроме того, они заткнули сливные отверстия в умывальниках и пустили воду, так что она все затопила. Они разбили все зеркала, всю нашу фарфоровую и стеклянную посуду. Измазали диван горчицей и полили кетчупом. Вылили молоко на ковер. Вскрыли мясные консервы и пришлепнули содержимое к потолку, так что он был усеян кусками ветчины и копченой колбасы, которые постепенно отставали от потолка и сыпались нам на головы. Засунули наши распятия в унитаз и писали на изображение Спасителя.
Зачем?
Помню, как, придя домой, мы увидели расколотый дверной косяк и полуоткрытую дверь и сразу поняли, что произошло что-то ужасное.
Это было все равно что посмотреть на себя и увидеть зияющую дыру вместо желудка и оторванные ноги, как будто внутри нас с мамой разорвались гранаты.
Увидав весь этот разгром, мама только вздохнула и позвонила в полицию, но полицейские приехали лишь через несколько часов, задали общие вопросы и сказали, что составят рапорт. Зато, когда мама позвонила отцу Макнами, тот появился через считаные минуты с телефонной книгой и несколькими бутылками вина. Он обзвонил с десяток прихожан, которые прибыли к нам, и работа по расчистке территории закипела. Они убрали всю воду, собрали стекла и прочий мусор, выстирали постельное белье и заново покрасили стены – кто-то из них очень кстати нашел у нас в подвале краску и кисти. Отец Макнами вымыл наши распятия освященной водой. Засунув ватную палочку в просвет между телом Христа и крестом, он приговаривал: «Надеюсь, Господь, тебе нравится, что тебе трут спинку!» Эти мужчины и женщины работали всю ночь, прикладывались время от времени к бутылке, переговаривались и даже пели.
Прямо как на празднике.
Когда взошло солнце, мама приготовила для всех завтрак, один из соседей принес нам столовую посуду. Перед едой мы все взялись за руки, а отец Макнами прочитал молитву и поблагодарил Бога за предоставленный нам шанс убедиться в том, что люди по натуре добры и часто помогают друг другу, если подвернется подходящий случай; он попросил Бога запечатлеть эту ночь в нашей памяти как пример того, какими могут быть истинные последователи Христа, если их призовут, как они заботятся о ближнем с состраданием в сердцах и вином в желудках, с какой готовностью они вступают в борьбу с любыми невзгодами независимо от их масштабов. После этого все принялись за еду как одна семья.
У нас с мамой никогда еще не было столько гостей за столом.
Когда все ушли, мама сказала:
– Какой замечательный день рождения!
– А что, если это повторится? – сказал я.
– Бартоломью, разве тебе не было весело? Я была бы счастлива устроить такой праздник еще раз. Такой сюрприз, столько людей пришли отпраздновать мое шестидесятилетие!
– Как мы можем быть уверены, что эти жуткие типы не вломятся к нам опять? – сказал я.
– Ну да, не можем, – отозвалась мама чуть ли не с сожалением. Можно было подумать, что она приветствовала бы это. – Мы не можем знать будущее, но можем выбирать, как нам воспринимать то, что с нами случается. Выбор у нас есть всегда. Запомни это!
Запомнил я в первую очередь то, что был напуган. Я был не такой, как мама, и, очевидно, никогда не буду таким. Наверное, я плохой католик. Недоразвитая личность. Возможно, даже Иисус считает меня дебилом. Я не мог радоваться тому, что случилось, и воображать, что эта бригада уборщиков компенсирует насилие, которому мы подверглись.
– Ты забыл, чему я тебя учила, когда ты был еще маленьким? – спросила мама, укладывая меня в мою новую постель; она настояла на том, чтобы я лег после бессонной ночи. – Если с нами случается что-нибудь плохое, обязательно произойдет и что-то хорошее, возможно, с кем-то другим. Этот принцип называется «нет худа без добра». Нужно верить в это. Обязательно нужно. Обязательно.
Она поцеловала меня в нос, опустила шторы, вышла и закрыла дверь.
В комнате стоял запах подсыхающей краски; я не мог уснуть – в основном из-за того, что все время думал о тех, кто ворвался к нам и писал на мою подушку.
Что побуждает человека поступать так?
Как может мама относиться к этому так спокойно?
Произойдет ли это снова, несмотря на то что отец Макнами обещал установить нам новую дверь с более надежными запорами?
Может быть, я был каким-то образом виноват в этом, так как уже достиг середины третьего десятка, а ничего не сделал в жизни, только жил с мамой? Может быть, я заслуживаю того, чтобы мой дом испоганили? Если бы я работал, то, может быть, мы жили бы в более спокойном квартале. Если бы я был нормальным человеком, то, может быть, я не притягивал бы негативную энергию и всякие несчастья.
Может быть, Бог наказывает меня? «Такие вещи случаются только с кретинами вроде тебя! – воскликнул маленький человечек у меня в желудке. – Разумеется, это твоя вина! У умных людей таких проблем не бывает».
Но затем я решил последовать совету мамы и разделил все плохое, что произошло с нами в эту ночь, на отдельные действия и факты.
1. Кто-то выбрал наш дом в качестве объекта нападения.
2. Кто-то составил план действий.
3. Дверь была взломана.
4. Десятки ругательств были нанесены распылителем на стены (каждое слово можно было рассматривать как отдельное действие).
5. Больше сотни бьющихся вещей были разбиты (каждый случай – отдельное действие).
6. Погромщики много раз ходили в туалет, не ходя в туалет (каждый раз считался отдельно).
7. Молоко, консервы и приправы пропали (я учел каждую упаковку и каждый грамм).
8. Я уверен, что во время этого погрома они непрерывно ругались (я сосчитал все ругательства).
9. Они стряхивали на пол пепел с сигарет и набросали бутылок из-под пива по всему дому (я прибавил к списку каждую бутылку и каждый окурок).
10. Обливание Иисуса мочой недостаточно рассматривать как одно плохое действие. Может быть, учесть каждый грамм мочи? (А может, приплюсовать это вдобавок и как эксгибиционизм?)
Таким образом я насчитал более двух сотен отдельных негативных действий, произведенных в нашем доме, и если мамина теория была верна, то это означало, что более двухсот хороших событий произошли или скоро произойдут во всем мире с совершенно незнакомыми людьми, а может быть, случилось или случится что-нибудь необыкновенно удачное (намного перевешивающее все плохое) и все это компенсирует то зло, которое было совершено у нас.
Я попытался представить себе, какими именно эти хорошие события могли бы быть. Может быть, какая-нибудь совсем маленькая больная девочка в Зимбабве получит нужное ей лекарство и не впадет в предсмертную кому. Может быть, голодный нищий найдет теплый кусок мяса в помойном баке пятизвездочного ресторана и устроит пир при луне. Может быть, молодая японка найдет свою любовь, когда во время утренней пробежки ударится о дверцу медленно едущего автомобиля, так как бежала в этот момент, закрыв глаза и напевая песенку, а за рулем окажется ее будущий муж. Он будет так расстроен этим происшествием, что пригласит девушку куда-нибудь выпить кофе. Может быть, ученик начальной школы в Париже вдруг вспомнит на зачете правильную математическую формулу и его не лишат прогулки из-за плохой отметки. Может быть, русская женщина в сибирской тюрьме вспомнит, как ее добрая бабушка катала ее на санках, и откажется от намерения всадить вилку в шею сокамерницы. Может быть, какой-нибудь аргентинец найдет ключи от своей машины, потерянные на лугу, где он загорал, и успеет встретить своего шестилетнего сына после тренировки по футболу, прежде чем его похитит преступник, рыскающий вокруг школы в поисках детей без родителей. Может быть, астероид размером с Солнце, направлявшийся прямо к Земле, будет сбит со своего курса внезапно взорвавшейся звездой и не погубит человечество через семь тысяч лет…
Не исключено, что тогда мне пришли в голову какие-нибудь совсем другие потенциально возможные события, я не помню, но идея Вам понятна. И, воображая в своей постели все эти удачные происшествия, которые должны были перевесить безобразия, учиненные в нашем доме, я начал понимать, почему мама верит в принцип «нет худа без добра». Наверное, когда веришь в это или даже притворяешься, легче перенести то плохое, что произошло с тобой, – и неважно, правда это или нет.
Ведь что такое реальность, если не то, что мы чувствуем по поводу происходящего?
Ведь это главное, что имеет значение, когда, ложась вечером спать, мы остаемся наедине со своими мыслями.
И разве не доказывает статистика, независимо от того, верим мы в удачу или нет, что во всем мире хорошее и плохое происходит одновременно?
Дети рождаются в тот самый момент, когда люди умирают; супруги грешат и обманывают друг друга, а в это время женихи и невесты глядят с любовью друг другу в глаза и говорят «да»; люди находят работу, а другие ее теряют; отец ведет сынишку на матч по бейсболу, в то время как другой мужчина бросает своего сына и переезжает в другой штат, не оставив своего нового адреса; один спасает кошку от неминуемой смерти, вытащив ее из пластикового пакета на свалке, а другой, на другой половине земного шара, бросает мешок с котятами в реку; хирург в Техасе спасает жизнь парню, сбитому машиной, в то время как какой-то человек в Африке поливает забранных в армию детей очередями из пулемета; китайский дипломат купается в прохладных водах тропического моря, а тибетский монах сжигает себя в знак протеста против политики Китая. Все эти противоположные по характеру события происходят независимо от того, верим мы в то, что «нет худа без добра», или не верим.
Но после погрома в нашем доме мне было трудно верить в этот принцип или притворяться так, как мама. Может быть, потому, что я всегда был скептиком; может быть, потому, что я не такая сильная личность, как она; может быть, потому, что я тупой и глупый простак, отставший в своем развитии.
На следующий день все эти чувства не давали мне покоя, и я пошел в церковь к отцу Макнами. Он сидел в своем помещении и надписывал поздравительные открытки всем прихожанам, родившимся в ближайшие месяцы.
Я попросил его заверить меня, что никто никогда больше не ворвется в наш дом.
– Ты ведь знаешь теорию своей матери «нет худа без добра»? – спросил он.
– Знаю.
– Ты веришь, что она права?
– Прошлой ночью я пытался притвориться, что верю.
– И тебе удалось это?
– Я признаю, что эта теория помогает. На несколько часов. Но потом я снова начинаю тревожиться, что…
– Молись.
– О чем? О том, чтобы наш дом больше не взламывали?
– Нет. То, что случается с вещами, не имеет значения. Молись о том, чтобы твое сердце умело переносить все, что бы ни случилось в будущем с тобой. Сердце должно верить, что любое событие является не концом и началом всего, а просто преходящей и несущественной переменной величиной. За всеми ежедневными удачами и неудачами нашей жизни кроется более значительная цель. Возможно, мы еще не видим или не понимаем эту цель; возможно, человеческий разум вообще не способен понять ее до конца, и тем не менее все это ведет нас к чему-то высшему.
– Как это понять, отец?
Он рассмеялся по-хорошему, лизнул и заклеил конверт и ответил:
– Разве не замечательно было то, как наша паства отреагировала на возникшее прошлой ночью испытание? У них ведь, знаешь ли, были собственные заботы. Но, узнав о том, что случилось с вами, они послушались зова своего сердца и немедленно оказали действенную помощь.
– И что? – спросил я, недоумевая, каким образом это может защитить меня от будущих вторжений.
– Тебе хотелось вчера ложиться в пропитанную мочой постель?
– Нет.
– Ну так вот, благодаря этим людям тебе не пришлось этого делать.
– И все же я не понимаю, каким образом…
– Это тоже пример принципа «нет худа без добра», подтверждающий правильность философии твоей матери.
– Не вижу, как это защитит нас в будущем от вандалов, – сказал я.
– Потому что ты не видишь сути, – ответил отец Макнами, посмеиваясь. Казалось, он вот-вот взъерошит мои волосы, как будто я был маленьким мальчиком, а не взрослым человеком.
– И в чем же суть?
– Ты поймешь это когда-нибудь без моих объяснений, Бартоломью. Поймешь, я обещаю.
Должен признаться, Ричард Гир, я и сейчас понимаю это не лучше, чем тогда.
Я даже задумывался над тем, что могло бы быть настолько хорошим, чтобы перевесить тяжесть зла, причиненного прожорливым существом, которое сожрало мамину жизнь. Это должно быть чем-то совершенно исключительным, потому что в маме было очень много любви – достаточно, чтобы уничтожить очень большое количество зла. Но после ее смерти мне трудно принять ее философию.
Когда вечером после похорон я спросил об этом отца Макнами на берегу, он ничего мне не ответил. А позже он стал вести себя так странно, что я боялся задавать ему этот вопрос или даже произносить фразу «нет худа без добра», потому что мне казалось, что он и сам с трудом притворяется, что верит в это, – по крайней мере, он больше не упоминал этот мамин принцип.
Но сам факт, что Вы родились в том же году, когда Китай стал угрозой для Тибета, дает мне надежду, потому что Вы, может быть, в самом деле появились на свет для того, чтобы уравновесить зло, которое китайское правительство причиняет Тибету. Мне кажется, что это можно считать доказательством. Это слишком значительно, чтобы быть просто совпадением. Юнг согласился бы с этим.
А если Вы появились как ответ на китайские планы завоевать Тибет, то мне легче поверить в мамину философию и надеяться на мое собственное будущее после мамы и на жизнь в целом.
В интернете я нашел цитату далай-ламы: «Помните, что не получить то, что вы хотите, бывает иногда редкой удачей». Это похоже на то, что проповедовала мама.
И еще одна цитата далай-ламы: «В Тибете есть поговорка: трагедию надо превратить в источник силы. Не имеет значения, с какими трудностями мы сталкиваемся и какие мучения испытываем; подлинное несчастье – потерять надежду».
Что Вы думаете об этом, Ричард Гир?
Мы с Вами найдем общий язык в этом вопросе?
Может быть, наша переписка является тем добром, которое возникло в ответ на смерть мамы?
Может быть, Вы поможете мне перейти к «следующей фазе моей жизни», чего добивалась от меня Венди, пока еще была с нами, до того, как раскрылся ее секрет?
Я думаю, случались и более странные вещи.
Наша переписка – единственное, что дает мне надежду в данный момент. Поэтому важно продолжать притворяться, пусть даже мы сами не верим этому на все сто процентов.
11
Я не понял эти математические выкладки, но Макс был так возбужден, что я не стал прерывать его
Дорогой мистер Гир!
После того как Венди ушла от нас, отец Макнами перестал молиться, а пить стал даже больше, чем описывалось ранее.
Он выпивал по бутылке «Джеймсона» в день прямо из горла. Он называл это «ирландским ритуалом очищения».
Иногда уже поздно вечером я слышал, как его рвет в туалете. Он спускал воду снова и снова, а грязи никогда не оставлял. Это было как с мамой в самом конце ее жизни, после химиотерапии и прочего. Но, к сожалению, в последнее время мама не появлялась в моих снах, так что я не мог посоветоваться с ней на этот счет.
Я спрашивал отца Макнами через запертую дверь туалета, не требуется ли ему помощь, но он отвечал:
– Со мной все в порядке. Временный спад, который уже сменяется подъемом. Мне надо побыть одному.
Я старался заботиться о нем, как заботился о Венди, когда она была у нас на кушетке. Оставлял тосты с сыром и лапшу быстрого приготовления около его двери. Иногда он съедал это ночью, иногда я убирал это утром остывшим и нетронутым.
Перед каждой едой я стучался к нему и спрашивал, не хочет ли он составить мне компанию за кухонным столом, но он лишь на секунду поворачивал голову, чтобы встретиться со мной взглядом, и молча отворачивался. Иногда он лежал в постели, иногда стоял у окна, уставившись в стекло пустым взглядом.
Ночью он тоже не разговаривал со мной, не ходил со мной гулять, не слушал птичьего пения за утренним кофе.
Так прошло два дня, и я начал тревожиться.
Я пошел в церковь посоветоваться с отцом Хэчеттом.
Он сидел в церковной конторе за компьютером, раскладывал пасьянс и явно скучал. Увидев меня, он спросил:
– Почему вы не присутствовали на мессе, Бартоломью? Ваша мать была бы смертельно огорчена.
(Вам не кажется, что слово «смертельно», употребленное им по отношению к предполагаемому огорчению моей мамы, было проявлением бестактности?)
Мама действительно не хотела бы, чтобы я пропускал мессы, так что я не нашел подходящего ответа и сказал:
– Отец Макнами чувствует себя не очень хорошо.
– Эдна рассказала мне о вашей попытке спасти ее дочь, – сказал отец Хэчетт. – Чрезвычайно волнующая история, чрезвычайно.
– Почему вы улыбаетесь? – спросил я.
– Я не улыбаюсь, – ответил он, хотя явно ухмылялся, как будто знал какой-то секрет и был рад не поделиться им со мной.
Его желтые зубы были похожи на окаменевшие кукурузные зерна, а морщины на лице из-за ухмылки были более глубокими, чем обычно, прямо как какие-то каньоны. «Может, ему надо прочистить их ватной палочкой?» – подумал я.
Маленький сердитый человечек в моем желудке оживился.
– Вас не беспокоит судьба Венди? – спросил я.
– Мы с Эдной ходили к ней и Адаму вчера, между прочим, и вполне удовлетворительно побеседовали.
– Вот как?
– Я помолился вместе с ними. Разговор был очень продуктивным. После этого Венди исповедовалась мне здесь, в церкви. Чтобы облегчить вашу совесть, Бартоломью, должен сказать, что дела у нашего общего молодого друга складываются неплохо. Не стоит слишком беспокоиться о ней.
Трудно было поверить, что отец Хэчетт справился с тем, что не удалось отцу Макнами. К тому же ему не следовало сообщать мне, что Венди исповедовалась, это нарушает тайну исповеди. Было похоже на то, что он хвастался, хотел доказать мне, что он как священник лучше отца Макнами. Отец Макнами никогда не стал бы хвастаться подобным образом. Ни за что. И не стал бы разглашать секреты прихожанина.
– С ней правда все в порядке? – спросил я, думая, что на самом деле исповедоваться надо было бы Адаму, а не Венди, и гадая, что она могла сказать отцу Хэчетту. Рассказала ли она о том, что наговорила мне много неприятного в последнюю ночь у нас дома? Что отец Хэчетт знал в действительности?
– Она переживает нелегкую внутреннюю борьбу, как и Адам. Им многое надо обдумать.
– Он испорченный, злой человек. Он бьет Венди. Вы видели ее синяки?
– Люди не бывают злыми или добрыми. Все это намного сложнее. Намного.
– Что тут может быть сложнее, если мужчина регулярно избивает женщину?
Отец Хэчетт опустил глаза, вытащил сигарету из пачки, постучал по фильтру и закурил.
– Почему вы пришли ко мне сегодня, Бартоломью?
Я понял, что он избегает говорить со мной о Венди, возможно, потому, что это было связано со сказанным ею на исповеди, что он не мог разглашать то, что знал.
– Как я могу помочь отцу Макнами преодолеть депрессию? – спросил я.
Отец Хэчетт нахмурился, выпустил струю дыма уголком рта через левое плечо и сказал:
– Вам следует посещать мессы, Бартоломью. Надо продолжать то, что вы с вашей матерью делали всегда. Участвуя вместе с другими в рутинном отправлении обрядов, вы спасетесь. В конечном счете эта рутина спасет нас всех.
– Хорошо, я буду посещать мессу. Но как насчет отца Макнами?
Момент был неловким для отца Хэчетта, но он выдержал мой взгляд и ответил:
– Позвольте мне сделать предположение. Он пьет. Он заявляет, что Бог оставил его. Он хандрит в одиночестве в своей комнате, а по ночам опустошает свой желудок в туалете. Так? Это стало у него ритуалом. Горные пики и глубокие ущелья. Таков его обычный путь следования. И готов поспорить, он обвиняет вас в том, что вы не слышите глас Божий и не передаете ему указаний свыше. Я далек от истины?
Он был недалек от истины, как Вы, Ричард Гир, знаете, но, похоже, не хотел мне помочь на этот раз.
– Я не понимаю, – сказал я. – Вы говорили, чтобы я обратился к вам, если мне понадобится помощь. Вы пришли ко мне домой специально для того, чтобы предложить мне ее. Это была неправда?
– Я рад, что вы пришли, Бартоломью. Церковь Святого Габриэля – ваш второй дом. Но вам надо работать над собой. Надо пережить потерю вашей матери и начать жить без нее. Бог поможет вам выполнить эту задачу.
– Но отцу Макнами вы не хотите помочь? Вас не волнует его депрессия?
– Это все равно что стараться остановить ураган голыми руками, колотить по ветру и дождю. Глупо пытаться. Вам нужно переждать. Поверьте мне. У меня есть кое-какой опыт в этом. Отец Макнами в конце концов придет в норму. Во всяком случае, раньше всегда так было.
– Зачем же тогда вы приходили к нам домой и предлагали помощь?
– Честно? Потому что я за вас беспокоюсь, Бартоломью, а не за отца Макнами.
– За меня?
Он медленно кивнул. Лицо его было разделено тонким столбиком сигаретного дыма на две половины.
– Почему?
Отец Хэчетт сделал несколько затяжек, рассмотрел свои ладони, словно читал записанный там текст, и спросил:
– Вы все еще не знаете, почему отец Макнами стал жить у вас?
– Чтобы помочь мне справиться с потерей мамы и жить дальше.
Отец Хэчетт улыбнулся, и я обратил внимание на то, какая тонкая у него шея в обтягивающем черно-белом воротничке, будто леска, на конце которой болтается белый с красным поплавок.
– А теперь вы хотите помочь отцу Макнами. Вы поменялись ролями. Понимаете?
– Почему вы так со мной говорите?
– Как?
– Загадками. Будто я тугодум, слишком тупой для голой правды.
«Потому что ты дебил!» – крикнул маленький сердитый человечек.
– Простите меня, Бартоломью. Дело в том, что я в неловком положении. У меня есть преимущество перед вами, потому что я знаю нечто неизвестное вам. Но не мне говорить вам то, что вы должны знать. – Он сунул сигарету в бронзовую пепельницу, полную окурков. – Он еще не говорил с вами о Монреале?
Человечек у меня в желудке застыл при слове «Монреаль», так как мой отец якобы был оттуда родом.
– Значит, не говорил, – заключил отец Хэчетт. – Хмм.
Я хотел спросить его, при чем тут Монреаль.
Маленький человечек у меня в желудке вопил: «Не молчи, балда! У него информация, которую ты должен знать! А ты сидишь как дурак, набрав в рот воды. Спроси его о Монреале! Спроси о своем отце!» Он чувствительно пнул несколько раз мою селезенку ногой с острыми, как когти, ногтями.
Но я не мог заговорить об этом, Ричард Гир. Я все надеялся, что Вы появитесь и подскажете, как мне быть в этой ситуации, но Вы не материализовались – может быть, потому, что я был в католической церкви, а Вы буддист. Может быть, католические церкви излучают какое-то конфессиональное силовое поле, ограничивающее Вашу способность материализовываться.
– Вот что я вам скажу, – произнес отец Хэчетт, поняв, что я не собираюсь ничего говорить. – Может быть, отец Макнами и не заслуживает вашей помощи, но он определенно в ней нуждается. Он ищет спасения и потому пришел жить к вам. Это была необходимая ступень в его духовной жизни. Он непростой человек, но он служит Богу. По крайней мере, так, как может.
– Так что же мне делать?
– Молиться.
– И все?
– И быть терпеливым.
– А прислушиваться к гласу Божьему я должен? – спросил я, надеясь, что он отмахнется от этого как от смехотворного заблуждения и освободит меня тем самым от этого бремени.
Отец Хэчетт улыбнулся, склонил голову набок, трижды погрозил мне пальцем и сказал:
– Всегда.
Мы смотрели друг на друга, казалось, целый час. Он, похоже, жалел меня, а я начал ненавидеть его, хотя ненавидеть священника – смертный грех, один из самых больших. Я верю, что это так.
Человечек в моем желудке принялся дубасить мою пищеварительную систему. Он был в ярости.
– Значит, всегда? – повторил я, когда молчание стало уже невыносимым.
– Ох, чуть не забыл. Постарайтесь уговорить его принимать вот это. – Отец Хэчетт пошарил в ящике стола и достал оттуда небольшой оранжевый пузырек. Он встряхнул пузырек, и таблетки внутри затрещали, как гремучая змея.
– А что это? – спросил я, беря пузырек.
– Препарат, стабилизирующий психику. Литий. Указания по применению на этикетке.
Я кивнул.
– Скажите отцу Макнами, что лично мне его не хватает. Я молюсь о нем денно и нощно и о вас, Бартоломью, тоже. Я понимаю, что вам трудно со мной, но я делаю для вас все, что могу в данных исключительных обстоятельствах. Я хотел бы облегчить ваше положение, но все, что могу пока сделать, – это молиться о вас. Вы скоро все поймете.
– Спасибо, – сказал я и пошел домой.
Дома я постучал в дверь маминой спальни и сказал:
– Отец Макнами, отец Хэчетт молится о вас. Он прислал вам лекарство.
Дверь распахнулась.
Глаза отца Макнами опять превратились в крошечные черные снежинки.
Он выхватил у меня пузырек, промчался по коридору в туалет, высыпал таблетки в унитаз и спустил воду. После этого он вернулся в свою комнату и запер дверь.
Он напоминал взбесившегося быка, атакующего красную тряпку.
Он стал совсем другим человеком.
– Зачем вы сделали это? – спросил я через дверь.
– Я не собираюсь принимать лекарства!
– Почему?
– Из-за них я непрерывно писаю и вдобавок толстею – дальше уже некуда.
Спал я этой ночью плохо, а утром пошел на мессу, чтобы как-то загладить свою вину – пропуск службы в предыдущую субботу. После службы отец Хэчетт спросил, удалось ли мне уговорить отца Макнами принять таблетки, а когда я рассказал ему, как было дело, он фыркнул и кивнул с понимающим видом.
– Я буду продолжать молиться, – сказал он.
Больше ничего особенного в этот день не происходило, до тех пор пока я не пошел на групповую терапию с Арни и Максом, а после нее у меня появилось ощущение, что Бог вроде бы действительно начинает говорить со мной – пусть пока лишь косвенно.
Когда я пришел в желтую комнату, Макса еще не было. На Арни был галстук, а также жилет и брюки из одинакового материала, для полной тройки не хватало только пиджака. Он, казалось, был просто счастлив видеть меня.
– Я очень рад, что вы решили продолжить терапию, Бартоломью, – сказал он. – Присаживайтесь.
Я сел на желтую кушетку.
Он опустился в желтое кресло.
– Я слышал, вы больше не работаете с Венди, – произнес он тоном, по которому можно было понять, что слышал он гораздо больше.
Я кивнул.
– Слишком глубоко были затронуты ваши чувства? – спросил он сочувственно.
Я опять кивнул, так как это было легче, чем говорить что-либо.
– Очень жаль. Венди начинающий психотерапевт, она еще учится.
– У нее все в порядке?
– У кого? У Венди? – спросил он, будто мог подразумеваться кто-то другой. – У нее все хорошо. Но Венди – не ваша забота. Вы за нее не отвечаете. Это она должна была помогать вам, а не вы ей. Она немного просветила меня насчет работы с вами и ваших успехов, но вы, возможно, хотели бы сами мне об этом рассказать?
– О чем именно?
– О том, до какой стадии вы дошли. Как вы работали с ней, как общались. Как развивалось ваше переживание утраты.
– Хотите знать, какая у меня жизненная цель?
– Простите?
– Какова моя жизненная цель. Венди говорила, что очень важно ее иметь. Хотите узнать про мою?
– Конечно, – ответил Арни и обхватил руками колено.
– Я хочу пойти в бар с женщиной моего возраста – с такой, которая может в будущем стать моей женой. Я считаю, что в тридцать девять лет я готов пойти на свое первое свидание – или, по крайней мере, хочу в это верить. В прошлом мне трудно было поверить в это, особенно при маме. Как по-вашему, эта цель достижима? Я ведь никогда еще не ходил на свидания, и у меня нет опыта употребления алкоголя для развлечения с женщиной.
– Безусловно! – воскликнул Арни, ни секунды не колеблясь. – Это очень хорошая, достижимая, подходящая по возрасту, нормальная и крайне позитивная во всех отношениях цель. Я полностью поддерживаю ее. Как я могу помочь вам в этом?
Меня вдохновила готовность Арни помочь мне ухаживать за Библиодевушкой, и я уже собирался рассказать ему о своей тайной любви, когда дверь распахнулась.
– Алё, какого хрена? – произнес Макс, входя в комнату.
– Добро пожаловать в цитадель речевого общения, Макс, – сказал Арни. – Очень рад, что вы пришли.
– Я пришел спасать его, – ответил Макс, указывая на меня. – Пошли отсюда, на хрен, прямо, блин, сейчас!
– Что? – пролепетал я.
Макс был возбужден и настроен решительно. Меня никогда еще не спасали, и хотя я не понимал, от чего Макс собирается спасать меня с такой пылкостью, это его намерение, должен признаться, льстило мне.
– Послушайте, Макс, – сказал Арни, – мы тут обсуждаем последние события. Если вы не хотите в этом участвовать…
Макс схватил меня за руку и заставил встать.
– Доверься мне, блин. Арни – лжец. Он даже не человек! Он хочет, блин, увезти нас хрен знает куда, запереть в долбаной комнате и снимать долбаное кино. Нам надо, блин, срочно убираться отсюда. Прямо сейчас, блин!
– Позвольте мне объяснить вам, Бартоломью, – сказал Арни. – Макс ведет себя не вполне разумно.
– На хрен, Арни! На хрен твою речевую цитадель. На хрен желтую комнату. Я не хочу быть твоим долбаным подопытным кроликом. Притворяешься, что заботишься о нас. Постыдился бы, блин, если ты способен испытывать какие-нибудь долбаные чувства! Я верил тебе! Я рассказал тебе все! Даже об Алисе. На хрен все это!
Макс схватил меня за руку и потащил к двери.
– Бартоломью, может быть, вы хотя бы выслушаете меня? Вы же видите, Макс перевозбужден, и нельзя доверять ему, когда он в таком состоянии.
– Иди на хрен, Арни! На хрен! – Макс выволок меня из комнаты, стащил вниз по лестнице и по коридору на улицу.
Арни бежал за нами, говоря:
– Это несправедливо. Я что, не имею даже права объяснить? Я могу помочь вам, Бартоломью. Вы же не знаете еще, в чем дело. Я могу помочь вам достичь вашей цели.
Макс все время повторял: «На хрен, Арни, на хрен», словно это было магическое заклинание, призванное спасти нас от преследования.
– Бартоломью! – сказал Арни, схватив меня за плечо, развернув лицом к себе и глядя мне в глаза. – Вам не кажется, что вы обязаны хотя бы выслушать меня? Вы обязаны это сделать ради себя самого.
– Он долбаный лжец! – закричал Макс, опять схватил меня за руку и потянул вдоль по Уолнат-стрит. – Ему, блин, нельзя верить! Никоим, блин, образом!
Поскольку Макс был братом Библиодевушки, а я уже достаточно натерпелся и от Венди, и от психотерапии в целом, я решил уйти с Максом, а с Арни в случае чего я мог поговорить и потом. К тому же было более вероятно, что именно Макс поможет мне достичь моей цели – выпить пива с его сестрой, поскольку он был ее родственником.
– Простите, – сказал я Арни.
– Ну, ладно. Вы знаете, Бартоломью, где сможете меня найти, когда будете трезво рассуждать, – сказал Арни, перестав преследовать нас. – Вы нуждаетесь в помощи, Бартоломью. Макс никак не может оказать ее вам.
– На хрен, Арни! – крикнул ему Макс через плечо.
Я подумал, откуда Арни может знать, в чем я нуждаюсь, если мы встречались до этого только раз и почти не разговаривали? Мы в основном слушали Макса. Арни совсем не знал меня.
Мне пришла в голову еще одна забавная мысль: после маминой смерти никто, кроме Вас, Ричард Гир, толком не знает меня. Ни один человек на всей планете. Даже отец Макнами не знает столько, сколько Вы. И уж тем более не знает никто другой.
Вам не кажется это странным?
Или огорчительным?
Или жалким?
Или интересным?
– Куда мы идем? – спросил я Макса, когда мы прошли уже довольно большое расстояние.
– В долбаный паб.
– А что у вас с Арни произошло?
– Для того чтобы изложить эту долбаную историю, требуется пиво. Очень большое количество пива, блин.
Мы пришли в тот же паб, куда Макс водил меня в прошлый раз, сели за свободный столик в углу и стали пить «Гиннес», разглядывая висевшие на стенах ярко-зеленые туманные ирландские пейзажи со скалами, сфотографированные кем-то и вставленные в рамки. Макс с размаху влил в себя целую пинту пива, сдвинул очки с кончика носа на переносицу, громко рыгнул и заказал нам еще по кружке, хотя я к своей не успел еще даже притронуться.
– Тебе понадобится еще одна долбаная порция, когда ты услышишь эту историю, будь уверен, – сказал он.
Я глотнул пива и стал слушать его историю.
Макс рассказал, что Арни позвонил ему и предложил принять участие в исследовании. Когда Макс спросил, что за «долбаное исследование», Арни объяснил, что иногда психотерапевты помещают пациентов в «долбаную контролируемую среду», чтобы изучить их поведение и тем самым лучше познать «долбаную человеческую натуру», а по ходу дела оказать помощь и объекту исследования.
– Арни знал мое долбаное слабое место и сказал, что в исследовании будет принимать участие кошка, о которой я буду заботиться, – и там, блин, действительно была кошка!
Макс встретился с Арни в западной части города около «долбаного колледжа». Арни отвел его в «большое долбаное здание, которое походило на больницу, но не было долбаной больницей, потому что Арни назвал его научной, блин, лабораторией», и это Максу не понравилось по многим причинам, которые я объясню чуть ниже.
Макса пригласили в какой-то кабинет и представили человеку в «долбаном белом докторском халате». Человек спросил, можно ли ему будет задавать Максу вопросы и записывать его ответы в «цифровом, блин, виде», после чего включил камеру, стоявшую на «долбаном штативе».
Макс спросил, когда он увидит кошку, которую ему обещали, и доктор ответил, что она будет «на десерт».
Они стали задавать Максу разнообразные, якобы случайные вопросы, на которые он чаще всего не хотел отвечать, так как они были «слишком, блин, личными». Они спросили Макса, были ли у него в последнее время половые отношения с какими-либо мужчинами или женщинами, на что Макс сказал: «Тпру, блин! Это уже удар ниже пояса. Алё, какого хрена?» Это, казалось, удовлетворило их, несмотря на то что он не ответил на их вопрос, и вообще они «вели себя, блин, странно», потому что все время говорили Максу, что все идет замечательно, хотя он по большей части возмущался, потел и отказывался отвечать. «Мне это, блин, не нравится. Где долбаная кошка?» – спрашивал он все время, а ему отвечали, что скоро уже он будет иметь возможность пообщаться с ней. Затем, по словам Макса, последовали еще более дикие вопросы вроде того, были ли у него когда-либо «мысли, блин, о самоубийстве», «яркие запоминающиеся долбаные сны», «несдержанные реакции на долбаную критику» и верит ли он в самом деле в «долбаных пришельцев». Последний вопрос вывел Макса из равновесия из-за того, что случилось с его сестрой. Особенно интересовало врача утверждение Макса, что его кошка Алиса угадывала его мысли.
Макс прикончил вторую кружку пива и заказал еще две.
Я к этому моменту успел выпить только половину первой, так что на моей стороне стола имелись уже две с половиной пинты «Гиннеса».
– А что случилось с твоей сестрой? – спросил я.
От одного упоминания о Библиодевушке у меня пересохло во рту и возникло ощущение, что кто-то насыпал горячего песка мне в горло.
– Блин! Это другая часть моей истории, подожди! – рассердился Макс.
Затем он рассказал, что его повели по «длинному долбаному коридору», в котором не было ни окон, ни дверей и ничего другого, кроме белых стен и потолка с плафонами. В конце коридора на стене висел «странный долбаный ящик». Доктор коснулся ящика пальцем, ящик стал светиться зеленым цветом, чей-то голос произнес: «Удостоверено. Дверь открывается. Добрый день, доктор Биддингтон», в двери щелкнул замок, и она с шипением автоматически заскользила вбок, как будто давление воздуха внутри «контролировалось, блин, как в каком-нибудь самолете или на долбаной подводной лодке». Доктор зашел внутрь, Арни с Максом последовали за ним. В помещении не было окон, а также часов и «долбаных телевизоров». Все было белым – стулья, ковры, стены, столики, «абсолютно все, блин». В потолок были вмонтированы какие-то черные шары, и когда Макс спросил о них, ему сказали, что там кинокамеры.
Тут Макс услышал громкое «мяу!» – и появилась «короткошерстная, блин, пестрая кошка» средних размеров, которая начала мурлыкать и тереться о его ноги. Врач сказал, что Макс может назвать ее, как захочет. Кошка выглядела «совсем, блин, как Алиса – была слишком, блин, на нее похожа!», даже «с таким же долбаным черным пятном вокруг глаза». Макс с испугом подумал, не клонировали ли они его «дохлую долбаную кошку» и «жутко, блин, вспотел», потому что «кто его знает, какие могут водиться психи, клонирующие дохлых кошек. Какого хрена?». Потом ему пришла в голову не менее пугающая мысль, что он, возможно, находится на космическом корабле, потому что на космических кораблях «все всегда, блин, белое», а длинный коридор – это «долбаный переход», который ведет в «этот долбаный корабль». А раз так, то Арни и доктор Биддингтон, скорее всего, не люди, а пришельцы.
Макс спросил, что им от него надо и зачем они привели его в это место. Доктор в свою очередь задал вопрос:
– Вы не хотели бы пожить здесь с кошкой некоторое время – скажем… недели три?
– Не хотел бы, блин! – ответил Макс.
Тогда Арни стал уговаривать и умасливать его, обещая, что они заплатят ему в десять раз больше, чем он заработает за год в своем кинотеатре, и что после этого эксперимента он может оставить кошку себе; они дадут ему бесплатно таблетки, которые помогут ему справиться с «долбаной тревогой», а пища все это время будет изысканная; все, что от него требуется, – прожить в этой комнате двадцать один день, не покидая ее и не имея контактов с внешним миром.
– Мы будем наблюдать за вами и задавать вам время от времени вопросы, и это все, – сказал Арни. – Вам ничего не надо будет делать, только играть с кошкой.
Я был изумлен и не мог поверить, что все это правда.
– Они хотели только, чтобы ты был в этой комнате с кошкой? – спросил я.
– Алё, какого хрена? – кивнул Макс. – Жутко странно, блин, да?
– Почему они готовы платить тебе за то, что ты три недели будешь играть с кошкой?
– Я, блин, откуда знаю? Но пока я стоял там, обалдев, а этот долбаный клон Алисы терся о мои долбаные ноги, я вдруг понял, что эта комната действительно космический корабль. Мне помогла математика. Долбаная математика.
– Математика?
– А как же! – ответил Макс, уверенно кивнув. – Три недели – как раз столько времени требуется, чтобы долететь через искривленное, блин, пространство до какой-нибудь другой долбаной галактики, если включить сверхкосмическую скорость.
Я не понял эти математические выкладки, но Макс был так возбужден, что я не стал прерывать его. Может быть, Вы, Ричард Гир, понимаете. Вы ведь гораздо умнее меня.
– Так что все, блин, совпадает. И тут я убедился… что этот… долбаный Арни… проклятый… долбаный… пришелец! – торжественно произнес Макс, делая паузы между словами для пущего эффекта. – Зацикленный на желтом цвете пришелец из долбаного космоса. Их же полно повсюду. А я не хочу, чтобы ты или я подверглись, блин, тому, через что прошла моя сестра. Ни за что, блин. Только не в мою смену.
– Ты говоришь, пришелец?
– Ты что, блин, не веришь в пришельцев? Вселенная, блин, очень большая, и теория вероятности говорит в их пользу. Эти козлы существуют! Как ты можешь, блин, не верить в них?
– Не знаю… – ответил я. – Я никогда не думал об этом.
Что мне действительно хотелось узнать, так это какую-нибудь информацию о Библиодевушке, и потому я спросил:
– Макс, ты читал что-нибудь из Юнга? «Синхронистичность», например?
– «Синхронистичность»? Это же, по-моему, альбом «Полис». На обложке у них еще написано: «Король боли», блин.
– Нет, это книга, написанная Карлом Юнгом. Это о совпадениях – о том, что их не бывает. Унус мундус.
– Алё, о каком унусе-блин-мундусе ты толкуешь? И какое, блин, отношение он имеет к пришельцам? Или к долбаному космическому кораблю, в котором меня чуть не заперли на три недели?
– Выслушай меня, – сказал я. – Еще до того, как мы встретились, я видел твою сестру в библиотеке. Много раз. Я, можно сказать, чувствовал, что между нами есть какая-то связь. Я уже несколько лет наблюдаю за тем, как она работает в библиотеке, и…
– Моя сестра? Элиза-блин-бет?
– Я всегда хотел заговорить с ней, но боялся.
– Почему?!
– Не в том дело, – сказал я, потому что не хотел говорить Максу, что влюблен в его сестру, не зная, как он это воспримет.
– Так в чем же, блин, тогда дело?
– Моя мама умерла несколько недель назад, и в результате я приобрел консультанта по переживанию утрат, которого зовут Венди. Она рекомендовала мне пойти к Арни, который объединил меня в пару с братом Библиодевушки. Ты только вдумайся. Какова была вероятность?
– Кто такая эта Библиодевушка, блин?
– Девушка, с которой я вот уже несколько лет хочу познакомиться! Твоя сестра!
– Алё, какого хрена?
– Синхронистичность!
– Ты хочешь, блин, познакомиться с моей сестрой?
– Больше всего на свете!
– Для этого не нужна никакая синхро-блин-нистичность. Я сейчас отведу тебя к ней, и познакомишься, блин. Без проблем. А она расскажет тебе о долбаных пришельцах, которые похитили ее. Какого хрена, алё?
Я просто не мог поверить своему счастью, Ричард Гир.
Как тут было не вспомнить философию моей мамы «нет худа без добра»?
Разве не доказывается это тем фактом, что мамина смерть привела к возможности познакомиться с Библиодевушкой?
Может быть, Арни и был пришельцем, который пытался обманом заманить Макса на свой космический корабль, но в данный момент наблюдалось добро, перевесившее потенциальное зло этого обмана.
Никогда в жизни я не был в чем-либо так уверен, как в этом.
Мне было все равно, что Библиодевушка скажет мне, – главное, что в конце концов я поговорю с ней. Пусть она семьдесят шесть раз подряд монотонно прочтет вслух Декларацию независимости, ни разу не посмотрев на меня, мой взгляд будет прикован к ее прекрасным полным губам. Теперь, когда со мной Макс, я не боялся, что опозорюсь или не смогу ничего сказать.
Макс очень разговорчив.
Он объяснит, почему я пришел, и даст мне тем самым законное основание находиться в одной комнате с Библиодевушкой.
Макс будет естественным посредником, благодаря которому мы с Библиодевушкой заведем разговор – пусть даже о пришельцах.
Мои фантазии вот-вот сбудутся.
Моя жизненная цель вот-вот будет достигнута.
Направляясь к дому Библиодевушки в сопровождении ее собственного единокровного брата и замечая возрастающее количество мусора и битых стекол на бетонной мостовой и заброшенных заколоченных домов по сторонам, я думал обо всех случайных, внешне никак не связанных между собой событиях, которые, цепляясь друг за друга, привели меня именно к этой ситуации, именно к этому моменту во времени и пространстве.
«Может быть, все это объясняется математически?» – подумал я.
Может быть, какое-нибудь секретное правительственное подразделение разработало уравнение человеческих жизней; достаточно ввести в систему все переменные твоей жизни – и получишь конкретный гарантированный результат.
без отца + толстый + без работы + некрасивый + мама – мой единственный друг × мама умирает – мне около сорока лет
____________
избитый консультант по утратам + священник с биполярным расстройством + влюблен в Библиодевушку × психотерапевт, который, возможно, пришелец, + «Гиннес» в ирландском пабе
Равняется факту, что я сейчас здесь!
Может быть, это бред?
Я никогда не был силен в математике.
Тем не менее…
Кто может отрицать, что «нет худа без добра»?
Кто?
Это же так очевидно.
Вы, Ричард Гир, появились рядом и прошли вместе со мной несколько шагов. Вы подняли большой палец, и я чувствовал, что Вы восхищаетесь мною.
«Главное, будь самим собой, – говорили Вы, поощряя меня. И рассмеялись таким подкупающим смехом кинозвезды Ричарда Гира. – И держись уверенно. Уверенность нравится женщинам. Не забывай об этом. Подари ей сказку. Такую, какую хотела получить твоя мать, но так и не получила. Какая есть в моих фильмах, но на этот раз будет в реальной жизни. Не надо слишком долго раздумывать. Доверься своим инстинктам. Нарушь заведенный раз и навсегда порядок. Я верю в тебя, Бартоломью Нейл. Ричард Гир верит в тебя! Далай-лама верит в тебя тоже. Его святейшество сам сказал мне об этом».
У меня было чувство, что судьба наконец на моей стороне, и с каждым шагом я становился все увереннее в себе.
Спасибо, что Вы появились, Ричард Гир.
Вы настоящий друг.
Благодаря Вашей дружбе я становлюсь лучше.
И очень приятно делиться этими чувствами с кем-нибудь.
12
Как утверждают ученые, тектиты образовались миллионы лет назад, когда крупные метеориты разбивались о поверхность Земли
Дорогой мистер Гир!
Вы наверняка удивляетесь, почему в прошлом письме я не изложил всех деталей, описывающих в совокупности мой первый разговор с Библиодевушкой, которую отныне я буду называть Элизабет, потому что имя Библиодевушка ей не нравится.
– Я уже давно не девушка и к тому же не штатный библиотекарь, – сказала Элизабет сквозь завесу своих каштановых волос, когда узнала, что я зову ее Библиодевушкой.
Она говорила как бы неохотно, каким-то разбитым, но красивым голосом, как у одинокой птицы со сломанным крылом, свободно поющей в пустынном месте, где, по ее мнению, никто ее не слышит. Не знаю, есть ли какой-нибудь смысл в этом сравнении. Может быть, и нет.
Оказывается, она работала в библиотеке волонтером – может быть, в ожидании знака, но об этом позже.
Я много думал о том, что произошло, и должен сказать, что это может показаться невероятным. Если бы я просто пересказал Вам все события, Вы назвали бы меня лжецом и даже, может быть, подумали бы, что я повредился в уме или сочинил все это для того, чтобы казаться более значительным, чем я есть на самом деле. И может быть, в конце, когда я рассказал бы всю историю, Вы пришли бы к выводу, что я все вру, но я ничего не могу с этим поделать.
Я несколько дней внутренне обрабатывал всю эту информацию, прежде чем доверить ее бумаге.
(Боюсь, Вы, возможно, не одобряете мои решения последнего времени, потому что Вы уже несколько дней не появлялись. Почему? Вы снимаете какой-нибудь значительный фильм? Или, может быть, Вы у далай-ламы, планируете один из своих благотворительных обедов в поддержку свободного Тибета? Может быть, Вы навещаете в какой-нибудь далекой больнице тибетских монахов, страдающих от ожогов после неудачной попытки самосожжения? Если так, передайте, пожалуйста, этим обожженным и выздоравливающим монахам, что я надеюсь на то, что их усилия принесут свои плоды и что они не очень страдают.)
Как бы то ни было…
Вы никогда не поверите тому, что я собираюсь сейчас рассказать Вам, потому что я с трудом верю в это сам: я пишу Вам из Северного Вермонта, но не знаю точно, как называется город, в котором мы находимся.
Макс и Библиодевушка спят в своей комнате на двух односпальных кроватях (я знаю это, потому что Макс несколько раз спрашивал владельца мотеля, есть ли в номере две отдельные кровати «с долбаным пространством между ними, потому что, блин, это моя сестра»), отец Макнами молится в нашем номере, а я сижу и дрожу на деревянном стуле на автостоянке, окруженный снежинками, и пишу Вам рядом с нашей взятой напрокат машиной под миллиардами миллиардов звезд, составляющих Млечный Путь, – я их заметил только сейчас, когда владельцы мотеля выключили большую вывеску, на которой огромными неоновыми буквами космически-зеленого цвета написано, что это «семейный мотель».
Макс настоял на том, чтобы, сидя ночью посреди открытого пространства, я повесил на шею блестящий коричневато-золотой кристалл «долбаного тектита» на кожаном ремешке, потому что он якобы защитит меня от похищения инопланетянами.
Как он это сделает, я точно не знаю.
Макс приобрел его через интернет, выйдя на сайт с заголовком: «Не сдавайтесь! Защитите себя от пришельцев прямо сейчас!»
По-видимому, риск быть похищенным инопланетянами возрастает при удалении от больших городов, так что Макс и Элизабет носят на шее по три кристалла тектита. Но Макс сказал, что право носить три кристалла надо заработать, поэтому начать мне следует с одного. Отец Макнами сказал, что он целиком полагается на Всемогущего, который защитит его, и отказался носить тектитовый кристалл.
Еще Макс сказал, что если я достаточно долго буду смотреть на ночное небо в Северном Вермонте, то непременно увижу где-нибудь НЛО.
– Ищи долбаный светящийся кружок, который сначала, блин, несется по небу, а потом останавливается и нависает, словно какой-нибудь долбаный десятицентовик, – напутствовал он меня, отпуская писать Вам письмо; сам он «жутко, блин, устал» и достаточно навидался «этих долбаных НЛО».
Но я не очень стремлюсь отыскивать эти космические внеземные формы жизни, особенно после того, как Макс рассказал мне страшные истории об этих существах, живущих так далеко от нас, и об их планах относительно нас.
Отец Макнами сказал, что Бог, Иисус, Святой Дух, Сатана, ангелы и демоны тоже фактически внеземные существа, поскольку они «не от мира сего». Больше он ничего не говорил об инопланетянах, за исключением того, что Католическая церковь не запрещает носить антипришельческий кристалл тектита, так что я не испытываю никакой вины, хотя мама, вероятно, не одобрила бы этого и не видела бы в этом необходимости. Но мне просто было приятно получить подарок от друга. Хотите верьте, Ричард Гир, хотите нет, но это первый подарок в жизни, какой я получил от кого-либо, кроме мамы. Дела и в самом деле идут к лучшему.
Не думаю, чтобы мама верила в пришельцев; правда, мы никогда не говорили с ней об этом.
А еще это первый раз, когда я покинул район Филадельфии (если считать, как делает большинство, что южное побережье Нью-Джерси также относится к району Филадельфии), и хотя уехать так далеко на север, что мы даже вот-вот покинем страну, – захватывающее событие, оно в то же время и пугающее, особенно потому, что я собираюсь увидеть своего биологического отца, который вроде бы все-таки жив и проживает в Монреале. Отец Макнами связался с ним, о чем я Вам в скором времени расскажу.
Последние несколько дней были поразительными, и мне потребовалось какое-то время, чтобы привести в порядок мысли и представить их Вам в таком виде, который имел бы хоть какой-то смысл.
Когда я вернулся домой в тот вечер после знакомства с Библиодевушкой – с Элизабет, я имею в виду, – отец Макнами молился в гостиной, а не сидел запершись в маминой комнате или в туалете, где его рвало бы, и это был несомненный прогресс.
Он приоткрыл глаз, и тот не был больше крошечной черной снежинкой, а опять начал всасывать окружающее, как китовое дыхало, так что я понял, что буря в его голове улеглась.
– Мне нужен паспорт, – сказал я.
– Что?
– Мне нужен паспорт.
Отец Макнами внимательно посмотрел на меня и спросил:
– Как ты узнал, что мы едем в Монреаль?
– В Монреаль?
– Да, в Монреаль, ко мне на родину.
– Я собираюсь ехать в Оттаву, а не в Монреаль, – сказал я.
– В Оттаву?
– В Оттаву.
– Да нет, ты путаешь, в Монреаль.
– В Оттаву.
Отец Макнами был озадачен.
– Сколько надо времени, чтобы получить паспорт? – спросил я.
– Ты не поверишь… – начал он, затем полез в карман и вытащил два паспорта.
– Это мой паспорт?
– Да, и мой тоже. Помнишь, как мы ходили фотографироваться?
Это было за несколько дней до маминой смерти. Тогда он сказал, что это нужно для церковных учетных книг. Кажется, я что-то там подписывал.
– Почему ты собираешься в Оттаву? – спросил он.
– Почему вы приготовили нам паспорта? – спросил я в ответ.
– Тебе пора познакомиться с отцом. Он живет в Монреале.
– Мой отец погиб смертью мученика, – возразил я. – Его убили куклуксклановцы.
– Это была своего рода успокаивающая колыбельная, которую твоя мама сочинила, чтобы ты не задумывался о том, почему ты растешь без отца. Она оберегала тебя этим притворством. Но твой отец жив. Он согласился встретиться с нами в церкви Святого Иосифа в Монреале у хранящейся там священной реликвии, сердца святого Андре.
– Как это? Почему? Мой отец действительно жив? Вы связались с ним? И там действительно выставлено человеческое сердце?
Из меня сыпались вопросы один другого бессмысленнее.
– Да, сердце брата Андре сохранено и выставлено под стеклом, а отец твой жив. Мы встретимся с ним в этом месте, потому что отец Андре был великий целитель. А ты и твой отец нуждаетесь в исцелении.
Я отнесся к словам отца Макнами с недоверием. Неужели мой отец действительно жив? Если это было так, то почему он не давал о себе знать раньше? С какой стати мама стала бы лгать мне?
Мама никогда не лгала.
Никогда.
Особенно в таких важных вопросах.
Даже маленький человечек в моем желудке был на этот раз на моей стороне. Он не пинал меня и не царапал, а удовлетворенно скрестил руки на груди и устроился на дне моего желудка, как в гамаке. Мы оба знали, что отец Макнами ошибается.
– Объясни мне, Бартоломью, почему ты решил, что едешь в Оттаву, – попросил отец Макнами.
Он пошел в кухню и налил нам по чашке кофе. Я пошел за ним.
– Ну так почему? – спросил он.
Я рассказал ему все, о чем написал Вам, Ричард Гир, в прошлом письме.
Отец Макнами улыбнулся, выслушав теорию Макса о том, что Арни пришелец, и хотя было видно, что он не поверил в это, он не прервал меня и не возразил, что было великодушно с его стороны.
(Умение вежливо выслушать собеседника встречается редко, Вы согласны?)
Я продолжил свой рассказ:
– Подойдя к дому Макса и Элизабет, я обратил внимание на необычный оттенок оконных стекол. Они оклеили их какими-то листами, так что все стекла стали зеркальными и в них нельзя было заглянуть с улицы.
Когда я спросил Макса об окнах, он ответил:
– Защита от долбаных пришельцев.
Открыв дверь, он заорал:
– Элизабет, у нас, блин, гость! Он проверен, так что можешь не прятаться. Доверься, блин, мне!
Мы вошли в гостиную. Там была старая клетчатая тахта с прорехами в обивке, из которых вылезала желтая набивка. Перед тахтой стоял поцарапанный деревянный кофейный столик, под ним лежал плетеный ковер, краски которого давно уже были высосаны пылесосом. Телевизор был очень старый – не плоский современный, а огромный громоздкий куб.
– Оставайся здесь и сядь, – сказал Макс.
Я сел на тахту.
Макс вышел в соседнюю комнату, которая, очевидно, была кухней, потому что я заметил холодильник цвета авокадо. Судя по его виду, он мог быть экспонатом музея канувшего в прошлое кухонного оборудования.
– Элизабет, какого хрена, алё? У нас гость!
До меня донесся шепот.
– Он не долбаный человек в черном. Он, блин, вообще никогда не носит ничего черного. Я уже дважды, блин, пил с ним долбаное пиво! Я спас его от Арни, а раз долбаный Арни – пришелец и хотел похитить Бартоломью, то прикинь сама! С полной уверенностью, блин, можно считать, что Бартоломью – человек. Когда ты, блин, слышала о том, чтобы один долбаный инопланетянин прилетал на долбаную Землю, чтобы похитить другого долбаного инопланетянина? Это полный бред, блин!
В кухне опять зашептались, затем Макс сказал: «На хрен!» – и втащил Элизабет за руку в гостиную. Посадив ее на тахту, он сказал:
– Бартоломью, друг мой, разреши, блин, представить тебе мою сестру Элизабет. Сестра моя, разреши мне, блин, представить тебе моего друга Бартоломью.
Элизабет держала руки на коленях и не отводила от них глаз, спрятав лицо за длинными каштановыми волосами. На ней были красные брюки в обтяжку, бесформенный коричневый свитер и черные ботинки армейского образца.
– Ты встречалась с Бартоломью в своей долбаной библиотеке. Он называет тебя Библио-блин-девушкой.
– Просто Библиодевушкой, – поправил я его с решительностью, внушенной Вами, Ричард Гир. На самом деле это было сплошное притворство.
Подражание киногерою.
Можно было бы ожидать, что меня хватит удар, но с учетом всех невероятных совпадений, которые привели меня к этому моменту, все происходящее казалось мне предопределенным свыше, так что мои личные несоответствия не имели значения.
– Почему? – спросила она. – Что это значит – Библиодевушка?
– Ну, это просто прозвище, которое я придумал, – сказал я.
– Я уже не девушка, а женщина. И к тому же не библиотекарь. Я работаю там как волонтер.
– Господи Иисусе, Элизабет! Не дуйся на человека, блин! Отнесись к нему по-человечески. Это мой друг. Он хочет, блин, познакомиться с тобой. Когда в последний раз какой-нибудь хрен хотел, блин, познакомиться с тобой?
– Почему вы хотите познакомиться со мной? – спросила она. – И называйте меня, пожалуйста, Элизабет.
– Я… – начал я, но не мог придумать ответа, который не характеризовал бы меня как извращенца.
– Он уже несколько лет, блин, хочет познакомиться с тобой! Алё, какого хрена?
– Почему? – повторила она.
Я начал потеть. Лоб взмок, под мышками стало жарко. И вдруг произошло так, будто Вы, Ричард Гир, вселились в меня и заговорили.
– Ну, я обратил на вас внимание. Вы показались мне особенной.
– Я не особенная.
– Нет, вы особенная.
– Чем же я особенная? – спросила Элизабет. Она отвернулась от меня и уставилась в стену, плечи ее поникли.
– Ну, начать с того, что мне нравится, как аккуратно вы расставляете книги по их местам на полках. Вы обращаетесь с ними очень осторожно. Пристукиваете каждую книгу пальцем, как будто благодарите ее за то, что она принесла пользу читателю, выбравшему ее, и поощряете ее служить источником знаний для всех остальных. Кроме того, вы не сразу выбрасываете старые книги, а внимательно рассматриваете их, решая, нельзя ли их спасти. Вы не бракуете книгу без крайней необходимости, и, по-моему, это редкое и прекрасное качество в женщине – точнее, в любом человеке. Меня восхищают подобные детали. Большинство людей не тратят времени на эти мелочи, не говоря уже о том, чтобы ценить их. Моя мама ценила мелочи жизни, но она умерла.
– Вы наблюдали, как я делаю все это? – спросила она, бросив на меня взгляд через плечо сквозь завесу из каштановых волос.
– Да. Для меня это самое лучшее, что происходит за день, – если только вы в этот день работаете в библиотеке. Вы, несомненно, лучший библиотекарь, какой у них есть.
– Но я уже сказала, что работаю как волонтер. Они мне даже не платят.
– Для меня это не имеет значения.
Она встала и метнулась на кухню.
– Алё, какого хрена? – вскричал Макс и метнулся за ней.
Там они опять стали шептаться.
Когда они вернулись, Элизабет сказала:
– Расскажи ему о наших проблемах.
– Алё, это, блин, слишком личное.
– Нас выселяют отсюда, – сказала Элизабет. – Грандиозно, не правда ли?
– Алё, какого хрена? Это наше внутрисемейное дело.
– Какая разница, знают об этом или нет? – ответила ему Элизабет и добавила для меня: – Мы разорены.
– Это очень грустно слышать, – сказал я.
Макс покачал головой.
– И что вы будете делать? – спросил я Элизабет.
– У нас осталось немного денег, которых хватит, чтобы доехать до Оттавы. Так что мы поедем туда, каким бы безумством это ни казалось. А дальнейших планов у нас нет.
– Вовсе не обязательно, блин, ехать туда, – вмешался Макс.
– Я обещала тебе, – отозвалась Элизабет, – а я никогда не нарушаю своих обещаний.
– А зачем вы едете в Оттаву?
– Посмотреть долбаный Кошачий парламент, – ответил Макс.
– Что-что?
– Это такое место, где кошки гуляют, где им, блин, захочется, по соседству с долбаным канадским Белым домом. Это одно из лучших долбаных мест во всем свете; правда, я там не был, только читал о нем. Но я вот уже больше десяти лет, блин, хочу поехать туда. Это моя долбаная мечта.
– Я обещала Максу, что съезжу с ним туда на его сорокалетие, – сказала Элизабет. – Мы взяли напрокат машину. Уедем через несколько дней, когда нас официально выселят. А что мы будем делать после этого – понятия не имеем. Захватывающее приключение, правда?
Сарказм Элизабет меня пугал – она была похожа на загнанное в угол огрызающееся животное, обороняющееся словами, как когтями.
– А почему вас выселяют? – спросил я.
– Мы не платим за это долбаное жилье, так как экономим деньги на поездку.
– А что, если тебе принять участие в этом исследовании, о котором говорил Арни? Он ведь предлагал тебе…
– Он же долбаный пришелец!
– Ах да, я забыл…
– Все деньги, какие у нас есть, уйдут на дорогу до Кошачьего парламента, – сказала Элизабет. – А что будет потом – одному Богу известно.
Макс с беспокойством посмотрел на меня, приподняв брови. Прикрыв рукой рот, он прошептал:
– Алё, какого хрена?
– Брат рассказал вам о моем… похищении?
Я ничего не ответил.
– Вы верите, Бартоломью, что инопланетяне похищают людей?
Я понимал, какого ответа они от меня ждут, и сказал «да». На самом деле я в это не верю, но на данном этапе требовалось, чтобы я верил, для Макса и Элизабет это было как бы обязательным условием сделки. Если я хотел, чтобы Элизабет стала моей девушкой, я должен был согласиться на это условие.
– Ему, блин, можно доверять, Элизабет. Он хороший раздолбай, – сказал Макс, заставив меня улыбнуться. – Я проверил его за «Гиннесом». Какого хрена, алё?
– Ну хорошо. Может быть, тогда ты ему расскажешь мою историю, Макс? – спросила Элизабет. – Почему бы и нет? Посмотрим, что он скажет. Может быть, он спасет нас, как сказочный принц. Почему бы и нет?
У меня перехватило дыхание, потому что Элизабет заговорила языком сказок, точь-в-точь как Вивьен Уорд в «Красотке».
Синхронистичность.
Unus mundus.
– О’-блин-кей, – согласился Макс и рассказал мне о том, как однажды летним вечером его сестра шла вдоль реки Дела-блин-вэр и вдруг заметила над водой «белый долбаный шар», который пульсировал и излучал энергию, «словно самая прекрасная долбаная звезда из всех, когда-либо виденных»; шар медленно опускался к земле, «как долбаное семя одуванчика, переносимое ветром».
«Долбаный шар» совершенно загипнотизировал Элизабет, она последовала за ним и шла несколько часов, зачарованная его красотой, но не могла к нему приблизиться. Как бы быстро она ни шла, этот «долбаный гигантский световой шар» оставался на том же расстоянии от нее. Так она шла, казалось, целую вечность, не чувствуя ни усталости, ни жажды. И вдруг – «раз, блин!» – она оказалась в том самом месте, где заметила этот шар, как будто никуда и не уходила. Посмотрев на свой «долбаный сотовый телефон», она убедилась, что время то же самое, точнее, даже минут на пять раньше того момента, когда она увидела свет. Тут она стала подозревать, что сходит с ума.
В ту ночь Элизабет не могла уснуть. Она старалась вспомнить, что же происходило с ней в тот промежуток времени, когда она следовала за светящимся шаром, но чем больше она старалась, тем дальше это событие задвигалось в темный забытый угол ее сознания – примерно как «долбаный сон», который хорошо помнишь утром, но забываешь к «долбаному обеду». Все попытки Элизабет вспомнить детали этого происшествия были напрасны, но она подозревала, что не просто видела «долбаный шар в долбаном небе», а пережила что-то более значительное.
Она испытывала страшную тревогу, грудь ее сдавило так, что она испугалась, как бы с ней не случился сердечный приступ.
На следующий день она пошла к врачу, который обследовал ее и убедился, что с ее сердцем и системой кровообращения все в порядке. По совету врача она легла в психиатрическую клинику, где ей прописали лекарства и «обязательные долбаные уроки пения»; терапевты обсуждали с Элизабет «во всех долбаных деталях» ее детство, отрочество и зрелые годы.
Пролежав несколько недель в этой клинике, она стала вспоминать, что с ней в действительности произошло.
В тот роковой вечер ее затащил на НЛО «долбаный тянущий луч», он перенес ее с берега реки в абсолютно белую лабораторию по исследованию мозга. Там были астронавты с «долбаными удлиненными головами», «блестящими долбаными черными глазами» и «малюсенькими долбаными телами». Руки и ноги у них были тоненькие, как копченые колбаски, а кожа зеленая, как лайм, и вся в пятнах, «как у долбаной лягушки».
Элизабет привязали к операционному столу «жгутами, сделанными из долбаного электричества», и стали проводить над ней какие-то опыты, однако она при этом не чувствовала боли и ничего не боялась. Инопланетяне не открывали рта, но она слышала их разговор в уме: у них были «низкие, блин, и звучные» голоса. Ей сказали: «Это будет недолго. Не сопротивляйтесь, расслабьтесь. Мы делаем это на благо всего вашего биологического вида. У нас называют таких, как вы, героями науки, ибо причиненное вам кратковременное неудобство приведет к значительным достижениям, важным для многих миллионов, живущих по всей галактике. Не волнуйтесь, очень скоро мы вернем вас на вашу планету».
Глаза Макса при этом расширились, он несколько раз энергично кивнул и произнес:
– Алё, какого хрена?
Я посмотрел на Элизабет. Она наблюдала за моей реакцией, но, встретившись со мной взглядом, почему-то пожала плечами.
Из-за того что Элизабет провела несколько недель в больнице после этого «долбаного похищения инопланетянами» и не поставила в известность своего начальника, она потеряла место в рекламном агентстве и стала жить на свои сбережения и работать волонтером в библиотеке, так как «ей всегда, блин, нравились всякие долбаные выдуманные истории».
– А я переехал сюда из своего долбаного Вустера, – добавил Макс.
Элизабет посмотрела на меня сквозь завесу каштановых волос и спросила:
– Бредовая история, правда?
Дома, сидя с отцом Макнами за кухонным столом, я сказал ему:
– После этого Макс пригласил меня поехать вместе с ними в Кошачий парламент в Оттаве. А Элизабет сказала, что ей все равно, поеду я с ними или нет. Как вы думаете, что это значит: меня приглашают в Оттаву, а у вас уже есть для меня паспорт?
– Не имею понятия, – ответил он. – Но я хотел бы познакомиться с этой парой. Бог не устраивает случайных совпадений. Можешь поспорить на собственную задницу.
На следующий день я привел отца Макнами в квартиру Макса и Элизабет. Он рассказал им о церкви Святого Иосифа в Монреале и о том, что он собирается познакомить меня с моим отцом на том самом месте, где он, отец Макнами, будучи подростком, впервые почувствовал, что призван стать священником. Он объяснил также, что Бог перестал разговаривать с ним, а если он познакомит меня с моим отцом, то, может быть, это умилостивит Бога и Он опять заговорит с ним.
– Почему бы нам не поехать вместе? – предложил отец Макнами.
– Видите ли, мы с Максом не очень-то религиозны, – ответила Элизабет, и было видно, что они с Максом считают отца Макнами вконец свихнувшимся. – Мы хотим посмотреть Кошачий парламент, потому что Макс очень любит кошек. А он в Оттаве, а не в Монреале.
– Долбаный Кошачий парламент! – ввернул Макс.
Отец Макнами, очевидно, почувствовал, что к его предложению относятся скептически, и сказал:
– У меня есть деньги, чтобы оплатить поездку, – что меня очень удивило, – и если бы вы разрешили нам поехать с вами в Оттаву и поехали бы с нами в Монреаль, то я поделился бы с вами. Эти города всего в двух-трех часах езды друг от друга.
– А сколько у вас денег? – спросила Элизабет.
– Достаточно, чтобы взять напрокат машину, заплатить за бензин, отели и питание для всех четверых, – ответил отец Макнами.
– С какой стати вы будете платить за нас? – спросила она.
– Вы друзья Бартоломью, которых он любит, и этого для меня достаточно.
– Я не могу назвать его другом, – возразила она. – Мы только вчера познакомились.
– Он мой долбаный друг, – вмешался Макс. – И чем больше народу, тем меньше шансов быть похищенным пришельцами. Это, блин, научный факт. К тому же мы, блин, на мели. Ты же говорила, что не знаешь, хватит ли нам денег на поездку.
Элизабет в нерешительности подняла глаза к потолку.
– Интуиция говорит мне, – сказал отец Макнами, – что нам суждено ехать вместе. Я чувствую, что Макс и Бартоломью согласны. Вчетвером будет веселее, вам не кажется?
– Точно, блин! – поддержал его Макс.
– Ну что ж, это твой день рождения и твой подарок, – сказала Элизабет Максу.
И на этом, как ни удивительно, вопрос был решен.
Сегодня утром мы погрузились во взятый напрокат «форд-фокус» и двинулись на север.
Элизабет и отец Макнами вели машину по очереди, потому что у нас с Максом не было водительских прав.
Отец Макнами, очевидно, решил, что нас надо развлекать историями и сказками, как детей на ночь, и рассказал нам о жизни монаха Андре Бессета. В двенадцать лет он остался сиротой, был слабым, часто болел и нигде не учился, но твердо верил во всемогущество святого Иосифа. Многие впоследствии считали, что и сам брат Андре обладает даром целителя, но он это отрицал и сердился, когда ему приписывали чудодейственные способности. Он говорил, что чудеса может творить только святой Иосиф. Тем не менее люди приезжали отовсюду к построенной им часовне в надежде, что он их вылечит.
– Теперь его сердце выставлено на обозрение, – заключил свой рассказ отец Макнами. – Эта история вдохновила меня в молодости и продолжает вдохновлять до сих пор.
– Настоящее сердце? – спросила Элизабет из-за своего каштанового занавеса. История отца Макнами явно не вдохновила ее.
– Да.
– Алё, какого хрена? – спросил Макс и прикусил язык.
– В семидесятые годы его украли, но затем оно было возвращено.
– Зачем кому-то понадобилось красть его сердце? – спросил я.
– Не имею понятия, – ответил отец Макнами.
– А каким образом его вернули? – спросила Элизабет.
– Нашли в подвале, насколько я помню.
Элизабет тихонько вздохнула и ничего не сказала. Она сидела на переднем сиденье, спрятавшись за свои волосы; мне было видно ее отражение в боковом зеркале.
После этого надолго воцарилось молчание.
Мы ехали и ехали на север, глядя из окон на кучи грязного снега, который отгребли с дороги на обочину, пока, усталые и голодные, не добрались до мотеля.
Так я оказался на автостоянке мотеля в Северном Вермонте, откуда пишу Вам письмо. Дыхание мое рассыпается серебристыми искрами в воздухе, а руки покраснели от холода.
Время от времени я трогаю свой новый кристалл и смотрю на небо в поисках парящих там световых шаров, но пока что ни одного не видел.
Макс подарил мне этот тектит за обедом. Обедали мы в закусочной под названием «Продукты Зеленых гор». Он перегнулся через стол и надел мне на шею защитный кристалл, а музыкальный автомат играл в это время «Не будь жестока» Элвиса.
Элизабет сказала, что, согласно мнению ученых, тектиты образовались миллионы лет назад, когда крупные метеориты разбивались о поверхность Земли.
– Так что этот долбаный тектит связывает тебя с тем, что находится за пределами долбаной земной атмосферы, – провозгласил Макс, вызвав неодобрительные взгляды со стороны других обедающих, – потому что он был в контакте с великим долбаным неведомым там, наверху. – Он указал пальцем на потолок. – Это долбаная теория ударной силы. Метеориты ударяются о Землю с такой, блин, силой, что все материалы взлетают в долбаный космос и затем падают дождем на нашу долбаную планету, как какие-нибудь каменные астронавты.
Макс продемонстрировал теорию ударной силы в действии, стукнув кулаком по столу.
– А связь с долбаным космосом означает защиту, – продолжил он, качая своим толстым пальцем. – Доверься мне, блин. Я разбираюсь в этих вещах получше какого-нибудь долбаного среднего американца.
Максу явно требовалось подтверждение правоты его слов, и Элизабет, по-видимому, подыгрывала ему, так что я кивнул и погладил блестящий бронзовый камушек, висевший у меня на шее.
– Алё, какого хрена? – одобрительно кивнул Макс. – Долбаная защита.
Я опять кивнул, чтобы показать, что согласен или, по крайней мере, не возражаю.
Мы продолжали обедать молча, но дружно, как одна семья. Не помню уже, когда я в последний раз обедал в обществе более двух человек. Наверное, это было после того, как те подростки ворвались к нам, все разгромили и устроили туалет из наших постелей.
Было приятно чувствовать, что вокруг тебя люди, – как будто ты сидишь морозной зимней ночью, завернувшись в одеяло и потягивая горячий шоколад из чашки.
Жаль, что Вас не было с нами, Ричард Гир. Вы наверняка получили бы удовольствие от обеда – ну, по крайней мере, от совместной трапезы.
– Причастие? – спросил я отца Макнами, когда он украдкой сделал глоток из своей фляжки.
– Именно, – ответил он, улыбнувшись Максу и Элизабет.
После этого тишина нарушалась лишь стуком ножей и вилок о тарелки, музыкой ретро, создававшей негромкий фон, и разговорами за соседними столиками о погоде, спорте, местных событиях и качестве потребляемой пищи.
Отец Макнами продолжал мурлыкать себе под нос «Не будь жестока» еще долго после того, как песня перестала звучать. Он мурлыкал ее всю дорогу, пока вел «форд-фокус» до мотеля, и, возможно, все еще мурлыкает ее в постели.
Прежде чем я вышел на улицу из нашего номера, чтобы написать Вам письмо, отец Макнами сказал, что мама очень любила Элвиса Пресли и была даже однажды на его концерте еще до моего рождения.
Он сказал, что «Не будь жестока» была одной из ее любимых песен.
Я не знал этого.
13
Зеленый салат им нравился больше, чем морковка
Дорогой мистер Гир!
На канадской границе мы подождали в очереди и наконец остановили наш «форд-фокус» перед воротами таможенного досмотра. Это было похоже на то, будто въезжаешь на мост, только без огромных металлических конструкций, соединяющих два берега, и без какой-либо воды; я хочу сказать, что там было несколько цепочек автомобилей и небольшие воротца, через которые можно было проехать, только бесплатно.
Когда мы подъехали к своей будке, высокий человек с усами велел нам низким, скрипучим и сердитым голосом показать наши паспорта.
Отец Макнами дал ему наши паспорта, и тот очень долго рассматривал их и сравнивал наши лица с фотографиями, пригибаясь и заглядывая в окно водителя. Канадский инспектор носил форму и, казалось, был чем-то раздражен.
– По делу или отдыхать? – процедил таможенник сквозь зубы. Он так наморщил лоб, будто ожидал от нас какого-нибудь неправильного ответа, и это действовало мне на нервы.
– Вообще-то, это как посмотреть, – ответил отец Макнами.
Элизабет сидела на переднем пассажирском сиденье, глядя в противоположную от инспектора сторону.
– Что с ней? – спросил инспектор.
– Просто ей не по себе от этой процедуры, – ответил отец Макнами.
– Куда направляетесь?
– Сначала в Монреаль, потом в Оттаву. Наша главная цель – церковь Святого Иосифа.
– И Кошачий парламент, – добавил Макс с заднего сиденья, ухитрившись обойтись без нецензурной лексики. – Долбаный Кошачий парламент, – прошептал он затем чуть слышно с горящим взором.
– Я был священником, – поспешно сказал отец Макнами, который, по-видимому, услышал шепот Макса и стремился задобрить инспектора, так как многие канадцы являются католиками, – по крайней мере, так утверждает отец Макнами.
– А каковы источники вашего дохода теперь? – спросил инспектор.
– Никаких, я на пенсии.
– Священники разве уходят на пенсию?
– Послушайте, мне нужно просто совершить небольшую поездку по вашей чудесной стране, своего рода паломничество. Но очень важное.
Инспектор смотрел на отца Макнами несколько секунд, так плотно сжав губы, что они побелели.
Отец Макнами улыбнулся ему.
– А как насчет вас, мисс? – продолжил инспектор. – Мисс! Не могли бы вы повернуться ко мне лицом?
– Что? – спросила Элизабет, не глядя на него.
– Ваши источники дохода?
– Я работала волонтером в библиотеке.
– А теперь?
Элизабет ничего не ответила.
– А вы там, на заднем сиденье? – произнес инспектор, дернув носом в мою сторону.
– Да? – отозвался я.
– Чем вы зарабатываете?
– Я всю жизнь проработал в долбаных кинотеатрах, – сказал Макс раздраженным тоном. Чувствовалось, что он вот-вот сорвется. – Алё, какого хрена?
– Не стоит выражаться, шеф. Держите свои чувства при себе. Так, что с вами?
Сквозь черные зеркальные очки инспектора я чувствовал на себе его взгляд.
– Я ухаживал за своей матерью, – сказал я правду.
– Это разве работа?
– Больше я ничем не занимался.
– А чем занимаетесь теперь?
Я не знал, что ответить, и промолчал.
– Итак, ни у кого из вас четверых нет настоящей работы, – констатировал инспектор, и было видно, что он ненавидит нас, считает нас всех неполноценными личностями.
«Ты-то точно неполноценная личность!» – воскликнул маленький человечек у меня в желудке.
– Вы собрали довольно необычную команду, отец, – бросил инспектор.
– Да, весьма необычную. Самую необычную, какая может быть. Это особые Божьи дети, уверяю вас.
На лбу инспектора опять собрались складки.
– Значит, основным источником вашего дохода является ваша матушка? Да, шеф номер два?
Я не сразу сообразил, что «шеф номер два» – это я, а когда сообразил, ответил:
– Да, была.
– А что случилось? Вы больше за ней не ухаживаете? Она вас уволила?
– Она умерла от рака мозга, – сказал отец Макнами. – И наша поездка посвящена, помимо всего прочего, также ее памяти. Вам не кажется, что вы не совсем чутки, инспектор?
Шея отца Макнами сзади покраснела, и я понял, что он сердится.
В очках инспектора отражались глаза отца Макнами. Они были широко раскрыты и опять превратились в засасывающие водовороты.
Инспектор задумчиво постучал нашими паспортами по ладони, словно размышляя, что с нами делать.
– Добро пожаловать в Канаду, – сказал он наконец и отдал паспорта отцу Макнами.
– Уф-ф! – произнес отец Макнами, когда мы отъехали. – Я уж думал, он примется обыскивать машину. А у меня в багажнике припрятано несколько бутылок «Джеймсона», которые я не декларировал!
Минут десять мы ехали в молчании. Было заметно, что каждому из нас не по себе после беседы с таможенником. Но мы это не обсуждали и просто смотрели в окна.
– Какого хрена, а? – высказался наконец Макс, чтобы разрядить напряжение, и сам рассмеялся, словно удачно пошутил.
Элизабет только простонала.
Когда никто не подхватил его шутки, Макс сказал:
– Мы ведь в долбаной Канаде, а?
Отец Макнами засмеялся, как будто шутка наконец дошла до него, а когда я спросил, над чем он смеется, он сказал, что канадцы очень часто заканчивают свои фразы вопросительным «а?».
– Тогда они могут воспринять это как насмешку, – заметила Элизабет.
– Какого хрена, а? – повторил Макс дурашливым голосом и подтолкнул меня локтем.
Я рассмеялся, хотя и понимал, что Элизабет этого не одобрит.
После этого опять надолго воцарилось молчание.
– Мне не понравился этот таможенник, – сказал я своему отражению в оконном стекле.
Никто из моих спутников не откликнулся на это.
Мы ехали по засыпанной снегом унылой ровной местности с большим количеством силосных башен, на которых было написано что-то по-французски, и создавалось впечатление, что Земля все-таки не круглая, а плоская, как стол, и какой-то гигант соорудил на нем диораму и назвал ее Канадой.
Я думал о вопросах, которые нам задавал таможенник. Могли ли ответы на них в самом деле позволить оценить нас: определить, являемся ли мы достойными и добропорядочными людьми и не представляем ли угрозы для страны?
Куда вы направляетесь?
Каковы источники вашего дохода?
По делу или отдыхать?
Много ли говорят наши ответы о нас самих и о том, заслуживаем ли мы разрешения въехать в Канаду?
Представляем ли мы опасность?
Какой смысл в этих вопросах? Нам ведь ничего не стоило сказать первое, что в голову придет.
Любой преступник, который хоть чего-то стоит в своем деле, является профессиональным обманщиком и легко проникнет сквозь любые пограничные препоны, а люди вроде меня, если предоставить их самим себе, будут задержаны.
Жаль, что мы не сказали, что мы врачи, работающие над проблемой излечения рака мозга, и направляемся в секретную подземную лабораторию на Крайнем Севере, что мы едем по важному государственному делу и у нас нет времени отвечать на несущественные дурацкие вопросы.
– Отойди, таможенник! Нас ждут великие дела, которые потрясут тебя! – мог бы тогда сказать отец Макнами, и все мы были бы очень горды. – Не смей задерживать нас, не стой на пути прогресса всего человечества!
Вы, Ричард Гир, несомненно, действовали бы в этой ситуации легко и непринужденно. Вы очаровали бы таможенника и без труда преодолели бы все преграды. Но дело в том, что Вам и не надо было бы трудиться – таможенник мгновенно узнал бы в Вас знаменитую кинозвезду и пригласил бы в Канаду, не задав ни одного вопроса, разве что попросив автограф на фотографии, где Вы обнимались бы с ним, улыбаясь, как давние друзья.
Почему это людям, которые всегда знают, как отвечать на трудные вопросы, никогда не задают трудных вопросов, а других, вроде меня, всегда вынуждают делать что-нибудь почти невозможное?
Хуже всего было сознавать, что, если бы отца Макнами с нами не было, таможенник не пропустил бы нас в Канаду. Возможно, он даже арестовал бы нас и бросил в тюрьму, потому что Макс, Элизабет и я заикались бы, потеряв самообладание во время этого допроса на границе, и вели бы себя, с его точки зрения, очень странно.
«Кретин!» – завопил маленький человечек, и на этот раз трудно было не согласиться с ним.
Больше ничего интересного не происходило до самого Монреаля.
Отец Макнами зарезервировал для нас номера в фешенебельном отеле, где мы припарковали машину под землей и могли плавать на крыше, потому что там был бассейн с подогревом, расположенный наполовину в помещении, наполовину под открытым небом. Мы с Максом сходили посмотреть на него, но не плавали – я не умею плавать и страшно боюсь воды, да к тому же у нас не было купальных костюмов.
Когда мы стояли на крыше и смотрели, как пар поднимается из бассейна в морозный воздух, Макс сказал:
– Как, блин, мы будем оплачивать все это? У нас с Элизабет нет ни гроша! Этот отель стоит охрененно дорого! Какого хрена, алё?
– Отец Макнами сказал, что Бог позаботится об этом.
– Ты, блин, всерьез веришь в Бога? – спросил Макс.
– Да, – ответил я. – А ты всерьез веришь в пришельцев?
– Да, блин.
– Что вы будете делать после поездки к Кошачьему парламенту?
– Не имею, блин, понятия, – сказал Макс. – Мы взяли с собой всю нашу одежду, долбаные ключи оставили в квартире. Не заплатили за последний месяц. Мы, блин, настоящие бездомные.
– Тебя это беспокоит?
– Ну да, блин, – кивнул Макс, приподняв брови.
– Я тоже беспокоюсь.
– А ты-то, блин, о чем?
– О том, что мне делать без мамы. Я даже не знаю, что у меня там со счетами – за электричество, воду, телефон и все прочее. Раньше этим всегда занималась мама.
– Ты ни разу не платил этим козлам?
– Нет.
– Значит, кто-то платит за тебя. Иначе эти козлы давно бы все отключили. Бесплатно ничего, блин, не бывает.
– Кто может за меня платить?
– А я, блин, откуда знаю?
Мне этот вопрос уже приходил в голову, и всякий раз она начинала при этом болеть.
Как только я узнаю, кто платит по моим счетам, я буду должен деньги конкретному человеку. А у меня их не было, и потому, откровенно говоря, я не слишком стремился разгадать эту загадку.
Я повернулся и стал рассматривать город Монреаль.
– Очень примечательно, что мы здесь вместе, согласись, – заметил я. – Даже, я бы сказал, невероятно.
Макс кивнул.
– Никогда не думал, что побываю в Канаде.
– Я, блин, тоже.
Мы стояли на бетонной площадке спиной к бассейну около ограждения высотой футов пять и глядели на город.
– Наверное, обычные нормальные люди не увидели бы в этом ничего особенного.
Макс опять кивнул и сказал:
– Как ты думаешь, какого хрена мы получились такими ненормальными, отличающимися от всех других? Ты, блин, когда-нибудь думал об этой хренотени? Зачем такие люди, как ты, я, Элизабет, вообще, на хрен, существуют?
Я задумался и, обыскав весь свой мозг в поисках ответа на его первый вопрос и не найдя его, ответил на второй:
– Все время думаю.
Спустя минуту ко мне пришла еще мысль, и я сказал:
– Может быть, миру нужны такие люди, как мы?
– На кой хрен? Мы же, блин, ничего не делаем! Я только рву билеты в этих долбаных кинотеатрах. Это любой может.
– Ну, если бы не было странных, необычных людей, которые делают странные вещи или не делают ничего, то не могло бы быть и нормальных людей, которые делают нормальные полезные вещи, согласен?
– Алё, какого хрена? – отозвался Макс, глядя на меня прищурившись.
– Слово «нормальный» потеряло бы смысл, если бы не было слова с противоположным значением. А если бы не было нормальных людей, мир, наверное, развалился бы на части, потому что это нормальные люди заботятся обо всех нормальных вещах вроде подвозки продуктов в магазины, доставки почты, установки светофоров на улицах, обеспечения нормальной работы туалетов, выращивания пищевых культур, управления самолетами, контроля за состоянием президентских костюмов…
– Вы не поможете? – раздался голос. – Слишком холодно вылезать из бассейна.
Мы обернулись и увидели большой пляжный мяч у наших ног.
Целое семейство выплыло из-за стеклянной перегородки на открытый участок бассейна.
– Алё, какого хрена? – чуть слышно пробормотал Макс, пихнув яркий мяч мужчине.
Тот поймал мяч двумя руками и, глядя на нас, сказал:
– Спасибо!
Он выглядел как Ваша более молодая копия, Ричард Гир. Красивый, уверенный в себе, мускулистый. Хотя его волосы были мокрыми и взлохмаченными, на прическу и ухаживание за ней явно уходило немало денег и усилий. Он напомнил мне также мужчин, которые рекламируют нижнее белье на проспектах, вываливающихся из воскресной газеты. На его жене было зеленое бикини, и хотя она не дотягивала до Синди Кроуфорд, ее вполне можно было сравнить с Кэри Лоуэлл, которая тоже очень симпатична, как Вам хорошо известно. С ними были мальчик и девочка лет пяти-семи, оба белокурые, с жемчужно-белыми зубами; такие малыши все время улыбаются тебе с экрана телевизора, пока ты ешь утреннюю овсянку. Все они смеялись, перебрасывались мячом и старались поймать языком падающие снежинки. Только тут я обратил внимание на то, что и в самом деле пошел снег.
От их обнаженных тел поднимался пар, и казалось, что это их души взмывают над их головами и переплетаются в шутливом слаженном танце, от которого у меня защемило сердце.
– Алё, какого хрена? – прошептал Макс и сдвинул пальцем свои огромные очки на отведенное им на переносице место.
Я думаю, он имел в виду примерно то же, что очень часто приходило в голову и мне: что с нами не так? почему мы такие странные? почему вот эта семья в бассейне выглядит так нормально и правильно и что неправильного – или кажущегося неправильным – в нас?
Я вспомнил маму – хотя мы никогда не купались с ней под снегом в бассейне на крыше иностранного небоскреба – и прочитал коротенькую молитву, в которой просил Бога пустить маму в мой сон еще хотя бы раз.
Мужчина, похожий на Вашу более молодую копию, все время оглядывался на нас, и до меня дошло, что им, вероятно, неловко под нашими пристальными взглядами.
Если на тебя глазеют два неуклюжих уродливых странных человека в старомодных ботинках и костюмах, это можно неправильно понять, согласны?
– Пошли, – сказал я.
Макс кивнул и пошел за мной.
Ему не надо было объяснять.
Макс чувствовал то же, что и я, – наверное, потому, что жил так же, хотя в конкретных деталях наши жизни были совершенно разными.
Но в каком-то общем смысле мы сами и наши жизни были одинаковыми.
Мы разошлись по своим номерам, приняли душ и переоделись.
Отец Макнами отвез нас в маленький фешенебельный ресторан в центре старого Монреаля. Он спросил, может ли он сделать заказ от нашего имени, и, когда мы согласились, удивил меня, заговорив с официантом по-французски.
– Алё, какого хрена? Французский? – ошеломленно воззрился на него Макс, как будто отец Макнами показал какой-то фокус.
– Надеюсь, вы будете снисходительны ко мне, – сказал отец Макнами. – Это в некотором смысле наш последний ужин.
– В каком смысле? – спросил я.
– Все изменится, когда ты встретишь завтра своего отца, – ответил отец Макнами, и вид у него при этом был поистине несчастный. – Все будет не так, как прежде.
Я кивнул, пытаясь хоть этим успокоить себя.
На улице шел снег, мы смотрели на снежные хлопья, сыпавшиеся за запотевшим окном.
Явился официант с красным вином и бокалами. Отец Макнами попробовал вино, одобрил его, и официант разлил вино по бокалам.
– За начало новой жизни, каким бы странным оно ни оказалось, – провозгласил тост отец Макнами.
Мы чокнулись и выпили.
Принесли багеты и маленькие круглые коричневые тарелки с французским луковым супом, в котором плавал пузырящийся сыр.
Отец Макнами разломил багет на четыре части, дал каждому по одной и сказал:
– Каждый из нас четверых переживает переломный момент в своей жизни. Я пью за чудо, которое свело нас вместе здесь и сейчас. Это поистине замечательно.
Элизабет и Макс ничего не сказали и начали есть.
– Лучше всего макнуть хлеб в суп, – сказал отец Макнами и стал макать свой кусок в тарелку, пока тот не размяк и не стал коричневым.
Все сделали так же.
– Что ты чувствуешь в связи с предстоящей встречей с отцом, Бартоломью? – спросил отец Макнами, изучая суп в своей тарелке.
Я не знал, что ответить.
В моем сознании и сердце мой отец умер много лет тому назад, и какая-то часть меня, лежащая очень глубоко, там, где обитает маленький человечек, хотела, чтобы так все и оставалось.
Другая моя часть все еще не могла поверить в реальность встречи с отцом, хотя отец Макнами в ее реальности был вроде бы уверен, а он никогда прежде не обманывал меня.
– Через два дня увидим долбаный Кошачий парламент, да? – спросил Макс.
– Да, – сказал отец Макнами и посмотрел в окно на закутанных людей, шедших по тротуару.
Вернувшийся официант объявил: «Lapin»[15] и поставил перед нами четыре тарелки.
Мясо под рыжевато-коричневым соусом с горошком и морковью.
Официант сказал: «Bon appétit»[16] – и удалился.
Все начали есть. Мясо было нежным и ароматным и прямо таяло во рту.
– Что это? – спросила Элизабет, проглотив кусок.
– Кролик, – ответил отец Макнами. – Нравится?
Элизабет подавилась, выплюнула кусок изо рта и выскочила из ресторана.
Я кинулся за ней.
Ее рвало на кучу снега между тротуаром и проезжей частью, а я, придерживая ее волосы, тер рукой ее спину, как делала мама, когда со мной в детстве случалось то же самое. Весь ресторан наблюдал за нами через окно.
Макс и отец Макнами тоже вышли на улицу.
– Все в порядке? – спросил отец Макнами.
– Мне просто надо подышать свежим воздухом, – ответила Элизабет, кивнув. – Оставьте меня одну, пожалуйста. Очень вас прошу!
Она направилась прочь от ресторана. Отец Макнами сказал:
– Иди за ней, Бартоломью!
– Я?
– Алё, какого хрена, Элизабет? – крикнул Макс. – Никто ж тебя насильно не кормит. По-моему, блин, пора уже забыть это!
Отец Макнами улыбнулся, подмигнул мне и сказал:
– Иди, иди. Это твой шанс.
«А в старом Монреале идет снег. Как красиво!» – сказали Вы, Ричард Гир, появившись неожиданно в кожаном пальто и клетчатом шарфе и улыбаясь мне. Глаза Ваши мерцали, как мой новый тектитовый кристалл. «Воспользуйся таким прекрасным моментом. Идеальные декорации для романтической истории. Посмотри: город – просто сказка! В этой обстановке Библиодевушка вполне может влюбиться в тебя. Не упусти свой шанс, толстый!» – «Ей не нравится, когда ее зовут Библиодевушкой», – сказал я, устремляясь вслед за Элизабет. «Это неважно, толстый. Важно то, что ты будешь один на один с девушкой твоей мечты в засыпанном снегом старом Монреале. Ты обязательно добьешься любви. Лови момент. Прояви сочувствие, и все обернется наилучшим образом, говорит далай-лама. Главное, будь добр с ней. Это идеальный момент для любви. Подари ей сказку!» – «Но ей плохо! Ее только что вырвало прямо на сугроб!» – «Это и есть „нет худа без добра“. Все плохое ведет к хорошему! Это обратная сторона той же самой монеты. Вселенная подает тебе знак, Бартоломью. Она создала для тебя оптимальный момент. Везение прямо сейчас! Вспомни философию твоей мамы. Что она сказала бы тебе и всем нам?»
Я видел, что Вы гордитесь мной, Ричард Гир. Но я удивлялся, как Вы нашли меня в Канаде, а потом вспомнил, что я писал Вам письма, в которых сообщил, куда еду. И тот факт, что Вы приехали, чтобы помочь мне, – в то время как Вы так заняты съемками и важными делами с далай-ламой – значил для меня так много, что я чуть не заплакал.
Спасибо Вам, Ричард Гир.
Спасибо Вам миллион раз.
Я почувствовал, что с таким другом, как Вы, я действительно должен произвести впечатление на Элизабет.
«Не потеряй свой кристалл», – сказали Вы, заметив, что он болтается поверх молнии на моей куртке, в то время как я бегу за Элизабет, стараясь не поскользнуться на льду. «Спасибо», – отозвался я.
Вы подмигнули мне, кивнули, выставили вверх большой палец в дорогой кожаной перчатке – и исчезли, словно привидение.
Поравнявшись с Элизабет, я увидел, что она по-прежнему расстроена, и пошел рядом с ней, переводя дух и ничего не говоря, чтобы она истратила на ходьбу всю негативную энергию, как недавно произошло с отцом Макнами.
Я решил, пусть она первая заговорит.
Когда мы дошли до реки Святого Лаврентия, Элизабет остановилась и сказала:
– Макс велел мне следить за тем, чтобы твой тектитовый кристалл был всегда при тебе.
– Он при мне, – ответил я, похлопав по кристаллу перчаткой. – Я ни разу не снимал его с тех пор, как Макс мне его подарил.
Она достала из кармана пальто еще один кристалл на кожаном ремешке.
– Макс сказал, что ты должен надеть и этот тоже. Ты заработал его, проносив первый больше суток, а согласно научным изысканиям моего брата, вероятность похищения пришельцами возрастает около рек. Так что, по теории Макса, тебе нужна здесь дополнительная защита.
Я взял второй кристалл тектита и надел его на шею. Это было непросто сделать в зимних перчатках, но я старался.
Мы молча постояли некоторое время.
– Ты, наверное, считаешь меня ненормальной из-за того, что я учудила за столом.
– Нет, – ответил я.
– Наверняка считаешь. – Ее глаза смотрели на меня из-под красивых бровей сквозь тонкую завесу растрепанных каштановых волос, увенчанных фиолетовой вязаной шапочкой – на вид домашнего изготовления.
Я закусил нижнюю губу и отрицательно покачал головой.
Мы вперили взгляд в противоположный берег реки и стояли так, наверное, не менее получаса.
Наконец она сказала:
– Тебе, возможно, покажется это глупым и сентиментальным объяснением, но, когда я была маленькой, у меня были кролики. Мама купила их, рассчитывая, что они будут размножаться, а мы будем продавать потомство. Но вскоре выяснилось, что продавец обманул ее и оба кролика – самцы. Мама, по своему обыкновению, быстро потеряла интерес к начатому делу или поленилась найти самку. Она делала вид, что кроликов не существует; наверное, потому, что ее гордость была уязвлена обманом. Так кролики стали моими любимцами. Я обожала их и даже крала для них еду с соседней фермы, часами разговаривала с ними, шептала свои секреты в их длинные бархатистые уши.
Это объясняло, почему ее вырвало, но я не нашел что сказать по этому поводу.
Все это было печально.
– Макс не любил их так сильно, как я, – добавила Элизабет и пошла по берегу реки.
Я кивнул и пошел за ней.
– Ты не хочешь со мной разговаривать? – спросила Элизабет.
– Хочу.
– Скажи что-нибудь.
– Что-нибудь.
– Не смешно.
Я-то сказал это всерьез, а не для смеха, и мне стало стыдно. А человечек у меня в желудке потешался вовсю, катался там и хохотал до слез над моей беспомощностью.
Мы молча прошли пару кварталов.
– Моих кроликов звали Пуки и Му-Му. Зеленый салат им нравился даже больше, чем морковка. Странные какие-то были кролики.
Я опять не знал, что сказать.
– Макс любит кошек, – продолжала она.
У меня наконец прорезался голос, и я сказал:
– Да, я знаю. А Алиса была хорошей кошкой?
– Она была просто чудо. Но она была кошкой Макса, а не моей. Пуки и Му-Му были моими. Других таких уже не будет.
– А у меня была мама, – вырвалось у меня как-то само собой. – Другой мамы тоже никогда не будет. Она была неподражаема.
– Ты очень любил свою мать?
– Да. А ты свою?
– Я ненавидела ее. В фантазиях я убивала ее, пока она спала. Воображала, как я перерезаю ей горло разделочным ножом от уха до уха. Или просто вонзаю и вонзаю нож в ее шею. Прости, я понимаю, что это неприятно слушать. Но, господи, как мне хотелось убить мать, когда я была ребенком!
– Почему?
– На то был миллион причин. Бесконечное число.
Мы прошли еще несколько кварталов, держа руки в карманах.
– Моя мать зарезала Пуки и Му-Му и накормила меня ими, когда я была еще маленькой.
Тут уж я совсем не знал, как реагировать на ее слова.
– Она сказала мне, что я съела, уже после еды. Сказала с ухмылкой, будто в этом заключалась вся соль какого-нибудь анекдота. Ты не представляешь, какое чувство вины я испытывала несколько месяцев. Мне все казалось, что Пуки и Му-Му пытаются выпрыгнуть из моего желудка. А она сделала брелки для ключей из их лап и подарила мне один из них на Рождество. Когда я развернула обертку, я закричала и стала плакать. Она же сказала, что я ненормальная, неблагодарная, испорченная, беспомощная и глупая. Она смеялась надо мной и сказала Максу, что у него чересчур сентиментальная сестра. Как будто это ужасный недостаток. Как будто стыдно испытывать чувства, признаваться, что тебе что-то дорого, заботиться о ком-то, даже любить.
– Сколько тебе тогда было лет?
– Семь.
– А почему она зарезала кроликов?
– Мы были бедны. Не хватало на еду. У нас не было денег, чтобы кормить их. Мама была психопаткой. Мне страшно везет в жизни. То одно, то другое.
– Отец Макнами не знал ведь…
– Откуда он мог знать?
– Я очень сожалею, – сказал я.
– Ты не сделал ничего плохого, – отозвалась она.
Я чувствовал, что по части романтической истории я потерпел фиаско. Все, о чем я сумел поговорить с ней, – это ее детские травмы и подростковые фантазии об убийстве матери.
Не слишком романтично.
– Скажи мне что-нибудь приятное, – попросила Элизабет. Она остановилась, повернулась ко мне лицом и посмотрела мне в глаза с отчаянной настойчивостью. – Пожалуйста! Все что угодно. Что-нибудь такое, чтобы я почувствовала, что мир все-таки не так ужасен. Я уже дошла до точки, Бартоломью. Я стала равнодушна ко всему. Скажи мне что-нибудь, что разбило бы это равнодушие. Просто что-нибудь хорошее. Хорошее и настоящее. Если ты сможешь сделать это, то тогда, может быть…
Она не окончила фразы, но вздохнула, и я подумал, что она собирается сказать еще что-то.
Она, однако, продолжала испытующе глядеть мне в глаза, но я не мог придумать, что бы такое ей сказать, и надеялся, что Вы, Ричард Гир, появитесь и подскажете мне, потому что Вы всегда, во всех своих фильмах знаете, что хочет услышать женщина в такой ситуации. Но Вы, к сожалению, так и не материализовались.
– О чем? – спросил я, стараясь протянуть время.
– Ну, может быть, что-нибудь хорошее о твоей матери. – Она запнулась, глаза ее наполнились слезами. – Такое, чтобы я забыла, что съела своих кроликов и что мне негде жить. Что вся моя жизнь была жестокой садистской шуткой и что скоро все кончится.
– Кончится? – переспросил я.
Я не мог видеть ее в таком состоянии, но не знал, что мне делать.
– Расскажи мне о своей матери, что-нибудь хорошее, – повторила она, пропустив мимо ушей мой вопрос. – Действительно хорошее. Мне кажется, что ты хороший человек, Бартоломью. Вот и скажи что-нибудь хорошее. Пожалуйста!
Я задумался. Что касается воспоминаний о маме, то тут было из чего выбирать.
– Первое, что придет тебе в голову, – сказала Элизабет. – Не задумывайся, а просто начни говорить. Ну пожалуйста! У тебя же должны быть приятные воспоминания о матери, раз ты ее так любишь. Неужели это так трудно? Мне необходимо услышать что-нибудь приятное, даже сентиментальное.
И я вдруг действительно начал говорить не думая. Слова пошли из меня, как воздух. Их количество изумляло меня самого. Как будто Элизабет нащупала во мне ручки, включающие горячую и холодную воду, и слова полились из меня, как из крана.
– Когда я был маленьким, мама сказала мне, что если я напишу письмо мэру Филадельфии – сначала им был Фрэнк Риццо, потом Уильям Грин – и попрошу у него разрешения подняться на крышу Сити-Холла, то он, может быть, разрешит мне посмотреть на Филадельфию даже из-под самого купола, где стоит скульптура Уильяма Пенна[17]. И я стал писать письмо, пытаясь придумать аргументы, которые убедили бы мэра разрешить мне это. На письмо ушел не один день. Я написал, что усердно учусь в школе, что я хороший сын, слушаюсь маму и всегда делаю разную домашнюю работу, пообещал ходить на все выборы, когда вырасту (я выполнил впоследствии это обещание, потому что мама говорила, что это патриотический долг всякого американского гражданина), а также сообщил, что хожу в церковь каждую неделю и пытаюсь быть добрым католиком. Написав письмо, я переписывал его снова и снова, пока стиль не стал достаточно хорошим для того, чтобы послать письмо официально избранному мэру. Мама прочитала письмо, и мы опустили его в ближайший почтовый ящик, скрестив на счастье пальцы в надежде, что я достаточно хороший мальчик для того, чтобы подняться на крышу Сити-Холла. Примерно через неделю я получил адресованное мне лично написанное от руки письмо, в котором говорилось, что я хороший мальчик и могу посетить здание муниципалитета. Мы пошли туда вместе с мамой. Мы шли, держась за руки, по Брод-стрит, а здание Сити-Холла все вырастало и вырастало перед нами, затем мы поднялись на лифте на его крышу. Сити-Холл, кстати, был тогда одним из самых высоких зданий в мире и самым высоким в Филадельфии – до тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. С крыши мы видели весь Город братской любви, все его улицы, расположенные под прямыми углами, – планировщики были явно зациклены на том, чтобы никто не заблудился в городе. Я был очень горд, глядя на Филадельфию с такой высоты и зная, что я заслужил это право тем, что я примерный мальчик.
Глаза Элизабет возбужденно загорелись, и я очень надеялся, что мое выступление имеет успех; сердце мое стучало, перчатки взмокли внутри от пота.
– И лишь когда я вырос, до меня дошло, что на крышу Сити-Холла пускают всех без разбора, хороших и плохих мальчиков, а письмо «от мэра» написала сама мама. Уже взрослым я вновь поднялся туда, но это, конечно, было уже совсем не то. В этом не было никакой моей заслуги, любой мог сделать то же самое. Здание не вырастало передо мной, как в сказке, когда я шел по Брод-стрит; при подъеме на лифте мое сердце не билось учащенно; вид сверху был совсем не таким захватывающим; городские кварталы казались распланированными уже не так четко, и без мамы мне даже не особенно хотелось задерживаться там.
– Мне она представляется замечательным человеком, – сказала Элизабет, улыбнувшись.
– Она и была замечательным человеком.
– Ты тоскуешь по ней.
– Да, очень.
– Я сочувствую тебе.
– А я сочувствую тебе – тому, что тебе пришлось съесть кроликов и что тебя похитили пришельцы.
Она села на скамью, я сел рядом.
Мы наблюдали за снежинками, кружащимися в танце и опускающимися с неба прямо в реку.
Я думал, что Элизабет будет вглядываться в темноту, высматривая НЛО, но она ни разу даже не подняла головы.
В этот вечер разговоры об НЛО и пришельцах не интересовали ее.
Из кино я знал, что это был тот момент, когда надо обнять Элизабет, и сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди при одной мысли о том, что я обниму своей рукой другое человеческое существо и наши ребра будут соприкасаться через пальто.
Но я не обнял ее своей рукой.
Мы просто сидели и сидели рядом на скамейке, пока наши шапки не побелели от снега, а носы не покраснели.
Наконец она встала, я встал тоже.
Мы молча пошли обратно к отелю, оставляя позади две цепочки следов, которые в скором времени будут засыпаны новым снегом, а потом их сгребут лопатой прочь, уничтожив следы нашей совместной прогулки по старому Монреалю. Я подумал о том, как много людей пережили в Монреале тихие значительные моменты, которые были так важны для них, но совершенно не интересовали всех остальных, живших на земле когда-либо.
Элизабет открыла дверь своего номера с помощью пластиковой карты и сказала:
– Спокойной ночи, Бартоломью.
– Спокойной ночи, – ответил я, стоя в коридоре.
Она посмотрела долгим взглядом мне в глаза, держа руку на ручке двери.
А затем она вытащила из кармана еще один тектитовый кулон и подняла его надо мной. Я опустил голову, она повесила кулон мне на шею и кивнула.
Я кивнул ей в ответ.
– Макс хотел, чтобы у тебя был и третий кристалл, если ты его заработаешь. Ты заработал.
С этими словами она скрылась в своей комнате.
Забавно, что я сразу почувствовал вес трех кристаллов, в то время как два не чувствовал совсем.
Они не были тяжелыми, но вес был ощутим.
Это был значимый момент.
Я постоял в коридоре еще какое-то время, удивляясь тому, что, проведя целый день вместе с тремя другими людьми, я чувствовал себя гораздо более одиноким, чем когда-либо прежде. Но идти в комнату к отцу Макнами мне не хотелось.
Мне хотелось быть с Элизабет – просто посидеть рядом с ней молча каких-нибудь пять минут было бы божественно.
И одновременно мне хотелось побыть одному. Все это было непонятно.
В результате я оказался в одиночестве на крыше отеля около испускавшего пар бассейна, который был ярко освещен, излучал голубое сияние и выглядел сказочно.
Посмотрев на Монреаль с высоты, я подумал, что где-то в этом городе должен находиться мой биологический отец.
Следующая мысль была о том, где может быть в этот момент мама.
Я сел на стул и, чувствуя, как воздух холодит лицо, стал наблюдать за снежинками, падающими в теплую голубую хлорированную воду и мгновенно тающими. Я подумал, что это может служить метафорой жизни каждого из нас: все мы были всего лишь маленькими частицами, падающими навстречу неизбежному растворению. Не знаю, был ли в этом какой-то смысл или нет.
Я просидел там долго – казалось, несколько часов, – чувствуя себя снежинкой в момент соприкосновения с нагретым бассейном и спрашивая себя, неужели это действительно является обобщением нашей судьбы в грандиозной картине вселенной.
И хотя мама не явилась мне, я поговорил с ней, рассказав обо всем, что со мной происходило, и спросив, может ли мой отец действительно быть жив. Но единственным ответом мне был шум машин где-то очень далеко внизу.
Когда я вернулся в наш номер, отец Макнами мирно спал и даже не храпел, так что я старался не шуметь и не стал зажигать свет. Комната вся пропахла виски, и это означало, что утром отец Макнами опять будет страдать от похмелья.
Я лег и, глядя в потолок, подумал, что я в Канаде и что это очень странно.
Хм, Канада?
Это казалось нереальным.
А может быть, это просто какая-то неизвестная мне часть Филадельфии? или даже известная, но принявшая незнакомый вид? может, это такой географический Хеллоуин? простите за такую нелепую мысль.
Затем, чтобы не будить отца Макнами, я стал светить себе маленьким фонариком, подвешенным на цепочке с ключом, и писать письмо Вам. Я хотел закончить его прежде, чем мы отправимся к церкви Святого Иосифа, чтобы посмотреть на хранящееся там сердце чудотворца, и я впервые увижу своего биологического отца.
14
Это самое разумное, что можно сделать в тех прискорбных обстоятельствах, которые достались тебе в наследство
Дорогой мистер Гир!
Проснувшись в то утро, когда мы должны были ехать в церковь Святого Иосифа и встретить моего отца перед хранящимся там сердцем святого брата Андре, я увидел, что отец Макнами еще спит. Я выглянул из окна и полюбовался свежим снегом, выпавшим ночью. Город был словно засыпан тончайшим белым песком, в котором машины и люди, спешившие на работу, постепенно прокладывали тропинки в разных направлениях.
Я улыбнулся своему отражению в стекле, наложившемуся на городской пейзаж, почувствовал в груди приятную легкость, принял душ и оделся.
На ночном столике у кровати стояли две пустые бутылки из-под виски, и я решил дать отцу Макнами поспать еще немного, хотя все это было крайне необычно. Никогда еще он не вставал позже 6.30, сколько бы ни выпил накануне.
Я немного нервничал из-за предстоящей встречи с отцом, но не очень, потому что бóльшая часть меня считала эту встречу абсолютно невозможной, а как можно бояться того, что не может произойти?
Отец Макнами в последнее время вел себя довольно непоследовательно, и я не хотел питать несбыточных надежд. Я был практически уверен, что его идея встретиться с моим отцом в Монреале была фантазией, порождением происходящей в нем внутренней борьбы с безумием. Все могло закончиться так же, как наша попытка спасти Венди.
Однако я решил, что не будет вреда, если я представлю себе чисто абстрактную возможность такой встречи – скажем, где-нибудь в параллельной вселенной или другом таком же месте, – и подумал, что, наверное, мне следовало бы сердиться на отца за то, что он оставил нас, и особенно меня, столь впечатлительного мальчика, который, возможно, страдал бы гораздо меньше, если бы у него был отец, пусть даже неудовлетворительный, а главное, за то, что он не подарил маме сказку, в то время как она уж точно заслуживала ее. Если какая-либо женщина когда-либо заслуживала сказку, так это она.
Может быть, говоря чисто теоретически, я должен был бы ненавидеть отца так же, как Элизабет ненавидела свою мать, ибо еще вопрос, что хуже: заставить дочь съесть ее любимых кроликов или бросить сына. Вопрос непростой.
Но в реальности, в которой я живу, я не испытывал ненависти.
Как можно ненавидеть того, кого совсем не знаешь?
Как можно сердиться на человека, если ни разу его не видел?
Зазвонил телефон. Я снял трубку. Это был Макс.
– Мы готовы, – сказал он. – Алё, какого хрена? Как насчет долбаного завтрака? Мой желудок уже бушует, алё.
– Отец Макнами все еще спит, – прошептал я.
– Давайте, блин, позавтракаем без него. Завтрак, блин, входит в стоимость долбаного отеля. Булочки и прочие долбаные причиндалы. Но их дают, блин, только до определенного часа: так написано в долбаном проспекте, который они подкинули нам на тумбочку. Время, блин, очень важный фактор при получении завтрака в этой долбаной Канаде.
– О’кей, – прошептал я.
Я написал отцу Макнами записку, чтобы, проснувшись, он знал, где мы находимся, и мы с Элизабет и Максом выпили кофе с булочками в фешенебельном ресторане отеля, сидя на канадских сиденьях, обтянутых красной кожей.
– Сегодня знаменательный день, – сказала Элизабет.
– Знаменательный день будет, когда мы поедем в долбаный Кошачий парламент, алё! – сказал Макс.
Я кивнул, посмотрел на часы, висевшие на стене, и, увидев, что уже больше десяти, сказал:
– Наверное, надо разбудить отца Макнами.
Подойдя к нашей двери, я громко постучал в нее, чтобы дать знать, что я иду, или, может быть, разбудить его. Затем я вошел.
Он по-прежнему спал.
– Отец! – позвал я его. – Отец Макнами, уже поздно.
Он не проснулся, так что я слегка потряс его за плечо – и чуть не задохнулся.
Отец Макнами был абсолютно холодным.
Он словно превратился за ночь в холодный твердый камень и был к тому же белее свежевыпавшего снега на улице.
Моя рациональная часть сразу поняла, что он мертв.
Часть моего мозга рассуждала трезво, функционировала четко и безупречно.
Однако контроль над ситуацией взяла на себя иррациональная часть, она начала трясти отца Макнами и кричать:
– Отец Макнами, проснитесь! Мы же идем сегодня в церковь Святого Иосифа! Вы забыли? Вы обещали, что я встречусь со своим отцом перед хранящимся там сердцем святого Андре Бассета! Вы обещали мне чудо! Проснитесь! Проснитесь! Что за шутки? Проснитесь, отец!
Но он не просыпался, и рациональная часть моего мозга понимала, что он не проснется, но проблема была в том, что ей не хватало сил сопротивляться иррациональной, и исход борьбы между ними был предрешен. Рациональность гибла, иррациональные силы превосходили ее раз в десять. Я начал трястись и плакать, мне казалось, что я вот-вот умру, и тут…
И тут, Ричард Гир, появились Вы – в самый нужный момент. Наверное, я не справился бы с этим, если бы Вы не пришли.
Но Вы пришли.
Пришли, чтобы спасти меня от иррациональных сил.
Вы пришли.
Вы были одеты в красное с белым одеяние буддистских монахов, глаза Ваши сверкали ярче обычного. «Бартоломью, – сказали Вы, – просто время отца Макнами вышло. Так уж устроена вселенная. Наша жизнь на земле преходяща. Все идет своим чередом. Вдохни поглубже. Выдохни. Повтори: вдох – выдох. Повтори еще раз». Вы демонстрировали образцовую технику дыхания, правильно сгибая и разгибая позвоночник. Но я был слишком расстроен, чтобы правильно дышать. «Он же должен был познакомить меня сегодня с моим отцом! Почему Бог заставил нас проделать весь этот путь в Монреаль, чтобы я встретился с отцом, если он знал, что отец Макнами умрет в ночь как раз перед этим событием? В этом нет никакого смысла! Это полный абсурд! Наверное, отец Макнами оставил записку с указаниями, что я должен делать дальше. Должен быть какой-то ключ, который все объяснит». Я принялся обыскивать номер. «Ты не найдешь никакой записки, ее нет», – уверенно заявили Вы. «Откуда вы знаете?» – «Ричард Гир знает все, что касается твоей жизни, Бартоломью, потому что Ричард Гир живет в самом центре твоего мозга, в глубине твоего сознания». – «Я не понимаю этого! – возопил я, продолжая искать записку от отца Макнами в его чемодане, в ящиках письменного стола и комода, в шкафу и под кроватями и ничего не находя. – Я не понимаю, почему Бог позволил отцу Макнами умереть всего за несколько часов до того, как он должен был завершить свою миссию? До того, как он познакомит меня с моим отцом? Почему Бог оставил меня одного в Канаде?»
Вы улыбнулись точно так же, как улыбалась мне мама, когда я был маленьким и задавал ей вопросы, которые ставят в тупик детей, но не взрослых – те-то уж точно знают ответы на них. Я имею в виду вопросы типа: почему птицы поют? или почему деревья становятся особенно красивыми, когда теряют осенью листву? или почему люди воюют? или почему от мороженого болит голова? или почему люди всегда смеются надо мной? «Разве ты один? Разве ты не приехал сюда вместе с другими?»
Я подумал над тем, что Вы сказали. Наверное, в этом был смысл, но я ничего не ответил Вам.
«Ты имеешь представление о буддистских коанах?»[18] – спросили Вы. «Нет», – ответил я, хотя смутно помнил, что читал что-то об этом в библиотеке. «На Западе часто ошибочно думают, что коаны – это загадки, которые надо решить, проверка интеллектуальных способностей. Но правильнее рассматривать коаны как короткие истории, побуждающие человека задуматься, но не имеющие однозначного ответа. Их нельзя „решить“ или „понять“, как нельзя решить или понять падающую звезду, львиный рык, запах свежей росы на розах или ощущение теплого песка между пальцами ног. Можно только размышлять по поводу этих вещей и восхищаться тайнами природы. И хотя невозможно „правильно разгадать“ их, думать о них все равно приятно. Далай-лама согласился бы со мной, поверь. Мы с ним друзья». – «Какое отношение имеет все это к тому, что отец Макнами умер как раз перед тем, как сказать мне, кто мой биологический отец?» Вы улыбнулись, как будто я был ребенком. «Ты хочешь, чтобы я „решил“ коан? Я не могу дать тебе ответ. Но очень полезно поразмышлять над вопросом, составляющим самую суть того, что с тобой произошло. Подозреваю, что ты будешь размышлять над ним много лет и это сделает тебя мудрее, обогатит твой жизненный опыт». – «Вы хотите сказать, что все происходящее сейчас – это коан, побуждающий к размышлению, но не имеющий смысла?» – «Он имеет очень глубокий смысл! Но ответа на него нет». – «Вы меня совсем запутали!» – «Нет, ты запутался сам, я тут абсолютно ни при чем». – «И что же мне теперь делать?» – «Вызови „скорую помощь“. Это самое разумное, что можно сделать в тех прискорбных обстоятельствах, которые достались тебе в наследство. Но сначала возьми кредитную карточку из бумажника отца Макнами». – «Что? Как это?» – «Он хотел, чтобы ты совершил это путешествие. Чтобы закончить его, тебе понадобятся деньги. Поверь мне. Это вполне допустимо. Отец Макнами хотел бы, чтобы ты взял кредитную карточку и деньги, которые он отложил для этого путешествия, и завершил его в память о нем. В глубине души ты должен понимать, что это так и есть».
Я почувствовал, что в глубине души соглашаюсь с Вами, Ричард Гир.
Бумажник отца Макнами лежал на столе.
«Сделай это», – сказали Вы, и я сделал это, обчистил бумажник и сунул деньги и кредитные карточки себе в карман. Там же я нашел нечто, от чего мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, но одновременно меня охватило чувство глубокого безмятежного покоя. «А теперь спрячь пустой бумажник в свой чемодан, чтобы полиция его не нашла», – прозвучал голос у меня в голове, но это был уже не Ваш голос, Ричард Гир.
Вы испарились.
Голос не принадлежал также ни моей матери, ни сердитому человечку.
Может быть, это был мой собственный внутренний голос?
Как бы то ни было, я послушался внутреннего голоса и засунул бумажник отца Макнами во внутренний карман своего чемодана за стопку чистых белых трусов. «Молодец, – сказал внутренний голос. – Теперь позвони администратору и скажи, чтобы срочно вызвали „скорую“».
Они приехали минут через пятнадцать, в течение которых я тупо и покорно сидел на постели, не думая ни о чем.
Смерть констатировали мгновенно.
Два дюжих санитара, пыхтя и обливаясь потом, уложили тяжелое тело на носилки, пристегнули к ним, накрыли простыней и унесли.
Затем меня допрашивали в нашем номере два местных полицейских. Один из них был высоким, с родимым пятном на кончике носа, другой – низеньким с длинными бакенбардами. У обоих были остро заточенные карандаши и блокноты на проволочной спирали размером с кусочек хлеба, в которых они со страшной скоростью записывали все, что я говорил.
– Сочувствуем вашей утрате, – сказал Бакенбарды.
– Но, к сожалению, мы должны задать вам несколько вопросов, – добавил Родимое пятно.
– Мы заранее просим прощения, если некоторые вопросы покажутся вам неуместными в данных обстоятельствах, но работа есть работа, – сказал Бакенбарды.
Я кивнул.
– Что вы с умершим делали в Канаде? – спросил Родимое пятно.
– Мы приехали, чтобы совершить паломничество к церкви Святого Иосифа, а затем собирались посетить Кошачий парламент.
– Кошачий парламент? – переспросил Родимое пятно, записывая название.
– Да, в Оттаве.
Полицейские обменялись взглядами.
– Простите за вопрос, но это что – какой-то притон с обнаженкой? – спросил Бакенбарды, строча в блокноте.
– Что? – спросил я.
– Ну… такой мужской клуб, где женщинам платят, чтобы они раздевались, показывали стриптиз.
– Нет, Кошачий парламент – это такое место, где бездомные коты могут ходить свободно. Это, кажется, где-то около здания парламента в Оттаве.
Полицейские опять переглянулись, подняв брови, и продолжали строчить.
– Вы пили вчера вечером? – спросил Бакенбарды и указал другим концом карандаша на пустые бутылки.
– Я – нет. Отец Макнами пил ежедневно.
– И вы обнаружили его мертвым сегодня утром? В постели?
– Да.
– Кто-нибудь еще с вами путешествует?
– Да, Макс и Элизабет. Они в холле и еще не знают о том, что случилось.
– Может быть, позвать их сюда? – спросил Родимое пятно.
Я посмотрел на него вопросительно, не понимая, почему он спрашивает меня об этом.
– Вы, похоже, в шоке, – пояснил Бакенбарды. – Возможно, вам не следует оставаться одному.
Я кивнул.
В этом был смысл.
– Вы сказали, Макс и Элизабет? Мне их так и позвать? – спросил Родимое пятно и, когда я кивнул, добавил: – Понял, – и вышел.
Бакенбарды подошел к окну и посмотрел на улицу.
– Как вы думаете, от чего он умер? – спросил я.
– Не знаю. Похоже на сердечный приступ. Или алкогольное отравление. Вскрытие покажет.
– А почему он умер? – вырвалось у меня, прежде чем я успел остановить себя.
– Что-что?
– Почему он умер, как вы думаете? Мы были с ним очень близки. Он привез меня сюда.
– Не понимаю вашего вопроса, – сказал низенький полицейский с бакенбардами и перестал записывать каждое мое слово.
В его глазах промелькнуло беспокойство и даже некоторый испуг, который я наблюдал в глазах людей уже много раз, так что я не стал больше задавать никаких вопросов.
– Да, вам, наверное, трудно с этим смириться, – предположил он. – Так всегда бывает. Наверное, лучше всего оставить решение важных вопросов на потом. Обратитесь к консультанту-психологу. Он лучше разбирается в этих делах.
Я подумал, что он, вероятно, прав, но вот только я уже потерпел неудачу с Венди и Арни. Я уставился на свои коричневые шнурки, а полицейский опять стал глядеть в окно.
Спустя несколько минут высокий полицейский вернулся вместе с Максом и Элизабет.
– Алё, какого хрена?
– Господи, я просто не могу поверить. Бартоломью, как ты?
Полицейские опять переглянулись, и Бакенбарды сказал:
– Сейчас мы уйдем, но нам нужно записать ваши имена, домашние адреса и номера паспортов.
Мы сообщили им эти сведения. Элизабет указала их прежний адрес, умолчав о том, что их выселили, и это, на мой взгляд, было очень умно с ее стороны. Полицейские старательно переписали данные наших паспортов, вручили нам свои карточки и велели позвонить им через сутки, после того как мы свяжемся с родными отца Макнами и договоримся об отправке тела в Филадельфию.
С этим они удалились.
– Алё, какого, блин, хрена? – произнес Макс, стукнув несколько раз себя по голове таким жестом, каким выбивают кетчуп из бутылки.
– Что с ним случилось? – спросила Элизабет.
– Я не знаю толком.
– Но от чего он умер?
– Может быть, он перепил вчера вечером. Я нашел его мертвым в постели.
– И что мы теперь будем делать? – спросила она.
– Не знаю.
– Не могу представить, что отца Макнами уже нет, – сказала Элизабет.
– Блин!
Макс и Элизабет сели на мою неприбранную постель, и мы долго молчали, получилось как бы в память об отце Макнами. Венди, наверное, сказала бы, что мы «перерабатываем значимую информацию, вникая в произошедшее».
Наконец Элизабет спросила:
– Так мы поедем в церковь Святого Иосифа?
– Зачем? – спросил я.
– Отец Макнами хотел бы, чтобы мы поехали. Может быть, ты встретишься там со своим отцом.
– Ну да, блин! Алё, какого хрена?
– Вряд ли мы встретим там моего отца, – сказал я.
– Как ты можешь знать это?
Я ничего не объяснил Максу и Элизабет в тот момент, но в бумажнике отца Макнами я нашел фотографию, на которой были сняты мама, он сам и я – совсем маленьким мальчиком. Мы крутились на колесе обозрения в Оушен-Сити, и в самой верхней точке отец сфотографировал нас троих, вытянув руку с фотоаппаратом. Я в ужасе сидел, зажатый между ними, как книга между подставками на полке, а они улыбались во весь рот, и вид у них, порхавших в небесах и обнимавших меня с двух сторон, был необыкновенно счастливый. (Отец Макнами выглядел поразительно похожим на меня, какой я сейчас, когда пишу это письмо.) Сама по себе фотография, может быть, и не вызвала бы у меня никаких подозрений, но затем я увидел на кредитной карточке его имя, которое впоследствии сообщил полицейским.
Его звали Ричард.
Ричард Макнами.
Просто смех: я знал его всю жизнь, но при мне никто ни разу не назвал его по имени, а мне не пришло в голову спросить его. Он всегда был для нас «отцом Макнами». Даже мама звала его «отец Макнами» или просто «отец». Никогда я не слышал, чтобы его называли Ричардом.
А может быть, я все-таки слышал, но не обратил на это внимания?
Вам не кажется это странным, Ричард Гир?
Может быть, какая-то часть моего бессознательного подозревала правду и защищала меня, блокируя возможное намерение выяснить имя отца Макнами?
Теперь-то я думаю, что его полное имя наверняка упоминалось в вывешиваемых еженедельно церковных объявлениях, но кто их читает?
Перед смертью мама стала звать меня Ричардом. Я думал, что она обращается к Вам, Ричард Гир, но теперь я знаю, что она имела в виду Ричарда Макнами, любовь всей своей жизни. Теперь я понимаю, почему отец так часто обедал у нас дома, почему мама исповедовалась только ему, почему он всегда так быстро откликался на призыв о помощи – как это было, когда подростки разгромили наш дом, – почему он посвятил маме несколько месс после ее смерти, хотя я не заполнял соответствующих бланков, почему он плакал на берегу после ее похорон и почему он хотел отвезти меня к церкви Святого Иосифа, где возможны чудеса. Очевидно, он считал, что без чуда я не смогу простить ему длившегося всю жизнь обмана и того факта, что я вырос без отца в доме, хотя имел в его лице идеального духовного наставника.
Но тут возникает вопрос: может ли католический священник быть идеальным духовным наставником, если он спал с твоей матерью?
От всех этих мыслей голова у меня пошла кругом.
– Бартоломью? – окликнула меня Элизабет.
– Давайте поедем в церковь, – сказал я, думая, что, может быть, там все-таки произойдет какое-нибудь чудо; раз уж мы совершили столь долгий путь сюда, то стоит посмотреть, может ли церковь Святого Иосифа предложить нам что-нибудь.
Я взял ключи от автомобиля, отдал их Элизабет и сказал:
– Давайте соберем вещи и поедем. Срок нашей гостиничной брони уже истек.
– Но с тобой все в порядке?
– Да. Какого хрена, алё? – сказал я.
Это их порядком напугало.
Я кивнул, и мы тронулись в путь.
15
Бедный, скромный, верный служитель Бога
Дорогой мистер Гир!
Может быть, Вы считаете, что я слишком спокойно отнесся к смерти отца Макнами?
Или, может быть, Вы думаете даже, что я должен был бы раскаиваться в том, что позволял ему пить виски в непомерном количестве и ни разу не попытался уговорить его пить меньше?
Может быть, Вы считаете, что я должен был насторожиться, когда он назвал наш ужин в ресторане последним?
Может быть, Вы считаете меня несообразительным или бестолковым из-за того, что я раньше не разгадал тайну своего отца?
Вы могли бы задать мне в данный момент миллион разных недоуменных вопросов, и я сознаю, что все они, возможно, были бы вполне справедливы, особенно потому, что из-за особенностей своего ума я не могу дать на них ответы, которые были бы хоть чуточку понятны «нормальным» людям. Но, несмотря на все это, у меня накопилась целая куча вопросов к Вам, Ричарду Гиру, другу далай-ламы, являющемуся мне призраку, моему постоянному корреспонденту, наставнику по ухаживанию за женщинами и предполагаемому другу.
Если отец Макнами был тем Ричардом, к которому мама обращалась перед смертью, если он действительно был моим отцом – в чем я теперь практически не сомневаюсь, – то почему Вы стали являться мне и продолжаете это делать в последние недели?
Может быть, я просто придумал Вас в качестве своего друга?
Может быть, я сошел с ума и воображал Вас: Вы были чем-то вроде моей галлюцинации?
Или же Вы действительно являлись мне, потому что Вы являетесь многим людям, нуждающимся в помощи, потому что это то, чем Вы занимаетесь, когда не снимаетесь в кино?
Может быть, это Ваша религиозная миссия?
Может быть, это какая-то особенность буддизма?
Наверное, Вы скажете, что я обознался и что Ваши появления – просто еще один коан, над которым надо глубоко задуматься, но не рассчитывать на ответ, на решение загадки.
Вселенная икает, а мы, дурачки, пытаемся разобраться почему.
Я уж подумал, не перестать ли писать Вам, особенно в связи с тем, что Вы не показывались в последнее время, хотя нужны мне были как никогда! Но дело в том, что я стал зависеть от этих писем. Когда я все это записываю, освобождая свой мозг от накопившихся там слов, это производит благоприятное воздействие на меня. Это успокаивает меня так, как ничто больше не может успокоить. И к тому же теперь, после смерти моего настоящего отца Ричарда Макнами, Вы – единственное звено, связывающее меня с мамой.
Вы были маминым кумиром.
Ради Вас она бойкотировала Олимпийские игры в Пекине.
У меня сейчас нет никого, кто мог бы заменить Вас, Ричард Гир, и потому, что бы я ни чувствовал по отношению к Вам, я буду продолжать писать.
Как Вы думаете, отец Макнами попал на небо?
Пропускает ли святой Петр сквозь свои жемчужные врата священников, которые нарушают обет безбрачия?
Можно ли считать, что, объявив нашу трапезу в ресторане последним ужином и напившись после этого до смерти, он совершил самоубийство?
Может быть, священники, нарушающие обет безбрачия и помышляющие о самоубийстве, попадают в чистилище?
Или даже в ад?
Но почему я задаю такие вопросы буддисту?
Это смешно.
Вы, наверное, не верите ни в рай, ни в ад, ни в чистилище?
Говоря языком Вашей религии, отец Макнами определенно не достиг нирваны. Как Вы считаете, Ричард Гир? По крайней мере, не в этой жизни. Я полагаю, что выпить две бутылки виски и умереть после этого во сне могут только люди, не достигшие нирваны.
Но в целом он был хорошим человеком. Я думаю, с этим можно согласиться, если мы хотим судить объективно. Как Вы думаете?
Оглядываясь на прошлое, я могу утверждать, что он не был горд тем, что оставил меня. И что бы ни происходило между отцом Макнами и мамой, происходило оно из-за любви. Похоть не пробуждает чувства долга, а отец всегда был очень внимателен к нам.
Какой внутренний разлад он должен был переживать, следуя своему религиозному призванию и одновременно таская с собой нашу семейную фотографию, снятую на вершине колеса обозрения, где он мог свободно обнять нас, не боясь, что его увидят, где на него не давил груз его обета и призвания.
Если Ваш интерес к моим письмам не угас, Ричард Гир, и Вы все еще читаете их, то могу сообщить, что мы втроем – Макс, Элизабет и я – все-таки поехали в церковь Святого Иосифа.
Элизабет вела машину, а я отыскивал дорогу с помощью навигационной системы GPS. Механический женский голос говорил нам, где надо повернуть и какое расстояние осталось до следующего перекрестка, а экран показывал, как мы движемся по карте, связывал нас со спутником, летящим там, в космическом пространстве. Когда я спросил Макса, откуда это маленькое устройство в автомобиле знает, где мы находимся, он ответил, что все это происки пришельцев.
Голос, руководивший нами, явно принадлежал машине, и вместе с тем он был женским. Это было даже как-то оскорбительно. Как может машина иметь пол? И к тому же у нее был американский акцент. Как может машина иметь какую-то национальность? Это нехорошая идея – заставлять машину говорить, как человек, придавать ей видимость человеческой личности. Как Вы считаете?
Храм стоит на холме. Это большое белое здание, состоящее из ступеней, колонн и башен и увенчанное огромным бронзово-зеленым куполом.
Пилигримы, по идее, должны ползти на коленях ко входу по нескончаемым холодным ступеням, превозмогая боль. Такова их епитимья. Вам, Ричард Гир, это может, наверное, показаться странным. Но признайте, что это все-таки не более странно, чем поведение буддистских монахов, обливающих себя бензином и поджигающих самих себя.
Снаружи церковь Святого Иосифа выглядит впечатляюще.
Если сказать, что от ее вида захватывает дух, это не будет преувеличением.
Мы смотрели на церковь с автостоянки.
– Алё… какого… хрена? – медленно произнес Макс со сдержанным благоговением в голосе, заслоняя рукой глаза от холодного зимнего солнца.
– Да, это действительно впечатляет, даже если ты атеист, – сказала Элизабет.
Я понимал, что маме не понравилось бы, что я влюбился в атеистку, тем более открыто заявляющую об этом, и отцу Макнами, скорее всего, тоже. Но их обоих больше не было со мной, я прокладывал себе путь самостоятельно, а когда я посмотрел на Элизабет этим утром, то почувствовал, что мое сердце стремится к ней, и подумал, что мне надо действовать решительно, потому что эти люди – единственное, что у меня осталось, и мне потребуется сила и мужество, чтобы удержать их при себе и победить огромное темное одиночество, которое маячило впереди.
Наступили новые странные времена, и – неважно, по какой причине, – Макс и Элизабет были со мной, помогали мне преодолеть скорбь по поводу утраты отца Макнами и вступить в новую жизнь, так что я твердо решил укреплять наши отношения, невзирая на незначительные различия. Я не верил в пришельцев, но охотно носил на шее три тектитовых кристалла. Они не верили в Бога, но были согласны посетить церковь, посмотреть вместе со мной на хранящееся там сердце католического святого и зажечь свечу в память о недавно скончавшемся отце Макнами. Может быть, они даже преклонят вместе со мной колена, когда я буду молиться за спасение душ мамы и отца.
– Ты думаешь, что встретишь там своего долбаного отца?
Я улыбнулся и пожал плечами:
– Увидим.
Я направился к церкви, но Элизабет схватила меня за плечо и сказала:
– Подожди!
Я повернулся к ней, и она откинула волосы назад, так что я увидел ее ничем не заслоненное лицо, ее глаза, нос и рот. Она была даже красивее, чем я думал. Сердце мое стучало.
– Может быть, лучше отложить этот визит до другого раза? – спросила она. – Учитывая то, что случилось сегодня? Это ведь был ужасный удар, Бартоломью, и мы еще не до конца пережили его. Я даже не знаю, что хуже: найти твоего отца или не найти. И то и другое может оказаться еще одним ударом, и…
– Не волнуйся, все в порядке, – сказал я, глядя в ее глаза, цвет которых был мягким серо-коричневым, как у грибов, которыми посыпана пицца.
Я видел, что Макса это тоже беспокоит.
Может быть, это было еще одним примером маминого принципа «нет худа без добра». Зло обмана отца Макнами и его смерть привели к добру, к тому, что Макс и Элизабет проявляли теперь заботу обо мне. Мне казалось, что это несомненное подтверждение маминой философии, что она оказалась даже мудрее, чем я думал, когда она жила со мной на земле. А это должно было значить немало, потому что я всегда ценил ее очень высоко.
Я сказал своим друзьям, Максу и Элизабет:
– Моего отца не будет в церкви. Но не беспокойтесь. Я уже решил этот вопрос сегодня утром.
– Как ты, блин, можешь быть уверен в этом? – спросил Макс.
– Потому что отец Макнами был моим биологическим отцом.
– Что? – воскликнула Элизабет.
– Алё, блин! – произнес Макс.
Оба смотрели на меня, вытаращив глаза.
– Подсознательно я всегда это подозревал, но убедился только сегодня.
– Каким образом? – спросила Элизабет.
– Он сам сказал мне.
– Когда?
– Но он же, на хрен, был мертв сегодня утром, блин! – воскликнул Макс как раз в тот момент, когда из остановившегося рядом автобуса высыпала группа монахинь в черных одеяниях. Монахини в негодовании уставились на нас.
– Боже благослови вас, сестры! – крикнул я, улыбнулся и помахал им рукой, видя, что они оскорблены сквернословием Макса. Мы-то к нему привыкли, а других это шокировало.
– Боже благослови и вас, – крикнула в ответ монахиня помоложе, после чего почти все они помахали нам.
– Отец Макнами раскрыл мне истину уже с того света, – сказал я Максу и Элизабет.
– Это что, какая-то особенность католической веры? – спросила Элизабет.
Я рассмеялся и неожиданно почувствовал необыкновенную легкость, как будто скинул с себя огромный темный секрет, тяготивший меня столько лет.
Будущее по-прежнему пугало меня, но вместе с тем я чувствовал себя гораздо свободнее, потому что самой большой тайны моей жизни больше не существовало.
Я подумал, не прятал ли я подсознательно тот факт, что мне известна правда; может быть, для того, чтобы защитить отца Макнами. Может быть, даже маленьким мальчиком я понимал, что официальное признание отцом Макнами своего отцовства вызовет грандиозный скандал в нашем приходе и не позволит ему совершить все те добрые дела, которые он совершал как священник. Он имел возможность совершать их в течение почти сорока лет, потому что мама хранила его секрет. Может быть, и я участвовал в этом заговоре, притворяясь, что не знаю правды, тогда как в действительности знал ее. Я уверен, что мама с радостью поддержала бы меня в этом, – да она фактически так и делала, говоря мне, что мой отец был католическим мучеником, погибшим от руки куклуксклановца.
Мы все вместе участвовали в этой игре.
– Может быть, это особенность всей жизни, – ответил я Элизабет, и мы пошли в церковь.
По нескольким эскалаторам мы поднялись в главный храм, называвшийся базиликой. Она была гигантской и отчасти напоминала Царство Небесное, если можно считать Царством Небесным собор, построенный в современном стиле.
– Это напоминает внутренность долбаного космического корабля, – прошептал Макс. И действительно, от огромных бетонных арок и куполов веяло чем-то космическим, а над алтарем даже висело декоративное серебряное кольцо, очень похожее на НЛО.
Я посмотрел на Элизабет. Она крепко сжала кулаки.
В храме были также вырезанные из дерева фигуры всех апостолов в одеяниях библейских времен и с соответствующими прическами, однако изображенные в виде вытянутых в высоту гигантов, каких можно увидеть в кривом зеркале в комнате смеха. Мы легко нашли среди них моего тезку Варфоломея, хотя тут он фигурировал под вторым своим именем Нафанаила. Он держал какой-то лист, а указательным и средним пальцем левой руки изображал знак V, при этом концы пальцев касались подбородка.
– Эти козлы похожи на инопланетян, – прошептал Макс, и я вынужден был согласиться с ним, потому что их костлявые удлиненные фигуры действительно имели неземной вид. – Какого хрена это значит? Зачем делать учеников Иисуса похожими на гигантских долбаных пришельцев?
– Не знаю, – ответил я.
– Отец Макнами мог бы объяснить, – сказала Элизабет.
– Возможно, – прошептал я.
Затем мы рассмотрели пыльные удлиненные деревянные фигуры других апостолов, у которых был суровый и нечеловеческий вид.
Да, они в самом деле походили на инопланетян.
Я подумал, сколько молитв люди посылали из этого храма на небеса, подобно тому как мы посылаем информацию на спутник, когда нам нужно определить направление при движении в автомобиле.
Мы покинули базилику и спустились по эскалаторам в большой зал со свечами, где за деньги можно было зажечь одну из них и обратиться с молитвой к святому Иосифу.
Мы сделали необходимый взнос, зажгли белую свечу в красном стеклянном подсвечнике в память об отце Макнами и помолились святому Иосифу, прося его поговорить со святым Петром и намекнуть, чтобы тот пропустил отца Макнами через жемчужные врата на небо, несмотря на то что, будучи священником, он спал с моей матерью, выпил смертельную дозу виски и не признался мне, что он мой отец. Однако в течение всех этих лет он помогал очень многим прихожанам – и не только прихожанам.
– Отец Макнами был хорошим человеком, – говорил я святому Иосифу и верил в это.
Множество других паломников и прочих людей вокруг зажигали свечи и молились. В этом месте чувствовалась атмосфера святости, и даже Макс сумел воздержаться от употребления нецензурной лексики, что я расценил как знак большого уважения.
Мы проходили мимо стен, на которых висели сотни деревянных костылей и тросточек, оставленных людьми, предположительно вылеченными святым Андре, простым необразованным привратником, который посвятил свою жизнь святому Иосифу и каким-то чудесным образом стал чудотворцем.
Мы посетили место последнего упокоения святого Андре.
Тело его находится в саркофаге из блестящего черного мрамора, установленном под кирпичной аркой. На стене над саркофагом красной краской изображен крест и сделана надпись: «Бедный, скромный, верный служитель Бога».
Но сердце святого Андре хранилось не здесь.
Я спросил одну из посетительниц, где его можно увидеть, и она указала на будку информационного бюро. Служитель показал нам, куда надо идти, по карте, которая обошлась мне в два канадских доллара.
Поднявшись опять на лифте и по лестнице, мы оказались в диорамном павильоне, где за стеклом были представлены спальня святого Андре, изображающий его манекен рядом с креслом и манекен в служебной комнате.
– Какой он был маленький! – сказала Элизабет. – Трудно поверить, что такой хрупкий человечек сотворил столько чудес.
– Да, – сказал я.
Я был полностью согласен с ней. Брат Андре был совсем не похож на человека, способного совершать подвиги. Не то что Вы, Ричард Гир.
А затем, обернувшись, мы увидели это.
То самое место, куда хотел привести меня отец Макнами.
То место, где он впервые услыхал глас Божий.
Напротив застекленной диорамы была устроена ниша, огороженная металлической решеткой. За решеткой находился серый постамент, на котором стоял стеклянный куб с ребрами из резного камня. Внутри куба помещалось человеческое сердце. Ниша была залита красным светом, и создавалось впечатление, что заглядываешь в грудную клетку гиганта, раскрывшего нагрудник доспехов, чтобы продемонстрировать свое сердце.
– Алё, какого хрена? – произнес Макс, вернувшийся к естественной для него манере речи.
– Как ты думаешь, оно настоящее? – прошептала Элизабет.
– Да, – ответил я.
– Интересно, что за козел его вырезал?
– Не знаю, – сказал я, стараясь прогнать мысли о процессе вырезания сердца из трупа и ожившие воспоминания о рассеченном мозге Чарльза Гито, сохраненном навечно в Музее Мюттера.
– Как ты думаешь, что подумали бы инопланетяне, если бы они оказались тут и увидели выставленное на всеобщее обозрение сердце, толпы людей, поклоняющихся ему, зажигающих свечи и молящихся святому Иосифу? – обратился я к Элизабет.
Она не ответила, сжала мой бицепс через пальто, затем повернулась и направилась к выходу.
Макс кивнул мне и последовал за сестрой.
Они поняли, что мне надо побыть одному.
Я долго смотрел на сердце святого Андре, думая о том, что за человек он был.
Говорят, что на его похоронах целый миллион людей прошел мимо его гроба в суровый канадский мороз.
Почему?
Что отличает таких, как он, от людей вроде Макса, Элизабет и меня?
От всего остального мира?
Отец Макнами сказал бы, что вера брата Андре была сильнее, чем у других.
А я подумал, не является ли вера одной из форм притворства.
И еще я подумал о том, что сказал бы мне отец Макнами, если бы он стоял в этот момент рядом со мной перед сердцем брата Андре, в том месте, где он впервые почувствовал свое призвание.
Может быть, он сказал бы, что сожалеет о том, как все вышло, и попросил бы у меня прощения?
Может быть, он признался бы в любви ко мне, его единственному сыну? Может быть, он оставил церковь для того, чтобы официально признать меня своим сыном и стать моим настоящим отцом?
Теперь я никогда уже не получу ответа на эти вопросы. Но, стоя там и глядя на сердце чудотворца, я почувствовал, что это не имеет значения, что моя жизнь наладится, несмотря на то что выбилась сейчас из колеи.
Я нашел Макса и Элизабет на каком-то балконе, с которого открывался вид на Монреаль. Тут прямо дух захватывало – и не только от холода, способного заморозить тебя целиком, начиная с легких и кончая кончиками пальцев на руках и ногах.
– Спасибо, что пришли сюда со мной, – сказал я Максу и Элизабет.
– Никаких проблем, блин, – отозвался Макс.
Элизабет лишь улыбнулась мне.
Мы еще несколько минут полюбовались на заснеженный Монреаль, вдыхая и выдыхая морозный воздух.
У меня было ощущение, что мы не случайно оказались в этом месте в этот момент, что это было предопределено. Я чувствовал, что это как-то очень правильно.
Не знаю, конечно.
Но все-таки, может быть, так оно и было.
Подумав об этом, я решил, что не стоит сейчас искать ответы на кардинальные вопросы бытия – особенно если учесть проблемы, которые нас осаждали, – и разумнее всего выполнить задуманное.
– Поехали в Кошачий парламент, – предложил я.
– В долбаный Кошачий парламент! – откликнулся Макс и тут же устремился к выходу, чтобы поскорее забраться в наш «форд-фокус».
– Мы можем задержаться здесь, Бартоломью, если тебе это необходимо, – сказала Элизабет.
– Нет, я готов ехать.
Тут Элизабет сделала нечто неожиданное – достала серебряную цепочку из кармана пальто и надела мне на шею.
– Еще один тектит, призванный защитить меня от пришельцев? – спросил я.
– Нет, это медаль Святого Андре, которую я купила в сувенирной лавке, – ответила она и ушла вслед за братом.
Я приподнял медаль и рассмотрел ее. На серебре было изображено маленькое сморщенное лицо брата Андре.
Отца Макнами не стало, но я был уверен, что он хочет, чтобы все у меня сложилось наилучшим образом.
И может быть, этот момент с Элизабет на балконе церкви был своего рода доставшимся мне наследством.
Это была приятная мысль.
Я побежал за Элизабет, чувствуя в себе столько энергии, сколько у меня ее в жизни не было, и мы отправились на «форде-фокус» в Оттаву.
16
До меня стал доходить смысл предсказаний на печенье, который я сначала не понял
Дорогой мистер Гир!
Сидя на заднем сиденье автомобиля, слушая механический женский голос навигатора и глядя на ровное белое пустое пространство, расстилающееся по сторонам, я почувствовал себя очень усталым – слишком усталым, чтобы вспоминать все случившееся, не говоря уже о том, чтобы осмыслить его.
Несмотря на повторяющиеся время от времени восклицания Макса: «Долбаный Кошачий парламент!» – мне удалось уснуть.
Во сне я проснулся в своей спальне в нашем доме. Мама и отец Макнами стояли возле моей постели, держась за руки.
– Это сон? – спросил я.
Они ничего не ответили и только глядели на меня. Вид у них был чрезвычайно гордый.
– Вы вместе на небесах?
Они все так же молча улыбались.
– Почему вы не отвечаете мне? – спросил я. – Скажите что-нибудь, пожалуйста. Или, по крайней мере, дайте мне знак, что у вас все в порядке.
Мама притянула отца Макнами к себе, они посмотрели друг другу в глаза и затем вдруг начисто испарились, как будто их и не было.
– Мама! – воззвал я к ней, пытаясь выбраться из постели, но это у меня никак не получалось; одеяло опутало меня с головы до ног, как гигантская анаконда, я даже руки не мог поднять. – Папа! – закричал я.
Затем кто-то стал меня трясти, и, открыв глаза, я увидел Макса, глядевшего на меня с переднего пассажирского сиденья.
– Алё, какого хрена?
– Ты спал, – сказала сидевшая за рулем Элизабет, – и кричал во сне.
– Прошу прощения, – сказал я, поправляя ремень, которым был пристегнут к сиденью.
– Элизабет, блин, велела мне разбудить тебя.
– Спасибо.
Больше мы ничего не сказали по этому поводу. Я посмотрел на свое отражение в окне.
Неожиданно я почувствовал страшную пустоту внутри и одиночество, а также вину за то, что я, может быть, был недостаточно хорошим сыном: мне, может быть, следовало чаще говорить им, пока они были живы, что я люблю их, или делать больше хороших дел, или сделать что-то одно, но такое, чтобы они гордились мной. Я подумал также, не мучило ли их то, что я был такой толстый, неработающий и не имеющий друзей и что они породили такого урода, за которого им было стыдно. Но хуже всего была мысль, что если даже мне удастся сотворить из своей жизни что-нибудь стоящее в будущем, если даже каким-то чудом я смогу как-то оправдать свое существование, то ни мама, ни отец Макнами этого не увидят. Они умерли, зная того Бартоломью, каким он был в прошлом, а тот Бартоломью категорически мне не нравился.
Кроме того, теперь я знаю, что имя отца Макнами было Ричард и что я ошибался, думая, что мама зовет так меня, и, таким образом, это имя играло двойную роль – по крайней мере, в моей жизни, – и из-за этого мне все труднее притворяться, что Вы, Ричард Гир, мой друг и мое доверенное лицо. И хотя я продолжаю писать Вам письма, я чувствую, будто пишу умершему человеку или созданию моего воображения, вымышленному персонажу. Это также вызывает у меня ощущение, что я ужасный болван.
Поначалу обращение к Вам в письмах и разговоры с Вами во время Ваших визитов ко мне представлялись мне настолько правильными и замечательными, что теперь все это кажется вдвойне ужасным, поскольку было ошибкой, фальшивкой.
Тем не менее я считаю, что должен рассказать Вам эту историю до конца – пусть даже всего лишь потому, что мне необходимо поделиться этим хоть с кем-нибудь.
Прибыв в Оттаву, мы попросили механическую даму из GPS подыскать нам отель, и она без труда выполнила это.
Отель предоставлял самые разные услуги, и мы, воспользовавшись этим, отдали им ключи от автомобиля, получив в обмен небольшой лист бумаги.
Элизабет посоветовала мне использовать мою «аварийную» кредитную карточку, которую мама дала мне много лет назад, – при регистрации в отеле имя на карточке сравнивают с именем в паспорте. Это представлялось логичным, и я послушался ее совета.
Мы сняли один номер на троих и заплатили за двое суток. Пока мы занимались процедурой оформления, Макс нервно расхаживал по залу взад и вперед. Ему так не терпелось отправиться утром в Кошачий парламент, что он хотел лечь спать как можно скорее, чтобы меньше мучиться в ожидании.
– Все оформлено, можете занять номер, мистер Нейл, – сказал мне портье и вручил два ключа.
В номере на четвертом этаже Макс немедленно стал готовиться ко сну и облачился в пижаму, украшенную кошачьими силуэтами и красной надписью на груди, объясняющей, что это «кошачья пижама». Затем он почистил зубы, умылся и нырнул в ближайшую к окну постель.
– Пора, блин, спать, – объявил он.
– Макс, сейчас только восемь, и мы еще не ужинали, – сказала Элизабет, но Макс уже храпел.
– Пойдем поужинаем все-таки? – предложил я.
Элизабет кивнула.
Мы закутались как следует и вышли на заснеженную улицу. Резкий ветер с реки Оттавы хлестал в лицо.
– Похоже на Англию, – заметила Элизабет, когда мы проходили мимо здания парламента. – Часы на башнях и все прочее.
– Ты была в Англии?
– Нет. А ты?
– Никогда.
– Но ты согласен, что тут похоже на Англию?
– Наверное.
Довольно долго мы шли бесцельно, знакомясь с городом, чувствуя холод на щеках. После езды в автомобиле было приятно пройтись.
Элизабет остановилась перед кафе, в витрине которого были выставлены все фигуры китайского зодиака, а позади них восседал, скрестив ноги, толстый нефритовый Будда.
– Может, здесь поедим?
– Давай, – согласился я, и мы вошли.
Элизабет заказала китайскую лапшу, и я тоже. Мы сидели в молчании, ожидая, когда принесут еду, и слушая музыку. Похоже, это было что-то азиатское – пронзительные флейты и нечто вроде унылой шарманки.
Я подумал, что, может быть, китайская лапша в Канаде будет по вкусу не такой, как в Штатах, но она оказалась такой же.
После китайской лапши нам принесли печенье-гадание.
На печенье Элизабет было написано:
в гармонии плохо только то, что она по определению кратковременна.
Мне досталось:
друг – это твой подарок самому себе.
– Что это вообще значит? – спросила Элизабет.
Я только пожал плечами.
Мы посидели в кафе еще какое-то время, допивая зеленый чай, который подали в черном чайнике, имевшем форму дракона. Чай мы наливали в маленькие белые чашки с нарисованными на них синими китайскими символами.
– Как ты думаешь, почему мы оказались в Оттаве вместе? – спросил я. – Какой в этом смысл?
Элизабет ничего не ответила и отвернулась к окну, глядя на проезжающие машины. Лицо ее казалось окаменевшим.
Когда я заплатил по счету, она встала, я за ней, и мы стали бродить по заснеженному городу.
Элизабет не раскрывала рта, и я тоже.
Мы просто ходили.
И ходили.
И ходили.
И хотя я замерз, об этом я тоже не стал говорить, потому что мне хотелось ходить так с Элизабет вечно, и я боялся сделать или сказать что-нибудь такое, что преждевременно прекратило бы нашу прогулку.
Элизабет, казалось, глубоко задумалась о чем-то; я чувствовал, что лучше ничего не говорить, – и не говорил.
В холле отеля она спросила, не хочу ли я выпить с ней что-нибудь в баре, и я сказал: «Конечно» – даже прежде, чем осознал, что последняя из оставшихся у меня жизненных целей сейчас будет достигнута.
Элизабет заказала мартини «Кетель-уан» со льдом и дополнительными оливками. Я не имел представления об этом коктейле, но заказал его же.
Подали напитки, я расплатился за них кредитной карточкой отца Макнами.
Мы сидели в кожаных креслах причудливой формы; бармен принес блюдо с плитками фруктово-ореховой смеси и поставил его перед нами на маленький столик, не достигавший по высоте наших коленей.
– Будем бодренькими! – произнесла Элизабет, подняв свой бокал.
Хотя голос у нее был совсем не бодрый, я тоже поднял бокал, и мы соприкоснулись краями, совсем как показывают по телевизору.
Я пригубил напиток. В основном ощущался вкус соленых оливок, но алкоголь обжигал горло, и это было приятно.
Я впервые пил алкогольный напиток с женщиной, но оказалось, что в этом нет ничего особенного – совсем не то, что я ожидал.
Я еще раз пригубил коктейль, Элизабет сделала уже несколько глотков.
Наступило неловкое продолжительное молчание. Я чувствовал, что в Элизабет происходит какая-то внутренняя борьба.
Неожиданно она достала из сумочки оранжевый пузырек с таблетками и поставила его на стол рядом со своим бокалом.
– Что это? – спросил я.
– Это мое средство ухода.
– Не понимаю.
– Неужели?
Я помотал головой.
– Нам с Максом некуда деться. У нас нет дома, нет родственников. Я обещала брату, что на его сорокалетие свожу его посмотреть Кошачий парламент. Завтра я выполню это обещание. Но потом у нас не остается никаких вариантов. Я устала, Бартоломью, я действительно устала.
Тут уж до меня дошло, что имеет в виду Элизабет. Я схватил пузырек и сказал:
– А что, если ты переедешь жить ко мне? Вместе с Максом. Будем жить, как одна семья.
– И что ж это за семья будет?
– Самая лучшая, какая может быть, – ответил я.
Она улыбнулась и посмотрела на пол:
– Спасибо, но ты просто стараешься меня утешить.
– Чем это плохо? Как знать, может быть, все, что произошло, – мамина смерть от рака, наша случайная встреча с Максом, наше одновременное решение поехать в Канаду, мои посещения библиотеки, где ты работаешь, тот факт, что ты отличаешься от других, и даже смерть отца Макнами, – может быть, все это было не случайно, все вело к тому, чтобы мы были вместе, втроем.
– Ты сознаешь, как дико это звучит?
– Почему? Я просто перечислил все, что случилось с нами, и сделал определенные выводы.
Я сам не мог поверить тому, что произнес это с такой уверенностью. Должно быть, это все-таки Ваше влияние, Ричард Гир.
– Я никогда не встречала таких людей, как ты, Бартоломью, – сказала она, мешая в бокале трубочкой с насаженной на нее оливкой. – Я восхищаюсь твоей почти безграничной добротой. Но, к сожалению, чтобы выжить в этом мире, одной доброты мало.
Я понимал, что она имеет в виду, но понимал я и то, что мамина философия – это мощное оружие, и решил, что самое время применить ее на практике.
– Я очень хотел бы, чтобы ты жила со мной, Элизабет, – сказал я. – Это вполне осуществимо. Мне хочется в это верить, потому что альтернатива, – я потряс пузырек с таблетками, – слишком непривлекательна. Почему бы тебе не поверить мне? Что ты теряешь? Мы завели бы кошку для Макса. Он мог бы работать в кинотеатре, ты могла бы по-прежнему помогать в библиотеке, я мог бы…
Тут я запнулся, потому что я не знал, чем я мог бы заняться. Все, что я делал до сих пор, – это ухаживал за мамой и был ее сыном. А сейчас я обещал стать кем-то гораздо большим, чем я был. Опять притворство.
– У меня все плохо, – сказала Элизабет. – И у Макса тоже. Мы покалеченные люди. Со мной не может быть ничего, кроме проблем. Ты же и сам должен был уже понять это. С нами трудно.
– И я покалеченный! И со мной одни проблемы! Полная неразбериха! Это прекрасно!
– В этом нет ничего прекрасного! – Элизабет уже чуть ли не кричала.
Было ясно, что это мучает ее уже давно – слишком давно – и надежд у нее в запасе осталось мало.
– Все это очень плохо! Я не могу позволить себе рассчитывать на что-либо прекрасное. Прекрасное существует не для таких людей, как мы, Бартоломью. Приемлемое. Я хочу всего лишь приемлемого. Если бы я могла наладить приемлемую жизнь, я была бы очень рада. – Она покачала головой и уставилась на свои колени.
Я видел, как ее губы беззвучно шевелятся за завесой каштановых волос – она опять спорила сама с собой. Неожиданно она подняла голову и сказала:
– Я не думаю, что могла бы совершить этот уход. Я не могла бы бросить Макса одного. А теперь я взваливаю свои проблемы на тебя.
Она покачала головой, посмотрела на потолок, затем опять уставилась на свои колени.
Некоторое время мы молча потягивали мартини.
И тут мне в голову пришла идея, на первый взгляд бредовая, но я решил тем не менее осуществить ее, потому что я чувствовал, что наступил такой момент, когда мне надо стать кем-то бóльшим, чем я обычно являюсь.
– Представь себе, что я – это ты, – сказал я Элизабет. – Если бы это было в фильме, то в ответ на мое предложение жить всем троим вместе как одна семья ты ответила бы следующим образом. – Я перешел на девичий фальцет, утрированно драматический голливудский голос Вивьен Уорд или Джулии Робертс: – Предположим, Бартоломью, мы примем твое великодушное предложение. Ты уверен, что это получится? Подумай как следует. Нам не требуется много, как мы можем требовать чего-то? Но уверен ли ты, что мы сможем вести приемлемое существование; ведь я в этой жизни стремлюсь всего лишь к приемлемому существованию. – Тут мой голос почему-то задрожал: – Больше я ничего не прошу. Мы с Максом непривередливы, но жизнь обошлась с нами слишком круто. Поэтому скажи мне честно, Бартоломью, веришь ли ты в то, что приемлемое существование возможно?
Элизабет допила коктейль.
– На самом деле никакие пришельцы не похищали меня. – Она убрала волосы от лица. Ее трясло. – Врачи позвонили Максу в Вустер, когда я приходила в себя в больнице, потому что в моем страховом свидетельстве он был указан как ближайший родственник. Он тут же приехал поездом в Филадельфию и чуть с ума не сошел, увидев меня. Макс простоват, но у него большое сердце. Это не пустые слова. Он не понимает, что в мире с людьми происходит что-нибудь страшное ежедневно. Ужасное. Вроде… вроде… – Она опустила голову, и волосы опять закрыли ее лицо. – Это были пьяные дикари, они даже не предстали перед судом. Макс не мог смириться с этим. Но как ты можешь уберечь свою сестру от столь страшного непредсказуемого несчастья, как нападение на берегу реки Делавэр в холодный осенний вечер? Нападения, в результате которого у нее по ногам текла кровь? И вот, чтобы хоть как-то успокоить его, мы вместе сочинили в больнице эту историю про пришельцев – прямо как какие-нибудь малыши. Он настоял на том, чтобы переехать ко мне на случай, если придется опять защищать меня от пришельцев, и так эта выдумка стала частью нашей жизни. Но, с другой стороны, можно ведь посмотреть на это и как на трогательную историю отношений брата и сестры…
Элизабет посмотрела на меня наполовину несчастным и наполовину счастливым взглядом и улыбнулась вымученной улыбкой.
Я кивнул, потому что понимал, что это надо сделать, хотя внутри был потрясен, и к тому же меня раздирали сомнения. Я даже не знал, кто оплачивает счета за мамин дом, и теперь, после смерти отца Макнами, вряд ли мог узнать это; к тому же я вовсе не был уверен, что приемлемое существование возможно для меня самого, не говоря уже о нас троих.
Собственно говоря, я ничего не знал наверняка.
Но я решил, что могу и на этот раз притвориться ради Элизабет – притвориться, что я сильнее, чем я был на самом деле, потому что в данный момент от меня требовалось именно это. Я притворился, что я сильный, и постарался выразить Элизабет сочувствие. Я надеялся, что мама и отец Макнами были бы горды мной. Я уверен, что далай-ламе понравилось бы все, что я делал в этот вечер. Элизабет начала плакать, и даже не просто плакать, а неудержимо рыдать, так что я обнял ее и тоже начал плакать, потому что я очень тосковал по маме, и отца Макнами тоже не было, и я только начал осознавать, что это бесповоротно, что у меня никогда уже не будет отца и не будет тайны, которая перестала быть тайной, и я думал о том, что Элизабет не была похищена пришельцами, а пережила нечто более страшное, чем налет подростков на наш дом, которые писали и какали на наши постели и засунули образ Христа Спасителя в унитаз… и о том, как мы все оказались в Канаде, и почему мы живем так странно, совсем не как остальные нормальные люди.
Могли ли мы ждать чего-то хорошего?
Пока Элизабет рыдала у меня на плече, я решил, что доверюсь принципу «нет худа без добра» независимо от того, правда это или нет, – доверюсь настолько, чтобы предпринять конкретные шаги, даже, может быть, найду какую-нибудь работу, чтобы подарить Элизабет сказку, как Вы, Ричард Гир, столько раз делали в своих фильмах.
Мама не дождалась сказки, так, может быть, Элизабет дождется?
Может быть.
– У вас все в порядке? – раздался голос бармена. Я поднял голову, и прядь волос Элизабет попала мне в рот. Несколько человек, находившихся в баре, смотрели на нас во все глаза.
Увидев, что на нас все смотрят, Элизабет выбежала из бара. Я побежал за ней.
В лифте я не знал, что мне делать.
Элизабет продолжала плакать, и хотя она плакала теперь тихо, я чувствовал, что она не хочет, чтобы я к ней прикасался, успокаивал ее и вообще разговаривал с ней. Лицо ее было ярко-красным, из носа вовсю текло, хотя она все время вытирала его рукавом.
Я молчал.
Около дверей нашего номера она взяла себя в руки и сказала:
– Не стоит будить Макса, согласен? Пусть он спит спокойно и ничего не знает. Завтра у него большой день. Пусть это будет праздник для него. Договорились? Это все, что у нас осталось. Пусть это будет праздник для всех нас. Ты согласен?
Я кивнул.
Она вставила карточку в прорезь, зажегся маленький зеленый треугольник, но она медлила открывать дверь и обратилась ко мне с вопросом:
– Если мы будем спать с двух разных сторон постели, ты обещаешь не сдвигаться в мою сторону? Обещаешь, что будешь сохранять между нами дистанцию хотя бы в фут?
– Обещаю, – сказал я.
– Мы можем жить у тебя в доме, пока не определимся окончательно?
– Да. Я очень хочу, чтобы вы жили у меня – без всяких сроков.
– Ты обещаешь? Ты не передумаешь?
– Никогда.
Элизабет кивнула, и я заметил, хотя она и пряталась опять за своими волосами, что она вроде как подмигнула мне обоими глазами.
Это было похоже на то, как если бы она загадала желание и скрепила его двойным подмигиванием, – по крайней мере, мне это так представлялось.
Мы вошли в комнату, но свет зажигать не стали.
Она переоделась в ванной, а я тем временем надел пижаму.
Затем я высыпал содержимое ее оранжевого пузырька в унитаз и спустил воду. Я не хотел оставлять ей никаких средств ухода.
Она выбрала правую сторону кровати, я пристроился на левом краю.
Я не позволял себе уснуть, чтобы не нарушить обещание и не перекатиться во сне, коснувшись Элизабет.
Я слушал дыхание их обоих и смотрел на зеленые инопланетные цифры электронного будильника.
В 4.57 Элизабет прошептала:
– Бартоломью?
– Да? – прошептал я.
– Прости, если я задурила тебе голову сегодня вечером.
– Ты не задурила.
– Правда?
– Правда.
В 5.14 она прошептала:
– Спасибо.
– Тебе тоже спасибо, – ответил я.
Так мы пролежали в темноте еще два часа, пока Макс не проснулся и не стал прыгать между нами на нашей кровати, безостановочно вопя: «долбаный кошачий парламент! долбаный кошачий парламент!»
И, должен признаться, неукротимый мальчишеский энтузиазм Макса значительно повысил мое настроение, несмотря на все пережитое.
Хорошо, когда у тебя есть друзья.
И до меня стал доходить смысл предсказаний на печенье, который я сначала не понял.
17
Бездомные кошки с Парламентского холма
Дорогой мистер Гир!
Пока мы шли по городу к главной цели нашего приезда в Оттаву, Макс рассказал нам все, что необходимо знать о Кошачьем парламенте.
Как повествует местная легенда, здания парламента охранялись от мышей и крыс колонией кошек, исключительно талантливых по части ловли этих грызунов. Так продолжалось до 1950-х годов, когда грызунов предпочли уничтожать ядами. Но служащие, смотревшие за порядком в зданиях, несколько десятилетий продолжали по доброте душевной кормить этих кошек. Затем к служащим присоединилась часть местных жителей, и все вместе они выделили кошкам специальную территорию, где они могли бы жить одной семьей, или колонией.
Теперь там можно видеть два белых миниатюрных дома за железным забором, сквозь который кошки могут свободно пролезать. Дома имеют крытую плиткой крышу и четыре входа под своего рода навесом, на котором кошки могут проводить свой досуг. Над крышей левого дома развевается маленький красно-белый канадский флаг.
Устроен там также дощатый настил, чтобы кошки могли по нему прогуливаться. Настил при необходимости очищают от снега.
Миски с едой расставлены в разных местах в домиках и около них. Макс говорит, что волонтеры кормят кошек также ежедневно.
Я решил, что район вокруг Парламентского холма действительно напоминает Англию, хотя я никогда в Англии не был и вряд ли когда-нибудь попаду туда.
Задняя сторона парламентского здания закруглена, как у собора; у здания много изломанных завитков, что опять же делает его похожим на космический корабль. С Максом, однако, я этим наблюдением не поделился.
Ранним утром следующего дня, после того как отец Макнами присоединился к маме на небесах или в чистилище, мы подходили к Парламентскому холму. По дороге Макс рассказал нам все вышеизложенное, а затем, завидев вдали своего первого кота, понесся вприпрыжку вперед, как радостный мальчик, оставив нас с Элизабет позади.
Он действительно несколько раз подпрыгнул на бегу, вопя:
– Долбаный Кошачий парламент! Долбаный Кошачий парламент! Я наконец-то здесь, блин!
– Ты был когда-нибудь настолько счастлив? – спросила меня Элизабет, и, честно говоря, я подумал, что ни разу за всю свою жизнь не испытывал такого восторга.
Добежав до кошачьего убежища, Макс схватился за ограждение и стал рассматривать нескольких котов, вышедших погреться под утренним солнцем.
Элизабет остановилась футах в двадцати позади Макса, я остановился тоже, чтобы дать Максу беспрепятственно насладиться моментом.
Когда мы все же подошли к нему, все лицо его было в слезах: они замерзали у него на подбородке, образовав своего рода бороду.
Губы его дрожали.
Он шмыгал носом и фыркал.
– С тобой все в порядке? – спросила Элизабет.
– Это, блин, прекрасно.
– Кошки? – спросил я.
– Да, блин! А также тот факт, что люди, блин, заботятся о бездомных кошках. О кошках! Столько долбаных лет! Они дали им убежище. Они кормят их. Они не бросили кошек, когда, блин, надобность в них отпала. Эти кошки не приносят обществу никакой пользы, а люди все равно кормят их. Ну разве это, блин, не прекрасно? Разве это, блин, не гуманно? Вы, надеюсь, понимаете, о чем я, блин, толкую? Долбаный Кошачий парламент – самое прекрасное место на земле, а? Вы согласны? Вы видите, как это, блин, прекрасно?
Мы покивали, наблюдая за тем, как две кошки, пестрая и серая полосатая, поедают кошачий корм.
– Вы только посмотрите на них! Только, блин, посмотрите. Это прекрасно! Это охрененно прекрасно! Это существует!
Минут через двадцать мы с Элизабет отошли к скамейке неподалеку, откуда наблюдали за Максом.
Несколько детишек в сопровождении их мам остановились, чтобы посмотреть на котов. Их сходство с Максом бросалось в глаза: притом что он произносил по меньшей мере одно нецензурное слово в каждой фразе, пусть даже состоящей из трех или двух слов, он, несомненно, сохранил по-детски чистое сердце.
– Моей жизненной целью было выпить с тобой в баре, – сказал я Элизабет.
– Макс говорил мне. Поэтому я и пригласила тебя вчера в бар. Я думала, может быть, это поможет тебе пережить внезапную смерть отца Макнами. По крайней мере, цель твоей жизни будет достигнута. Но я все испортила, поделившись своими планами ухода. Прости, пожалуйста. Это было не слишком удачное первое свидание, да?
При слове «свидание» мое сердце подпрыгнуло, но я, подражая хладнокровию Ричарда Гира, сказал:
– Делись со мной всем, чем хочешь, не держи ничего в себе. Я говорю это совершенно серьезно. Я думаю, мы должны быть откровенны друг с другом, если мы хотим помочь друг другу наладить жизнь.
– Согласна. Спасибо тебе.
– У меня теперь есть новая цель. Хочешь узнать какая?
– Конечно.
– Когда-нибудь – не обязательно в ближайшее время, так что не считай, что я на тебя давлю, – но когда-нибудь я все же хотел бы недолго подержать тебя за руку. Может быть, всего минуту и, может быть, лучше всего за Филадельфийским музеем искусств, около дамбы. Это мое самое любимое место во всем свете. Тебе понравится это место, если ты там никогда не была.
Мое сердце громко стучало. Я не мог поверить, что говорю это.
Но внешне я был теперь хладнокровен, как Ричард Гир, и даже хладнокровнее.
Учтив, как сказочный принц.
Улыбнувшись, Элизабет сказала:
– Возможно, когда-нибудь мы и подержимся за руки за Филадельфийским музеем искусств, но явно не сегодня – мы ведь в Оттаве. И даже если это в самом деле произойдет, то, наверное, нескоро, потому что мне нужно решить много проблем. Всем нам троим, несомненно, нужна помощь, и, я думаю, нам следует получить ее, когда вернемся в Филадельфию. Ты согласен?
– Я понимаю, – ответил я – и действительно понимал. – Нам нужна помощь. И мы ее обязательно получим.
Так мы просидели несколько часов, давая Максу возможность насладиться обществом обитателей Кошачьего парламента.
Мы замерзли, но не подгоняли Макса, потому что не были уверены, что он или кто-либо из нас попадет когда-нибудь еще в столицу Канады и тем более в Кошачий парламент. Да если бы мы и попали сюда снова, то это было бы, несомненно, совсем не то. Обстоятельства были бы совсем иными. Сложилось бы совсем другое уравнение из абсолютно непохожих переменных величин, и ничего нельзя было бы с этим поделать, потому что жизнь всегда течет и меняется, и как бы нам ни хотелось, мы никогда, ни за что не могли бы повторить этот момент, даже если бы мы специально постарались воспроизвести его, например оделись бы точно так же. Наши попытки неминуемо потерпели бы провал, потому что победить время нельзя, можно только по возможности насладиться тем или иным моментом, выхватывая его из бесконечного потока.
Большой черный кот начал тереться о ноги Макса, описывая восьмерки. Когда Макс наклонился к нему, кот поднял голову к руке Макса и тот почесал его за ушами. Кот блаженно зажмурил глаза. Макс сделал то же самое. Казалось, они молча беседуют друг с другом. Очевидно, это была кошачья телепатия в действии.
– Вы видели это, блин? – крикнул нам Макс, когда кот отправился по своим делам. – Он выбрал меня, блин, чтобы пообщаться! Какого хрена, алё?
Макс был в таком восторге, что мы с Элизабет улыбнулись.
Хотя по большому счету нам было не до улыбок. Денег не было, «настоящей» работы у нас не было тоже, как и какого-либо представления о том, что мы будем делать по возвращении в Филадельфию, или хотя бы о том, кто оплачивает счета, которые прибывают в мамин дом со штампом «оплачено». И, честно говоря, каждый из нас троих представлял собой клубок спутанных трагических эмоций.
Каким бы странным это ни показалось, но наблюдать холодным зимним утром в Оттаве за взрослым человеком в компании с бездомным котом и видеть, что этот человек в полном смысле слова живет этим моментом и наслаждается им, было достаточно для того, чтобы оправдать этот момент и это место.
Достаточно, чтобы почувствовать, что это хорошо.
И уж тем более для того, чтобы улыбнуться.
Наверное, это все, чем я хотел поделиться с Вами, Ричард Гир, хотя история на этом не заканчивается и можно было бы рассказать о том, как мы доставили тело отца Макнами в Штаты и как его родные даже не хотели говорить со мной на похоронах, хотя мы никому не раскрывали секрет, что он был моим биологическим отцом; о том, как какой-то высокий человек в дорогом костюме подошел ко мне, крепко пожал мне руку и, держа меня за плечи и глядя в глаза, сказал: «Дикки[19] очень гордился тобой», а когда я ничего не ответил, он добавил: «Понимаешь, мы с ним выросли вместе. Были лучшими друзьями в школе от первого до последнего класса. А там, откуда я родом, не принято бросать друзей. Так что не тревожься ни о чем – но это между нами. Договорились?» Он подмигнул мне, и я подмигнул ему обоими глазами, обещая не говорить об этом никому, даже Максу и Элизабет. Отец Хэчетт познакомил нас троих с женщиной-психотерапевтом, которая будет за символическую плату консультировать каждого из нас по-отдельности и группой (она называет ее «семейной»). Элизабет посещает вместе со мной субботние мессы, хотя пока еще не признает себя верующей. Венди обратилась за финансовой помощью в университет Темпл, чтобы раз и навсегда покончить с зависимостью от Адама; явилась туда в темных очках, разрыдалась, и консультант по финансовым вопросам, красивый мужчина по имени Франклин, принялся утешать ее, пригласил в ресторан пообедать, предоставил ей фантастическую финансовую помощь в виде ссуды и в итоге отбил ее у Адама. Я знаю это все, потому что Венди посещает теперь вместе с Франклином субботние мессы, после которых мы иногда заходим вчетвером в пиццерию, где я с удовольствием разглядываю Венди, избавившуюся от синяков и шрамов. Я работаю в центре города в закусочной «Вендиз» (опять синхронистичность?), и меня уже повысили и сделали менеджером; Элизабет взяли на полставки в Филадельфийскую публичную библиотеку, и даже Макс получил повышение в своем «долбаном кинотеатре», так что мы теперь в состоянии оплачивать счета без помощи моего нового высокорослого и хорошо одетого друга из Канады, который звонит мне время от времени и говорит: «Дикки смотрит на тебя с небес и улыбается». Его звонки всегда вдохновляют меня, я чувствую себя взрослым самостоятельным человеком, которым его отец может гордиться.
Как Вы знаете, Ричард Гир, между первыми моими письмами и последними был довольно продолжительный перерыв. Простите, что я бросил писать Вам так неожиданно, но дело в том, что я немного ошарашен всем случившимся за такое короткое время. Честно говоря, у меня возникает теперь какое-то странное ощущение, когда я пишу Вам, как будто это несколько безумное занятие. А может быть, это просто напоминает мне о том времени, когда у меня в черепе бурлила какая-то безумная каша. Боюсь, как бы это состояние не вернулось, если я не буду соблюдать осторожность и следить за собой.
Нашего нового психотерапевта зовут доктор Хэнсон. Это миниатюрная леди, собирающая волосы в узел, как у балерины, в который она втыкает письменные принадлежности. Она посоветовала мне рассказать Вам свою историю до конца – хотя бы для того, чтобы попрощаться с Вами и тем самым завершить период моей жизни, проходивший под знаком Ричарда Гира.
– Замкните этот виток своей жизни, – сказала она. – Очень важно поставить в подсознании точку.
Кроме того, она сказала, что я должен признаться Вам – и тем самым своему бессознательному – в том, что в своих письмах я придерживался правды не на все сто процентов, а иногда присочинял, чтобы сделать рассказ интереснее. Доктор Хэнсон объясняет это тем, что мне казалось, будто я недостаточно интересная персона для переписки с таким знаменитым и выдающимся человеком, как Вы, Ричард Гир. Но хотя, строго говоря, это все верно, я хочу, чтобы Вы знали, что все написанное мной Вам было правдой на все сто процентов, если говорить метафорически.
В некотором отношении я был даже более правдив с Вами, чем со всеми остальными, кого я знал в жизни, включая маму, и Вы, надеюсь, можете гордиться этим.
Теперь я стараюсь меньше прятаться за своими метафорами.
Доктор Хэнсон говорит, что это важно.
Я согласен с ней.
И Элизабет тоже.
Доктор Хэнсон в самом деле очень одаренный целитель, может быть даже вроде святого Андре, но не в абстрактно-религиозном смысле, а в конкретных делах современной действительности.
Мне нравится моя новая жизнь.
Действительно нравится.
Я живу без мамы, но со мной все в порядке.
Это чудо?
Может быть, оно все-таки произошло с нами?
Может быть.
Как бы то ни было, я благодарен.
И последний штрих: мы с Элизабет держимся за руки почти каждый день.
Это правда.
Вы гордитесь мной, Ричард Гир?
Я очень стараюсь сделать жизнь для Элизабет сказкой.
Так что это как раз такой момент, когда пора прекратить переписку.
Навсегда.
Больше писем не будет.
Может быть, Вы возьметесь за какое-нибудь другое дело или же – если Вас в действительности не существует – просто навсегда исчезнете.
Но независимо от того, являетесь ли Вы всего лишь плодом моего воображения или нет, я благодарю Вас за то, что Вы прочли все, что я писал, – пусть даже мы оба при этом притворялись. Спасибо Вам за то, что Вы были рядом, когда у меня никого больше не было, и за то, что выслушали меня, ни в чем не упрекая.
Желаю Вам удачи в Ваших делах.
Я верю, что Вам удастся освободить Тибет, – и я отпраздную Вашу победу.
Я не буду возражать, если Вам захочется изложить мамину философию его святейшеству.
Мне будет не хватать Вас, но я согласен, что это должно быть моим последним письмом.
Как велит доктор Хэнсон.
Наше взаимное притворство исчерпало себя.
Теперь со мной рядом есть живые люди.
Прощайте, Ричард Гир.
Благодарности
Приношу особую благодарность моей жене Алисии Бессет, как и любимому европейцу Лиз Йенсен, американскому издателю Дженнифер Барт и канадскому издателю Дженнифер Ламберт, за то, что прочли мою рукопись и кардинально улучшили ее во всех отношениях; благодарю также моего агента Дуга Стюарта за неизменную веру в меня и мою работу, всех сотрудников литературного агентства «Стерлинг лорд литеристик», всех зарубежных агентов и внештатных сотрудников издательств, множество зарубежных издателей, представивших мою книгу читателям в разных странах, моего агента в мире кино Рича Грина, маму, отца – за тот счастливый случай, когда он рассказал мне в подробностях об убийстве президента Гарфилда, а я даже не сразу осознал, насколько ценна эта информация для моей книги; Меган, Майке, Келли, Аарона, бабушку Динк, Пита, Барб и Пиг за то, что предоставили мне свой дом в Вермонте для работы, Мистера Канаду (иначе, Скотта Колдуэлла) и его семью за питательную и восхитительную еду, пиццу «Бивер тейлз», напитки и крышу над головой, которые были мне предоставлены, когда мы собирали данные о Кошачьем парламенте в Оттаве; доктора Лена Альматуру, перуанца Скотта Хамфелда, Роланда Мерулло, Бет и Тима Рейуорт, Ивена Роскоса, Марка Уилтси, Кента Грина, всех многочисленных сотрудников «Харпер Коллинз» и других издательств в разных странах, трудившихся над моей книгой, каждого из книголюбов, сказавших или написавших что-либо хорошее о книге, и, наконец, ТЕБЯ, только что прочитавшего «Нет худа без добра». Спасибо!!!